Григорий Хохлов ДОЛЯ КАЗАЧЬЯ Сказание о приамурских казаках
Автор не претендует на историческую достоверность.
Фамилии главных действующих лиц изменены.
Крепость Албазин
Умел дедушка, Григорий Лукич Бодров, красиво рассказывать. Мастер он был говорить: словно ручеёк из его слов журчит. От природы он такой талант имел. И завораживает он маленьких слушателей, своих внуков, так, что те обо всём на свете забывают.
И вдруг, звучит набат в его голосе. И душа встрепенулась у маленького Саши: надо помочь герою, тяжело ему. И детская его рука ещё крепче сжимает деревянную саблю, умело сделанную дедом. Он уже рвётся в бой, этот маленький казачонок.
Но не ускользает этот миг от зоркого глаза рассказчика. И, чуть улыбнувшись, дедушка ласково гладит по русой головёнке любимого внука — рано ещё!
Очень зол маньчжурский император, лицо его хмуро как никогда. Поистине он страшнее тучи сейчас. И даже птицы замолкли в его хоромах, как перед страшной бурей. А всё живое от ужаса сжалось, и готово исчезнуть, раствориться в воздухе. Лишь бы не оказаться во власти его гнева.
Но его военоначальнику некуда деться. И он плашмя падает на каменные плиты лицом вниз, не доходя до императора. Только это может спасти его от неминуемой смерти. И несчастный не смеет подняться, и дышать не смеет. И, даже руби ему голову сейчас, он примет всё беспрекословно, и даже с радостью — отмучился он. Сегодня ему нет оправданья, и он заслужил это наказание.
— Что за люди вторглись в мою великую империю и строят здесь свои крепости? Кто они такие, что нарушают моё спокойствие, не страшась моего гнева? Птица, и та не посмеет тень бросить на мои земли. А они поганят ее одним своим присутствием. Черви навозные!
— Казаки это. Только они никого не боятся. И даже самих небес с их страшным гневом. И очень похоже, что небо сопутствует им в их разбойных делах. Они покорили Сибирь и разорили Сибирское царство. А теперь идут дальше на Восток. И нагло вторглись в твои владения, о, Великий из великих воителей и Солнцеподобный владыка всей земли нашей. За ними стоит русский царь. И это для него они собирают золото с местных народов, всё в его казну тащат. Для него завоёвывают казаки чужие земли и рвутся к Океану. Они доблестные воины с самого своего рождения. Сам русский царь уважает их растущую силу. Поэтому не оставляет их без дела. Направляет их мощь в нужном ему направлении. И они умножают его богатство и славу. И народы Амура не противятся казакам.
Взмахнул рукой военачальник. И стражники притащили связанного тунгуса поближе к императору. И бросили его на колени. Его смуглая кожа не могла скрыть страха перед лицом императора.
— Ты русских знаешь? И что они за люди?
Быстро заговорил пленный, сбиваясь на скороговорку, получив удар ногой в спину от грозного стражника, понял, что лучше не торопиться. Его речь прояснились:
— Очень хороший люди казак! Совсем он не важный. И, как маньчжурский купец, не дерётся. И очень добрый он. Свой последний рубашка, отдаст нам. И никого он не боится. Гром и огонь у него в руках. Очень сильный казак и царь его сильный. Они любят царя, и мы любим царя и мы ему присягали.
— Неужели всё это было дедушка? И город был Албазин?
— Да, деточки, давным-давно это было, казаки были первыми русскими людьми, пришедшими на Амур.
Дедушка Григорий Лукич, сам уже во власти истории. Ведь он, потомственный казак, и возможно, что и его предки там были. Строили и защищали от маньчжуров первые русские остроги и крепости на Амуре: Албазин, Ачан, Кумару.
Не понравилась императору речь Тунгуса. Небрежно махнул платочком в сторону пленника и отсечённая стражником голова несчастного подкатилась к императору и своими выпученными глазами уставилась на великого владыку. Но тому показалось, что она грозит ему. И он со злостью пнул её ногой в растянутые в предсмертной агонии губы.
— Набрался храбрости у русских, на ещё! Получи!
И уже своему военачальнику, так и не посмевшему подняться с колен.
— Город Албазин взять любыми силами и сжечь его до основания. Поля их и живность, всё уничтожить в огне. Дотла чтобы горело! Но всех не убивать, с десяток казаков оставить в живых.
Пусть восхищают они, все народы свои, моей неслыханной щедростью. И славят меня, как Бога.
И ещё, пусть накажут остальным казакам, в мои земли никогда не ходить. Смерть их всех ждать тут будет и позор им будет. Пусть русские всегда боятся меня и уважают. Я достоин того! А русскому царю, низкий поклон от меня.
Задумался император: и тут много правды сказано. Но любой русский, хоть и сам царь, все же лучше мёртвый. Мёртвый тигр только усами страшен, и ещё пушистым милым хвостом. И уже с жёсткой улыбкой, от которой мороз гуляет по коже, говорит своему военачальнику:
— А не исполнишь мой приказ, на кол посажу. И ты будешь мне улыбаться, пока не сдохнешь, как собака, в великих муках. Вон с моих глаз!
— Неужели такой жестокий маньчжурский император? — ужаснулся маленький Саша и другие внуки его поддержали.
— И людей ему нисколечко не жалко?
— Нет! Не жалко!
Храбро бьются богатыри-албазинцы во главе с атаманом Тулбозиным, но их меньше тысячи против шеститысячного войска маньчжуров. Но не сдаются казаки, и день и ночь выдерживают осаду. И вместе с ними сражается, уже легендарный при своей жизни, священник Гермоген.
Они и спят на стенах городка, и едят здесь, иначе нельзя им, не выжить!
И рады бы им помочь иноверцы, но сильно боятся маньчжуров. Ведь все местные жители рабы у них, их за людей не считают, грабят, забирают пушнину.
Нет и русских людей рядом, чтобы им помочь отстоять от врага город: вокруг чужие земли! Только один Господь Бог с ними. И осеняют казаки себя крестным знаменем и снова рвутся в бой с врагом! Так порешили они, здесь всем умереть, но не сдаться врагу. И русский город не сдать!
Видит маньчжурский полководец, что все русские в белых рубахах сражаются, без доспехов, но ничего не понял, пока ему, его мудрец не объяснил:
— Умирать они собираются, и злее тигра сейчас. Много наших воинов с собой заберут туда, откуда уже нет дороги назад, но не сдадутся тебе.
Всю ночь продолжалась жестокая схватка. К утру бой прекратился. Посчитал свои потери маньчжурский полководец и ужаснулся. Треть его многочисленного войска погибла у стен Албазина. Задумался генерал Лектань. Тяжелые мысли терзали его последнее время. Ведь он сообщил уже императору великой империи Цинь-Канси о полном разгроме русских. Для этого были все основания: крепость разрушена дважды. Что же будет с ним, если император узнает правду?
А если продолжать осаду, то все русские погибнут, но не сдадутся. Кто же тогда передаст русскому царю послание императора? Но если продолжать военные действия, то их последствия непредсказуемы. Как намекнуть императору на необходимость перемирия с русскими и при этом не потерять головы? Раздумья генерала прервал советник:
— Что будем делать? Готовить новый штурм крепости?
— Сообщите русским, что я дарю им свободу за их храбрость. За подвиг, который они здесь совершили и не сдались мне сами в плен.
Пусть выходят казаки с оружием в руках и не бояться обмана. Их охраняет указ Великого маньчжурского императора.
Император, прощает им вторжение в его земли. Пусть помнят русские его доброту.
Посовещались казаки, и решили, что терять им нечего. Какая разница, где умирать, главное — как?
Оружие, они всё равно не сдадут врагу — лучше смерть!
Передали казакам грамоту императора и дали им время отдышаться.
— Сюда больше, не ходи! — говорит им толмач-переводчик. — Всех вас убивать будем, ножом резать. Горло — чик! И нет казака! Как траву резать будем. Чик! Чик!
Смеются маньчжуры, хорошо говорит переводчик. Страху очень много нагнал он на русских! Вон как те глаза свои выпучили.
— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — чуть не падают они от смеха.
И невдомёк им, что у русских и цвет глаз другой: неба синего, и к Богу своему они поближе, чем маньчжуры. Но рано смеялись супостаты. Ох, рано! С лёгким шорохом пролетел острый нож казака, пущенный сильной рукой, и вонзился в горло толмачу. И тот захлебнулся своей кровью. Бросились воины императора на казаков, чтобы растерзать их, а те ощетинились мечами. Но генерал остановил своих воинов:
— Пусть уходят они, это воля императора! Главное, чтобы грамоту своему царю передали. Прочь с глаз моих, иначе всех на углях изжарю!
Ушли казаки с гордо поднятой головой. И уже не смеялись маньчжурские воины. Они вспомнили о своих товарищах, что навсегда остались под стенами этого города.
— Они достойны уважения, — промолвил Лектань, — пусть уходят! Это удел сильных и храбрых воинов! А вы смотрите и учитесь у них воевать.
— А дальше что было? — тормошат руку дедушки его многочисленные внуки.
— Четыре года защищали казаки ценой огромных лишений и человеческих жизней Албазин и прилегающие к нему земли. После подписания перемирия поднялись в верховья рек Шилки и Аргуни. Создали забайкальское казачье войско.
— Неужели и Бодровы там были? Ведь ты, дедушка, говорил, что могло такое быть. Значит, и мы там сражались, наших дедушек дедушки?
— Да внучек, и такое могло быть. Очень старый наш казацкий род. И в наших преданиях, есть упоминание, что были они на Великой реке ещё раньше. Возможно, что это и есть Амур-батюшка. Но слушайте дальше, казачата, и запоминайте всё! Жизнь большая!
Ушли казаки с Амура. Местные жители им помогали, как могли, и едой, и одеждой, и свои быстроходные лодки им дали.
Крепко обнимались местные с казаками и слёзы блистали у них на глазах. Успели они подружиться с русскими и всегда помогали друг другу. Лесные люди никогда не плакали и на медведя с одним ножом ходили. А сейчас им вдруг горько стало. Наверно, их зоркие глаза засорились и они прячут их друг от друга. А старый шаман бьёт в свой бубен, злых духов от русских прогоняет. Ему уже за 80 лет, а его бубен, наверно, ещё старше. Нет ему на Амуре по годам равных людей и все знают, что он не от мира сего. Седые и косматые волосы шамана разметались по плечам. Костёр трещит и рассыпается в небе звёздными искрами в ритм гулкого бубна. И уже белая пена на его губах выплеснулась, плохо становится старому колдуну. Замер он всего на один коротенький миг. И вдруг, как подрубленный кряж, гулко упал у костра. Но подхватил его сын бубен и ещё быстрее отгоняет злых духов. И говорит он всё, что видит людям своего племени.
— Отец совета у духов идёт просить. Он как белая птица, как чайка сейчас, чист и лёгок. А его душа в небесный чум, на лёгкой берестяной оморочке плывёт. Он уже просит прощения у добрых духов за причинённое беспокойство. И кладёт им щедрые подарки от охотников наших — легких соболей, что дороже золота.
Подарки приняты, и ответ получен. Отец сейчас вернётся к нам. И говорить сам будет.
Зашевелился старый шаман, и замер бубен в руках его сына. Тихо стало вокруг. Только сухой стебелёк травы сипит в костре, совсем как старик. И ему плохо.
Открыл глаза старик, и пить попросил. Очень бледен он и чуть живой сейчас.
— Через десять человеческих жизней русские сюда вернутся, а маньчжуры уйдут навсегда. Так великие духи сказали. Придут ещё русские! А сейчас мне покой нужен. Я очень устал с такой, невероятно большой дороги, наверно последний раз туда ходил. Старый стал!
И заплакал шаман, как ребёнок, горько и с причитаниями. Но нельзя было его утешать, он свой путик, охотничью тропу, уже завершил. И теперь он никуда не ходок и потому душа его плачет и стонет!
Скоро помирать его, совсем пойдёт. Зажился он и так на этом свете: долго-долго жил. Уйдёт шаман в чёрную ночь — уже навсегда уйдёт отдыхать!
Теперь сын его свой народ в далёкое кочевье поведёт. Вон сколько звёзд на небе рассыпалось, что бисер сверкают. В дорогу молодого шамана зовут! А старому вечная слава, мудрее его на Амуре шамана ещё не было!
И действительно вернулись казаки на Амур через много лет. И каково было их удивление, что их с великой радостью встречают местные жители. Дарят им разные подарки: грибы, ягоды, и своей охотничьей добычей делятся.
Оказывается, что охотники из поколения в поколение передавали своим детям и внукам, что обязательно вернутся русские люди и защитят их всех от произвола маньчжуров.
— И вот, такой день настал: плывут по Амуру большие плоты и казацкие лодки. И уже никакие силы не могут их остановить. Так и пробивались они с боями к океану, которого никогда в своей жизни не видели. К самому краю земли плыли! И хоть и страшно им было, но очень хочется казакам там побывать. Ох, как хочется!
И осеняют они себя крестным знаменем: не оставь нас, Господь Бог, Отец наш. Не о себе печёмся мы и живота своего не жалеем, а о земле русской!
А местные жители всё спрашивают у казаков, читал ли русский царь послание императора? И сами уже веселятся: шибко осерчал батюшка русский царь! Вон сколько воинов в поход послал. Выходит, что всё он читал: отец наш.
Вон как маньчжуров, нещадно бьют казаки. Бегут, те злодеи, и оружие своё бросают — страшно им.
Этих зайцев трусливых, а не воинов, мы сами добьём, поможем казакам. Белый царь, он наш теперь царь — защитник наш!
И уже с великим восхищением на лице, рассказчик-гольд продолжает своё повествование.
— Амбу злить не надо, как это маньчжурский император делал когда-то.
Нехорошо делал, хулиган он! Зачем про тигра плохо говорил, его хвост и усы ругал? Там всегда дух хозяина живёт. Кто этого не знает? Только глупый человек — совсем пустой охотник!
Знал это всё маньчжурский император! И про белого царя очень плохо думал! Нехороший он человек! Очень, и очень он нехороший!
Даже хотел, чтобы, умер наш белый царь! Всё к тому и вёл, всю свою игру.
Хитрый маньчжур, шибко хитрый лис!
Очень крепко тогда осерчал хозяин тайги на маньчжуров И вселился его дух в русских казаков. Теперь сам, император, сильно плакать будет, себе хуже сделал. — Ай-яй-яй! Больно, и страшно ему. Ай-яй-яй!
И притворно плачут гольды, закопчёнными руками весёлые слёзки утирают.
— Ой-ей-ой! Ой-ей-ей! Ой-ой! — совсем плохо маньчжурам. Ой-ой!
Большой Амба, на охоту ходи! Убивать их будет! Это сам русский царь сюда пришёл! Топ-топ — стучит ногой русский царь, очень недоволен он.
И своей ногой, как тигр, шаман притопывает. Теперь они воплотились в одно целое.
— В царе хозяин тайги живёт. Амба он! У-р-р! У-р-р! Маньчжура где? За тобой пришёл я, однако? — и шаман, как тигр, готов сцапать своими руками любого и разорвать. — У-р-р! У-р-р! Очень сердитый царь Амба! Очень!
Много славных казацких имён помнит Амур батюшка, и ему было чему дивиться. Разве забудет он героев-албазинцев и Кумарского острога. До сих пор их богатырские кольчуги на себя Амур-богатырь примеряет. Славные казаки были! Славные!
Но и новое поколение казаков, похоже, что ничуть не хуже албазинцев. И здесь богатырей предостаточно: один к одному молодцы! Любо дорого посмотреть на них.
Императору уже по настоящему страшно стало.
— Эти русские казаки хорошо воюют и страха совсем не ведают. Уже все земли по Амуру к своим рукам они прибрали и свои крепости там понастроили. И к Великому океану уже вышли, и ещё дальше поплыли на своих быстрых лодках. Срочно надо подписать договор с русскими, пока не поздно. И остановить их на завоёванных территориях. Иначе все местные народы сами под их руку уйдут, не любят они маньчжуров. И рухнет, как карточный домик, его империя. А его самого в клетку посадят и будут возить его по всей стране, чтобы народ в него плевал и бросал камнями.
Очень сильно болит голова у императора от таких мыслей. Такая беда на него навалилась. Кто бы понял его душу. Ужас какой! Только договор, с русским царём и спасёт его от позора! Это единственное и правильное решение.
И такой договор с русским царём был срочно подписан. Все границы определены и указаны на картах. Где вся Российская Империя развернулась во всей своей красоте, омываемая множеством морей и океанов. Равных ей государств, по величине территории, не было.
Тут и у русского царя голова сильно заболела: как ему заселить эти территории народом и укрепить свои границы. И он крепко призадумался.
— Конечно первыми, туда пойдут казаки. Они везде первые были. Заняли и обжили Сибирь и Даурию, теперь пусть Амур обживают. Сами они туда сплавом и пойдут — по рекам нашим. Этим только клич брось: не задумываясь и сломя голову на край земли ринутся! Их я хорошо знаю — воины они доблестные, не подведут служивые! Дать им всем моим указом: льготы и земли по Амуру. Пусть трудятся там ратники, живут и множатся, и границы мои зорко от врага охраняют. Эти герои-казаки с Господом Богом в сердце своём, и на устах своих, и в этот раз, Россию-Матушку отстоят, я верю в них! И арестантов да каторжников туда побольше заслать надо. Пусть те дороги надёжные строят. И главную, железную дорогу, до самого океана ведут. Без неё никак не выдержать нам напора маньчжуров и других стран. Все только и глядят, чтобы оторвать от России кусок пирога послаще, но кукиш им! Нате-ка, выкусите! — и с великим удовольствием на лице, русский царь завернул им всем свой огромный кукиш! — Не жалеть ни денег, ни людей! И себя не жалеть! Потом всем хорошо будет, и государству и людям. И дела будут ладком спориться в нашем государстве великом — во славу Российскую.
Так и ушла головная боль, отступила. Не царское это дело головой маяться!
«…Мы славные с тобой казаки»
Григорий Лукич призадумался, что ещё рассказать этому синеглазому мальцу Сашеньке. Его ли разумом в эти годы охватить всю трагедию Амурского казачества. И лично семьи Бодровых. Потемнели светлые глаза деда, от горечи воспоминаний. И ёжик седых волос, что копьями ощетинился.
Кто он сейчас? Явно, что уже не казак. Скорее всего — ничтожный каторжанин. Ведь так в народе о таких бедолагах, как он говорят.
Живём мы в тайге, работаем на лесоповале. Но тут не только род Бодровых пострадал. Как это объяснить ребёнку — за что казаки пострадали? И блеснула слезинка отчаяния в глазах Григория Лукича, старого потомственного казака, дважды Георгиевского кавалера. А это его наивысшая награда, за службу Отечеству.
Нет! Прежде всего, мы были и есть казаки. Этого звания у нас никто не отбирал: нет такого права у нового суда и его судей. Это у нас от Господа Бога принято. Отца нашего! Им это право нам дано!
Всегда мы жили по своим казачьим законам и так же умирали — с божьим именем на устах.
— Мы славные с тобой казаки, Сашенька! И ты должен всегда этим гордиться. Послушай меня дальше внучек!
И уже, как бы именно с ним, так интересней маленькому внуку, ведёт своё повествование дедушка. Хотя и про остальных внуков он не забывает, и у тех казачья гордость есть, и про них это сказано.
— Твой прапрадед, Бодров Василий и мой дедушка, видите, как давно это было. Со всей своей семьёй, ещё в 1860 году, сплавом из Читинской области на Амур прибыли. Возможно, что и не первый раз здесь казаки Бодровы гуляли. Я тебе уже рассказывал, про крепость Албазин — там надо искать наши корни. Ведь вся жизнь наша, сплошное служение Отечеству, так во славу его мы и жили.
Лихо несётся на коне Василий Бодров. Шашка его свистит в воздухе, описывая свой магический круг, и находит свою обречённую жертву. Медленно сползает с седла обезглавленный конный разведчик. Лошадь дико храпит, почуяв тёплую кровь. И совсем обезумевшая, она норовит поскорее от него избавиться. Запрокидывается свечой вверх и заваливается набок. И там ломает себе ноги от великой и необузданной дури своей и страха невиданного. И тяжко стонет животное, обезумев от ужаса — совсем, как раненый человек.
С обеих рук рубит Василий врага, в этом деле он профессионал. К редкой когорте, обоеруких воинов он относится, что ещё от скифов ведут свою родословную. Ему нет разницы с какой стороны рубить врага. Ловко перебрасывает он саблю в другую руку и до пояса разваливает второго разведчика хунхуза. А последнего беглеца достаёт пулей из ружья. Троих положил он ворогов, как бы играючи. И жалко ему, что остальные ушли.
Ишь, как весело ему! Трясёт казак своей чубатой головой да белые зубы скалит.
— Только разогрелся тут малость да коня промял: мне бы ещё воли дали, — и искрятся от веселья васильковые глаза Василия.
Мало таких казаков сейчас как Василий — огонь рубака! И прыти его поневоле позавидуешь. Геройский казак!
— Такие казаки цвет и гордость всего нашего Забайкальского казачества, — хвалит-нахваливает его всенародно казачий сотник. Молодец, казак! Объявляю тебе благодарность за служение Отечеству. Верно России ты служишь. Будь моя воля, наградил бы тебя, Василий, медалью, да нет у меня таковых. Ты уж извиняй меня казак!
— Ваше благородие, не за награды служу я своей Родине? А честно, свой сыновний долг отдаю, как и положено каждому казаку.
По-уставному громко и с завидным достоинством поправляет Бодров начальника Семихватова.
Изумился офицер таким простым и душевным словам казака и его воинскому достоинству: из души его все слова исходили. Ну надо же, прямо клад, а не казак. Хоть в офицеры его, прямо сейчас производи.
— Ты я вижу и в грамоте силён. Тогда ты Бодров, трижды молодец! — И силой! И статью! И умом вышел. Молодец!
Это начальник всего казачьего сплава, Семихватов Валерий Борисович. Интеллигентный и добрейший человек, тоже из знатной казачьей династии.
Он восхищён Бодровым и его выучкой: наскочила разведка чужая, да не во время. Вот и обожглись на удали казачьей! Наука им будет.
И продолжил начальник свои невеселые размышления дальше.
— Так им и надо супостатам, чтобы впредь не повадно было казакам дорогу загораживать!
Пусть доложат оставшиеся разведчики своим начальникам, что не любят казаки, когда их зазря тревожат, да дорогу загораживают. Знатная наука всем врагам будет!
Глядишь, и не будут нам больше провокации устраивать. Все они враз и поумнеют! И нам тогда жить, веселее будет.
Хотя они и так знают, что ни к чему нам вся эта возня, — с ними с мышами: мало их. Но при зубах они, эти мышки! Проглядишь момент, запросто могут и волками стать. И нам нельзя их недооценивать! За ними глаз да глаз нужен.
И трясёт своей седеющей кучерявой бородкой Валерий Борисович. Нет ему и часу покоя, ведь вся ответственность на нём лежит, и ему до всего есть дело! За казаков, и их семьи, он в ответе.
— Хоть и мирный договор у нас с маньчжурами, но всё же, коварный они народ. И была бы у них такая возможность, то всех наших людей ножами бы давно порезали. И такое ведь было.
Не зря тут и хунхузы крутятся. Им очень не хочется на Амур русских пускать.
Здесь их стратегические интересы с маньчжурами сходятся. И строго направлены против России они. Да и других врагов хватает: и французов, и англичан.
А нам мирно всё надо делать, без всякой войны. Но хоть убей, так не получается: всё по-мирному! — морщится Семихватов Валерий Борисович.
Знать не только у царей головная боль бывает, но и у низших чинов — тоже прикидывается. Но мы её, по русскому обычаю, чарочкой водки угостим. Глядишь, и в правильное русло мозги вольются, а то тесно им в буйной казацкой голове. И полную чарку водки командир сам себе наливает и приговаривает — пей до дна Валерий Борисович!
Не успокоились, вражеские разведчики, хоть и потеряли своих людей в стычке с казаками. И всё же не оставили казаков в покое. Был им приказ командования следовать за русскими и наблюдать за ними: за каждым шагом казаков. И они добросовестно исполняют этот приказ — иначе нельзя.
И вот, на одной из стоянок, у большого стойбища гольдов, молодой охотник Покто тихонечко отзывает в сторону Василия Бодрова.
— Ванька, говорить надо!
Гольды, часто всех русских Ваньками звали. Видно нравилось им это русское имя, да и Ванек на Руси чуть не каждый второй был.
— Плохой человек в тайге появился, товар продаёт недорого, но очень хитрый глаза его. Совсем, как лис на охоте. Говорит, что Ким его зовут, кореец, однако. А руки его очень чистый: сам никогда не работал. Но сильный руки: однако — офицер он японский.
И походка его не как у купца маньчжурского. А как у барса молодого: осторожно ходи, как на охоте, и всегда он готовый к прыжку. Очень сильный он!
И нож у него очень уж дорогой, у самых богатых маньчжуров нет таких. И рисунков таких, что на его ноже, тоже нет, даже похожих — на всём Амуре нет.
Сталь у ножа холодная и звонкая: совсем, как змея манит и сама в душу заползает.
И очень зубастая сталь, как бритва кусается. С любого нашего ножа, как с жирного сазана, легко строганину делает: чик-чик, и нет ножа нашего. Съела его! Съела его, до самого основания! Сам, своими глазами видел!
Не рад был Ким приходу урядника Бодрова и гольда. Зло блеснули его узкие глазки при встрече с ними, но тут же померкли. Улыбка озарила его холёное лицо и бородку, и он раскланялся, как болванчик. До бестолковости быстро и очень много.
— Хитрый лис, однако! — думает Покто.
И Василий Иванович тоже всё примечает.
— Лести в нем действительно немало, и в облике что-то лисье есть, — подумал так казак, но вида не подал.
И всё же испугался хозяин фанзы.
Кореец ловко задвигался по фанзе, и твердил всё своё:
— Моя Ким, торгую немного, гольдам помогаю. Товар дёшево продаю. Никого не обижаю, товар и в долг могу дать.
И опять он свою песню поёт, своим льстивым голоском. Непревзойдённый артист Ким!
— Ким хороший человек, честно Ким живёт. Никому плохо Ким не делал. Никому! Совсем бедным и так помогаю: товар всегда в долг даю. Потом Ким придёт сюда, его все гольды благодарить будут. От голодной смерти их спасает! Ким хороший человек. И русского капитана очень он уважает. И всех русских уважает! Пусть капитана знает, что Ким очень добрый и честный человек. Ким никого не обижает, и плохо Ким никогда не делает, — так без конца талдычит кореец своё сказание Бодрову.
Стал Василий Бодров мешки с мехами смотреть, а там короткая японская винтовка спрятана. А под большими шкурами дорогая сабля лежит.
Тут Ким сильно напугался и на колени перед Василием Ивановичем упал: однако не моя оружия, его чужой люди оставил. Но глаза его страха не ведали — хитёр корец!
Яркий халат его нечаянно распахнулся и обнажилась мускулистая грудь бойца. Тут уже точно ясно стало, что не купец Ким.
— Ишь ты, как скроен разведчик, весь точно литой он, будто из самой крепкой стали сделан. И видать, благородных кровей он — хитёр офицерчик.
И решил Василий, как говорится, рыбу на живца ловить. Старый проверенный приём: хищная рыба никак не пропустит такую смачную наживку, что он подкинет. На то она и хищник.
Но тут ещё одна беда: запросто может и сам рыбак легко стать добычей. Тут уже уповай герой на небеса, на свою счастливую звезду и свою силу. Тут кто кого обманет!
Видит кореец, что сабля его небрежно на мешках с мехом лежит. И дальше он, на коленях своих, так по фанзе елозит, чтобы поближе к ней оказаться. Там же и ножик его драгоценный своей красотой сверкает: ждет своего хозяина. Тот действительно, тонкой работы, не иначе, для дворца его готовили. И цена его даже не поддаётся небрежной оценке казака.
Но и Бодров совсем не простак в этом деле, ждёт этого момента. На том и весь его расчёт строился.
И он дождался его. Сразу же преобразился Ким: спина его быстро распрямилась. Глаза стали наглыми и колючими, что у росомахи. А тело наливалось силой доблестного бойца. И руки купца вмиг заиграли сверкающей саблей, да ещё с невиданной ловкостью. Прямо воин перед Бодровым, а не жалкий торговец, что ползал змеёй перед ним. Что вытворяет зараза: смотрится в умелых руках его сабля — этого у корейца не отнимешь. Может он с оружием обращаться.
— На испуг меня берёт, — думает так Василий — Вот и раскрылся купчишка. Только рано радуешься, вояка заморский, не пробовал ты ещё казацких пряников.
Гольд как увидел Кима с саблей, так пулей из фанзы вылетел. Но тут же, споткнулся об корень и испуганным лицом своим по земле проехал, что плугом прошёлся. Потом Покто всем своим сородичам говорил, что это плохой Ким своей саблей плашмя ударил его по горбу. Очень больно бил Ким.
— Затем бросил он Покто на землю, до следующего решающего удара. Чтобы как кабана уже добить его на месте. Раз острым ножом! И нет Покты. Совсем нету, умер он! — И чуть не плачет рассказчик от великой жалости к самому себе.
А на самом деле всё было гораздо красочней и реальней, в своей неповторимости случая.
Падение на землю только поддало гольду прыти. И он с визгом унёсся в сторону русского лагеря. Сметая всё со своего пути ничуть не хуже косолапого мишки. Ужасно пугая при этом всех добрых людей своим неистовым криком: — Убили Покто! Совсем убили! Пока его не остановили казаки и не привели, чуть-чуть в чувство. Но, конечно, потом люди это всё и припомнили ему, всё в нужных тонах и раскрасили.
Но добрый и храбрый Покто этого совсем не помнит, он всё отрицает.
— Не было этого! — оправдывается гольд.
Уж ему то великому охотнику, храбрости не занимать — это все знают. Знают все Покту.
Зачем плохо говорить о Покто, о хорошем и добром человеке? Не надо так делать! Ничего плохого со мной не было! И запах там плохой и прочие мелочи. Только со зверем может быть такое. Взять, например медведя.
— Умка, совсем как люди, боится. Даже запах дурной может от страха сделать: и вот такую большую кучу наложить.
И своими руками разводит Покто, показывает величину небывалой кучи.
Такое с медведем, хоть редко, но бывает. Что от страха не наделаешь, хотя и большой он?
— И он тогда, совсем, как человек, с нами всеми очень похожий! — хитрит рассказчик, но глазки свои прячет от людей. От себя нелепые подозрения отводит. Со всеми я так говорю! И не иначе! Покто, совсем не такой трусишка: совсем другой он человек! Он очень храбрый охотник. И если бы Ким догнал его, то Покто его бы сразу скрутил ремнём. И сюда его притащил. И тут же место показывает возле себя:
— Тут положил Кима! Однако, плохо Ким бегает, совсем никудышный охотник. Не догнал он Покто! Не догнал! Тут, лежи Ким тихо! И слушай Ким, что будет тебе храбрый Покто говорить. Твой победитель! Внимательно слушай! — воображает Покто. — Я! И только я победитель хитрого, и ловкого Кима! А кто же ещё?
Но всё это было уже потом. А пока в бою встретились два прирождённых бойца, равным которым по доблести трудно было бы найти в целом войске.
С первых же сабельных ударов они полностью оценили друг друга. И поняли, что только смерть их разведёт в разные стороны — кто-то здесь лишний! Зажился он, на этом свете!
Враги бились, можно сказать, что на равных. С невиданной яростью на лице в подслеповатой тесноте фанзы. Но этого никто не видел, и им самим было не до этого.
Глухо ударил нож в стену фанзы и застрял в ней. Отточенный годами и тренировками сильный удар Кима ножом не достиг цели.
Ловок казак. Его тактика ведения боя вообще ни на что не похожа. Вроде и нет её, а казак не пробиваем. Вроде и не отступает он, а цел. Подбежали казаки и охотники гольды, но в фанзу зайти никто не решался. Так и толпились они на полянке у входа. Тесно бойцам в фанзе, и никак не поможешь Василию Ивановичу, а навредить можно. Ведь Киму терять нечего, раскрылся он. Враг он!
Послышался глухой, мощнейший удар в дверь. И она с треском рассыпалась под тяжестью Кима. Вылетел тот из фанзы, что мешок с картошкой. И так же неловко осел на землю. Он был явно без сознания. Как говорил потом Покто:
— Совсем, как сом глушенный. Это когда его деревянной колотушкой по голове стучат.
Получил разбойник сполна!
Немного очухался Ким и сел на землю. А говорить не может, челюсть его была где-то на боку.
Явно не рассчитана она была на мощный удар Василия Ивановича!
Мычит кореец, а что мычит, никому не понять. И вид у него очень уж жалок, не ожидал он такого позорного окончания поединка. До этой поры он был непобедимый. Слыл таким!
Смотрит Ким отрешённо, на своего победителя Бодрова. Ведь, гордость у него необычайная — многовековая. И вдруг такое нелепое поражение.
Но тут, из-за спин столпившихся казаков, ловко, как налим из бочки, выныривает хитрый Покто.
— Кима лечить надо! Моя всё могу! На! Кима росомаха!
Самый хитрый и пакостный зверь росомаха, во всей Дальневосточной тайге.
И кто бы мог подумать. Покто ловко бьет кулаком Кима — своего хозяина — в лицо. В его вывороченную челюсть, но уже с другой стороны.
— На, хунхуза!
Что там произошло в механизме Кима, никто точно не знает. Но челюсть звучно щёлкнула и стала на своё место. И тот, с великого облегчения, ведь избавился он ужаснейшей боли, тихо молвил:
— Спасибо тебе, Покто, все долги твои прощаю!
Покто, так и сел на землю, от удивления:
— Вот, гад какой! У него всё долги на уме. Не за долги тебя бил Покто, лечить думал! Только руки запачкал!
И уже никакая сила не могла удержать людей от повального смеха.
— Бей ещё, Покто, богатым будешь. Бей побольше хунхуза, пока тот сам разрешает!
Смешно людям! Не часто такое бывает, а тут настоящий театр с артистами объявился.
Ведь никогда гольд плохо не мог подумать о своём хозяине. Не то чтобы его грязным кулаком в лицо ударить.
Только Бодрову было не до смеха. И у него самого после напряжённого боя сил совсем не оставалось. Честно он провёл этот поединок: вроде со смертью своей игрался и победил её. И только сейчас Василий Иванович полностью осознал всю силу, грозившей ему опасности.
Вот тебе и ловля на живца? Тоже мне, рыбак нашёлся.
— Вроде и в годах уже ты, Василий, а дурень ты, самый настоящий, — и отмахнулся тяжело казак своей усталой рукой от разных нехороших мыслей. — Нашла коса на камень!
Но кто-то из казаков нашёлся и поднёс ему баклажку с водкой:
— Пей. Сегодня тебе сам Господь Бог велел — пей! А то жизненный интерес в тебе пропал, а это не хорошо получается, пей казак! И кровь богатырскую, восстановить надо! Пей!
И отхлебнул урядник из этой, видавшей виды, походной баклажечки:
— Пусть никогда не опустеет она — родимая! И всегда, как родник, полной будет! Пусть Россия наша богатеет. За которую мне и живот свой положить не жалко. Аминь!
Тут и жена его Александра прилетела, и дочки его, и сыновья: вся семья собралась.
Тихо плачет Александра казачка — всё чудит её муж, хоть и за сорок ему. Ведь мог он и не плыть сюда по Амуру. Сам добровольно, на новое место, подался. А такое и среди казаков редко бывает. Кому хочется рушить нажитое хозяйство, а потом всё начинать с нуля. Конечно, если ты сам ещё жив останешься. Другое дело — жребий. Люди все здесь семейные и, в основном, по жребию выбраны. Редко кто захочет сам в эту глухомань забираться. А Василий во главу угла всегда ставил свою честь и долг служения Отечеству. И жену свою и детей своих тому же учил. Вот сам и вызвался плыть на Амур. За что и почитают его все казаки. Хоть и герой он, а ей с ним — ой, как тяжело. Сколько она натерпелась с ним мук и исстрадалась вся. Один Господь Бог про то знает. А все равно, любит его крепко. Её Василий лучше всех на свете. Таких как он, казаков, только воля рожает. Ему простор нужен, как коню, и она это прекрасно понимает. Её Василия только смерть, и стреножит. Любимый ты мой!
Увели казаки Кима к Семихватову, на допрос. И сами ждут вестей казаки. И им интересно, что же за рыба в их сети попала.
А улов превзошёл все ожидания. Не много и не мало, а полковник и родственник самого японского императора предстал пред светлыми очами Семихватова. Вот тебе и Ким, корейский торговец. А тут самурай до мозга костей и так опозорился перед казаками. Не смог он урядника победить. Но тут на всё воля Божья и не иначе!
Попросил самурай саблю свою. И не смог ему отказать в этой просьбе Валерий Борисович, добрый и умный человек. Кодекс чести самурая полковник чтил выше своей жизни. И вряд ли он, уже побеждённый, представлял опасность для Семихватова. Обрил тот себе голову в знак позора и горько поморщился — старый стал! И убить себя нельзя, всего задания императора не выполнил. А это хуже смерти.
— Саблю свою и нож свой, что никогда не знали поражения, я в знак уважения передаю победившему меня казаку. Тот достоин носить это императорское оружие, а я — нет!
И сузились его глаза до едва видимых щелочек, но ни вздоха отчаяния не прозвучало. Самурай, и есть самурай.
— Я отвечу на все ваши вопросы. И могу вам гарантировать, что больше не будет нападений на казаков. Я уйду со своим отрядом, как говорят казаки, щупать англичан и французов. Они уже начали высадку своего десанта по всему вашему побережью. Теперь ваши интересы и интересы нашего императора уже там. Они и ваши враги. И поэтому нам нечего ссориться, нам надо дружить.
И ещё я обещаю вам делиться своей информацией о ваших врагах — англичанах, французах и американцах, но не в ущерб моей Японии. Как это сделать, вы сами продумайте. Слово самурая!
Вот тут седых волос добавилось у Валерия Борисовича. Как быть?
Фактически, это вербовка вражьего агента, на взаимно выгодных условиях. Это и высокая правительственная награда, и его дальнейшая карьера. Как быть?
А вдруг, всё это фикция. Тогда, конечно, ему не избежать каторги и позора! Тут есть над, чем подумать.
Эх, родимая водочка, выручай, тяжко мне! И наливает он себе полную чарку горилки. И японцу плеснул в чашку. За свою Родину!
И каждый офицер выпил свою чарку молча, не уронив престижа своей Родины! Игра стоила свеч! Ведь у обоих офицеров на карту была поставлена жизнь.
Всю ночь они писали какие-то бумаги. Каждому из их нужна была гарантия, на уровне императора и русского царя. Круто берут офицеры, но это самый разумный ход для обеих стран — сотрудничество. Там англичане и французы, а здесь две Великие Империи: огромная сила!
И каково было удивление казаков, когда они увидели Кима свободным, и рядом с Семихватовым. Вот это, да!
Ему вернули всё его оружие, личные вещи и пушнину.
Долговую книгу с закорючками гольдов об их долгах уничтожили. Чему было всеобщее ликование местных охотников.
Ким не противился уничтожению бумаг, потому что он кадровый разведчик, и бухгалтерия не его стихия. С наличными деньгами было немного посложнее, но и их в конечном итоге обе нуждающиеся стороны поделили поровну — без обиды.
Самурай, с поклоном и великим почтением на своём лице, припал на колени и передал свою саблю, и нож Бодрову:
— Ты имеешь право носить его — ты победитель. Мои добрые духи теперь будут помогать тебе. Ты мне как старший брат стал. Хотя гордость моя так и не побеждённая. Но я уважаю законы своей страны и не таю на тебя зла. И его нет на этом оружии.
Не ожидал Василий от Кима такого подарка. Но и не принять его он не мог. Не только для самурая, но и для казака оружие свято. Оно как мать в бою: там больше некому довериться.
Седеющий чуб казака ниспадал на его голубые и добрые глаза и прикрывал их лёгкой волной, невольно скрывая всё торжество момента. А там, в глазах, как в зеркале всё отражалась. Но это был всего один миг. Своей широкой рукой Бодров убрал знатную чуприну с лица и с поклоном принял от самурая его оружие. И тут же передал его своему сыну Лукашке: подержи сынок.
Казак не может оставаться в долгу и он знает цену подаренному оружию.
Снимает он свою саблю, и передаёт её Киму.
— У нас в народе говорят, что дареному коню в зубы не смотрят. Таков наш обычай. Но цена твоего, необычайно дорогого подарка, меня смущает. Но раз ты решил, что я достоин его, то я не смею отказаться — я казак! Я воин! Хотя моя сабля и дешевле отделана, но славных дел на ней не меньше, чем на твоём клинке, Ким. Она мне тоже, как и тебе, по наследству передалась: из поколения в поколение. Прими её, от чистого сердца дарю.
— Я, Сэцуо Тарада, с замирающим сердцем принимаю столь дорогой для меня подарок. Ему цены нет. И я горд, что мне выпала такая честь породниться с тобой боевым оружием. И именно здесь, на войне. Теперь, тебя Бодров, я за старшего брата считаю. Таков наш закон!
Японец принял подарок, не поднимаясь с колен, и склонил свою голову в ответном поклоне:
— Для меня нет дороже подарка, чем этот. Дороже уже и быть ничего не может! Если доживу я до мирного дня, то в доме моём твоя шашка на самом видном месте висеть будет. Очень сердечный подарок, спасибо тебе, Бодров! Как брата тебя благодарю! И сыну своему Ичиро я накажу, чтобы помнил всё это. Ведь и у тебя дети растут, Бодров. Вон, какой герой вырос, твой сын Лукашка.
Беленький весь и синеглазый, весь в отца своего. В них наше счастье! Пусть никогда не встретятся в бою их клинки. И пусть в мире живут наши дети.
Погладил Лукашку по светлой голове Сэуцего Тарада своей тяжёлой рукой. И будто к своему сыну прикоснулся — пусть героем растёт. Совсем большой парень уже!
— И мой сын Ичиро такой же, скучает без меня.
Очень, ему домой захотелось!
До опушки леса Бодров проводил Кима и они пожали друг другу руки.
— Теперь мы не враги, но между нами всё же пропасть. Нам не надо туда падать! Я очень хотел бы с тобой, Василий, встретиться уже после этой, никому не нужной войны. Ты хороший человек и воин, каких мало. Я надеюсь на эту встречу!
Для всех остальных он так и остался корейцем Кимом, полковник Сэцуо Тарада. Война есть война! И никто не мог предположить, что и у оружия есть своя судьба, не только у людей. А порою, они просто неразделимы — судьбы!
Ким увёл свой отряд к побережью, сдержал своё слово. И ещё долго он передавал информацию русским об американцах, англичанах, и французах.
И для него они были враги, для его Родины. И с особой радостью он наводил на них ужас нежданной конной атакой из засады, рубил их налево и направо. Пусть не расслабляются вояки. Разведка, есть разведка, и военные сведения того стоят! Одним захватчиком меньше.
Ни капельки он не сомневался в том, что десантники и его Японскую землю могли бы топтать своими грязными ботинками. Наёмники они, без родины и флага — мародёры!
Пока сам разведчик стал неугоден новому императору.
Дикий он стал и не управляемый, и очень опасный — вот и вся его воинская характеристика. А так, кремень, а не человек!
А про душу Сэцуо Тарада все просто забыли. Видно пришёл и его горький час расставания со своей мечтой, и воина, и учёного, и просто хорошего человека.
Теперь он выполнил свой долг до конца, и не изменил своему императору и брату, которому присягал служить. И с великой радостью сделал себе харакири.
Шашку казака Бодрова он попросил передать своему сыну. Она для него была и осталась — святостью. И ещё просил слова передать:
— Без меча твой враг — тебе уже, друг. Не убивай его! Запомни это: и тогда, сынок, ты долго будешь жить, и богатым будешь. И тебя все уважать будут, а дети твои больше всех. Не забывай, мои слова — и прощай! Ты будешь счастлив, сынок!
Замолчал Григорий Лукич, и ему тяжело стало от нахлынувших воспоминаний. Седая голова его склонилось к своему внуку, беленькому, синеглазому и чистому, что ангелочек.
Когда-то таким, чистым и красивым, был и он сам. Ведь они все, Бодровы, похожи между собой. Только жизнь никого не жалеет: то годы берут своё, то сама жизнь заворачивает так, что только диву даёшься, как можно выжить в таких условиях.
Поцеловал он притихшего Сашу, погладил его по голове, своей тяжёлой рукой. И легче на душе стало. — Ох, Санька, Санька! Разве можно поверить в то, что все дороги рано или поздно сходятся. Я и сам, до сих пор не верю: чудеса дивные!
— Рассказывай дедушка, — торопят старшие внуки своего деда. — Ещё нам про саблю расскажи.
— Воевал я в Русско-японскую войну. Совсем ещё молодой был и зелёный. Всё рвался в бой, и себя не жалел, как дед мой Василий Иванович.
Да все мы, Бодровы, такие: душа у нас огнём горит, а руки ратной работы ищут.
Ладно рубил я японцев, свой казачий род не позорил. И уже Георгия за храбрость имел.
А тут в одном из рейдов по японским тылам со своими разведчиками наскочили мы на японский штаб. И хоть мало нас было, но решили рискнуть. Не часто такая удача выпадает.
С ходу, с гиканьем и свистом, всей своей полусотней казаков неожиданно ударили мы по штабу.
Тут уже порезвились мы вволю. Рубили штабников, как капусту на дощечке, пока охрана разбежалась. Пользовались мы тем, что японцам от ужаса было не до нас.
И документы, что поценнее, из их столов мы враз подобрали.
И тут, подвернулся мне полковник. Сам в годах уже, и седой весь, но сильный и ловкий. И рубака он был хоть куда, так юлой и крутиться весь, не достать его. Не знаю, что было бы дальше, если бы шальная пуля не ударила его в руку. И не угомонила этого резвого самурая.
Стал он оседать на ноги от боли, но саблю свою не бросает. И лицом он побледнел, но держится молодцом. И тут, совсем по-казачьи, перебросил саблю свою в другую руку. И уже готов рубиться дальше.
— Руби, Бодров! — кричит мне взводный Василий Шохирев. — Руби самурая, пока в шоке он. Не жалей белую кость. Они ещё хуже наших мироедов — тоже поганцы! — не любил Василий офицеров, особенно штабных.
Вздрогнул полковник.
— Бодров? — и опустилась его левая рука, с казачьей саблей.
Вот это да! Самурай, а нашей саблей не брезгует, тоже странно! — думаю я.
— Бодров? Ваша сабля у меня, поговорить надо! — слабо молвит полковник.
— Руби, Григорий! — ярится Василий Шохирев, больно лют он: зверь в бою. А в жизни душевный человек, последнюю рубашку с себя отдаст. — Уходить надо!
Я тоже опустил саблю. Но ещё ничего не понял.
— Наверно дед твой, Василий, — тихо шепчет полковник. — Сабля его!
Рухнул он, как подкошенный, мне под ноги: сознание потерял. А я совсем растерялся, пока не получил хорошего тычка от взводного. — Уходим!
Тяжело мы уходили. Очухались японцы от страха и такого нам дали жару, что меньше половины осталось от взвода разведчиков. Но документы стоили того, всех наших жертв — цены им не было.
Построил нас всех генерал Семихватов Борис Валерьевич. Старый он уже был, но добрый и умный. Ценил он казачью доблесть, как отец нам был. Сын того самого Семихватова, начальника сплава, что на Амур первые пришли.
— Всех наградить! А Бодрова и Шохирева к Георгию представить. Они заслужили того.
Так и получил я два Георгия, всем старым казакам на зависть.
— Это в такие-то годы? Да ещё два Георгия. Сразу всех Бодровых переплюнул, и не только Бодровых.
— Вот это везёт, казаку!
— И юн он, стервец, ох и молод для Георгиев! Но герой, ничего не скажешь!
Потом подошёл ко мне Шохирев Василий и говорит:
— Почто не рубил полковника, герой?
Видать и его это задело. Во взрослых годах он казак. Очень серьёзный и прямоту во всём любил.
— Может, струсил ты в разведке и скрываешь это, тогда откажись от награды. Так лучше будет.
— Ты видел, Шохирев, казачью саблю в руках японца. Это наверно сабля моего деда Василия Ивановича. Полковник сам и спросил меня об этом. Как я мог его рубить, раненого. И ты бы такого не сделал: ты только с сильным воякой злой, а так и ты человек нормальный.
Я рассказал ему, как поменялись оружием мой дед Бодров и японский полковник. Ещё в давние времена. Всё это было после поединка и честно всё было. Но трудно во всё это поверить, столько лет прошло.
— Я верю тебе, Бодров, ты заслужил награду, — говорит Шохирев. — Я бы тоже раненого не стал добивать и то правда!
И уже не оставалось на его лице следа от иронии, что была вначале. Человечный он: вот и разобрались мы!
А потом, предали нас наши генералы. И мы, в конечном итоге, все пошли в японский плен. Все израненные и контуженные, в жестоких боях с японцами. А генералы наши, которые подписали договор о поражении русской армии, поехали к самому японскому Микадо: деньги за предательство да награды получать.
Но многие офицеры предпочли плен и не склонились перед силой денег. Ушли в плен вместе со своими солдатами. Таким и был Семихватов Борис Валерьевич.
— Стар я, чтобы свой казачий род позорить. Я в плен не сдавался и Россию не позорил, и это для меня самое главное.
И от боли сузились его глаза:
— Я всегда казаком был! Казаком и останусь!
Так и умер он на чужбине и на его аккуратной могилке, на мраморе, всегда цветы лежат. Кто их кладёт туда, никто не знает, а история о том умалчивает.
Отец Никодим
Шли казаки сплавом по Амуру на своих плотах да лодках и с ними Василий Иванович Бодров со своей семьёй. И порой невольная мысль холодила сознание казаков: кому всё это надо? Тут смерть за каждым деревом прячется и следит за тобой, как за своей добычей. И красоты всей не надо, жизнь ведь одна! И зачем же её так неразумно транжирить.
Но тут бунтует непокорная душа казака — так было из века в век — шёл казак навстречу своей погибели с Божьим именем на устах и жив оставался! Хранил его Господь Бог, как сына родного. Ведь, делал он Божье дело, по сыновьи, без ропота. И хранил его Отец для дел больших и ратных. Только казачеству под силу было сломить силу великую басурманскую и веру свою утвердить не силой, а славой своей.
Вот и поп Никодим с ними в этом походе великом. Ведь ему-то и дома, в казачьей станице, в Забайкалье, дел нашлось бы. И его, никто бы не осудил за то, что остался там. Но этот поп, ещё тот поп! Его казаки так и прозвали Семижильным, что вскоре и стало ему вроде фамилии: Семижильный и Семижильный! — один он такой был!
Не ведал он страха никакого, даже великого, не то что малого. И в поле мог работать за троих. И везде он был первым.
— Так Господь Бог велел, — усмехается Семижильный.
И роста великого и силы был поп необычайной. За пояса двух мужиков отрывал от земли и бросал, что снопы в разные стороны.
— Я вас научу, как шкодничать, пьянствовать, да сквернословить. Враз поумнеете! Племя антихристово!
И особо нуждающимся добавлял такого тумака, что гул шел от удара поповского. Редко кто поднимался от такого пушечного удара!
— Силён батюшка! — судачат так мужики, а попа трогать не смеют, нет на то воли Божьей.
Зато на празднике, где стенка казаков шла на стенку, тут уж и попу доставалось вволю. Наступал и его час расплаты. Было у него врагов тут немало, на поле битвы кулачной. И все они, волей или не волей, оказывались в сговоре, и уже скопом крушили попа Никодима. Синеглазого и седовласого богатыря, которому лет уже за сорок было.
На что тот никогда не обижался: и в кулачном и в ратном деле и в других делах он везде первым был.
— Грешен я, дети мои, и не жалейте меня, бейте! А завтра я вас учить буду уму разуму. Только и вы пощады не просите у меня. И у вас грехи есть. Отпущу я вам их! Вот так мы все свои грехи и спишем по-нашему, по-казачьи!
Так и бились они пока на ногах стояли. А упал человек и нельзя было его даже пальцем задеть — грех большой лежачего бить.
Утром матушка Ефросинья отпаивала своего батюшку квасом и примочки ему на разбитые места ставила. А тот весь, как баклажан синий!
— Когда же ты, старый, угомонишься? Прибьют ведь тебя мужики ненароком. Опостылел ты им.
— Неправда? — поднимался на ноги недобитый поп! — Неправду ты говоришь, матушка моя. Любят меня дети мои, и тому есть подтвержденье. Весь мой вид о том говорит, и тело моё от того торжествует сейчас, а не плачет! Любят меня! Особо казаки к моей необычной персоне со вниманием и уважением относятся, как и положено мне по иерархии нашей, и по сану своему. Не каждый поп и казак такой чести удостоен!
И тут же своим могучим басом ревёт, да так, что вороны на землю падают.
— Любите ли вы, казаки, своего отца Никодима, почудил я вчера, ох, и любо мне было!
И валит к нему народ со всех сторон и с ходу кланятся ему в ноги:
— Любим, батюшка наш, и здоровья тебе желаем! — так говорят ему казаки, которые его били вчера. — Ты нас прости грешных, за тебя только и молиться будем! Сил своих не рассчитали мы! Погорячились мы!
Доволен поп таким ответом. Ещё бы, каются его вчерашние враги, и ему есть, в чём покаяться перед ними:
— И вы простите меня, казаки добрые. Не прав был я, крепко учить вас вчера надо было, а сегодня поздно уже! Прощаю вас! До следующего раза казаки, други мои!
От такой исповеди у матушки Ефросиньи волосы на голове дыбом встают.
— Двадцать лет с ним мучаюсь, и сил моих нет никаких. Счастливые слёзы наворачиваются на её синие глаза:
— Один он такой чудной, да правильный. Добрый он, и лучше всех на свете!
Смеются их дети, а их пять душ:
— Чудят родители наши, ох чудят старики!
И иноверцы в нём души не чаяли. При виде такого огромного попа они сразу же молча падали к его ногам, и с упоением целовали крест и крестились, как умели.
— Царь наш батюшка! Сам к нам в гости пожаловал. Гость дорогой!
Сначала за царя его принимали, а потом уже так и прижилось. Добрые охотники тащили все самое последнее, что у них есть, такому желанному гостю.
Нищета гольдов так крепко брала за душу казаков, что у тех и слёзы порой на глаза наворачивались. Трудно им было представить, что у целого народа почти ничего нет. Всё при себе, всё на голом теле, шкуры одни на собственной шкуре! Как так можно жить — уму непостижимо?
А они живут, да ещё маньчжурским торговцам дань платят. И шаманы неплохо живут, по крайней мере, не бедствуют, как остальные гольды.
Взял поп Никодим шаманский бубен в свои огромные руки, повертел его. И отдал распластанному от страха, на земле шаману:
— Русские надолго сюда пришли — навсегда! И ты расскажи своим людям, что они вам вреда чинить не будут. А от маньчжуров вас казаки оградят, руки им укоротят, вот так! И по локоть показал им Семижильный поп Никодим. — Вот так!
Шаман был не против русского царя-батюшки. А тем более в лице великана попа Никодима.
— Тот еще больше Никодима, настоящий амба, тигр — царь тайги! Могучий он!
И разнёс его бубен важную весть по всей тайге, до самого холодного моря. Поп Никодим наместник самого царя-батюшки. Будет здесь, у них исполнять царскую волю. И рубить всем маньчжурам-торговцам, за их обман…
Гулко стучит бубен, захлёбывается в своём ритме.
Ликуют гольды от радости, шапки свои на землю побросали.
— Так им и надо хунхузам, совсем одолели честных гольдов. Прогонять их надо, подальше от нас! Пусть живут они, как собаки наши, подачками питаются.
Так нажил себе великую славу и уважение среди иноземцев поп Никодим, и ещё большую ненависть среди маньчжурских торговцев. И в конечном итоге эта слава дошла и до самого великого маньчжурского правителя. Мол, ведёт себя вызывающе этот миссионер из России, поп Никодим. Противодействует торговцам. В свою веру легко обращает местные народы, и делает это с воодушевлением и завидной смекалкой. Поморщился правитель. Ясно ему, что русских никак не остановить в их продвижении к океану. Но покидать зону влияния — дурной пример для потомков. Устранить этого попа любым путём, но всё это надо чисто сделать, по-восточному сценарию. И лучше будет, если это произойдёт на почве разного вероисповедания. Тогда и политическая окраска этого явного убийства исчезнет. Ему нет смысла ссориться с русским царём. Зачем мышам злить русского кота, если он из мешка уже вылез. А попортить ему кровь и нервы можно и другим способом. У того есть усы и хвост, вот и надо их постоянно дёргать, лишить его покоя, пока он сам не сбежит оттуда, куда незваный пришёл.
И другой способ тоже есть, но тот более коварен, хотя и очень эффективен.
Есть Тибетские монахи, они по вере своей — врождённые разведчики и убийцы, их целое гнездо там. И по мастерству им в этом деле, равных бойцов, нет на всей земле.
И главное тут, что всю эту акцию устрашения надо провести открыто. В назидание местным народам, пусть те сразу поймут, где их место. И что карающая рука их везде достанет, и им всем неминуемо наказание будет. И русским тоже!
Пробовали маньчжуры уже устранить Никодима, но пустая, это оказалась затея. Силён поп верой своей, скала он, а не человек. Ударила оперённая стрела в дерево перед самым лицом попа и осыпало его древесной корой. И тут же острый маньчжурский нож рядом со стрелой присоседился. Не достигли они своей цели, видно силён был оберег у русского попа, его крест. И тут же вторая стрела гулко ударила прямо в этот оберег. Все онемели, и нападавшие маньчжуры, и гольды. Они слышали и видели, как ударила стрела в тяжёлый поповский крест, и как она распылилась у всех на глазах, каким-то искрящимся, радужным веером.
Крест засветился ярким светом, и люди, от такого невиданного дива, погрузились в лёгкий транс. Хотя был день на дворе, но создавалось такое впечатление, что вокруг этого странного свечения сумерки. Настолько оно было ярким. А всё остальное, вокруг, только разрастающиеся тени.
Свечение не угасало, а, похоже что, увеличивалось, и вместе с ним рос ужас у нападавших.
Они забыли о своём оружии, и теперь больше походили на стадо баранов, а не воинов, столпившихся у жертвенного огня, куда они должны непременно взойти, живые, или мертвые. Но это, их новое предназначение, уже было им безразлично. И сейчас они были покорны своей судьбе и ждали своего часа, что воск в руках ваятеля.
Гольды, сопровождавшие русского попа, как упали сразу плашмя на землю, так и не поднимались больше. Хоть режь им головы, хоть кроши их на части, ужас увиденного держал их надёжно в своих путах. И они бы при этом не издали ни звука, ни стона, душа их еле теплилась в распростёртом теле. Лишь один поп Никодим был физически и духовно подготовлен к происходящему чуду. В чудодейственной силе веры Христовой он никогда не сомневался. Он ждал этого грандиозного по своему масштабу чуда, и оно произошло. И главное, что оно произошло на глазах у многих людей, и главное, иноверцев. Это было великое знамение, и не только в его жизни.
А то, что он мог погибнуть при этом, это его нисколько не волновало. Если бы это и произошло, то он только бы с радостью воскликнул:
— На всё воля Божья! Слава Господу Богу, Отцу нашему!
За него умереть — вот высшее предназначение человека! А для священника радость неимоверная!
Священник обошёл лесную полянку, с распростёртыми на ней телами и осенил всех лежащих крестным знаменем — своим тяжелым сияющим крестом, как перстом Божьим!
— Поднимайтесь дети мои, не пристало вам лежать ниц, когда тут чудеса происходят, и на то воля Божья! Глядите, дети мои! Во все глаза глядите!
И над Никодимом ореол воссиял, подтверждая его слова. Не чудо ли это?
Целуют крест и маньчжуры, и гольды, все без разбора. И на них мир снизошёл по воле разума, а не силы. И забыли они все про оружие своё.
Не к войне их Отец Господь Бог готовил сейчас, а к жизни! Потому и пришли они к единению мыслей своих. И разом очистились вечные враги, от своих помыслов грязных!
И тут медный крест зауросил кровью, которая по капельке стекала из него. Из-под самого распятия Христа, из раны глубокой: места удара стрелы. Мироточила коварная рана, кровь текла, как из живого тела человечьего. Но постепенно рана затягивалась, уменьшаясь в размерах — заживала.
На глазах у изумлённых людей происходило это невиданное чудо. И пока совсем не исчезла рана, люди не переводили дыхание. Словно, и они воскресали из мёртвых, а медь снова становилась медью.
Никодим Семижильный теперь всё больше старался находиться среди аборигенов Амура, понял он, что его место там. Это его ниша в жизни, которую ему и следовало занять. Этот путь был указан ему свыше, но ждало его ещё одно суровое испытание. Кто приготовил его, трудно было определённо сказать. Но явно было, что тёмные силы тоже не дремали. И силы там были немалые, на этом невидимом фронте.
На одной из стоянок на берегу Амура возле большого стойбища гольдов, что, как и обычно, красиво расположилось на самом высоком месте недалеко от воды. Где на глазах у изумлённых людей воплотилась в жизнь невиданная по своему размаху и очарованию картина.
В своей первозданной красоте и величии сопок, словно играясь, несёт могучий богатырь Амур тяжёлые и непокорные волны к Океану, отцу своему. В дар несёт!
И ожерелье из синих сопок ворожит людское воображенье своей лёгкой плывущей бирюзовой дымкой, что легко ниспадает с крутых их плеч. А то парит вместе с птицами, поднимаясь к их вершинам. И создаётся впечатление, что дышат сопки, а то вдруг замерли. И снова ритм нам малопонятной жизни. Но красиво, аж дух захватывает!
И вот на фоне этой изумительной красоты, нежданно и негаданно, совсем, как в любой русской сказке, появляются два черных монаха. На берегу, как всегда в таких случаях остановки казаков, было очень много народу: и гольдов и казаков. Так что точно сказать, откуда пришли монахи, было невозможно. Все были заняты своими делами: купля, продажа, обмен товарами. И, что удивительно, даже в долг можно было сговориться тут с торговцами хорошим людям и приобрести желанный товар.
Удивлялись казаки величине невиданной доселе рыбы-Калуги, и яркого по своей окраске колючего ерша, который также выпучил на казаков, от своего великого удивления, томные и огромные глаза: «Вот так встреча! Здравствуйте господа!»
И как-то разом, все пребывающие здесь люди обратили внимание на этих вооружённых монахов: «Что надо им?»
Сухощавые телом и подвижные, в своих черных одеяниях, они несли в себе огромный заряд непонятной энергии, которая пока ещё не выплеснулась. Но добра такой всплеск не предвещал, и люди чувствовали это.
— К начальнику надо! — сказал старший из монахов. — Говорить надо!
Черные глаза его при этом оставались непроницаемы. Зато лохматые дуги бровей вытянулись, как у монгольского лука перед атакой. И их изгиб был грозен. Но это продолжалось всего лишь один миг. И его чуть встрепенувшимся лицом, снова овладела маска.
— Говорить надо!
Семихватов пригласил монахов присесть на поваленное дерево, у самого уреза Амурской воды. Что они с радостью и сделали.
Младший из монахов тут же с великим наслаждением опустил свои избитые ноги в амурскую воду, и блаженно прикрыл глаза.
— Тернист был их путь, и очень долгим, — отметил про себя казачий офицер. — Но надо выслушать их. Не исключена версия, что это разведка, но тогда причём здесь нескрытое оружие?
И мысли одна нагромождались на другую, и не было им покоя в красивой и почти седой голове Семихватова.
Ким вряд ли бы нарушил данное слово. Конечно это не его люди.
Теперь он находится далеко со всем своим отрядом от этих незабываемых для него мест.
И с Бодровым Василием Ивановичем у него сложились добрые отношения.
Нет, это не его проделки! Тут что-то другое.
Казаки, что окружили монахов, тесным кольцом, тоже не понимали цели их визита, и от того их лица были обескуражены. Откуда здесь такие странные монахи в такой глуши?
— Нам нужен ваш священник Никодим, — вслух продолжают свою мысль монахи. У нас с ним много разногласий насчёт нашей, и его веры. И нам надо, только с ним решить этот вопрос. И только смертным поединком.
Там вся наша правда таится, и всем остальным — урок будет! Потому что, ещё издревле, это была наша территория и сфера влияния.
Здесь мы укрепляли свой дух и сами росли духовно. Пока вы не вмешались в наше русло жизни и не стали вредить нам. И здесь в великой глуши есть места, куда приходят поклониться наши паломники. Это наше обетованное место. И наше право защищать его от посягательств любого врага. В любом одеянии и облачении. Все равно он для нас будет — враг.
Все присутствующие здесь были оглушены, таким шокирующим ходом мыслей монаха.
— Мы понимаем, что сейчас Никодим будет прав в ваших глазах, потому что вас единоверцев здесь много, а мы одни. И можем мы здесь погибнуть, ещё раньше, до боя.
Но мы честно хотим скрестить свои мечи с ним, и ещё одним казаком. Вы за веру свою будите биться! Как у вас говорится — всенародно! А мы, монахи, за свою попранную честь! Чтобы потом, в случае нашей победы, мы могли своей верой и её силой гордиться. А не отдать её, как сейчас, неразумному сомнению туземцам. Что повседневно и делает ваш поп по отношению к нашей древней вере. Никодим в ореоле славы сейчас, а мы унижены и оскорблены проклятиями, что нам достаются после его проповедей. Туземцы не доросли ещё до того уровня, чтобы самим выбирать, кто будет владеть их душой и телом. Их души, это наши души, и мозг и тело их — тоже все наше. Здесь они под пятой у нас.
Гордо стоят монахи перед такой разнообразной аудиторией, что здесь собралась. Не сидится им на предложенном месте. Разве усидишь тут, если сами осиное гнездо тревожат. И руки их невольно таятся на рукоятках мечей, ведь они прирождённые бойцы. И хоть сейчас они готовы применить своё оружие. И они не скрывают этого. Понятие смерти им чуждо. Только в бою, и сразу в рай! Они это заслужат, постараются заслужить! И чем больше они уничтожат чужих душ, тем им лучше будет там, в райской обители.
Подошёл к собравшимся людям и отец Никодим. Ему уже сообщили о пришествии странных монахов, иначе это не назовёшь. Никодим-богатырь держался с достоинством. И весь народ оценил это. Осенил поп их крестным знаменем, своим, уже легендарным, тяжелым крестом. И масса людей склонилась ему в поклоне. Явно было, что они любили его и боготворили.
Пришлым монахам это очень не понравилось.
Развевал поповские, кучерявые и седеющие волосы Амурский ветерок и шевелил Никодимову чёрную ризу.
Как на парад вырядился светлоокий поп Никодим. И сейчас, воочию предстал он пред своим народом, взошёл на вершину своей славы. И он это заслужил, всей своей жизнью.
Был он ещё и мастером пахать и сеять землю. Мог и казацкую саблю в руки взять. Но сейчас он защитник своего народа и всей христианской веры. И в синих глазах Никодима таяла льдинка холода и неприязни к пришлым монахам. Так учил держать себя его духовный наставник — старец Елизар. Сейчас ему нужен только крест: в отдельных случаях тот посильнее оружия бывает. Но одного не должно быть у священника — неприязни! Даже к врагу своему!
Любил Семижильный напоминать своим казакам, чтобы помнили они свято и передавали из поколение в поколение исторические слова, что из глубины веков отзывались.
— Мы казаки, испокон веков, Христовы воины! А оружие берём в руки только по надобности, чтобы защищать веру свою. И честь нам даденную Господом Богом, Отцом нашим!
Только казак имеет право рядом с Божьей иконой вешать своё оружие. Потому что, избранные мы люди, дети Его. Помните это! Ни у одного народа мира нет такого права. И чести такой нет. И это помните! Потому что казак есть и Его защитник, Господа Бога. И заслуженно в бою это право получил.
И ещё не раз пояснял поп Никодим своей, разноязычной пастве всю великую историю казачества.
И как однажды собралась силы тёмные в Орду великую, чтобы Русь нашу, колыбель христианства на всем Востоке, с корнем уничтожить. И могло такое случиться, если бы погибли все наши воины: мало их было. И тогда Отец Сергий, уже при своей жизни, почитаемый в народе святой, послал на подмогу князю Дмитрию Донскому своих богатырей-монахов, чтобы те своим примером воодушевили воинов, укрепили их дух. И чтобы бились те с врагом своим без доспехов. И ещё казаков послал святой Отец Сергий, гордых и вольных людей на подмогу князю Дмитрию.
И был в том перст Божий. Потому что нельзя было проиграть этот бой. А казаки народ бывалый, и всегда лицом против Орды стояли. Так как жили они вольно на окраинах России. И всегда первыми удар принимали. Поэтому никто лучше их не знал врага. И опыт ведения боя с Ордынцами у казаков накопился немалый. Вот тогда и съехались богатыри в смертном поединке за веру свою. И ударились они тяжёлыми копьями. Гулко грохнулся о Русскую землю, насквозь пронзённый русским копьём Челубей, из Орды богатырь. Жёстко приняла земля врага своего, потому что много пролил он христианской крови. И нещадно губил невинных людей, и нескончаемо творил своё зло. И доспехи его не помогли ему в этот раз, он давно был обречён умереть. Но и русский богатырь, который бился без доспехов, был смертельно ранен. Доскакала его лошадь до первых рядов наших ратников. И подхватили раненного Пересвета-богатыря его товарищи на руки.
И благодарили они его за подвиг, что он сейчас совершил. И восхищались им русские воины. Тогда настал и их час биться с врагом за Отечество своё и веру свою христианскую. Крепко воодушевил ратников этот неравный и знаменательный в их жизни поединок монахов-богатырей. Покрыл героев неувядаемой славой. И окрылил на подвиг живых бойцов. Так и разбили русские воины на Куликовом поле ордынцев. И засияла во всю силу звезда казачьей славы, чтобы уже никогда не померкнуть, а всё ярче сиять во славу России.
Теперь настал черёд и казака и попа Никодима послужить вере своей и Отечеству своему.
Только и он не мог никогда поверить, что настолько всё в жизни связано, и периодически, всё в истории повторяется. И опять пришла сила чёрная, чтобы опоганить его веру.
И уже он, Никодим Семижильный, как и Пересвет-богатырь, удостоен такой чести, умереть во славу России. И тем самым все равно победить. И если ещё дальше смотреть, в глубь истории, то в нашей жизни всё повторяется. Всенародно умереть и тем самым победить! Как умирал когда-то, ещё раньше, сын Божий и единородный, Иисус Христос. И всё в этой жизни связано невидимой цепочкой — волей Божьей! И всё это надо пройти ему, отцу Никодиму, во славу человеческую! И ещё выше вознестись ему духовно!
Почему так получается, что именно в такие тяжёлые минуты так ясно всё прошедшее видится, и мыслится чётко и быстро. Вся жизнь своя, и исторические факты, её немыслимый объём вдруг, в один миг, предстоят пред глазами. Был и у него в жизни духовный наставник, монах-отшельник Елизар, что долгие годы жил в глухой Забайкальской тайге. Хоть и старый он был, но силен был отшельник неимоверно. И дух его также был могуч. В свои ранние годы тот бывал и в Монголии, и в Индии, и в Тибете, и ещё во многих святых местах. И всегда с удовольствием говорил дерзкому и тогда ещё молодому Никодиму, у которого ещё и усы толком не росли, что древняя Русь, прародитель всех учений Мать!
— Запомни это и возгордись, сын мой, но не возносись высоко. Больно падать будет!
Готовил отшельник молодого отрока для великих дел. Целый год он учил его всяким наукам, всему тому, что сам знал. А знал он неимоверно много, одних только языков и наречий без счёта.
Читал ученику древние рукописи многих народов. Но ключом к ним всегда русские толкования были. Тогда всё сокровенное в рукописях раскрывалось в новом Елизаровом изложении просто и ясно.
— В корень смотреть надо! В корень! Здесь кладезь всех знаний, у нас в России! — и весело отшельнику Елизару. Постиг он мудрость Божью, протяженностью не в одну его жизнь.
И всяким разным боевым искусствам, их приёмам учил своего ученика. Утверждая при этом, что в русской борьбе все они давно были известны.
— И ещё запомни, сын мой, один приём: укус кобры! Он тебе жизни будет стоить когда-то, придёт и такое время. Ты ещё вспомнишь меня! Этот молниеносный удар наносится двумя пальцами в область затылка человека, которого убить надо. Но точность удара должна быть неимоверной, и скорость удара тоже. Кровь легко разливается по всей голове жертвы, и из всех внешних отверстий, это лёгкая и быстрая смерть, выжить здесь невозможно. Но чуть в сторону отклонилась жертва и удар будет пустой. Так убивают только великие мастера и спасаются от удара ещё лучшие, запомни это.
— К чему ты сказал всё это Отец Елизар? — не понял его ученик.
Тогда этот седой и крепкий ещё, что дубовый корень провидец, объяснил ученику.
— Ждут тебя великие дела в войске казачьем, во славу России нашей. Ты с ними на край земли пойдёшь. И пошлёт тебе Отец наш ещё суровые испытания, где ты должен будешь послужить святому делу, живота своего не жалея. Это твоё предназначение во всей твоей жизни: быть защитником веры нашей. Будет и тебе на то знамение. Готов ли ты к подвигу? Конечно, ты готов! Я рад это понимать и видеть это, здесь громкие слова не нужны.
А пока живи обычной, суровой казачьей жизнью, наслаждайся её прелестями и препонами, что будут на твоём пути.
Улыбнулся ему старец Елизар, своей белозубой улыбкой.
— Крепкой кости, этот человек, — подумал тогда ещё совсем молодой отец Никодим.
Только сколько же ему лет — никто того не скажет. Закостенел отшельник на морозах и ветрах северных. Видать, много бед натерпелся он в жизни своей. Живой человек, а со временем, крепче железа стал, хотя вряд ли возможно такое. Но всё же, возможно! И глаза его синие, совсем необычно глядят из-под лохматых и седых бровей. И лёд там таится и огонь — в этом океане им обузданных страстей. А то вдруг от одного взгляда Елизара загорелся сухой пень: видать, крепко осерчал тогда старец. Стихия! И нет ей узды!
Похоже, что из древних волхвов он, оттуда свою родословную ведёт. И жизнь его ему самому просто не принадлежит, но это всё выше нашего разума.
Всего сотню метров прошёл Никодим до встречи с врагами своими, а сколько успел передумать, всю свою жизнь на изнанку вывернуть. Встретились взглядами поп Никодим и старший из монахов. И у людей сложилось такое мнение, что вокруг бойцов задымилась земля — почернела вся. Но недолго это единоборство взглядами продолжалось. Тут силы у них оказались равные. Оба сильны!
Положили они руки друг другу на плечи. И как будто бы небеса на них навалились: тяжесть такая. Пот заливает им глаза, зубы скрипят, будто на песок попали. Но и тут сразу никто не победил врага своего. Оба устояли на ногах.
И следующим мигом невиданная сила разметала их в разные стороны. Только, заряд молнии прошуршал над головами зрителей. В руках у монаха появился культовый меч, именно этим оружием тот должен убить Отца Никодима. На нём и наговор есть: лучший сопроводительный документ на тот свет. Но, похоже, что священник в нём не нуждался. И казацкая сабля легко отразила разящий удар монаха. И вот тут-то святой крест на груди Никодима, который здешние люди, после ранее известных событий, уже иначе, как святым и не воспринимали, начал опять светиться.
И что самое потрясающее, его свет был строго направлен в глаза монаха. И хоть не ярким было это свечение, но крепко раздражало пришлого убийцу. Боялся он этого света. Монах начал часто ошибаться и в конечном итоге его смертоносный меч точным и мощным ударом Никодима был выбит из рук убийцы.
Сейчас посланник маньчжурского правителя и наёмник был обречён на погибель. И он понимал это.
Страх всемогущ, и он сломил волю убийцы всего в одно мгновение. Не мог он долго противостоять русскому попу без оружия. Это было смерти подобно. И всем наблюдателям это было яснее ясного. И монах уже ждал неминуемой смерти с минуты на минуту. Но тут случилось непредвиденное обстоятельство. Никодим снял со своей мощной груди светящийся крест. Затем, бережно поцеловав его, передал это знамение, вместе с оружием, одному из своих сыновей.
— Что ты делаешь Никодим? — зароптали казаки. Враг коварен и не добит — одумайся!
Но поп был невозмутим. И даже, похоже, было, что он и не слышал никого.
— За христианскую веру! За её торжество на этой земле. Я готов сражаться, и голыми руками! Да рассеются враги её! И восторжествует вера наша! Во веки веков!
Ожил наёмник и так закрутился юлой, что зарябило в глазах от мощных ударов монаха руками и ногами. Они бились теперь на равных правах и без оружия.
Говорил ведь отшельник Елизар ученику Никодиму, что в русской борьбе ключ находится к различным системами ученьям разных боевых искусств. И везде переигрывал Никодим, опережая чёрного монаха. И тот тоже понимал всё это, но сдаться не мог. За убийство русского попа были заплачены большие деньги. И вся его жизнь убийцы-монаха была поставлена на кон. И ещё престиж целой школы таких же, как и он, убийц. Там таких промахов ещё не бывало.
И тут Никодим применил один из приёмов отшельника Елизара. Он был настолько быстр в исполнении и точен, что никто толком и не понял, почему монах тяжело осел на землю. И почему он так долго не видел даже солнца на небе.
Монах, качаясь, поднялся на ноги, и видно было, что он слаб ещё. Но всё это было обманчиво. Так как монах мог быстро восстановить свои силы. Годы тренировок научили его этому очень коварному приёму. Любого противника можно было легко ввести в заблуждение и затем, одним ударом, победить его. А потом уже вволю наслаждаться своей победой.
Не хотел отец Никодим убивать монаха. И вообще никого не хотел убивать. И поэтому, когда он заметил, что монах начал соображать, то заговорил с ним без всякой угрозы.
— Я не буду тебя убивать, и объясню почему. Ты пришёл сюда защищать свою веру, и ты должен был убить меня. И ты не можешь поступить иначе. Но хуже всего, что ты наёмник, и в моей вере нет таких монахов-оборотней. И ещё: ты не смог бы простить меня, как сейчас поступаю я. В твоей вере нет такого — прощать даже убийцу! А в моей вере есть! И потому моя вера сильней твоей веры. И ещё! Моя вера не прерывается убийством кого-либо. И потому она вечна и непобедима! Я прощаю тебя! Уходи туда, откуда ты пришёл, и расскажи о силе нашей веры, и своём поражении. Расскажи о своих ошибках, донеси их до соратников своих, и до тех донеси, кто послал тебя убивать.
И когда Никодим повернулся спиной к побеждённому монаху, чтобы покинуть место боя, тот с непредсказуемой быстротой, которую никто бы и не смог предположить, ударил Никодима двумя пальцами в область затылка. Это и был мало кому известный — только избранным — удар кобры.
Смерть должна быть мгновенной. Монах-убийца никогда не ошибался и не сомневался в успехе. В его практике не было другого исхода, и это погубило его. Ответный резкий удар Никодима развёрнутыми пальцами по удивлённым глазам соперника легко опрокинул монаха навзничь, на желтый зернистый песок. И лёг тот у самой Амурской воды.
Только один священник понимал, что сейчас произошло. Был бы он уже мертвец, если бы не привиделся ему образ отшельника Елизара. Никто другой из казаков его просто не видел и видеть не мог. Когда Никодим поворачивался спиной, как ему казалось к уже обречённому монаху, он увидел образ своего духовного наставникам Елизара. Тот был суров, как всегда во время их учебных поединков, и очень собран. И как всегда, они безошибочно понимали друг друга. Взгляд отшельника предупредил Никодима:
— Враг сзади, береги затылок, иначе смерть!
И невиданной и непонятной силой своей, святой Елизар дал прочувствовать весь момент опасности, грозившей его ученику. Показав ему всё это в его же воображении, только очень замедленно, где и полёт пули можно было проследить и отклонить её. Но это удел избранных. И смертоносный удар монаха не достиг своей цели.
— Гаси источник энергии противника и его самого, как свечу — на одном дыхании! Убей в нём пламя жизни!
Так и поступил Никодим, со своим наёмным убийцей.
— И ещё не забудь, Никодим, поставить свечу за святого мученика Елизара. Я за веру нашу выстрадал и вытерпел много мытарств и, тем самым высоко вознёсся, в молитвах своих. А для людей лучше всего отстроить часовню. И тем самым укрепить нашу веру, а так же самих себя.
Так когда-то и на Куликовом поле было. И потом ещё на Руси было бесконечное множество раз.
В забайкальской тайге, и моя часовня стоит. И к ней приходят помолиться добрые люди.
— Думай!
Черный монах долго приходил в себя и еле поднялся на ноги. Лицо его было страшно обезображено. На заплетающихся ногах он всё же уходил в воду Амура, как будто ища там спасения.
— Не жилец! — роптали казаки. — Помирать убийца пошёл!
Но младший из монахов, словно обезумев, с яростным воплем, ринулся за ним в воду.
— Уйдёт Джига! Он бессмертен! Его нельзя победить. Смерть его у меня находится!
И в руках у младшего из монахов на солнце злобно блеснул серебряный и лёгкий кинжал. Тот по-осиному легко завис в воздухе, над родничком монаха, и вонзил туда своё жало.
Великий Амур принял тело убитого монаха как жертву. Без всякого сочувствия водоворот подхватил тело и увлёк за собой в глубину реки.
— Ты зачем убил своего собрата по вере? — спросил монаха начальник казаков Семихатов Валерий Борисович.
И другие недоумевали — зачем?
— Я должен был его убить в любом случае. И у него есть такой же кинжал, для меня приготовленный. И он так же поступил бы со мной. Доложить о выполнении нашей миссии должен только один живой человек — кто-то из нас. Сейчас я выше поднялся по нашей иерархической лестнице и занял место побеждённого товарища. А тот высоко там стоял! Сейчас ему уже ничего не надо. В случае моей победы я поднимусь ещё выше. Я этого давно заслужил. Я долго ждал своего часа, и наконец-то он наступил.
Лицо монаха было неимоверно счастливо — пробил его час. Наконец-то?
Удивляется Валерий Борисович: «Значит, ты все равно будешь биться с нашим казаком, даже после полного вашего поражения, и всей вашей позорной миссии. И снова за веру свою, но в эту сказку уже никто не поверит. Наверно ты о своей карьере печёшься!»
Добрые глаза начальника озорно смотрели на монаха. И седеющие волосы Валерия Борисовича растрепались. Он не был сейчас начальником, а был, как говорится, со всеми казаками на одной ноге.
— Ты никогда не сможешь победить русского человека, потому что твоя душа уже давно была убита тем, кто послал тебя других убивать.
И продолжил, уже серьёзно, с душевной теплотой в голосе.
— Кто из казаков желает постоять за веру свою и честь нашего казачества? Очень сожалею, что сам не смогу это сделать: выбор был сделан самими монахами.
Желающих бойцов было немало, но когда выдвинулся вперёд Василий Бодров, то остальные казаки поутихли. Равных соперников по мастерству ему не было во всей станице. И, наверное, во всём Забайкальском казачестве.
Трудно это было определить, потому что среди казаков такого уровня бои не проводились. Это было строго-настрого запрещено уставом. Они принадлежали к элите казачества, и когда-то, в старину ещё, их называли Характерниками. Такой пеший казак мог уцелеть даже тогда, когда на него неслась конная лавина кочевников. Когда кровь в жилах леденеет от ужаса не только у людей, но и у полудиких степных коней. И, кажется, солнце от ужаса тоже стынет на небе.
А казак успевает отбить от себя и стрелу и брошенное в него копьё. И затем начинает выкручивать на земле невообразимый танец смерти. Как юла он крутится на руках параллельно земле и вокруг своей, невидимой глазу, оси. И каждая клеточка его тела тоже движется в этом невообразимом, энергетическом разящем потоке. Эдакий маленький солнцеворот, но только поперёк общего движения лавины. Ломает казак своими тренированными ногами ноги несущихся на него лошадей, как снарядом. И лошади, вместе со своими всадниками, с ходу заваливаются на бок и с грохотом бьются об землю. Всего через доли секунд вокруг казака гора из стонущих, вопящих, и задыхающихся от ужаса тел. А казак уже на ногах. И ловко подныривает он под следующую, летящую на него, очумелую от ужаса происходящего, лошадь. И вместе с всадником заваливает её на бок. Седока достаёт кинжалом, как молнией. И вот он уже на коне. И вытаптывает он, нервно пританцовывающими лошадиными ногами, своих врагов.
И не может чужая дикая лошадь ослушаться казака, потому что её рёбра трещат от мощных объятий ногами. А её дыхание разрывает ей грудь и нельзя ей никак ослушаться в руках нового хозяина. Мог он и на всём лошадином скаку зубами подобрать лежащий на земле клинок. Мог и стоя пронестись на коне. И ещё много чего мог!
Познания Характерников были обширные во многих областях жизни, наука эта складывалась веками, он и лекарь, он и ведун, он и учёный, но, прежде всего, боец.
На основе их знаний позднее воспитывались казаки-пластуны, гордость и слава всего казачества и всей России.
— Зачем тебе, всё это Василий? — вопрошают мужа огромные глаза любимой жены. Плачет черноволосая и растрёпанная и от того, на этом реальном фоне, очень бледная жена Василия Ивановича, Александра.
Она не кричит, как и все казацкие жёны и не ломает себе руки. Но чем-то реально помочь своему мужу тоже не может, хотя и оружием владеет неплохо. Поэтому и плачет она, от безысходности своей. Её доля такая! Ждать! Тут и дети их находятся. Но и сыновьям тоже наложен запрет на волю отца. Только он сам решает, как ему поступать в данной ситуации. Ослушаться его они не могут.
Так в волчьей стае вожак учит молодых волчат своим личным примером, как им поступать в той или иной ситуации. И великому самопожертвованию во имя их общей идеи. Ведь и они когда-то станут вожаками. А путь их к вершине славы будет очень тернистый. Но прежде всего им надо выжить, и сохранить свои силы.
Скрестили своё оружие воины, и зазвенела сталь в руках опытных бойцов. Монах был уверен в себе, так как уже никто психологически не давил его. Его начальник позорно проиграл свой бой. И Баха прервал его линию жизни ловким ударом кинжала. Теперь он был предоставлен сам себе. И он должен победить казака любой ценой!
И хотя священник Никодим остался жив, ничего это не меняло. На его совести остаётся казак, как и было запланировано большими людьми. А Никодим так и остаётся на совести Джиги.
И усмехнулся этой мысли Баха — теперь ему уже ничего не надо — отмучился начальничек.
Теперь всё идет не по плану, карты смешались. Но не он раскладывал колоду. И не его вина, что их козыря оказались битыми. И главная ошибка организаторов в том, что Джига проиграл свой бой. Именно он должен был убить Баху, а не наоборот. Тяжело ходить под таким гнётом! А он выдержал его! Он творец своей судьбы! И из показательного поединка ничего толкового не получилось. И с самой его идеей — борцов за свою веру — ещё хуже. Всем зрителям, и ему самому уже яснее ясного, кто крепче в своей вере. Казаки! Он им многим сегодня обязан, и именно своим внезапным прозрением.
Но Баха своё обещание сдержит и вернётся в свой монастырь живой, теперь ему ничего не мешает. И обязательно с победой.
Василий Иванович вызвался на этот поединок сам, потому что хотел уберечь молодёжь от коварства монаха. Уж он то в их коварстве не сомневался не на минуту — наёмники!
Эти убийцы никого не пожалеют, даже маму родную. И в их коварстве им нет равных. Сегодня они уже показали на что способны. Убивать друг друга! А это величайший грех у казаков, среди братьев своих.
Но монахи так воспитаны, и они жалости не знают. Так пусть же, молодые казаки учатся, им ещё рано погибать. У них вся жизнь впереди, и этот урок пойдёт им впрок. И навсегда врежется в их память: для детей своих. Рассуждают так бойцы, и нее жалеют друг друга: потчуют друг друга тяжелыми ударами клинков.
Не думал Баха, что казаки так хорошо обучены воинскому искусству, им всё преподносили в монастыре, что они дикий народ. А ведь и этот синеглазый с проседью богатырь, мало того, что очень силён физически. Так и постоянно удивляет его своей непревзойдённой защитой, которая ни под один из знакомых ему боевых искусств не подходит. И самое опасное то, что не знаешь, где кончается защита, а где уже нападение. И часто нападение происходит там, где должна быть явная защита.
Такая тактика ведения боя очень выматывала монаха, и скоро он почувствовал, что руки его сохнут, то есть немеют. Сам себе и поотбивал Баха рученьки, как новичок в этом деле.
И он уже не думал, как убить Бодрова, а как не потерять своё лицо. Как с мальчишкой разделался с ним казак. А ведь у него вся жизнь в Тибетском монастыре прошла в постоянных тренировках. И сколько людей Баха сопроводил на тот свет, трудно посчитать. Но как говорится, настал и его судный час здесь, на грешной земле, а не на небесах. О чём он никогда и не задумывался, а теперь всё сразу и нахлынуло.
И совсем неожиданно его ноги подкосились. Они подвели его раньше, чем руки, хотя и те уже плетями висели вдоль тела. Мог и раньше прикончить Баху Василий, но такой цели он себе не ставил. Его больше интересовало новое искусство боя и полная победа над монахом. И ещё он хотел, как и всякий русский человек, ясности, даже в этом мерзком деле, с наёмниками.
— Так чья же вера сильнее или правильнее? — спросил Баху казак. — Ты ведь об этом печёшься, раз пришёл сюда убивать и силой насаждать свою веру, и даже казнить за неё людей.
Не успел тот ответить, как из толпы гольдов выдвинулся Покто. Он теперь везде следовал за Василием Ивановичем, во всех его делах. И считал его своим самым лучшим другом на Земле, помогая ему и в охоте и в рыбалке. Но и другим казакам Покто тоже много помогал.
Очень добр был Покто, как и многие из гольдов, но и тут были свои шероховатости.
Раньше сородичи не очень-то уважали Покто, за его непредсказуемый характер. И это была его настоящая беда. Он мог и с торговцем поспорить, и своих гольдов подбить не повиноваться обманщику. Невыносимым характером и отличался он от своих сородичей.
Шаман так и говорил всем охотникам, что Покто смутьян, сам плохо живёт и других охотников подбивает к неповиновению. Нехороший он человек! Даже мнение самого шамана, Покто может запросто оспорить. Среди гольдов таких наглецов, ещё не было — болтун он, а не охотник!
— Я скажу за всех гольдов, — начал свою речь Покто. И потеребил своё безусое лицо. — Ты нехороший человек Баха. Всем гольдам ты враг, потому что пришёл сюда, на нашу древнюю землю, людей убивать. А гольды народ мирный, он и муху зря не обидит. Отец Никодим, тот правильный поп. Его наши гольды за русского царя принимают. Но он отрицает это, и говорит что он обычный человек. А мог бы извлекать из этого выгоду.
Он чист душою, как и мы, гольды, хотя мы с ним веры разной.
И ещё он добрый человек, наш отец Никодим, и тебе Баха не чета — ты росомаха!
Такой очень пакостный зверь в нашей тайге есть. Вот ты такой же, как он! Росомаха!
Его даже сами звери не уважают. После росомахи никто мяса есть не будет, как бы оно сладким не было, и хищник им брезгует. И жить рядом с росомахой никто не захочет, и у них душа есть — она всё понимает!
Подумал Покто, пот вытер со лба, от нахлынувшего на него волнения и продолжил.
— Не гляди, что в шкуре зверь ходит! Он совсем, как человек, зверь лесной, уважения к себе требует.
И также мы, гольды, не хотим рядом с тобой жить. Ты для нас росомаха и есть, и твоя вера такая же, не для нас она.
И тут произошло такое, что для монаха было хуже самой страшной смерти.
Покто жестом подозвал к себе отца Никодима и сказал ему, что хочет принять новую русскую веру на глазах у этого злого монаха. Пусть тот сам убедится, что гольды не хотят его видеть, и у них своя дорога, им не по пути идти. С русскими им будет легче жить, они правильной веры — доброй! И никогда не причинят им вреда.
Перекрестился Покто, припал на колени, и с великим торжеством на лице поцеловал крест.
Это его действие, как гром среди ясного неба подействовало на остальных гольдов. Все они разом оказались на коленях, и, не поднимаясь с колен, двинулись к отцу Никодиму, чтобы поцеловать его знаменитый святой крест, и принять новую веру. Это было настоящее столпотворение. Все забыли про своего недобитого врага Баху.
Ошеломлённый отец Никодим не знал, как поступить с ними. Ведь таинство крещения и требует особого подхода. Тут нужно его особое внимание к каждому желающему покреститься. Чтобы тот проникся святым духом, что от креста исходят, и испил до дна всё торжество момента.
И что самое тут неприятное для гольдов, так это то, что им придётся окунаться в Амурскую воду. А для гольдов это хуже самой смерти будет, ведь там, по их поверьям, злой дух живёт. И чуть что, с радостью прихватит тот с собой в омут и несчастного гольда. С Амуром шутки плохи!
Но и тут не обошлось без смеха. Василий Иванович серьёзно предложил отцу Никодиму.
— Батюшка наш! А бочка под соленья не велика ли для этого дела будет? Может в самый раз для гольдов и подойдёт, они мелкий народ! Пусть там и купаются.
Но тут же Бодров вразумел, что обидел гольдов, назвав их мелким народом, так можно и отпугнуть охотников креститься, и поправился. — Мелкий народ, но очень сильный! — и эта поправка как никогда пришлась кстати, потому что гольды, как дети обидчивы. И продолжил:
— Один Покто чего стоит, тот медведей без счёта завалил. Силён парень!
Со смехом тащат казаки огромнейшую бочку из под капусты на берег Амура, что сняли с одного плота, чтобы там, в этой огромнейшей ёмкости, крестить гольдов. А недовольная казачка уже верещит на весь Амур:
— Ратуйте люди добрые! Кадушку крадут, окаянные нехристи!
И давай казаков в воду, что снопы, с плота метать. Пока сама эта дерзкая казачка с одним из казаков не бултыхнулась в воду. Но тут уже её дикий и испуганный вопль вместо жалости вызвал ещё больше смеху.
— Спасите, люди добрые! Тону! Тону!
Пока её вытаскивали из воды, то ещё всё было ничего. Тетка, как огромная белуга покорно шла к берегу. Но когда она поднялась во весь свой немалый рост, с прилипшей к телу расстёгнутой одеждой и так предстала на обозрение пред всем добрым людом, то сама не на шутку испугалась:
— Позор, то какой! Нагая я! Да ещё перед всем честным народом стою!
Её арбузные груди, со всем своим богатырским трепетом, гулко зашлёпали спасающих её казаков, куда попадя. И таким образом, с трудом, она сумела повернуться к ним своей мощной спиной к сразу же оторопевшим спасателям, и невольным обалдевшим от такого зрелища, столпившимся на берегу казакам. Но получилось ещё смешнее, чем она могла бы предположить.
Эта буйная тётя спасла свою ослепительную богатырскую грудь от позора — от сглазу людского! Но взамен представив им на всеобщее народное обозрение ещё более завидный, необъятный свой зад.
— О-о-х! — невольно выдохнула толпа зевак. Некоторые зрители и глаза закатили.
Этот предмет восхищения, без единого выстрела сразил всех наповал. Похватали подруги казачки в руки свои одеяла и бросились прикрывать свою товарку, от позора.
Суета кругом, и от этого ещё смешнее стало! Веселится народ и советы подаёт:
— А всё жадность помешала, теперь ни бочки, ни стыда нет! Так тебе и надо Лукерья!
Другие казаки вторят им:
— С такой мортирой и города брать можно без всякого выстрела. Только показать стоит.
— А если жахнет такая орудия? — и тут же говоривший, чуть не падает от смеха, договорить застрявшую в горле фразу не может. Представил он, как всё это выглядеть будет. И другие казаки тоже всё это образно представили. А некоторые и на песок повалились от смеха:
— Огонь! Пли!
Христианин Баха
Все насмеялись вволю, и монах Баха тоже. Впервые его душа вырвалась на простор из клетки, где её с самого младенчества держали в монастыре. И его душе было очень и очень хорошо среди этих простых и добрых людей. И никак ей не хочется снова в опостылевшую клетку, а добра ей хочется, обыкновенного человеческого добра!
Крестятся гольды уже без всякого страха, смело окунаются в бочку с головой.
— За нашу новую веру и царя нашего Батюшку!
— Аминь! — и снова в бочку с головой ныряют.
Окружила вся семья своего Василия Ивановича. Не до Бахи им стало. Подошёл к Никодиму и побеждённый монах Баха.
— Крести и меня отец! Не хочу я больше людей убивать и от своей веры отрекаюсь. Всю жизнь свою пересмотрел я и только сейчас свет увидел. Нет мне дороги назад, и хочу я этот свет радости людям нести. Спасать их, а не губить, как делал я это раньше.
Не знает что делать Никодим, ведь перед ним сейчас его смертный враг. И не только его. Но грех отказать в помощи блуждающему во тьме путнику. И тяжкий грех оттолкнуть его, ведь он к свету стремится.
— Крестится раб Божий Баха! — и окунает его в бочку с водой. — Во имя Отца Господа Бога, сына его Иисуса Христа и Святого Духа! Аминь!
Хотел монах свой клинок в воды Амура выкинуть, но остановил его Никодим — не торопись. Мы воины Христовы, и оружие для нас свято, как и имя Господнее. Потому-то оно и висит у нас рядом с иконами. Этого почёта заслужить надо, порою и всей казачьей жизни всё это стоило.
Оно может не только убивать, но и защищать. Поэтому направь его на хорошие дела! Оружием грех большой раскидываться. Казаки так не делают. Потому что оно нами в бою достаётся, и потом и кровью нашей омыто.
Освятил клинок Отец Никодим и подаёт его Бахе.
— Теперь ты носишь новое имя — Иван Чёрный, самый, что ни на есть русский казак. Выбирай дорогу себе сам, теперь ты свободен, как и все казаки. И пусть ты чёрен, как головёшка. Ты такой же, как и все мы — по духу нашему. Цвет кожи для нас казаков роли не играет. Всех нас вольный дух казачества объединяет.
Но тут Покто снова заговорил, обращаясь к уже бывшему монаху. Не захотел Покто нового имени принять при крещении, сказал, что быть Покто ему удобней. И от своего геройского имени он никогда не откажется. Его никто и не заставлял это делать. Покто, так Покто!
— Я назвал тебя росомахой, и не жалею об этом! Но ты сейчас другим стал. Я по твоему лицу вижу, что ты правду говоришь, сейчас ты на хорошую тропу вышел. А раньше я хотел посадить тебя в лодку, как у нас гольдов с плохими людьми делается.
Вывезти тебя на середину Амура, там, где река Сунгари свои воды с Амуром мешает, там у них битва не на шутку идёт. И оставить тебя там одного и без весел. В этом кромешном аду на суд этих двух страшных стихий. Их ты никак не купишь, у них своя, правда — неподкупная человеком. И ты должен предстать пред ними во всём своём ничтожестве. И если выживешь ты, то ты имеешь право жить дальше. А если? — Не договорил Покто свою речь, но все его поняли. — Конечно, там была смерть. Но сейчас ты имеешь право жить, как и все мы здесь стоящие. Живи Баха, то есть Иван Чёрный! Живи среди нас и приноси людям радость.
— Спасибо! — поблагодарил всех новоиспечённый Иван. — Но я всё же рад буду проверить себя, и правильность своего выбранного решения. Пусть стихия меня осудит, честнее такого суда нет на всём белом свете. Если выживу я в той стихии, то прав я был в своём выборе своей новой дороге. А если нет, то всё равно я умру с Божьим именем на устах. Я своего решения не меню.
Посмотрел, он грустно на окруживших его людей, и добавил.
— Все видят, как красив лотос, он также и умирает красивым, и все любуются им. Но никто не знает, как он при этом несчастен.
Непонятная нам жизнь! И многого мы не замечаем! Но всё это до поры, до времени — обязательно, как рассвет наступит прозрение.
Никто из казаков, толком ничего не понял, только казачки украдкой прислонили кончики своих платков к глазам. Их сердце, никогда не обманывало — и тут быть беде! Где-то рядом она!
А бывший монах обратился к отцу Никодиму.
— Можно, Отец Никодим, если я жив останусь, тебя старшим братом звать? Клянусь, что твоего имени я никогда не опозорю.
— Ну, если не опозоришь, то сочту это за честь. Во славу доброго дела я разрешаю тебе это сделать. Твори добро везде, где ты будешь. Аминь! И моим добрым именем — твори! Пусть поможет оно тебе в трудную минуту.
Перекрестил казачий священник своего названного брата тяжёлым медным крестом, дал его поцеловать. И напутствовал своего нового брата:
— С Богом!
Пошёл Иван Черный к оморочке, что у берега стояла. Столкнул её на воду, и с силой погнал её к середине Амура, на стрежень двух течений, на встречу со своим судом. Он имел на то право, иначе и жить ему не стоило.
На середине Амура он что-то крикнул своё, сердечное и гортанное, но до жути щемящее душу на только ему одному известном наречии. И с силой швырнул теперь уже не нужное весло за борт своей тонкой и утлой лодочки.
Может, и он вспомнил маму свою, которую никогда в своей жизни не видел. И спросил её, для чего она родила его, такого несчастного, и никому не угодного. И тем ещё раз бросил вызов своей судьбе. Снова пошёл ей наперекор, как и тогда при своём рождении.
А затем смирился Иван, осенил себя крестным знаменем и сел на дно лодки. Теперь он был готов ко всему. Глаза его от усталости прикрылись, и он как бы отрешился от всего происходящего с ним.
Он очень устал, и сразу почувствовал это. Пусть вершится грозный суд, он ему никак не препятствует, ни одним своим движением. И даже ходом мыслей своих.
Унесло ныряющую в яростных волнах лодку за поворот реки, но никто из казаков не тронулся с места. Все были заинтригованы происходящим зрелищем. И никто не посмел препятствовать решению Бахи, ведь, прежде всего, он сам себе судья, и вину свою в полной мере только он сам знает.
Но всё равно суд не оставил никого равнодушным, и русские, и гольды, все жалели монаха. Многие женщины уже открыто плакали, и не скрывали своих слёз.
Мужики крестились, и было отчётливо слышно, как кто-то вслух сказал:
— Не приведи Господь, хоть раз такую проверку испытать на себе. Душа в пятки уходит!
Отец Никодим, осенил крестным знаменем, уже пустую реку.
— Держись мой брат, ты на верной дороге, выживи!
Прошло время, и среди гольдов стали проскальзывать слухи, что монаха видели где-то в низовьях Амура. Живёт он среди местных народов и крестит всех желающих необычным каменным крестом, явно собственного изготовления. Когда ему указывали на то, что крест грубо огранён и неудобен в руке то он отвечал всем желающим:
— Мне есть что помнить всю свою оставшуюся жизнь, и есть, о чем ни на минуту я не могу забыть — грешен я, хотя и прощён Богом! И когда я беру в руку свою этот неотесанный крест, то себя я всегда осуждаю, а к людям отношусь с наибольшим уважением. Потому, что через свою боль я к ним уважение питаю! И сам, до крови проникаюсь благодарностью к милости Божьей. О чём и говорю людям! И они явно видят это единение духа.
И раны мои на руке сразу же заживают, без всякого следа исчезают. И люди восхищаются силой великой Всевышнего, — не это ли счастье!
Качает головой отец Никодим:
— Да-а-а! Дела! Ну и братец у меня объявился. Однако силён бродяга, силён духом своим!
Через десять лет в казачью станицу, в сопровождении гольдов, приходит смуглый, что головёшка, мальчик лет девяти, и ищет он отца Никодима. В руках у мальчишки тяжелый и неотёсанный каменный крест.
— Тебе это!
Что-то знакомое уже промелькнуло в лице мальчугана. И как молнией, ударило батюшку озарение — да это же глаза Бахи! И крест по описаниям тот, про который гольды слагали легенды. От природы его рождение.
Так оно и было на самом деле. И мальчик был сыном Бахи, и крест его.
Жив, остался бывший монах, и со своими проповедями кочевал он от одного стойбища к другому. Везде его принимали с уважением, и слушали очень внимательно. Его душевное обращение к народу сразу же покоряло даже, казалось бы, каменные сердца. Не гнушался он никакой работы и делал её с великой радостью, и скоро стал везде своим человеком. Одна у него была странность — при нём всегда был свёрток, и тот всегда, как и крест, следовал за своим хозяином. Когда его спрашивали, что там, то он ничего не скрывал, рассказывал им. И если очень просили люди, то мог и показать клинок очень тонкой работы. Тогда возглас восхищения вырывался из уст аборигенов Амура:
— О-о-о!
Клинок, такой замечательной работы и качества стали, редко приходилось им видеть, а тем более держать в своих руках. А охотники знали настоящую цену оружию.
И когда его спрашивали, почему он таскает его в свёртке, то тот отвечал, что не пришло ещё время его доставать оттуда! И что сам он считает себя казаком, и если надо будет, то всегда готов применить этот клинок в бою. За веру свою! Но тренировкам батюшка уделял необходимое время, используя при этом не клинок, а тяжелую дубинку. Зачем?
Местные народы никогда и ни с кем не воевали, и дальше его уже ни о чём не спрашивали. Табу! Хотя и так всё было ясно, что-то не договаривал батюшка.
Говорил ещё, что зовут его Иван Чёрный, и что крестил его отец Никодим! Теперь он его названный брат. Это имя у местных народов стало магическим. Тут не нужен был документ, это была безоговорочная рекомендация к хорошим действиям, к помощи. И больше Ивана уже ни о чём не спрашивали. Свой он, такой человек, плохим быть не может! И всячески помогали ему в любом деле.
Скоро Иван выбрал себе в жёны одну местную девушку, и в таёжной глуши уединился с ней. Когда у них родился сын, его сразу же назвали Никодимом, в честь своего названного брата отца Никодима.
А дальше, уже всей своей маленькой семьёй, он странствовал по просторам Приамурья, лишь на зимовку останавливаясь в стойбищах.
Слух о необычном проповеднике через торговцев дошёл и до маньчжурского правителя. Накопилась у торговцев обид на этого неподкупного проповедника.
Не позволял Иван грабить местный народ, так как грамоты сам был великой, не чета торговцам. И силой обладал недюжинной, мог и с медведем бороться, если попадал на их национальный праздник.
Странный это был казак и не казак, и проповедник не проповедник. И виду он был странного, не похожего на местные народы — лицом и телом не вышел. Чёрен Иван, даже среди аборигенов заметен.
И как им было предписано информировать, торговцам, обо всех подозрительных людях полицию, то так они и сделали. И пошло всё дальше своим чередом.
Вызвал правитель к себе помощника и напрямую спросил его — не мог ли это быть один из тех двух монахов, что когда-то провалили его секретную миссию об упреждении, распространения христианства на берегах Амура.
Не знал тот что ответить. Вряд ли смогли бы пойти его монахи-убийцы на такое вероломство — принять чужую веру, а тем более проповедовать её. Для них христианство самое большое зло во всей вселенной. Смерть для убийц была намного проще предательства: тут сразу же открывалась дорога в рай небесный. Проверить все факты было необходимо. И опять он посылает двух монахов-убийц в далёкий поход. Тут уже был задет престиж целой школы, и всей системы разведки в целом. Где предательство было самым постыдным делом. А тем более, со специальным воспитанием в монастыре, да ещё с самого рождения. Там такого быть не могло — это точно!
Понял Иван Чёрный, кто к нему в гости пожаловал сразу, как только увидел монахов. Они и раньше знали хорошо друг друга. Не настолько их было много в школе, чтобы не запомнить всех. И вот они встретились в таёжной глуши, чтобы уточнить свои позиции. Чуть ли не год монахи потратили на то чтобы найти отступника.
У монахов и жест приветствия был свой, особенный. И Иван жестом ответил им, что он тоже приветствует их. Так что ошибки здесь быть не могло. Конечно, это был их Баха.
— Я христианин, и проповедую свою новую веру в этой глуши. А почему изменил вам, то вы это вряд ли поймёте, — начал с опережением свою речь Баха. Он сейчас напоминал разъярённого быка. Дыхание его казалось тяжёлым, а пышущие жаром ноздри выказывали его необузданную силу и свирепость. Куда только делись его добрый характер, и чуткое отношение к людям, и их горю.
Никогда иноверцы не видели его таким страшным. И тоже потянулись к своему оружию: лукам и ножам.
— Теперь я Иван Черный, и с этим своим новым именем я готов умереть от вашей руки, или победить вас и в вашем лице зло, что от вас исходит. Берегитесь меня!
В руках Ивана заблистал клинок, который он много лет не держал в своей руке. И который был очень лёгок после тренировок с тяжёлой дубинкой. Но это было так задумано им.
Все эти годы он знал, что его всё равно найдут бывшие соратники хоть на самом краю земли, и щадить его никто не будет. Им нужна была только его смерть. А ему нужна была победа, чтобы навсегда сбросить с себя тяжёлый груз многолетних раздумий и переживаний. Баха невольно тяготился своей вероломной молодостью, хотя и покаялся во всех своих грехах. Но избавиться от этого чувства навсегда он так и не смог. И кроме всего этого, он должен был защитить свою семью: жену и сына. Ведь и их его бывшие друзья не оставят в живых. Отрежут им уши и ими поштучно отчитаются перед императором о своём успехе. Искоренили весь род предателей, чтобы другим монахам, не повадно было и предавать, и плодить предателей! Урок им будет!
Монахи ровно наступали на своего отступника Баху. Для них он и оставался таким: только Баха, и продажный монах. И что ещё удивило их, так это то, что он сражается с ними с лёгкостью, и совсем непохоже на их тактику— не так как их учили в монастыре.
Они были правы — Иван Черный много думал о своём неожиданном поражении в бою с Бодровым. И его манера ведения боя не давала монаху покоя всю оставшуюся жизнь. И бывший монах по крупицам воспроизводил в памяти тот далёкий бой, пытаясь найти ключ к этой невиданной во всём мире системе со своей странной логикой, сделавшую её практически непобедимой. И отец Никодим тоже крепко запал в душу Бахи своей манерой ведения боя: та же система.
И в результате многолетних тренировок и раздумий Иван Чёрный преуспел в этом деле — ключ был найден. Но и тут он не остановился в своих исследованиях. И ему открылись новые возможности усовершенствовать её приёмы, чем он успешно и занимался. Хотя, казалось бы, что там, на этом поприще, вся многолетняя нива творчества была давно освоена самими казаками.
Тренируясь со своим маленьким сыном, Никодимом, Иван учил его быть на вершине двух известных ему тактик: казацкой и монастырской, плюс ещё, свои, новые приёмы. В трудной казацкой жизни, а он всегда считал себя казаком, вся эта доблестная наука побеждать любого врага всегда пригодится. Как говорится: проникся казацким духом.
Плохо приходилось убийцам-монахам. Скоро, как говорится среди казаков, они отсушили себе руки об этого неразумного Баху. Все их мощные удары клинка в них же самих и отзывались, парализуя их мышцы и волю. А Иван и не устал вроде, только раззадорился весь. Похоже, что он игрался со своими убийцами, как кошка играется с мышкой. Ей уже и крови не надо, но и отпустить свою жертву просто так она не может. Инстинкт ей мешает.
Через некоторое время монахи попадали с ног и ползали по земле, пытаясь подняться, но только вызывали смех у аборигенов Амура. Ни руки ни ноги им уже не подчинялись.
Не стал их убивать Иван. Поцеловал он свой необычный каменный крест, затем перекрестился им, и перекрестил монахов.
— Теперь и вы видите, чем сильнее моя новая вера. Она прощать людей учит и крови ей не надо. Вы бы никогда так не поступили, и я не лучше был когда-то. А сейчас я счастлив неимоверно тем, что подарил вам жизнь, и не убил вас. И сына своего, и этих добрых людей тому же учу — милосердию.
Я не судья вам! И поступлю я по древнему закону гольдов, пусть стихия вас рассудит. Так и Покто со мной поступил, прав он был, как только бывает сама жизнь! Я благодарен ему за эту страшную науку!
А останетесь вы живы, то своим хозяевам передайте, что только сейчас я по-настоящему счастлив. И со своей избранной дороги я уже никогда не сверну. А другие монахи придут убивать меня, то я их прощать не буду, получат то, что они заработали.
Жители стойбища весело перетащили монахов в свою лодку и бросили их на её дно. Те всё ещё не могли придти в себя и не противились им, адская боль парализовала их волю.
Затем лодку ходко отогнали на стрежень водной стихии и оставили монахов, вместе с лодкой, под перстом судьбы. И утлая лодка свободно крутилась, всё удаляясь от людских глаз.
Подходили эвенки к Ивану, преклоняли свои колени и целовали каменный крест и тут же осеняли себя, как могли, крестным знаменем. Наверное, это и их была судьба, и их глаза разом прозрели. Им пришлась по душе новая вера, но и от старой своей веры они не отказывались, и никто не заставлял их это делать.
Прижались к Ивану его любимая жена Найна и сыночек их, Никодимка. Очень они радуются, что так хорошо всё закончилось. И снова все они вместе и ещё более счастливы будут. Уж теперь-то им ничего не угрожает, жить да жить можно! Миновала угроза!
Но всё оказалось намного сложнее в жизни, чем они предполагали.
Как выжили монахи и не утонули тогда, никто того не ведает. Видно было, что не судьба им была умереть в тяжёлых Амурских волнах.
Истерзанную лодку с полуутонувшими, и оттого испуганными до ужаса монахами, волны брезгливо вышвырнули на прибрежный песок. Наверно и вода, как и земля, не захотела принять в себя всю грязь, что на их душах была. И долго ещё возмущался батюшка-Амур по этому поводу. И страшен он был в гневе своём.
Потом шаман скажет всем охотникам, что только огонь и мог принять их тела, а вода здесь была бессильна, столько на них убийств было. Очень много крови пролито. Но, наверно, всё и шло к тому — к огню. К их полному физическому уничтожению и, тем самым, очищению самой природой от их заразы всего пространства, где они жили и творили свои нехорошие дела.
И принялся шаман с ещё большим усердием прогонять злых духов от, чудом оставшихся в живых людей, со всего большого стойбища. Но главного зла, в лице страшных монахов, уже не было в живых.
Пришли в себя монахи после судьбоносного купания и стыдно им стало за весь позор, что они недавно понесли. И так как их учили в монастыре не прощать своих обид, то они приступили ко второму варианту уничтожения Бахи, а попутно и всего стойбища.
Они завезли много пиротехники в легких и небольших шарах, что легко умещались в руке. Были и запалы к ним, к этим игрушкам Они давно уже и много преуспели в таких огненных делах. А разведка всё лучшее из того приняла на своё вооружение, и диверсионную оснастку. Так что было чем обелиться монахам, хотя бы перед своей совестью. Постоять за честь свою и взять реванш за полнейший провал всей своей кровавой миссии.
Было бы желание смыть позор, а средства для этого у них имелись, и в предостаточном количестве.
А оно, конечно у них было, это неистребимое желание мести, как говориться урок не пошёл ребяткам в прок. Тихо, без единого всплеска, пристала лёгкая лодка с монахами к берегу, чуть ли не в центре стойбища.
Ветер дул со стороны жилища и даже чуткие охотничьи собаки не услышали их под крутым Амурским берегом. Охотники и рыбаки всегда выбирали для своих поселений такие высокие и продуваемые ветром места: и от воды летом прохладно, и от мошки можно отдышаться.
Всего один миг им потребовался для того чтобы оказаться на высоком берегу. И не успела сонно тявкнуть первая собака, как взлетела она вместе с ближайшим чумом к звёздному небу. Заискрилось небо на том месте радугой от беснующихся искр и пламени, а рядом творилось что-то подобное и страшное. Скоро всё стойбище пылало огромным единым факелом, превращаясь в кромешный ад, где метались ни в чём не повинные люди.
Иван Чёрный спасал чужих детей, вытаскивая их из огня, и его жена старалась всячески помочь ему, оттаскивая их ближе к спасительному Амуру, под берег. А его собственный сын, маленький Никодимка, был предоставлен сам себе. Как спал он со своим любимым новым луком, что ему подарили охотники, так и оказался с ним, волею отца, на улице.
Всё происходящее невольно сильно пугало ребёнка. Но суровое воспитание отца и сильная любовь к нему удерживали его от бегства к своему спасению. А терпение приучило Никодимку стараться всё осмысливать. И ни в коем случае не поддаваться панике — иначе смерть. И он не торопился, как губка впитывал в свою память всё происходящее, всю трагедию.
На глазах Никодима встретились его отец и один из монахов. Отец прикрыл своим телом огненный шар, брошенный ему под ноги монахом, спасая собой плачущих, вытащенных из огня детей.
Глухим взрывом тело спасителя немного подбросило вверх. И он окутывался пламенем, которое, казалось, исходило из его живота и лёгкой волной разливалось дальше по всему телу, с треском охватывая его. Но он нашёл в себе силы, чтобы подняться на ноги.
С дикими от боли глазами Иван двинулся на своего врага, чтобы уничтожить его. Иначе этот ненавистный враг всех будет беспощадно истреблять: и старых, и малых.
И только ценою собственной жизни спасти ни в чём не повинных гибнущих детей, другого выхода не было.
В какой-то миг проповедник сгруппировался и, как огненный смерч с разящей катапульты, взметнулся в своём полёте над землёй, в сторону своего врага. Но не достиг своей цели.
С глухим стоном Иван так и лёг на землю, не долетев до своего врага, пронзённый в воздухе его клинком.
Ещё больше возликовал монах от такой неслыханной удачи, и его торжествующий дикий вопль эхом взметнулся в адской ночи, над разрастающимся побоищем. Но вдруг оборвался и захрипел. Как будто кто-то невидимый мешал ему.
Тяжёлый и оперённый эвенкийский нож глухо прервал этот ужасный по своей дикости вопль. Монах хотел жить и руки рвали нож из раны, но смерть уже не отдавала его из своих цепких когтей.
Найна знала, что её нож достиг своей цели и ни капельки не сомневалась в этом. И монах уже никак не интересовал её: все её мысли были с Иваном и только с ним.
Она бросилась к своему мужу и как-то пыталась сбить с его тела пламя, но это с трудом удавалось ей. Очень страшная начинка бомбочек была ужасна своим совершенством: горела даже земля и человечье тело. Напрасны были все её усилия: Иван был мертв.
Но не суждено было раскосмаченной и плачущей Найне подняться с колен. Она не видела, как второй монах ловко выхватил из рук у одного охотника тяжёлое копьё. И также ловко расправился с его хозяином, а попутно и с другим охотником, он был виртуоз в этом деле. Убивать, это и было его предназначение в жизни, и делал он это с великим удовольствием на лице.
Пущенное его сильной рукой копьё пронзило согбенную мать Никодимки насквозь и прикололо её к земле, как бабочку. И всё это происходило на глазах у ребёнка.
Не помнил Никодимка, как вложил острую стрелу в свой охотничий лук.
И как он целился в монаха, ребёнок тоже не помнил. Он видел торжествующие глаза убийцы: тот безумно ликовал. Он хотел ещё бесконечно много убивать ни в чём неповинных людей, потому что чувствовал себя выше их — случайных ничтожеств. Он вершитель чужих судеб, их кара!
А он, повелитель, безнаказан в своём совершенстве убивать их как мух. И во всём этом хаосе — законный хозяин, как сама смерть! Он так же могуч! Могуч!
Стрела угодила монаху прямо в глаз и опрокинула его на спину без всякого усилия. И избавила его от всяких иллюзий о своём могуществе: и он тоже муха в руках смерти.
Дрожащий от робости рассвет был незаметен в пылающей кровавой ночи. Но пришло время и ей удаляться на заслуженный покой. И она нехотя освобождала ему место, в этом дымящемся вертепе смерти.
Почти все люди стойбища погибли в этой, учинённой монахами, бойне. Тела их были разбросаны в самых различных позах. Картина побоища была самая ужасная, и надо было быть камнем, чтобы не разрыдаться. И даже бывалым и видавшим виды охотникам было горько. Плакали все без исключения.
Старый шаман приказал живым охотникам собрать все тела своих погибших сородичей в одно место, в центре бывшего стойбища, в одну общую могилу. И щедро засыпать её песчаной землёй. И он, как не старался, не мог скрыть своих слёз, как не прикрывал их космами седых и жёстких волос.
— Пусть здесь, со временем разрастутся красивые пурпурные пионы, и хоть как-то скрасят нависшую над курганом вечную грусть. Пусть тучка порою горестно всплакнёт по невинно убиенным людям. Убитых монахов никто не убирал. Их обгоревшие тела эвенки засыпали разным хламом, что полностью не сгорел в пожарище, и этот их погребальный костёр ещё долго чадил и догорал. Сильнейший ветер, что пронёсся с Амура над их пеплом, зашвырнул его высоко вверх под самые чёрные тучи. А те не приняли его, и с отвращением растёрли своей необузданной массой в пыль. Затем брезгливо омылись холодным дождём. Всё!
Никодимку подобрал шаман и долго лечил его. Сколько мальчик находился в беспамятстве, он и сам не знает, а шаман не говорил ему об этом ничего. Всё больше находился в тяжёлом раздумье, и поил его различными отварами трав.
Хотя он и не любил Ивана Чёрного, но как перед человеком и его силой духа преклонялся перед ним. Иван сильный шаман, и люди его любили, даже больше чем его, старого шамана. Хоть и обидно было это признавать, но что поделаешь — правда! А ребёнок, яркий отпрыск человеческий и большой грех его губить. Он, как и всякое растение, к жизни и солнцу тянется. Беззащитный он!
И не может быть тут другого решения. Спасать его надо, а не сводить старые счёты! Спасать!
Эвенк всегда радуется жизни, он дитя природы. Перед нею все одинаковы, и старые и малые — все жить хотят. И катятся слёзы из глаз старого шамана, не вернуть к жизни его погибших людей. Не вернуть! И даже не понимая, как это всё могло произойти, шаман неистово перекрестился. Однако очень испугался этого, и весь съёжился. Но ничего страшного не произошло, ни грома, ни молнии не было. Значит, и греха здесь никакого не было.
Ушли эвенки с этих мест, дальше на север, в верховья Амурских притоков. Невозможно им было оставаться в этих местах, где под курганом чуть ли не весь их род остался.
Оставили они умершим вещи, что нужны были им для их новой жизни. Развесили всё по деревьям, их охотничье и рыбацкое снаряжение. И молча, утираясь слезами, удалились к своим лодкам.
И застонал Батюшка-Амур вместе с ними от всей горечи утраты, и ему тяжело стало:
— Эх, люди! Что творится на белом свете.
Выходил шаман Никодимку и через своих людей, своих многочисленных родственников, передал его, можно сказать, что из рук в руки, в русское селение, отцу Никодиму. Там, с русскими казаками, лучше будет ребёнку жить: у него впереди своя большая дорога, на много лет тянется. И ему с казаками по этой дорожке идти.
Старый шаман ему мешать не будет, он всё правильно понимает! Он много солнца видел на небе, и сам стал весь чёрный, стал как головёшка. И выбор свой сделал разумно. Не мешать!
— Иди сынок! Быстрый олень улитки не замечает, они разные, хотя и по одной земле ходят.
Услышали рассказ маленького мальчика казаки и сами чуть не расплакались. А некоторые и слезинки смахнули.
— Это же надо столько невинных душ загубить, нелюди, другого им названия нет.
А жена Никодима не сдержалась и бросилась к ребёнку:
— Касатик ты мой, я тебя никому не отдам. Ты мне хоть сыном, хоть внуком будешь!
И тут же набросилась на людей.
— Ну что же вы тут свои рты поразинули, или дома у вас нет делов?
И правда! Спохватились люди и уже с улыбкою на лице расходились по домам.
С такой мамой ребёнок не пропадёт, это точно! Кошка она, того и гляди за него и глаза выцарапает. И вздохнули люди, уже спокойно — молодец!
Но это было уже спустя десять лет, как обжилась казачья станица.
Станица Михайло-Семеновская
После схватки с монахами и победы над ними, крепко призадумался Василий Бодров. А затем обратился к Семихватову Валерию Борисовичу, начальнику сплава, и ко всем казакам.
— Наверно, Валерий Борисович, я дальше не пойду с вами. Останусь я здесь с отцом Никодимом, чтобы часовню здесь отстроить. Моё сердце мне подсказывает, что тут моё место. Приплыл я уже!
Шевелил Амурский ветерок знатную чуприну Василия Бодрова, охлаждал его буйную голову. Но тот стоял на своём решении:
— Здесь моё место!
И Никодим, словно очнулся из забытья:
— И мне грех дальше идти. Перед учителем своим, святым Елизаром, побожился я, что часовню отстрою и свечку ему там зажгу.
Если бы он не предупредил меня в бою с Джигой об опасности, что грозила тогда мне, то не было бы меня уже в живых. В долгу я перед ним, и перед совестью своей должен. Люди сюда, к святым местам, сами и потянутся. Так всегда испокон веков было.
Молчат казаки, слово за старшим осталось, за атаманом.
Тот что-то своё размышлял и не торопился с ответом. Наконец и он сказал своё веское слово. Всё же, он здесь начальник, и на всё его воля!
— Мы должны заселить побережье Амура на расстоянии одного почтового перегона, а это как раз где-то здесь будет. Будем на лошадях царскую почту гонять, от станицы к станице.
Место здесь видное и ключевое. Большая река Сунгари с той стороны в нашу сторону обширные виды имеет, с боем соперничает с Амуром в своей дерзости.
И заграничные соседи и местные народы тоже тропят сюда свою дорогу. Значит, стоять здесь нашему боевому авангарду, лучше места трудно найти.
— Ура! — Ура! — взорвались ликующими возгласами казаки. — Новая станица будет.
Но Валерий Борисович продолжил свою речь, со всей торжественностью, на которую только был способен.
— Быть здесь станице Михайло-Семёновской, в честь военного губернатора всего Приамурья Корсакова. Лучше подарка герою и всей России и не придумать.
Увековечим мы его имя в истории, а со временем и памятник ему здесь поставим, таково и моё решение. Радуйся, дорогой мой Василий, всё по-твоему будет. Здесь и твой почин есть!
Радуется вся семья Бодровых, приятно им всё это слышать. Ценят их родоначальника династии Василия Ивановича. Очень ценят!
И заканчивается их тяжёлая походная жизнь, пришла пора обустраивать и налаживать казачий быт.
Ну а дальше вообще было все, как в сказочном сне. Сдержал паузу Валерий Борисович, пока не утихнут все возгласы восхищения правильностью нынешнего решения. И продолжил говорить с лёгкой улыбкой на своём добром лице.
— За целый ряд подвигов, что совершил Василий Бодров, за весь период сплава хотел я его наградить. Но нет у меня с собой ни орденов, ни медалей. А бумаги наградные — долгий у них путь, и порою бесславный! Это такая волокита мне потом будет, по всем инстанциям его наградные документы искать. И, в конечном итоге, не найти их, при всём нашем чиновничьем беспорядке. Что позорить себя и героя нашего перед станичниками и всем честным народом, я не хочу!
Поэтому я и решил сам наградить его. Ведь все наши казаки хорошо помнят, как победил он в честном бою разведчика, мнимого корейца Кима.
Тогда вместе с ним в плен к нам и попала его касса с большой суммой золотых и других денег. Все они были посчитаны и описаны, а затем переданы в нашу общую казну.
Вот оттуда я и хочу взять определённую сумму денег для награды герою, ведь это он их добыл и как бы это его законный трофей.
И он, как всякий казак, имеет на то право, получить свою награду с отданного в казну трофея.
А я, как ваш начальник, тоже имею право за ваши заслуги наградить любого из вас определённой суммой денег. Есть у меня такие полномочия от вышестоящих казачьих руководителей. Так испокон веков было у казаков, так и дальше будет. Поэтому, я предлагаю наградить Василия суммой денег в сто рублей золотом.
Зависла полнейшая гнетущая тишина в, казалось бы, разряженном воздухе. А затем, как избавление грянул желанный гул, предвестник грома.
— Да-а-а!
Такая сумма по тем временам считалась целым состоянием, можно было всё хозяйство на неё купить.
— Да-а-а!
Но оправились казаки от шока, и воздух содрогнулся от их дружного возгласа, грянувшего, как гром!
— Любо атаман! Любо!
Полетели в воздух лохматые казацкие шапки, а затем и сам виновник торжества запарил в воздухе.
— Любо! Любо! Любо!
Затем поклонился Василий Бодров всему честному народу на все четыре стороны.
— И мне любо! Любо казаки! Огромное тебе спасибо, атаман, за столь ценную для казака награду.
Если бы не ты, то я своего геройства и не заметил бы. Это вся моя жизнь!
Я рад служить своему Отечеству, и не для награды это делаю. Но и отказаться от заслуженной награды я не могу, обидятся казаки. И семья обидится: так не делается!
Два ведра водки с меня добрым казакам за мой счёт, слава им!
Нацедили казаки из казённой бочки водку в вёдра. По полному ковшу преподнесли Василию и Валерию Борисовичу Семихватову.
— Испейте, добрые люди, за ум, за совесть, и казачью доблесть!
И мы, глядя на вас, тоже будем полниться, как эта чаша добром и совестью. Ох, и сладкая чара будет!
И пошли гулять ковшики по кругу, по цепким и сильным казацким рукам. А жёны их только развели руками. Ничего не поделаешь, и им надо развеяться, иначе и жить не стоит!
— И нам любо!
Всего шестнадцать семей осталось обживать новое место с отцом Никодимом и Василием Бодровым. Были здесь и Шохиревы. И ещё другие славные фамилии: Кузнецовы, Усовы, Димовы, Астафьевы. Все славные!
Заканчивалась весна и отрадно было людям снова прикоснуться к земле. Как никак, казак без земли себе жизни не представляет. Он цену ей с самого рождения знает. Она дороже ему всяких денег.
Когда прощались казаки с отцом Никодимом, то с уважительной улыбкой на лице всё же спросили его.
— Что же ты, батюшка, всех нас не перекалечил в пьяных единоборствах наших. При твоем мастерстве тебе это ничего не стоило бы. А ты столько шишек и обид от нас терпел, что только диву даёмся твоей жалости к нам. И ты всегда один нам противостоял, один.
Задумался и сам герой. Круто судьба обошлась с ним, мигом вознесла его!
— Я казак и не более вас грешен бываю. Потому-то всё вам и прощаю, дети мои!
Пригодилась моя сноровка в нужное время и в знатном месте, а не в пьяной драке.
Там было, где себя показать и что показать и вы всё видели, всё моё умение.
И вы простите меня, казаки, за мою необузданную дерзость и страстную любовь к жизни, а жить очень хочется. Не убить человека — эта самая великая победа над собой. Это великая победа! И я рад ей!
Уплыли казаки на плотах и дощаниках дальше вниз по Амуру, чтобы там новые места заселять и станицами от врага укрепляться. Более мудрых слов на прощанье ни у кого не нашлось, и только казацкие папахи замелькали в воздухе да цветастые женские платки.
Работали казаки с рассвета и дотемна, корчевали лесистые рёлки и поднимали целину.
С коровами и с лошадями возились подростки и женщины. Торопились переселенцы обжиться на новом месте до наступления морозов. И никого не надо было подгонять в этом деле — зима шуток не любит и все это прекрасно понимали. Время дорого!
Однако и про службу не приходилось забывать — граница рядом. И хунхузы могут нагрянуть с той стороны, могут и покруче вражины.
И приходилось казакам на ночь выставлять часовых. Да ещё и не одного и не два, а целую смену. Тяжело людям было, и жаловаться некому часовым.
А если проспишь ворога, то всем крышка будет — за всех он в ответе. Ему не один человек свою жизнь вверил.
Но однажды случилось невероятное дело — тихо исчез часовой.
Только широкая колея на том месте, где он должен был находиться, пробороздив речной песок, исчезала в воде. Но самого часового и там не нашли.
Тихий ужас овладел поселенцами: тут что-то не так. Но кто стоит за всем этим разбоем, зверь или человек, вот загадка.
Но не прошло и двух недель, как всё повторилось, только по другому сценарию.
Дикий вопль часового разорвал ночную тишину. Затем ружейный выстрел у склада с военной амуницией подтвердил, что там, на посту, что-то происходит.
Похватали казаки своё оружие и фонари и пулей ринулись к месту происшествия. А женщины и подростки заняли оборону возле своих жилищ. Всё у них было отработано многолетними необходимыми тренировками и самой казацкой жизнью на границе. Где всё было просто и понятно: надо защищаться, иначе не выживешь.
Свет от фонаря выхватил из темноты ужасную и дикую для человечьего глаза картину.
На земле неистово боролись два тела: огромного по своим размерам удава, и полузадушенного, обречённого на смерть, Ивана Ангарского.
Всё сильнее удав давил человека и если бы тот не дотянулся до своего ружья и не дёрнул спусковой крючок, то удав победно довершил бы своё начатое дело и был бы таков.
Ринулся подоспевший казак на помощь своему товарищу и попытался как-то ослабить могучие кольца удава на его груди, как невиданный по размерам гад сильнейшим ударом головой в грудь опрокинул казака навзничь. Тот только успел тихонечко ойкнуть и беспомощно осел на землю. Молниеносный и мощный удар этой непробиваемой кувалды надолго вывел его из строя. Это был старший сын Василия Бодрова, Артём.
Собаки неистово выли, но вели себя, как мышата перед могучим змеем. И если бы тот поманил их своим гипнотизирующим взглядом в свою страшную и разинутую пасть, то они непременно бы против своей воли туда ринулись. Но такой команды не было, и они истязали себя и людей жутким и заранее обречённым воем, точно с них заживо снимали шкуру. И всё это в жуткой черноте ночи, когда и луна поспешила спрятаться за ближайшую тучку и только изредка, для лучшего обзора происходящих событий, ненадолго проглядывала из-за своего, суетящегося в своей вечной спешке, ненадёжного прикрытия из облаков.
Но один пёс не остановился перед собственным страхом, это был старый и добрый Полкан.
За своего любимого хозяина он готов был бежать на край света чтобы спасти его. И потому он сорвался дома с привязи, где его оставили, и примчался на помощь своему хозяину.
Не раздумывая ни на минуту, этот лохматый пёс кинулся на удава именно тогда, когда все были в шоке от происходящего поединка и не знали что делать.
Вероятно, это было безумие с его стороны, но поступить иначе пёс и не собирался. Хотя, возможно, и он понимал, что этим обрекает себя на смерть.
Удивительное самопожертвование: собака, ради жизни человека. Многим людям это было не понять, и не под силу сделать всего один решительный шаг за грань жизни. И, возможно, что и сам хозяин не смог бы так же геройски поступить, как его пёс Полкан, не счёл нужным!
Мощнейший удар десятиметрового удава, его чудовищной головой, что кувалдой, обрушил Полкана на месте.
Пёс отчаянно взвизгнул и искалеченный заелозил по земле. Изломанное тело не слушалось его.
Он так и лёг обречённо рядом со своим хозяином, прикрыв свои огромные от боли глаза. Пёс был полностью готов к смерти: всё возможное и невозможное для спасения своего хозяина он сделал.
Следующий удар должен быть смертельным, собака понимала это, и уже покорно ждала его рядом со своим хозяином. Теперь и ей не было страшно.
Но удав уже не обращал на свои жертвы особого внимания. Он переместился чуть в сторону, окончательно освободив тело часового из своих стальных объятий.
Закручивая потуже свою живую спираль мускулов в мощную сжатую пружину, удав продумывал пути своего отступления к спасительной реке. Ему не нравилась ситуация, где он сам превращался в добычу. И становился всеобщим объектом охоты.
Огненные глаза змея всполохами метались в, пляшущем от ужаса, мраке ночи, упорно ища выход и везде натыкались на опешивших, но вооружённых людей.
Фонари в руках казаков сразу же нещадно зачадили и поочерёдно гасли от одного прикосновения змеиного взгляда. И непонятно было, как тот мог влиять на огонь и людей и на всех сразу, откуда у него, такая сила — загадка?
Василий решительно встал на пути отступления змея. Теперь глаза их встретились, и они прекрасно понимали, кто и чего хочет. На кон оба поставили свою жизнь, потому что так просто им уже не разойтись в этом мире. Другого выбора у них не было.
Понимал Василий Бодров, что если он пропустит удар удава, то это его вероятная смерть.
У кого лучше реакция, тот и имеет право на победу и жизнь. И змей имел на то все весомые основания, сама его природа такая — убивать! И с ней он живёт в полной гармонии, он тихий хищник.
Надо быть великим мастером, чтобы упредить этот смертоносный удар змея в самом его зачатке, у его истоков, потом поздно будет.
Коварен хищник, особенно когда он чувствует себя загнанным в капкан. Ещё миг и тот захлопнется, но миг этот для спасения есть у обоих. Ведь оба они сейчас хищники и надо его использовать, тот спасительный миг — кто раньше успеет.
В сверкающем, молнии подобном полёте, встретились казачья сабля с головой удава. Удар змея был настолько тяжёл, что Бодров, невольно прогнулся назад и чуть не потерял равновесие. Обезглавленная стальная пружина тела удава безвольно раскручивалась и пачкала всё пространство вокруг себя своей чёрной кровью.
А отрубленная голова змея смотрела на эти, свои же муки, уже со стороны немигающими и злобными глазами.
Дальше происходило страшное и коварное зрелище, уже не по непредсказуемому сценарию. Вряд ли кто мог подумать, что забитые неописуемым ужасом и животным страхом собаки кинутся на своего недавнего, и уже поверженного повелителя.
Они рвали тело своего врага-удава с величайшей яростью. Со злобным утробным урчаньем, на мельчайшие части. Зажимая лапами ускользающие из их объятий окровавленные куски мяса.
Озлобленные и окровавленные морды собак устремились к луне и, оскалясь хищными зубами, утробно завыли.
…Брезжащий рассвет заполнял все пространство и разрастался. Но изумлённые люди не спешили расходиться. Часовой пришёл в себя и начал рассказывать. Он не имел ни переломов ни серьёзных ушибов, просто его вовремя вытащили из мясорубки — объятий удава.
— Если бы удаву не помешали, то не трудно было представить, что было бы со мной. Но жив я остался, и это главное. До сих пор мои волосы дыбом на голове стоят. Пережить ещё раз такое чувство я вряд ли смогу.
Как наказывать часового, ведь вина его не доказана. И ясно было людям, что удав охотился на человека, а это само по себе уже страшно. И побывать в шкуре приманки для удава, вроде мышки или кролика, вряд ли бы кто согласился. Простили часового!
А вечером того же дня к новосёлам припыл на своей легкой оморочке крещёный гольд Покто. Привёз он в подарок казакам много свежей рыбы. И каково было его удивление, что те его, храброго Покто, так плохо встречают. А тем более его лучший друг Василий Бодров.
— Кого бояться храбрые казаки? — пошутил Покто. — Или Амба к вам приходил в гости? — и продолжил уже дальше развивать свою весёлую мысль.
— Наверно казаки Покто бояться! — и как колокольчик заливается весёлым смехом гольд.
Но когда Бодров молча отвёл его на место ночного побоища, то следопыт Покто сразу же обмяк. Для него не надо было что-то говорить, он всё сам считывал с затоптанной земли.
Что шептали губы гольда, никто из казаков не понимал. Зато потом, когда Покто поднял свою голову, то глаза его были полны неописуемого ужаса. Ему было очень страшно.
— Кто убил его? — и не дождался ответа, продолжил: — Он даже Амбы не боится! Никого не боится! Это сам злой дух приходил сюда. Здесь его редко бывает, его много на том берегу живёт. И большой его папа там, и мама там. Совсем большой они. Очень плохо, Василий! Совсем плохо, друг мой!
— Что же здесь плохого? — изумился казак. — Вот если бы он к нам с миром пришёл, тогда другое дело. А так чуть второго часового не задавил на посту, и собаку покалечил. Да и сын Артём чудом спасся, от его удара головой. Проиграл этот дракон свой бой, и весь тут сказ, человечинки ему захотелось.
— Правильно, дракона его зовут. Его трогать нельзя было, святой он у них, у соседей из-за реки, да и у нас тоже — оживился Покто. — Ему даже лучшую добычу отдаём, бывает, что и девушку, чтобы его не прогневать. Только у нас он очень редко бывает! Ай-яй-яй! Очень плохо сейчас! — и перекрестился гольд. — Очень плохо!
Преследовать он вас будет, и возможно весь ваш род. Так всегда бывает, когда дракона убивают.
Мой дед так говорил, и его дед, и ещё дедушка, всегда так было.
Крестятся казаки и казачки, не могут они избавиться от ужасов ночи. Только часовой Ангарский оживился. Тот прямо взбесился.
— Да я бы в него не одну пулю всадил, решето сделал, видите ли, мяса ему захотелось. Задушил бы его!
Хотели казаки посмеяться над часовым, но увидели они, что не в себе мужик и оставили его в покое. Все стали молча расходиться по своим жилищам, у всех были свои дела.
Заспешил и Покто, не остался ночевать у Бодровых. Впервые они не разговаривали друг с другом, и у каждого были на то свои основания. Оба молчали, потому что слов для разговора не находилось. Лишь Александра сунула в котомку гольда немного соли и свежих лепёшек.
— Кушай Покто, кушай на здоровье. Это тебе за рыбу спасибо, и что не забываешь нас!
Каждому было о чём подумать, но при всём этом дружбой своей они всё же дорожили, и это было ясно обоим.
Со страхом можно и в одиночку справиться, а друга ни за какие деньги не купишь.
Много позже всё же будет ещё одна встреча Бодровых с удавом, только уже в другом поколении.
Знать, Бодровым так на роду было написано, ещё раз им встретиться. И выходило, что в чём-то был прав Покто, при всём своём суеверии. И не успели казаки обжиться на новом месте, как два года подряд на Амуре был большой небывалый подъём воды. Такого высочайшего уровня воды не помнили даже гольды. Много урожая пропало. Вот тогда и вспомнилась вся эта история с удавом. И кое-кто, из переселенцев уже искоса посматривал на Василия.
— Не надо было трогать змея, от него все беды наши! — но громко сказать не решались, больно крут был Василий. Мог чего доброго казака и по затылку огреть своей тяжёлой рукой.
— Молчи зайчишка! Ты сам-то где был тогда, когда Ангарского удав душил? — молчание в ответ. — Или казацкие штаны свои лопатой огребал? То-то же!
И всё же он первый предложил переселиться желающим казакам поближе к сопкам, чтобы в дальнейшем избежать затопления пахотных земель. Так разумней будет, о других людях подумать надо. Там и место повыше будет, и природа схожа с нашей природой, Забайкальской.
Авторитет Василия Бодрова был непререкаемый, но ещё раз испытать все трудности, что выпали сейчас, на долю переселенцам, не каждый мог решиться на такой шаг, да ещё во второй раз.
— Подумаешь!? Раз в сто лет такое наводнение бывает, а может и того реже.
Гольды и те толком не помнят такого несчастья. А уж они-то лучше нашего знают, где селиться можно. И никогда они не ошибались.
И Часовня здесь стоит уже отстроенная, всё ближе к Богу будем.
Ушли на новые места: Бодровы, Шохиревы, Фроловы, Ангарские и ещё одна казачья семья.
Проклятие дракона
Врезалось мне в память ещё одно событие, произошедшее в ту пору, уже дома. И опять повторилась история с огромным мистическим удавом. По наследству передавалась она, из одного поколения в другое поколение. И всё же она была страшна своей невероятностью. Не могло быть здесь на Амуре таких огромных гадов, ведь это не Амазонка или Африка со своими страстями. По крайней мере, так утверждали ученые того времени, что останавливались на отдых в селениях по Амуру. Спрашивал их об этом и сам Василий Иванович, и Лука Васильевич, и я спрашивал, уже потом, по прошествии многих лет.
— Может быть один вид удава, здесь на Амуре, но не более трех метров.
По крайней мере, история не зафиксировала таких монстров, до десяти метров длинной. Да ещё чтобы людей таскали эти гады, такое вообще было маловероятно.
А гольды тогда могли всё это придумать, они выдумщики немалые были, любят сказки людям рассказывать. Их и за весь век не переслушаешь, этих аборигенов Амура.
Вот и весь наш разговор с учёными людьми.
И его можно было бы забыть, если бы не то проклятье на наш род, про которое когда-то моему деду Василию Ивановичу говорил гольд Покто.
И именно за убийство, если всё это можно было так назвать, одного из таких монстров, Василием Ивановичем, дедом моим. Который этим спас не одну казачью жизнь тогда, но обрёл лишь непонимание среди односельчан. Таких драконов, иначе их и не назовёшь, гольды и маньчжуры, да и другие народы Амура боготворили. Накануне Русско-Японской войны мы поехали с отцом моим, Лукой Васильевичем, на охоту, на лошадях. Чуть не полсотни лет прошло с той давней поры, первой встречи с драконом, иначе его трудно назвать. И вот произошла вторая встреча с таким гигантом. Ничего тогда не предвещало, не только огорчения, но и малой тени от его видимости. Ведь известно было, что охота для казака самый лучший отдых.
Тут и с природой пообщаешься наедине, и себя можно было показать в стрельбе и в сноровке. И просто проверить себя в охотничьей удаче. Но в тот день нам определенно не везло, и мы уже решили поворачивать коней домой. Как неожиданно мы выехали из зарослей на обширную поляну, за ней и должна была начинаться дорога домой. То, что мы увидели там, повергло нас сначала в удивление, а затем в панический страх и настоящий ужас.
На поляне, на осенней подстилке из листьев, лежал такой огромный и толстый, что напоминал того самого змея, из нашей семейной легенды. И этот малыш был тоже не менее десяти метров длины. Не верилось нам, что почти забытая легенда сейчас повторяется, и всё это сущая правда, а не давняя выдумка. И именно с нами, Бодровыми, как и было предсказано когда-то гольдом.
Этот огромный гад был всецело занят охотой и ему было просто не до нас. В этот ответственный для него миг он ничего не видел и нечего не слышал.
Пища сама шла к нему в пасть: молодая косуля упиралась своими точеными ногами в землю. Но под страшным гипнозом его бездонных глаз сама продвигалась на съедение к змею. И этот удав сейчас наслаждался своей властью над уже обречённой жертвой, и даже можно сказать, что он ликовал сейчас. Если так можно было сказать о его морде. Странно было, что и наши лошади замерли, тоже попав в его огромное поле влияния гипноза.
Моя крупная картечь подбросила эту ведёрную голову змея вверх и резко в сторону.
Мой отец стрелял уже по упругому телу удава, которое мигом собралось в огромный узел из стальных мышц. Съехалось тело к этой страшной и гигантской голове змея, будто прикрывая её от следующего выстрела. Совсем как человек от грозящего ему удара.
Снова показалась обезображенная голова удава из чудовищного вороха окровавленных колец тела, наверно змей всё же готовился к атаке. Пулей разнёс ему голову Лука Бодров, потому что стрелок он был отменный. И вот тут-то, откуда-то изнутри этого клубка, раздался утробный вздох или выдох, не понять было. Но этот звук был настолько живой и душераздирающий, что обезумели наши лошади и понесли нас подальше от этого страшного места охоты.
Они сразу же пришли в себя, и подгонять их было не надо, ими руководил ужас. Мы так и вошли с отцом молча в дом, и ничего не говорили друг другу, и ни на какие вопросы домашних не отвечали.
Только через две недели мы съездили на то заклятое место охоты. Вот тебе и фронтовики, столько всего видевшие и много пережившие.
От нашего монстра уже практически ничего не осталось, кроме его чудовищной головы и вороха листьев на ней. Постарались здесь лесные едоки на славу, только голова змея их определённо смущала. Знали они о нём не понаслышке, и даже мёртвого боялись.
Стояли мы с отцом на той поляне и думали тогда, закончится ли вся эта семейная трагедия сейчас, или ещё будут нам сюрпризы в нашей жизни. И очень нам не хотелось верить, что такая встреча и в третий раз повторится в нашем роду. И тогда возникает вопрос — когда?
Милосердие дело не казачье
И снова задумался Григорий Бодров, и хотя ему уже за пятьдесят лет, он выглядит для своих лет прекрасно. И молодым в работе на лесоповале ещё очень далеко до него — богатырь он!
— Что же ты дедушка замолчал — теребит дедушку маленький Саша Бодров. Он самый нетерпеливый из всех внуков. Но и остальным внукам тоже не терпится выслушать любимого дедушку. — Ты так хорошо рассказываешь про всех нас, казаков, что трудно оторваться от рассказа. Хочется всё слушать и слушать тебя, мой самый лучший дедушка на всём белом свете.
Ещё расскажи дедушка, про нас Бодровых, славные казаки мы были, все Бодровы, правда, дедушка? И ты самый лучший из всех, самый-самый!
Улыбается Григорий Лукич, и задорно блестят его синие и добрые глаза, совсем по-молодому.
— Ох и хитёр ты, пострелёнок. С тобой не соскучишься — слушай!
В тысяча девятисотом году кончилась спокойная жизнь казаков на Амуре.
Начали маньчжуры затевать большую войну против русских на Амуре. Да и не только на Амуре, а везде у себя в стране объявили войну иностранцам: и русским, и англичанам, и французам, и американцам. Короче всем белым людям! Революцию у себя делали.
И начали они с иностранцами жестоко расправляться по всей своей стране, так до Амура и добрались. И скоро отрубленные русские головы были посажены на кол и расставлены вдоль всего побережья Амура, для нашего устрашения.
Вот тогда и заволновались Амурские казаки. Никогда такого не бывало, чтобы враги нас на испуг брали. Не тот мы народ, чтобы так легко могли испугаться, ошиблись зачинщики.
Твой прадедушка Лука Бодров, отставной урядник, собирает отряд казаков и ночью переправляется на лодках через Амур. Тоже опасная затея. Тут и днём-то страху наберёшься, а ночью тем более.
Хоть и в серьёзных годах мой дедушка был, но душа у него была совсем ещё молодая. И всегда жаждала она славных казацких дел. Наверно, все Бодровы такие, настоящие бойцы. Сгруппировались казаки разведчики в одном условном месте, как и было оговорено раньше. И без единого выстрела подкрались к посту. И всех вражьих солдат уничтожили, вырезали ножами, никто и пикнуть не успел.
Дали сигнал фонарём на наш берег, что всё нормально и пост ликвидирован. И что можно переправляться другим казакам.
А самим, чтобы скучно не было и кровь в жилах не застоялась, оседлали коней и дали им шенкелей в бока. И ликвидировали ещё несколько близлежащих маньчжурских постов. Там и пленных солдат набрали. Благо, что тёмная ночь благоприятствовала проведению всей операции.
Не хотят казаки-разведчики себе грех на душу брать и рубить безоружных маньчжуров, чтобы их головы на кол вместо русских одеть. Одно дело в бою победить врага, другое казнить пленного. И многие задумались казаки.
Видит это Лука Васильевич и душой их понимает, но сердце казачье противится этому. И надо ему теперь молодых казаков вразумить, чтобы в будущем таких проблем у них не было.
— Война есть война! Казак не должен задумываться над тем, кем он будет в следующей жизни: ангелом он точно не будет. И не казачье это дело милосердием заниматься тогда, когда надо быть беспощадным к жестокому и хитрому врагу.
Запомните это, дети мои, и сыны мои, и ещё запомните: прежде всего казаки сильны тем, что у своих врагов они перенимают тактику ведения боя. Так всегда испокон веков было, в том и есть наша сила.
И только так можно заставить врага себя уважать. А им есть возможность задуматься: стоит ли так делать дальше или нет? Иначе они никогда не задумаются и не остановятся в своей безнаказанности.
И если враг берёт в заложники твоих жен и детей или родственников, то и нам надо также поступать, иначе весь их беспредел не остановить.
Пусть враг тоже задумается и остановится! И ему наука будет.
Так мы завоевали Кавказ, Сибирь и весь Амур, Сахалин и Камчатку.
Но милосердие всё же сильнее, и там надо быть казаку искренним до конца, от души должно всё идти. С добром надо к людям подходить, и тогда ты уже наполовину победитель.
А в жестокости: хочешь ты или не хочешь того, а стисни зубы, и делай то, что надо делать — вот такое наше простое казацкое правило.
А если ты победитель в бою, то тогда грех быть жестоким, ты обязательно должен быть милосердным. Ты человек! Ты христианин! И никогда не забывай это!
А сейчас смотрите на своих врагов, чего они стоят. Это будет вам наглядный урок жестокости. И тоже тактика ведения войны, а известно, что войны бескровные не бывают.
Поэтому вы должны всё время думать и думать. И всегда выбирать необходимую тактику, согласно сложившейся обстановке. Иначе вы будете недостойны, называть себя казаками.
С десяток пленных солдат понуро смотрели на казаков.
Восходящее солнце меняло тона красок на их сумрачных лицах. И они как-то наполнялись жизненным светом.
Хотя, возможно, что исчезающий чёрный цвет и был магом всего этого преображения в природе. Именно он дал место для жизни другим цветам и необычным ярким расцветкам. И как-то оживил мрачную картину их плена.
А восходящее солнце радовалось жизни и на всякие такие мелочи не обращало никакого внимания. У него ещё столько неотложных дел, и надо торопиться ему навстречу новому дню.
И все же было удивительным то, что малейшее великолепие природы ухитрялось, во всеобщей вакханалии, никак не затмить друг друга, на то оно и утро! Вот где мудрость великая.
Но человек и здесь со своими вечными войнами умудрился всё испоганить, и красивое утро и новый день, на много лет вперёд, своей необузданной жестокостью. Именно таким страшным оно и запечатлелось у многих казаков в памяти.
Лука Васильевич выбрал из всей толпы пленных их начальника. Ошибиться в нём было невозможно: тот толстый и холёный, с усиками на лице.
А ярко написанное подобострастие на лице, желание угодить, сразу выделяли его из всеобщей серой массы соотечественников.
— Ты русский язык понимаешь? — спросил его строго.
Маньчжур должен видеть перед собой большого начальника, не иначе. Тогда он из кожи будет лезть, чтобы услужить ему — это у него в мозгу, уже отложилось навечно.
Тот усердно закивал головой.
— Кто казнил русских, а их головы посадил на кол, чтобы вороны им глаза клевал, и терзали их обезображенные лица. Вон сколько их здесь вьётся, на мертвечину со всей округи падальщики слетелись.
— Не я! Не я! — заелозил по земле на коленях маньчжурский офицер.
Я не убивал! Меня здесь тогда не было.
— А жить ты хочешь? — спросил его спокойно Лука Васильевич.
— Конечно, хочу! Хочу! — расплакался пленный офицер, и грязными руками размазывал по пухлому лицу слёзы.
— Вот тебе твоя сабля, и срочно надо поменять на чёрных, окровавленных колах, русские головы на маньчжурские. Этим ты сохранишь себе жизнь. Ты понял меня?
И снова, как болванчик. офицер замельтешил своей чёрной головой: — Я согласен!
Он сразу же преобразился весь, как погибающий от жажды цветок после спасительного и долгожданного полива.
Наши казаки только усмехнулись такой разительной перемене: снова перед ними был деспот, а не человек.
— На колени! — зарычал маньчжурский офицер на своих солдат.
От его горьких слёз на лице не осталось и следа. Он снова был повелителем их душ и жалких мозгов. Он их полноправный хозяин.
Чётко, с расстановкой, офицер объяснил им их ответственную и необычайную по своей важности задачу. Те слушали его, раскрыв рот. Ни одно его слово не было зря обронено. В полнейшей, и оттого жуткой, тишине. Похоже, было, что все солдаты его хорошо поняли и никто из них ничему не возмутился, даже своей смерти — удивительно!
— Как тебя зовут? — полюбопытствовал Лука.
— Фу То До — был чёткий ответ офицера, всё строго, как по уставу.
— Ты хороший командир! — похвалил он маньчжурского офицера. — У тебя всё хорошо получается. Командуй дальше!
Но дальше и у бывалых и видавших виды казаков мурашки побежали по коже от ужаса всего увиденного.
Как стояли манчжурские солдаты на коленях, так и ждали они покорно своей участи.
— Наклонись! — скомандовал первому солдату Фу То До.
И только тот наклонился вперёд, как его голова, ловко отделенная от туловища саблей, покатилась по росистой траве, забрызгивая всю перламутровую и искрящуюся жемчугом земную красоту густой и чёрной кровью солдата.
— Быстро! — скомандовал офицер второму солдату, очень довольный своим ловким и, можно сказать, что мастерским ударом сабли.
Тот быстро вскочил с колен и ловко за волосы подхватил окровавленную, с выпученными от ужаса глазами, голову своего товарища с земли. Побежав к ближайшему колу, он ловко водрузил её на острие дерева, не забыв при этом прикрыть своими грязными пальцами остекленевшие глаза товарища. Через минуту он так же находился на своём прежнем месте и на коленях, как будто бы ничего и не произошло.
— Наклонись! — зычно скомандовал ему Фу То До.
Сверкнула молнией его острая сабля. И снова, мастерски им отделённая голова солдата, хлопала своими глазами у ещё трепещущего тела.
— Быстро! — снова скомандовал офицер.
И следующий солдат рабски подхватил отрубленную голову своего товарища с уже замызганной кровью, страшной земли. И пулей полетел к торчащему колу и очень ловко водрузил её там. Так же не забыв прикрыть глаза своему погибшему товарищу.
К изумлению всех казаков пленник безропотно возвратился на своё место. И так же покорно застыл там, в ожидании своей смерти.
— Наклонись! — снова скомандовал солдату его властный начальник Фу То До, и всё повторилось в этом ужасном и монотонном злодеянии.
Труп последнего солдата обслужил сам начальник. Спокойно подобрал его отрубленную голову с земли и так же спокойно насадил на кол. Затем, с поклоном прикрыл, им же убиенному солдату, непокорные глаза.
В гнетущей тишине Фу То До подошёл к Бодрову и чётко по-солдатски доложил.
— Господин офицер, ваше пожелание мной с честью выполнено. Теперь слово за вами и за обещанной мне свободой.
Лицо офицера ничего не выражало. Это была каменная маска, где ничего нельзя было прочесть, не было никакого раскаяния и чувства горечи, жалости.
Дрогнуло усатое лицо Луки Васильевича и, наконец-то, он нашёлся что сказать.
— Ты свободен! И передай всем своим начальникам, что казаки приняли ваш вызов. И между нами сейчас война. А эти ваши отрубленные головы тому свидетельство. Будем мы еще и в вашем Пекине, и там спросим с зачинщиков этой никому не нужной войны за своих убитых товарищей. Крепко спросим! Можешь уходить на все четыре стороны, но советую тебе никогда мне не попадаться на моём пути. Помирить нас сможет только смерть, запомни это! Таких изуверов, как ты, я ни разу не встречал во всей своей жизни.
Фу То До молча и почтительно поклонился.
Затем учтивый маньчжурский офицер молча и бесцеремонно принял от русских казаков брезгливо брошенную ему уздечку его взбунтовавшегося коня. Прямо в протянутые, цепкие и окровавленные руки. Через мгновение Фу То До был на коне и от подобострастия на лице у него не осталось и следа. Он снова был повелителем чужих судеб. Его никто не преследовал, все казаки пребывали в тягостном молчании. Видно было, что урок пошёл всем впрок, и Фу То До тоже.
Наконец-то Лука нашёлся, что сказать своим казакам.
— Сейчас вы видели с кем вам придётся воевать, поэтому запомните, что ваш враг коварен и жесток. И любое ваше раздумье может стоить вам жизни, а у вас она одна!
Скоро весь отряд был в сборе, всего набралось около сотни казаков. Все они были с близлежащих станиц по Амуру: Степановка, Чурки, Бабстово, Кукелево и других. И сейчас надо было принять решение, что им делать дальше — продолжать свой рейд по тылам врага, или же ждать команды сверху Не задумываясь, казаки приняли решение двигаться вглубь маньчжурский территории и бить врага везде, где он будет обнаружен. А отвечать за все действия перед Войсковым атаманом будем все вместе: так решил сход казаков.
Много времени это решение не заняло, всё было сделано согласно расписанию военного времени: чётко, кратко и в срок! Общее командование сотней было единогласно отдано Бодрову Луке. А полусотней — Шохиреву Василию.
Поддержали их кандидатуры сами казаки.
Поблагодарил Василий казаков за доверие, и через минуту был уже на своём коне. Вся его литая фигура точно приросла к туловищу коня. И складывалось такое впечатление, что он и был изначально так задуман. Эдакий мифический чудо-богатырь: конь и человек.
Маньчжурский городок жил своей военной жизнью, но особой тревоги жители его не испытывали.
Было бы неразумным считать, что Фу То До не предупредил командование гарнизона. Но всё же было подозрительно тихо. И поэтому атаман решил не рисковать, а провести хорошую разведку. И атаковать городок под утро, когда сладкий сон сморит всех солдат. И они уподобятся сонным мухам, которым ночной покой дороже всего на свете. Зато днём это будет гнуснейший и злостный враг человечества. Чудо перевоплощения! Так и маньчжуры в своих укреплениях.
Как и оказалось, маньчжуры ожидали дневной атаки казаков и готовились к ней. Но до сих пор не обнаружили их. Были у города и ложные позиции орудий, и ложная цепь укреплений. А настоящие укрепления находились ближе к городу, и вся эта система была связана подземными ходами.
Да, вляпались бы казаки в их авантюру, ведь солдат там чуть не в десять раз больше было.
Но спасла всех мудрость походного атамана, его звериная осторожность.
И замолчал в тяжёлом раздумье Григорий Лукич. Их геройский дедушка, такой славный рассказчик.
И внуки теребят рукав дедушкиной рубашки:
— А дальше, что было? Так интересно всё!
Здесь и положили бы они свои буйные головы, под первым маньчжурским городом, как говорится у нас, не за понюшку табака.
И отступать казакам нельзя было, перед войсковым атаманом им ответ надо держать. И за любой промах там по голове не погладят — это точно!
Так что дороги у наших казаков назад не было. Только вперёд! Решили они разделиться на три части: две будут пешими сражаться, а третья конная ударит по городу, когда разведчики все вражьи посты уничтожат. И, самое главное, обезвредят орудия и подберутся к их штабу. Орудийный выстрел и будет главным сигналом конным казакам. Раньше стрельбы не должно быть, часовых и спящих солдат хоть руками душите, но без стрельбы. Тогда и ударим уже, перед рассветом, все вместе по остальным солдатам, а их ещё предостаточно будет в городе.
— Город надо брать любой ценой — закончил совещание атаман.
Шохирев и Фролов, по ходу операции делите своих разведчиков в самостоятельные группы по три-четыре человека. И как можно больше охватить район проникновения разведчиков. У штаба все они должны собраться, в одну группу. Иначе всем нам смерть!
Глубокой ночью казаки Шохирева и Фролова с двух сторон проникли в действующие траншеи врагов. С надрывом прокричала выпь свою ночную тираду на чёрном пиршестве, в своём необозримом болоте. И сигнал к действию прозвучал.
Змеями заструились казаки по траншеям, проникая в каждую щелочку или тайное убежище солдат. И по-змеиному безжалостно жалили спящих маньчжуров своими острыми ножами.
Но это война и не казаки ее начали, а проигрывать и отступать перед врагом они не умели. Это был барьер, через который надо было переступить. И действовать дальше без размышлений, как в привычной и повседневной крестьянской работе, где всё отработано веками, каждое движение. Так же и на войне казаку.
И Василий Шохирев пустил баклажечку с водкой по кругу, каждому казаку по глотку, иначе мозги не выдержат такого титанического напряжения.
Глотнуть свежего воздуха, и снова вперёд!
Жуткая была ночь! Порой волосы на голове становились дыбом от могильной тишины, и, казалось бы, стонущей земли. Но всё было не по живому тихо! Страшно всё!
По семь потов сошло с казаков, что оставались в засаде. Во сто раз лучше было бы самим идти впереди, чем ожидать товарищей. Это настоящая пытка!
Наконец, грохнул пушечный выстрел. И уже вместе с тяжелым рассветом конные казаки со стрельбой, улюлюканьем и свистом во главе с Бодровым мчались по городу. Почти одновременно запылали дома на окраине города и глухо рванули склады с боезапасом. Затем запылал и центр города.
— Молодец Шохирев! Вовремя подсуетился, и с пушками успел покончить.
И со складами, порядок навел. И солдат охраны ликвидировал. Молодец!
Шохиреву брать штаб, а всем остальным, конными, прочёсывать город, по всем направлениям, вдоль и поперёк. Чтобы и мышь из города не выскользнула. И огня живого побольше, он теперь наш союзник. Зажечь солдатские казармы. Пусть огонь, как и мы, порезвится на просторе. Но мирных жителей не трогать, им, как и нам, война не нужна.
И тут, в одном из окон в отблесках беснующегося и набирающего силу пожара, Бодров всё же различил знакомого ему и ненавистного Фу То До.
Самого выстрела он не слышал, но папаха слетела с его буйной и седеющей головы. Всего на один вершок ниже взял бы его крестник, и дырка была бы не в папахе, а в голове казака.
— Икать Фу То До! — распорядился атаман. — Теперь время пришло и с ним рассчитаться.
Но как не искали казаки злого и хитрого вражину, но так и не обнаружили его. Где-то он затаился, и найти его в трущобах всякого рода строений было бы просто глупо.
Ничего, ещё попадётся изверг, и для него острая сабля найдётся. Со всего вражеского гарнизона спаслось с десяток солдат не более.
Ужас перед русскими казаками не один десяток лет будет витать над этой землёй. Такого варварского побоища маньчжуры не знали со времён легендарного и беспощадного Чингиз Хана, которого они, кстати, очень и очень уважали.
— Большой полководец!
И они не удивились бы, если бы он объявился сейчас живым, и предстал перед их глазами, даже в образе Луки Васильевича. Сейчас всё сопутствовало этому, и они бы поверили его новому пришествию.
И полетела молва до самого Пекина, обрастая по дороге ужасными подробностями.
Казаки страшный народ. Шапки на них — вот такие лохматые! Сабли у них — вот такие острые!
А вместо коней у них наши могучие драконы запряжены, и дым у них из ноздрей валит.
И по воздуху казаки на драконах летают! Особенно обожают утренние прогулки, на рассвете!
И пьют они вместе с драконами, подёрнутую лёгкой дымкой, живую кровь наших солдат и напиться не могут, всё им мало!
В Пекине тоже задумались: наверно зря мы развязали эту шумную авантюру с гегемонией белой расы в стране. И избавлениями её от этой настоящей и разрастающейся эпидемии, вроде, как от чумы.
Лучше бы было русских с их бешеными казаками не трогать, а потрошить потихоньку англичан, французов и прочую белую сволочь. Так бы потихоньку и дорезали их, как собак.
А сейчас головная боль с этими воинственными потомками Чингиз Хана, только их в Поднебесной и не хватало. Что с ними делать: дикари они! Вот где настоящая головная боль.
Чингиз Хан Бодров
Не стал Лука Васильевич задерживаться в захваченном городе, чтобы избежать ненужных казачьих смертей.
Был он знаком с коварством маньчжуров не понаслышке. Беспощадный народ: и зарезать могут, и потравить могут! И отвёл он свою сотню на отдых в небольшой лесок, в нескольких километрах от города. Так надёжней будет! Люди падали с ног там, где стояли, прямо на траву. Сейчас казаки мало были похожи на людей: грязные от крови демоны, со спёкшимися от не высказанного стона губами. С полузакрытыми и дрожащими от нервного перенапряжения глазами. Им срочно был нужен отдых.
Однако часовых расставили по всему периметру леса. Иначе все казаки могли запросто неминучей смерти удостоиться. И Бодров отдавал последние указания командирам.
— Через час менять часовых, больше измотанные люди не выдержат, это предел!
Только через два часа могут отдохнуть командиры. Всего на отдых отводится шесть часов. Всех часовых оповестить заранее.
Пленный штабной полковник не долго молчал и почти сразу же заговорил. Рук ему так и не развязали и это очень пугало его.
Он видел, что казаки очень измотаны сейчас. Этим походом и войной и всей кровавой бойне при захвате города, и их нервы крайне перенапряжены. И злить их очень опасно. Не захочется им возиться с ним, и его зарежут так же, как вырезали весь его гарнизон. Одно неверное слово или движение могут стоить ему жизни, а этого не должно случиться. Дома у него осталась большая семья, и все домочадцы ждут его скорого возвращения домой с грандиозной победой. Но об этом срочно надо забыть, иначе не выжить в этом плену.
И вот что узнали казаки от пленного офицера, тут было над чем призадуматься.
По всем оперативным данным врага, всё побережье Амура запылало от огня. Стычки с казаками местами перерастали в крупные боевые действия. И всё больше захватывающие обе стороны. И так до самого Благовещенска.
Не ожидали маньчжуры, что казаки так неистово будут биться за каждый клочок своей земли, за каждого казнённого товарища. Что смогут они так оперативно передвигаться по всему фронту. Действуя самостоятельно, малыми отрядами и всегда очень дерзко. И никак не завися от общего руководства своего штаба. Они привыкли к войнам, и чувствовали себя в этих условиях, что рыбка в воде. Их подростки и женщины несли охрану своих территориальных границ, занимались выявлением диверсантов, арестовывали их и уничтожали.
Планировался захват Благовещенска. Столица Амурского края была практически беззащитна. Казачьи соединения были направлены для участия в боевых действиях на реке Сунгари. Среди тысяч маньчжуров, работавших в самом городе на разных работах, были замечены несколько диверсантов, они с нетерпением ждали сигнала к захвату города. Сигналом должен стать обстрел города артиллерией по строго отведённым квадратам, воинским частям русских и складам с боеприпасами.
Действовать предстояло ножами и всеми подручными средствами, вплоть до гвоздей и палок. Казачья разведка сумела упредить эту ужасающую бойню русских внутри города. И в течение полусуток мобилизовать мирное население с оружием и казаков. Велико было противостояние двух, уже враждующих сил, ещё вчера так мирно сосуществовавших на теперь уже фронтовой территории.
Маньчжуров со всего города сгоняли к Амуру. Было здесь и много невинных, обычных рабочих, но сортировать их всех не было времени. Дорога была каждая минута и промедление могло стоить смерти многим жителям города.
Мирной депортации не получилось. Диверсантами была спровоцирована провокация. В руках замаскированных солдат замелькали ловко спрятанные ножи, полилась и невинная кровь.
Казаки подавляли вылазки маньчжурских наёмников в разных районах города. Удар острой казацкой шашки всегда упреждал враждебные действия диверсантов. Сотни маньчжуров в ужасе, уже без всяких лодок и плотов, ринулись в Амурскую воду, боясь быть изрубленными казаками. Многие из них не умели плавать и тонули недалеко от берега, дороги назад им не было. Неожиданно с вражеского берега гулко ударила тяжёлая артиллерия, снаряды накрыли своих же людей. Кромешный ад оказался повсеместно, по всей акватории Амура.
И на свою сторону маньчжурам тоже не было дороги. Похоже было, что оттуда вёлся отсекающий огонь. Возможно, это было напоминание своим диверсантам, что они не выполнили своего назначения и их там не ждёт ничего хорошего. Тоже смерть!
Казаки, несмотря на обстрел, опрокинули оставшихся маньчжуров в воду, не взирая на их обезумевшие мольбы оставить их здесь. Из чёрной бездны Амура уже никто не мог выбраться. И солнце в этот день так и не посмело показаться на небосклоне, наверно и ему было жутко смотреть на происходящее.
Забила артиллерия и с нашей стороны по вражескому берегу. И скоро эта ужасающая пальба превратилась в настоящую дуэль. Но преимущество оказалось за русскими артиллеристами, и маньчжурская сторона замолчала. Там происходила какая-то кадровая замена, а может был приказ замолчать. Но всё это продолжалось недолго, началась осада Благовещенска маньчжурами. Молниеносного захвата города не получилось.
Остановить войну могла только полнейшая капитуляция одной из сторон. Но про это не могло быть и речи, тем более, что маньчжуры сражались за идею — избавиться от всякого белого присутствия иностранцев в их стране, и русских тоже.
Но и казаки сразу же определились — только в Пекине закончится эта война, не они её начали. Другого мнения среди казаков не было, воевать так воевать.
Англичане, американцы и французы, как всегда в таких случаях, оказались в тени, так было удобней им каштаны из огня таскать. И они, не утруждая себя, потихоньку действовали в своих оккупированных ими маньчжурских провинциях. Немцы, итальянцы, и австрияки — в своих частях.
Пусть русские и маньчжуры расхлёбывают эту круто заваренную кашу.
Политически активизировались и японцы, эти были против всех белых сразу, и особенно, против маньчжуров.
Только великая нация, коей, несомненно, являются японцы, имеет право на достойную жизнь, остальные, мусор под ногами. Особенно здесь в Азии.
Фактически здесь, на Востоке, уже разгоралась необъявленная мировая война, где равнодушных соперников не могло быть, мешали стратегические и торговые интересы их стран.
Сон, который так угнетал переутомившихся казаков, от полученной от маньчжурского полковника информации улетучился неизвестно куда. Вот это дела?
Бодров, Фролов и Шохирев все ещё, не могли поверить в сказанное. И только переглядывались друг с другом. Вот это да! Война уже наверняка официально объявлена Маньчжурии. И теперь нам вряд ли придётся партизанить, надо будет всем готовиться в поход на настоящую войну. А это надолго, не на один день и месяц!
Маньчжурский полковник, глядя на суровые лица командиров, прочитал в их глазах себе смертный приговор. Иначе и быть не могло: война есть война! Но жить-то очень хотелось.
И с жутким воплем он упал сначала на колени, а затем лицом вниз, в тёплую вечернею землю:
— Не убивайте, у меня вся семья погибнет, а их десять душ!
Солнце село и быстро сгущались сумерки. Надо было принимать какое то общее решение. И казаки не знали, что делать. И что делать с этим незадавшимся полковником. Нельзя было отменять назначенный отдых людям и лошадям. А лошадь с казаком здесь, на войне, они ещё ближе стали. Оба под пулями ходят. Последнюю краюху казак своему коню отдаст.
— Тебе нужнее, дружище. Только в бою не подведи меня! — шепчут суровые казацкие губы. Да ты и сам всё знаешь, мой конёк вороной! И верный конь кивает ему своей косматой и понятливой головой, будто бы сердечно говорит ему: — Не журись, казаче! Мы ещё вернёмся с победой домой!
А бывало, что слеза стынет в глазницах у коня, и он уже знает, что не судьба им вернуться домой вместе с хозяином. Конь ближе к природе, он чувствует смерть своего хозяина заранее. Но и тогда он не бросит его в бою и на смерть пойдёт вместе с ним. Хотя мог бы спастись!
— Может не стоит убивать этого полковника, — первым заговорил Василий Шохирев. Заберём его документы с собой, большего он и сам не знает. Зачем нам еще одна, никому не нужная смерть. Хоть и чин он немалый, но все мы люди! И если мы не проболтаемся сами, то подробностей знать никто не будет. В округе нет больших частей, а тем, что мы гостинцев в душу насовали, бегут без памяти от нас, чуть ли не до Пекина. Отпустить его надо!
Не хотел Лука Бодров выступать сейчас в роли судьи, но пришлось.
— Не имеем мы права отпускать тебя живым отсюда, это будет не по военному. И не хотим мы уничтожать мирных горожан, хоть и война уже объявлена. Мы русские казаки, и мы гордимся этим! Умеем мы воевать, и не знаем в бою пощады. Но в мирной жизни мы труженики, как и ваш народ, и делить нам с ними нечего. Ради твоих детей мы дарим тебе жизнь, а всей твоей семье кормильца. Иди к своим горожанам и скажи им, что мы их не тронем. Мирный народ нам не враги.
Слабый костерок освещал суровые лица казаков. И даже лёгкий ветерок не посмел тревожить людей, а вдруг они передумают?
Послышался всхлип полковника, он не знал, что ему говорить и как благодарить командиров.
Сейчас он безропотно стоял на своих ослабевших ногах, размазывал слёзы по щекам, а они все катились и катились градом.
Усмехнулся Бодров и легонько подтолкнул полковника в спину и в сторону города — иди! Иди, пока не передумали! Засмеялись и другие командиры.
— Иди, тебя твои любимые дети ждут!
Всем стало так легко на душе, как будто бы им уже открылась дорога в рай. И пусть даже не открылась, в это тяжело было бы поверить. Столько было у всех казаков грехов. Но разве в этом дело, всё равно душе хорошо!
Со стороны маньчжуров никакой опасности не предвиделось. Спокойно поменялись сменные часовые. Всё было тихо. И только листочки на деревьях что-то сонно роптали на казаков. Но те спали, как убитые.
Пришла пора и командирам отдохнуть и они ведь не из железа сделаны. Где стояли они, там и попадали на свои лохматые бурки, и сон их сразу сморил.
На рассвете часовой разбудил Бодрова и Шохирева. Его безусое лицо было очень весело, как у мальчишки. Отдых вернул ему молодые силы, и неугасающий задор.
— Опять этот сумасшедший полковник к нам в гости с белым флагом тащится, наверно по своей пуле скучает. Может шарахнуть в него из винта разок, для острастки?
— Не стрелять! — командует Лука. — Ведите его сюда!
Полковник был одет в свой парадный мундир, но через его руку была повязана траурная лента. Похоже было, что совести своей он всё же не потерял, так как радоваться ему особо было нечему. Остался командир без своего гарнизона! Но, похоже было, что тот больше думал о живых! И не о себе вовсе!
Седеющий полковник был искренним:
— Благодарные жители моего города уже накрыли столы и собрали часть контрибуции или, не знаю, как это у вас называется, за то, что вы не уничтожили их во время военных действий. Они мирно к вам настроены, без всякой вражды. И сейчас мы просим вас всех в гости к нам.
И трудно было ему не верить. Как говорится, всё на лице было написано.
Но знал Бодров не понаслышке, как коварны азиаты. И что отравить противников для них — милое дело. И ножами могли они всех казаков порезать. И многое другое придумать, что могло их всех уничтожить. Но знал ещё Бодров и об их гостеприимстве, где действовали совершенно другие законы. Когда никто не посмеет обидеть гостя, даже взглядом. Когда сам хозяин на верную смерть пойдёт, чтобы спасти честь гостя и свою собственную честь. Бывали и такие случаи.
Уже никто из казаков не спал, и все окружили полковника.
— Кушать, очень хочется! Аж спасу нет! — изрёк один, самый нахрапистый из казаков.
— Может там, у вас, и выпить найдётся, — осторожно переспросил полковника другой молодец.
Маньчжур шире заулыбался, и усиленно закивал головой.
— Есть наша водка, много есть!
Вот тогда и загудели казаки, сразу как улей в солнечный день. Все хором!
— Грех не уважить хороших людей, командир, чем мы хуже маньчжуров.
Мы здесь, за честь России печёмся, и по нас будут о других казаках судить. Не всегда ведь мы варвары. А что убили солдат, так у нас такая необходимость была защищаться, или они нас покрошат, или мы их под корень!
И уважение между народами порой посильнее всякого оружия бывает, и всегда оно побеждает зло. Хлебосольство на Руси всегда в почёте было. И хлебосолы тоже!
— Надо идти командир.
— Надо! — загудели казаки.
Ничего не сказал Бодров казакам.
И то, правда, что людей кормить надо. И что дружба побеждает зло. Ведь и ему очень кушать хочется, не истукан он! Но кто за весь этот маскарад отвечать будет. Да если всё это провокация будет? Тут пулю себе сам в лоб загоняй, иначе никак перед судом товарищей не оправдаться, а перед своей совестью тем более.
В чистое поле перетащили казаки низкие столы, подальше от страшного города, где всё напоминало им о жуткой ночной резне. А затем и вовсе отказались от столов. Непривычно русскому человеку к восточной культуре приобщаться. Но время дорого, кушать очень хочется. Да если всё это дело с хорошей выпивкой оформлено? Грех ведь отказаться!
Аж голова казацкая кругом пошла от таких добрых мыслей. И слюнки изо рта сами невольно побежали, даже у самых крепких казаков. Тут надо попроще быть! И вскоре уже казаки возле еды на шёлковых подушках восседают. А вся снедь на шёлковых полотнах, прямо на земле выставлена.
Чего тут только нет: и гусятина, и курятина, и цыплятина. И жареные поросята над ними, как горы возвышаются. И всё это в изобилии плетёных в шелках бутылок и, невиданных ранее казаками, различных по своей конфигурации и назначению, вместительных сосудов. О назначении которых никто из казаков никогда не сомневался. Питьё там и его отведать надо грешной казацкой душе! Порадовать её. Но все при оружии казаки. Да ещё две заряженные пушки, что уцелели, на город своими голодными жерлами смотрят. Тут же и расчёты при них.
А во главе этого своеобразного стола Бодров с полковником восседают. От улыбчивого солнышка под лёгким навесом из шёлка упрятались. Не удержался первый изголодавшийся казак, который и поддержал всю эту авантюру с угощением, Федоркин его фамилия.
— Извини командир, но тут за столом, каждый казак своему голодному пузу хозяин. И я его никак обидеть не хочу, так как нам обоим всегда уютней помирать будет, если мы оба сытые будем.
А чтобы пища в горле комом не стояла, то смочить это дело горилкой надо. Авось, всё это добро, при путёвой голове там ещё как приживётся.
И не дожидаясь дальнейших указаний командира, прямо из красивой бутылки, Федоркин с великим удовольствием на лице к маньчжурскому напитку приказачился, то есть, хорошо приложился.
И не перекосило его и не покоробило: всё питьё прямо ласточкой в его тощее пузо и пролетело.
Остальные казаки облегчённо вздохнули.
— Если наш Федоркин сразу не умер от отравления, то потом его и захочешь, то никаким ядом не свалишь. Хоть и тощий он, а силён неимоверно.
— Ишь, как в поросёнка с чесноком вцепился зубами, прямо тигра Амурская. Ох, и лютый парень!
Понял Лука Васильевич, что плетью обуха не перешибёшь, и всё его войско сейчас неуправляемо, и всем лучше будет зря не будоражить его. Без всяких на то, видимых и не видимых, причин. Пока казаки не наедятся и не наугощаются вином от всей, изголодавшейся души.
— Два часа вам на всё это дело даю! А кто потом сам на коня не сядет, то того плетюганами на его коня загонять будем. Так до всех вас и доведу свою директиву.
Вон, хлопцы из охраны, очень на вас сердитые будут. Им с вами пить вообще не пристало: они охранять ваш кураж будут. А их, ни много ни мало, а около тридцати человек наберётся. И если что, опозоримся мы все, и честь казачью тоже опозорим. Помните это, казаки. А тебе, Федоркин, сам лично плетей от души всыплю!
— Любо, атаман! Любо!
Но всех удивила юная маньчжурская красавица. Их здесь, на этом пиру, много было. Подсуетился начальник бывшего гарнизона. И, похоже, что ему удалось удивить казаков.
Они вились, эти красавицы, как можно уважительнее среди казаков, чтобы поставить новые блюда на цветастые ткани. И не дай Бог, чтобы нечаянно не задеть уважаемых гостей, или что-то уронить.
И порхали они от одного блюда к другому среди всяческих угощений на этом необычном столе. Как невиданные по своей красоте, тропические тонкокрылые бабочки. Так они были легки и прекрасны. И, похоже было, что они не дышали совсем. Настолько всё делалось легко и по-восточному красиво. И такая вот стрекозка, иначе её не назовёшь, с лёгким поклоном и дорогим подносом в руках, приблизилась к Луке Бодрову.
— Чингиз Хан Бодров! Испробуй нашего прекрасного и живительного, как солнечные лучи, вина.
И там действительно, в хрустале, красовалось доселе невиданное вино.
— Выпей за своё великодушие к нам, мирным жителям нашего города. Что не лишил нас жизни всего лишь одним своим указанием. И того было бы достаточно, чтобы мы ни возносили тебя сейчас и твою мудрость до самых небес. И не восхищались тобой. Ты славный воитель, и доказал это в ночном бою со своими врагами. Но к нам ты был неимоверно милосерден, и мы за это будем всегда благодарны небу. Пей вино, Чингиз Хан, долго жить будешь!
Принял вино из рук красавицы атаман. Но что-то ответить не может маньчжурам, онемел он.
Возвести его казачий чин до такого высокого ранга полководца, тут невольно призадумаешься. Но наверно и его личные черты характера здесь сыграли свою историческую роль, раз всё так, а не иначе получилось.
— Не Чингиз Хан я, а простой казак. И душа во мне русская. Но я искренне рад, что сохранил в живых мирных жителей. И в ходе проведённой военной операции не был даже оцарапан пулей. Погибли только те, кто поднял против нас своё оружие. А оно мирным не бывает! Но это война и не мы её затеяли. Я сейчас ещё больше уважаю ваш народ за его мудрость и гостеприимство. И очень хотел бы всегда дружить с вами. И никогда не воевать, а все спорные вопросы решать за этим богатым столом! В кругу таких красавиц.
Легонько обнял красавицу Лука своей богатырской рукой и по-отечески поцеловал её.
Он и сам был великолепен: рослый и статный, с искрящимися задором голубыми глазами и пышными усами. А серьёзные годы и его душевность ещё больше придавали ему казачьего великолепия. Хоть картину с него рисуй. И засмущались, зарделись ярким румянцем все девушки без исключения.
— Любо атаман! Любо! — громогласно поддержали атамана, его казаки.
— Ох, и славный с него получился бы войсковой атаман! Этот за своих казаков души не пожалеет, не то что буйной своей головушки.
— Любо!
Пьют казаки и едят от души и уже им, кроме еды, простого человеческого общения требуется.
Видит Федоркин, что маньчжур возле стола крутится. И чуть ли не силой возле себя усаживает.
— Как тебя зовут? — совсем по-дружески спрашивает его казак.
Тот испуганно отвечает:
— Вень! — и так далее, всё по-своему.
Но Федоркину и этого достаточно.
— Венька значит! Друг ты мой закадычный.
И уже совсем, как своего старого и лучшего друга, непринуждённо хлопает его по плечу.
— Грех за это не выпить Вениамин. Грех большой! Когда мы ещё с тобой встретимся?
Наверно, уже никогда! Такая у нас служба казачья: сегодня здесь, а завтра в другом месте будем.
Пей Венька! Только не с напёрстка, как у вас принято, а с нашей посуды. И чуть ли не стакан ему протягивает, выполненный в форме красивой вазочки. Вот эта пойдёт посуда, уже по-нашему будет!
В другом месте Вана окрестили Иваном. И тоже казаки чуть ли не литр ему в руки суют — пей!
И там красивая хрустальная вазочка, только размер другой. Но всё наливается до краёв, иначе счастья не будет. Уморительно смотрят казаки, как пьют их новые друзья свою водку, в гигантских для них дозах. И от этого спектакля, чуть ли не навзничь, на свои подушки не падают. Веселятся казаки!
Новоиспечённый Венька, уже захмелевший, жалуется Федоркину, что столько водки он, наверно, и за всю свою жизнь не выпил. Откуда у него, последнего бедняка, найдутся деньги на водку, ведь их и на еду не хватает. Лицо его грустно, и на чёрных его глазах чуть ли не слёзы наворачиваются. И оттого ещё жальче Веньку нашему казаку, неимоверно как!
— Ничего Венька! Мы тебе столько сейчас водки нальём, что тебе надолго хватит. И ещё домой про запас положим. Только в нашей компании ты сможешь себя почувствовать человеком. Казаком настоящим! Пей, мой друг дорогой, да получше закусывай!
И всё не переставал удивляться сердобольный Федоркин.
— Эх, жисть у вас намного хуже нашей будет!
И сам уже чуть не плачет вместе со своим новым другом: очень растрогался он. И скоро за одним столом собрались и русские и маньчжуры.
Против настойчивых просьб русских угоститься, или просто посидеть с ними, у маньчжуров не находилось достаточных аргументов. И они невольно присаживались к угощению.
Многих из них чуть ли не силой усаживали возле себя казаки. И те слабо возражали. Таких простых и непонятных им людей они видели впервые в своей жизни, и очень удивлялись этому.
Разве богач пригласил бы их к столу, да ещё руку протянул бедняку, такого события у них испокон веков не было. Так и победила здесь, за этим столом, искренность чувств русских казаков, теперь уже можно сказать, что русских друзей.
А атаман с маньчжурским полковником Люй Фэном, и на данный момент его другом, решал вопрос, как спасти того от верной смерти. То что Люй Фэна казнят его начальники, не вызывало у Луки Васильевича никакого сомнения. И уже сами казаки, хотели спасти этого многодетного и такого удивительного полковника. Наверно таких добрых офицеров, как он, во всей Поднебесной по пальцам посчитать можно было.
— Один он такой! Спасать его надо атаман!
Казак Федоркин уже был крепко выпивши, но от этого его мозги, на данном этапе, приобрели необыкновенное неземное вдохновение и ясность мысли. И можно сказать, что душа его парила во Вселенной. Хотя его тело приобретало все более ощутимый вес, и от этого его легко покачивало. И это уже был значимый предвестник бури, которая скоро следовала и была уже не за горами.
— Письмо пиши, атаман, их императрице, как раньше казаки и туркам писали и прочим ханам да султанам. Так Степан Разин писал, Ермак Тимофеевич писал, и я думаю, что и другие добрые атаманы. Ведь иначе на Руси и быть не могло: без общения на таком уровне казак жить не сможет, это точно.
И ему уже вторят другие казаки.
— Никак не сможет жить, да ещё вольный казак, чтобы от души не высказаться за свою матушку Русь. Да так, чтобы врагу его и на этом свете тошно было и на том ему зычно ёкалось, хоть и ханского он звания.
— В рот им всем по компоту, а в печёнку дышло, — и дальше понёс Федоркин что-то уже несуразное.
Пьяному тихонько прикрыли рот, и усадили на место.
— Отдохни, дорогой!
Но от этого ещё веселее стало казакам, а многие уже и на шелковых подушках от смеха укатываются. Все они загорелись общей идеей высказаться, да ещё самой маньчжурской императрице.
И смешно им даже очень стало! Когда всё это действие они сами себе представили.
Ну, что тут поделаешь с собой! Ничего! И уже почти серьёзно продолжают.
— И не раз писали атаманы, а почему Бодров не может приобщиться к истории вместе с нами? Разве мы не достойны этого?
И стучат себя казаки мощным кулаком грудь.
— Конечно, мы даже очень достойны! Даже более других, ведь мы казаки русские!
— Правильно Федоркин говорит, хоть и пьяный, пиши Лука, атаман наш! Пиши дорогой!
И маньчжуры теперь поняли, в чём дело сейчас. И что за вопрос решается на этом, неизвестном им и малопонятном, военном сходе казаков, да ещё за столом с выпивкой. И при всём своём богатом вооружении. Диво дивное! Но им, в отличие от русских, не смешно было. Ведь это дерзость неслыханная, беспокоить Цы Си и, тем самым, очень гневить императрицу. А она у них на уровне божества находится, и никак не ниже.
Но, тем не менее, все письменные принадлежности были доставлены и, белее самого чистого снега, высококачественная бумага.
Нашёлся среди казаков и лихой писарчук Ермолкин, который с чувством собственного достоинства взялся за дело. Это тебе не сабелькой махать, тут головой работать надо.
— Думай Федя! Да слушайся атамана, в точности всё исполняй!
Так вразумляли его казаки перед началом исторической работы. Документ на века пишешь, иначе не скажешь! И вот что стало вырисовываться на бумаге, когда казакам уже не до смеха стало. В эту пору им легче было бы сабелькой целый день помахать, чем писать это послание императрице, столько с них солёного пота сошло.
«Ваше сиятельство, солнцеподобная Цы Си!
Владычица всей Поднебесной, и многих других стран.
Мы, Амурские казаки, нарушили покой вашей древней страны и вторглись в ваши владения. Но ни в коей мере не считаем себя захватчиками. Это сделано нами в ответ на бесправные и злобные действия ваших солдат. И необъявленную войну против казачества и всей Российской Империи. А так же неоправданным, повальным истреблением вашими солдатами русских людей на всей территории вашего государства, а так же нашего государства. Наши древние волхвы не зря говорили:
— Не та мудрая птица, что красиво в небе порхает, а та, что в земле золотые зёрна выискивает и в казну их кладёт.
Вы же, солнцеподобная Цы Си, не хочу Вас обидеть, эти золотые зёрна необдуманно теряете.
Так как добрые и соседские отношения между нашими Великими правителями и странами и есть те самые золотые зёрна. Поэтому я, Чингиз Хан Бодров Лука, теперь так уважительно меня величают Ваши подопечные за излишнею мою жестокость в бою к вашим солдатам. Я, избранный казаками походный атаман, с сотней своих казаков всего за одну ночь, вырезал гарнизон вашего города. И всё это в ответ на развязанную вами войну. Обязуюсь так и впредь поступать, пока отношения между нашими странами не наладятся. И не войдут в правильное и добропорядочное русло. Любая жестокость порождает только жестокость.
А пока уничтожил в городе всю артиллерию, разгромил штаб и пленил полковника Люй Фэна.
И только благодаря мудрости этого человека, его личному мужеству и великому самопожертвованию во имя своего народа и его личной просьбе ко мне, как к действующему Походному атаману (просил он о стариках, женщинах и детях!), я оставил в живых его и мирных жителей города, потому что счёл неразумным их губить. Даже во время военных действий.
И заверяю Вас, Солнцеподобная Цы Си, что сделал это только из уважения к Вашей Светлейшей особе. Но, как законноизбранный атаман, я обязал их выплатить моим казакам приемлемую для них контрибуцию, о чём вас и уведомляю! Будем так и впредь поступать, Сиятельная императрица Цы Си, с вашими захваченными городами, до самого Пекина. Я уверен, что и там мы возьмём законную полагающуюся нам контрибуцию. И только потом, в Пекине, подпишем с вами мирный договор, чтобы впредь никогда не нарушать его.
И ещё я уверен, что таким Великим Империям, какими являются Россия и Маньчжурия, надо всегда жить в мире и дружбе и приумножать наши богатства, и культуру.
Хочу пожелать вам, Светлейшая Цы Си, от имени всего Амурского казачества крепкого здоровья, и долгих лет царствования, а так же укрепления добрососедских отношений, дружбы между нашими великими народами.
Чингиз Хан Бодров Лука.
Избранный Походный Казачий атаман.
Апрель 1880 г.»
Белозубо улыбается Лука из-под своих пышных усов.
— Я написал так, от имени всего Амурского казачества, потому что уже вряд ли, во второй раз, представится нам такая возможность написать историческое письмо самой маньчжурской Императрице Цы Си. Правильно ли я поступил станичники?
— Любо атаман! Любо!
И маньчжуры оживились и что-то оживлённо заговорили Люй Фэну.
Одобряют они это письмо и они против всякой войны, — перевёл тот Бодрову.
— Вот за это и выпить не грех! — оживились казаки.
Маньчжуры тоже от выпитого ранее вина заметно активизировались. И у них появилось желание выпить с казаками за написанный сейчас святой исторический документ. И хотя он написан не в их восточном стиле, и не столь витиеват, как их грамоты. То есть, полностью не отображает всех высоких званий титулованной Императрицы Цы Си, и не питает к ней их бескрайнего уважения.
Но в целом, написан правильно, надо войну прекращать, с этим аргументом они согласны полностью. Люй Фэн не знал, как благодарить атамана за оказанную ему бесценную услугу. Но как отнесётся сама императрица, к этому письму казаков, это тоже большой вопрос. И всё же надо ему самому завтра ехать в Пекин, другого выхода у него не было. Ведь он — военный человек, и свой воинский долг обязан выполнить до конца. Пусть это и будет стоить ему жизни.
— Я в долгу перед тобой Лука! В любом случае, атаман, я обязан тебе жизнью.
И тут вся семья Люй Фэна, от мала до велика, падают на колени перед ним и кланяются ему. И уже, со слезами умиления на глазах, благодарят его за спасение своего хозяина. От такого невиданного зрелища все растрогались, и русские и маньчжуры, которые тоже плачут. Сейчас всё перемешалось так, что всё происходящее больше походило на живой слоёный пирог. Который, ко всему ещё, был и разноголосый. Но это никого не смущало, мыслили они, уже одинаково.
Уже прошло два часа, отведенные атаманом на застолье, прошло и ещё два часа. Уже дважды сменились часовые у сторожевых орудий, но пиршество только разгоралось. Часовые теперь далеко не отходили от своих пушек, маньчжуры всё приносили им на место, пили и ели там же. Понял атаман, что надо срочно уводить своё пьяное войско подальше от этого города.
На команду построиться казаки слабо реагировали. Не хотелось им расставаться с гостеприимными гостями и таким богатым столом. Это было выше их понимания долга.
Тогда атаман дал команду пушкарями, те раз за разом дважды выстрелили в воздух. И только тогда казаки начали приходить в себя и нехотя строиться.
Коноводы подвели лошадей. И на команду «По коням!» началось восползание на лошадей, иначе всё это и не назовёшь. А Федоркин сразу же скатился с крупа лошади чуть не под её копыта.
Его новый друг, маньчжур Венька, живо бросился ему помогать и подхватил его обмякшее тело. Но казак был настолько тяжёл от принятого в душу спиртного, что маньчжуру было не под силу помочь подняться ему.
Смеются все казаки над Федоркиным, хотя и тех немало штормит в седле. И сами они кое-как держаться на конях.
— Сколько тебе плетей надо? — спрашивает казака походный атаман.
Хоть и тяжело казаку, но против казачьего закона идти он не может.
— Трёх плетей хватит, атаман! — чуть не плачет огорчённый таким оборотом дела Федоркин.
И только хотел атаман огреть виновника плетью, как маньчжур Венька упал на колени и взмолился.
— Капитана! Пожалуйста, не бейте моего друга Алексея! Лучше меня бейте, мне так легче будет, ведь я уже привыкший к побоям.
Люй Фэн переводил Бодрову, но и по его лицу видно было, что и он не хочет этой экзекуции.
Ну что тут делать, раз такое единение душ.
— Прощаю! — говорит атаман. До следующего раза прощаю!
— Любо! — кричат казаки.
— Любо! — неожиданно, вторят им маньчжуры.
Видно, что им очень нравится это звучное слово, а его доброе значение они уже давно душей своей поняли.
Весело тащат казаки и Венька Федоркина на повозку в обоз. И под голову Федоркина Венька заботливо подкладывает его лохматую папаху.
— Совсем больной Лёшка! Совсем помирай не надо казак!
И слёзы катятся по его лицу градом, и сам он уже еле держится на ногах. Тут и Люй Фэн оживился, подогнал крытые повозки для казаков.
— Так лучше будет, атаман, а то казаки увечья получат, они ещё не раз будут с коней падать, пока до Амура доберутся. А так им и отоспаться можно будет, дорога-то, большая.
Извозчиков я вам назначаю своих, они и с обозом будут. А часовые будут ваши. Как до Амура доберётесь, моих с повозками отпустишь домой.
Трофеев на десяти повозках уложено, это вам и вашим семьям подарки от нас, жителей города.
Для нашего и вашего начальства это все ваши трофеи, так лучше звучать будет. Давай, друг, в дорогу собирайся. А чтобы тебе скучно не было, красавицы будут развлекать тебя.
— А вот этого, дорогой Люй Фэн, делать не надо, я как-нибудь и без красавиц доберусь до границы. А то вроде бы…
Слов не находилось и атаман махнул как то обречённо рукой:
— Да не приучен я к этому, я вольный казак, а не гулеван какой-то.
И скоро обоз из множества возов и повозок, выдвинулся в сторону границы. Сопровождали его верховые охранники и коноводы с лошадями.
Казаки ехали в крытых повозках с комфортом. Создавалось такое впечатление, что для них война уже закончилась. И тут они, как и за столом, были обложены шёлковыми цветастыми подушками. Смущаясь, молодые девушки махали им платочками. Видно было, что их за душу задела молодецкая казачья удаль парней. И при всём этом, необычная простота и их человечность.
— Запевай! — скомандовал казакам бравый атаман.
Зазвучала задорная строевая песня, которая немало удивила маньчжуров. Затем песни сменялись, одна за другой, а маньчжуры всё махали, и махали им руками.
Жалко было им расставаться с такими хорошими людьми. Но парадокс в том, что если бы не война, то никогда бы они, так и не узнали друг друга.
Вот тебе и война! И с той и с другой стороны.
А назавтра у жителей города была ужасающая работа: хоронить убитых маньчжурских солдат. Но ведь и казаки могли оказаться убитыми в том неравном бою. И их бы тоже никто и никогда не пощадил, на то она и война. Надо было выжить! Так зачем же она добрым людям, эта война, пропади она пропадом!
Так думают и казаки и маньчжуры, и всем им хочется душевного покоя.
Но одно название — казаки, теперь внушало маньчжурским солдатам неописуемый ужас.
И особенно имя Бодрова, великий и благородный человек, иначе его не назовёшь.
Он великий воитель. Возможно, что сейчас это и было его новое воплощение в жизнь, и маньчжуры поверили в это. По их поверьям это вполне было возможным. И покатилась молва о новом пришествии Чингиз Хана, обрастая новыми подробностями, до самого Пекина. Маньчжур Венька долго ещё горевал о своём новом друге Алексее Федоркине. Уж очень пришёлся ему по душе этот добрый русский друг. И уже не раз его голову навещала совсем нелепая для маньчжура мысль: может и ему податься в казаки. Чем он хуже русских.
На фоне этих пылких воображений он и начал топором вырубать из дерева две казачьи фигуры.
В одном казаке восхищённые жители города с радостью узнали весёлого казака Федоркина с большой кружкой вина в руке. Он сразу же всем пришёлся по душе, своим лихим казацким задором.
— Ай, да Федоркин!
А в другом казаке проглядывался смурной и усатый атаман, сам Чингиз Хан Бодров. В лихо надвинутой на затылок папахе и вскинутой казачьей шашкой в руке.
Того и гляди, что пойдёт атаман охаживать своих недругов направо и налево, своей тяжёлой деревянной шашкой. Как живой он получился из дерева, и от этого, даже на вид, был очень опасен.
Перед мощной фигурой атамана маньчжуры всегда невольно съёживались и также невольно трепетали душой.
Но удивительно, что живые цветы и там никогда не увядали, так уважали и чтили его жители города.
Столько солдат вырезать, что овец? Великого Чингиза почерк и его волчий аппетит! История повторяется! Но от пронизывающего взгляда его больших и суровых глаз они всегда невольно уклонялись. Цветы цветами, а душа душой!
Он выше их по своей духовности и им, смертным людям, совсем не ровня!
Зато с Алексеем маньчжурам было намного проще общаться. И всё это происходило, как бы на одном, человеческом и им доступном, уровне. И поэтому вино в его чарке никогда не переводилось.
Наполнять её стало общей городской традицией. И даже молодые пары стремились сюда, к этому доброму символу города. Они весело лили в кружку казака вино и, как голуби, сладко целовались.
— Пей Лёшка, и гуляй на нашей свадьбе!
Но не долго так продолжалось, через несколько лет японцы оккупировали большую часть их страны. Возле деревянных казачьих монументов японские солдаты сгруппировались и весело тыкали в их деревянные тела своими острыми саблями. Затем лихо отрубили деревянному Алексею Федоркину руку с полной кружкой вина. Первым не выдержал такого издевательства над монументами всегда добрый и улыбчивый маньчжур Венька. Для него они были всегда живыми.
Пущенный его сильной рукой плотницкий топор как бритвой снёс голову японскому офицеру, под самую луковицу. Рикошетом задел и второго солдата. Страшный вой покалеченного солдата послужил сигналом к общему восстанию горожан против произвола иноземцев. Целые сутки горожане яростно бились с ненавистным врагом. Многие жители молили Чингиз Хана Бодрова о помощи.
— Помоги нам, русский казак, на тебя вся надежда. Только ты сможешь, атаман, со своим войском вырезать столько нам ненавистных врагов, нам это не под силу. Вся страна наша плачет и стонет. И молит тебя! Помоги нам, добрый Бодров!
Но догорали обломки деревянных казачьих статуй, и создавалось впечатление, что и они, тоже корчась, постепенно умирают. В этом страшном городе.
На берегу Амура уже стояла баржа с нашего берега и с нетерпением ждала сотню. Такого возвращения с войны им и в сладких снах не виделось.
Сам Лука тоже ничего не знал и не планировал такой переправы. А тут баржу, как по заказу подали. Оказалось что Окружной Атаман Лютов поднимался вверх по Амуру из Хабаровска, до осаждённого Благовещенска. И по пути следования проводил мобилизацию казаков на войну. Хотя те и так уже давно были самомобилизованы, даже женщины и подростки были при делах, согласно предписанию военного казачьего устава.
Лютов с нетерпением ожидал сотню Бодрова, чтобы и его сотню взять в поход на Благовещенск. Тем более, что те уже успели побывать в боевых действиях. И тут уже сам заинтересовался происходящим.
Для военного времени всё это выглядело очень странно — вся эта процессия из набора повозок, кибиток и немногих верховых казаков. Огромные вороха различной мануфактуры на возах и прочего другого скарба. В сопровождении двух орудий и боеприпасов к ним. И вокруг всего этого добра счастливые лица казаков и маньчжуров в окружении такой же весёлой конной охраны.
А местами эта странная процессия проходила вдоль берега Амура ещё и с задорной казачьей песней.
— Лихие ребята! Ничего не скажешь.
Застыли в чётком строю уже ставшие серьёзными казаки. Манчжуры испуганно замерли у своих повозок. Чётко доложил выборный атаман окружному атаману Лютову, что разведка боем проведена, и успешно завершилась. Весь личный состав цел и находится в полном здравии.
Посмотрел Лютов на сотенных казаков, на их загорелые и улыбчивые лица. И сам невольно улыбнулся, обнажив красивые белые зубы из-под своих пышных седеющих усов.
— Вот в этом, Бодров, я нисколечко не сомневаюсь, а в остальных делах нам ещё надо разобраться.
— Вражеские посты вдоль Амура нами успешно ликвидированы. Ближайший маньчжурский военный гарнизон, около тысячи человек, нами уничтожен. Мирных жителей города оставили в живых. Так что очаг опасности для наших казачьих станиц ликвидирован. Благодарные жители, добровольно выплатили нам контрибуцию, снарядили обоз и дали сопровождающих его маньчжуров. Штаб гарнизона сожжён, документы захвачены нами. Полковник Люй Фэн мною допрошен и с посланием от Амурских казаков отправлен в Пекин, к самой императрице Цы Си.
— Здесь подробнее! — оживился Лютов.
Посмеялся Лютов вволю, прочитав послание к Императрице.
— Ай, да Чингиз Хан Бодров. Дипломат из тебя отличный получится! Но только ты со своей Императрицей, Солнцеподобной Цы Си, разбирайся сам. А так ничего написано, по-нашему, по-казачьи.
И его сухощавое лицо под хищным, с горбинкой, как у ястреба носом, довольно осклабилось.
— И ещё запомни, атаман, что такие вещи просто так, бесследно, не проходят, ты ещё убедишься в этом. История не любит всяких шуток. Тем более во время войны, когда кровь рекой течёт. Аукнется тебе твоё ухарство, и ещё как аукнется! — попомнишь ты моё слово. А в целом, атаман, тебя надо к награде представлять, и всех твоих казаков, что я и сделаю. Послужили вы своему Отечеству славно, живота своего не жалея! Благодарность вам от меня казаки и низкий поклон за такую добрую службу!
— Любо, казаки! Любо!
Оживились и маньчжуры и они весело кричали вместе с казаками.
— Любо! Любо нам!
Скоро всё трофейное добро вместе с пушками было перегружено на баржу. Вытянулись в струнку маньчжуры, и они почувствовали себя солдатами.
Бодров уважительно пожал каждому из них руку и вложил туда заработанные деньги.
— Живите счастливо, и никогда ни с кем не воюйте. Нам с вами не надо воевать! Спасибо вам!
Тут и другие казаки стали жать маньчжурам руки, и каждый старался, хоть что-то туда вложить, хоть медный пятак. Но удивил всех Алексей Федоркин, который к тому времени уже проспался и даже опохмелился. Никто и не ожидал, что он из своих трофеев отдаст возчикам золотых пять рублей. Чтобы те передали их его новому другу, маньчжуру Веньке. Маленькую монетку и целое состояние.
— Передайте Вениамину, пусть строится, так у нас говорят казаки на счастье. Они ему, эти деньги, очень пригодятся. У себя он и за весь свой век столько не заработает.
И счастливая слеза блеснула в глазах казака.
— Эх, Венька, добрая душа!
Передали соотечественники Веньке подарок от казака Федоркина. Тот никак не мог поверить, что такое бывает на белом свете. Руки его бессильно опустились вдоль туловища, а глаза сами наполнялись слезами. Конечно если бы не война, то он в долгу не остался бы и нашёл своего друга. И отблагодарил бы его, как и подобает, всё по-человечески. Зачем она эта война им, зачем? А на своём берегу казаков уже встречали, как победителей, их жены и невесты. Красивые казачки не стеснялись в выражении своих чувств и крепко целовали любимых. Так как знали они, что завтра казакам снова в поход. Такова доля казачьих жён, всегда находиться в ожидании мужа и растить детей. И как ещё говорится, чтобы скучно не было вести всё хозяйство. А тут работы столько, что порой и мужикам тягостно приходится. Но всё это доля казачки.
А туго придётся мужьям, то и сами казачки и дети их возьмутся за оружие. Они могут метко стрелять, управлять конём и рубить шашкой на всём скаку, не хуже своих мужей.
Когда-то в древности таких женщин воительниц звали амазонками. Наверно они и были теми корнями, из которых и формировались характеры казацких жен. Так и соединились их судьбы, до скончания веков в одно целое.
Тут же, на берегу реки были накрыты столы с угощением для казаков.
Красовалась там, в плетёных бутылках, и крепкая горилка. Да ещё из трофейного обоза кое-что из спиртного туда перепало.
Хоть их питьё и слабее нашего, но для сравнения тоже было неплохо. И скоро весёлые казачки рядом с чинными казаками восседают, и всё тут, как всегда в их жизни было. Но что-то принахмурились казаки. И не могут их жёны понять, что же такое случилось с их прекрасными мужьями. Пытался опохмелённый Алексей Федоркин им что-то объяснить, и всё разводил руками в воздухе, всё загадочные фигурки там вырисовывал. Похоже было, что талии у наших казачек не те оказались. И казак невольно маньчжурских красавиц вспомнил, их точёные талии. Зато слов не находилось и это спасло его. Недобро глянули на него товарищи по оружию, да так, что Федоркин сразу же отрезвел. И нелепо, по-смешному, замахал своими руками в воздухе — молчу, молчу, молчу!
Прозрение наступило и очень ясное. А то бить будут, и казачки тоже! И очень больно будет. А утром многие казачки уже щеголяли в новых кофточках, которые успели сшить за одну ночь из цветастой трофейной материи.
Ну как же не уважить своих геройских мужей. Пусть и им радостно будет. А жена-то у него уж больно хороша, не чета другим. И умница, и красавица, и хозяйка хоть куда — всё за одну ночь успела. Дать бы Федоркину по его тыкве, чтобы в следующий раз думал, что говорит. Чуть столько делов не натворил, со своими воспоминаниями.
Прощание было недолгим. Казачки своих слёз не показывали, крепились, как могли. Это грех большой был, по живому мужику рыдать. Казаку в сто раз легче будет, если жена в его памяти, как зоренька ясная будет. С такой памяткой и в бой легче идти казаку, и домой ноги сами нести будут.
Сотня Бодрова так и осталась под его командованием. Лютов не стал ничего менять, раз хорошо показали себя в деле казаки, то пусть так всё и дальше будет.
— А соответствующее звание мы тебе быстро присвоим, Бодров-атаман!
Война, она или возносит высоко казака, тогда он парит в небе как орёл. А может и вовсе его не заметить, если не растоптать вообще.
Но последнего позора не должно быть. Казак с детства с конём и с оружием дружит и уже на службе у Царя-батюшки состоит. Для того он и рождён казаком — чтобы счастливым быть. И на войне тоже!
— Сотником будешь, Лука! Ты этого заслужил!
— Любо казаки!?
— Любо!
Сотник
Прервал свой рассказ дедушка Григорий Лукич, и заулыбался. Видно было, что ему приятно было всё вспомнить.
Забеспокоился маленький Саша, и старшие внуки тоже.
— Дедушка милый, что же дальше-то было? Ты так интересно всё рассказываешь, прямо ты сам там побывал, с Лукой Васильевичем, отцом своим.
— Вот здесь ты угадал, внучек, на фронт я собрался в свои пятнадцать лет. Надоело мне диверсантов различных ловить, да на побегушках у казачек бегать. Так всё и сказал атаману Лютову. На фронт хочу, испытать казачью долю, к отцу в сотню.
Вся сухопарая фигура атамана расправилась, и он как бы ростом стал выше, и плечи пошире стали.
— Молодец казачок! Весь в деда своего пошёл, Василия Бодрова. Орёл вырос! Пусть отец всё сам и решает, я не против его решения. Знаю, что всё равно дома не усидишь, раз на волю рвёшься.
Молчал отец, не знал что ответить, но всё же нашёлся.
— В другом случае плетюганов тебе бы вволю всыпал, но не военное это дело. Война не мама родная, и не всякий взрослый там выдержит. Если опозоришь меня, Гришка, то смотри тогда, плохо тебе будет! Становись в строй, да прежде с матерью своей попрощайся, успокой её.
Лука уже тепло улыбался сыну, в свои пышные усы.
— Нашёл же время, когда подойти с просьбой к атаману, хитрец Гришка!
Так и началась моя военная жизнь, всё наравне с взрослыми делил. За их спины прятаться не приходилось, не приучен был. Но тут случилось такое, что и атаман не нашёлся что сказать.
— А меня с собой возьмёте, простым казаком?
Перед Иваном Матвеевичем предстал поп отец Никодим, сын крещёного Ивана Чёрного, бывшего монаха Бахи. Сын тибетца и эвенкийки, он был чёрен, как головёшка. Но крови он был бойцовской, настоящий казак. Но его ли это дело воевать?
— Не знаю, что тебе ответить, отец Никодим, раз ты не хочешь, чтобы тебя батюшкой величали.
Я думаю, что ещё нет такой необходимости тебе воевать, хотя мыслишь ты правильно. Всем казакам спокойней будет с Божьим благословением в бой идти.
Но немного подумал и ответил атаман.
— Ты для них и там всегда примером будешь. Так что можешь крест свой с груди не снимать, так воюй! А в кулачном и сабельном бою тебе равных бойцов нет, я это и сам знаю. Разве что Лука захочет позабавиться, ведь вы друзья с ним. Но это ваше дело.
Воюй, отец Никодим!
Догадываюсь я, что ты за смерть своего отца с маньчжурами посчитаться собираешься. Никак, в Пекин попасть хочешь?
Будем там, обязательно будем! С такими казаками да не побывать там, грех великий.
Пожал тяжёлую руку попа атаман Лютов.
— Но в бою и тебе воли нет, запомни это! Двойной крест нести будешь, только строгое послушание командиру и не иначе.
Большая семья у отца Никодима и все они к барже пришли провожать родителя.
Здесь и попадья Елизавета и детей с ней чуть не с десяток. Но никто из ни, не плачет, казацкий порядок! Хотя и чёрные там, и белые, всякие дети есть, полный интернационал.
Заговорил сам батюшка.
— Моё дело дети продолжат, они и в грамоте преуспели и церковных делах поднаторели. А мне свои дела вершить надо, иначе поздно будет. Жизнь моя к закату потихоньку идёт. Уже полголовы седых волос, а за отца я так и не отомстил. И за целое стойбище убитых эвенков тоже. Ведь кто-то же послал убийц? Не сами же они пришли сюда.
Ходко двигалась буксируемая баржа к Благовещенску на выручку осаждённому нашему городу.
Возле города сгруппировались Амурские казаки в своё небольшое войско и приготовились к наступлению на осаждавших город маньчжуров.
С другой стороны к городу подошли Забайкальские казаки с атаманом Копчённым и тоже ждали сигнала к атаке.
Маньчжуры со своим многотысячным войском особо не беспокоились. Их силы во много раз превосходили силы казаков. Да и оружия у них хватало с избытком. Особенно пушек разного калибра с богатым боезапасом. Да ещё ко всему у них был превосходящий флот с орудиями на борту. Вот он то и создавал головную боль казачьим атаманам. Но казаки не паниковали, не раз они били во много раз превосходящие силы маньчжуров. И в этот раз были уверены в победе, но буром идти не собирались. На баржу срочно поставили орудие, что захвачено было Лукой Бодровым в его первой разведке. И загрузили вдоволь боеприпасов. Укрепили её борта мешками с песком и посадили туда абордажную команду из двух десятков человек. Гольды на своих больших, но лёгких лодках тоже разместили абордажных казаков. И до начала атаки на маньчжурские катера все эта маленькая флотилия затаились по малозаметным протокам.
Крестятся казаки, не привыкли они биться на воде, отвыкли уже. То ли дело их предки, что пришли на Амур. Те увереннее себя чувствовали и на воде и на берегу. А они разве что в детских играх игрались. Но гольды народ ушлый, они выросли у воды, потомственные рыбаки. Эти доставят скрытно казаков в любое место атаки. Даже в самую чёрную ночь. А там уже дело казацкое — кинжал да сабля острая. Предложил Лука Бодров изготовить самодельные бомбочки с горючей смесью и дополнительно вооружить ими казаков, что на лодках находились. И это новшество очень кстати пришлось. Атаковать вражескую флотилию решено было под утро в их же базе, потому что ночью маньчжуры не воевали. Как красиво говорится у воспитанных людей, они изволили отдыхать. Что и было на руку казакам. Нападение на маньчжурские корабли и было сигналом к всеобщему наступлению на город. Под утро баржа с орудием выдвинулась на исходный рубеж и вплотную, под маньчжурским берегом, подошла к бухте. Вел её старый гольд, что был там за лоцмана. Каждую ямочку здесь он знал, как свой закопченный и мятый котелок с ухой.
— Сейчас враг появится! — предупредил он Бодрова.
Не ожидал Лука Васильевич, что так неожиданно из темноты наплывёт на него и сама бухта и корабли в ней. Точно призраки они выдвигались из темноты навстречу барже. И часовые там уже заподозрили что-то неладное, и начали перекличку между собой.
Не могли они предположить, что это русские и, похоже было, что баржу маньчжуры всё же принимали за свою патрульную посудину.
— Огонь! — скомандовал Лука Васильевич своим артиллеристам. — Как можно чаще! Подсветите, ребята!
Первый выстрел был очень удачным, маньчжурский катер, как игрушечный, подпрыгнул от выстрела и сразу же загорелся. Затем там рванул боезапас. И темнота содрогнулась от выстрелов различного калибра. Стреляло вокруг всё, всё что могло стрелять.
Расстреляв большую часть своего боезапаса, баржа по течению отошла вниз под прикрытие темноты и, что хищная рыба в ожидании добычи, затаилась там. Переключив весь свой артиллерийский огонь по береговым целям. И тем самым дав возможность своим лодкам атаковать врага. Что те незамедлительно и сделали. Давно забытая тактика запорожских казаков снова оказалась незаменимой и устрашающей по своей дерзости. И темнота казакам была на руку.
Гольды на своих лодках из засады устремились к освещённым катерам маньчжуров. И казаки яростно атаковали любые плавсредства врага, закидывая их горючей смесью, пока те не превращались в костёр.
Стреляли казаки только в тех матросов, что пытались тушить огонь, остальное гиблое дело довершала безжалостная стихия — вода. Одновременно, с двух сторон сухопутные казаки ударили по осаждающим город захватчикам. Изнутри их поддержали дружным огнём из всех видов оружия осаждённые казаки, солдаты и жители города. Оторопевшие от такого дерзкого ночного налёта маньчжуры скоро оказались прижатыми к Амуру, путь отступления был им отрезан.
Освобождённый город впервые за все дни блокады вздохнул облегчённо. Сейчас он был совсем, как человек, грязный от копоти пожарищ, многократно пробитый пулями и снарядами. Только сказать он ничего не мог и пожаловаться людям. Зато люди были очень веселы, совсем, как дети. И даже снаряды, летящие с того берега, уже не так их пугали. По врагу била наша артиллерия. Отвечали маньчжуры второпях и бестолково, лишь бы стрелять. Ведь и они сами находились под обстрелом.
Собрались на совет казачьи атаманы и воинский генерал Семихватов, начальник гарнизона города, надо было выработать единую тактику действий. Семихватов Борис Валерьевич был сыном того самого Валерия Борисовича Семихватова, что впервые прошёл по Амуру сплавом с казаками по приказу царя ещё в 1860 г. И имени своего отца героя он нигде не позорил. Уважали его и солдаты, и казаки, и жители города. И статью и ростом генерала Бог не обидел. Да ещё умом и красотой, и седой пышной шевелюрой волос. И доброты он был редкостной, жалел всегда людей и зря солдат под пули не посылал. За все эти качества и ценили его солдаты, свой он был, как отец им. По годам уже пожилым был генерал, и это ещё больше придавало ему значимости.
— Пришёл приказ нам от самого Царя-Батюшки нашего — воевать нам, атаманы, до победного конца.
Бить врага нашего везде и на его территории тоже. И идти дальше, до самой их столицы. Поэтому к казачьим войскам добавятся ещё и солдатские полки, они уже на подходе. Но казачьим войскам особая линия, так как у них насчёт войны есть своя стратегия — враг им знакомый. Но никакой анархии быть не должно. Только совместные действия, они себя полностью оправдают.
Хорошо себя показал в ночном бою сотник Бодров. Но сынок уже дальше своего папаши пошёл, не зря его маньчжуры Чингиз Ханом Бодровым прозвали.
И тут уже среди маньчжуров молва прокатилась, что Чингиз Хан Бодров здесь появился. И всех их, как собак, беспощадно резать будет. Ну скажут же! И что он уже здесь на Амуре ночную бойню устроил, всё это его работа.
— Вот здесь они не ошиблись! — смеётся Борис Валерьевич. — В точку попали! Надо его конной сотне придать особые полномочия — только диверсии и разведка. Ведь они этому с детства обучены. Равных им в разведке и ближнем бою нет соперников.
Это же надо, целый гарнизон маньчжурских солдат одними ножами вырезали? Но осуждать их нельзя, это война, и жестокость здесь оправдана. Не они начали войну, а погибать никому зазря не хочется.
А сейчас им надо подавить маньчжурскую артиллерию, иначе нет смысла нам наступать дальше. Только людей зазря положим. Я думаю, что пусть этим займётся сам сотник Бодров Лука, его это дело. А как угомонит казак артиллерию, то и мы туда подоспеем. И казаки и солдаты, все там будем. Поддержим наш авангард.
И впервые улыбнулись все присутствующие на совещании, и атаманы, и генерал, и сам Лука. План продуман, прост и принят к исполнению.
Решили казаки Бодрова с вечера тайно перебраться на тот берег Амура и скрытно подобраться к батарее. И всё до утра с её захватом уладить. И тогда путь казакам к маньчжурском городу свободен. Маньчжурских солдат казаки в счёт не брали, без артиллерии они не страшны. Особенно для конной лавины казаков. Остальные войска на нескольких баржах и целой флотилии рыбацких лодок будут готовы по команде высадиться на захваченный плацдарм. Расширить его и прямо с ходу развивать начатое наступление.
Казацкие лошади никогда не боялись воды и всегда спокойно плыли за лодками. И даже без лодок казаки могли переправляться через реки, держась за лошадиные хвосты. Это был древний приём кочевников, взятый казаками на вооружение. Так что с переправой казаков через Амур особых проблем не было и Семихватов это особо подчеркнул. Зато других проблем хватало с избытком, и генералу было над чем задуматься. Одно то, что им противостоял многотысячный гарнизон маньчжурских войск, хорошо обученных и экипированных, невольно настораживал наших стратегов. И многократное численное превосходство маньчжуров тоже особой радости не внушало.
Оставалась надежда на сотню Бодрова, мастера ночного боя. Другой подходящей тактики с превосходящим противником пока не находилось. Десяток казаков-разведчиков с наступлением темноты на лодках вместе с проводниками-гольдами высадились в условленном месте на маньчжурском берегу. И с ходу начали готовить место для прибытия остальных товарищей.
Через час сюда должны были высадиться все остальные казаки из сотни, вместе с лошадьми. И надо было торопиться Василию Шохиреву со своей командой расчищать место. Ибо вся операция должна быть тайной для врага. И исключить напрасные людские потери. Раз прозвали его так маньчжуры, Чингиз Ханом, то ничего не сделаешь, надо оправдывать их доверие. И каждый казак из сотни Бодрова старается не подвести Луку. Иначе, позор всем!
Ровно в назначенный срок вся сотня казаков была на маньчжурском берегу. Ночь ещё была впереди и уж она-то благоволила казакам.
Луна лишь на миг выглянула и, словно не заметив лихого разбоя казаков, скрылась за тучи. Похоже было, что и она всецело была на стороне разведчиков. Теперь надо было скрытно подобраться к батарее и постараться захватить её без единого выстрела. И на этот раз Селена молча удалилась за тучи по своим небесным делам, оставив всю маньчжурскую батарею на волю случая.
И тут прослеживалась живая связь казаков с природой, всё у них было в полной гармонии с ней.
— Всех батарейцев не резать! — распорядился Бодров. Я думаю, что если всё гладко сделаем, то они нам очень даже пригодятся.
И вот прозвучал сигнал, для разведчиков.
Истошно всхлипнула противная выпь на болоте и тут же надсадно замолчала, словно боясь испугать ночную тишину, никак не подвластную ей. И это удалось птице, часовые-маньчжуры ничего не заподозрили. И снова окунулись они в полусладкую дремоту. Полностью расслабляться на посту им никак нельзя, а вот побаловать себя её сладкими грезами очень хотелось.
По сигналу Шохирева, разведчики убирали часовых у входа в блиндажи и устремлялись туда. Кто-то из них оставался у хода. Как вешняя вода, растекались казаки в любую прореху надёжной обороны. Недолгая возня и как бы ненароком возникший там шум замолкал, дело было сделано на совесть. И скоро вся батарея была захвачена казаками.
Более десяти орудий было захвачено и срочно надо было их перенацелить на город, в этом и был весь замысел.
Уничтожить такую добычу не поднималась казацкая рука, грех это великий так с орудиями обращаться! Да ещё когда боезапасу немерено.
Всех вражеских артиллеристов построил Бодров в укрытии и попросил переводчика перевести им свои слова. На этот раз луна постаралась и осветила всю захваченную батарею, угрюмые лица казаков и самого атамана.
— Тот, кто будет стрелять по городу из своих орудий, будет мной помилован, я это обещаю вам. В противном случае смерть вам, ребята, здесь же, на месте. Другого выбора и у вас и у нас нет. Впрочем, вы ещё можете сами пойти под ваши же пули, хоть сейчас идти. Но и там вам тоже не будет пощады, известно, что пуля — дура! А предателей она особо любит.
Всё вам одно и тоже, и там и здесь. Но шанс выжить и у вас и у нас есть, если вы будите стрелять со своих орудий по городу. Сейчас наши и ваши жизни полностью зависят от нас самих. Я — казачий сотник Бодров и шутить с вами не намерен, всё, как на войне — смерть! Зато своё данное слово сдержу в точности, ведь я ни разу ещё не нарушал его, и вы знаете это. Думайте ребята! Шевелите поскорее мозгами, нам время дорого.
Эффект был поразительный. Через секунду маньчжуры были на коленях. Не ожидали они, что сам Чингиз Хан Бодров придёт к ним в гости, да ещё ночью. Но шанс выжить всё же он даёт им, и грех не воспользоваться его добротой. Конечно, они были согласны, ведь и они по всей своей сути не хотели воевать. Крестьяне до мозга костей, им ли заботиться об интересах Маньчжурии. Им бы целыми домой поскорее добраться, да свои многочисленные семьи тяжёлым трудом, а не войной, поддержать. До рассвета ещё было далеко, но атаман решил атаковать город сейчас.
Сотник надеялся, что его поддержат казаки и солдаты, ведь и им было там, на нашем берегу, не до сна. Тяжко находиться в ожидании сигнала Бодрова. Непременно поймут его замысел атаманы и генерал Семихватов. Конечно поймут, иначе не были бы они командирами. И они бы не стали взрывать целые орудия, поступили точно также. Содрогнулась ночь от выстрелов захваченных орудий. Город сразу же начал гореть и на фоне пожара прекрасно вырисовывались другие цели. И пленные маньчжурские артиллеристы под руководством казаков начали пристрелку по другим целям.
Пока их бывшие командиры разобрались что к чему, урон маньчжуры понесли невосполнимый. И именно от своей же артиллерии. Поэтому они решили разделаться, как можно поскорее, со своей мятежной батареей, теперь им это было просто необходимо. Она как кость в горле стояла.
Пришлось поставить почти все свои орудия на прямую наводку и в упор, картечью, расстреливать наседающих на батарею маньчжурских солдат. А их кругом, как саранчи было, видимо-невидимо. Зарождается нежный рассвет, как всегда обычного и доброго дня.
Он, ещё не рождённый, уже трепещет от такого размаха битвы. Было уже такое и ещё не раз будет. И никак их мир не берёт, этих неразумных людишек, крови им хочется. Сама природа тихо возмущается.
Никто не видел, как надел свою поповскую одежду Никодим Черный. И как крест своего отца на грудь повесил. Как демон сверкал он своей казацкой шашкой в полумраке уходящей ночи. Всё колол и рубил наседающего врага, налево и направо. Чёрным и страшным был этот странный казак в ещё более странном, не казацком одеянии. В бою ему не было равных, наверно, и среди многих тысяч солдат, виртуоз он был в этом деле. И все понимали это, и маньчжуры-артиллеристы и наши казаки.
Ещё раньше, чем говорить проповеди, научил его этому делу отец его, бывший Баха, Иван Черный. Теперь очень приходилась эта наука убивать, хотя порой казалась попу совсем не нужной.
По своей особой системе ведения боя, им же придуманной, проходили те давние, его ежедневные занятия с сыном.
И тонко отточенной за все долгие годы скитания и проповедничества по Приамурью. И вот сейчас все эти навыки очень пригодилось Никодимке. Что и было предсказано отцом, ещё в далёком его детстве. Готовил он сына к нелёгкой жизни. Где всё, ещё с самого его сиротского детства, казалось ему очень странным, но доступным и понятным. И думалось тогда, что нет ничего невозможного. Как в мире добра, так и зла, но это ошибка. Всё это одна система — жизнь! И её надо понять, прожить и глубоко осмыслить! Нет там нигде чёткой грани. Одна нелепая ошибка, и ты летишь в тартарары — правда, обидно? И он сам прошёл эту школу жизни.
Невольно пленные артиллеристы были подвластны этому русскому попу-казаку. Русскому и такому чёрному своим лицом. Однако, что-то там, в его лице, было и для них своё.
— Дети мои! Раз вы взялись за оружие и выбрали нашу сторону, то не останавливайтесь на полдороге. Только дошедший путник до её конца может определить глубину своего падения.
Но может быть и так, что он переосмыслит свой поступок. И убедится, что поступил правильно, и не иначе. Тогда и Господь Бог не оставит солдат своим вниманием и не даст вам упасть в бездну предательства, лжи и коварства. Обязательно подаст вам тонкий стебелёк помощи даже травы придорожной. И душа ваша будет спасена раскаянием.
Не перестают удивляться и сами казаки Никодиму Черному.
— Вот это казак! Как славно говорит, тут его и заслушаешься, что песню поёт. Вон, как нехристи его слушают, слова не пропускают, боготворят отца нашего! Со всех сторон силён поп!
Плохо бы пришлось сотне Бодрова, если бы не подоспели конные казаки Лютова и Копчённого.
Конная лавина опрокинула наступающих маньчжуров и повернула их в сторону города. Так на плечах бегущих солдат и ворвались казаки в город. К вечеру десятитысячный гарнизон маньчжуров был разгромлен полностью, город капитулировал.
Построил поп оставшихся в живых пленных маньчжурских артиллеристов. И говорит им свою необычную речь.
— Обещал вам сотник жизнь сохранить, и, как видите, сдержал своё слово. Отпускает он вас на все четыре стороны. А я вам ещё и деньги даю, потому что вы без денег не проживёте. Снова вам надо будет, либо в солдаты идти, либо к хунхузам податься. Поэтому занимайтесь крестьянским хозяйством, и на войну больше не ходите. Крестит поп каждого солдата, и в руку ему деньги суёт, и при этом приговаривает.
— Не как Иуде деньги даю, продавшему свою совесть. А как несчастным солдатам-грешникам. Твёрдо ставшими сейчас на праведный путь, путь мира. И детям вашим подаю, и женам вашим, чтобы на хлебушек им было. И чтобы и они помнили всё это и другим передали. Ибо нам, двум Великим соседским народам, в мире и согласии жить надо. Аминь!
Расходятся маньчжуры по своим домам и низко кланяются отцу Никодиму, у некоторых на глазах и слёзы наворачиваются.
— Никогда не будем воевать с русскими, они теперь нам как братья стали. Спасибо тебе, Чингиз Хан! Спасибо, отец Никодим! Батюшка наш!
Но стал другой не менее важный вопрос, что же делать с тысячами пленных солдат. Их просто некуда было деть, маньчжурских пленных.
Совет атаманов во главе с генералом принял решение. Чтобы пленные не были обузой, распустить их по домам, предварительно разоружив.
— Построить свою армию! — приказал Семихватов маньчжурскому генералу Ван Цзиляну.
Через полчаса все пленные стояли в строю, при полном комплекте штабных офицеров.
— Мы решили всех пленных солдат распустить по домам, но при одном условии, если они больше никогда не будут воевать против русских.
— Хао! — кричат пленные солдаты, и радости их нет предела.
— Я разрешаю вам самим осудить здесь тех своих солдат и офицеров, которые издевались над вами. И людей, которые всегда подстрекают вас на войну с русскими. А часто силой заставляли вас воевать с нами.
— Хао! Хао! — снова кричат пленные маньчжуры.
Офицеры штаба и сам генерал Ван Цзилян ждали своей участи и наконец-то дождались её. Лица их были непроницаемы, что маски. Похоже было, что всё происходящее никак их не волновало.
— А вы, господа доблестные офицеры, сочтите за честь быть сейчас арестованными и пострадать за свой многострадальный народ и императрицу Цы Си.
Генерал Ван Цзилян, чётко отрапортовал, именно Бодрову, а не кому-то из старших русских офицеров.
— Мы готовы понести заслуженное нами наказание и не считаем его обременительным для нас, оно заслуженное. Господ офицеров не лояльных к русским и их лютых врагов мы сами исключили из этого списка. Теперь всем будет спокойно, и русским победителям и маньчжурам. Нам надо жить в мире и только в мире!
Скоро город зажил своей жизнью, не обращая никакого внимания на русские войска.
Дома быстро восстанавливались, потому что маньчжуры на них трудились что муравьи, без всякого отдыха. Воронки от снарядов жители города засыпали мусором и сровняли с землёй. Так всё и оставалось здесь, ещё тысячу лет назад. Похоже было, что и сейчас ничего значимого не произошло.
А война всё разгоралась и не похоже было, что она быстро закончится. Хоть и нищая, но большая страна была наводнена различными группировками, постоянно воюющими между собой. И ещё бандами хунхузов, владеющими целыми областями, городами и районами. В таких непредсказуемых местах и маньчжурским солдатам было страшно находиться, не то что жителям города жить. Были здесь и солдаты других стран и империй. Но те панически боялись непонятных и непредсказуемых маньчжуров с их древней историей и множеством предрассудков, люто ненавидящих интервентов. Одним словом, Восточная страна, где просто выжить и то очень трудно, не то что воевать там.
Поэтому вся тяжесть войны легла на русскую армию и конкретно на казачьи полки.
Эти и воевали умело и с местными людьми могли ладить. Где надо, казаки могли и поклониться их духовным ценностям. Не боясь, что спина их отвалится — очень уважали они старину! И всегда перед их храмами снимали свои лохматые шапки. Древняя восточная культура вызывала уважение. И если бы не война, и не надо было казакам воевать, то многие из них так бы сутками и рассматривали эти исторические ценности, раскрывши рот. Но война была всему помехой. Для иностранцев и сами казаки были не менее мало понятны, чем те же маньчжуры. Одним словом, всё те же дикари, только веры у них разные.
А сотня Бодрова уже действовала на Восточной Железной дороге. Многие силы пытались её прибрать к своим рукам. Как-никак, а это была жизненная артерия стратегического масштаба, питающая всю страну. Аналогов ей по значимости там, не только в Маньчжурии, но и соседних странах, ещё не было. Поражал её грандиозный размах и простота инженерного и стратегического решения.
И если всё сказать просто, то это был большой денежный мешок, которым хотели владеть все империи и бесконечно долго. Хотя весь парадокс в том, что проектировали и строили её русские люди. Вот здесь и оказалась сотня Бодрова, чтобы защитить железную дорогу от различных военных посягательств на наше российское добро от всякого бандитского сброда, наводнившего эти злачные места, и самих же военных маньчжуров. И многих других, политических авантюристов, склоняющих часу весов в свою пользу. И тоже при собственных армиях. Поставленная сотне задача была для сложившейся там обстановки до дерзости простая. И в тех условиях почти невыполнимая. Защитить её, как исконно русскую территорию, согласно существующего договора между двумя странами, Маньчжурией и Россией. Как хорошо всё это звучит на бумаге, гладко написано!
Чем славился Лука Васильевич, конечно, ночными рейдами по тылам противника. И эта тактика с успехом была использована там, на новом месте. Впрочем, те же методы применяли и прочие разные диверсанты всех мастей, работающие на этой железной дороге. Происходили короткие стычки между разными разведчиками, в ходе которых казаки вырезали приблудных детей ночи. Они и здесь были хозяева. Аналогов им по дерзости и работоспособности не было среди других разведчиков, усталости они не ведали. И тёмную маньчжурскую ночь они почитали, как маму родную. Естественно, что и она любила их. И благоволила своим чубатым и весёлым хлопцам казакам. В их, казалось бы, уже не детских шалостях — воевать.
Это и был, так называемый казачий ночной дозор, вроде соколиного ока, мимо которого и мышка не проскользнёт. Так и двигались казаки днём и ночью, вдоль железной дороги. Оперативно перемещаясь на своих конях и наводя в районе железной дороги свой железный порядок.
Но опять же, парадоксальная закономерность, чем дальше казаки уходили вперёд, то оставался незащищённым их тыл. И тогда решили казаки создать свой укреплённый поезд, с двумя орудиями на платформах. И несколькими жилыми вагонами посередине, обложенных вдоль стенок мешками с песком, с амбразурами для своих стрелков. И паровоз казаки тоже обложили мешками с песком. И эта своеобразная черепаха задвигалась по всей освобождённой и не освобожденной территории железной дороги. Обстреливая из орудий все подозрительные объекты. Уже как бы работая на упреждение нежелательных событий, то есть, нежеланных диверсий!
Понравилось Луке Васильевичу казацкое изобретение. И он был не прочь сам, с шиком, прокатиться по рельсам. Это тебе не норовистая лошадь, которая только «но» и понимает, можно здесь на такой лихой машине и пофасонить атаману. Только и этому их чуду надо дать достойное название. И, недолго думая, казаки намалевали на паровозе: «Чингиз Хан». Теперь всё стало на место, и вперёд можно ехать казакам, и за свой тыл можно побеспокоиться. Везде они успевали и успешно наводили законный порядок. Как жахнет трехдюймовое орудие по предполагаемой цели, сразу у противника пропадает желание мешать регулярному движению грузов на КВЖД. Но вот впереди себя ночная разведка обнаружила странный поезд, который был весь из бронированной стали. Но происхождения это ночное чудо было явно не отечественного. И, как поняли разведчики, находился чужой поезд в засаде. Наверняка он ожидал кого-то. Но кого? По вооружению бронепоезд явно в несколько раз превосходил «Чингиз Хана». Проехать мимо засады было невозможно. Без боевого снаряжения, без человеческих жертв не обойтись.
Василий Шохирев задумался, и никто из разведчиков не мешал ему. Если не обезвредить бронепоезд сегодня, то завтра сами казаки будут биты своими же врагами. И, похоже было, что тут другого варианта не было. Или попытаться захватить его прямо сейчас или же взрывать бронепоезд. Но с другой стороны, не маньчжурский он, это точно. О нём казаки, это уже точно, что-либо да знали. Значит, что тут или провокация назревает, или действительно его трогать нельзя, союзников он. Но тогда почему он в засаде находится, и чей он, американский, английский и так далее? И ещё множество вопросов возникает, если всё же его придётся брать силой. Солдат в поезде с сотню будет, если не более. И стрелять казакам своих союзников нельзя, ни в коем случае. Тогда, как их доставать оттуда, да ещё живых?
Опять призадумались казаки и решили брать всю команду бронепоезда на месте. Раз он в дорожку собрался и вся команда там. С лихим задором рассуждает так командир разведчиков, загорелся он этой идеей не на шутку.
— Проплачет выпь на болоте, и надо нам всем, оперативно действовать. Я с Федоркиным захватываю бронированный паровоз и действую дальше. А вы сразу же готовитесь к захвату вагонов, обезвреживаете нескольких часовых и ждите решающего момента захвата. Как только поезд начнёт резко сдавать назад, то от толчка все солдаты там, что внутри вагонов находятся, сразу же как горох посыпятся. Самые любопытные из них, естественно, повысовываются из дверей вагонов. И на месте быстро разобраться в ситуации. В непонятной и каверзной для них обстановке. Иначе и быть не может, что так всё будет, а не иначе. Тут вы их, на месте, и прищучьте родимых. И ещё вам, ребятушки, надо ловко, как на сноровистой рыбалке действовать. Запомните, что вы их, как хитрую щуку, на живца ловите. А тут каждый миг дорог и чьей-то жизни стоит. Выхватывать их надо из вагонов без промедления. И ещё главное, чтобы тут всё без всякой стрельбы обошлось, чтобы тихо вы всё дело сработали, без жертв никому ненужных.
Недолго заставила себя молчать нудная выпь и затянула свою пронизывающую до мозгов тираду.
Взлетели на броню паровоза Василий Шохирев и Алексей Федоркин и прикрыли дымовую трубу покрывалом. Пусть машинисту и его напарникам небо с копеечку, или того меньше покажется, от едучего паровозного дыма. Тут же полегли на землю часовые у вагонов, оглушённые казаками, и ничего они не поняли. Приоткрылась бронированная дверь на паровозе. И сноровисто начали выползать машинисты оттуда на свежий воздух, как гибнущие без кислорода жирные рыбы.
Им бы хоть глоточек воздуха глотнуть, не более. Тут их и прищучили Шохирев и Федоркин.
Трубу освободили от заглушки и дым весело устремился в небо. И ему небесного простора и легкого ветерка захотелось. Хотя и он, при всём этом, не прочь был ещё повеселиться. И посмотреть, что же такого он сотворил здесь, что одним людям очень весело стало, а другим, ещё более смешным, чересчур плакать хочется. Вот где настоящая загадка для него!
Казаки проветрили кабину и руками объясняли машинистам, как сделать им необходимый манёвр. То есть, резко начать движение бронепоезда вперёд, и так же резко затормозить его. Для большей убедительности Василий провёл машинисту тупым концом ножа по его горлу.
— Иначе вам всем чик-чик будет!
Подвешенный фонарь на потолке выхватил страшно напуганные лица машинистов.
— О, е-с! — захлопал своими выпученными глазами пожилой машинист. Резко взял он с места разгон и также резко затормозил.
— Молодец! — кричит ему довольный Василий.
Теперь все солдаты, вперемежку с мусором, на полу лежат. Начали из вагонов в открытую дверь и самые любопытные выглядывать. Как рыбку из пруда выдёргивают их оттуда казаки в темноту ночи. Умело глушат их и у насыпи, уже связанных вояк, складывают отдыхать. Когда со всеми любопытными солдатами было покончено, то принялись за нелюбопытных. Скоро и они были связаны и разложены, как ненужные вещи, по разным местам отдыхать. Всё обошлось на редкость тихо для такой, грандиозной по своему размаху, операции. Василий и Алексей открыли купе командира бронепоезда. И он сам уже предстал перед их очами.
— Спокойно! — предупредил его Шохирев, наставляя ствол своей короткой винтовки на американца.
У него уже и тени сомнения не было, что это именно так, а не иначе. — Я есть американец! — зарычал на них хорошо выпивший мужчина, в белой рубашке и без кителя.
Всё что могло падать, то было рассыпано по его каюте. И по столику размазана нехитрая закуска в розливах дорогого коньяка. Здесь же валялись почти пустая бутылка с питьём и рюмка с вилкой. Хотел он до своего кольта добраться, но это у него очень плохо получалось. Пьян он был, да ещё и крепко ударился при падении.
— Не советую этого делать! — предупредил его Василий. А то много дырок в теле понаделаю, ветерком сквозить будет. А их, как известно, тряпками не заткнёшь.
— Я есть Генри Страх! Майор американской армии! И все вы будете отвечать за захват бронепоезда и солдат американской армии.
— А я Василий Шохирев, командир взвода казаков-разведчиков! И вас, господин Страх, я арестовываю до выяснения всех подробностей вашего появления на железной дороге. Можно просто вас расстрелять, вместе с вашей командой, и свалить всё на хунхузов. Но это никогда не поздно сделать. Поэтому, господин Генри Страх, ведите себя благоразумно. Вы хорошо поняли меня?
— О, е-с! Е-с!
Скоро всю остальную команду самоходом загрузили на бронепоезд и двинулись тихим ходом к своим казакам.
Послали верхового вестового предупредить Бодрова о захваченном американском бронепоезде, во избежание нежелательного недоразумения.
— Ты, Алексей, сам лично будешь охранять этого совсем не страшного господина Страха, особенно сейчас. Своей головой за него отвечаешь, как понял меня?
— Что же тут не понятного, Василий! Да он от меня и сам не уйдёт. Я ему такой комфорт здесь создам, что ему война с нами раем покажется!
Махнул рукой командир разведчиков.
— Вечно ты, Федоркин, что-нибудь да отчебучишь. Война для тебя, что мама родная. Вроде, как поповской козе чужой огород.
Махнул рукой на них Шохирев и двинулся разбираться с остальными делами, а их свалилось на Василия великое множество. С рассветом бронепоезд был в расположении наших войск. Смотрит Лука Васильевич, а Федоркин уже в майорском мундире и с кольтом Страха поигрывает. А у того и уши подозрительно отвисли и большой нос болезненно припухший.
А на командирском столе две пустых бутылки из-под коньяка разместились по разным его углам, среди прочей богатой закуски. И разбросанных по столу множества обтрёпанных игральных карт.
Им очень весело было смотреть со стороны на эту странную компанию, русского казака и американского майора. Так поразительно быстро обнаружившие в себе очень похожие черты характера. Похоже было, что сейчас их родственные души тут, за столиком, и встретились после долгой разлуки. И всё было бы так, если бы их в своё время не разделял океан. А сейчас они оба находятся на войне. И к тому же в бронепоезде. Поэтому о каком-то родстве между ними и речи не могло вестись.
— Верни кольт хозяину, они наши союзники! — распорядился Бодров.
— Никак не могу, атаман, карточный долг дело святое. И обязывает меня с честью его соблюдать. И мой друг Генри тоже придерживается этого мнения. Видите, что он даже очень не против этого, если я его кольт поношу чуть-чуть.
— И его мундир тоже? — смеётся Лука.
— О, е-с! — вторит ему голубоглазый и белобрысый американец, командир бронепоезда. — Алексей очень хороший русский парень!
— Ты бил картами американца по носу и по ушам и изуродовал их? — смеётся Бодров.
— О, е-с! — защищает своего нового друга американец. — Алёша много бил меня, а я очень мало, всего один раз. Но он мой хороший друг, и до конца счёта никогда не бил меня в покере, и много раз прощает! Алексей очень хороший казак, и совсем не похож на страшного зверя, как у нас говорят о русских казаках, то есть о вас, в нашей богатой и могучей Америке. И я очень прошу вас его не наказывать.
— Да! Интересная картина вырисовывается, — изумляется Лука. — И что делать с вами картёжниками, я не знаю.
— Угощай всю команду вином, и не мешайте нам играть дальше. Это ваше, гиблое для начальников дело, для нас и выеденного яйца не стоит. Мы его с моим лучшим другом Генри очень быстро обтяпаем. Сюда много коньяка надо и несколько колод карт доставить, и главное, чтобы нам никто не мешал. И совсем скоро мы с Генри на этот серьёзный бронепоезд играть будем.
Конечно, атаман, если всё это дело хорошо оформить, то мы и без всякого конфликта с союзниками этот бронепоезд себе заберём. И если всё так и дальше пойдёт, как сейчас, и вся игра сложится. И вина нам вдоволь хватит. То тогда, конечно, этот политический вопрос будет очень быстро решён!
— О, е-с! — вторит ему довольный американец. — Алексей много хочет, но, как говорится у вас, получит хороший кукиш!
И такую огромную дулю из трёх пальцев закрутил Федоркину под нос, что все, кто видел эту весёлую картину, полегли от смеха на бронированный пол вагона, как трава на покосе.
— Мой дедушка русский был, и он таких болтунов, как ты, Алексей, которые много говорят, совсем раздевал в карты и под стол загонял, и там кукарекать заставлял. Из родной Одессы он был, мой дедушка, грузчиком в порту работал. И папа тоже родом из Одессы.
Ох, уж, эта Одесса-мама!
— Ну, это мы ещё посмотрим, кто под стол полезет, и кукарекать там будет. Здесь у нас всё другой коленкор, не как в Америке и не как в Одессе. И придётся тебе, господин Генри Страх, и дальше раздеваться.
Поняли казаки, что самое главное сражение тут только начинается. Правда, что оно карточное, но от этого значимости своей не теряло. Всё как на войне!
— Глядишь и Федоркин наш, по простоте своей душевной, потому что он всегда был без царя в голове, и вдруг бронепоезд выиграет. Вот это Федоркин, наш Алёша, куда замахнулся?
Снабдили их там казаки, в каюте командира, всем необходимым товаром. И даже ночные вазы по такому случаю предусмотрели. Хоть и не хрустальные они, но и им нашлось место в военном бронепоезде, есть куда нужду справить. Чтобы азартные игроки зазря от игры не отрывались, и далеко по нужде не бегали. А всё там, по всей своей необходимости, тут же на месте и справляли. И этим освободили игроков от всяких взаимных подозрений, вся игра под строгим контролем велась.
Освободили казаки разоруженных солдат-американцев от верёвок и тоже снабдили их вином. Благо, что его на бронепоезде в избытке было.
И больше всего это походило на то, что американцы не на войну собирались, а на знатный пикник ехали. И потому им, героям, вовсе не до войны было. А чтобы скучно им не было, то и им тоже разрешили перекинуться в карты. Но кто же мог предвидеть, что и наши казаки не останутся равнодушными к этим картёжным баталиям. И скоро произошло то, что и должно было произойти.
Никак не выдерживают американцы ударов картами от руки наших казаков. То у них уши в трубочку заворачиваются, то носом кровь хлещет. Закалённый народ наши кавалеристы, ничего не скажешь, но тут всё законно! Это тебе не шуточка сабелькой целый день на войне помахать.
А дома в поле, на сенокосе с утра до вечера косой траву охаживать, вот и набили себе руку казаки.
И пришлось атаману запретить эту экзекуцию над американскими героями, иначе этот картёжный товарищеский матч и не назовёшь. Проигрывают тут американцы нашим казакам, и это прекрасно видно, даже невооружённым глазом. Но и американцы сами быстро докумекали своими заморскими головами, что тут им реванша над казаками никак не взять. И тут же в дело ходко пошла игра на личные вещи американцев и их оружие. Везде всё это проходило и во все века, всегда безболезненно, и не со смертельным исходом. Разве что случалось смерть в редких исключительных случаях. И ими до сих пор малых детей пугают. А не взрослых добропорядочных людей.
Понял Лука Бодров, что в его рядах анархия зарождается и тут же, с ходу, укореняется.
Странное дело, и в природе так не придумаешь, такого сорняка так быстро вывести.
— Всех проигравших казаков плетью буду сам, лично пороть, этой рукой. От всей души таких гостинцев всыплю, что потом и на коня верхом не сядете. Так и будите в поле со спущенными штанами, как вороны, все до ветра сидеть, охлаждать свои сёдла.
Но и это строгое напутствие атамана не испугало казаков, игра продолжалась. Действительно было, что глазом невидимая анархия, как смертельный вирус, успешно укореняется в их рядах. И множится, как вошь, а может и того больше. Но казакам, как ни странно, всё это нравится.
— Любо батька! Любо! — кричат казаки и сами же, не отрываясь от игры, режутся в карты с американцами. К полдню эта игра достигла своей апогеи и только к вечеру стала затухать, сама собой, как огонь без ветра. Утром всё было закончено, весь этот тряпочный базар, или одесская барахолка. Без всяких там споров и претензий со стороны иностранцев и казаков.
Похоже, что состоялось полное и обоюдное согласие обеих сторон. При разделе своего личного имущества, по системе, это все было наше. Теперь казаки были очень весело разодеты, совсем, как затейники петухи на весеннем сходе, в своём цветастом и ярком одеянии. Только неизвестным оставалось, из какого военного — вся эта одежда ими была позаимствована. Вначале американцы были очень экзотично разодеты, вроде дивных заморских попугайчиков, при всём своём ярком и невиданном казакам маскараде.
Но теперь всё бестолково перепуталось, всё, как в нашем обычном курятнике. И даже того хуже стало, оставалось неизвестным, как эти птички-попугайчики туда попали, в эти неродные и дикие для них условия. Вот так и случился незапланированный маскарад двух великих наций и необычных народов. И что ещё оставалось очень странным, всё это случилось на нешуточной войне.
Вряд ли хоть один из военных модельеров мог такое придумать, такой военный костюм. Наверно, ему и во сне такое диво присниться не могло. Но здесь всё просто решалось, и без всяких там недоразумений — ты проиграл в карты и прощайся с вещью. С оружием было намного построже, но и здесь не без перекосов. Не мог казак проиграть своё оружие в карты.
Для казака это деяние считалось тяжёлым грехом, величайшим по своей сути. Так же, как и пропить оружие. История казачества не знала таких позорных примеров. Недаром, что гербовой печатью у Донских казаков был голый казак, восседающий на винной бочке. Но при всём своём казацком оружии, прямо на его голое пузо навешанном. При сабле и пистолетах — они для него были святы.
Снял Лука Васильевич со своей седеющей головы казацкую папаху и перекрестился.
— Ну и дожился я до дивных времён. Прямо кому скажешь про весь этот маскарад, то и не поверят мне люди добрые. Подраздели мои хлопцы американцев!
Но тут его дальнейшие размышления прервал пьяный возглас Федоркина, выползающего из дверей бронепоезда на грешную землю. Но и эта, норовистая твердь, всё пыталась ускользнуть от него.
Он по-прежнему оставался в расстегнутом френче Страха, при его кольте, заткнутом за пояс широких казацких галифе.
— Теперь наш бронепоезд, атаман! Наш он! Мировой военный конфликт улажен был мной, и мирным путём.
И тут же он растянулся, прямо на рельсах, отдыхать. Видно, что и его запас физических сил был окончательно исчерпан. Рядом с ним валялась бумага с разными красочными вензелями и гербовой американской печатью.
И внизу листа красивой и витиеватой росписью командира бронепоезда Генри Страха. Которая подтверждала законность данного исторического документа, иначе его не назовёшь.
«Американский бронепоезд передан мной в вечное пользование русским казакам и, конкретно, атаману в счёт погашения моего карточного долга.
Прошу эту сделку века считать законной и не противоречащей требованиям союза.
Командир бронепоезда Генри Страх».
Прочитал эту бумагу, Лука Бодров и начал смеяться, всё его зло, что накопилось за эти суматошные последние дни, как рукой сняло.
— Вот это документ! С таким паспортом хоть в Америку езжай, и ещё бронепоезд, со всем вооружением, в карты выигрывай. Отнесите этого героя на сено, пусть отоспится вволю на свежем воздухе. Столько пить вина и пожарной лошади не под силу. Силён хлопец, ничего не скажешь, но дело сделал на совесть, хоть героя ему давай.
Генрих Страх спал за своим столиком непробудным сном, теперь его и с пушки не разбудишь, хоть над ухом стреляй.
— Убрать купе от пустых бутылок и ночных ваз. А то от такого стойкого духа и лошадь с ног свалится, не то что человек. Как здесь они только выжили, в этом отстойнике, их за одно это наградить надо, ну, и дела?
А через несколько часов приносится на взмыленной лошади американский вестовой. И, как ни в чём не бывало, ищет командира бронепоезда Генри Страха. И, похоже, что его ничего не смущает, удивительно? Не трогают его наши казаки, так как тот никакой агрессии к ним не выказывает. Тем более, что его товарищи по оружию по-своему ему что-то упорно втолковывают. И Луке интересно, чем же вся эта комедия закончится. Пошушукались они так, на своём консилиуме высоких солдатских умов. И, как оказалось, что только вестовой там, один из всех, пока что по форме одетый.
Но наверно, и это недоразумение оставалось делом времени. Так же, как и его мышление, которое его товарищи быстро направили в нужное русло.
Чётким строевым шагом американец подошёл к Бодрову.
— Вы есть наш новый командир! Я вас очень уважаю, мистер Бодров, не меньше, чем нашего Генри Страха! Для нас, солдат, он святой человек, и я его никак не подведу. Так же, как и вас. Вам есть пакет из штаба.
— Что там написано? — как ни в чём не бывало спросил его Бодров, хотя ему очень трудно было так держаться.
— Всего через несколько часов надо атаковать хунхузов в этой точке. — И указал на карте место скопления бандитов. — Боеприпасов не жалеть, приказ из штаба.
— Доложите в свой штаб, что хунхузы будут уничтожены, — успокоил его Бодров. — Вашими силами, и нашими стараниями, и в наших это интересах.
Ускакал вестовой, как ни в чём не бывало.
Поделили американцев на два экипажа и на два бронепоезда: «Чингиз Хан 1» и «Чингиз Хан 2».
И русских казаков так же, хотя они уже и сами давно перезнакомились с иностранцами: кто по какой специальности работает. Первый бронепоезд ушёл наши тылы охранять, а второй вперед на хунхузов подался. Лупят американцы по указанной цели из пушки, снарядов нисколько не жалеют. И из пулемётов траву выкашивают, как в палисаднике. Интересная это машинка для русских казаков, нам ещё не ведомая.
Удивляются наши казаки, что так зазря боеприпасы расходуются. Привыкли они, что каждый выстрел, должен быть строго прицельным.
А американцам до этого дела нет, ведь сказано в приказе, что боеприпасов жалеть не надо.
— Недостоин того какой-то сопливый хунхуз, чтобы хоть один наш солдат здесь погиб, в их тухлом болоте. Нас дома ждут, живыми и здоровыми. И мы не можем их подводить и здесь погибнуть.
Что тут сказать американцам, не дожили мы ещё до того уровня, чтобы так мыслить. У нас воевать так воевать, и про маму некогда вспомнить.
Страху этот бронепоезд нагнал на врага. Такой мощи огня никто здесь ещё не видел. Стали его бояться и хунхузы, и маньчжурские солдаты, и прочие союзники. Которым тоже не безразлично было, кто же хозяин на «железке». Но по всем параметрам выходило, что русские сумели свои владения защитить. И не только защитить, но и усилить здесь свое влияние. И уважать себя они тоже заставили, хотя это многим союзникам было, как кость в горле.
— Надо пополнить наш боезапас, — говорит Страх атаману Бодрову. — Сегодня надо это сделать, на нашей базе. Там уже всё готово для погрузки, и рабочие тоже готовы работать.
Удивился Бодров.
— Вы мне предлагаете вести бронепоезд на дозаправку в вашу базу, и не иначе?
— Точно так, господин атаман.
— Вот задача, выиграли этот бронепоезд в карты, а теперь сами не знаем, что с ним делать.
— Не волнуйтесь, всё будет нормально, господин атаман. Американцы очень уважают вас, как командир, как политик. Вы есть локомотив дружбы между нашими странами.
Слушает его Лука, и не понимает лейтенанта.
— Как у вас просто и обычно. Дела!
А дальше было ещё интересней, и окончательно всё запутало, всё представление и о войне и о долге, и о товариществе. Решили казаки ехать на эту американскую базу, ведь не бросать же такую вещь, как бронепоезд на свалку. Не было у наших войск ни таких снарядов к их орудиям, ни патронов к их пулемётам. И туалетной бумаги не было, не говоря уже про вино и сигареты. С сигарами были у казаков натянутые отношения. Любили казаки свой домашний самосад, от которого американцы синели.
После одной затяжки дымом они сразу нашу Москву видели и горько плакали. Настолько продирала их внутренности наша лечебная табакотерапия. Сигареты у нас считались баловством, разве что пофасонить друг перед другом, не иначе.
— Капитан Сэм Гульдин, — представился белобрысый бравый американский офицер Бодрову. — Начальник снабжения, американской части. Разрешите посмотреть ваши документы.
Трудная ситуация, ничего не скажешь, ведь их поровну там в бронепоезде. и русских и американцев. И не враги они вовсе. И вдруг сейчас им всем воевать придётся.
Наши казаки сразу припали к пулемётам и за свои винтовки взялись. А американцы улыбаются как ни в чём не бывало. Для них это игра, не более, и война тоже.
— Смелее! — подтолкнул атамана лейтенант Старк.
И Лука Васильевич, подаёт офицеру бумагу от Генри Страха, что этот бронепоезд проигран им в карты. Как у нас всё это называется: Филькина грамота.
— Вы есть Чингиз Хан Бодров? — теперь изумился капитан Сэм Гульдин.
И глаза его засияли от неподдельного счастья.
— Очень рад с вами познакомиться, вы герой всей этой войны. О вас очень много везде говорят на всех уровнях: от генерала до наших солдат.
И, как бы между прочим, попросил.
— Моему другу Генри Страху привет от меня, пожалуйста, передайте. И ещё посоветуйте ему много не заливать вина за ворот галстука. Его шутки настолько бессмысленны, что он либо мудрец, либо дурак. Теперь всё наше командование решает, что делать с его подарком. И главное, чтобы не потерять престиж Америки, её лицо. Можете ему передать, что он герой у нас стал, и вы тоже, Лука Васильевич.
Началась погрузка боеприпасов в бронепоезд, провианта и угля для паровоза. Быстро снуют маньчжуры с грузом. Семь потом с их тел сходит.
Хотели наши казаки им помочь в этом деле. Но американцы, сразу же пресекли эту нашу затею.
— Третий сорт они, рабы, пусть работают. Они сами себя делят так, и не наше это дело туда вмешиваться. Всё будет сделано в срок, и даже раньше, а пока вы разрешите своему экипажу отдохнуть от бранных дел.
Столики были накрыты официантками прямо здесь у перрона. Сидят за ними наши казаки с американскими друзьями и цедят вино, а фруктами закусывают. Когда они ещё могли мечтать о таком комфорте. Американцы вовсю веселятся, над нашими казаками потешаются.
— Что же вы, русские герои, так от жизни отстали. Здесь и официантку можно к себе прислонить. И ниже талии погладить. Хоть беленькую красавицу, хоть чёрненькую, а можно и маньчжурочку, или вьетнамочку. Они на работе находятся и должны наших солдат всячески ублажать. Поэтому скандала не будет никакого, здесь всё для отдыха создано.
За отдельным столиком, восседают господа офицеры, вместе с Бодровым.
Кое-кто из американцев, совсем уже расчувствовался и ноги свои на стол положил. Тут же и красавицы норовят на колени присесть.
И даже американский корреспондент появился и защёлкал своим фотоаппаратом.
— Это всё для истории господа! Чтобы не забыли люди, как мы воевали здесь, вместе с русскими казаками, против всякого сброда. Весь земной шар очищали от всякой заразы, себя не жалея.
Когда погрузка была закончена, то Старк с весёлой иронией передал Бодрову пакетик туалетной бумаги.
— Пожалуйста, передайте её от меня моему другу Генри и скажите, что скоро она ему очень пригодится. Наколбасил он здесь дел.
Если что я ему, для его тощего зада, и газету передам. Для лучшего друга ничего не жалко.
Посмеялись они вволю, и как бы ненароком атаман говорит американцу.
— У нас проблемы с боеприпасами для другого нашего, самодельного бронепоезда.
Нельзя ли и его укомплектовать снарядами, патронами, и, если можно, довооружить парой ваших пулемётов.
— Нет проблем! — говорит ему улыбчивый Сэм Гульдин. — Заполните заявку, вот вам готовый бланк. Проставьте там калибр снарядов и патронов. И прописью поставьте количество пулемётов. Я думаю, что для серьёзного дела вам надо хотя бы четыре пулемёта. Подпишитесь: «атаман Чингиз хан Бодров» и этого будет достаточно.
Сделал всё как надо атаман, и ударили они с Сэмом по рукам. Вроде бы всё шутя у них получилось.
А через неделю прилетает опять вестовой из штаба, на взмыленной лошади к атаману.
— Господин атаман, ваша заявка выполнена полностью. И ваш самодельный бронепоезд надо на профилактику к нам на базу ставить, для перевооружения и мелкого ремонта. По плану вся эта работа на три дня потянет, не больше.
Отер Лука папахой свой широкий лоб от появившегося холодного пота, испарины.
— Ну, дела!
— Вам что, очень плохо, господин атаман? — испугался вестовой.
— Нет, ничего, всё нормально! — быстро пришёл в себя атаман.
Но другая весть чуть не добила его своей грандиозной нелепостью и размахом.
— Господина Генри Страха переводят от вас в штаб и награждают его орденом Дружбы Народов, с присвоением ему очередного звания майора.
Все казаки пребывали в шоке. Только сам Генри Страх и его лучший друг Алёша Федоркин были снова на высоте.
Нельзя в человеке мысль убивать, она, как птица, простора желает. И только карты ей этот простор дают и дерзать учат. Запретил им под страхом смерти атаман играть в карты. Боясь, что натренируется Генри, и снова они перепишут бронепоезд на американцев. Их просто не трогали и ни в чём им не мешали, о них забыли, и те жили сами по себе. И даже складывалось впечатление, что война для них уже давно закончилась. Ели они сытно, пили вдоволь, и потом, лениво отдыхая, просвещали себя в политике. Но и тут они как-то ухитрялись проводить свои товарищеские матчи в карты. Но когда всё это случалось, было покрыто мраком.
— Ты сильный и думающий игрок, Алексей. И в Америке ты обязательно был бы богатым человеком.
Но Генри Страх тебе не по зубам. Матч века продолжается, и я снова свободен для творчества.
И я тебе клянусь Алексей, что я тебя в наш штаб заберу. Там у нас будет много интересных встреч.
Они все, мои товарищи, теперь после тренировок с тобой мне не соперники. Вот увидишь, друг, быть мне генералом, если раньше шальная пуля не хлопнет.
А тебя я сделаю своим адъютантом, Алексей. Только китель мне верни, а остальное барахло не обязательно.
Снимает китель Страха казак Федоркин со своих плеч и передаёт американцу.
— Хоть он и прижился на мне, но дружба дороже. Быть тебе, Генри, мой дорогой друг, обязательно генералом. С твоей мудрёной головой ты и большего звания достоин.
И снова едут атаман Бодров и Генри Страх на свою базу к американцам, уже на двух бронепоездах.
Американский бронепоезд ведёт Генри, как в последний пути свой корабль капитан. Он прощается, уже навсегда, со своим детищем. И по этому поводу не смолкают там пушка и пулемёты. Всякая, хоть маломальская цель, движущаяся, или даже ползущая, всё подвергается немедленному уничтожению огнём и свинцом. И у Генри душа болит, ведь человек он творческий. Не только картёжник, но и неплохой ещё художник. И тут у него талант имеется.
Поэтому всё надо сделать, как можно ярче, чтобы каждый эпизод этого исторического прощания был величественным и грандиозным по своей задумке. Тем более, что возможности американцев неисчерпаемы. А насчёт боезапаса, то этот вопрос уже давно решён, всё будет восстановлено на американской базе. Сэм Гульден ждёт их там, не дождётся. Все глаза интендант проглядел. И он хочет уважить обоих героев: и своего старого друга Генри и нового, атамана Бодрова. Постарался товарищ на славу, тут ничего не скажешь.
Грянул медью оркестр, лишь только показались два бронепоезда.
И разрывалась от счастья медь, пока не замер последний шатун в паровозе и он не остановился.
Построились смешанные экипажи двух бронепоездов. И поклонился им Генри Страх. Затем подошёл к своему бронированному паровозу, приложил к его броне свой цветастый платочек и поцеловал его. И тут снова грянул туш герою, под восторженные крики военных двух стран.
— Но и это не всё — кричит довольный Генри Страх.
И он торжественно передаёт символический ключ от своего бронепоезда, уже знаменитому на всю Манчжурию, Чингиз Хану Бодрову. Тут уже все смешались, всем солдатам было не до строя. Он рассыпался, как будто его никогда не существовало. Как весёлый дождик под ярким солнцем.
И казалось ликующим солдатам, в этот добрый миг, что никакой войны не бывает — веселись, честной народ, на весёлом празднике. Чины собрались здесь немалые, даже консул американский приехал. И глупо было бы всё это празднество оставлять без охраны, война уже многому их научила. Посоветовавшись с Генри, решили командиры второй экипаж нашего бронепоезда, который ещё не выпалил в воздух весь свой боезапас, поставить в охранение до следующего дня. Иначе не могло быть на этой коварной войне, и не всё ведь, коту масленица. Но пока везло им, как никогда, все целы были и здоровы. Но могли случиться непредвиденные обстоятельства, ведь война всё же, не мать родная. И баловать их удачей всегда не будет. Надо и самим поостеречься.
Недовольно пороптали служивые, но, получив в руки по бутылке хорошего вина, успокоились. Теперь и этот каприз войны можно весело пережить, доживём до весёлого дня — завтра. Поехали офицеры и американский консул на машинах в местный ресторан. А там их уже с почётом встречают хозяева, как самых дорогих гостей. Тут же и наш российский консул и атаманы Лихов, Копчённый, с генералом Семихватовым.
Сегодня все они почётные гости великого торжества, в честь союза России и Америки.
Никогда не был на таких приёмах и торжествах Лука Васильевич и сразу растерялся. Но Генри Страх был здесь, как рыбка в воде.
Пожалуй, что здесь не было ни одного чина, хоть мало-мальски себя уважающего, с кем он не играл бы в карты. Это уже точно было, как счёт по ушам вести в покере.
Возможно, что Генри и с самим консулом тоже играл, но сами они об этом не распространялись: зачем? Американский консул всех перечислял по их званиям, не забыл представить и знаменитого на всю Манчжурию атамана «Чингиз Хана» Бодрова.
И никто из собравшихся здесь высоких чинов не посмел даже ненароком бросить тень на сказанное представление сотника Бодрова. Всё это воспринималось с торжеством и лёгкой завистью, и не иначе. Смог же человек добиться такого почитания множества народа, и не одной нации, а многих, на этой дикой войне. Не всякому это дано, особенно простому казаку. Состоялось и присвоение звания майора Генри Страху. Конечно, тут не обошлось без иронии, все знали, что никудышный он был службист, но весельчак, повеса и неисправимый картежник.
И как ни странно, все эти, казалось бы, порочащими его качества, на войне придавали ему особое уважение. Наверно, что-то было такое в его характере и поведении, что шло вразрез со всякой логикой, как и на всякой войне. И, как ни странно, это всеми ценилось. Наградили всех наших атаманов и генерала Семихватова орденами «За Дружбу Народов», что было весьма почётно.
Такую международную награду не всякий генерал мог заслужить, и особенно приятно было Луке Бодрову её принять из рук консула.
— Служу Царю нашему и Отечеству!
Отметили так же, что бронепоезд «Чингиз Хан 2», передаётся русским войскам как подарок от непобедимой и могучей Америки. Потому что именно русские, как никто другой, поддерживают её интересы на Дальнем Востоке. И умеют они воевать, как никто другой, надёжней союзника нет!
Русский консул Иванов Сергей Иванович, стройный и энергичный не по своим годам, подсел к Бодрову и поздравил его со столь высокой наградой.
— От всей души поздравляю тебя и желаю здоровья и счастья. И главное, остаться целым и здоровым в этой войне. Много переполоха наделало ваше письмо к самой императрице Цы Си. Поначалу она была в великом гневе на тебя, но потом всё это прошло. И она пожелала узнать кто ты такой, и что из себя представляешь. И она сказала, что очень хотела бы тебя увидеть и поговорить с тобой. Очень негативно представлял тебя Фу То До, он при императрице вращается. И он является одним из руководителей Боксёрского восстания против всех белых людей в Маньчжурии.
Собственно, из-за этого и началась вся эта война.
— Не знал я, что он такая важная птица, а то бы он не ушёл от меня, тогда ещё, в первые дни войны. Вот ведь, как в жизни бывает. И я хочу с ним встретиться и сразиться. Не забыл я, как он ловко своим солдатам головы отделял, мастер своего дела — палач!
— Зато другой полковник, Люй Фэн, тебя очень хвалил, хотя ты его гарнизон разгромил.
Он сказал, что ты благородный человек!
Не сразу нашёлся, что ответить консулу Лука Васильевич.
— Скоро мы будем в на месте там и решим, как нам всем жить дальше, и государствам тоже.
— Мудреный ответ! — изумился Иванов. — Это большого ума стоит, наверное, целой палаты. Так ведь говорят о таких людях, как вы: ума палата! Из какой Амурской станицы вы сами будете, Лука Бодров.
— Из Бабстовской, Сергей Иванович.
Улыбнулся консул, все его зубы были белы и красиво подогнаны друг к другу. Как говорится у казаков, крепкой кости был этот человек.
— Это ещё когда цесаревич Николай Александрович к вам в станицу приезжал и награждал медалями ваших лучших казаков. Кстати там, в списках, тоже Бодров, кажется, Василий, фигурировал.
— Отец это мой, Сергей Иванович, — приободрился Лука.
— За дело он награду получил, честно служил Василий Бодров отчизне нашей. Живота своего не жалея.
Помолчали они ещё немного, и консул вернулся к своей прерванной мысли.
— Кажется, тогда и сложилось весёлое сказание про название вашей станицы. Якобы, Светлейший наследник, спрашивает казаков:
— Чего вам, станичники, для нормальной жизни на этих новых землях не хватает. Чем сможем мы, тем и поможем вам, служивым людям.
— Баб сто нам надо, ваше Сиятельство!
Оттуда и пошло название станицы.
Смеются все гости за столиком, тут уже все равны стали.
— Был такой на Амуре полковник Бабст, командир казачьего батальона. Из высоких офицерских чинов он сам, но герой он, каких мало было на Амуре. И, скорее всего, отсюда историческое название станицы, в честь этого героя. Но народ любит байки говорить до такой степени, что потом они в истину превращаются. Так что и эта версия жива и здравствует поныне, как и сами казаки.
Не долго продолжалось командование бронепоездом, потому что нашлось Луке Бодрову и его разведчикам другое дело.
— Нет тебе равных соперников, дорогой ты наш Чингиз Хан Лука, в разведке и диверсиях. Людей ты таких подготовил, что один твой казак десяти, а может, сотни солдат стоит. Трудно это сразу определить, но в бою им равных нет. Поэтому, у тебя теперь другие, не менее важные задачи будут, чем на бронепоезде ездить. Там ты уже навёл порядок. Но есть задачи, которые только ты и сможешь решить так, чтобы сохранить казацкие жизни и поставленную задачу командования выполнить. Ты у нас один такой, и нет тебе в этом деле равных стратегов.
Смотрит генерал Семихватов на казака, и чувствуется искренность его слов, его душевность. За это качество его души и уважали его одинаково, что казаки, что солдаты.
— Родина у нас одна, и никто кроме нас, её не защитит. И поэтому делить нам нечего, а прятаться мы не привыкли. Мы русские люди.
Вот так, звучали его любимые слова.
Так и продолжалась эта война в Китае, где на коне, где на ногах, а где и на тощем пузе. И все по маньчжурской нищей стороне она со смертью проходила. Так и до их столицы добрались наши доблестные казаки.
Тут сразу же активизировались многочисленные наши союзники. Все они тут как тут, раз такой огромный лакомый кусок хорошо виден стал. И сразу же всем им захотелось оттуда больше кус отхватить. А возможно, что и два, и три, если по зубам не дадут другие, не менее прыткие товарищи.
Но сначала надо было освободить столицу Маньчжурии от разномастных военных группировок. И восставшие не собирались так просто сдавать ее, был среди них патриотизм, и немалый.
Не один раз брал Пекин исторический Чингиз Хан и уничтожал там всё, что можно было уничтожить.
Хотя и защищён город был прекрасно толстыми неприступными стенами. И людей там с избытком было. Но всегда губила защитников их излишняя самоуверенность в неприступности своих стен.
И ещё уверенность их была в мощи своего нового камнемётного оружия. А так же невиданной силы огня, которую маньчжуры с успехом применяли против, как казалось им, диких монголов.
Но только злее становился Чингиз Хан от их непокорности и всё больше потом лютовал в уже захваченном городе. Не спасла Маньчжурию и знаменитая Великая стена, которая должна была защитить страну от злых врагов из степи.
Великий монгол не стал её брать штурмом, а успешно пустил свои конные орды в обход стены. Чем всех маньчжурских стратегов несказанно удивил. А именно своей дикой и хищной простотой мышления и решения, порой неразрешимых для всех задач. И при всём этом, скрытой, особой остротой глубины мышления. И ещё своей быстрой реакцией, так красиво сочетающейся с упорством и выдержкой. Потратил он чуть больше времени, зато сохранил все свои силы для основного удара по живым силам противника. А не по их каменным трущобам, где он, несомненно, увяз бы и в конечном итоге погиб. Таким образом, великий полководец навечно развеял вечный миф о неприступности Великой стены. И самого великого Пекина.
И потому всегда поставляла ему покорённая Маньчжурия в избытке своих воинов и простых рабов. А так же новое, различных видов оружие, в том числе и огненное.
Преуспели они в этом деле, тут ничего не скажешь. Ведь маньчжурам не было равных в мире по изготовлению различных фейерверков и, если можно так сказать, то в том числе и военных. Хотя всё это и странно звучит. Но уже тогда им было под силу шутя сжечь любой осаждённый многотысячный город врага дотла. И устроить невиданный фейерверк, с размахом во всё небо.
В Маньчжурии в избытке находились для этого и подготовленные люди, и технические средства. Чем и не замедлил тогда воспользоваться Великий Чингиз Хан.
И вот снова придвинулись «дикие орды», теперь уже казаков к Пекину. Похоже, что в истории всё повторяется и все её кошмарные ужасы тоже. Даже, как призрак давно умершего Чингиз Хана и его новое пришествие. Не стали русские войска штурмовать укреплённый Пекин, дорого обошлась бы эта вся затея нашим солдатам и казакам. И что самое страшное, большой кровью.
Сунулись, было, и наши союзники туда, но маньчжуры столько солдат их там положили, что у них сразу же пропала охота туда лезть первыми. В этот гиблый, для них, каменный мешок, хотя приманка того стоила. На их общем совете решено было это почётное право предоставить русским войскам. А сами союзники, потом уже, поддержат их начатое наступление. Как говорится у русских, дорога будет ложка к обеду. Вот так и получается, что испоганили они весь смысл русской пословицы, но сами, при всём этом, остались чистыми. Предложил тогда Лука Бодров нашим атаманам и генералам не лезть в город со своей конницей, в этот каменный мешок. А скорее перекрыть оттуда все ходы-выходы, да понадёжней. И терпеливо ждать, пока там начнёт иссякать провиант, и среди жителей города начнётся голодный ропот. Вот тогда и возникнет открытое недовольство властями и самой императрицей, что для неё пострашнее всякого штурма будет. Ведь там, в городе, столько различных партий и течений обитает, что они не замедлят этим воспользоваться, чтобы сместить её с престола. И снова может вспыхнуть новое восстание в Китае, теперь уже против своего правительства, и конкретно против самой императрицы Цы Си.
— А чтобы ускорить весь этот процесс и не давать маньчжурам покоя, мы всё это ускорим, ночными вылазками и диверсиями. И я думаю, что город будет нам сдан раньше, чем начнётся там новое восстание. И, по возможности, подключить к этой тактике союзников.
— Ты — голова, Лука Васильевич, значит тебе и действовать, — решили командиры, — как говорится, тебе и карты в руки.
Немедленно были созданы многочисленные диверсионные группы из Амурских и Забайкальских казаков. Которые могли и имели такой опыт работы и действовали независимо друг от друга. И особенно в ночных условиях. Ядром этого летучего отряда оставалась сотня Бодрова. Которая только этим делом диверсий и разведки и занималась всю эту войну.
Теперь не стало покоя жителям Пекина, ни днём ни ночью. Горели их склады с провизией, артиллерийские склады, и всё, что могло гореть.
И так продолжалось изо дня в день, и уже задыхался город. Невиданный ужас охватывал столицу, что гигантский осьминог своими щупальцами. Никогда прежде не видели жители города кого-либо из Забайкальских казаков. Черны они были и скуласты, совсем, как монголы Чингиз Хана. Потому что предки этих казаков когда-то всё Забайкалье завоевали, родную вотчину Великого воителя. Перемешались там русские казаки с местными народами монгольского типа. И стали казаки сами мало похожими на русских. Их так и звали теперь сами же казаки гуранами, как и раньше называли их предков Забайкальцев. Хотя справедливости ради отметить, что и среди Амурских казаков таких гуранов было немало, чёрных, как головешки. Потому что и на Амур тоже первыми пришли Забайкальские казаки и поселились там. От них и пошли Амурские казаки. И вот, видят маньчжуры сквозь сон такую страшную и окровавленную монгольскую рожу, да ещё с ножом в руке, и ужас охватывает их души. Сам Чингиз Хан к ним в гости с окровавленным ножом приходил, по их душу старался. Вот такой он! И стала эта молва разрастаться до великого ужаса, который цепко, как живой спрут, охватил весь город. Через неделю в городе начали заканчиваться продукты и начались серьёзные волнения. Не хотели горожане войны и не хотели в ней зря гибнуть, да ещё голодной смертью.
А через пару недель активной диверсионной войны в осаждённом городе началась паника. Перестрелка между группировками не смолкала ни на минуту. И правительственные войска вынуждены были сконцентрировать многие свои силы на охране Императорского дворца. Но накал страстей всё нарастал, как в бушующем вулкане энергия, и взрыв народного недовольства должен был грянуть с минуту на минуту. И он грянул, как страшный гром, против своего правительства. Правительственные войска были деморализованы. Казаки ждали этого момента во всеоружии. И, как только настал этот момент, конные лавины в утреннем полумраке устремились в заранее подготовленные проходы в город.
Теперь им был не страшен этот каменный мешок-ловушка для их быстрой конницы. Эти демоны-казаки проносились с гиканьем и, парализующим волю ещё сонных горожан, разбойничьим свистом. По всем его улицам, из одного конца города в другой. И даже стоя в своих сёдлах. Среди незатухающих пожаров в городе, они метались, как слуги ужаса, в отблесках ликующего пламени. С лучами восходящего солнца казаки освободили дворец императрицы от разного людского сброда, упорно жаждущих смерти своей императрице, как виновнице всех их бед и страданий. Но были здесь и зачинщики, которые сейчас постарались остаться в тени.
Первым, кого увидела Императрица Цы Си, был её избавитель от явной смерти Чингиз Хан Бодров. Без такой приставки к фамилии, всё это, её удивительное спасения, не стоило бы выеденного куриного яйца. Как он обещал, так и сделал. Теперь он в Пекине, и ни одно его слово не разошлось с делом. Не меньше его была изумлена и императрица.
— Вы и есть тот самый Бодров, я очень много о вас была ещё раньше наслышана.
И тут Лука замечает в её напуганной свите Фу То До.
— Наверно, от этого коварного полковника, по которому уже давно петля плачет.
— И от него тоже, — парировала атаману, оправившаяся от испуга императрица. — Я даже слышала, что вы обещали его вызвать на поединок, и убить там. Только зря вы так, господин Бодров, это лучший боец в Китае. И вам может стоить этот вызов вашей доблестной жизни. Мне ничего не стоит всё уладить мирным путём, и Фу То До попросит у вас прощения, если не умрёт раньше. Императрица всегда представляла себе именно таким Бодрова: красивым, благородным и бесшабашным, не боящегося никого на свете. И даже своего лучшего мастера, учителя целой школы искусных бойцов наивысшего класса.
— Нет! В любом случае наш поединок состоится, — возразил атаман.
— Всегда рад вам услужить! — рассмеялся полковник.
Он не был напуган и был очень уверен в себе и в своём превосходстве над казаком-самозванцем.
— Я очень устала от всего пережитого ужаса, этой страшной ночи, и ещё более безумного утра. Мне надо отдохнуть немного и оправиться от полученного потрясения, ведь я уже не молодая девица. Сегодня все государственные дела будут вести мои секретари и генералы. А завтра с утра я буду сама решать вопрос о выходе Маньчжурии из этой бесславной для нее войны.
Так и передайте своим начальникам, уважаемый Чингиз Хан. Не надо было Маньчжурии воевать с русскими. Вы правы были в своём письме, что нам, двум великим державам надо всегда жить в мире.
И ещё одна просьба к вам, обеспечьте меня своей надежной охраной из ваших казаков. Это моя единственная просьба, потому что своим телохранителям я уже не могу доверять.
И вот этот символический ключ от города я передаю вам, русским, а не вашим никчемным союзникам. И именно вам его вручаю, потому что достойнее вас нет сейчас человека.
— На пост начальника вашей охраны я могу порекомендовать вам Люй Фэна, я видел его в вашей свите. Он достойный человек и очень честный, не подведёт вас.
Императрица слабо улыбнулась, и удалилась на отдых.
— Фу То До, будет у вас для связи со мной.
Они очень хорошо говорили на русском языке, даже для многих русских людей хорошо, наверно много учились тому.
Вскоре прибыли в императорский дворец казачьи атаманы Лютов и Копчённый с генералом Семихватовым.
Вокруг дворца ещё шли уличные мелкие бои, которые постепенно всё затихали и отдалялись.
Передал им Бодров символический ключ от города. И вкратце поведал о своём разговоре с императрицей. И ещё о её просьбе, об усиленной охране дворца нашими казаками.
Удивились ценному ключу наши военноначальники.
— Ну, ты Лука, нас и здесь переплюнул, тебе уже целые города сдают. Вот и организовывай сам охрану своей императрицы, как того ты сам желаешь. Опыт у тебя есть немалый. А мы пока будем своих союзников встречать. Наверно, и они уже сюда с оглядкой трусят. Весь дворец окружили казаки своей надёжной охраной. А покои императрицы охраняла избранная сотня Бодрова. Полковнику Фу То До атаман запретил заходить к императрице, и вообще выселил его из дворца.
— Завтра к обеду придёшь на прием к своей императрице, цела она будет, я за это ручаюсь. А пока уходи с глаз моих подальше, а то сам знаешь, как я к извергам отношусь.
Передёрнулся полковник, но ничего не ответил Бодрову.
— Посмотрим, как ты императрицу охранять будешь, — размышлял полковник. — Это тебе не пьяной сотней казаков руководить.
С наступлением сумерек усилили охрану царицы. Возникали стычки с наемниками, пытающимися проникнуть в покои. Не зная уровня подготовки наших казаков, свои способности они знали отлично. Но не везло им сегодня, ломают их казаки, как сухой тростник и под ноги себе бросают. Корчатся убийцы в предсмертных судорогах, пачкают кровью дворцовые покои. Но желающих добраться до покоев императрицы не убывает.
К утру несколько десятков убийц были обезврежены и уничтожены, без всякой жалости. Лучшие из лучших бойцов. Значимые люди всего боксёрского восстания в Маньчжурии против белых завоевателей. Помрачнело лицо Императрицы, среди уничтоженных убийц многих она знала лично. Это были ученики Фу То До. Все они знатные мастера боевых единоборств, оттого и название — боксёрское восстание, как окрестили его союзники. Вскоре появился и Фу То До, при виде убитых своих и чужих бойцов ему действительно чуть не стало плохо. И как он не старался все свои чувства скрыть, ему это плохо удавалось.
— И всё это вы сделали? — только и нашёлся, что спросить он Бодрова.
— Не один я старался, друзья помогли!
— Но это же лучшие бойцы в Маньчжурии и за ее пределами. Неужели ваши казаки лучше моих, лучших из лучших бойцов.
— Вы учёный человек, Фу То До, и должны прекрасно знать, что история нашего государства, это бесконечные войны. А казаки, её капризные, но любимые дети, которых она только для своей славы растила. Поэтому у такого народа не может не быть своих боевых приёмов, и целой их системы, как надо побеждать врага. Вы уже сами в этом убедились.
Вмешалась Императрица Цы Си, сегодня она уже держалась с достоинством, как и подобает Великой и Солнцеподобной.
— Я очень огорчена твоим предательством, дорогой мой полковник. Но сейчас у меня нет даже людей, которые могли бы тебя наказать. Наверно и во всём Маньчжурии тоже нет.
Остаётся вся надежда на Бодрова, теперь он самый преданный мне человек, как это не странно звучит, во всём моём несчастном государстве. Я назначаю ваш поединок на утро завтрашнего дня, и не позже. Чтобы твоя продажная душа, Фу То До, успела с уходящей утренней росой закатиться под бесславный урез твоей жизни. Может ей там лучше будет, обманывать там она уже точно никого не сможет. Больше я ничего не могу сделать для тебя, мой «надёжный и неподкупный» начальник охраны. Мне стыдно за тебя! И ты моей царской крови захотел?
Но тут вмешался Лука Бодров, и у него была просьба к Императрице Цы Си.
— В моём отряде есть священник Чёрный Никодим.
Он прошёл всю эту войну вместе со всеми казаками, и всю войну воевал как казак, и ещё на своём поприще успевал проповедовать. Святой он человек, потому что никогда не искал лёгких путей в жизни. И других казаков тому же учил своим доблестным примером.
Его отца Баху коварно убили два ваших тайных монаха. Они секретные убийцы-наёмники, самые беспощадные убийцы по своему назначению. Их здесь у вас целая школа есть, и как они говорят о себе, лучшая в мире.
Баха тоже был учеником этой школы, но разочаровался в её людях и её законах. Он в конечном итоге, после своих душевных колебаний и долгих размышлений, принял нашу Христианскую веру.
И уже самоотверженно проповедовал свою новую веру по всему побережью Амура среди живущих там местных народов. Потому что нашёл истинное предназначении в этой жизни. Не может руководитель этой школы убийц не принять вызов своего кровного должника. Тут вся честь его школы и её славы задета.
Вышел из рядов казаков и сам Никодим Чёрный. Одет он был как монах проповедник, с крестом и при казацком оружии. Он с достоинством поклонился Императрице Цы Си. И задержался на миг, с уважением к её Высочайшей Особе, в почтенном поклоне.
— Я прошу, Ваше Величество, не отказывать мне в моей просьбе, это дело принципа. Теперь я уже нахожусь у цели, к которой шёл всю свою жизнь. отомстить за отца, его подлое убийство.
— Фу То До, ты сможешь договориться о завтрашнем поединке этого проповедника, с начальником нашей таинственной школы убийц.
— Да, ваша Светлость, завтра он будет здесь на поединке, это дело его чести и всей его школы. Они никогда не оставляют своих следов, не пачкают свою репутацию, а тут? Так что можете не сомневаться, что он прибежит сюда, а не просто придёт.
— Теперь меня ждут государственные дела, и я покидаю вас господа. У моего многострадальной Маньчжурии и у меня сегодня трудный день, надо подписать протокол о нашем выходе из этой войны.
Удалилась императрица по своим делам и другие люди тоже стали потихоньку расходиться.
На восходе солнца, как и было обещано мятежному полковнику, на главной площади Пекина собрались огромные толпы народа. Все они желали победы своим бойцам.
И маньчжуры тоже волновались за своих бойцов. Были здесь и наши доблестные союзники, которые тоже хотели себя показать в борьбе, и именно в боксе. Именно в цивилизованном виде спорта и, конечно, самом престижном для них.
Спонтанно сходились бойцы в рукопашном поединке, но ни один союзник не продержался и одной минуты в этом бою с маньчжурами.
Вся их хвалёная техника спорта ничего не стоила перед непонятной и дикой восточной техникой. И всё это радовало маньчжурских зрителей, которые, не стесняясь иностранцев, громкими торжественными восклицаниями изливали свои чувства бойцам.
В сопровождении своей свиты появилась Императрица Цы Си, и на площади наступила полная тишина. Казалось, что сама природа замерла в ожидании слов повелительницы.
— Фу То До я вам представлять не буду, потому что вы все его хорошо знаете, вся наша страна. Знаете вы и другого бойца, это, не менее знаменитый во всём Китае, Чингиз Хан Бодров. Личность очень сильная, как политик и воин, и непредсказуемая, как хищник в атаке.
Притихла вся многотысячная площадь от такого представления императрицы и наступила жуткая тишина. Такая, что и полёт мухи можно было проследить не сходя с места.
Неужели это тот самый злодей и, в тоже время, благородный герой, трагедия наших военных и спаситель всей Маньчжурии.
Не одну тысячу жизней он спас, стариков, женщин и детей. Он не воевал с ними, и они знали об этом. Но был жесток и беспощаден только к своим врагам, и это тоже ценилось здесь на Востоке.
И чувства горожан невольно разделились.
Не ожидали они так близко его увидеть этого героя войны, да ещё со знаменитым маньчжурским бойцом в поединке.
— Фу То До предал меня, и он хотел моей смерти — сказала императрица.
Теперь у него нет своей школы, все его бойцы полегли у моих покоев, так и не убив меня.
Спас меня от неминуемой смерти этот благородный человек, атаман и его казаки. Только им я обязана тем, что сейчас стою перед вами живой и здоровой.
Возглас удивления и невольного одобрения нарастал в воздухе, пока не разразился громом оваций.
— Хао Чингиз Хан! Хао! — Хорошо! — по-нашему.
— Фу То До осуждён мной на смерть, — продолжила свою речь императрица.
Я сказала уже себе, что он должен будет умереть раньше, чем роса испарится с растений. И я, как ни странно, верю в победу русского казака. Но у них свои давние счёты, и это их честный поединок, и я на него никак не влияю.
И всё же я, как императрица, не желаю смерти своему несостоявшемуся убийце. Я желаю почётной победы атаману Бодрову.
И маньчжурский народ замер, как мудрая осенняя листва, уже увенчанная золотом жизни перед первым снегом. Оттого притих народ, что всё это было так неожиданно.
Она очень уважительно назвала по имени русского казака. Совсем, как родного человека, такой почёт ему оказала! Бой начался, и без всяких проверок боевых возможностей друг друга.
Ярость ослепляла разум бойцов, так они жаждали этой встречи и, наконец-то, дождались её.
И блистали их сабли, что молнии на утреннем небе. Хотя ничего в природе не предвещало дождя или другой обычной легкой драмы.
Но эти странные люди по-своему распорядились радостным и чудесным утром. Они ждали большой крови, как хищники. А бойцы с яростью желали сокрушить ненавистного врага. Всё время опережал Лука Бодров маньчжура, мастера высокого класса, в любой его задумке. И это удивляло Фу То До, он никогда не встречал такой необычной техники боя и, несомненно, это было незнакомое ему искусство.
Он уже отчётливо понимал, что этот бой будет им проигран. И злость его искала выхода, потому что его противник был неуязвим для его мысли и оружия.
— Я очень жалею сейчас, что тогда промахнулся, в горящем городе, когда стрелял в тебя. Тогда не было бы этого позорного для меня боя.
— Это должно было случиться, и ты знал это. Но я готов тебе помочь в том, чтобы ты сам убедился в совершенстве нашей, русской манере ведения боя перед вашей, очень артистичной восточной манерой.
И неожиданно для всех Бодров воткнул свою шашку в землю.
— Теперь я более доступен тебе для убийства, ты можешь постараться это сделать.
Замерла вся площадь в тягостном недоумении, неужели этот казак такой безумец, или не понимает он, что имеет дело с великим мастером. Ведь именно он подбивал всех в городе, учеников различных школ, на восстание против иноземцев. Авторитет его мастерства непомерно высок не только среди горожан, но и среди, авторитетных людей города, и самой императрицы. Ожил Фу То До, и в его глазах, появилась звериная искорка надежды на собственное спасение. Он яростно набросился на противника, и казалось, что от его меча вряд ли кто сможет спастись. Но Лука Бодров не только ловко уклонялся от оружия врага. Но в один удобный момент нанёс ему тяжелый и сокрушительный удар в голову своим мощным кулаком, как кувалдой. Тихо охнул маньчжурский боец и мешком осел на землю. Вряд ли, чтобы он смог что-то запомнить со всего происходящего с ним казуса. Бросились поднимать Фу То До его поклонники своего недавнего кумира. Но Алексей Федоркин их огорошил своей одной убийственной фразой.
— Можете зря не беспокоиться, господа! Лука Бодров одним ударом кулака быка с ног валит.
И чтобы было зрителям наиболее понятно, приставил рога к своей голове и внятно произнёс:
— М-у-у! М-у-у!
Затем казак закатил свои красивые глаза в мохнатых длинных ресницах и артистично опустился на колени и показал, как далее будет падать бык на землю.
Шорохом среди всей тяжёлой тишины пронеслось удивление народа, и также неожиданно всё стихло.
— Он мёртв! — объявил слуга императрице.
Та нисколько не огорчилась, как будто ничего тут дивного и не произошло.
— Все школы боевых искусств с сегодняшнего дня я распускаю, как не оправдавшие надежд нашего народа. Я лишаю их всякой рекламы и помещений. Пусть теперь они занимаются по подвалам и сараям, как они это делали раньше.
Теперь очередь дошла да Никодима Чёрного, он так и оставался в своей монашеской одежде. Его соперник всё время держался в тени, и лицо его всё время ускользало от чужих лишних взоров. Он также был одет как монах, и не торопился разоблачаться из своих одежд.
Наконец-то они сошлись для выяснения своих личностей, и всей тяжести возложенных на них задач прошедшим временем.
— По тайному знаку, которые знаем только мы монахи-демоны, я понял, что ты знаешь всю нашу логику поведения. И даже получается, что ты наш человек, ты им прекрасно пользуешься, этим тайным знаком. Но с другой стороны, ты только за одно это должен умереть.
И дальше наставник, продолжил свою речь, уже совсем спокойно.
— Я верю тебе, что ты сын ненавистного нам Бахи.
Но именно поэтому ты удостоен второй раз позорной смерти, как и твой отец, хотя тебе и одного раза достаточно.
— Докажи, что ты начальник этой школы, а не простой монах? — спросил его Никодим.
Тот отделился на какое-то время от земли и приблизился, как бы паря в воздухе, к Никодиму.
— Такого совершенства не знал твой отец, и ты тоже этого не знаешь, и никто не знает. Таких, как я мастеров во всём Тибете несколько человек есть, не более.
Улыбнулся ему Никодим, и взял у слуги кувшин с водой.
Так же воспарил он в воздухе, не касаясь земли, навстречу таинственному монаху незнакомцу. Затем протянул ему кувшин с водой в его руки.
— Лей!
Льётся вода из кувшина на ладошки Никодима и не стекает на землю, а облачком зависает в его руках. Поднял он это радужное и невообразимое по своей красоте, играющее в лучах утреннего солнца, чудное облако над своей головой. И оно, это облако, величественно задвигалось над ним, а затем переместилось в сторону изумлённого монаха-убийцы. Оно двигалось, восторгая всех зрителей своей лёгкостью и построением своей формы. Отчётливо просматривался там, в этом живом и ярком облаке, постоянно льющийся сыпучий каскад живых капель воды.
Как бы и сейчас живущих своей прежней жизнью. Как и было всё первоначально, когда вода только лилась из кувшина на руки священнику. Оставалось для всех зрителей мудрёной загадкой, как эта вода, в виде чудного по своей красоте облака, ещё не пролилась на землю. Ведь она лилась там! Похоже, было, что время было подвластно Никодиму. И он сумел остановить его. И даже, как ни странно, ловко властвовать им. Обрушилась вся эта красота стройным каскадом брызг на изумлённого монаха уже простой и мокрой водой. Тот не смог произнести даже малейшего звука. Он всё думал о том, как такое могло произойти в природе и не понимал ничего. Очень тяжёлой была для него легко разрешимая со стороны задача.
Вся площадь разразилась неудержимым смехом. Монах был мокр, как курица, и выглядел очень нелепо. Но он всё ещё пребывал в том времени, когда вода только должна была пролиться сразу из кувшина. Получалось, что все его действия тоже на какое-то время запаздывали вместе с вылитой сейчас на него водой.
— Ты можешь быть учителем всей моей школы после моей смерти, конечно, если такое случится сегодня. Ты достойный преемник этого высокого звания. Ты сегодня удивил меня, и, причём, очень серьёзно.
В разных сторонах площади послышались странные звуки и они как бы подтверждали правильность решения своего начальника. Но кто стоял за ними, никто так и не понял.
Были здесь люди учителя и они одобрили его слова. Но сами при этом, как всегда, остались в тени.
Может наставник школы надеялся на хороший для него исход поединка, и как бы подкупал Никодима этим своим заявлением.
Всё так и осталось тайной. Достал священник свой свёрток, который принёс сюда с собой и развернул его. Там покоился меч его отца, и люди сразу же узнали его. Те, кто и должен был это знать, это был меч Бахи. Другим оружием монахи никогда не пользовались, только такими мечами.
И сам наставник теперь понял, что боя ему не миновать, много было крови на этом мече, и всё было, как никогда очень серьёзно.
Он превзошёл себя в этом бою, и можно сказать, что блистал там, если бы всё же не проигрывал Никодиму.
И в самой технике боя проигрывал, и по другим духовным параметрам. Но большего он сделать не мог, это было выше его сил. Его победила другая школа боя, и именно Ивана Чёрного-Бахи.
И в итоге он сдался на милость победителя, и теперь, смиренно, как ягнёнок, на коленях ждал своей участи. Не стал его добивать Никодим, не мог он это сделать, выше всех его человеческих сил было это сотворить. Каждая минута этого позора наставника целой школы наёмных убийц становилась несмываемым пятном для всей школы. И это всеми ощутимое, но невидимое пятно, всё ширилось, и уже могло предвещать великую катастрофу. И всё же, последний миг, когда все могло быть сделано в допустимых рамках, не был утерян. Из толпы зрителей выскочил какой-то быстрый и очень блеклый для людского глаза человек. Никто потом так и не сумел его хоть как-то толком описать. Как молния сверкнул его маленький серебряный кинжал сверху вниз и поразил родничок наставника. И тот рухнул с колен, как подрубленный.
Всё стало на свои законные места. И этот человек-молния уже мог претендовать на столь высокий пост вместо Никодима. Сейчас он с честью выполнил весь положенный для этого этикет.
Вся площадь находилась в гнетущей тишине. И если бы где-то вблизи их, воспользовавшись всей гнетущей тишиной, тоненько не запела птичка, то люди ещё долго не смогли бы выйти со всего этого мощного транса увиденного, в плену которого они сейчас находились. Это утро заканчивалось, совершенно, по всем своим законам, не оглядываясь на безумных людей.
Был здесь на площади и русский консул Иванов Сергей Иванович. Он был изумлён всем происходящим на площади, такого мастерства ведения боя он за всю свою жизнь не видел ни разу.
— Я хочу именно здесь вручить правительственные награды Луке Бодрову, и Никодиму Чёрному. Они герои, которых немало в России, но они ещё и её восхитительные дети. Славящие свою Отчизну, среди других народов мира. И весь мир ими всеми восторгается! Ибо всё это гармоничное совершенство с природой: Мать-Отчизна, и дети-герои.
С уважением и радостью приколол он на могучую грудь Георгиевский крест Луке Бодрову.
— Служу Царю и Отечеству!
Потом на его грудь добавились медали за Оборону Благовещенска, за поход в Маньчжурию 1900 г., за Отличную службу.
Тут и Императрица Цы Си постаралась, приколола ему на грудь свой орден Дружбы Народов.
— Ты заслужил эту награду Лука Бодров! Ты очень добрый и прекрасный человек, а о Чингизе Хане Бодрове пусть спорят историки: где он прав был, а где был неправ. Но это война, и не ты её затеял, и один из зачинщиков уже мёртв. Ты герой, каких редко рождает Вселенная!
И императрица, можно сказать, что озорно, и совсем по-доброму, поцеловала Луку в его колючую щёку.
Сейчас и она была молодая и красивая, как прежде, но это всего лишь чарующий миг уходящей осени. Награждён был орденом и медалями Никодим Иванович Чёрный. И его удостоила своей награды Маньчжурская Императрица Цы Си. И чем восторженно удивила всех людей, то это тем, что не пренебрегла духовным саном Никодима и поклонилась ему.
И он, по-отечески, осенил её крестным знаменем. Пожелал ей доброго здоровья и долгих лет царствования, без всякой войны с Россией.
— Нам, двум Великим державам, России и Маньчжурии надо в мире жить и согласии, как добрым соседям, тогда и врагов у нас не будет.
Вся сотня Луки Бодрова была награждена орденами и медалями. Более десяти человек казаков получили Святые Георгиевские Кресты: высшею награду нашего Российского государства.
Среди них были и Шохирев Василий, и, как ни странно, Федоркин Алексей. За что наградили Алексея, казакам до сих пор до конца не было понятным. Ну, пьёт человек хорошо и дружит с разными народами. Так ему и одного ордена за глаза достаточно. А тут и от американцев награды. И от маньчжуров. И от наших русских генералов, и всё за дружбу народов. И ещё Святого Георгия дали!
Бывает же такое, хоть грудь ему расширяй, а то места не хватит там, куда награды вешать.
— Прямо живой иконостас получается, а не наш Федоркин. И никогда его грустным не увидишь, или балагурит, или навеселе уже, или то и другое вместе. И всё же герой он, хотя и совсем необычный!
— И меня наградили медалями, — рассказывает Григорий Лукич.
Хоть и мал я был, но от трудных дел никогда не увиливал, и от пуль не прятался, и казаки видели и ценили это. Восхищались мною казачьи атаманы, и пророчили мне большое будущее, и по-отечески целовали.
— Береги себя сынок, рано ты на войну пошёл: страшная это штука, кровь человечью проливать. Тебе Героя надо дать сейчас, но нет у нас такого права. Всё ещё будет у тебя, и жизнь твоя продолжается. И не понимал я тогда, почему наворачиваются слёзы у этих могучих и добрых людей, и почему они прячут их от меня. Они уже через многое прошли в этой жизни и жалели меня, как своего сына.
Хапал, как акула, награды себе штабной прыщ полковник Тряпицин Лев Гордеевич, как голодный хищник, без разбора и без всякой совести.
Имел он там где-то наверху мохнатую лапу. И многое ему сходило с рук, что другим никогда не прощалось. Против всех моих наград он был, этот полковник, и вообще против всякого моего награждения.
— Мал он ещё!
Не понимал он, или делал вид, что не понимает, как уничтожает моё, ещё детское самолюбие. Но я ведь награды заслужил наравне с другими казаками, и оттого во много раз мне обидней было.
— Совесть, поимей полковник! — урезонил его Семихватов и наши атаманы. — Не часто ты сам под пулями бываешь, а всё над штабными бумагами потеешь. А этот мальчишка из одного боя в другой идёт, без всякого отдыха воюет.
Зло сверкнул своими бешеными глазами полковник Тряпицин, не по его нраву всё сейчас получилось.
Но тут и императрица Цы Си добила его окончательно своей категоричностью.
— Этот полковник чем-то моего Фу То До напоминает, наверно они одного поля ягодка.
Не посмел Тряпицин дерзить императрице и предпочёл поскорее исчезнуть с её и наших глаз. Но зло неоправданное он на меня, затаил немалое.
Недолго будут воевать бронепоезда «Чингиз Хан 1» и «Чингиз Хан 2», слава и гордость всей Манчжурии.
Другого выхода в той ситуации не было, и солдаты плакали тогда, как по живым людям. Говорят, что и железо плачет — можно в это поверить. Одна война сменилась другой и почти без всякого перекура или отдыха. Но сейчас казаки возвращались с победой домой и ничто не могло испортить им этого великого праздника.
В плену страны восходящего солнца
— Я уже рассказывал о нашем поражении в Русско-Японской войне всей нашей армии, и о своём плене. И вот снова возвращаюсь к той незабываемой теме, — продолжает дедушка Григорий Лукич.
Возили нас с Шохиревым из города в город по госпиталям, пока не вылечили. Вот тогда и нам жить захотелось, красота ведь кругом неописуемая! Но однажды в палату приходит делегация из Красного Креста. И меня спрашивают:
— Ты Бодров Григорий? Мы тебя давно ищем. Тебя большие люди хотят видеть. Оцень хоросё, что ты жив!
Переодели меня во всё чистое и в новый костюм обрядили. Но прежде на совесть побрили и подстригли волосы, подрезали ногти.
Так и крутятся возле меня чужие служанки. Без всякого стеснения со мной, что с игрушкой обходятся. То нарядят меня, то опять что-то новое придумают, и тут же по-другому делают. И весело им самим необычайно. А сами они, что вишенки сочные. Хорошеют ещё больше, румянцем, от жару внутреннего, наливаются. И здесь природа берёт потихоньку своё, война войной, а красота всегда мудрее нас. Она настоящей любви требует.
— Оцень красивый русский касак. Девушку тебе надо, выбирай смелее! — веселятся японские хохотушки, но нашим матрёшкам они не чета.
— Кто из нас самая красивая? — спрашивают они меня. — Погляди харасё.
А они действительно, одна лучше другой. Но душе не прикажешь, ей своего счастья хочется, то, что ей и предназначено. Это — судьбой называется.
— Оцень, сердитый казак, губки свои надул.
И показывает эта японская куколка, как надулся Бодров, и как некрасивый стал. Совсем, как хомяк.
Тут и Шохирев начал смеяться.
— Выбирай Григорий. Они сами, с тебя глаз не сводят. Ты, смотри там, Гриша, в городе — оглядывайся. Может, что дельное уразумеешь. Гляди больше и запоминай — всё пригодится. Чай не во дворец едешь. Может, из плена рванём и мы на свободу.
И литое тело казака содрогнулось, как от боли.
— Жить без войны, ой, как захотелось, Григорий, если бы ты, только знал.
Как всем нормальным людям жить — жить, любить и детей растить.
А меня действительно привезли во дворец. Мог ли я подумать, что такое увижу, да ещё наяву. Тут тебе и фонтаны с рыбками, и сады с разной дивной растительностью. И птицы райские гуляют, как у себя дома.
И никак я не докумекаю своей буйной головой, зачем меня во дворец привезли. Ведь не на казнь же, и не на житьё определять. Зачем?
И тут я увидел в беседке знакомое лицо. Но вспомнить его сразу не смог.
Седой и пожилой человек, но, похоже, что ещё очень сильный, смотрел на меня в упор. Странный и непонятный человек, но полный внутренней энергии и обаяния. И глаза его были добры ко мне, а губы чуть улыбались. Но и тут чувствовалась его внутренняя сила духа. Не могу вспомнить, где его видел.
— Руби, Бодров, уходить пора! — чисто по-русски высказался незнакомец.
Я невольно опустился в кресло возле столика. Неужели полковник, из штаба?
Точно, это был он! Только без сабли сейчас, и не так бледно было его лицо, как тогда, в штабе.
Слуга тут же подал мне отделанный золотом бокал с искристым янтарным вином.
— Пей, Бодров! Ты хороший казак и две высшие награды имеешь. Но ты тем и хорош, что не успел огрубеть душой на этой войне.
У тебя вся жизнь впереди, и тебе жить надо! Ты молод ещё.
Тут слуга приносит дедовскую саблю.
— Узнаёшь?
У меня слёзы навернулись на глазах — она! Предание нашей доблести и казачьей славы Бодровых.
— Мне рассказывал мой дед, как он подарил её, наверно вашему отцу?
Полковник слегка кивнул своей гордой головой, и, как отчеканил:
— Да! Ваш дед очень благородно поступил, как истинный самурай. Ему не нужна была смерть моего отца. Он ничем не унизил его, хотя и победил в честном бою.
Мой отец, не зря называл его своим старшим братом. Значит, у него были на то веские основания. Только честь и доблесть твоего деда послужили поводом для этого. И я должен всю свою жизнь придерживаться жизненной линии своего отца, иначе плохим я буду сыном. А это позор для самурая, и хуже всякого наказания, и даже самой смерти. И ты тоже мог убить меня в последнем бою, хотя и не победил. Но сама судьба так распорядилась, чтобы моя жизнь полностью зависела от тебя. И она отдала тебе ту победу, а мне подарила жизнь. Значит, так велено было свыше. И я не могу спорить с этим прекрасным решением. Судьба всегда была права!
Пригубил полковник своё вино и на стол поставил. Ему надо было высказаться и избавиться от груза дум, тяготивших его, он мечтал об этой встрече.
— Мой отец — двоюродный брат Микадо, и он не мог быть императором. Так как отец присягал ему честно служить на благо Японии и не претендовать на трон. Этого от него требовала вся элита Японии, чтобы избежать кровопролития и вражды внутри страны. И тем самым не разрушить устои Империи.
Отец стал военным, и никогда не кичился своим родством с императором. Наоборот, он всецело отдался служению Японии. А чтобы быть ещё ближе к народу и понять его, стал кадровым разведчиком и много жил среди простых людей, учился у них обычной жизни. Ведь вся мудрость жизни в её простоте, поэтому мы и красоту видим и ценим её.
Он был очень умён и очень честен, и никогда бы не нарушил данного им слова. Когда он встретился с русскими и понял их, он уже не хотел воевать с ними. Но данное слово честно служить императору сдерживало его от этого прямого высказывания. Когда император неожиданно умер и его место занял второй брат, то чтобы не присягать, также унизительно, служить и ему и избежать его глупых ошибок, в отношении с Россией, он и сделал себе харакири.
Тогда у него уже был выбор, он освободился от данной присяги умершему императору. И его гордость не позволяла повторить всю процедуру унижения и повиновения своей личности ради чуждого трона.
А тут, интересы России и Японии окончательно разошлись. А американцы, англичане и французы усилили влияние на Японию. Опять удар для чести опального полковника!
Волею всей судьбы мой отец тогда оказался не у дел. И даже больше — в немилости у императора и его военного окружения. Так как он всегда делал ставку на мощь России и сближение наших имперских интересов. Круг замкнулся. «Без меча твой враг тебе уже друг! Не убивай его!» Это мудрое изречение моего отца. «И тогда ты богатым будешь, и долго жить будешь! И счастливым будешь!» Так завещал мой отец.
Лицо японца было поистине счастливым и одухотворённым. Совсем, как у святого, после всех перенесённых им душевных трудностей и борьбы с самим собой.
Сейчас, он свят в своих делах и помыслах. Ведь он выполняет волю своего отца.
А я продолжал осмысливать происходящее. Похоже, что он всю свою жизнь идет дорогой своего отца и учителя, и тут не ошибся я. Идёт указанной ему правильной дорогой отца! И его внутренняя борьба сейчас окончательно закончилась. И тому есть подтверждение и, наверно, триумф — это я на пороге его дома. И японец подтвердил мои мысли.
— Я сегодня счастлив по воле своего отца и его мудрости. Он помог мне найти себя и не допустил новых, досадных ошибок в моей жизни.
И уважаемый господин Тарада с почтением склонил передо мной свою седую красивую голову:
— Спасибо, Григорий. Спасибо вам за тот подвиг, что вы совершили тогда, иначе не было бы этой нашей встречи!
— Насколько тонкая натура у этого человека? — изумился я. — И как, велик он в своей святости! Честь отца и всей семьи ему дороже своей жизни. Вот это порядок.
Ведь он рубился на саблях геройски. И если бы не его ранение тогда, то неизвестно, как бы закончился наш поединок.
И я сердечно обнял его и не дал упасть ему на колени. Глаза мои увлажнились, и я не скрывал этого. Я был счастлив и за себя и за своего деда. Только тогда, во всей мере, и осознал я, насколько мудр был мой дед Василий Иванович. И как многогранна наша грешная жизнь. Но меня, удивляло другое обстоятельство.
Настолько всё предвидеть — это невероятно! Или всё это породило добро?
Скорее всего, второе. Выходит что на нём и держится мир. Только на нём!
И снова мы сидим за столиком и пьём дорогое вино. Нам никто не мешает. Лишь слуга скользит полуденной тенью на фоне всей красоты. И он едва тут заметен.
Доброе вино будоражило мою душу. Но я не мог забыть о Василии Шохиреве, как он там? Пока я тут жирую, его в любые пять минут могут увезти в любую сторону. Ведь мы так и остались военнопленными, да ещё в чужой стране. Как ему помочь?
— Господин Тарада, я нуждаюсь в вашей помощи. Мне не хотелось Вас просить об этом, но другого выхода нет. Только вы сможете помочь моему другу Василию Шохиреву. У него в России осталась большая семья. Он очень хороший человек! Мой друг.
Мне трудно это говорить своему благодетелю, иначе его не назовёшь. Но я хочу быть честным, как и он, потому что я знаю, что он хорошо помнит Шохирева.
Просто не мог не помнить его слова: «Руби его, Бодров, уходить надо!»
И сейчас, самому Василию, нужна немедленная помощь. Странно всё в нашем мире, но его не переделаешь! Всё возвращается бумерангом и бьёт того, кто нанёс первым удар. И вот уже Василий под этим разящим ударом.
Лицо дворянина сначала налилось бледностью, затем реакция пошла в обратную сторону и оно приняло багровый оттенок. Очень трудно было ему переварить всё, что от него требовали. Это надо было превзойти себя самого, а затем переступить через свои амбиции. И наконец-то господин Тарада заговорил:
— Я его хорошо помню, он настоящий боец, и поступил так, как и надо было поступить в бою. И если бы он убил меня, то это было бы правильно. Ну а если взять другую сторону, то для меня он злейший враг. Змей, который уже выпустил своё смертельное жало. И его надо немедленно уничтожить, потому что он обязательно укусит. Это черта его характера и линия поведения в жизни.
Но я чту своего отца и помню его слова, что враг без меча уже тебе не враг, а друг, не убивай его!
Ты, господин Бодров, послал мне новое испытание, хотя я думал, что они уже закончились для меня. По всем причинам я не могу тебе отказать в этой просьбе, но признаюсь, что мне трудно это делать. Я ещё не достаточно силён духовно для этого, но у меня есть путеводная звезда в моей жизни — это мой отец! Завтра утром твой друг будет здесь, я тебе это обещаю.
А сейчас я очень устал и мне надо отдохнуть. Тебя я оставляю на волю моих слуг, твоё слово для них закон. Если захочешь отдохнуть, то они проводят тебя в твою спальню. Кушай, что твоей душе угодно, и дальше действуй по своему усмотрению.
Господин Ичиро Тарада откланялся и тяжелой походкой пошёл по аллее сада. Видно, что судьба приготовила ему новое испытание, и он покорно ждёт его.
Наелся я до отвала, потому что таких блюд никогда и в глаза не видывал, а не то что пробовал. И в сон меня повлекло, как в бездну. Заметил это слуга и проводил меня в спальню. Я не мог поверить, что это спальня, это было произведение искусств, где прикоснуться к чему-либо — грех немалый. Но сон сильнее всего на свете, он добрый хозяин нашей жизни. И он незамедлительно проводил меня в своё царство блаженства.
А утром меня ждала тёплая ванна, которую я по старой привычке завершил холодной водой. Я не мог поступить иначе даже здесь, в Японии, сила привычки сильнее нас. Но мы очень капризные дети природы, и она нас, как мать, всё равно учит уму-разуму. Учитесь жить правильно! И долго будете жить, и в счастье. Ну а мы всё идём наперекор породившей нас Матери-природы.
В беседке нас было трое. Но между нами возникла невидимая стена, и разговор как-то не клеился.
— Я не знаю, как к вам обращаться, — тихо промолвил Шохирев. Он был бледен, но не терял самообладания. Конечно, это для него было большое испытание, особенно для его гордости. Ведь и он настоящий боец, знатный рубака.
— Для вас я останусь господин генерал, потому что мы с вами люди военные, и я не хочу переходить этот рубеж. Этого вполне достаточно, чтобы уважать друг друга.
Мы с Василием, были очень удивлены новому званию господина Тарада. И тут же поспешили поздравить его, он этого высокого звания, несомненно, заслужил. За что мы и выпили доброго вина.
Вино быстро разогрело Васину душу, и он решил высказаться. Ему надо было снять груз со своей грешной души. Не мог он знать, что жизнь так нелепо проучит его, как ребенка.
— Господин генерал, мне стыдно за свои слова сказанные тогда в бою. Но там мы были враги, и всё было правильно, я ни о чём не жалею. Вы поступили благородно, и сегодня преподнесли мне хороший незабываемый урок. Совесть моя глубоко задета, и это самое тяжкое наказание для меня.
Я могу только обещать вам, что если останусь живым в этой войне, то своим детям я расскажу всё, как есть. Пусть они помнят, что в жизни есть роковой миг, который и губит и спасает нас. Пусть у них будет больше благородства к побеждённому врагу, как у вас, господин генерал!
Только милосердие даст нам полную свободу в этой жизни, избавит нас от не придуманных пут коварства и зла, опутавших всё человечество. Конечно, и война сильна коварством и порождает его в огромных масштабах. Трудно там оставаться чистым, но очень хотелось бы этого! Свои ошибки как грязь не смываются, они до самой смерти, с тобой остаются.
Умолк Василий. Ему действительно было трудно высказаться. Высокий лоб его взмок от пота, а карие шальные глаза его ещё светились дерзким огнём. Угасал там огонь потихоньку, сам по себе. И тихо стало в беседке. И складывалось такое мнение, что и птицы, и всё остальное живое — тоже призадумались, вместе с нами.
— Хорошо говоришь ты, казак, и здесь ты мастер непревзойдённый. Нанести удар по штабу не всякий бы решился. А ты дерзок, и я уважаю тебя за это. Но как у русских говориться: — На языке мёд, а под языком лёд! И так ведь бывает?
Мы с Василием были шокированы таким оборотом дела.
— Я чистую правду сказал, — настоял Шохирев на своём высказывании. — Всё, что на душе было.
Не стал господин Тарада больше ничего говорить на эту тему. А сразу же, и очень резко, генерал перешёл на другую тему. Чем опять же, и очень ловко, выбил нас с седла. Его тактика штабиста себя оправдывала полностью.
— Вы всё ещё военнопленные, и пока что этот статус никто не отменял. Поэтому я советую вам находиться под моей защитой и жить пока здесь. С комендатурой я уже договорился и поручился за вас перед комендантом письменно. Так что всё на вашей совести, казаки. А так вы и меня подведёте, как у вас говорят, под монастырь, и себя погубите.
— Вот это чешет по-русски, — изумились мы. — Очень ловко!
— Я нашёл Бодрова через Красный крест. И про Шохирева навёл справки. Так что я с самого начала всё знал: кто есть кто. Но хотел посмотреть, как повернёт всё Григорий. Я доволен им.
И вами, господин Шохирев, я тоже доволен: есть у вас совесть! И чувство, как у вас говорится, локтя, тоже есть. Это похвально!
Значит и я на верном пути. А это самое главное для меня: не ошибиться в людях.
Я написал письмо-прошение самому императору о том, чтобы он помиловал вас. И освободил поскорее от плена. Это только в его высочайшей власти.
И про Шохирева тоже написал, но ничего не говорил Григорию. Теперь всё само стало на свои места. Вы сами позаботились об этом своей правдой и честью — молодцы.
Откланялся господин Тарада и снова нас оставил на попечение слуг. Но не скоро мы пришли в себя. Очень хитёр и тактичен господин генерал. Ему любой разведчик позавидует, но это его право. Он здесь, в далёкой Японии, единственный хозяин наших жизней. Защитник наш в этой, нам неведомой стране. И теперь у него все карты в руках.
Мы отдыхали все эти дни. И даже удили диковинную рыбу из пруда. Вот тут-то мы опять были удивлены, как дети, такое диво и во сне не увидишь.
Подошёл слуга к пруду, к самому его урезу. И протяжно зовёт кого-то, вроде, как мычит. Странно всё это, но мы с Василием молчим, ждём, что дальше будет.
Зарябила гладь пруда и на его поверхности вдруг чудо появилось. Карп огромный, что поросёнок, глядит своими томными и умнейшими глазами на нас, таких удивительных людей. Рот его раскрылся, и казалось, что весело и беззвучно шлёпал толстыми губами.
— Этот великан, — восхищённо, как ребёнок, тараторил что-то своё слуге, и они прекрасно понимали друг друга. И радости обоих не было предела.
Потом карп с наших рук ел кукурузную кашу и вдруг, совсем как малыш, закапризничал. Играется исполин, пузыри пускает. А слуга ловко утирает ему толстые щёки и также ловко отправляет кашу обратно в рот монстра.
Весело даже птицам. И те тут же норовят выхватить кусочек послаще у этого капризного раззявы. Но тот только с виду простачёк. Так ловко саданул карп по воде своим хвостом-веером, что умникам враз не до веселья стало — спасаться надо!
И нам тоже достался весёлый каскад радужных брызг, который обрушился с высоты на наши разгорячённые головы. Только слуга всё так же млел от удовольствия. Ничего не омрачило его лица, даже вода. Любил он своего карпа больше своей жизни. И брызги воды не разочаровали его, а ещё больше обрадовали. И он так же шутливо плеснул водой в лицо любимца. Играются большие дети.
— Ему сто лет, — улыбается японец, — пра-пра-прадедушка наш.
— Ого! — изумились мы с Шохиревым. — Нам столько не прожить!
И однажды, возле пруда, мы встретились с красивой барышней. Она была просто изумительна своей восточной и яркой красотой. И настолько нежна она, что её можно было бы сравнить только с небесными лепестками розы. Мы застыли от неожиданности. Но девушка сама подошла к нам.
— Идиллия, представилась она. И протянула нам свою удивительно крепкую ручку. Василий что-то буркнул ей в ответ, совсем, как кот.
Но что? Даже я не в состоянии был понять его речь.
А я взял эту красивую ручку в свои грубые, и такие беспомощные сейчас, солдатские руки. Но так и не нашёлся, что ей сказать.
Я всё продолжал молчать. И казалось мне в то мгновенье, что вся её душа покоилась в этих моих жёстких ладонях солдата.
Но тут же я ужаснулся, что она уйдёт от нас, исчезнет, как сон, как видение. И я, неожиданно для себя, прижал её ручку к своей, воспылавшей любовью груди.
Я не знаю, как всё это получилось, похвастаться своим опытом общения с девушками я не мог. Но и робким никогда себя не считал, тут было что-то другое.
Идиллия не противилась этому, а удивлённо смотрела в моё восхищённое лицо. Наверно и она успела подумать, что сейчас встретились две наши родственные души, но в это невозможно было поверить. Ведь совсем недавно вокруг была война, и мы не знали друг друга.
И тут же она испугалась, что мы растеряемся в этом огромном и непонятном нам мире. И со страхом прильнула ко мне своей точёной фигуркой.
Всего лишь на миг, который стоил всей моей жизни.
И так невольно раскрылась её чистейшая душа, и я понимал это.
Неожиданно для себя мы разговорились. Мы ещё плохо понимали друг друга, так как японский язык мне давался с трудом. Но это ещё больше доставляло нам веселья. И весёлый смех девушки колокольцами разливался по аллеям сада. Но и это не был финал всего нашего веселья.
Идиллия заговорила на чистейшем русском языке. Моя челюсть отвисла, и все мои слова удивления так и остались невысказанными. Сейчас я очень походил на старого карпа, который невольно подслушивал нас и шевелил своими толстыми губами. У того по-прежнему, как и раньше, слов человеческих не находилось. Но и он, несомненно, искренне смеялся надо мной, совсем как старый человечий дедушка. Я был в этом уверен, я всё это видел, чувствовал всё это каждой своей клеточкой.
И тут был явный их сговор с Идиллией — шутники. Вот тебе и рыба!
А Василий подошёл к карпу и ему исповедовал свою душу. Для него легче было довериться любому зверю, чем человеку. Тот безмолвен и понятлив, а человек в таких ситуациях хуже зверя бывает — глубоко ранит или же мерзко плюёт в открытую душу.
Так и проводили мы следующие дни. Василий с мудрым карпом, а я уже со своей прекрасной Идиллией. Я всегда с замиранием сердца ждал той счастливой минутки, когда она появится среди благоухающих цветов. Но цветов, равных ей по красоте, и там не было. И наверно, во всём мире трудно было сыскать таковых. Любые цветы меркли перед красотой моей Идиллии и сами клонились к ней. Она и для них являлась божеством. А для меня, так венцом божьего творенья.
— Ты просто влюбился! — говорил мне Василий с улыбкой. — И как всякий влюблённый ты несёшь чепуху.
Вздохнул и добавил:
— Годы берут своё, ты молод и ты счастлив. А мне домой хочется, к жене и к детям. И на сенокос хочется, чтобы задохнуться запахом душистого сена. Прижаться к ниве грудью, до стона, до хруста в костях. А там и умереть можно от блаженства. Земля родная! Мне не надо чужой красоты.
И слезинка блеснула в карих глазах Шохирева.
— Ты красиво говоришь, взводный, не ожидал я от тебя стихов, ведь ты казак и рубака. А красиво сказал, несомненно, что талант гибнет.
Ничего не ответил Василий. Заскучал он по дому уже не на шутку. Только карп поможет Шохиреву развеяться, мудрец, целый век прожил. И хочется Василию его бока почесать и погладить его лобастую голову. Любит он это, и ему, как человеку, тяжело жить без внимания! А тут ещё и постоянное ощущение плена.
Моя Идиллия не сдержалась и со всего разбега прилетела в мои объятья. Совсем не по-царски. Я не понял, как наши губы встретились, но я навсегда запомнил тот счастливый миг. Они, как ни странно, пахли подснежниками и весной — моего далёкого дома.
— Отец чем-то недоволен и он сам скажет вам об этом. Что-то у него там не ладится с вашим прошением. Император, хоть и двоюродный брат отцу, а мне дядя, но он хитёр и непредсказуем. Нет у нас той близости, что должна быть, как и положено у родных. Между нами всегда была стена. И поэтому от него можно всего ожидать, даже самого плохого.
Через неделю во дворце будет большой праздник, посвящённый победе над Россией. Отцу и другим героям войны будут вручать заслуженные награды. Праздник очень большой, вся страна будет гулять и веселиться. И вы с Василием будите там…
— Вон отец идёт! — воскликнула Идиллия. — До свидания мой милый! Молниеносно поцеловала она меня в губы и упорхнула в ближайшую аллею.
Господин Тарада был сильно озабочен своими думами и, похоже, что очень расстроен. Не было в его шагах кошачьей лёгкости. И скоро всё прояснилось.
— Плохое дело замышляет мой двоюродный брат император. Не хочет он подписывать вам освобождение из плена. Вы так и остаётесь пока военнопленными. Император так мне и сказал, что это заслужить надо.
И ещё он сказал, чтобы на празднике вы с Шохиревым тоже были, оба в казацких одеждах и при своих наградах. И при оружии, как и подобает казакам.
— Я опасаюсь, что с его стороны возможно коварство. Брату не нравится моё покровительство вам, и он способен на всё. Он помнит, что его отец обязан моему отцу за трон. И это гложет его самолюбие, не получилось у него чистого царствования. А власть и честь — понятия разные, и часто чего-то одного не хватает. Но он император, и я не смею его ослушаться.
И ещё я решил, что нам надо готовиться к худшему, а лучшее само придёт, так, кажется, у вас, у русских, говорят.
И генерал натянуто улыбнулся.
— А истина всегда там, где народ. Поэтому будем заниматься с вами по полной программе, чтобы не раскаиваться потом, в своём бездействии. И как говориться, не смешить людей. Своё упорство мы противопоставим их коварству.
Неделя срока у нас есть на всю эту подготовку. И это очень хорошо, но несомненно, что времени критически мало.
Надо по возможности восполнить этот кризис времени. Начинать надо сегодня, и немедленно готовиться к грядущим испытаниям.
И мы с Василием послушно удалились за господином Тарада. Он искренне желает нам добра, и грешно ослушаться его.
Слуги привели хороших лошадей и принесли разное оружие. Надо было начинать подготовку.
Легко взлетел в седло Шохирев. Застоялся он без ратного дела. Но скоро дело пошло хуже и хуже, сказывалось его ранение в ногу.
У меня тоже не всё шло гладко, поотвыкли мы от боевых будней. Но сейчас мы снова почувствовали себя казаками. А солёный пот, что заливал нам глаза, был нам в радость.
— Я не буду вас учить вашей джигитовке. Тут и Шохирев сам справится, как никак он командир. А вот искусству боя на мечах я могу вас поучить немного и дать свой урок. Но и здесь главное — тренировка.
На празднике если и будет соперник, то он боец не хуже меня. А вам надо привыкнуть смотреть врагу в лицо, это для бойца много значит. Вот и тренируйтесь со мной, вам надо хорошо выглядеть на празднике и, как у нас говорится, не потерять своё лицо.
И снова я встретился с господином Тарада в сабельном бою. Здесь он был действительно мастер. Моя рука скоро устала отбивать очень точные и тяжёлые удары самурая. Сабля вылетела из моих рук и, описав полукруг, воткнулась в землю.
— Очень плохо! — проронил невесело генерал. — Совсем ты мёртвый.
Я и сам чувствовал, что никуда не годен, даже дрова колоть.
— Давай, Шохирев, руби меня! — ведь ты этого хотел. Настала и твоя очередь. У тебя есть такая возможность.
Взводный тяжело насел на самурая. Его разящая сабля могла достать кого угодно, но не Ичиро Тарада. Тот молниеносно наносил ответный удар. И ускользал от Василия, как демон. Его ловкости можно было позавидовать. Но и Шохирев выдохся. Рука его уже не имела прежней силы, удар стал тягучий и мягкий. Скоро и его сабля описала полукруг и воткнулась в землю, как и моя.
Опустил свою саблю японский генерал. И утёр пот со лба:
— Плохо казаки! Ты тоже мёртвый!
Отдыхали мы не долго, хозяин торопил нас.
— Мало времени, надо работать! Оба пошли в атаку, лодыри!
Тут наше самолюбие закипело и мы, не сговариваясь, насели на самурая. Он блистал в своём великолепии. И скоро я получил сильнейший удар в челюсть жестким кулаком. Искры веером рассыпались по горизонту и мрак поглотил меня. Василий получил удар ногой в грудь и осел на землю недалеко от меня.
— Наработались, хлопцы! — опять удивил нас хозяин знанием русского языка, — Как снопы лежите. Отдыхайте!
Рады бы мы что-то возразить ему, но не могли.
И тут случилось невероятнее. Моя любимая Идиллия. И откуда она только взялась. Подобрала мою саблю, и стала на мою защиту. Прикрыв меня от следующего удара отца в мой незащищённый корпус.
Высоко взметнулась бровь на жестком лице генерала Тарада, и короткий рык раздался из его груди:
— О-о-о!
Это был настоящий зверь, сейчас он не пощадил бы и свою дочь.
Идиллия мастерски владела оружием, чувствовалась выучка отца. Но сейчас у неё никого, кроме меня не было, даже отца. И, наверное, отец прекрасно понял это. Обида на время затмила его разум, и сейчас он представлял серьёзную опасность для своей дочери.
Я понял, что оба они не в себе. И не нашёл ничего лучшего, как взять саблю у слуги и стать на сторону Идиллии. И господин Тарада не удивился этому. Он стал ещё яростнее наносить нам обоим свои страшные удары. Сейчас он напоминал смертельно раненого зверя, загнанного в угол. Похоже было, что над всеми нами сейчас властвовал рок, иначе всё происходящее трудно объяснить. Раздавался сабельный звон и стон ярости из нутра бойцов. Но и тут чудеса не кончились. Шохирев, неожиданно для всех нас, стал на защиту генерала. Василий обрушил всю мощь своего клинка на меня и дал возможность самураю передохнуть. Хозяин очень удивился этому странному поступку Василия. И, возможно, это вернуло ему рассудок.
— Прекратить бой! — резко, что выстрел, прозвучала его команда. И он отбросил свой, ставший вдруг ненавистным, меч. И отупевшим взором посмотрел на свои руки, боясь увидеть там кровь, крови на них не было.
Идиллия бросилась мне на грудь и не скрывала своих горьких слёз. Плечики её тряслись от страха, а из бездны чёрных глаз уже воссияло счастье:
— Ты жив, любимый! Это радость для меня.
Только тогда я понял всю глубину её любви. Она и умерла бы с моим именем на устах, я в этом уже ни капельки не сомневался. И даже отец это прекрасно понял и испугался в тот миг.
Шохирев остался на стороне хозяина и вертел уже ненужную саблю в своих сильных руках. Теперь он, по воле того же рока, оказался, как ворона на заборе, для всех лишний. Василий воткнул свою саблю в землю и ушёл в глубину сада:
— Разбирайтесь, господа. Если вы сами не разберётесь, то я вам не помощник.
— Я тоже, к сожалению, лишний! — вздохнул отец Идиллии. — Идиллия выбери время, нам надо с тобой серьёзно поговорить.
И ушёл он понуро, с тяжёлой ношей на душе, в окружении своих слуг.
Все разбрелись по своим углам, только мы с Идиллией не торопились.
Всё теперь стало на свои места, и скрывать нашу любовь было бы глупо. Так и сидели мы до самого вечера в своей любимой беседке. Нам хорошо было без всяких слов. И мы, как ангелы, сейчас были выше земного бремени.
Василий встретил меня настороженно. Ему было стыдно за свой поступок в поединке, и он прятал свои глаза. Объясниться со мной ему было очень трудно. Вряд ли он ожидал, что поступит именно так. А говорить мне про рок было бы тоже глупо. И он решил молчать, может быть, всё само собой уладится, без нашего личного вмешательства.
— Ты поступил благородно, Василий. Такой коварный случай кому угодно заморочит голову, не только тебе. Но тобой руководила твоя благородная душа. Это она подтолкнула тебя в тот миг стать на сторону господина Тарада. И Идиллией тоже руководила душа. И отец был прав, только по-своему. Наверно и я был прав. Вот задача — все правы. А дров чуть не наломали целый воз и ещё больше. Хоть до убийства не дошло, и то ладно.
— Тебя хозяин ждёт. Иди к нему в кабинет, слуга проводит тебя, — нашёлся Василий. — Ты должен успокоить его. Эх, молодёжь, нет у вас проблем! Одним мгновением живёте, как бабочки: солнце, тепло и прохлада воды. И больше ничего не надо для счастья. Но я не осуждаю вас, может вы и правы, ведь войны кругом, а людям жить хочется. Только птица свободна в своём выборе, взяла и улетела, где ей жить лучше и где войны нет. А человек всю жизнь воюет, а потом слёзы льет. А там уже и в могилу пора, не до любви ему. Поэтому и цепляется он за каждый миг любви, как в бездну головой летит. Иди, Григорий! Муторно мне. И душа не на месте, рыдать ей хочется.
Господин Тарада выглядел старее, чем обычно. Рубашка его больше обычного расстёгнута. Ему было душно — хотелось высказаться.
— Я не знал, что так всё получится. Но ты защитил мою дочь, моё сокровище, не убоялся моего гнева. Я уважаю таких людей, как ты. И раз она полюбила тебя, то наверно это и есть её судьба. Нельзя стоять на её дороге, дорого это стоит, а жизнь одна.
И тихо продолжил, свою волнующую речь.
— Её маму Настей звали. Не смог я поступить в своё время также, как ты, и защитить её. Я не пошёл против всего рода, уж больно он велик и могуч и авторитетен. А сейчас плачу, нет её, моей любимой. И ничего уже не поправишь.
Видишь, как всё повернулось. Все повторяется в жизни, только в другом исполнении: Идиллия и ты. Ты любишь её? Хотя и так всё ясно! Но ты военнопленный, не забывай этого. И жизнь очень коварна, и у меня много врагов.
Как пружина сжался великий самурай, готовый распрямиться в разящую струну.
— Мне жалко вас, а праздник только страшит меня. Что там придумают мои враги, каких нам каверзней наворочают. Двор всегда был силён интригами, им зрелищ хочется и крови. А мне честь дороже и справедливость! А теперь, доченька, Идиллия моя, нуждается в защите, не только вы. Тут много чего на кон поставлено, не одна твоя жизнь.
Завтра с утра все занятия повторим. Иначе позор, он словно печь жаром, уже нам в лицо дышит. И до самого нутра достанет. И никуда ты от него не денешься — сила такая!
Теперь я меньше удивился его познаниям в русском языке. Но всё равно полёт его мысли был грандиозен. Насколько велик этот человек: и отца своего вознёс до небес. И сам полёта невообразимого!
Утро дало мне необходимую свежесть мысли. А солнышко хороший заряд доброй энергии. Пока слуги возились с лошадьми, я любовался своей красавицей Идиллией.
Теперь многое мне прояснилось в её облике: и более светлый цвет её лица, и разрез глаз. И всё её тело, где сочеталась вся земная и не земная прелесть линий. Несомненно, что славянская кровь придала ей ещё больше грации и благородства. Только природа могла так гармонично распорядиться всеми своими богатствами: любуйтесь люди.
Мы рубились и конными, и пешими. Сегодня всё у нас ладилось и было нам под силу. После вчерашней бури мир стал добрее и чище. И мы сами стали другими, более открытыми. Всё у нас делалось с улыбкой и четко, без ошибок. Как в письме: где точка, а где и запятая, и никак иначе.
Мы упражнялись с Василием в джигитовке, и тут когда-то мне не было равных соперников во всём полку. Не один приз я завоевал на различных строевых смотрах. И даже, чуть ли не из царских рук. Но всё это в России и до войны было.
Тяжело, но прежняя лёгкость движений возвращалась ко мне. А тем более, самому хотелось добиться большего результата.
— Моя любимая Идиллия, если бы ты только знала, что для тебя я так стараюсь! И здесь на чужбине, ты для меня — моя яркая, путеводная звезда. И ничего так не радует, и не волнует меня, в этой чужой стране, как ты.
И она любила меня. И ей хотелось видеть меня таким, какой я есть, и даже лучше. И мне очень хотелось этого.
За одну её милую улыбку я готов был отдать свою жизнь — не это ли счастье, так любить. И еще больше счастье, если это взаимное чувство.
И, наверно поэтому, всё задуманное нами постепенно удавалось: и в рубке и в джигитовке — возвращалась моя молодецкая сила. А Идиллия ещё больше боготворила меня.
Наверно и правда, что любовь бывает слепа. И я не достоин её любви. Я не мог поверить своему счастью.
А вечером Идиллия сама пришла ко мне и увела к себе в спальню. Василий только хмыкнул:
— Н-да-а! Кому чёрт, кому дорожка! А кому всё кочерёжка! Хоть в печь суй его. Ему всё нипочём. Молодец!
— Отец верит тебе Григорий, а я, и подавно. Глупо будет, если с нами что-то плохое случится, — ласково говорит мне Идиллия. — Я боюсь потерять тебя.
У меня очень нехорошее предчувствие и через два дня праздник. А дальше в сознании бездна. Сможем ли мы её с тобой одолеть?
Без тебя мне и жизни не будет. Поэтому я и тороплюсь жить и любить. Хорошо, что отец с нами. Это счастье для всех нас. Он очень добрый и мудрый — он обязательно поможет нам. Я очень надеюсь на него.
Сомкнулись наши губы в страстном поцелуе. И померкло наше сознание, словно растворилось в чарах волшебной восточной и сказочной ночи.
А за день до праздника пришла бумага от императора, где повелевалось пленным казакам Бодрову Григорию и Шохиреву Василию быть на празднике Победы над Россией. Во всей своей амуниции: конными, при оружии, и всех своих наградах.
Господин Тарада обязан обеспечить военнопленных всем необходимым. Непредвиденные расходы возместит государственная казна. Явка обязательна, ослушание будет строго наказано.
Не дочитал грамоту господин Тарада и зашвырнул её далеко в сторону.
— Плохо играешь, мой любезный братишка, все твои карты краплёные. Так только мошенники поступают. Вроде и предупредил ты всех. Вроде и благородно поступаешь, только всем нам плохо будет.
Вот тебе и помилование по-царски. Крови хочется ему, и меня лишний раз унизить. И ещё зрелища позорного жаждешь. Но ничего, всё будет по-твоему! Как ты того хочешь. Ослушаться мы не посмеем, мы люди военные. Только и мы не лаптем щи хлебаем. Так у русских говориться, воистину мудрый народ! И тебе надо быть ближе к простому народу, ваше величество. А вы очень далеки от него — бездна между вами. Всё интриги плетёте! Именно здесь, среди простых людей, всегда истина рождается. И умирает, тоже там, у неё нет другой судьбы. А может жить, и вечно жить!
Вызов принят!
Никто не посмел ничего возразить или добавить к сказанному. Здесь уже шла ставка на жизнь, и другого выхода не было. Если умрут казаки, то так им и суждено бедолагам, на роду так написано. Другой вариант императором и не рассматривался. А опозорятся они со своими покровителями, ещё чуть-чуть хлебнут грязи, так на то он и праздник, чтобы людей веселить. Вот и вся царская задумка: и не хитра и не умна, а многим в радость будет.
Утро праздничного дня началось с грандиозного пушечного салюта. Столица уже давно не спала и ждала своего народного триумфа — победы. На Востоке большой грех много спать, и складывалось такое впечатление, что люди вообще не спали.
По народному поверию хорошим людям надо солнце в поле встречать, тогда и день будет счастливый. И толпа людей уже ждала рождение нового дня и начала великого праздника, ещё до восхода животворящего солнца.
После залпа орудий вся мрачная нечисть ночи была окончательно разогнана, а светлый день: Его Величайшее Сиятельство Солнышко во всей своей прелести вступало в свои права. Оно само, как хозяин, желало распорядиться праздником, уже со всей своей райской щедростью. Где будет все вволю всему живому: тепла и света, и весёлых красок. А людям будет в избытке добра, очарования и любви — каждой душе, в полном достатке. А чтобы было ещё веселее, то маэстро Маскарад с радостью придёт стеснительным людям на помощь. Веселись народ! На то она и маска, чтобы скрыть ваши недостатки, и чувствам своим волю дать. Сегодня не должно быть невозможного — нет предела мечтаниям. Сегодня всё доступно!
Так и день начался. Совсем необычно и весело. Но что он готовит пленникам, никто того не знает, кроме как сам Господь Бог, Отец наш, он всё знает.
Господин Тарада со своей свитой и казаками двинулись к дворцу Императора. Там уже с самого раннего утра шло веселье.
И, наконец, сам Император, в сопровождении своей свиты, вышел к своему народу. И волна народного ликования достигла небывалой мощи и свободно заглушила звуки оркестра. Восторгаясь собой и разрастаясь, вся эта стихия гудела и возносилась к небесам, изливая и там свои чувства и славу — своей великой Японии. Император поздравил свой народ с Великой победой, чем вызвал ещё большую бурю восторга. Затем поклонился ему на все четыре стороны и объявил:
— Я тоже подумал о своём народе, и не стал сам решать участь пленных казаков. А решил предоставить это самому народу. Ибо нет его мудрей во всём белом свете.
И столько на его лице было радости и гордости за свой народ, что дальнейшие его слова потонули в буре оваций. Но скоро они стихли и император продолжил свою мысль.
— Пусть покажут они своё умение воевать, всю свою выучку. Для этого у них есть и лошади и их воинское оружие. На фронте про геройство казаков ходили легенды. И я оставил им их награды за храбрость — они их честно заслужили. И чтобы вы все видели, что герои перед вами.
Я никак не унизил их воинский дух, а как можно выше поднял его, чтобы вы сами решили участь своих бывших врагов. Но сейчас они нам не враги, и для них война закончилась. И надо справедливо решить их судьбу!
Возможно, что они достойны и свободы. Вам это решать, мой славный народ!
И сам император удивился своей речи: грандиозной, льстивой и коварной, в очень искусном сплетении — народ ликовал.
— А итогом всего веселья будет их поединок: казаков с нашими добровольцами, с именитыми воинами. Пусть и наши герои готовят себя к поединку. Народ достойно оценит действия каждого бойца, и укрепит этим свой победный дух. Это лучше всякого вина молодит кровь и разум каждого японца. Я верю в мудрость своего народа, и даю ему наивысшее право — быть судьёй. Всё в ваших руках: даже их жизнь, и спасение их.
Устал император от своей речи и присел на шелковые подушки отдохнуть. Не молод он уже, и в отдыхе нуждается. Но ещё больше подрывает здоровье его страсть содеянного коварства, так его изнутри и съедает.
Вытер мохнатой папахой своё лицо Василий Шохирев, жарко ему стало.
— Умереть сразу во сто раз легче бы было. Чем весь этот позорный маскарад терпеть. Жалко господина Тарада, да ещё милую Идиллию. Сколько они натерпелись беды с нами, один Господь Бог знает. Но и их хочет унизить император. Ведь у них свои, давние счёты ведутся. И грех нам с тобой Григорий своих благодетелей в обиду давать.
— Большой грех! И тяжкий он. Только бы на нас не лёг он своим позором.
— Не посрамим мы звания русского казака, Гришка. Святой Георгий Победоносец всегда с нами.
И целует Василий свой крест и лоб свой осеняет крестным знаменем.
И я осеняю себя крестным знаменем и целую два своих Георгиевских креста на груди. Но глаза мои и мысли с моей любимой Идиллией.
— Как ей тяжело сейчас, бедненькой? Как цветочек она хрупка, и нежна перед коварством тирана, и даже нелепого случая, что уже с ножом рядом с нею стоит.
Она одна из всей массы счастливых людей такая опухшая от слёз. Но и она виду не подаёт, не хочет меня расстраивать. Знает она, что сейчас мне во сто крат хуже: я со своей смертью играюсь. И сквозь слёзы Идиллия робко улыбается мне: я с тобой милый навсегда! Слёзы текут по её лицу, уже без удержки.
Всё готово к представлению, и мы с Василием должны показать всё, что мы умеем: свою доблесть и нашу казачью выучку.
Хороших белых лошадей нам дал господин генерал. И что главное — выученных коней, иначе было бы всем весёлое представление. Опозорились бы мы с Василием ещё сразу, в самом начале праздника. На чём и строился весь расчёт императора и его мудрых советников. Тут всё в счет бралось!
А мой Вихрь ко мне своими тёплыми губами тянется, сахару просит. Я его так сам назвал, в честь моего любимого коня, что не раз спасал меня в бою от верной смерти.
— Ну что же, милый, не подведи меня. Кушай на здоровье моё угощенье. Сегодня нам с тобой потяжелее, чем в бою будет. Вон сколько народу на нас смотрит!
И конь меня отлично понимает, его уму позавидуешь. Совсем, как человек он, только сказать всё словами не может. И душа у него, похоже, что русская, иначе все его действия и не объяснишь. Конь, а такой понятливый! И тут же мимолётом меня осеняет вообще дерзкая мысль: может она, эта душа, и вовсе не имеет никаких национальностей, всё до ужаса просто.
С гиком и свистом пронеслись мы с Василием по кругу на своих добрых лошадях мимо восторженных зрителей. Как когда-то лавой надвигались мы на врага. Но нет наших добрых друзей рядом, навечно они остались там, в далёкой Манчжурии.
Ликуют японцы, очень любят они такие зрелища. И понимают они всю тонкость военного искусства, смакуют каждый его удачный фрагмент.
Теперь мы рубим саблями чучела солдат, что поставлены по обе стороны беговой дорожки. Мы с Василием движемся навстречу друг другу. По сценарию мы враги и должны встретиться в конном поединке. И мы рубим, своими острыми саблями, налево и направо чучела. Ни одного пропущенного чучела не должно быть. А их тут понатыкали самураи на совесть. И приходится нам с Васькой волчком вертеться, чтобы не оплошать перед зрителями. И они ликуют от каждого нашего ловкого и разящего удара клинком.
И вот, мы встретились с Василием. Сверкают наши сабли от мощных ударов. Здесь всё без подвоха, как в настоящем бою. И храпят страшно наши лошади, лиловят свои бешеные глаза. И им жарко и жутко в этой сече. Да и наши с Васькой лица не хуже звериных морд стали. Похоже, что у нас с Шохиревым за всю эту войну мало что осталось человечьего. Зверь в нашей душе побеждает.
А тут ещё мой добрый Вихрь захотел мне помочь. И так цапнул зубами Васькиного жеребца, что бедный конь, обезумев от боли, резко вскинулся на дыбы и чуть не завалился на спину. И только чудом Василий не слетел с коня и не угодил под его острые копыта.
Японцы были в восторге. Они дышали пылом происходящего боя и задыхались от эмоций. Тут никто не мог оставаться равнодушным. Но триумфом номера стала наша ловкость. Мы с Василием рубились на саблях, уже стоя на своих сёдлах. И в какой-то миг мы с Шохиревым ловко поменялись лошадьми, перепрыгнув на круп соседней лошади. Вот тут и нужен тонкий миг, упустил его и лошадь раздавит тебя. Ну и, конечно храбрость.
— Оп! — кричит Василий, и мы уже поменялись конями. И тут же повторили этот номер. — Оп!
Полнейший обвал оваций — шквал страстей, цунами! И мы с Василием едем на своё место, кланяясь зрителям. Русская душа она отходчива и всегда чувствует добро. И мы уже напрочь забыли о дыхании смерти, что в лицо упорно глядит нам. Главное для нас сейчас, что люди нас прекрасно понимают и восторгаются русскими казаками, нашей любимой Россией! И на душе легче стало. Матушка ты наша!
— Ка-са-ки! Ка-са-ки! Ка-са-ки. — скандируют японцы и далее, — Хо-ро-сё. Хо-ро-сё!
Теперь следующий наш номер. На дорожку кладут небольшое куриное яйцо. И я на всем скаку заваливаюсь на стременах до самой земли, пальцами руки подхватываю яйцо с земли. Опасный номер! Не всякий артист способен на такое. Здесь везде риск и расчёт и главное, не разбить яйцо, все похоже на авантюру. Но я стою уже в седле и показываю японцам это яйцо. Оно целое и сверкает своей белизной.
Не знают они, что я мог с земли и саблю подхватить зубами. Но это и среди казаков мало кто сможет сделать, только избранные. Это древнее искусство, им в совершенстве владели наши казаки-разведчики — пластуны. Тут и магия движений, и колдовство, и полёт мысли. Чем и славили они русское казачество.
На глазах у зрителей я кладу куриное яйцо в ладонь другой руки. И начинаю выделывать различные трюки, мчась на лошади. Мой Вихрь меня прекрасно понимает и всячески подыгрывает мне.
Умнейший жеребец! Артист, каких мало на свете. И вот, я уже на луке седла кручу вертушку. Овации не смолкают ни на секунду. Тут я настоящий герой, люблю это занятие. Даже среди бывалых казаков шло восхищение моим искусством джигитовки. Но это всё было до войны. Боже, как давно это было — целая вечность, прошла.
И вдруг — Идиллия! Её чистая любовь, ко мне!
Значит, всё это было! И всё было со мной, и есть наяву! Не верится самому.
И вот я снова стою в седле и показываю зрителям целое куриное яйцо.
Такого быть не может: оно должно быть истёрто в муку. И уже зрители разделились на тех, кто уверен, что в номере есть подвох. И на других, кто уверен, что здесь всё чисто, без всякого обмана.
Через секунду я повисаю на стременах и также ловко, на всём скаку, кладу яйцо на место, откуда и взял его. Теперь очередь Василия веселить народ.
Хоть и японцы они, но тоже народ. Наверно он везде одинаков, во всём мире: и весёлый, и горластый, бесшабашный и до дерзости жестокий. Но пока, он добрый.
Казак берёт в руки плеть и яйцо задвигалось по траве, как живое зашевелилось. А то вдруг стало, как мячик, скакать через плеть. Щелчок — прыжок! Щелчок — прыжок! И нет ему устали, оно как живое движется вместе с плетью.
И яйцо цело и плеть спокойно гуляет под ним, извиваясь в невообразимом змеином такте. И в тоже время тут каждый элемент, сам по себе — веретено. А вместе — цирковое искусство! И плеть как играет — любо дорого посмотреть.
С шипеньем и посвистом вся комбинация движется и не рушится. И, похоже, что по-своему радуется жизни. Колдовство, чудеса, да и только!
Гудит толпа наблюдателей и сам император диву даётся. Что вытворяют казаки, как веселят народ! Поистине молодцы!
Но и у него закралось в душу сомнение. А не деревянное ли яйцо? И такое ведь может быть. Тогда дурачат их всех казаки? А это к его сану непозволительно — дерзость! Но пока император всё обдумывает и прикидывает, как лучше уличить казаков в обмане.
Устал Василий от массы продуманных и точных движений. Иначе номер и не получится. Только кажущая лёгкость всех движений, их артистичность, завораживает зрителя. А на деле никто толком не знает, чего это стоит казаку.
Я подхватываю с земли куриное яйцо на клинок. И оно начинает плавно катиться по широкой поверхности оружия к моей руке. Затем плавно переходит на тыльную сторону клинка и движется в обратном направлении, к его острию. Задержалось там всего на один миг и далее покатилось к моей руке по другой широкой плоскости клинка.
Я мог бы прокатить яйцо и по лезвию сабли и не развалить его на две части. Это высшее мастерство! Но пока я этого не делаю, надо заворожить публику. Пусть и она, как император, уверуют, что нам с Василием есть что скрывать. Что и у нас есть слабые стороны. А яйцо гуляет себе и на другую мою руку, через грудь переходит и на клинок возвращается. Также и через плечи гуляет и по спине катается — чудеса творит.
Любили мы пацанами так в детстве играться. Поэтому я был виртуоз в этом деле. И шкода я был тоже, хоть куда. Какому-нибудь новичку-разине яйцо болтун, то есть тухлое яйцо, под шапку спрячем. А потом ищем его у своих же товарищей, стучим руками по одежде, карманы выворачиваем — нет яйца? Конечно все тут в сговоре, это игра, все, кроме новичка в ней участвуют. Тот ничего не подозревает и с улыбкой смотрит, как мой друг с серьёзным лицом ищет пропажу. И другие ребята, кто весь этот номер знает, тоже молчат и по-всякому подыгрывают нам.
И вот, когда новичок теряет всякую бдительность и улыбается во весь свой щербатый рот, очень уж ответственное дело хранить ценную пропажу и ощущать, что вот она туточки, под шапкой надёжно прячется. И весь дружный коллектив за тебя переживает и подмигивает тебе и всячески жестами поддерживает — храни, мол, тайну, крепче храни.
И вот тут мой дружок Гришка Ногаев неожиданно хлопает рукой разиню по шапке. Это кульминационный момент во всём розыгрыше. Яйцо со смачным хрустом лопается там и зловонная отвратительная масса растекается по лицу новичка. Ошмётки яйца висят и на глазах и на ушах, и норовят расползтись далее по лицу. Парнишка непроизвольно вытирается шапкой и размазывает всю эту яичную массу уже основательно, так что и конопушек на лице не видать. Некоторые товарищи от смеха и по траве катаются, очень им уж весело на всё происходящее глядеть. А Гришка Ногаев подальше прячется в толпе ребят, так, на всякий случай. Знает он, что за это можно и по шее получить. А кому хочется одному ответ держать за всех, ведь не он один зачинщик. Но детство есть детство и скоро все обиды забываются. Новичок принят в дружную ватагу казачат. И уже все вместе герои придумывают всяческую возможную шалость. Иначе, скучно жить подросткам, а энергии у них через край — ей выход нужен. И, волей-неволей, ищут новую жертву для шуток и находят её.
В окружении императора стоят и наши продажные высшие офицеры. Они тоже при полном параде, при всех орденах и регалиях. Они здесь представляют Россию, весь позор её поражения в этой, никому не нужной, войне. Но и они улыбаются и не замечают насмешек в их адрес. Они уже давно всё продали, и совесть, и Родину, и флаг. Им без разницы какому хозяину служить, что японцам, что маньчжурам. И наверно не один наш солдат погиб по их вине, а сотни и может даже тысячи.
Но сегодня и у предателей праздник, они хоть сейчас готовы прислуживать японцам, эти холуи. Вон как извивается в угоднической позе генерал Тряпицин. Он молод для генерала, но сумел получить это высокое звание, практически не выходя из штаба. Участвовал только в беспроигрышных военных акциях, на что имел лисье чутьё. А в итоге войны сам же и сдался японцам, со всем своим окружением. Кто куда делся потом — неизвестно, а генерал здесь, в окружении императора. И ещё награждён он японской медалькой, зато из рук самого императора.
Когда мне вручали второго Георгия то только он один, генерал Тряпицин, был против этого награждения.
— Молод этот казак два Георгия носить, их заслужить надо. Порой и одного за всю войну не заслужишь, а тут сразу два.
Вот завистливая душа!
Усмехнулся тогда командующий армией и иронически заметил:
— Ты наверно, Ваше благородие, с поля боя не отлучался, что вся грудь в орденах.
Того аж передёрнуло всего, что током прошило. Понял генерал, что это в его огород камешек. Но смолчал Тряпицин тогда, понимал, что не время ему распри чинить, его карта бита козырем. Затаил он зло на меня тогда, хотя в чём я был виноват? Да ни в чём! И он ждал своего часа отмщения за свою попранную гордость.
— Пусть носит герой свою награду, — говорит командующий армией. — Сейчас сама война всякому решению голова, а не чьё-то попечительство.
Но своя, целая голова, дороже всякой награды — помните это дети мои!
И ещё помните, что при лихой голове заслуженная награда во сто раз краше — носи герой!
И по отечески поцеловал меня командующий:
— Спасибо сынок!
Конечно и я навечно запомнил этот случай. И вот мы снова свиделись с Тряпициным, при столь незавидных обстоятельствах судьбы.
Подзывает Император к себе нашего генерала Тряпицина. И говорит ему по-русски:
— Проверь это яйцо, оно наверно из дерева сделано. А если обман найдёшь, то непременно награду получишь. Так и обманщиков проучим и твоё усердие отметим.
С неимоверной лёгкостью подбегает ко мне генерал, совсем этак не по-генеральски, а скорее всего, как лакей. И чуть не приказывает мне:
— А ну-ка, подай сюда яйцо, Георгиевский кавалер, хватит победителей шельмовать. Сам Властитель Небесный хочет убедиться, что ты не обманщик. Живо!
И глаза его пучеглазые по-жабьи уставились на меня своими замороженными зрачками, где и совести отродясь не водилось.
Закипело всё во мне от негодования и такого обращения. Холуй иноземный!
И в тот же миг я отчётливо вспомнил те наши детские шутки с тухлым яйцом, что мы не раз проделывали.
А чтобы наверняка всё получилось, то куриное яйцо я прокатил по лезвию сабли. Но так аккуратно это сделал, что не повредил его известковой оболочки, а только чуть-чуть подрезал её. И затем, задержал яйцо, как жонглёр уже на острие сабли, но опять же не повредил его.
Так и подал я Тряпицину яйцо, чтобы тот его с острия снял, как с шикарного подноса.
С собачьей преданностью генерал принялся разглядывать продукт, чтобы уличить меня в обмане. Но ничего не находил подозрительного: яйцо, как яйцо, на дерево не похоже. Но я решил подзадорить его и пошутил:
— На свет посмотрите, ваше высочество. Оно от солнца светится — живое оно, того и гляди, птенец вылетит. И улетит ещё ненароком!
Генерал закрутил яйцо над головой, затем для лучшего обзора зажал его в ладонях, как в окулярах.
— Дави! — Ревёт толпа на разных языках и наречиях, — деревянное оно! Дави!
Легко хрустнуло яйцо и вся его живительная масса тут же выплеснулась на незадачливого генерала Тряпицина. Прямо в его холёное лицо, обрамленное завитками волос, и расплылась там. Но долго не задержалась на этой жирной сковороде, его калёной роже, и неотвратимо низвергалась далее, на мундир и грудь генерала.
Тихонько пискнул в толпе чей-то придушенный смешок и затих в пространстве. Зато император уже завалился на спину от весёлого смеха на свои шелковые подушки. Совсем, как наши пацаны в своём счастливом детстве в России, и засучил ногами в воздухе.
И это был кульминационный момент всего накала страстей.
Всё утонуло в неудержимом хохоте, постепенно переходящем в рёв толпы, плач и стон. В гипнотическом и неудержимом подражании друг другу тут все были равны сейчас, и император и простые смертные.
Только генерал Тряпицин был бледен как-никогда ранее. И сейчас ему была очень отвратительна холуйская участь предателя.
Наконец-то он осознал своё полнейшее ничтожество и участь изгоя. И ещё его очень бесило то, что все японцы его так воспринимают, и только так, а не иначе. Причём делается это с великим удовольствием на лице, как посмешище воспринимают его, а не боевого, заслуженного генерала.
В его жабьих глазах на мгновение растаял вечный лёд и навернулась живая человечья слеза. Но мстительное чувство тут же затмило разум, и он бросил мне в лицо:
— Быдло! Попомнишь ты меня ещё! На всю жизнь запомнишь.
Насмеялись все вволю, и император, и японцы, и мы с Василием. Только моя любимая Идиллия не смеялась. Каким-то внутренним своим женским чутьём она уже почувствовала беду. Но осознать весь её размах, всю катастрофу и она не смогла. И то, что именно этот генерал и есть ее причина.
А весёлые японцы, не сговариваясь, опять весело скандировали:
— Касаки! Касаки! Касаки!
Но тут император поднял свою руку вверх, требуя внимания. Другой рукой он ещё вытирал слезинки со своих глаз, совсем, как обычный человек. Бывают слабости и у великих людей. Но всему своё время!
Не сговариваясь, прокатилась гулкая и затухающая волна разнообразных звуков, окончательно подавивших общее веселье. Японцы замерли в ожидании мудрых слов правителя.
— Я не ожидал, что казаки смогут покорить сердца наших людей. Но такое случилось, и я сам уже отношусь к ним не как к пленникам, а как обычным людям. Хотя совсем недавно они были враги для меня, и не только для меня, но и для каждого японца!
Здесь император в упор посмотрел на господина Тарада, но тот с достоинством истинного самурая выдержал этот взгляд. Зато его дочь дерзко вскинула свою прекрасную головку. Всполох её глаз не остался не замеченным. И умудрённый жизнью император понял, что достиг своей цели, и уязвил своих родственников, в самую глубину их души.
— И всё же, я не отменяю своего решения. Я хочу увидеть наших героев, которые могли бы показать своё искусство в честном поединке с казаками. И тем самым укрепить самурайский дух в наших сердцах, всей великой нации. Сегодня наш праздник!
Буря оваций всё усиливалась, воодушевляя японский народ на подвиг. И вперёд уже выдвинулись многие отважные бойцы, годовые сразиться с русскими. Всё, как и было заявлено ранее.
А среди самих бойцов невольно произошёл естественный отбор. Все они прекрасно знали друг друга. И вот теперь эти звёзды, если так можно выразиться, постепенно угасали перед могучей яркостью личностей господина Коно и господина Такахаси. Они просто меркли в их великолепном сиянии — ореоле их славы и невольно отступали и терялись в толпе.
И вот, господин Коно и господин Такахаси предстали перед лицом императора и поклонились ему. Тот улыбнулся героям, поддерживая их кандидатуры. Правитель знал их давно и ценил, и не раз сам лично их награждал за их триумфальные победы в поединках.
Они ещё молоды, эти герои, им не больше тридцати пяти лет, но они патриоты своей Родины и бойцы, что надо. Лучше чем они никто не выполнит желание императора: погубить русских. Иначе и праздник ему — не праздник, и генерал Тарада не будет окончательно унижен и раздавлен.
— Как будете биться: до смерти, или до победы?
Ликует народ:
— До смерти! До смерти сражаться!
Крови ему хочется, таков уж он и есть простой народ — он везде одинаков! Вмиг всё хорошее забыто, теперь это одна высокоорганизованная волчья стая. Завыла и застонала она уже нечеловечьими голосами. И бойцы подтвердили своё намерение биться насмерть.
Мы с Василием не желали никому смерти, но ничего не нашли более мудрого, чем поклониться императору, а затем японскому народу в знак своего согласия. И врага надо уважать, даже в его алчности. Я ловил взгляд своей любимой, и она неплохо сейчас держалась, моя милая Идиллия! Хотя лицо её побледнело ещё больше. Но к своему удивлению я неожиданно заметил в этом, хоть и ангельском облике, жесткие самурайские черты ее отца.
И вдруг я сразу и отчётливо осознал, случись что-то со мной, она будет биться за меня одна, насмерть, против всего своего народа, как сражалась против о отца.
Она и сейчас готова была идти на смерть вместо меня, если бы это было возможно. И это факт воистину неоспоримый.
Удивляло меня её величайшее самопожертвование во имя нашей любви. И сегодня я был самым счастливым человеком, осознавая, что я — самый счастливый на всей нашей грешной Земле. Но особо радоваться было нечему, по сути дела нас с Василием обрекали на верную гибель.
Душа Идиллии плакала и стонала и никакая маска на лице не могла это скрыть. Я не сомневался в этом. Идиллия не могла идти против назначения природы, её создавшей. Она женщина! И вечно останется такой! Великая женщина — богиня! И умереть за меня могла не задумываясь.
Я должен был победить в этом бою и спасти свою Идиллию. Она не свернёт со своего избранного пути, потому что терять ей будет уже нечего.
Император очень доволен, он даже помолодел весь. И в нём проснулся ярый пыл бойца. Но чтобы выглядеть ещё более эффектно в глазах своего народа, он объявил:
— Если победят казаки, я дарю им свободу, — и сделал ударение — если победят!
И улыбнулся, потому что был уверен, что это невозможно — они обречены!
Но его народ возликовал:
— Это великая честь, обрести свободу — радуйтесь, русские, и сражайтесь ещё злее. Вам есть за что биться и побеждать, и умирать не так тоскливо будет. И опять буря оваций великодушному императору. Но никто и не знал тогда, что им уже был подписан мирный договор с Россией и далее, об обмене военнопленными.
Господин Тарада был очень спокоен и только прижал свою правую руку к своему сердцу.
— Не волнуйтесь! — поняли его казаки.
Бойцы обнажились по пояс, рисуясь рельефной мускулатурой тела. Русские выглядели бледно на их фоне: война и госпиталь обелили их тела. Но всё же природа не обидела казаков: узкие талии, широкие плечи, мощные руки и шеи. И главное, что бросалось в глаза, пластичность и быстрота движений.
Спасибо господину Тарада, он спас нас от неминучей смерти, вернул нам силу и ловкость. И самое главное — мы обрели уверенность в себе.
Коно выбрал меня, а Такахаси решил проучить Василия Шохирева. Не знал он, что Василий командовал взводом разведчиков. А это своя школа боя — древнерусская. И нет ей равных в мире среди других школ по изяществу ведения боя и полёту мысли. Именно мысли — она жива. Она может воплощаться и даже, если надо, перевоплощаться. Разящий меч на расстоянии — и всё по воле бойца. Для этого нужны изнурительные тренировки с самого детства. Таким воинам было строжайше запрещено сражаться друг с другом, чтобы никогда не перевелось среди казаков это древнее искусство. Но чтобы достичь пика совершенства, едва хватает всей жизни казака.
Казак-пластун-разведчик — и знахарь, и боец, и ведун, и Богу угодный человек. Без крестного знамени казак ничего не делает — на всё у него воля Божья. Он вечный защитник России, дитя Господа Бога. Я сражался дедовской казацкой шашкой. Как дорога она мне! Не ржавеет твоё оружие, всё в бою оно, мой дедушка. Не опозорю я род Бодровых, знатных и именитых казаков. Всю свою жизнь славивших своими делами русское казачество и Россию. Сошла улыбка с лица самурая, понял он, что дело тут жаркое будет. Его древнейшее искусство наткнулось на что-то непонятное и никак не вязалось с его тактикой ведения боя. Вроде и не нападает казак, но всегда, хоть на одно движение клинка, опережает противника. Удивляет быстрота его реакции и тактическое мышление. Кто-то из толпы японцев решил помочь своему собрату и подкинул Коно кинжал. Теперь он ощетинился оружием и снова обрёл потерянную уверенность. Но я чувствовал себя необычайно легко. И чем сложнее поединок, тем больше мне доставляет он радости. Тем и славились русские пластуны, элита русского казачества — мастерским ведением рукопашного боя. И я тоже мог спокойно и без оружия сражаться с врагом и победить его. Ведь Россия всю свою бытность воевала с захватчиками. И веками копила свой боевой опыт. Вся её жизнь и жизнь ее народа — это война.
Скоро я захватил руку с кинжалом и она хрустнула в одно мгновение, как хворостина. Мощнейший удар в грудь рукояткой шашки опрокинул японца на землю. Самурайский меч выпал из рук Коно и он заелозил по земле, пытаясь подняться. Но я не наносил ему смертельный удар. Потому что я видел глаза самурая, он не был настроен на смерть.
В его глазах витала бездна страха, и вся его жизнь закрутилась перед глазами, на краю этой пропасти. Коно сразу вспомнил, что много раз был неправ, и много раз зря лишал жизни побеждённых бойцов. Но слава толкала его к своему венцу и он достиг её Олимпа. Вот тут пришёл и его черёд прощаться с жизнью, а перед смертью все равны. Только страшно так резко и сразу оказаться в таком безвыходном положении.
Поборол Коно себя и прикрыл свои бездны глаз чёрными ресницами, укутал свою душу. Теперь и он был готов к смерти. Но разящего удара не было. И он истошно закричал:
— Бей, касак, я бы тебя никогда не пожалел. Бей!
Я опустил свою шашку в ножны, и огляделся. Толпа японцев бесновалась:
— Бей, касак! Не лишай самурая радости умереть в бою, это счастье для него.
Я тихо ответил:
— Сегодня праздник у вас. И у вас тоже не принято в гостях обижать хозяев. И у Коно есть семья, и дети есть, великий Коно будет мне другом.
Гулкая тишина, охватившая всю площадь, заставила даже самых злобных японцев услышать стук собственного сердца. Оно не хотело чужой смерти — сердце стремилось вслед за временем, и диктовало всем своё слово:
— Жить! Жить! Жить!
И тут жена Коно, не выдержав накала людских страстей, подбежала к пытавшемуся подняться мужу, обняла и прикрыла его своим телом. Её истошный крик так и не успел вырваться из груди, Коно задавил этот крик потной и грязной от крови рукой. А затем сам скорчился от боли, другая, сломанная рука резко напомнила о себе, и он стал грузно оседать на землю. Но тут уже не выдержали его сыновья: мальчик десяти лет и другой, лет восьми. Стремглав бросились они к своему отцу и поддержали его, а затем помогли матери увести его домой. Им было очень страшно, на их детских лицах блуждал ужас, как у маленьких волчат, на глазах у которых погибает мать и отец. Жутко им, хоть вой от страха, но любовь к родителям и тут сильнее разума.
Императора всего покоробило от произошедшей драмы, и он не нашёлся, что сказать людям. Коно был его любимец и никогда не проигрывал в бою. А тут целый спектакль, да ещё с детьми, ох и морока приключилась. Выручил императора хитрый и многоопытный Такахаси. Чёрные глаза его лихорадочно вспыхнули каким-то неестественным, нелюдским огнём: было во взгляде что-то звериное. И рот оскалился, как у волка, при виде сытной добычи. Такой момент удачи нельзя было упускать: сам император его оценит с лихвой. Вот где надо показать свою преданность, красиво уничтожить другого русского, раз первый остался жив.
Не ожидал Василий такой прыти от японца. Без всяких там церемоний и поклонов. Можно сказать, что вероломно, Такахаси обрушил всю свою мощь тренированного тела на казака. Оружие яростно заблистало в руках многоопытного бойца.
Тут дорога была ложка к обеду, и лицо императора просияло: молодец Такахаси, не дал растоптать гордость самурая. Зачем выносить сор из избы, потом сами всё выгребем, без всяких спектаклей разберёмся.
Господин Тарада был более спокоен за Василия, тот и годами постарше Григория, и опыта ведения войны у него побольше. Матерый казак, тонкий боец, лихой рубака, но и совести своей не растерял. И всё же не забывались давние слова Василия: «Руби его…».
Обида глубоко прижилась в сердце японца. Хоть и не было в нём дворянской спеси, но такое и не дворянину тяжело простить.
Идиллия правильно поняла своего отца и взяла его за руку. И глядя в глаза ему, тихо сказала:
— Забудь о плохом, отец, он у нас в гостях. Он честный человек!
И Василию стыдно за тот свой поступок, ты ведь сам это знаешь, те слова были в бою сказаны. Григорий жив, и Василий должен победить, ведь они и нашу честь защищают. И твоя школа в их успехе есть — ведь правда это?
— Прости доченька, что-то нашло на меня — стареть начал! Я бы и сам стал на его место в бою и защитил бы его, ты ведь знаешь это. Честный он человек, Шохирев!
Помолчал, и продолжил господин Тарада:
— Я сам его на ноги поднял, а мог и не делать этого — это Богу угодное дело. Его он и оберегает лучше меня.
И с каждым ударом самурайского меча Такахаси господин Тарада всё больше возвращается в своё далёкое и незабываемое прошлое…
Русскую девочку Настю он запомнил навечно, хотя сам он тогда был на несколько лет старше её. Эта синеглазая куколка, с соломенными волосами, сразу запала в его душу, как только увидел её. Ей было очень тяжело тогда, этой русской девочке, ни языка она не знала, ни родителей. И привёз её в родительский дом старый слуга отца, Фумидзаки.
Сожгли село русских переселенцев хунхузы. Жителей безжалостно поубивали, а ее, маленькую, они не смогли убить — рука не поднялась у разбойников. Потом хунхузы решили продать её. Но что ещё хуже могло быть тогда? Может только сама смерть, которая возможно, была бы избавлением в её положении. Так и осталась сиротка жива.
Отец Сэцуо Тарада тогда находился в длительном рейде со своим отрядом по тылам русских казаков. Он был кадровый разведчик, и работы у него всегда с избытком хватало.
Примчались японцы на пожарище, а там хунхузы добро убитых русских людей делят. И, как былиночка, возле убитых родителей девочка склонилась. Увидел её полковник Тарада и что-то в его душе, в один миг, перевернулось. Никогда не трогали японцы хунхузов: те им и ценные сведения доставляли и часто проводниками у них были. А тут рука сама к сабле потянулась и принялся он охаживать ею, за просто так, бандитов. Постреляли японцы остальных беглецов-хунхузов и всё, само собой, успокоилось. Их мёртвые тела уже не вызывали у разведчиков агрессию. Всё, как у хищников, раз не двигаются объекты охоты, то и опасности они уже никакой не представляют. Девочка-сирота сама тихонечко подошла к его отцу Сэцуо Тарада. О чем думала она тогда, уже никто и никогда не узнает. Наверно злой рок её вёл, а может и он хотел ей помочь. Но тогда это было её единственное спасенье.
Встретились их глаза, сострадание и жалость девочки передались японскому полковнику. Ведь очень много несправедливости он сам вытерпел с самого раннего своего детства. Хотя и рода он был настолько высокого, что, казалось бы, все эти страдания не для него. Но, как известно, чем выше ты сидишь или летаешь, то тем больнее падать оттуда.
Благородный человек, он всё это глубоко переживал в своей душе. Но дух воина, истинного самурая в постоянных боях постепенно укреплял и его душу. И он стал беспощаден, прежде всего, к самому себе, терзал и губил свою жалость в пекле боя. А тут вдруг ясно понял, что эта кроха увидела в нем своего защитника. Эдакий сказочный богатырь, и за отца с мамой отомстил, и за хороших людей заступился. И хоть на русских людей он совсем не похожий, но добрый он, да ещё на сказочном коне. Таких коней она никогда и во сне не видала. И уже на сильных руках этого богатыря девочка расплакалась. Грязные и цепкие её ручонки намертво вцепились в его потную гимнастёрку. Так и уснула она на его руках, и не посмел богатырь потревожить её.
За то время, пока маленькая Настя вволю выплакалась, полковник всю свою жизнь наизнанку вывернул. И сына своего вспомнил, и двоюродного брата Императора, с его подозрениями и тяжбами. Очень захотелось ему тогда домой вернуться вместе с этой русской девочкой к своему сыну Ичиро. Ведь ближе их у него никого не было во всём белом свете. И оба они: и Ичиро его, и Настя, без матерей остались — сироты они. И никто их теперь не защитит, кроме его одного, Сэцуо Тарада. Рано умерла при родах его любимая жена Намико, но его сыну жизнь подарила. И только это достойно того, чтобы он её боготворил всю свою жизнь.
Хотя она могла остаться в живых: она или сын — выбор был тогда. И она, ни минуты не задумывалась, потому что любила благородного и единственного своего Суцуо Тарада. И всё уже было решено раньше. Намико сама так решила. Тогда полковник не мог и думать, что и там могла быть интрига и чей-то злой умысел. Только потом, уже много позже, он смог предположить, что и здесь что-то было не так — могла бы жить его любимая жена. Но подтверждения своей версии он так и не нашёл, и врача уже не было в живых. Так все ниточки и оборвались, и предъявить кому-то претензии было бы просто глупо. Потому что на верху всей этой пирамиды был сам Император.
И сын Ичиро, как две капли воды похожий на Намико, где-то в далёкой Японии сейчас растёт без него. До жути обидная ирония его судьбы. И известно, что на войне всё это ещё горше выглядит. Всё сплелось в этом мире в один живой узел. И теперь, по прошествии многих лет, уже генерал Ичиро Тарада, с глубокой тоской вспоминает умерших: отца своего, полковника Сэцуо Тарада, маму, красавицу Намико и свою любимую жену Настю.
Так ведь сложилась вся их дальнейшая жизнь, что любовь соединила их пылкие и юные сердца до самого последнего вздоха. Как он любил свою Настю он, Ичиро Тарада! Разве найдутся такие слова! Но всё это позже было, а пока отец возил её с собой, из одного похода в другой. У него не было душевных сил расстаться с Настей, как бы оторвать её от своей изболевшей души. Пока полковник всё же окончательно не осознал, что только погубит ребёнка. И хотя она заменила ему всё, что он уже давно потерял, её надо было спасать, и немедленно!
В его отряде все солдаты любили русскую девочку искренней, отцовской любовью. То ей ёжика принесут, толстого и недовольного, и от этого смешно фыркающего. То маленького весёлого зайчонка, то самодельных кукол наделают. И у них душа не на месте была, тосковала о семье и о далёком доме.
Надо было как-то решать эту сложнейшую задачу. Ведь все они прекрасно понимали, что не место девочке на войне. И особенно в таком секретном отряде, где смерть кругом витает. Тут и мужикам не под силу бывает стойко вынести все тяготы солдатской судьбы. Вызвал своего слугу полковник на откровенный разговор. И всё золото и деньги, что у него были, высыпал перед своим слугой, вмиг оторопевшим Фумидзаки.
Тот упал на колени и не знал, что ответить хозяину. Понял он, что тот не в себе сейчас.
— Возьми сам, сколько тебе надо денег, потому что твой поступок по своему достоинству не будет иметь цены. Но Настю мою, сокровище души моей, доставь поскорее домой, в Японию. Это моя единственная просьба к тебе.
Полковник был очень бледен, сказывалось его постоянное недосыпание и всяческий дискомфорт — только бы, этой крохе-девочке было хорошо. Но война есть война, и всего здесь можно было ожидать каждый миг, а ей — жить надо.
— Повезёшь ещё ценные сведения государственного значения, но за них я меньше переживаю, чем за ребёнка. Помни это! Ты должен понять сейчас, что если ты не сможешь выполнить это задание, то лучше сразу откажись, Фумидзаки. И я смогу простить тебя сейчас. В противном случае прощения тебе не будет — только смерть. Как в карточной игре, свою и твою жизнь на кон ставлю. А Настя должна быть живой, иначе и быть не должно.
Моя жизнь и так прошла мимо меня. И если образно говорить, я у неё на обочине скорчился. Обидно, что я не погиб и я ещё жив! Очень тяжело мне! Моя жизнь и все наши жизни ничего не стоит перед одной, ангельской душой Настеньки. Все необходимые документы, деньги и вещи ей я уже приготовил — дело за тобой.
Седой Фумидзаки расплакался.
— Я честно служил вам, господин полковник, всю свою жизнь. И благородней вас я не встречал человека на всём белом свете. Умру, но выполню вашу просьбу. И угрозы меня не страшат, мы и так каждый день ходим здесь по самому острию смерти. А за совесть свою я скажу: всё сделаю как надо, иначе я не могу. За добро, платят добром!
Ранним утром от отряда отделились два всадника. У Фумидзаки на руках примостилась сонная маленькая Настя. Попусту не разговаривая и зря не будоража ещё спящую таёжную тишину, они бесшумно растворились в молочной пелене тумана.
Полковник Тарада утирал нежданно хлынувшие слёзы. Подсознательно он уже чувствовал, что никогда не увидит ни своего сына Ичиро, ни Настю. Себя он ни капельки не жалел. К обеду отряд догнал усталый всадник. Пыльный и потный, он едва не валился с седла:
— Проводил их, всё нормально!
Его конь хрипел, глаза его крупно слезились. Плачет боевой конь, и ему жалко ребёнка. Неужели и он так глубоко всё осмысливает происходящее — удивительно!..
Медленно возвращается сознание генерала Ичиро Тарада из далёкого прошлого в реальный мир. Дочь его, Идиллия, судорожно вцепилась ему в руку. Лицо её напряжёно и направлено на арену боя. Но не сам бой видит отец, его сознание ещё не дошло до этого. А дорогие его сердцу черты своей любимой Насти в облике их дочери.
Она очень красива, его Идиллия, но главное её достоинство — чистота души, это всё мамино наследство. И открытость славянской души!
Такахаси точно демон черный, потный и озлобленный, кружил возле Василия Шохирева. Удары его меча были очень сильны, и видно было, что в таком темпе долго продолжать бой он вряд ли сможет. Но Такахаси опытнейший боец и он прекрасно знал, что всё решает один удар. И пытался сломить Василия. Тот и боец, по его понятиям, неопытный, куда ему до самурая. И в госпитале он ещё совсем недавно лежал.
Вот тут-то и была его ошибка: недооценить противника и возвысить свои собственные достоинства. А это для самурая самый настоящий грех. И что вероломно напал он на Шохирева, тоже грех немалый. И всё это требовало расплаты и этот миг, кажется, наступил.
Ловким приёмом казак выбил меч у Такахаси и оттеснил его подальше от оружия. Теперь самурай был безоружен, и можно сказать, обречён.
Заметались рысьи глазки Такахаси по сторонам, и самураю ничего не оставалось, как идти вперёд, навстречу своей смерти. Он обречённо двинулся вперёд, чтобы умереть достойно, иного выхода не оставалось.
Молчат зрители, они не хотят смерти своего соотечественника. Кто думал, что день их победы в великой войне с Россией обернётся поражением двух их сильнейших бойцов. И, возможно, смертью последнего Такахаси.
Вот если бы всё было наоборот, то тогда бы всё было правильно — так и должно было быть! И если бы сейчас всё это свершилось, то это было бы — маленькое продолжение войны, её триумф для всех японцев. А пока Такахаси сам обречён умереть.
Словно поняв настроение толпы, Василий воткнул свою саблю в землю и рукой вытер пот со лба. Совсем, как крестьянин после хорошей работы.
— Что он — сдаваться решил? — недоумевали зрители.
Ропот удивления, передавался, и разрастался, как стихия. — И кому? Нашему великому бойцу, но уже почти побеждённому Такахаси? — очень изумлялись японцы. Ведь самурай ещё не побеждён окончательно. И только смерть его остановит, и та вряд ли. Бой ещё не закончен, раз нет завершающего смертельного удара. Не надо торопиться и торопить смерть.
— Самурайский дух непобедим! Только бой, Такахаси!
А когда до них дошло, что Шохирев хочет померяться силой с Такахаси в рукопашном бою, то их изумлению не было предела.
Неужели он сам, сознательно, даёт японцу шанс победить его в этом поединке? Но Такахаси его не пожалеет — это точно!
— Сам обрекает себя на смерть — безумец! — уже жалели русского казака простые японцы.
Ожил и Такахаси, в его рысьих глазках снова затеплилась жизнь.
О! Он не упустит этот желанный миг, особенно после того как был на волоске от смерти.
И посыпались сильнейшие удары ногами и руками по этому гордому, но неразумному казаку.
Никогда не надо жалеть поверженного врага. Надо моментально добивать его, чтобы и душу его там же убить. Никакой пощады! И тело и душу убить одним ударом.
Но странное дело. Все удары Такахаси не достигали цели и были жёстко блокированы казаком. Он опережал японца в скорости и, практически, выходило, что не защищался казак, а сам нападал на противника. Странная тактика, хотя и внешне казак работает спокойно, без всякой видимой агрессии. Такахаси боролся с раннего детства. Можно сказать, что всю свою сознательную жизнь. Все приемы японской борьбы ему были давно известны. Ещё были и свои приёмы, которые передавались только по наследству, и только в своём роду. Все приёмы японца не достигали цели. И только тогда Такахаси понял, что казак владеет другой борьбой — ему неизвестной. Целой системой, другой школой.
Мягко лёг на землю Такахаси, он так и не понял какой приём применил Шохирев.
Вмиг загнул его Василий в салазки и надавил на известные ему точки. И какой-то миг держал казак противника в этом положении. Тело японца заметно деревенело и теперь он сам, без посторонней помощи, вряд ли бы разогнулся.
Изумлению императора не было предела:
— Вот это борьба! Телохранители из этих казаков, пожалуй, что, самыми сильнейшими будут. Во всём его государстве! Надо как-то их к себе в охрану переманить. А то вся его нынешняя охрана только пьёт и жирует. Как коты лощёные стражи бродят, но как говорится, мышей не ловят. Эти казаки понадёжней будут.
Никто из зрителей не просил добить Такахаси, тот только пришёл в себя, и его мышление немного прояснилось. Потому что добивать там было нечего и некого. Его попытались разогнуть, но дикая боль мешала этой процедуре. И чтобы не порвать бойца, всякие действия были прекращены.
Василий подошёл к Такахаси, положил ему свою руку на голову, заглянул в глаза. И четко сказал:
— Дыши!
Такахаси стал разгибаться. Слуги помогли ему подняться и бережно увели в сторону.
Тут уже японцы не выдержали, и опять грянули своё восклицание, разноголосое и дружное:
— Касаки! Касаки! Касаки!
Долго продолжалась эта буря эмоций. Но вдруг и она переросла в одно непонятное слово. Василий не понимал его, хотя смысл дошёл и до него чуть позже.
— Свободу! Свободу! Свободу! Свободу!
Император явно не ожидал такого единения толпы. Слово народ для этой вопящей оравы, никак не подходило. Стадо! А тоже возомнили о себе, что они народ! Народ! Народ!
Лично сам он был приверженец другой тактики, а именно: легендарного принца Сусано.
Тот сам мирился с более сильным врагом. Входил к нему в полнейшее доверие и даже сам угощал его лучшим вином. Но потом уже со спящим гостем жестоко расправлялся. С великим наслаждением вонзал ему нож в спину. Именно в спину и не считал это трусостью, а особой тактикой боя.
Но потерять своё лицо, да ещё в такой значительный день, Властитель тоже не хотел.
Сейчас решает все только маленький миг. Или ты на коне, который помчит тебя по вечной дороге славы. Или же ты позорно, и уже навсегда, будешь растоптан общественным мнением. А это похуже смерти будет.
И как ни тяжело это было делать — но надо было!
И жест руки Великого императора вмиг обуздал всё это стадо безумцев. Именно безумцев — в своей великой прихоти.
Иначе как их назвать? Кто они?
Угасал их разноголосый рёв, и скоро стал он похожим на людской шум.
И чуткая тишина зловеще разрасталась над толпой своим незаполненным пространством и готова была опять стать непредсказуемой и не управляемой.
Но желанный миг полного эффекта от сделанного императором щедрого подарка народу и величия его слов не был утерян. Так как мудрый император был ещё и великим комбинатором слов и тончайшим политиком. Тут уже равных ораторов, ему не было во всей Японии.
— Казаки свободны!
Ликование японского народа было беспредельным. Ведь так оно и бывает: если полюбил он своих героев, то уже навечно. А казаки покорили сердца добрых горожан своей великой честью и благородством, настоящих воинов.
Господин Ичиро Тарада, также как и казаки, был ошеломлён решением императора. Настолько всё достигнутое сейчас казалось невозможным, что сам миг счастья стал поистине ошеломляющим, даже для него самого. И сколько он вложил труда в достижение этой заветной цели, только Господь Бог знает. Генералу трудно было поверить во всё произошедшее. Что он сам, от душевного волнения, громко перевёл участившееся дыхание.
Но всё желанное свершилось — правда восторжествовала! Свобода! Свобода! Свобода!
Фактически, весь гнев императора, ловко завуалированный, он принял на себя. Как говорится, только дураку не было понятно, чья это заслуга. И сейчас всё это, как никогда прояснилось.
Генерал уловил брошенный императором укоризненный взор, прямо в его счастливые глаза. Ничего хорошего это не предвещало. Их давняя неприязнь друг к другу только разрасталась. И, наконец-то, достигла апогеи.
— Три дня я даю казакам, на ознакомление с городом и на сборы в дорогу.
Буря оваций всё ещё не дала императору закончить свою мысль.
— На четвёртые сутки американский пароход покидает гостеприимную Великую Японию. Он впервые, за всё время ведения боевых действий, возобновляет свой рейс во Владивосток. Это всё говорит о нашем вечном стремлении жить в мире с нашими соседями: Россией и Америкой.
Здесь Император конечно лукавил. Но чувство своего величия и величия своей страны не позволяли ему сказать иначе.
— Так вот, с этим пароходом эти герои должны покинуть нашу гостеприимную страну. Иначе они будут арестованы и преданы военному суду, как беглые военнопленные. Потому что всё последнее время они не находились в отведённом для их содержания месте.
Хитрости императора не было границ. И он, предвидя недовольство простых людей, приготовил для всех их сладкую пилюлю. Хотя для русских казаков она была не слаще яда. Но кто из японцев это знал, это надо было прочувствовать.
Был император знаком и с русской классикой, в этом ему не откажешь — силён он был в науке! И сейчас всё получалось так, что вел он казаков по жизни уже другими наторенной дорожкой.
Всё получалось, как было сказано ранее в литературе, у великого русского классика Некрасова. Смысл слов, автором сказанных, яснее ясного гласил, что русскому человеку на Руси, уготовлено три петли: одна шёлку черного, другая шёлку белого, а третья шёлку красного — любую выбирай, в любую полезай.
Именно этим смыслом слов и руководствовался Микадо. И подвёл он своих пленников под эту незримую черту выбора! Любую петлю выбирай, зато очень демократично и современно. Тут уже его никто не осудит, ни свои ни чужие люди.
А император любил блеснуть своими обширными познаниями в области литературы. И старался как-то воплотить их в свою жизнь. Для тех, кто это понимал и ценил его великие познания, это был его настоящий триумф. И тут всё отлично у него получалось.
Жаль, что сейчас собралось не то общество, где можно было бы воссиять во всю свою силу гения. Но всё равно и под лестной подоплёкой чётко прояснялась вся невидимая трагедия пленников, кто понимал это. А именно?
На данном этапе и в Японии дела пленных казаков сейчас обстояли не лучше, чем в старой России простолюдину.
— Могут казаки и остаться в Японии. И служить самому Великому Японскому императору, и стране Восходящего Солнца, в моей охране.
А мы известим русское правительство. И даже, родственников известим о их патриотическом поступке, во имя Великой Японии. И, как героям, им награды дадим. Конечно, не за военную доблесть и мужество, но всё же не обидим их!
Всё, как истинным японцам положено. Что заслужили своей доброй службой иноземцы — то получайте в награду!
Вот так умышленно загоняет император казаков в невидимую петлю.
Опять ликует японский народ такому мудрому решению императора.
— Касаки! Касаки! Касаки! Касаки!
А нам с Василием стало жутко от таких нежданных слов императора. Этого мудрого и Высочайшего Правителя древнейшей страны Восходящего Солнца. Нас чуть кондрашка не хватила.
Предателями мы никогда не были, а тут такая перспектива залезть в навоз по самые уши. Аж жутко становятся от такой перспективы.
Но моя любимая Идиллия с робкой надеждой смотрит на меня. Это её последняя надежда не растеряться со мной в этом штормующем море жизни. Остаться здесь! И вот она опустила свои чудные, угасающие глаза. Спрятала их от меня, чтобы не расстраивать. Любимая прекрасно поняла меня и без всяких моих «трепетных» слов.
Нельзя требовать от человека невозможного. И что всякому разумному деянию есть предел. А толкать на предательство Родины, да ещё своего любимого человека — тяжкий грех! И она не сделала этого. Моя Идиллия святой человек. И я счастлив оттого, что она так понимает меня. И нет на свете человека сейчас счастливей меня. Прожить бы нам всю свою жизнь вот так — в море счастья.
Но надо снова возвращаться в адскую бытность этого, не нами придуманного, праздника, нашего поражения, но ещё не погибели, и приторной славы предательства.
Василий Шохирев, по казачьему обычаю, поклонился Великому императору, а затем на все четыре стороны японскому народу.
— Благодарю вас, ваше величество, за подаренную мне свободу. Но остаться в Японии я не смогу по нескольким причинам. Первая: потому что я, как честный казак, присягал русскому царю: ему верно служить и Отечеству. И я не могу изменить данной присяге.
Вторая причина: у меня в России есть семья и растут дети. И я просто обязан быть с ними, исключение составляют война или учебные сборы.
И третье: у нас в России и так говорят, что незваный гость хуже татарина. Поэтому я не хочу вам создавать лишние проблемы и пренебрегать вашим гостеприимством. Дороже моей России для меня во всём мире страны не существует.
Охнула заинтригованная масса людей на площади в своём великом восхищении и недоумении казаками.
— Мне каждый день снится родительский дом, где я маленький и босоногий бегу по росистой траве. То я слушаю поющего жаворонка из пронзительной синевы небес. Ведь я потомственный казак и всё это моя Отчизна. Это моя душа плачет! Зовёт меня! Я только домой хочу и у меня нет других желаний, ваше величество. А наград мне и своих достаточно. Не обессудьте, ваше величество, за всю мою высказанную дерзость. Я русский человек и моей душе здесь, как в темнице, тяжело.
Поклонился Шохирев японскому императору и на все четыре стороны японскому народу.
— Спасибо вам, добрые люди!
— Пусть будет по-твоему — высказался император. — Езжай домой, казак, к своей семье. А награду всё же прими, — и орден подаёт Шохиреву: — За дружбу наших народов! Это юбилейная награда, для ваших пленённых офицеров изготовлена. Но на них столько крови, и своей и чужой, что не будет в этой награде искренности и душевной чистоты, как у вас.
Хотя каждый из них посчитает за честь их носить. А получить орден, лично из моих рук, ещё большая честь. Так что носи, казак, ты с честью заслужил эту награду. Мой народ не против такого решения. И снова буря оваций, нахлынула на нас.
— Касаки! Касаки! Касаки!
Я тоже предстал пред лицом японского Микадо. И всё повторилось: не захотел я оставаться на чужбине. И нарушать данную русскому царю присягу я тоже не стал.
Принял я орден из рук императора уже спокойнее, чем Василий. Ведь я не против дружбы наших народов: я против всякой войны. Кто, как не мы с Василием, заслужили её. И перед лицом смерти не дрогнули, и с честью выдержали плен, и ещё разные испытания, уготовленные нам судьбой.
Но меня ждало уже другое, вольно или невольно, последовавшее испытание, и, наверное, самое тяжёлое и роковое.
— Почему моя племянница Идиллия неотступно следует за тобой казак? Иногда на ней просто лица нет. Ужас так и бродит по её лицу. Особенно это было заметно в твоём смертельном поединке с Коно.
Император был стар и мудр. Он, что рысь, опытен и любого человека насквозь видит. Уж ему ли не знать состояние любящей души. Он и сам всё видит прекрасно, но и здесь у него есть своя линия поведения. Идиллия ему не чужая. И тут его волнение закономерно.
Скрывать мне нечего!
— Мы любим друг друга. И дороже Идиллии у меня никого нет, во всём белом свете.
Дрогнуло лицо великого императора от такой правды казака. Не принимала его душа такого ответа, не смогла принять. И тень недовольства заиграла на лице свой завораживающий танец. Пока не легла на его лицо печать никому не подвластного, принятого им, рокового решения. От которого ты и сам, хоть ты и император, уже никуда не денешься, потому что обречён это сделать и огласить его.
И не людьми это было решено. Где-то уже витало это решение. Но где? Наверно, в небесах! Или дебрях нашей неизведанной мысли. Связь какая-то была. Рок! Чужой разум!
И тень легла на чело императора, исполнителя этой злой роли. Какое-то мрачное озарение.
Ведь, казалось бы, всё было в воле императора: и казнить и миловать нас. И хотя бы просто оставить нас в покое. Но оказывается, что по-настоящему, он только мог утвердить, ставшее уже своим, то роковое решение.
И скоро Идиллия предстала перед разгневанным дядей:
— Моя милая племянница, правду ли говорит этот русский казак?
И не обидел ли он тебя, даже недостойным твоего высочайшего положения взглядом? А тем более, изливать здесь такие дерзкие речи, что очень смело с его стороны.
В случае обмана, он понесёт заслуженное наказание — смерть!
Бледнеет Идиллия. Когда же закончатся для неё эти душевные муки. Это не праздник для неё, а настоящая пытка, где её душу ежесекундно и нещадно третируют.
Но любовь и сейчас оживила лицо девушки. Придав ей такую неземную, волнующую всех красоту, что перед признанием её никто не устоит. Настолько она чиста, глубока и понятна всем. И как из родника из души выливается нежность, пить и не напиться её.
— Я люблю Григория, и это выбор моей души. И никого мне другого не надо. Это правда, дядя!
На всю жизнь, он мой единственный. Я за ним, как ниточка за иголочкой, на край света пойду. И нет такой силы, что смогла бы удержать меня вдали от него, наверное, только смерть.
Вот эти отчаянные и роковые слова Идиллии и заставили встрепенуться императора. Похоже было, что тут их мысли сходились.
Он как бы мигом окреп своей метущейся душой и уже ни в чём не сомневался. В эти роковые минуты всё было им решено, окончательно и бесповоротно. Есть в нашей жизни такие часы и минуты, которые лучше бы не знать — здесь всё ещё раз совпало. Рок.
Замерло множество людей, в ожидании ответа императора. Они ждали чуда. Они верили в любовь, они сейчас жили ожиданием этого чуда. И мудрый император и на этот раз сделал всё, как они хотели. Не может знать всё народ, это ему не дано!
— Ты свободна Идиллия в своём выборе. Ты вправе решать свою судьбу сама, и я не буду чинить тебе препятствий.
Ликованию народа не было предела. Не знали подданные ничего про принца Сусано и его неотвратимое коварство. Зачем им знать всю эту грязь? Сейчас эти люди, как никогда, были далеки от политики и, тем более, дипломатии. И то, что император уже не мог поступить иначе.
Его выбор был сделан ещё раньше, окончательно, и бесповоротно — они этого не знали.
И никогда они не узнают его настоящего решения. Оно, конечно, не то, что он высказал сейчас вслух этим ликующим людям. Генерал Ичиро Тарада не посмел покинуть площадь до окончания всей церемонии награждения русских пленённых офицеров орденами.
Награждение проходило очень спокойно и, можно сказать, что вяло. Предатели хоть и сияли все золотом, но состояние их души, всегда было неизменным — низость!
И японцы прекрасно это понимали, таково и было к ним отношение. Что заработали, то и получили, предатели во всём мире одинаковы.
Но и тут не всё было гладко, как ни жаждал награды русский генерал Тряпицин Лев Гордеевич, прямо из кожи лез, но так и не получил её.
Его, бедного, и в жар бросало и потом он обливался и, можно сказать, что весь он извёлся. А тут ему вместо награды и передали, как обухом топора по голове ударили, что его награждение задерживается до особого распоряжения Его Высочайшего Величества.
Удар по его самолюбию был колоссальный. И Лев Гордеевич еле удержался на ногах, чтобы не обронить своё тело. Это было очень заметно со стороны казакам.
Его лисья натура уловила во всём этом подвох, а может и того хуже — опалу! И он мучил себя душевными терзаниями до самой личной встречи с императором, которая должна была произойти вечером.
— Почему не дали награды, что случилось?
Император был суров, как никогда и, можно сказать, что почти не замечал молодого русского генерала. Но это было не так — император настойчиво продолжал размышлять дальше. Хоть и молод он, но грязи и предательства на нём предостаточно. Что на собаке блох! Этот будет молчать вечно, не в его интересах много болтать. И хорошо, что он русский, здесь не должно быть другого мнения, мол, свои у них разборки, на почве гордости и произошло убийство.
Вместо приветствия, неожиданно резко император обратился к Тряпицину:
— Господин генерал, настало ваше время послужить Великой Японии. Я вас сразу предупреждаю, что отказа не должно быть, в противном случае вы труп.
Лев Гордеевич еле держался на ногах — он уже обречён. Он чувствовал это всеми фибрами своей души. Мама! Возопила его душа.
— Я не один принимал такое решение, но задумка тут моя. Здесь я высший судья, а над нами уже Бог — на небесах! Не должно произойти кровосмешения Императорской крови и дикой казацкой. Мои предки мне этого не простят — ты понял, генерал, о чём я забочусь. Я говорю об Идиллии и Бодрове.
Достаточно того, что уже ранее было у нас, Идиллия повторяет дорогу своей мамы, русской красавицы Анастасии. И в её смерти есть тоже загадка, но мало кто знает об этом. Там тоже было не ординарное решение и, конечно, большая интрига. Но всё знать никому не дано — не тот их уровень! Ичиро Тарада так и не узнал всей правды. Анастасия могла жить, но она мешала всем. Она была бельмом на глазу у всей нашей императорской династии. Её уже нет! И очередь теперь за Идиллией. Её надо спасать, или…
Я всё же я решил, что должен погибнуть казак, а Идиллия останется жить. Я отвоевал ей право на жизнь, она достойна этого. Она умница, каких свет еще не видел. Она божественна, и это наша кровь сказывается. Великой династии!
При посадке на пароход ты будешь стрелять в Бодрова.
Идиллия никуда одна не поедет и останется здесь, в Японии. Твоя награда будет ждать тебя. И следующим пароходом ты с почётом отбудешь в Россию. Остальные офицеры ещё потолкаются здесь. Для них плен ещё не закончен, души их у меня вот здесь — в кулаке. А тебя отпускаю!
И с остервенением император растёр сжатые пальцы, а затем их брезгливо, совсем, как породистый кот, отряхнул в воздухе — избавился от грязи.
— Надеюсь, что стрелять ты не разучился, генерал Тряпицин? Или и там ты очки всем втирал, — рассмеялся своей шутке император. — Хотя и дослужился до генерала.
— Ваше величество, не извольте беспокоиться, стрелок я отличный. И в Бодрова я не промахнусь, это точно. Он и так мне очень противен, быдло и есть быдло! А куда лезет, стервец?
Я не смею вас ослушаться, но здесь я не за награду работаю, а в радость себе — он опозорил меня! И я просто обязан это сделать, ведь я потомственный дворянин. И свой позор хоть сейчас готов смыть его кровью.
Нос-румпель потомственного дворянина из синего цвета превратился в яркий, свекольный. Видно было, что генерал, как говорится в народе, зашибает — неравнодушен к спиртному.
Глаза Льва Гордеевича застыли на выкате и от злости совсем обесцветились, как у тухлой рыбы. Но душа его требовала, по его мнению, законного мщения и потому клокотала — местью жила!
Вот он, долгожданный час мести наступил волею самого императора. Уж теперь-то настанет моя очередь смеяться. Казачье отрепье.
Хотя все и утомились, но все ждали возвращения господина Ичиро Тарада. Идиллия ни на шаг не отходила от меня. Она за весь сегодняшний день впервые и по настоящему была счастлива. Теперь их уже никто и никогда не разлучит и скрывать ничего не надо. И в том, что она поедет со мной в Россию, тоже никто не сомневался, даже отец.
Но генерал Тарада не разделял нашей с Идиллией радости.
— Я не верю, что император так просто отпустит свою племянницу и мою дочь в Россию. Тем более, с пленным русским казаком.
Лицо его за весь этот сумасшедший день потускнело и осунулось. Генеральский мундир давил его и он вынужден был снять его. Он плохо спал всю последнюю неделю и постоянно, как опытный штабист, чувствовал неотвратимую западню, которую ему готовят свои же люди. Он и так многое сумел изменить в ходе событий и всё в лучшую для нас сторону. Но остановить весь мощный вал атаки на нас и на свою собственную персону он не мог. И это было везде, по всему невидимому фронту.
И генерал, уже интуитивно чувствовал, что проигрывает этот неравный бой — везде складывалась безвыходная ситуация. Из глаз настоящего самурая и, казалось бы, железного человека, хлынули слёзы.
— Доченька моя! Я всё потерял в этой жизни, когда умерла твоя мама. И ещё удар — геройски умер мой благородный отец.
И поправился:
— Мой отец умер, как истинный воин-самурай.
Вся моя жизнь была посвящена служению Великой Японии и твоему воспитанию, доченька. Если ты уедешь с Бодровым, то я не обижусь на тебя. Я столько натерпелся в этой жизни обид, что на твоей дороге стоять не буду. Это очень большой грех и он непростительный мне. Так будьте же счастливы с Григорием!
И, как бы угадав наше желание пожалеть его и успокоить, сам ответил:
— Уехать в Россию с вами, я не смогу — это исключено! А вы, готовьтесь в дорогу!
Не сговариваясь, мы с Идиллией упали пред ним на колени и на наших глазах заблистали слёзы. Никаких слов благодарности не находилось.
Господин Тарада поцеловал и благословил нас, совсем по-русски:
— В добрый час, мои дорогие детки! Живите в мире и согласии всю свою жизнь. Всегда любите друг друга! И помните, мои милые, что птица с одним крылом не летает!
Он совсем постарел и чтобы далее не выказывать нам свою нечаянную душевную слабость и не расплакаться, ведь он всегда был настоящим самураем, удалился отдыхать в свои покои.
Отец унёс с собой груз неразрешимых проблем и никому их не разрешить, кроме его самого. И он это прекрасно понимал и не хотел отягощать нас этой непосильной тяжестью.
И все мы тоже разбрелись по своим спальням, сил не оставалось, ни душевных, ни физических.
Глубокой ночью я проснулся от мысли, что у меня забирают Идиллию и меня охватил панический ужас. Я весь вскинулся для смертельной схватки с врагом.
И тут при свете полной луны я увидел свою любимую. Она охраняла мой крепкий сон, скорее похожий на забытьё. Но шаловливый шутник — сон, взял и сморил её на этом непривычном посту.
Идиллия разметалась рядом со мной, словно лебёдушка, которая себя не жалеет жизни птенцов своих. Так меня она прикрывала от невидимого коршуна. Но теперь настала моя очередь беречь её робкий сон. Спи моя любимая, набирайся сил! Сколько ты натерпелась за этот бесконечный день.
Но и тут мне не было покоя. На тонкой грани сна и реальности я вдруг отчётливо вижу генерала Тряпицина, который мне ехидно улыбается. И настолько тонко это видение, что у меня возникает мысль, что оно сейчас сотрётся и совсем исчезнет. Но смутное видение обозначилось ещё сильнее и я увидел, что Лев Гордеевич, целится в меня из пистолета. А я не могу уклониться от прямого выстрела мне в лицо и уже ясно понимаю, что обречён и холодный пот застилает мне глаза. Но ещё больше страшно мне не за себя, а за мою Идиллию — где она? Неужели я уснул на посту и проспал её? Страшнее этого для меня нет наказания. Это же преступление на войне и мне положен за это расстрел. И сам Тряпицин Лев Гордеевич приводит этот приговор в исполнение.
Но почему какой-то предатель судит меня? И моя душа взбунтовалась — где Идиллия? Где?
И тут светлая, как облачко, тень откуда-то сверху опустилась между нами. И нежно окутала меня, мне казалось, крылами, надёжно прикрывая от выстрела.
И как гром звучит роковой выстрел Тряпицина. Идиллия, как раненая птица, трепещется на моих руках. Как страшный демон хохочет генерал, весь содрогается от смеха. Затем он уходит за линию видимости моих глаз. А там шум борьбы и его дикий вопль полёта в тартарары, где прекратился глухим ударом разбитого тела.
Потом я стою, с мёртвой Идиллией на руках, на маленьком островке, а вокруг море воды.
— Это её жизнь и есть маленький островок — ваш Рай. И ты у неё был в гостях! — слышится отчётливый небесный голос. — А твоя жизнь вода, беда твоя жизнь! Большая вода! И беда большая!
Очнулся я в руках моей любимой Идиллии и ничего не могу ей ответить.
Главное, что она жива. И я неистово, как никогда в жизни закрестился — меня одолел нешуточный страх и за неё и за себя. И в бою так не бывает жутко. А тут, не побоюсь сказать, волосы на голове встали дыбом.
Трудно было возвращаться к жизни после холодных объятий сна и всего увиденного и прочувствованного каждой своей клеточкой. А утром мы с Василием не знали чем заняться. Вещей у нас фактически никаких не было, оставалось заниматься только документами. Но и тут ничего не ладилось. Мудрый господин Ичиро Тарада строго-настрого запретил нам покидать пределы его дома. Он прекрасно понимал, чем это могло закончиться для нас. Несчастный случай и нет лихих казаков. И как всегда, ответчиков тоже не будет.
Все бумажные дела он взялся уладить сам. И тут он опять удивил нас знанием русского языка. Это была ходячая кладезь разговорного русского языка. И, похоже было, что вся его душа была положена на алтарь, этого дела.
— Как это у вас в России говорят: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек!»
Несомненно, что он глубоко изучал русский язык и, наверно, не в одной академии.
Прав был отец Идиллии, нам не следовало никуда высовываться из предоставленного нам убежища. И мы, как паразиты, вынуждены были скрываться от людей, или даже от шороха листвы. Везде могла ожидать нас опасность.
Сильно усталый, генерал появился только к ужину. Лицо его было непроницаемо, но нам он, как бы виновато, улыбнулся. Ведь мы тоже извелись в этой длительной осаде, да ещё при невидимом противнике.
— Документы вам выдадут только в день отплытия парохода. Казаки могут взять с собой только одежду и еды на сутки. И, естественно, свои справки об освобождении из плена.
Идиллия может тоже поехать в Россию, но только одна. К вам она не имеет никакого отношения. Соответственно и вещей может взять столько, сколько ей надо одной.
Лицо Идиллии счастливо, и отец невольно думает: — Чему радуешься доченька: везде коварство и обман. А ты так наивна, моё единственное дитя. Кто же тебя там защитит? Милая ты моя!
Ему хочется плакать навзрыд, но слёз уже нет. И сердце отца разрывается на части — болеть устало!
Василий тоже замкнулся и старался уйти в сад к своему любимому старому карпу.
Тот узнавал казака и спешил к нему. Рот карпа что-то тараторил и глаза его оживлённо блестели. И блаженно закатывались, когда Василий почесывал ему крутые бока.
— Рыба, но насколько она умна — думает Василий. — А мы всё воюем друг с другом, — и подытожил, — паразиты мы! Всё уничтожаем, всё, что попадётся. И нам по сто лет не прожить, но это и к лучшему: всё меньше крови на нас будет!
— Прощай мой друг, мой безответный дедушка. Ты моя единственная радость на всю вашу Японию. Только ты и смог понять мою суровую душу: добр я, как и ты, но кто об этом знает?
И сидит горемыка возле пруда и, странное дело, у карпа из глаз капают крупные жемчужные слезинки на цветные камешки дна. И рот его скорбно, совсем по-старчески, закрыт.
Он всё понимает! Возможно и не меньше нашего. А может и глубже всё воспринимает — этот мудрец вселенной!
Пароход уже вторые сутки стоял у пристани и, как всегда, работа на корабле всем находилась. Сновали моряки по трапу и не предвиделось окончания этой суматохе. Равнодушно взирали на них немногочисленные пассажиры. Их больше всего волновала экзотика этой малопонятной для европейца страны.
Но завтра день отплытия «Виктории» до Владивостока и все приготовления, волей неволей, завершались. Зевак это мало интересовало и они толкались, как рыбы на нересте, у причала. Были здесь и Коно с Такахаси, и у них были свои причины здесь присутствовать. И одна из них очень значимая для их чести и их родственников. Всё же хотелось им отблагодарить русских казаков по-человечески, по совести. А как это сделать, они не знали.
Сначала им гордость не позволяла и мыслить об этом, но все их родственники настояли на своём решении. Их заинтриговало то, что казаки никого не побоялись, даже самого императора, и не пошли на заманчивое убийство. А ведь сами японцы, как ни стыдно это признать, помышляли совсем другое. И готовы были убить казаков не задумываясь — сейчас им стыдно за это.
Этим русским не надо было легкой славы, они победили сразу всех японцев своей человечностью. А это, согласитесь, посильнее всякого оружия — душевно любить человека.
И за этот великий человеческий подвиг их долго будут помнить честные люди Японии. Их дети, как ни странно, уже играют в казаков. И почти совсем так же, как русские мальчишки в своих казаков-разбойников у себя в далёкой России.
Сидя верхом на палочках своих деревянных, воображаемых и резвых конях, скачут они по пристани. В руках у них деревянные казацкие шашки. А на голове что-то похожее на страшные казацкие папахи. Но только от этого игра ещё больше становилась интересней. И уже слышен перестук деревянного оружия, это встретились отважные конники. Но и тут русское, зычное слово «Ура!» оказалось посильнее напевного клича «Банзай!»
И, как ни странно, японские казачата побеждают своего родного и такого же сопливого противника, друга своего. Сегодня это никого не удивляет, все равно в итоге победила дружба. Но сколь долго это будет продолжаться, никто не знает. Вырастет другое поколение японцев. И возможно зазвенят сабли яростных бойцов и прольётся всенародная кровь.
Болит сломанная рука у Коно, но он не уходит домой, всё надеется на добрую встречу с казаками. И Такахаси тоже весь извелся в ожидании, и он должен как-то отблагодарить русских, а подарков им припасено немало. Но казаков почему-то среди этих любопытных людей не было.
Нет их на пристани, и вообще нигде нет, даже дома. Удивительно всё это.
И только тут до японских борцов доходит вся простая истина, что правы казаки. Найдётся своя сволочь, или наймит какой-либо, и в такой толпе их проще простого убить. И страшно им от такой мысли становится. За что?
А тут еще и русский генерал ни с того ни с сего на пристани трётся. И одет он очень уж подозрительно, как хамелеон, на все случаи жизни. И ещё очень похоже, что он при деле сейчас, как охотничий пёс в поиске рыскает. И глаза его так же всё зыркают по сторонам: — нет ли где казаков! А кого он ещё мог здесь высматривать? Только их!
— Что-то здесь не ладное творится — сообразили японцы, — и возможна здесь крупная интрига, а может и того хуже! Не дай Бог!
Помнили они, как раздавилось куриное яйцо в руках русского генерала. И как содержимое яйца размазалось на лице и одежде Тряпицина. Вот смеху-то было! Повеселился тогда народ. Так им и надо предателям, орденов захотели. Холуи вечные!
Может, что и другое задумал генерал в отместку казакам, не один он стратег такой. Наверно обидно им, что казаки здесь героями стали и лицо своей Родины, в отличие от них, сохранили. — Всякое, может быть, — терзаются японцы!
Но теперь расстановка сил в этой игре, иначе не назовёшь её, основательно изменилась. У казаков и защитники появились. И здесь их на пристани полным-полно. Не одни они.
Практичные и мудрые японцы решили сосредоточить своё внимание на этом странном русском генерале. Уж он то, этот прощелыга, их обязательно наведёт на казаков, совсем не зря он на пристани промышляет. Ох, не зря! А информация у него из первоисточников идёт — всё он знает!
И они, практически, не ошиблись, хотя о более заинтересованных лицах и они даже предполагать никак не могли.
Утро следующего, третьего дня, тоже ничего хорошего не принесло казакам. Зато документы об их освобождении из плена были им вручены господином Тарада.
Этим самым очень гордый и благородный отец подписывал сам себе, приговор на пожизненное одиночество. Но поступить иначе он не мог, глядя на свою единственную дочь. Та была на седьмом небе от нахлынувшего на неё счастья. Не это ли для него, любящего отца, наивысшая награда! Счастье оставаться со своим любимым человеком на всю долгую совместную жизнь — величайшее счастье. Он сам об этом мог только красиво мечтать.
Но его личная жизнь сложилась настолько трагично, что у Ичиро и мысли нет препятствовать счастью дочери. Пусть хоть она будет счастлива. А он сам, как же сам? Душа его разрывается от боли. Но он нашел в себе силы не молчать, чтобы не расстраивать дочь.
— Проживу как-нибудь! Кажется, так говорят, великие в своей необузданной простоте, русские. Они не точны как японцы, но душевности у них побольше.
Сколько я не изучал их быт и нравы, всегда не переставал удивляться их героической стойкости и самопожертвованию ради счастья других людей. Ведь я профессор в этом деле — это моё второе, кроме военного, образование. Профессор! И ещё вся моя жизнь многое подсказала мне — учила меня.
Почти что весело всё это сказано было, но сколько неизмеримой горечи в его душе сейчас звучало. Иначе и быть не могло. Идиллия это чувствовала, но крепилась и не плакала.
Убийство казака должно было произойти на корабле при общей посадке пассажиров, но уже на чужой территории. Как известно в мировой практике — это должно было произойти так, и не иначе. На корабле, на чужой территории.
И Тряпицин не мог поступить по-другому, здесь всё просчитали профессионалы. И что-то изменить было невозможно, разве, что потерять свою жизнь. Но она дороже стоит — тысячи чужих смертей. Она для него бесценна! И ещё очень хотелось ему уехать домой, да ещё с новым орденом на груди. Уж дома-то он навсегда избавится, от этого кошмара кровавого Востока. Следующий пароход будет его, а остальные офицеры пусть ещё парятся в этом позорном плену. Он своего страха натерпелся вволю! Конечно, и ему противна роль палача, да ещё при его генеральском звании. Но, в общем-то, игра стоит свеч, тем более что ведётся она на чужой территории. И всё будет шито-крыто! А в России он будет герой, это точно! И ещё не одна награда дождётся его от русского царя.
Как ни пытались Коно с Такахаси вместе со своими родственниками пробиться к казакам, но это им никак не удавалось. Все их попытки были тщетны. А сказать им много чего хотелось. И ещё от всего сердца пожелать хорошим людям счастья. И хоть какого-то маленького гостинца передать.
Но свита господина Тарада из слуг и носильщиков упорно не желала подпускать японцев к казакам. Это была хитро замаскированная охрана: надёжные и проверенные люди генерала. И в середине этой, казалось бы, нелепой свиты, прекрасная Идиллия, единственный цветок, её украшающий. Но и она невольно блекла от всей нервозности искусственно созданной обстановки. Это на корабле, а на берегу?
Много людей пришло проводить Идиллию в далёкую Россию. Любовь ведь никак не скроешь, если даже и очень захочешь это сделать. И провожающие тоже все по-своему воспринимали и оценили происходящее. Иначе и быть не могло! Но сейчас любовь всех их объединяла, у этого белоснежного борта корабля. Всё у влюбленных было на виду, вся их прелесть и нежность, вся первозданность чувств, и главное — их чистота. И это подкупало людей, видно было, что им самим в этой суматошной жизни очень не хватало такой чистой и ясной любви. И сейчас она заворожила их.
А природа заблагоухала после ночного и лёгкого дождика. И его было достаточно для сильнейшего по своему заряду толчка к жизни, красоте и, конечно, невольно забытой доброте. И с людьми живительная влага дождя сотворила своё вечное чудо. Радовались люди первозданной красоте природы. И в такой, всё благоухающей красоте, смерть выглядит ещё ужасней.
Она черна и ужасна, как ночь. И досадно, что от её тихой поступи никак не избавишься. Так ночь побеждает день.
На палубу парохода посторонним людям попасть было практически невозможно. И люди забрасывали палубу цветами:
— Тебе, Идиллия! Счастья желаем и деток побольше!
А дальше летели различные коробки с подарками. Моряки не успевали их поднимать и укладывать возле Идиллии. Капитан — очень воспитанный и тактичный человек, он просто сделал вид, что ничего не видит — всё происходит без его участия. Краснеет Идиллия, она совсем не приучена к такому всеобщему вниманию. Но и не ответить людям благодарностью она не может. И поклон за поклоном: она благодарит добрых людей.
— Спасибо вам, добрые люди!
Мы с Василием стояли немного в стороне от Идиллии и нам тоже белозубо улыбались добрые японские люди. Вон как приветливо машут своими руками Коно и Такахаси. Похоже, что первый совсем позабыл о своей сломанной руке. Что ни говори, а жизнь прекрасна, и они уже успели прочувствовать все её прелести. И нам с Василием, от этого вдвойне приятно. А если бы их смерть? Нет!
Что они кричат нам, мы почти не понимаем, но ясно, что они хотят нам добра и мира. Иначе бы они не стояли на пристани, это уже точно. Мы видели мельком нашего генерала Тряпицина, но вид его был настолько блеклый на фоне всеобщей радости, что наши глаза, просто старались упустить его. А вот милой Идиллии он совсем не понравился. Какое-то внутреннее чутьё, может быть, ещё скрытый материнский инстинкт ей подсказывали, что это враг. И даже то, что на пристани не было полицейских, тоже невольно насторожило её. Почему он так свободно гуляет, и именно сейчас, и именно здесь, на пристани?
От её радости на лице не осталось и следа. И она невольно начала двигаться ко мне, чтобы как-то защитить меня. Хотя Тряпицин ещё не пытался стрелять, но сердце её было невозможно обмануть. Что-то будет сейчас! И она решила обратить внимание своего отца на берегу на подозрительного русского генерала. И что-то кричала ему, но тот был в таком плачевном состоянии, что просто не мог понять её. И пока они так изъяснялись, русский генерал понял, что уходит его момент, когда всё можно было сделать без шума. Но и отказаться от своего замысла он не мог: всё же его жизнь стоила несравнимо дороже, чем все наши жизни вместе взятые. По крайней мере, он сам так считал.
Многие видели, как он достал пистолет и какой-то миг целился в меня. Но все мы были настолько заинтригованы происходящим, что ничего не пытались сделать и как-то помешать ему. А я сам видел только взволнованную Идиллию, которая стремительно двигалась ко мне и ещё ничего не мог понять. И что самое странное, я мимолётно вспомнил свой страшный сон. Бывают такие минуты озарения перед лицом неминучей смерти. Ужас, можно сказать, парализовал меня. И я уже предчувствовал, что всё будет именно так, как было во сне: Тряпицин целится в меня из пистолета, а на моей груди трепещущая Идиллия. Выстрел грянул так страшно, что мне казалось, расколол небеса. Но я видел только глаза своей любимой девушки у самого своего лица. Они постепенно менялись. Как день сходит на ночь, так и жизнь в них постепенно затухала. И где-то, на краю бездны, совсем оборвалась.
Тут и полицейские набежали, и складывалось такое мнение, что они как-то хотят прикрыть убийцу. И дальше происходило совсем непонятное дело. Такахаси с криком:
— Он украл мой кошелёк! Держи вора, — как тигр ринулся к генералу.
Испуганные глаза Тряпицина заметались. И до него, как и до других людей, не доходило: какой там ещё кошелёк? Если тут решаются судьбы людей, и его жизнь стоит на кону.
И ещё бередила мозг глупейшая из глупейших мысль: неужели его приняли за вора? Русского генерала? Героя многих баталий? Неприятная мысль. И он невольно попятился к краю причала. А под его ногами действительно валялся кошелёк с деньгами Такахаси. Как тот сумел так ловко подбросить свои деньги под ноги генералу, для всех так и осталось вечной загадкой.
Как снаряд, пущенный с катапульты, Такахаси врезался ногами в грудь убийцы. Ужасная сила удара выбросила преступника за ограждения причала. Головой тот ударился об сходни и мешком упал в воду. Тело Тряпицина никак не сопротивлялось падению в воду и также свободно, камнем пошло ко дну. Никто не двинулся с места, чтобы попытаться спасти русского генерала. Наэлектризованное чувство явного и непонятного и уже второго убийства, жутко владело людьми. И, можно сказать, на время парализовало их волю. И только один Коно понял, как надо разрядить эту угнетающую людей обстановку, без всякого вреда к своим ярким, и вроде бы причастным к убийству, персонам.
— Так и надо вору! Молодец Такахаси! — Молодец! Молодец!
Он кричал это до тех пор, пока народ не прочувствовал, что это действительно так. Тогда и полицейские невольно отхлынули от Такахаси: пусть он ещё и не герой, но уже и не убийца. Просто обычный и невольный, справедливый защитник правопорядка.
Судовой врач осмотрел Идиллию и только горестно развёл руками:
— Она мертва!
Отец взял её на руки и двинулся по трапу на берег. Он весь словно окаменел, ни стона, ни малейшего звука он так и не произнёс.
На берегу её тело подхватили слуги. И только тогда генерал чётко произнёс:
— И моя жизнь закончилась, я жил только ради тебя, моя девочка.
И продолжил:
— Теперь я пойду твоим путём, мой дорогой отец, великий Сэцуо Тарада! Я честно, как и ты, выполнил свой военный, гражданский и отеческий долг и жизнь уже покинула меня, вместе с Идиллией. У меня осталось только моё право: идти вслед за ней.
Теперь ему уже никто не посмел бы помешать. Это было его законное право потомственного самурая — достойно, как он сам считает, умереть и предстать перед Богом. Что он и сделал уже дома — харакири, по всем своим самурайским законам.
Благородный человек был Ичиро Тарада и смерть его также была благородна. Но с его смертью оборвалась ещё одна ветвь Императорской династии. Но об этом генерал и профессор Ичиро Тарада, меньше всего беспокоился.
Я, обезумевший, рвался на берег, но полицейские упорно не пускали меня.
— Господин Бодров, вы не гражданин Японии и не имеете права находиться на её территории. Ваш плен уже закончился, и у вас есть документы, подтверждающие это. Вы можете следовать, согласно вашего купленного билета, во Владивосток. В противном случае вы будете, арестованы и уже никто и никогда вам не поможет. Я очень сочувствую вам, но я соблюдаю свои законы и требую этого от вас. С корабля ни шагу! Прощайте!
Василий силой утащил меня в каюту и также силой заставил меня выпить японской водки.
Жив я остался только благодаря Василию Шохиреву. Он, можно было сказать, что только не нянчился со мной. Я знаю, как он торопился домой к своей семье, но он не бросил меня, и я отдаю ему должное за этот душевный подвиг. По прибытии парохода во Владивосток нас с Василием сразу же арестовали жандармы.
Очень странно мы выглядели в своих цивильных костюмчиках. С множеством подарков, размещённых по различным коробкам и другим тарам, которые заполонили при нашей высадке всю палубу парохода.
Два моих ордена Святого Георгия, орден Дружбы Народов от самого японского Микадо и бумаги на него очень поразили наших контрразведчиков.
И у Василия наград было не меньше, хоть картинку с него рисуй. На наше счастье в городе по своим казацким делам прибывал атаман Иван Лютов. И контрразведчики, решив помочь нашему горю и прояснить ситуацию, организовали всю эту неожиданную для нас встречу.
Как увидел нас атаман, из японского плена освобождённых казаков, слёзы покатились по его щекам.
— Родненькие вы мои, ребятушки, живые! — плачет седой атаман. Сколько же вы натерпелись там горя, и кто его мерил, это горе?
С атаманом мы добрались до Хабаровска. И здесь сердечно распрощались с ним. А дальше уже пароходом плыли мы по Амуру, до своих родных станиц: Михайло-Семёновской. Затем на лошадях добирались до Бабстовской. Как и обещал Василий, так и упал на лугу на траву родную, обнял её, и слёзы закапали из его глаз.
Как я мечтал об этом времени в плену в Японии. Я думал тогда, что уже никогда это не сбудется. И вот наступил мой долгожданный миг. Я не мог так на всё реагировать, как Василий, в наших душах все происходило по-разному. Пулей улетел бы я в далёкую Японию, если бы меня ждала там моя единственная Идиллия. А так весь смысл моей жизни потерялся.
Белые и красные
— Казаки вернулись из плена, — стайкой галчат проносятся станичные мальчишки по пыльной улице.
— Григорий Бодров да Шохирев Василий, живые они, вернулись!
Станичным атаманом был отец мой, Лука, и постарел он здорово. Весь седой уже стал, а с виду спокойный. Не стало той его величественной красоты, что отметила маньчжурская императрица Цы Си, навсегда ушли те годы. Укатали Сивку крутые горки — так говорится в русской пословице.
За одним большим общим столом собрались все казаки станицы и чествовали своих героев.
Всё, что было, то и принесли хозяйки туда, чем богаты были, тем и рады поделиться. Подошёл ко мне отец, погладил меня по голове, совсем, как в детстве, понял он меня прекрасно, что на душе моей было.
— Не журись, казаче! Ты ещё молод и силён, как никогда. Жизнь ещё не закончилась, и за это благодари Господа Бога, что жив остался.
А мне опять Идиллия видится, умирающая на моей груди, и тот страшный выстрел генерала.
Убежал я из-за стола, не смог там находиться, всего-то мне и было тогда чуть больше двадцати лет. А тут всё так и накатило на меня: как живое всё видится, и всё в который раз.
Но дома всё пошло на поправку, и моя душа стала понемногу выздоравливать. Разве есть время скучать мужику в большом крестьянском хозяйстве. Тут столько дел несделанных, что и дня не хватает все переделать. А жили мы тогда зажиточно, ничего не скажешь. Умели работать Бодровы и любили это дело. Так что всего в доме в достатке было, и работы тоже. Со временем стали мои родители подумывать о моей женитьбе, но я про это и слышать не хотел.
Так и шли годы чередой, а я и думать и слышать не хотел ни про какую там свадьбу. Плачет моя мать, убивается, как такое может быть в казачьем роду. Где в каждой семье детей чуть не десяток бегает.
— Это все работники в доме будут, да воины славные, нельзя так, сынок, Бога гневить.
Лука решил поступить иначе. Не стал он ничего говорить мне, и ругать не стал, знал, что всё это бесполезно. Был в казачьих станицах такой закон, что решают там всё старики, их общий сход. И ослушаться их решения никто не мог, даже сам атаман. Создание семьи считалось делом государственным и ответственным, и уклониться от этого не мог ни один казак. Иначе он мог лишиться всех прописанных ему государством прав: на жалование, на землю, и других прав и привилегий. В конечном итоге его могли просто высечь плетями и изгнать из станицы. Но до этого печального конца у казаков никогда дело не доходило, как решат старики, так всё и будет.
Большую ответственность брали на себя старики, и сватали они невесту уже по всем казачьим требованиям, чтобы потом не навлечь на себя хулы со всей округи. Они к невесте и в постель заглянут, и в печку посмотрят. И за стол с ней сядут. Самый уважаемый дед и в тарелку посмотрит, чистая ли она, и вкусно ли готовит невеста — попробует варево. И пустую посуду с обратной стороны посмотрит, чистая ли там тарелка или кастрюля, с тылу, значит. И если что-то там увидел старик, то говорит всем, мол, у вашей невесты ж-па грязная. Всю себя осмотрит невеста, и понять не может, вся чистая она, даже пылинки на ней нет. Может, пошутили так старики.
Но тех уже не вернуть, они ищут достойную невесту, за которую им краснеть не придётся. Тут и сам атаман с ними, отец мой Лука Бодров. Все это его была, отеческая затея.
Так и стала моей женой красавица Екатерина Кустова, и ни разу я в жизни своей не пожалел об этом. И ей ведь, было не сладко, и она ничего не знала о своём женихе. Так же, как и он о своей невесте. Тогда всё это было возможным, и время от времени практиковалось в жизни.
Переживала она конечно здорово, а вдруг ей какого-то бракованного жениха подсунут, как кота в мешке. И всё спрашивала мать свою об этом, да подруг своих: какой он?
Но дело в том, что между станицами тридцать километров было, и никто толком из родных невесты жениха не видел. Даже отец, и тот не видел жениха. Знал он Луку, воевали вместе, вот и всё. Но родословная Бодровых о многом говорила казакам, и породниться с ними за честь считалось. Поэтому отец невесты и был спокоен, да и деды всё по совести делали. Отчудили тогда старики вволю, ничего тут не скажешь. Но они поступали так, как и предписано им было законом. И не лязгали они своими языками, всё в секрете держали, до поры, до времени.
Но всё равно, до Катеньки моей как-то докатилась радостная весть. Её мать по своим женским каналам кое-что всё же узнала о женихе.
— Красивый он, доченька, и хороший, ты с ним счастлива, будешь! — успокоила она дочь.
А как увидела на свадьбе невеста своего жениха суженного, так сразу же и влюбилась в него на веки. Как с картинки он был этот казак.
Красивый сам, светлый волосом, голубоглазый, да чист лицом. Ещё высок он, да широкоплеч, и вся грудь в наградах. Не о таком ли ей мечталось красавце жаркими от грёз ночами и не спалось уже до утра. А теперь и счастье ей привалило, живи только, да жизни радуйся.
Прожили мы немного с родителями и решили строить свой новый дом, да такой большой, что в округе и не было таких. Чтобы под одной крышей с нами и родители старенькие потом жили, и детям место было. Да и внукам чтобы было весело жить в такой большой и дружной семье, и помогать уже своим родителям. А чтобы дом был вечный, то строить его надо было из отборной лиственницы. Вот её-то и надо было специально отобрать ещё на корню и затем спилить и просушить по особой науке. Много было ещё разных заморочек, но мы с отцом их успешно решали, не мог он без дела сидеть, не приучен был. Ещё мы пробовали с отцом здесь, на нашем берегу Амура, свой рис выращивать. И у нас вырастали богатые урожаи риса, не меньше, чем у маньчжуров его собирали. Только вся беда была в том, что продавать его в таких больших объёмах, что мы получали на своих угодьях, было некуда. И постепенно, его стали выращивать ровно столько, сколько надо было нам, и не больше. Постепенно всё задуманное и появилось у нас: и дом большой двухэтажный, и паровая мельница, и ферма для скота, и подсобное хозяйство. И детишек тоже хватало, что за казацкая семья без детей, это, что одна рука для человека, да и та без пальцев. Живи казак, да жизни радуйся.
Но политическая обстановка в мире все эти годы была напряжённой — то война с Маньчжурией, то с Японией, то первая революция в России: её отзвуки докатились эхом до Дальнего Востока. Но в казачьей жизни они ничего не изменили, как стояли казаки на границе, так и жили своей пограничной жизнью. Ловили контрабандистов, да спиртоносов, идущих с той стороны Амура. А в нашей приграничной зоне, в районах золотых приисков, нелегальных золотодобытчиков. Эта проблема была более серьезной, ведь часть золота уходила за кордон.
Грянула первая мировая война. В течение месяца были отмобилизованы воинские формирования Амурского казачьего войска. В Благовещенске был сформирован второй казачий полк и по новой Транссибирской магистрали направлен на северо-западный фронт. Амурские казаки охраняли ставку государя Николая второго в Пушкино, под Санкт-Петербургом. Участвовал полк в знаменитом Брусиловском прорыве и других боевых операциях. Сын Шохирева Василия — Александр в составе третьей сотни второго Амурского полка участвовал во всех боевых операциях. Награжден Георгиевским крестом за боевые заслуги. Григорий Бодров в составе третьего казачьего полка Амурского казачьего войска три года охранял границу в пригороде Хабаровска (Казачья сопка), но в боевых операциях не участвовал, не считая легких стычек с хунхузами.
Царь Николай Второй считал, что нецелесообразно оголять восточные границы и убирать обученные казацкие части оттуда, пока там существует явная угроза нападения Японии и интервенции других государств. И это было правильным решением. Особого переполоху среди казаков наделал отказ Русского царя от трона и передача всей власти в стране Временному правительству. Вот это и было сильнейшим ударом для всего русского казачества.
Ведь они присягали служить Царю и Отечеству. А теперь получалось, что и служить некому стало. Вернулись казаки в станицу в 1918 году.
На станичном совете Лука Васильевич попросил его отпустить с занимаемого поста по состоянию здоровья.
— Стар я стал, станичники, и сердце побаливать начало. Я привык больше шашкой работать, а тут надо сердцем да головой, и годы уже… Тут и молодому атаману не под силу будет справиться с работой, куда мне туда лезть. И времена-то какие теперь настали, что не знаешь ты, что завтра со всеми нами будет, поди, угадай! Поэтому прошу вас, казаки, уважьте мою просьбу, увольте меня со столь высокого поста. Тут нужен молодой атаман, энергичный, чтобы везде поспевал. Уже нет моих сил со всеми атаманскими обязанностями справляться. И не понимаю я, станичники, к чему мы с вами идём сейчас. Наверно к гражданской войне, не иначе, раз царя в России не стало.
Уважили его просьбу станичники и избрали станичным атаманом Александра Шохирева. Хоть и молод Александр, но жизни повидал. Воевал с австрийцами и немцами, знаком с новым видом оружия. Побывал в революционном Петрограде. В путь ему надо собираться! В путь служения казачеству! И голова у него светлая, от отца своего и от деда мудрость передалась, не иначе. Вожак с Александра хороший получится, добрый! Тут спору нет! Но тут свершилась Октябрьская Революция, большевики совершили переворот. И началась великая смута в стране, переходящая в Гражданскую войну, сын пошёл на отца, брат на брата. И всё это не богоугодное действие грязным пятном разлилось по всей России, её просторам, городам, селам и станицам.
Решили наши казаки ни во что не вмешиваться, как стояли мы на охране границ Российских, так и дальше будем стоять. Никогда мы в грязную политику не лезли, и всегда это было правильно и оправдано. Но так продолжалось лишь некоторое время. Всех, как говорится, поголовно захватила в свою стихию революция и, практически, не оставила безучастных людей. Вскоре появились и здесь народные комиссары и давай всех агитировать за свою новую власть, как говорили наши старики: баламутить народ. Но казаки везде жили зажиточно, потому что жили они большими семьями, также и работали. Поэтому комиссарам с казаками было очень трудно разговаривать, как говорится, на разных политических платформах они стояли. И что самое было неприемлемо для казаков, так это то, что отрицала новая власть Бога, и потому стала она все церкви закрывать. А верующих уже всяческими путями отдалять от их духовного наследия. И этим навязывать свою волю народу.
Плачут бедные старушки, когда безбожники колокола с церквей да кресты снимают, а поделать ничего не могут.
— Кто из вас видел Господа Бога своими глазами? — спрашивает весёлый и рыжий комиссар Попугаев Аскольд у народа. — Значит, что нет среди вас таких людей, которые видели его?
— Нет!
— Тогда, господа-товарищи, и вопросов нет. Ведь и я, комиссар Попугаев, тоже нигде не видел его. Значит дело это решённое.
Но недовольство всё же копится в народе и на этом, пока невидимом фронте, может громыхнуть скоро. И причём очень здорово, потому что закоренелых безбожников в стране было, хоть по пальцам их считай — мало. Зато сомневающихся людей в себе и своих чувствах к религии, хоть пруд, пруди.
Тогда подключили ко всей своей агитации ещё невиданный здесь аэроплан. Иначе трудно было влиять на массы, по их словам, тёмный был народ!
Посадит невиданную здесь крылатую машину молодой лётчик Весёлкин Саша на лужайку возле станицы, и толпа народа со всех ног бежит туда, все без разбора. Как везде, вездесущие мальчишки первыми поспевают к летательному аппарату. Вылезет из машины комиссар Попугаев Аскольд Нидерландович, потомственный террорист аж в третьем колене.
Отряхнётся он, задорно брякая всей своей сыпучей конструкцией. Затем, как петух, рыжие свои перья расправит и сразу же к народу с вопросиком.
— Кто желает, господа-товарищи, на аэроплане по небу прокатиться, да посмотреть — кто там, наверху, живёт. Есть такие храбрые-желающие?
А сам расхорохорится весь, и руку на тяжёлую кобуру от маузера опустит для своего, ещё большего фасону. Помнутся с ноги на ногу жители станицы и, посоветовавшись, выберут одного надёжного человека, чтобы тот на аэроплане поднялся в воздух. И всё обсказал потом народу, как там, да что там видел. Всю, как есть, правду им и рассказал, депутат значит. Ведь мальчишкам станичным нет никакого доверия, те и соврать всё могут, недорого возьмут.
Сделает Саша Весёлкин несколько кругов над станицей, да и посадит свою машину на лужайку. А народ уже ждёт станичника, не дождётся, извёлся весь.
— Ну, что там?
Стоит растерянный путешественник и не знает, как всё обсказать народу, всю свою правду. Все ждут вразумительного ответа от него, ждут, не дождутся.
— Не томи душу? — торопят его. Наберётся мужик духу, набожно перекрестится и говорит, совсем уже подавленным голосом своим дорогим, казакам-станичникам.
— Никого я там не видел на небе нашем, всё простор там, да облака плывут. Братцы-казаки, все глаза свои проглядел. Не хотел грех на душу брать, да пришлось!
Так и шла успешно агитация, из одной станицы в другую. И всё тот же самый вариант везде успешно повторялся.
Только мальчишкам было всё равно уже, что там было или не было на небе. У них появились уже своя мечта, как болезнь неизлечимая, летать им хотелось! И они торопились в новую неизведанную жизнь, со всеми её войнами, голодом, слезами и радостью. Они рвались в небо, как птицы. К своим самолётам и в бездонное синее небо, к своему счастью. Но скоро казачьи станицы потрясла тяжёлая для всех весть. Она очень обсуждалось казаками, и важнее её по значимости уже давно не было во всей округе.
В одной из станиц красноармейцы арестовали Никодима Ивановича Чёрного. Хоть и старый он был уже, а всё ещё служил народу и Господу Богу, верой и правдой служил. Но всё это не спасло его от ареста. А только привлекло к нему излишнее внимание властей. Хотел он вразумить разрушителей церквей и встал на защиту новой церкви.
— Не позволю вам, слуги дьявола, храм Божий поганить, нет у вас такого права.
Но тут он глубоко ошибался, за что тут же и поплатился. По приказу комиссара Попугаева Аскольда Нидерландовича он был арестован красноармейцами и на ближайшем пароходе отправлен в Хабаровскую тюрьму.
Продержали его там недолго. И новые власти решили, опять же, пароходом, отправить его в Благовещенск. И уже там, на месте, собрать весь нужный материал для его суда. И вот по всему Амуру, по всем его стойбищам, селам и станицам, пошла печальная для народа весть. И по пути она всё разрасталась страшными подробностями. И многие верующие искренне плакали, затронула их крепко эта неуклюжая и никому не нужная правда. Не было на Амуре такого места, где он не побывал бы в своё время со своими проповедями. Любил он это дело, и всю свою жизнь посвятил своему творчеству, иначе всё и назвать было трудно. Или же, неведомое нам, состояние его души.
Именно поэтому его везде знали и любили, как своего родного человека, душевный он был человек, и неповторимый! А сейчас и сам он стал на край позорной для всей России гибели.
— Повезут нашего батюшку Никодима в Благовещенск на расстрел, — волнуются казаки.
Тут и мёртвый не выдержит такого произвола, не то что живой человек, вот и поднялся он, бунтует.
Оперативно казаки собрали общий сход казаков и, посовещавшись там, решили, что ни в коем случае нельзя отдавать отца Никодима на растерзанье властям. Иначе всё это дело не назовёшь, как самосуд. Многие станичники помнили его ещё по маньчжурской компании.
И даже то, что сама императрица Цы Си ему и его сану большое уважение оказала, передавалось казаками, как легенда, из уст в уста, и всё сказанное обрастало потом лихими подробностями.
— Он там один против целой школы монахов-убийц не побоялся выступить. И за отца своего постоял там, честь его защитил, один бился. И за весь Христианский народ он сражался и тоже победил там. И за веру нашу русскую, за всё казачество бился один. И уже слышалось среди множества людей, как гул, предвестник бури:
— Надо весь казачий народ поднимать и боем взять да отбить нашего героя, не дать власти расправиться с ним.
Повисла тягостная тишина в воздухе. Даже слышно стало, как стучат разгорячённые сердца казаков. Все станичники отчётливо понимали, чем всё это могло закончиться для всех их, и семей их тоже.
Тут, и именно сейчас, крамола против новой власти готовится, не иначе, всё толковать будут.
И докажи потом, что не так всё тут было, на этом сходе. И что хотели казаки восстановить справедливость в природе, не более того. И как-то защитить себя, от произвола властей.
Поднялся Лука Васильевич, и все казаки замолчали. Уважали они старого атамана, ибо не было в округе человека справедливей его и мудрее.
— Не надо весь наш народ поднимать, это будет очень подозрительно для всех и плохо закончится. Тут на кон не одна жизнь будет поставлена. У меня есть другое предложение. Надо всё сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Попробуем, казаки, всё по-другому организовать. Сейчас все казаки расходятся по хатам и всех успокоят там, свои семьи и чужие. Не надо привлекать к этому делу лишнего внимания властей.
А я останусь здесь с десятком молодых казаков, хотя они уже и не молодые сейчас, из моей бывшей сотни. У нас есть о чём с ними поговорить, да и обсудить кое-что надо. И ещё нам надо несколько человек наблюдателей, чтобы потом они всю правду народу донесли, мало ли что там у нас получится. Правда, и только правда должна быть известна народу! И в этом наше спасение.
Этим делом занялись старики, от них у нас тайн не было. Знали мы, что они ни за что никого не выдадут, хоть на дыбу их тащи. Хоть и в годах был тогда мой отец, но всё же решил последний раз тряхнуть стариной, а там пусть будет то, что на кону ему от роду написано, то пусть и случится с ним. Так он сам решил.
— Сейчас время сенокоса и трудно будет властям посчитать всех казаков, это только нам и надо. И если даже захочешь, то за всеми не усмотришь. Ещё нам надо, казаки, приготовить сменных лошадей, чтобы они сухими оставались, а которые в деле были, тех потом в лесу спрятать. От глаз людских, и особенно властей наших, подальше. Как прилетит наш связной голубь из Хабаровска, или парочка для большей гарантии, так и отбыл пароход в Благовещенск.
Работает ещё старая связь контрабандистов на казаков. Как и раньше, ещё при царе работала. Есть одно место на Амуре, где пароход идёт под самым нашим берегом, и никак не иначе. Там мы ему и встречу приготовим, по всем казачьим правилам. А остальное, казаки, что там и как получится, дело нашей удачи.
Ждали казаки в засаде пароход и конечно волновались. Были здесь: я со своим отцом, Василий Шохирев, Алексей Федоркин и ещё с пяток старых проверенных товарищей, бывших разведчиков.
Алексей Федоркин совсем недавно вернулся с фронта первой Мировой войны. Весь израненный и оттого озлобленный. Но жизнь дома помогла залечить его многочисленные раны, и прежняя его весёлость снова стала проявляться в его добром характере. Отчаянным пулемётчиком он был в эту войну. Кого он только не косил, со своего Максима, и немцев, и австрияков, и мадьяр.
И счёта не хватит всех тех перечислить, кто попадал под свинцовый огонь его пулемёта. И кто навсегда остался лежать в далёкой и холодной России. Даже сам батька Махно, к которому он попал, когда убегал из немецкого плена, не один раз ставил в пример своим хлопцам Алексея.
— Дюже гарный хлопец Амурский казак Алексей Федоркин, а пулемётчик ещё лучший. Режет из него врагов, по-чёрному, что тут ему всякий позавидует, «мастер своего дела».
Так на немецком паровозе с медными вензелями в одну строчку написал: «Батька Махно.», да ещё точку поставил. Всего в одну очередь пулемётную и уложился.
— Хотел я помыться после боя, а тут с водой проблема, так Алёшка мне и говорит: — Не горюй, батька, всё твоё дело легко поправимое.
Такому герою, как ты, грешно страдать, когда воды кругом хоть залейся. И на тачанку к своему пулемёту враз подался.
Сначала большой переполох начался среди наших казаков. А когда огляделись они, что к чему, то смех всех разобрал. И гордость обуяла их за такого пулемётчика. Правда, паровоз тот, теперь, что дуршлаг стал, весь в дырках. Хорошо только в режиме лейки работает, хоть душ с него принимай.
Не хотел батька Махно такого пулемётчика от себя отпускать, тот и Европу всю прошёл и наши все горячие места, везде повоевал.
— Я тебе, Лёшка, папаху со своей головы дарю. Умеешь ты с всякими людьми ладить. Ты у меня давно бы в полковниках ходил, или того выше, генералом стал! Но раз ты домой собрался, то держать тебя не смею. Герой ты настоящий, и ценю я тебя за это. Всему Амурскому казачеству от меня привет передай и низкий поклон казакам от меня. Геройских казаков ваша земля Дальневосточная плодит, не хуже наших запорожцев они, колыбели всего казачества русского.
Сотню бы мне казаков, таких как ты, Алексей. Так я бы с ними всю Европу под подошву своих сапог подмял. И плясать бы их заставил гопака нашего.
Потом Махно решительно тряхнул своей рукой с зажатым в ней революционным, именным маузером, от самого Троцкого у него подарок был, как отрезал:
— В зад бы они нас целовали с тобой, Алексей, да всех казаков наших. По гранате бы им в штанишки, распашонки да манишки, революционерами себя называют! Господа рогатые!
Наливай, Алексей, горилки, а то скучно мне стало, и хлопцы мои что-то приуныли.
Мы тебе проводины устроим, друг ты мой, по высшей категории, высокой чести тебя удостоим!
Не часто рассказывал Алексей про батьку Махно. И всё же, не понятно было окружающим, как же он так быстро подружился с атаманом, которого все боялись: и красные и белые, и зелёные, и русские, и нерусские вояки. Наверно горилка им помогла, карты, да ещё артистичная его стрельба из пулемёта. И, конечно, безудержная храбрость Амурского казака. Но когда выпивший был Алексей, всегда вспоминал своего друга Махно добрым словом. И привет от него передал казакам, с низким поклоном.
— Вам, Амурские казаки, от Батьки Махно привет. Вот где гуляет батька, так гуляет! Всех врагов революции рубит в капусту, особенно немчуру, латышей, да поляков. Извечных врагов Украины. Но подрежет ему крылья новая власть. Не любит она таких народных героев.
С его слов видел Алексей и Клару Цеткин, и Льва Троцкого, и Ленина, и кого он только не видел, за всю эту последнею военную кампанию.
И в это можно было поверить. Такой уж он был весёлый человек, уже весь поседевший, Алексей Федоркин, что для него не было ничего невозможного.
Прискакал на взмыленной лошади один из наблюдателей и сообщил, что пароход идёт по нужному маршруту и скоро будет под нашим берегом. От него ничего больше не требовалось, только наблюдать и не высовываться. Что и делали с успехом наблюдатели. У них и позиции свои имелись, но все они были созданы только для наблюдения и никак не для боя. Лежит за пулемётом Алексей и со своего Максима пыль сдувает да протирает его. Очень уж уважительно относится казак-фронтовик к этой изумительной по боевым качествам немецкой машинке. За всю войну она ни разу его не подводила, и жизни ей он был обязан не раз. Рядом с ним второй номер, тот уже самолично все ленты перебрал и к бою приготовил. Боится он ослушаться Алексея, в бою тот непредсказуем, сказывались его многочисленные ранения и контузия. Мог и в ухо двинуть напарнику за малейшее его промедление.
Тот только одного человека признаёт сейчас: Луку Васильевича, и ждёт его команды из другого окопчика.
— Я с другими казаками по разные стороны пулемёта и прикрываем его от обхода с тыла и разных там охватов.
Взял в руки самодельный рупор Лука Васильевич, лишь только стал пароход подходить к казачьей засаде.
— Всех лишних людей просим с палубы удалиться, так как предвидится пулемётная стрельба, во избежание ненужных жертв. Комиссара Попугаева просим дать команду капитану остановить пароход и бросить якорь. В противном случае ваша галоша будет потоплена из пулемётов и орудия.
Последнее предупреждение Бодров добавил для большей острастки, пусть Попугаев призадумается.
Заметались люди по палубе парохода «Амур», очень не хотелось им попасть под пулемётный огонь и ни за что погибнуть. Да ещё если дура-орудия жахнет по ним пару раз. Не хотел пароход останавливаться и шёл прежним курсом, только солдаты красноармейцы залегли вдоль его борта. Приготовились они к отражению атаки, которую никак не исключали.
— Нестор Иванович Махно, прошу вас дать предупредительную пулемётную очередь по металлическому баку, что чинно стоит на палубе. Пусть посмотрят товарищи-ослушники, как ты сможешь второй очередью сделать из них фарш для начинки пирожков.
— Огонь!
Заработал как часики пулемёт Максим, и от бака на палубе парохода полетела краска, вместе с ржавчиной. Она сыпалась ровненькой строчкой, и, похоже было, что что-то писали там пули, на возмущённом металле.
— Кто приказывает остановиться? — спрашивает с палубы напуганный и возмущённый комиссар. Не ожидал он такого варианта со стрельбой, и был не на шутку бледен.
— Прочитай на баке! Там всё написано, ясно и понятно, стрелять мы больше не будем.
Робко пошёл к баку Попугаев Аскольд Нидерландович, революционер, как он сам любил себя называть, в третьем поколении. И неожиданно замер там, и ещё долго не мог придти в себя от прочитанного текста.
— Там написано: Ленин! — послышалось его изумлённое восклицание.
По реке всё хорошо прослушивалось, так как было раннее утро. И даже было слышно, как чиркнула спичка в его дрожащей руке. Комиссар Попугаев усиленно думал и ронял на палубу сломанные спички, одна за другой. Он впервые не знал, что же ему делать в данной и очень сложной и такой нестандартной ситуации. Попал он, как говорится в народе, как кур в ощип!
— Останавливай машины и бросай якорь! Вот и всё, что пока от тебя требуется, герой. Документ тобой уже получен и прочитан — действуй комиссар!
Но тот не торопился действовать и пришлось уже Алексею продолжить свою политическую беседу с отупевшим оппонентом.
— Распоряжение Владимира Ильича Ленина, вождя всего мирового пролетариата, вами уже получено комиссар. Но оно вами игнорируется. И тут непроизвольно сам напрашивается вопрос — почему?
А нам надо срочно продискутировать утверждённый вождём, и остро поставленный перед всей общественностью, вопрос. О руководящей роли пролетариата в мировой революции, его гегемонии.
Или вы отказываетесь от дискуссии с более сильным противником? То это вопиющий факт безответственности. И совсем не по-революционному вы поступаете, товарищ Попугаев Аскольд Нидерландович. Саботируете работу своей творческой мысли. Или свободное пролетарское мышление вам недоступно и оно всё ещё находится в плену буржуазных предрассудков. Так это настоящий позор для вас, революционный комиссар! И ещё нам надо поскорее внести с вами ясность в сложившуюся политическую ситуацию на всём Дальнем Востоке. Думайте Аскольд! Думайте поскорее! И у вас, комиссар, и у нас есть на то полномочия революционного правительства, разъяснять народу, линию нашей партии — действуйте!
Но и сейчас не поторопился Аскольд Нидерландович.
— Готовь, Нестор Иванович, пулемёт к огню на поражение ослушника и революционера в третьем поколении, Попугаева Аскольда Нидерландовича. Он повёл свою, непонятную нам, левую линию, идущую в разрез с основной линией партии и изжил себя, как чуждый партии элемент. И поэтому подлежит презрению, и даже большего наказания. За великое ослушание его и, получается, что предательство им интересов трудового народа.
А так же за неуважение им имени нашего вождя, Владимира Ильича Ленина.
Вот это, последнее, и достало комиссара, как говорится, до самых печёнок.
— Я согласен дискутировать! — завопил бледный и возмущённый Аскольд Нидерландович.
Он чуть не плакал от нанесённой ему обиды невидимым противником.
— Я против такой постановки вопроса! И я согласен хоть с кем дискуссировать, и в любое время дня и ночи. Запомните это, господа, но мне вы не товарищи! И смею вас заверить, ненавистный мне Нестор Иванович Махно, что тут, в свободной дискуссии, меня ещё никто и никогда не побеждал.
Хотя у вас и есть очень весомый аргумент прекратить всякую нашу дискуссию в вашу пользу всего одним росчерком: пулемёт Максим. А это уже незаконный приём, запрещённый международной конвенцией: угрожать оппоненту оружием. Я категорически против всякого произвола против моей личности. Против! Стоп все машины на дискуссию! Стоп! Бросай якорь скорее, капитан! — вопит возмущённый до глубины души Аскольд Нидерландович.
— Давай, пока не началось! — носится по пароходу комиссар совсем, как сумасшедший, со своим огромным маузером в руке. Очень достал его своими обвинениями наш оппонент Федоркин.
Того и гляди, что Попугаев начнёт палить из своего оружия во все стороны от нанесённой ему великой обиды. Не ожидали мы такого оборота дела, не было запланировано этого эксцесса с комиссаром в наших планах, но отступать было уже некуда. Всё пошло не по плану, и неизвестно было, куда всё это выйдет, и чем закончится. От борта парохода отвалила лодка и ходко шла к нашему берегу за оппонентами Попугаева. Сели мы трое в лодку, да ещё огромную корзину Федоркина прихватили с собой, и поплыли на пароход «Амур». Что было там, в той корзине, мы так и не узнали сразу. Но потом все диву дались, вот это голова! И всё же переиграл нас всех Федоркин своей находчивостью, мы в этом ещё раз убедились. Накопил он богатого опыта в идеологической работе с массами на своих многочисленных войнах. Возможно, что и сам комиссаром был, но таит это от казаков. И мы не удивились бы этому, на него это очень было бы даже похоже.
Все пассажиры ожили после прекращения непонятной им стрельбы и тоже заинтересовались непонятной никому, и оттого ещё более ожидаемой, дискуссии. Они-то, люди серые, и слова такого отродясь не слыхивали — дискуссия. И как она будет происходить, эта дискуссия, этого они тоже не знали. Так как усердно прятались от пуль неведомого им Нестора Ивановича.
Но всё же, предполагали пассажиры, что интерес тут будет огромный, жарко всем будет. Одни с восхищением рассматривали металлический бак на палубе, красиво исписанный пулями.
— Ну надо же, как пером всё написано: Ленин!
Другие смотрели во все глаза, на нас, казаков.
— Оппоненты прибыли!
Знал нас хорошо комиссар Попугаев и сильно не удивился.
— От вас, станичники, я и большего мог ожидать, потому что для вас человека убить, всё равно что муху прихлопнуть.
Он был разъярён и всё не мог найти себе места. Хотя за большим столом, что выставили матросы на палубе, его было с избытком.
Алексей, как чародей, раскрыл свою огромнейшую корзину и извлёк оттуда не менее приличную часть окорока, затем большого зажаренного гуся, шмат сала и огромную бутыль самогона.
Он не перечил комиссару, а всё делал молча и деловито, как у себя дома. Когда тот увидел всё, что так неожиданно появилось на столе, то невольно начал глотать голодную слюну. Совсем, как голодный домашний пёс, который помимо своей воли, сразу же забыл при виде обильной еды свои конкретные обязанности. Искус был большой. Откуда ему, при всех своих неотложных делах, и притом ещё холостяку, пробовать такое обилие вкусной еды. С аппетитной румяной корочкой, которая уже ждала его. Или, хотя бы, человеческого отношения к ней, со всем подобающим уважением. Как к подарку Божьему! А тут? Видеть всё это искушение и то приходилось очень редко и издалека, а пробовать?
Зато Федоркин был на высоте. И он незамедлительно начал свою речь. Хороший оратор, как говорили в древней Греции, должен чувствовать в себе духовное блаженство. И только тогда он мог передать всё величие слова и разума, как дивный полёт птицы.
— От желудка всё исходит, Аскольд Нидерландович! И, как видите, мы казаки очень серьёзно подошли к этому делу, творчески!
Разлил он по стаканам самогонку, порезал ножом сало и гуся, настрогал мяса с окорока. Развернул казак расшитое полотенце на столе, и тут: запах от хлеба, духмяный и здоровый, от которого задохнуться можно было. Так и разлился над столом, пленяя всех своим ароматом. Каравай хлеба свежевыпеченного в печи русской любого с ума сведёт, не иначе. И комиссар сам не понял, как оказался за столом вместе с казаками, всё это произошло помимо его желания. Он как бы выпал из своей стальной обоймы, сдерживающего его волю все последние годы.
— Наливай!
— Выпили самогону, уже почти примирённые две стороны, и усердно закусывают обильной едой. Сейчас им не до выяснений стало, кто и на какой политической платформе стоит. Какая разница!
Выпили и по второму разу и понемногу разговорились.
— Ты стрелял из пулемёта? — спрашивает комиссар у Федоркина.
— А кто же, как не я? — отвечает ему Алексей. Разве по почерку не видать? Я всю Империалистическую войну отбухал, как один день прожил. И с немцами под Брестом братался, мы винтовки в землю штыками втыкали и обнимались, не хотели мы больше воевать. И Троцкого я слушал, и Ленину руку жал. И на Украине, у батьки Махно одно время служил, когда тот ещё с красными дружил. И где я только не был, Аскольд Нидерландович. А откуда у тебя имя такое пролетарское, если не секрет, батенька? Именно так бы сказал Владимир Ильич Ленин, вождь всего мирового пролетариата.
— Ничего удивительного, — заулыбался через свой набитый рот комиссар. Дед мой, Яков Моисеевич Попугай, родом из Бердичева, еврейского местечка, что на Украине находится.
Была фамилия наша вроде казацкой, да пьяный дьякон её в Попугаева переписал. В птиц нас заморских, с перепою, всех превратил. А всё в обратную, бумагу исправить, никак не захотел. То пьяный был, то с похмелья, то вообще и слушать ничего не хотел.
Любимый дед мой зачитывался книжками. И вычитал он там про Нидерландскую революцию, тихую и спокойную, не то что все русские революции. Всю свою жизнь бредил он такой революцией, даже хотел моего отца Тилем Уленшпигелем назвать. Это был его любимый герой. Но потом дед передумал и назвал моего отца громко, совсем по-революционному: Нидерландом. Отец тоже считал себя продолжателем дедовской идеи о тихой революции, но назвал меня сразу громким именем, совсем, как броненосец: Аскольд!
— Был я в твоём местечке, родном Бердичеве, — озадачил комиссара наш Алексей. — Так там местные хлопцы организовались в большой и хорошо вооружённый отряд. Назвали себя еврейскими казаками и всем интервентам да батькам такой чих-пых дают, что их все там, еврейских казаков, даже очень уважают.
А за главного командира у них, кажется, Нидерланд, наверно отец твой. Я то сразу и вспомнить не мог его имя, больно чудное оно. А теперь и вспомнил — Нидерланд!
— Как там мой отец, — уже чуть не плачет удивлённый Аскольд.
— Совсем он, как ты, комиссар, даже очень с тобой похожий, только совсем седой стал.
— Вот за это надо выпить обязательно!
— Наливай!
И за наш стол стали садиться счастливые пассажиры, как будто это их отец нашёлся и им весточку передал. И все со своей выпивкой и закуской, чего с избытком нашлось в их дорожных сумках.
Скоро одного стола стало мало, и на палубу стали вытаскивать новые столы. И когда все дошли до того уровня, что кондицией называется, то Алексей спросил своего, уже друга Аскольда, про батюшку Никодима Ивановича, что на расстрел везут в Благовещенск.
— Не на расстрел его везут, а на суд. Но всё равно это ничего хорошего ему не предвещает, — не удержался Попугаев от такой высокой оценки своему арестанту. — И мне жалко святого отца, иначе я его не называю, святой он, за народ печётся. Похлеще наших многих комиссаров он будет — герой! Знаю я, что он и с маньчжурами воевал, и с японцами. И про все его награды я тоже знаю, необычный он поп. Но его линия идет вразрез с нашей идеологической линией партии. Но и мне очень бы хотелось спасти ему жизнь, — неожиданно разоткровенничался Попугаев.
— Спасите его, комиссар, — и люди все, что были на палубе, посыпались, как горох на колени: — спасите! Господа Бога за вас молить будем!
— А кто стрелял тогда в пароход? — спрашивает тот у народа.
— Да никто не стрелял, разве что какой-то неизвестный нам Нестор Иванович Махно.
— Хорошо! — улыбается своей мысли Аскольд Нидерландович. — А здесь что написано, на баке.
— Ленин!
— Нельзя позорить имя вождя и где попало его писать. Но это дело поправимо. Нестор Иванович Махно, ты слышишь меня там, на берегу?
— Отчего же не слышать, слышу! — совсем глуповато отвечает второй номер пулемёта.
— Вот дубина, обязательно в ухо получит, — переживает за него Алексей Федоркин. Но и он не знает, что же задумал комиссар.
— Вот здесь и здесь над буквой «е» надо по одной точке поставить, как поняли меня, Нестор Иванович.
— Доподлинно понял, — отвечает второй номер невидимого пулемёта, дубина и тугодум, со слов Федоркина.
Но тот не стал ни предупреждать кого-то, ни стрелять два раза.
— Т-р, — коротко рыкнул пулемет одной очередью. И полетела краска вместе с ржавчиной с металлического бака. Прямо из-под цепких рук застывшего от неожиданности комиссара.
Тот не ожидал такой прыти от Нестора Ивановича и обложил его трёхэтажным матом. Тоже самое святотатство сделал и Федоркин. Но дело было сделано на совесть, и на баке красиво обозначилась другая буква. Вся надпись теперь гласила — не Ленин, как было прежде, а Лёнин.
Теперь не было здесь никакой политической подоплёки: Лёнин, и только Лёнин этот бак-недоразумение! Было бы там чего доброго в том железном баке, пусть таким и остаётся.
Теперь выпили и за это весёлое недоразумение, которое, успешно разобравшись, закрыли. Был доставлен на палубу арестованный Чёрный Никодим Иванович. Выглядел батюшка совсем неважно, видно было, что тяжело он переживал такое отношение к нему новых властей и к самой христианской вере. Весь седой он был, совсем, как лунь стал. Сильно похудевший и явно, что был нездоровый. Как увидел он казаков своих, так и расплакался, совсем, как ребёнок. Хотя за весь арест никто из начальства или надзирателей не услышал от него ни одной жалобы.
— Я знал, мои друзья, что вы иначе не поступите, я не сомневался в этом.
Выпил он самогонки, совсем по-казацки, хлебом занюхал, и сказал: — Последний раз пью я с вами, друзья, спасибо за казацкое угощение.
— Что ты батюшка! Живи на здоровье и радуй народ своими мудрыми проповедями, рано тебе ещё умирать.
— Никто того не знает, когда всё это свершится, но и он не минёт её. Но видать, что моё время подошло сейчас. Не знаете вы, казаки, что плохая весть всех вас ждёт. Придёт документ, что казачество, как класс, или сословие, ликвидируется, ибо боится новая власть казаков, хорошо вооружённых и обученных. А потом начнутся все репрессии против народа, и казаки больше всех пострадают.
Хотел что-то возразить ему Попугаев, но его жестом остановил Никодим Иванович.
— И ты про это ничего не знаешь, не дошла до тебя эта весть.
— Он хочет отпустить тебя домой, этот добрый комиссар, а мы спрячем тебя так, что уже никто тебя никогда не найдёт.
Так успокаивают своего любимого батюшку простые люди, что собрались на палубе «Амура». Многие из них тихонечко плачут и набожно крестятся. Но тот думал совсем про другое, и никто толком не понимал ещё, что же Никодим Иванович задумал. Попрощался он со своими казаками, совсем, как в последний раз в жизни.
— Славно воевал я с вами, друзья мои, теперь есть, что вспомнить мне. И воспоминания те греют мне душу. И мне хорошо сейчас, как никогда, потому что вы живы и здоровы, и оттого я счастлив.
Низко кланяюсь тебе, друг мой, Лука Васильевич, что ты не стал прятаться за чужие спины, и не бросил меня в лихой беде. Но видать, что пришёл мой час принять муки за мой народ и за казаков.
Я не хочу, чтобы казаки через меня сегодня страдали, они ещё, ой, как настрадаются!
Никого не слушал батюшка Никодим, его поднятая рука просила об этом — молчите!
— Плывите, друзья мои, на берег и там ждите меня и ни во что не вмешиваетесь, так надо мне. Отвези комиссар моих друзей на берег, пусть они там ждут меня. А я пока с народом да с тобой попрощаюсь.
Спасибо тебе комиссар, Аскольд Нидерландович, хороший ты человек, но заблудший, не той дорогой идёшь. Русский человек только и силён, что своей верой в Бога, и нельзя у него её забирать.
Хотя многие ваши толкования как из библии исходят и правильны они. Благословляю тебя, комиссар, на добрые дела и сторонись плохих дел. Иначе ты сгоришь от болезни, она источит твою душу. Эта болезнь называется беспределом и вседозволенностью, запомни это. Она съедает человека без остатка!
Стал народ прощаться со своим любимцем и все плакали люди. И они поняли, что не во власти остановить его, и то свершится, что он задумал.
Ждали мы Никодима Ивановича на берегу и видели, что он сел уже в лодку, и та поплыла к нам.
Совсем немного отошла лодка от борта парохода, как матросы по просьбе батюшки перестали грести.
— Я выполняю волю Божью, пришло и мне моё время пострадать за народ и свою Христианскую веру. Я всю жизнь свою шёл к этому подвигу! И готовил себя и страдал вместе с вами. И вот сейчас я хочу укрепить ваши души силой своего духа, и верой своей. Настал мой час!
В какой-то момент поверхность воды замерла и стала ровной, как зеркало.
Батюшка Никодим спокойно пошёл по ней, как по земле, в нашу сторону. Вода прекрасно держала его.
— Прощайте добрые люди! Сегодня всем вам будет лучше, если я оставлю вас одних. Я не хочу вашей лишней крови и страданий, их и так у вас предостаточно.
Затем твердь воды стала плавно проседать под батюшкой, пока полностью не приняла его в своё лоно. Наступила такая гробовая тишина, что всем страшно стало, как в преисподней, перед искуплением тяжких грехов.
Первыми не выдержали женщины на пароходе. И их протяжный стон глубоко отозвался по всей реке тяжким эхом. Перерастая в многоголосый людской плач. И тут же задвигалась водная гладь реки в своём суетном стремлении жить. Проснулась, как после долгой и тяжкой зимы.
И обрела она свою вечную жизнь, как и прежде. Заволновалась и застучала о борт парохода тяжёлыми волнами. И ей тяжко было — святой был человек!
Дал команду матросам комиссар сниматься с якоря. И не могли ослушаться его моряки.
Длинный протяжный гудок траурно зазвучал над Амуром, пока хрипло не осел в его волнах и затих там. На всех парах уходил пароход в Благовещенск, но люди вряд ли могли уйти от себя, настолько всё произошедшее потрясло их. Тут и камень-немтырь тяжко заплачет, а не то что простой человек.
— Говоришь, что утонул мятежный поп в Амуре? Пошёл по его волнам и постепенно ушёл в воду и та приняла его. И множество свидетелей подтвердило это? Но не такой дурак я, комиссар Попугаев, чтобы верить вашим сказкам.
Так, выходил из себя тамошний комиссар Подопригора. И он действительно был огромен и сейчас зависал, как скала, над щуплым Аскольдом Нидерландовичем.
Осмотрел Подопригора весь пароход и видел металлический бак, прошитый пулемётной очередью.
— Чистая работа, творческая, — невольно вырвалось у него восхищение.
— Кто стрелял? — спросил он у матросов.
Те все, как сговорились, и пассажиры подтвердили это:
— Нестор Иванович Махно!
Знал Подопригора, кто такой Махно, сам с Украины казак.
— Они что, все тут с ума сошли, и этот Аскольд Нидерландович с ними. Или за дурака меня принимают? А с другой стороны, утонул этот поп, ну и чёрт с ним, всем меньше хлопот и народу спокойней стало.
Ну а ты, Аскольд Нидерландович, зря на себя шапку глухую одел. Уж ты-то всё должен знать по долгу своей службы. Это твои обязанности. Считай, что тебе повезло, не до тебя мне сегодня.
Пришёл приказ нашего революционного правительства, что принято уже решение о роспуске казачества, как класса, как прослойки, и так далее, в любом его виде.
А это, несомненно, что будут волнения среди масс, и возможно казачьи мятежи.
Нашли время, когда это делать. Когда весь Дальний Восток интервенты терзают на части, да всё думают, как кусок послаще от нас отхватить.
Так и спустили всё это дело на тормозах, про то, как утоп народный герой батюшка Никодим. И как был обстрелян пароход «Амур».
Но это дело совсем не забылось, а только ждало своего часа и через много лет придёт то время.
Вернулись казаки в станицу и уже ни о чем больше не разговаривали. Не более, чем через сутки, все наши новости уже знали в станице. И здесь люди тоже плакали, потрясённые поступком батюшки Никодима Ивановича Чёрного.
И другая весть пришла в станицу, о ликвидации казачества. То о чём говорил батюшка, то и случилось. Знал он, что так будет, и предупреждал казаков. Но до конца мысль свою он им не разъяснил, потому что ничем он не мог им помочь, и тревожить людей не стал.
Собрались мы с Федоркиным и Шохиревым Василием, да ещё с десяток казаков набралось. Что будем делать? Ждать когда же нас придут разоружать красноармейцы? А сами ушли с Аскольдом Нидерландовичем на фронт, освобождать Дальний Восток от интервентов.
Это и был его, так называемый ход конём, в шахматах. И мы, похоже, что пока опережали ход всех событий. Прошли мы сквозь пламя Гражданской войны, охватившей весь Дальний Восток. Были мы знакомы и с командармом Блюхером. И из его рук получали награды, как лучшие бойцы его армии.
И всё было у нас, как в песне поётся. И штурмовые ночи Спасска были, и Волочаевские дни с её сопкой Юнь-Корань. И что на Тихом Океане мы свой закончили поход, тоже святая правда.
Выбросили мы за пределы Дальневосточной Республики и американцев, и японцев, и кого там только не было, всех интервентов, и с ними наших прихвостней. И теперь надо было нам к мирной жизни возвращаться. Только уже без славного Аскольда Нидерландовича, революционера в третьем поколении, как он сам себя любил называть.
Можно было так сказать, что последняя пуля в той войне ему досталась. И даже откуда она прилетела, и то толком никто из нас не понял. На излёте уже ударила она в его революционное сердце. И не стало геройского парня с далёкого Бердичева, еврейского казака. За месяц до своей смерти пришла ему весточка с родной стороны. Оказалось, что от рук петлюровцев, героически погиб его отец Нидерланд Попугаев, предводитель еврейских казаков славного Бердичева.
— Я знал, что я умру не раньше, как получу весточку о смерти моего отца. Всё так мне цыганка и нагадала, еще в далёком детстве. А жить-то как хочется, ребята? Если бы вы только знали!
Похоронили мы его на высоком месте под огромными дубами. Пусть ветер ему песни доносит с его родной Украины. И написали на памятнике.
Здесь похоронен славный комиссар Попугаев Аскольд Нидерландович!
Романтик и революционер в третьем поколении!
Слава ему!
А дома нас ждали совсем бесславные дела. Большой наш двухэтажный дом, что мы с отцом по брёвнышку, можно сказать, что на своём горбу, из леса вытащили и на диво всем отстроили, отдали одно крыло под больницу, второе под школу. Но этого и следовало ожидать.
Знал я из рассказов Попугаева, что так все и должно было быть, на то она и революция.
— Плохо тебе придётся, Григорий! И, как ты всё сможешь пережить это, я не знаю — говорил мне впечатлительный и жалостливый Аскольд! — Революция бескровной не бывает, а если всё на своей шкуре испытать, Лукич — это безумие!
Еще забрали паровую мельницу, двадцать пять лошадей, восемнадцать коров и сорок свиней. И всё это определили нашему коллективному хозяйству.
Но больше всего нас, Бодровых, добила продразвёрстка, когда всё зерно с наших амбаров выгребли, чуть не до зёрнышка. Получается, что нам и на посев ничего не оставили, обрекли семью на вымирание. Пошёл я разбираться к председателю колхоза, Тяпкину. Не из наших он был казаков, какой- то пришлый со стороны мужик.
— Ты, что, гад, делаешь, я на фронте за Советскую Власть воевал, а ты здесь мою семью обдирал.
— Убери руки, бывший станичный атаман, и смотри сюда в этот документ. Вот распоряжение той Советской Власти, за которую ты воевал, о проведении продразверстки в стране. И мы его на местах выполняем. Тут все к этому причастны, все будут сдавать зерно.
Не я это придумал, Бодров! А лично тебе бы, товарищ, я посоветовал, как другу, собрать свои пожитки и уезжать отсюда подальше. Всем лучше будет, и в первую очередь тебе и твоей семье! Или же за границу податься, туда много ваших казаков сбежало.
— Во-первых, товарищ Тяпкин, запомни раз и навсегда, что я тебе не друг.
И во-вторых, если бы я хотел за границу податься, то это давно бы сделал и без твоей указки. Я за Советскую Власть кровь проливал, и хочу жить здесь, на своей земле, и работать честно.
Один Федоркин Алексей не стал ни с кем спорить из местного начальства. Собрал всю свою большую семью, посадил на повозки с узлами и отбыл на пристань. Но перед этим, вечерком, перед самым отъездом, зашёл к нам попрощаться. Увидел его Лука Васильевич и слёзы навернулись на его глазах.
— Неужели ты, Алексей, вздумал родные края покидать, тяжело это!
Тот немного помолчал и сдавленно ответил:
— Устал я, Лукич, воевать, ведь я толком-то хорошей жизнью и не жил. И чувствую я, что не будет нам покоя, не дадут нам, казакам, вновь обрести крылья. Думаю, Лукич, что прав Тяпкин, уезжать нам надо.
— Скажи хоть нам, Лёша, куда ты с семьёй подался, в какую сторону? — спрашивает его хозяин.
— А я и сам не знаю, куда глаза глядят!
Пожали мы друг другу руки и надолго расстались. Очень тоскливо было нам понимать, что столько лет строили мы нашу станицу, зачем? И ответ сам невольно напрашивается. И в душе звучит несмолкаемая боль. Затем, чтобы так, разом, всё бросить. И снова устремиться на пустое место. Зачем? Но окончательный удар по казачеству и по нашей семье нанёс тридцать третий год.
Третьего июня, ранним утром, были арестованы около ста человек казаков, погрузили всех на баржу и под пулемётом отправили в Хабаровск. На допросе следователь Таболкин объяснил, что обвиняют нас в обстреле и нападении на пароход «Амур», ещё в тысяча девятьсот восемнадцатом году. И что самое интересное, то и сына моего Романа тоже, хотя ему в ту пору всего-то было семь лет.
Спросил я у Таболкина, как такое может быть, ведь ребёнок не мог этого сделать.
— Много ты рассуждаешь, Григорий Лукич, и не будь ты фронтовиком, тебе бы плохо пришлось. Есть директива нашей партии и правительства на этот счёт и по-другому мы с казаками не можем поступать. Все они с оружием были тогда, и жили все зажиточно, кулаки, одним словом! И по-другому с ними нельзя бороться, только так. А чтобы много не рассуждал, Григорий Лукич, определю я тебя на сутки к уголовникам, камеру им убирать. Им прислуга нужна из таких как ты, политических. Здесь своя иерархия, и я понимаю их, котлеты отдельно и мухи отдельно, и всем хорошо. И нам тоже!
В камере находились десяток радостных рож, татуированных тел, рук и ног. Ни про какой человеческий облик здесь не могло быть и речи. Уголовники, убийцы и насильники.
— Говорят, к нам в гости сам казачий атаман пожаловал, который, уже везде повоевать успел, и за белых и за красных. Что же ты за границу не утёк, как твои умные товарищи. Им теперь легче будет, чем тебе нам прислуживать.
Всё потонуло в зверином хохоте, с иканием, воплями и стонами.
— Всю свою жизнь я воевал за своё Отечество, защищал его от маньчжуров, японцев, американцев и других интервентов. А вы в то время, господа уголовники, у бабушек из кармана последний грош тырили. Обрекая их на слёзы и страдания, и даже на смерть.
— Котёл, посмотри на него, да это же комиссар. По всем повадкам он, вот как нам подфартило. Кто к нам в руки пришёл.
Котёл был у них за старшего в этой камере, и пользовался непререкаемым авторитетом. И действительно голова его напоминала по своей форме котёл, огромный и чёрный.
— Штырь, пощупай нашу служанку, может брак какой подсунули, работать не хочет.
Весело двигался ко мне Штырь, пританцовывая на своих кривых ногах. И ему очень захотелось услужить своему вожаку. Я уже делал всё автоматически.
Гулко ёкнула татуированная грудь Штыря от моего удара. И всем показалось, что она развалилась от такого резкого напора кулака. Не выдержала его. На глазах тот начал синеть и рухнул, как сноп на заплёванный пол камеры.
— Бей его! — послышался приказ главаря.
А дальше пошла моя привычная работа казака-пластуна. Всё было понятно и продуманно, как в бою. Хрустели сломанные ноги и руки матёрых уголовников. Пока я совсем разъярённый, как тигр, не добрался до неожидавшего такого хода событий самого Котла.
И всё же успел ехидно хмыкнуть уголовник, и он был уверен в себе, силён, как бык, да ещё при своем любимом оружии — заточке. Не одну он глотку порезал за всю свою жизнь, а сколько душ загубил, никто того не знает. Заелозил он под моими руками и захотел вырваться, но тут же взвыл от нестерпимой боли. Из моего захвата руки и лошадь не могла вырвать ногу. Не то что вырваться такому подонку, как он. Я бил его мерзкой рожей об замызганную стенку камеры, пока она не стала вся в его крови. Затем потащил его к параше.
— Ты хотел опозорить атамана и всех казаков русских, пей, скотина, помои. И помни, что и ты под Богом ходишь, и тебе придётся теперь другим прислуживать. Потому что ты уже никто, ты уже хуже скотины стал.
А чтобы ты больше никому не угрожал своим оружием, я твой бойцовский пыл поумерю.
Ловким приёмом я сместил все его шейные позвонки, теперь их не один врач не поправит, и любое движение противника будет вызывать дикую боль во всём теле.
— Запомни, что я русский казак! Я могу, шутя, все твои позвонки в твои подштанники россыпью высыпать. И всю твою рожу по камере, вместе с тобой, размазать.
Залетели в камеру конвоиры и оторопели, как такое может быть, уму непостижимо, чтобы с такой оравой уголовников одному человеку справиться.
— Это что вам, больничный лазарет здесь или образцовая камера? — кричит во всю глотку старший надзиратель. И он бледен от такой неожиданной картины побоища, его неожиданного результата.
Но и он не смог перекрыть жуткий вой и вопли, исходящие из изломанных тел уголовников.
Затем подошёл к Котлу и сам пнул в его размазанную рожу своим лакированным, фасонистым сапогом.
— По делу тебе, голубок, испробуй и ты свою долю до конца, не всё тебе верховодить здесь, да бунты устраивать.
Не поленился он и смачно плюнул в то, что осталось от лица Котла. И его же, рубашкой принялся наводить глянец на своих сапогах. И у него были свои личные счёты с Котлом, и вот настал долгожданный час возврата долгов.
— Кого добить, кого в больничку, а Бодрова к следователю.
Сортируйте всех!
Не знали уголовники, кого из них будут добивать, и ужас овладел всеми ими. И, похоже было, что там начиналась повальная, предсмертная истерика, паника!
Меня вытолкали в коридор и скоро увели к следователю Таболкину. И, похоже было, что он уже ждал меня.
— Не ожидал я от тебя такой прыти, атаман, а с большим числом уголовников ты бы смог справиться? Или ты уже всё показал, что ты можешь делать.
Я подошёл к его столу и взял со стола листок бумаги, и моментально загнул его в трубочку. И уже этим остриём насквозь проткнул лежащее на столе яблоко.
— Я мог бы также свободно проткнуть горло любого врага или лишить его зрения.
Затем взял другой чистый листок, подержал его развернутым, и уже, как ножом, порезал яблоко на части.
— Я мог бы с таким же успехом перерезать любое горло.
— И моё горло, тоже? — не вытерпел восхищённый Таболкин.
— Я себе такой цели не ставил, — ответил я уклончиво.
— Ты будешь жить, ты достоин этого. Я как смогу, так и помогу тебе, Григорий Лукич. Я верю, что ты хорошо воевал во всех войнах, и чести своей нигде не замарал. У тебя, Григорий, везде в документах расстрел стоит, а у сына твоего пятнадцать лет обозначено выселок.
Так я вам обоим сделаю одинаково, это всё, что я могу сделать для вас, Григорий Лукич. На большее деяние и я не способен, я не Господь Бог. Сына твоего, Романа, тоже арестовали, недолго он был в бегах. Кого надо было, то всех мы достали, ни про кого не забыли. И Шохирев Василий тоже арестован. Одного отца твоего, Луку Васильевича, мы не тронули. Никто не посмел опорочить его доброе имя. У нас такое редко бывает, перекос вышел, не в ту сторону.
Прощай атаман! Такие люди, как ты, ко мне редко попадают.
Судила нас мрачная от крови «тройка», из трёх человек, так в народе назывался специально созданный суд для таких горемык, как я. Почти моментально они выносили свои жестокие приговоры: расстрелы и огромные срока в виде двадцати пяти лет лишения свободы. Расстрелы немедленно приводились в исполнение, и тут же, в пригороде Хабаровска, трупы расстрелянных людей закапывали. Не было там ни крестов ни других обозначений, одно большое захоронение, как скотомогильник. Просто где-то в тюремных архивах отмечалось, что приговор приведён в исполнение, нет человека! С интересом посмотрели на меня мои судьи, был там и Таболкин.
— Только из уважения к вам и к вашим революционным заслугам, Иван Иванович Таболкин, мы здесь, все собравшиеся, единогласно идём вам на уступки. И смягчаем приговор, как необоснованный.
Пятнадцать лет вам, гражданин Бодров Григорий Лукич, выселок в Хорский леспромхоз. И сочтите это за великое счастье, что к вам так нежданно привалило.
После первого массового ареста многие казаки не стали ждать своей очереди, а сами подались в бега. Но недолго это продолжалось, всех кого новая власть хотела осудить, те и были осуждены.
Пострадали и Шохиревы, наши ближайшие родственники. В ту пору Бодровы уже дважды породнились с ними. Шохирева Петра Васильевича сын, Михаил, женился на моей дочери Елизавете. А мой сын, Роман, женился на дочери Александра Васильевича Шохирева Федосье. Трудно сказать, чья же фамилия больше пострадала. В любом случае Шохиревы пострадали не меньше от произвола властей, чем Бодровы. Хотя так вопрос у нас в родне никогда не ставился, мы всегда жили одной большой семьёй.
И только это помогло нам выжить в лихолетье. Всё, что происходило тогда, трудно было иначе назвать.
Выселки
Роман резко отличался от всех моих сыновей, и по фигуре своей и по характеру. Его сухопарый вид тела приводил незнающих людей в недоумение: или болен он сейчас, или такой больной родился.
Но здоровый цвет лица никак не говорил о его болезни. А тем более весёлая и добрая улыбка на его лице. Пробовали его обзывать доходягой, но это всегда плохо кончалось для обидчиков.
Роман спокойно подходил к такому умному хлопцу, сноровисто брал его за ноги, поднимал и переворачивал в воздухе. И тот, в одно мгновение, как ни барахтался, тот уже висел головой вниз.
— Ну как, Москву видать? — весело спрашивал Роман своего обидчика.
Он никогда не был агрессивен при своей невидимой силе. Весь витой, как корень берёзы, и жилистый. Он был всегда очень добрым, и любил пошутить. И ещё очень он любил играть на гармошке. Вот тут, в его игре на этом дивном инструменте, ему не было равных соперников среди станичных гармонистов. Только заиграет он на своей гармошке, все станичные девушки и парни сразу же, пулей летят туда.
— Это Ромка нас к себе зовёт петь да танцевать, ох, и весело там будет! А тут что-то скучно у вас, фасон не тот!
Когда Романа привели на суд, то там что-то напутали и чуть двадцать пять лет тюрьмы ему не припаяли. Побледнел тогда сынок мой лицом и спрашивает судей.
— За что?
Тогда такие вопросы добром не кончались, но на этот раз обошлось и дали пятнадцать лет выселок, как и планировалось. Разобрались! Были там люди из арестованных, которые рыдали от счастья, что им не дали расстрел, а всего лишь, двадцать пять лет тюрьмы.
Странно всё это было слышать, но он уже хорошо понимал тогда, что это действительно счастье, жизнь, хоть и самая безрадостная, всё же дороже стоит. На пересыльном пункте в поселке Волочаевке, за который когда-то шли ожесточённые бои. И я сам там воевал за Советскую власть.
Красногвардейцы штурмовали хорошо укреплённую сопку Юнь-Корань, последний хорошо укреплённый оплот Белой армии на Дальнем Востоке. Именно здесь Роман видел знакомые вещи уже расстрелянных людей, с которыми он раньше встречался. Вещи готовились к дезинфицированию. А их хозяев уже приняла мать-земля, они пережили человека. И возникал закономерный вопрос: что же ждёт меня, может, то же самое?
В тридцать четвёртом году нам разрешили работать вместе, в Оборском леспромхозе, и мы встретились там с Романом. Горько мне было осознавать, что человек ни за что страдает, и именно мой сын. Что он мог сделать тогда в свои семь лет? Какое там нападение на пароход, глупость какая-то, не иначе. Но чувство вины всё равно осталось, не избавиться от неё.
— Не горюй, отец, нет твоей вины, что я осужден. Не один я такой здесь кукую, вон все бараки горемыками забиты. Живы остались, и то ладно.
Но и здесь развернёт Роман свою гармошку, ударит по ладам. И снова жить людям хочется. Любить и страдать! Ведь многие здесь уже жили со своими семьями, и все вместе страдали. Но ведь жизнь и там не кончается. А молодость берёт своё время, даже в этих невыносимых условиях. И даже после каторжной работы на лесоповале, где работали от зари до зари.
Вскоре и к Роману приехала жена Федосья Александровна со своей двухгодовалой дочкой.
— Все мы думали, что ты холостяк! Такой весёлый гармонист и красавчик, — опечалились девушки. — А у тебя жена есть, и тоже красавица, тебе пара, счастливая она.
И хоть как-то крепились люди и подбадривали себя. Но кроме непосильной работы и житья в холодных бараках, у них ничего не было. Умерла малышка у мамы на руках, и никто не смог ей хоть чем-то помочь. Здесь всё это было обычным делом. Ничего не разрешал здешний комендант, Пупыкин Всеволод Иванович.
— Не велено, не велено! — вот и весь его ответ народу. Ни огородика тебе, ни отдельного тебе жилья, всё, как у арестантов — барак и всё. Но, вскорости, в наше поселение приехала женщина — комиссар. И звали её Анастасия Петровна Гордеева. И видно было, что сама она благородных кровей, и осанка, и красота лица, и учёность её. Очень своенравная была Анастасия Петровна и при большой власти сейчас. Да вдобавок ещё с маузером на боку. Собрала она всех ссыльных в одном бараке и стала всех их внимательно выслушивать, как врач больного. Первыми не выдержали женщины, одолела их неоправданная смерть маленьких детей. И понесло их, так в глаза всю правду матку и режут ей.
Затем и мужья их стали высказываться: голодно очень, хоть бы огородик какой завести. Иначе, какая тут работа, если живот от брюквы пучит. Не ожидал Пупыкин Всеволод Иванович, что так заговорит его забитый и запуганный контингент, а не народ. И уже съёжился весь, понял этот кабан, что плохо все это ему закончится. Так оно и вышло. Подошла к нему вплотную комиссарша, с маузером в одной руке. И с другой руки как звезданёт по жирной роже Всеволода Пупыкина.
— Ах ты прыщ на теле недобитого капитализма, и ты возомнил, что тебе всё дозволено. Себя выше Советской власти вознёс, не иначе!
И ещё раз ему по жирным мордасам своей тяжёлой, неженской рукой съездила.
— В следующий раз я тебя прямо здесь расстреляю, именем Советской Власти, если что-то будет не выполнено из всего того, что эти люди попросят. Ты должен сберечь всех людей для хорошей работы и создать им для этого нормальные условия. И особенно ты должен сберечь детей, именно на них делает ставку Советская власть, сохранить их и правильно воспитать. И в первую очередь сейчас Советская Власть борется с беспризорностью по всей стране и успешно ликвидирует её. Да будет тебе известно, Всеволод Иванович, что даже турки не убивали чужих детей, а воспитывали их в своём духе. И, как ни странно, эти мамлюки были самые преданные патриоты империи, и именно они охраняли трон турецкого султана. Никому больше он не мог доверить свою жизнь, чем им. Они преданней собак были, а потому, что их правильно воспитали. Пусть семейные люди строят дома из горелого леса, его вокруг столько зазря гибнет. Пусть садят все желающие на хороших землях свои огороды и кормятся с них. Пусть женатые живут своими семьями и работают так же, от этого только польза государству. А ты, Пупыкин, во вред всё делаешь. Не себе, Всеволод Иванович! Смотри у меня! За перегиб линии партии я сама тебя: лично расстреляю. Есть у меня такие полномочия, и пока их никто не отнимал у меня. У всех осужденных очень большие срока. Так что, Пупыкин Всеволод, им надо жить не по скотски, а как людям. Они ведь не уголовники. Не уголовники! Ты понял меня!
Проглотил Пупыкин язык от страха и не знает, что ответить Гордеевой, а только кивает головой.
Утром следующего дня я с Романом и его тринадцатилетней сестрой, моей дочерью Анной, выступили в свой первый поход в соседний поселок. Там не было осуждённых, а жили совсем обычные люди. Для сравнения — это были Рай и Ад, и между ними всего шестнадцать километров. Но для нас это небо и земля, недостижимо всё было. Разрешил нам Пупыкин сходить туда, да купить картошки на семена и прочую мелочь. Всего на сутки и была наша увольнительная в этот заманчивый для нас Рай. И мы, не чуя ног под собой, летели туда, в это чудное место на всей нашей грешной и жестокой от пролитой крови земле. И всё же только к обеду мы были там. Но нам и здесь несказанно повезло, только в сказках такое чудо бывает.
— Григорий Лукич, это ты? — послышался удивлённый голос первого встречного мужика.
Я обомлел от неожиданности, передо мной стоял Федоркин Алексей Иванович. Весь заросший седыми волосами, совсем, как старовер, с окладистой холёной бородой. Я не успел ничего ответить, как этот медведь сгрёб меня в свои стальные объятья.
— Родные вы мои! Столько лет прошло, прежде чем мы встретились. Поскорее пойдёмте до моей хаты.
Скоро нас всех вымыли в баньке, переодели во всё чистое и посадили за богатый стол.
Чего только здесь не было: и сало, и мясо, и курятина, и мёд, и сметана, молоко и самогонка. Всем, кто чего желает. Мы все пьянели от еды, настолько соскучились по такой райской пище. Но Алексей Иванович наливал нам, мужикам, по полному стакану самогонки.
— Выпьем за то, что мы целы остались. Цвет всего Амурского казачества.
Вспоминали мы и про наши боевые дела.
Пьёт он водку, а слёзы текут по его седым волосам на шикарную бороду.
— Я как чувствовал, что так всё и будет. Боится нас Советская Власть, больно хорошо мы жили на фоне всей остальной нищеты. Но и трудились же мы, не покладая рук, целыми семьями работали, от зари до зари. Никогда казак не пойдёт против власти, потому что он слуга её и опора, большой перекос тут вышел. И исправить уже ничего нельзя, нет казачества, под корень его подрезали. Сидят казаки и плачут, и кто бы подумал, что такое возможно. А жизнь взяла их всех и подвела к такому роковому финишу.
Сел я тогда на пароход, всё того же «Амура», и поплыл с семьёй, куда глаза глядят. Разговорился я с одним мужиком местным, он и подсказал куда ехать. Подходил я к тому баку, что когда-то так лихо расписал пулями. А там стоит слово Лёнин, и кто-то дописал уже словами: бак-ёмкость! Вроде сам писавший замаскировал весь смысл написанного раньше слова. Жутко мне стало. Тогда да за одно только слово Ленин меня самого под пулемёт поставили бы. И чего я больше всего не ожидал, подошёл ко мне сам капитан и, не сказав мне ни слова, уважительно пожал мне руку. Потом подумал, наклонился к самому уху и сказал туда шёпотом: — Молодец, Лёнька! Так и оказались мы с семьёй здесь. И вот, как видишь, основательно обжились, как всегда казаки делали.
Забеспокоились мы, ведь нам ещё назад надо возвращаться.
— Там Пупыкин уже, как говорится в народе, икру мечет. А дорога-то дальняя да лесная, на такой дорожке шибко не разгонишься. И, не дай Господь Бог, мы опоздаем к проверке. Тогда другие люди уже никуда не пойдут после нас. Будет у Пупыкина предлог это сделать. Никак нельзя людей подводить, грех большой! И им надо семена закупать, да жизнь свою налаживать.
— Не волнуйтесь, запряжём мы самых быстрых лошадей и мигом вас доставим до вашего дома.
А потом и сам спохватился и самому страшно стало.
— Да будь он не ладен, этот казённый дом! Я лучше вас кетой угощу, её здесь осенью по всем ручьям валом идёт, хоть по ней пешком ходи.
И кеты на стол хозяйка тащит, и соленой и вареной, а к ней и икры янтарной чашку, кушайте на здоровье. Вам теперь отъедаться надо, родненькие вы мои. Что нам сказать хозяевам, уже все и выплакались вволю, и напились, и наелись.
А Аня и спать устроилась на большой хозяйской кровати. Разметалась там на перинах, как в сказке хорошей, наверно в облаках белой лебёдушкой летает. Да как бы серый коршун с высоты не налетел. И хозяйка перекрестила девочку и отогнала его рукой, совсем как курёнка, кыш, нечисть!
Загрузили мы два мешка с картошкой на повозку, несколько соленых кетин и караваев хлеба. Не забыли и про Шохиревых и им подарков наложили от Федоркиных. Не поверят те, когда узнают про эту нашу дивную встречу в такой глухомани. Наверно, есть что-то такое, что нас всегда по жизни ведёт и поддерживает. Так и сейчас получилось!
— Спасибо Всевышнему, Отцу нашему Господу Богу и Святому Духу! — и перекрестились казаки с благодарностью. — Не даёт он нам пропасть, казакам, детям его!
Стала и у нас жизнь налаживаться, построили мы большой дом и стали жить одной семьёй. Постепенно купили себе и коровку и лошадку, всё, что для жизни надо. Но всё равно мы не могли считать себя свободными, так и висел над нами дамоклов меч закона. А жизнь всё равно была невыносимо тяжёлой, на лесоповале болезни и множественные несчастные случаи губили людей. Страшно было смотреть на лесорубов, которые выжили после укуса заражённого энцефалитом клеща. Выжил человек и сам себе не рад, не слушаются его руки и ноги и даже голова. Все они болтаются в разные стороны и, похоже, никак не подчиняются своему хозяину. Это нарушена у человека центральная нервная система. И язык его изо рта выпадает и слюни текут по нему. Плачет несчастный человек, ведь мозг у него работает чётко и ясно.
Зимой мы работали по пояс в снегу и все нещадно выматывались. И люди и лошади не жалели себя. И кто больше страдал из нас, в таких условиях, было неясно. А вот с дерева сорвался «рябчик», огромный сук, что висел на кроне целого дерева. Их много таких «рябчиков» зависает на соседних деревьях. После трагичного и грандиозного падения спиленного исполина. Его уже нет рядом, он, как и человек, выпал из бытия. Только молчаливые стражи его и остались, на чужую беду!
Раскачает ветер деревья и рябчики к земле устремились, тяжко им висеть там в одиночестве. А тут и жертва подвернулась, и раскалывает ей рябчик голову, до самых плеч, как ножом режет. Не долго мучается такой осуждённый, умирает почти мгновенно. Что у него осталось в памяти из своей, этой нечеловеческой жизни, никто уже не узнает.
— Отмучился бедный! — только и скажут его товарищи по работе. — А нам ещё сколько терпеть осталось, и никто того не знает.
Перекрестятся мужики и снова за работу. Не дай Бог норму выработки не выполнишь, тогда уже точно тяжело тебе придётся и жить и работать, а семье и того хуже. И, в итоге, редеют ряды осуждённых, хотя до последнего звонка им ещё долго тянуть. Дожить сумеют только счастливчики! Но кто они? И долго ещё потом им будет сниться падающие на них деревья. И предсмертный вопль раздавленного товарища или родственника, которому уже ничем не помочь, умирает он. Зато другой умирает быстро — бьет его спиленное дерево в грудь, как катапультой, со всего маху. Скололось оно на сломе и не стало падать, куда надо лесорубам. А захотело оно прихватить с собой человека в свой последний путь. И оно ведь живое. И ему чувство законного мщения совсем не чуждо. Вот и ушли из этой жизни два разных организма, тесно им стало в этом мире и никак не ужились они вместе. И что самое странное, они никогда не питали враждебности друг к другу. Так бы и жили они счастливо, но судьба это, что свела их здесь, и подтолкнула обоих на последний шаг отчаяния. И деревья страдают, но за что? Кто их осудил? И безмолвствуют они, погубленные и расфасованные по частям. Может быть и мы, люди, сможем когда-то услышать на их, понятном уже нам языке, наше осуждение. И возможно, что презрение к нам. Но нам, осужденным на это деревоубийство, наверно не дожить до этого чуда. А пока только ясно одно — и они, как и мы, умерли по чьей-то враждебной воле.
И пока я так рассуждал о своей никчемной жизни, и вообще о смысле нашей жизни, на заснеженную полянку вышел гималайский белогрудый медведь. Он меньше по размерам бурого медведя, но и он бывает очень опасным для человека. И часто, при всём своём кажущемся миролюбии, этот зверь непредсказуем.
Первыми медведя, как всегда, почуяли лошади. Но на этот раз он и их обманул, зашёл к нам на деляну с подветренной стороны, совсем, как на охоте. Только кого он выберет объектом своей охоты, это ещё был большой-пребольшой вопрос. Лошади не стали ждать его окончательного выбора и срывались со своих лёгких привязей. И куда их теперь понесла нелёгкая, они и сами того не знали. Медведь не очень удивился этому, потому что мы с Романом остались на месте. И всё же он не решался сразу напасть на людей. Хотя и у него были свои причины не только не доверять нам, но и ненавидеть людей. Во-первых — он не ложился, как и положено всем нормальным медведям, в зимнею спячку в свою добротную берлогу. Кто-то помешал ему это сделать вовремя, другой зверь или человек. Возможно, что и берлоги-то, у этого грозного и голодного странника-шатуна, вообще не было. И, как говорится, никакого вида на постоянное место жительство, как и у нас, у него нет. Странно всё это звучит, но здесь мы с медведем стоим, как бы на одной ноге, он и мы — пришлые люди. И мы тоже почти что звери, голодные и озлобленные.
Возможно, что зверь был раньше болен. Или ранен был в стычках с другими медведями. В их постоянной борьбе за свой охотничий участок. Или же был ранен человеком. И тут почти всё, как и у нас, людей, стычки конфликты, кровь и страдания. И всё же, медведь решил атаковать людей, и у него сейчас не было другого выбора, уже месяц у него не было ни крошки в желудке. Роман схватил длинный шест, которым мы подпирали подпиленные деревья и затем валили их в нужную сторону. Но медведь одним ударом лапы сломал его как щепку. От неожиданности Роман потерял равновесие и завалился набок и в снег. Я понял, что сейчас он, как никогда в опасности. Потому что, если хищник видит убегающего человека или зверя, то считает все это лёгкой добычей, и уже никогда не упустит её. Успел я снять с сучка на дереве свой ватник, потому что мы всегда работали без них, даже в сорокоградусные морозы. Благо, что всё под рукой находился. И выдвинулся на передний план, заслонив собой лежащего сына. Не понравилось это всё медведю, и он стал подниматься во весь рост, чтобы с яростью обрушиться на меня. Пена висела на его пасти, и злобно сверкали глубоко посаженые глаза. Его ярости не было предела. Неужели и эту добычу у него отнимают. Швырнул я телогрейку свою чуть ли не прямо ему в клыкастую пасть. И хищник с радостью сгреб её, злобно клацнув зубами. Так и не поняв, что же это такое, и так неожиданно прилетело. Хищник всегда соображает намного позже своих инстинктов, те у него раньше включаются. И медведь поступил так, как и должен был поступить. Я хорошо знал, что медведя тоже можно свалить с его крепких ног, если знать, как это делать. Есть такие приёмы у опытных борцов.
Бывало такое, что я и сам делал так, когда боролся с ручным медведем. Но и ручные звери приходят в страшную ярость от своего поражения. Поэтому, лучше в таком случае дальше борьбу с ним не продолжать, а сразу же уходить подальше. Как говорится, с глаз долой. Иначе плохо всё это кончится. В этот момент я и сам превратился в хищника, сработали и мои врождённые инстинкты. Ловко я поднырнул под его, уже занятые моей фуфайкой, передние лапы. И одним мощным движением своего тела подорвал его заднюю лапу. Лишился медведь своей опоры и стал резко заваливаться на спину. От неожиданности его передние лапы раскинулись в стороны, чтобы как-то удержать равновесие. При этом моя изодранная телогрейка резко отлетела. А медведь, как опытный борец, сохранил своё ощущение тела. И так, уже резко перегруппировавшись, гулко припечатался к земле всей своей массой. Совсем, как в мирной борьбе. Но и я не терял времени даром, ведь и я был в тот момент ловким и матёрым хищником. И я не упустил своего момента. Мой острый охотничий нож молниеносно ударил медведя в его, уже не защищённое когтями и лапами, сердце. Успел я ещё и уберечься от задних лап поверженного медведя, отскочив резко в сторону. Но на дальнейшее ведение борьбы у меня уже не оставалось сил, и вряд ли бы я смог продолжать наш смертельный поединок. Но и тут зверь ещё не сдавался. И успел перевернуться на лапы, и силился подняться с земли и дотянуться до меня. Но и Роман не терял зря времени. И он уже был готов защитить меня. Удар полностью парализовал зверя и лишил его всякого движения, зверь умирал.
Когда прибежали люди, то я сидел возле ствола дерева, которое мы так и не допилили с Романом.
И оно скорбно смотрело на всё происходящее, со всей своей высоты. Казалось, и оно было на стороне зверя, ведь и мы в его видении такие же звери, а чем мы лучше? Но всё же дерево, как ни странно, не оттолкнуло меня, жалко стало.
— Надо будет и его пожалеть, это дерево. Пусть и оно живёт вместе с нами, — мелькнула в моём воспалённом мозгу туманная мысль.
Сын стоял возле лежащего неподвижно медведя и смотрел, как его кровь жирным пятном расползается по чистому снегу. И в тот миг я своим сердцем отчётливо понимал, о чем он думал. Бывают в жизни такие мгновения прозрения.
— Сегодня мы победили в этой звериной схватке, и завоевали себе право жить и радоваться жизни.
И эта кровь только пьянит нас, как зверей. И всё же, очень хочется оставаться просто человеком, жить и любить. И крови довольно, от неё уже тошнит нас, это всё от усталости нашей!
Продолжать работу мы уже не могли, и никто на этом не настаивал. Тихонько пошли мы к ближайшему костру и присели с Романом на подставленные нам кругляки дерева. Сунули нам в руки женщины, что грелись там, по кружке горячего чая. Чтобы мы хоть немного пришли в себя и согрелись, а то что-то холодно стало. Дрожат мои руки от напряжения и почти не слушаются меня, и проливается чай на холодный снег. И тот недовольно, как змей, шипит на меня, но быстро умолкает.
А у меня уже чёткая картина перед глазами, наверно от сильного нервного перенапряжения. Очень давнее оно и незабываемое, и не дающее мне покоя всю мою жизнь. И вот теперь проявилось, впервые за все годы нашей разлуки. Будто, мы снова стоим с Идиллией, на островке, нашем Рае, а вокруг море воды — это наша беда.
— Ты должен жить! Жить! Жить! Жить! Я так хочу этого?! — и видение моря исчезает за нашими сугробами снега.
— Не уходи! — прошу я Идиллию. Но перед моими глазами уже не понимающие меня лица лесорубов.
— Что с тобой отец? — тревожно спрашивает меня Роман. Но я уже пришёл в себя.
— Ничего! Погрезилось сынок, от усталости всё.
Постепенно и у нас стала жизнь налаживаться в лучшую сторону, сменилось и руководство леспромхоза. Всеволод Пупыкин отбыл в неизвестном направлении, утром его уже не было не только на своём посту, но и вообще в посёлке. И нисколько бы я не удивился, если бы встретил его завтра на своей деляне простым лесорубом. И это был бы для него самый счастливый вариант, но никто ничего толком не знает, хотя разговоров всяких и домыслов на этот счёт было предостаточно.
Сейчас Советское правительство делало ставку на модернизацию леспромхозов. И, по возможности, оснащало их новыми тракторами и другой техникой. Строились железнодорожные пути для быстрой вывозки леса к пунктам назначения. И уже двигались по ним резвые паровозы «ОВ», именуемые в народе овечками, доставляя спиленный лес на склады и на станции. Старались приблизить наши леспромхозы к зарубежным фирмам, уже тогда чуть ли не полностью модернизированным. Но до этого нам было ещё очень и очень далеко, ведь наша молодая страна всё еще поднималась с колен. И неимоверно труден был весь этот долгий путь становления. После пережитой революции, гражданской войны, голода и разрухи, и огромного числа беспризорных детей. Их число превышало пять миллионов, и это те, которые не погибли по многим причинам. Они были самыми беззащитными гражданами новой России.
И страна справлялась с поставленными перед ней задачами за счёт огромного патриотизма людей, невиданного никогда ранее ни в одной стране мира. Строились новые клубы, жилые дома, подводилось туда радио и освещение. И жизнь повсеместно бурлила за счет энергии молодёжи, зачинщиков всех хороших начинаний и массового патриотизма. И уже во всём мире не было людей, которые равнодушно смотрели бы на то, что происходит в молодой Советской республике. А тут происходили поистине грандиозные дела.
Стахановское движение шахтёров Донбасса эхом трудовых рекордов отозвалось и в Оборской тайге. Вот как об этом писала газета «Тихоокеанская звезда» 21 апреля 1936 года.
Под заголовком «За стахановский леспромхоз, за круглогодовую работу!» была опубликована статья директора леспромхоза И. И. Мальцева. Он писал:
«Стахановское движение у нас началось ещё в ноябре прошлого года. Отец и сын Бодровы срубили в течение одного рабочего дня 30 кубометров леса. Но не прошло и двух-трёх дней, как победа Бодровых стало достоянием десятков лесорубов.
Под руководством коммунистов и с помощью инженерно-технических работников, рядовые лесорубы, ещё только начинавшие работать по-стахановски, становились сами агитаторами и организаторами стахановского движения.
А начинался „рекордный“ день в восемь часов утра на лесосеке. О начале его оповещал выстрел из охотничьего ружья. Вместо флага на жерди развевался красный кушак…
На Нижне-Переселенческом участке на рубке леса трудилась бригада Григория Касьянова, а на Ситинском лесопункте — отец и сын Бодровы. Эти две стахановские бригады не уступали друг другу. Григорий Лукич Бодров, как говорили раньше старики, был злой до работы. Под стать отцу был и сын Роман. В день рекорда между их делянами устанавливалась телефонная связь, назначались десятники, которые каждый час сообщали соревнующимся о результатах работы. Что это была за работа! Трудно передать красоту размеренных движений, в которых чувствовались точный расчёт и сноровка, недюжинное здоровье и выдержка людей. Сейчас только старожилы вспоминают, а молодёжь верит с трудом, что в трескучие январские морозы лесорубы работали в нательных рубахах, не боясь простудиться…
И так восемь часов с перерывом на обед и по три минуты перерыва через каждый час работы.
В посёлке победителей встречал начальник главного управления, играл духовой оркестр, который так здорово поднимал настроение людей. Победителей угощали ужином, приглашали в клуб. В торжественной обстановке подводили итоги, вручали зарплату за этот день. С рассветом победители были снова на работе и отлично трудились. Но всего через несколько дней рекорд стахановца становился нормой для всех, и выполнялась она с этакой завидной русской удалью: знай, мол, наших!
— Я сегодня 64 хлыста „уронил“ — усмехаясь, сообщал рубщик Свиридов, и тут же под гармошку своего напарника Мефодия Нигея, которого хорошо помнят в Сите, шёл отбивать чечётку…»
— Так что, внуки мои разлюбезные, — так шутит дедушка наш Григорий Лукич, уже обращаясь ко всем нам, внукам, — хорошо запомните, что писали газеты того времени о нас, Бодровых. Ведь прессу нашу не купишь ни за какие деньги. Да и не нужно нам это. Как говорят в пословицах наших, что мал золотник, да дорог, так и здесь всё получается. Обязательно заметят вас в жизни, если вы сами достойны будете. Поэтому всегда живите честно, трудитесь на совесть. И знайте, что дороже Отчизны нет ничего для казаков. И надо простить все свои обиды, если на кон ставится её честь — запомните это.
Задумался Григорий Лукич, и видно было, что он снова возвращается к тем, незабываемым для него годам…
И жизнь у нас уже наладилась, и жить можно было по-человечески. Но были такие моменты, когда всё решалось без нашего участия. Было тогда распространено одно военное слово: надо! Как приказ, как команда, как приговор! И не выполнить его уже нельзя было, хоть какой бы ты не был передовик производства. Очень плохо всё это могло закончиться, даже, как саботаж работы. Так и нам пришлось переселяться в Нанайский район, на новое место. Но обжаловать приказ у нас и мысли такой не было. Ведь мы уже столько натерпелись мытарств, что испытывать судьбу мы больше не хотели. Пришлось оставить наши дома, что сами строили, огороды и разную мелочь. Разрешили взять с собой корову и лошадь, и это было для нас большим подспорьем.
Загрузились мы со своим хозяйством на баржу и отправились по Амуру к новому месту жительства. И только одно нас успокаивало, что таких семей было немало — около сорока. Все те, кто и был выслан ранее со всех своих родных мест, и снова всё повторялось, только со словом — надо!
Снова нам пришлось валить горелый лес и строить себе дома, корчевать огороды и покупать семена для посадки. Одно было хорошо, что рыбы здесь водилось по речкам видимо-невидимо. Вот за счёт её тогда мы и выжили. Иначе опять бы были среди наших людей голодные смерти, как вначале срока нашего наказания. Здесь и застала всех нас весть о начале Великой Отечественной войны. Удар для всех нас был колоссальный. Никто бы и не подумал, что фашист нападет на нашу Родину.
Не сговариваясь, все наши казаки пошли к управлению и просили взять их на фронт.
— Не можем мы отсиживаться здесь, когда захватчик рвётся к столице нашей Родины Москве.
Но начальник был напуган тем, что не знал, как себя вести в сложившейся обстановке, ведь бумаг на этот счёт у него просто не могло быть. И наконец-то он нашёлся и обратился к многочисленному народу, что столпились уже возле управления.
— Работайте, люди добрые, на своих местах, сегодня к вечеру всё прояснится. Я и сам ничего толком не знаю. И рад бы я что-то сделать и для вас и для Родины, но ничего пока не могу.
И он сокрушённо развёл руками. И ему было тяжело и он болел за свою Родину. И, что самое главное, не было равнодушных людей и разных там злорадствований.
Общую беду все здесь восприняли как собственную.
На следующий день всё решилось, и довольно быстро. В посёлок прибыл взвод вооружённой охраны со своей комендатурой. Люди в штатском долго беседовали с начальником лесхоза. Но тот всё стоял на своём мнении, что нет у него здесь неблагонадёжных людей, у него полный порядок.
Иначе и быть не могло, и он знал, чем лично для него всё это может закончиться.
Срочно было собрано собрание всех жителей посёлка, где комендант Ершин всем сообщил, что в связи с началом военных действий все мы переходим на военное положение. За саботаж работы расстрел на месте, без всякого суда и следствия. За порчу техники, оборудования и имущества — тоже самое.
На вопрос о демобилизации на фронт он ответил, что пока об этом не может быть и речи — неблагонадёжные мы.
— И здесь вам найдётся настоящее фронтовое дело. Партия и правительство решило проложить прямую железнодорожную ветку. Через тайгу, по болотам и марям, всего сорок пять километров. И это будет чуть ли не вдвое короче, чем вести её в обход, по увалам. Вот это и будет ваш фронт и доля вашего участия в победе, которая непременно будет за нашей армией. Так что, вопросов больше не должно быть. Стране нужно стратегическое сырьё — ясень. Он идет в авиационную промышленность, и мы поставим его нашей стране столько, сколько потребуется. Вопросов не должно быть. Кто не доволен, тот может сразу же отказаться.
Никто не понял коменданта Ершина, когда же лучше отказаться, всё одно, по его намеку, исход ясен, в любом случае — смерть!
Но все советские люди включились в работу для фронта под лозунгом: «Всё для фронта!»
Трасса была, действительно, непредсказуемо трудной. Тут не только тракторы, но и лошади вязли так, что их не могли вытащить из болота. Одна голова лошадиная торчит из топи, и вытащить её оттуда уже невозможно. Обезумевшее животное разрывается от вопля о помощи, но никто уже не в состоянии помочь лошади. И она плачет нечеловечьими слезами, крупными и прозрачными. И молит людей: помогите! Тогда охранник выстрелом в ухо прекращал её муки. И он не мог смотреть спокойно на всё происходящее.
Работали мы и в утреннем тумане, который тяжёлым смогом висел над болотами. И холодно было, как в погребе. И в полуденный зной, когда не знали рабочие, куда деться от болотных испарений. И начинались различные заболевания, которые могли перейти в эпидемию.
Но люди превозмогали себя и находили в себе силы подняться и идти на работу, и так каждый день, пока не падал человек в горячечном бреду. Тогда уже всё было ему простительно, он болен, и серьёзно.
И непонятно было, откуда здесь, на этой каторге мог быть такой патриотизм. Но он был и невиданного размаха. И если бы тогда людям сказали, им надо лечь вместо шпал под рельсы для того, чтобы пошёл паровоз, то они сделали бы это не задумываясь, так надо фронту!
По болотам мостили гати из срубленных деревьев, засыпали их грунтом и на них уже клали шпалы и рельсы. Но бывали такие места, что бревна клали и в два и в три слоя. Но дорога, не смотря ни на что, строилась необычайно быстрыми темпами. И никого не надо было подгонять. Надо!
И мы написали письмо Сталину. Нет, мы не жаловались на нашу каторжную работу и бытовые трудности. Мы просились на фронт и только на фронт.
Ответ был очень и очень лаконичный, в его неповторимом духе вождя.
«Уважаемые товарищи!
Григорий Лукич и Роман Григорьевич!
Я остался очень доволен, прочитав ваше письмо. Искренне рад, что у нас есть такие герои как вы. Но ваше время ещё не пришло, надо подождать! Сейчас ваш фронт — работа! И только работа. Ваши трудовые показатели изумляют меня и не только меня, но и остальных руководителей. Таких, как Лаврентий Берия и другие товарищи, которые не верят даже самим себе.
Казаки успешно воюют на фронте и побеждают!
Ждите! И никогда не теряйте надежды.
Иосиф Виссарионович Сталин»
Это письмо многих повергло чуть не в шоковое состояние. И в первую очередь коменданта Ершина Ивана Ксенофонтовича. Снял он свою, разом промокшую фуражку с головы, и тяжело присел на крыльцо комендатуры проветривать свою лысину. И на мощный его нос катились капельки пота, но он не замечал их. И они болтались там, тоскливо ожидая своей участи.
— Да, Бодровы, с вами точно скучать не будешь. И без погон оставите и без штанов.
Много ещё чего рассказывал наш дедушка нам, своим внукам. Но больше всего нас затронула одна интересная для любого ребенка новость — на бывшем участке, где раньше стоял огромный дом Бодровых в нашей родной станице, зарыт клад. И зарыл его сам дедушка, в самые трудные для него времена. Подтверждала это и бабушка Екатерина Даниловна, но что там было спрятано, они нам не говорили.
— Возле дома стоит один могучий кедр, во всей округе нет там кедров, так что ошибиться никак невозможно. Под ним есть камень, кусок скалы, тоже больших размеров. И с его восточной стороны зарыт наш клад. Только даётся он хорошим людям, добрым и честным, именно такими вы и должны быть в жизни. Тогда клад вам и откроется, только чистым людям.
Доброе лицо дедушки сияет своими голубыми, небесной чистоты, глазами. Сейчас они разгорелись юношеским задором.
— Может и не даться клад, если вы к нему с плохими мыслями подойдёте, и такое в жизни бывает. Но отрыть его надо обязательно, для вас казачат, моих внуков, это много значит. Вся ваша жизнь будет у вас, как на ладони, когда к кладу подойдёте. И если где-то в вашей жизни у вас всё же ошибка вышла, то тогда вы это почувствуете сами. Поэтому старайтесь, мои внучата, и живите мои милые, за всех нас живите. А клад, он и сам будет рад вам открыться, и он давно ждёт вас.
Лишь бы кедр наш уцелел, его ещё Василий Иванович, мой дедушка, посадил. Он так и сказал тогда:
— Это веха в жизни всего рода Бодровых, уцелеет он, значит, живы и мы будем, берегите его.
Не дожил дед до окончания своего срока выселок, что-то плохо ему стало прямо на лесной деляне, кольнуло сердце. Застонал он и потихоньку присел на ближайшее поваленное дерево:
— Тяжко мне. Не надо врача, не суетитесь, знать и мой час пришёл. Не суетись, Роман, это уже ни к чему, всё без толку будет! Положите меня под кедр умирать, я свой дом вспомню. Пусть и меня кедры простят, не душегуб я какой, а жизнь наша такая. И всё же она интересная, хотелось бы ещё пожить. И дожить до хороших времён, ой как хочется!
Тут и кукушка неизвестно откуда взялась и села на соседнее дерево, деловито поправив свой застиранный сарафан. Улыбнулся через силу Григорий Лукич и тихо её спрашивает.
— Кукушка, кукушка! Сколько мне жить осталось.
А та старается, бестия, отсчитывает ему года, и дедушке легче стало на душе.
— Я всегда знал, что ты лукавишь и нас обманываешь, но ты хорошее дело делаешь, иначе и жить бы не стоило. Я люблю вас всех! — и рука его безжизненно упала на мох, как на самую мягкую в мире постель.
Так и похоронили его там, на выселках, где только его душа и освободилась. Присела она на ветки дерева и тоскливо смотрела на плачущих людей, а их очень много было. Трёхкратно отсалютовал ему комендантский взвод охраны, уже как истинному герою-казаку. А казаки наши все его поцеловали на прощанье. Со слезами на своих затуманенных глазах.
— Прощай, наш атаман, один из лучших сынов Амурского казачества. Без тебя пусто стало в нашей жизни, невосполнимая потеря у нас!
Сейчас дедушка был негласно свободен. И поэтому был достоин всех этих и других почестей, как истинный герой. Хотя он довольствовался и здесь, в этой нелёгкой жизни, самым и самым малым..
А бумага о полной его реабилитации придёт намного позже, через многие годы. Всего лишь невесомая и серая бумажка, а за ней золотая душа человека, которого уже давно нет. И напрашивается простой, но очень трагичный вопрос — за что он страдал и погиб.
Нет человека! И никак его уже не вернуть, очень обидно, до слёз! Через сорок лет мы, любимые внуки его, отроем тот заветный дедушкин клад. По-другому у нас всё не получалось. Все мы были уже взрослыми людьми, обременённые своими и общественными делами.
Не было уже того могучего, нашего заветного кедра, от него остался только грандиозный по размеру пень. А вокруг его два молодых кедрёнка весело штурмовали такое влекущее своей лазурью небо. Наверно его внуки, как и мы, новое поколение. Нашли мы и камень, который столько ждал нас и наконец-то дождался внуков. Но и он молчун не выдержал, его северная сторона, покрытая мхом, вся увлажнилась.
— Родненькие вы мои! — может, нам показалось, а может, всё это звучало в наших душах.
И камень не выдержал, вот тебе и «бессердечный, как камень». Напрасно так говорят, напрасно!
С восточной стороны мы копали там землю, и всё происходило, как на кладбище. Может быть потому у нас так ассоциировались все чувства, что тоскливо смотрел на нас ещё крепкий фундамент нашего родового дома-гнезда. Но дома уже давно не было, и вот эта гулкая пустота и навевала нам кладбищенскую тишину. Скоро лопата уткнулась во что-то твёрдое, это была крышка сундука, всё, как в романах о пиратах. Только у нас день был на дворе и светило яркое летнее солнце.
Вместо тёмной ночи, да ещё редко выглядывающей бледной и окровавленной луной в романтических произведениях.
Окованный железом дубовый сундучок сохранился в самом лучшем виде. Видимо, дедушка наш знал, что делал и дуб выбрал не напрасно. Даже время не смогло источить его доски, сундук гудел под нашими руками, как настоящий бубен. И создавалось такое впечатление, что он стал крепче. Крышка его легко открылась и мы увидели там медный кувшин древней работы то ли маньчжуров, то ли гольдов. Скорее всего первых, а сколько ему было лет, никто того не узнает.
Под залитой воском горловиной оказался кусок холста и далее мешочек, который весил довольно прилично. Неужели золото, и дедушка наш ничего не сказал об этом — разом подумали мы, многие из его внуков. Нет, не такой был он человек, тут что-то другое.
Там чинно лежали четыре серебряных Георгиевских Креста и множество медалей, его и Луки Васильевича — целая коллекция. А на самом дне сундучка лежал самурайский меч Сэцуо Тарада, подарок Луке Васильевичу. И великолепно сохранившийся именной маузер Григория Лукича. Золотая пластинка на нём гласила:
Лучшему командиру Красной Армии,
Григорию Лукичу Бодрову!
Командарм Михаил Блюхер.
1919 год.
Значит ценили деда нашего дороже буржуазного золота.
Казацкому роду нет переводу (послесловие)
На этом повествование Григория Лукича заканчивается, но не заканчивается история жизни его и всего Амурского казачества.
Принял почётную дедушкину эстафету его внук, Александр. Не может он оставаться безучастным ко всей этой истории его семьи и всего Амурского казачества. Как и все Бодровы русоволосый и голубоглазый. С седеющей головой, седина только придаёт ему ещё большего уважения. И он действительно заслужил его всей своей жизнью. Потому что она является продолжателем всей жизни Бодровых, славных казаков Амурского казачества. Не закончились и сюрпризы для ныне живущих Бодровых.
— Уже будучи в командировке в Америке, — рассказывает он, — я случайно попал на одну художественную выставку, посвящённую Маньчжурской войне 1900 года. Заинтересовала она меня, так как отзывы об этой выставке буквально всколыхнули всю Америку. Мало кто из рядовых американцев вообще знал, что была когда-то такая война. А то, что там принимали участие и американцы, для них был нонсенс. Имя самого художника, Генри Страха, мне совершенно ничего не говорило. Но когда я увидел его великолепные картины, я сразу понял, что знаю его по рассказам моего дедушки Григория Лукича. На первой картине, на фоне бронепоезда, режутся в карты два веселых товарища. Один из них в американской форме, другой был, несомненно, русский казак, при своей шашке и папахе.
Вальяжно полуразвалясь в креслах за чудным маленьким столиком, в окружении и русских казаков и американских военных, да ещё при бутылках спиртного американского образца, знакомых с того самого времени, чуть ли не революционного.
Один только задорный вид этих парней вызывал у зрителей не только симпатии, но и бурю восторга.
— Вот это отдых у них между боями, классные парни!
Но что меня больше всего поразило, так это то, что на бронепоезде краской было написано: Чингиз Хан!
Тут уже и я сам был полностью заинтригован всеми изображенным на этой необычной картине и чудесным поворотом внезапно осенившей меня мысли.
— Кто же здесь изображён, на этом полотне? Неужели Алексей Федоркин и сам Генри Страх? Вот это дела, тут любой человек от такой удачи на седьмом небе от счастья окажется.
Женщина-экскурсовод представилась мне внучкой малоизвестного художника.
— А сейчас проходит выставка ранее неизвестных его полотен.
И звучала уже буря восторга от всего увиденного на тех картинах, не только у американских зрителей, но и других посетителей.
— Пожалуйста, посмотрите на следующее полотно, где мой дедушка стоит рядом с русским великим казаком-атаманом, Лукой Васильевичем Бодровым. Этого атамана и звали все там, на той неизвестной войне, не иначе, как Чингиз Хан Бодров. Очень душевный был человек, Лука Васильевич. Но очень добрый был, этот Чингиз Хан, хоть и воинственный. И дедушку моего очень даже уважал. Он так и сказал нашему американскому консулу.
— Ты давай не жмись, господин консул, а моему другу Генри орден вынь из своей заначки. Да на грудь ему приколи, заслужил он этого. Иначе я на тебя, господин консул, очень обижусь. И свои лохматые брови на глаза насупонил.
— Да ещё звания ему генеральского надо дать, он не то что армией, но и страной руководить сможет. Ваш Генри из наших, казацких кровей, крутой вояка и товарищ мой! Никак нельзя его обижать. И что ты думаешь, наградили моего дедушку орденом. И звание полковника ему дали, а уже потом он до генерала дослужился.
Умолкла пожилая старушка, и её распирала гордость за своего любимого дедушку.
— Чудак он был, каких мало на свете. И всю свою жизнь искал того казака на картине, с кем в карты играл, Алексея Федоркина.
— Таких людей, как мой друг, по всей Америке не найти, голова он, только русские казаки такими рождаются, — любил говорить он.
Но так и не нашёл он его, затерялся тот где-то на просторах России, революция там была. И гражданская война была и голод и разруха. И сама я почти что русская, моя бабушка из Киева, душа моя русская.
— Я и есть Бодров Александр! — представился я старушке. А Лука Васильевич — это мой прадедушка, тот казацкий атаман.
Охнула тихонько старушка и совсем по-русски всплеснула руками.
Подвела она меня к следующей картине, а там казацкий атаман Чингиз Хан Лука Васильевич Бодров. Без оружия бьётся с маньчжурским бойцом Фу То До и одним ударом кулака убивает его.
— Вот этот последний фрагмент боя и постарался отобразить исключительно талантливый художник Генри Страх. И это ему полностью удалось, аналогов такой картине не было во всём мире, не то что в Америке или России. А вот другая картина, где русский поп, да ещё казак, сражается за свою веру с обидчиком своего отца, чёрным монахом, и побеждает его. Тот уже стоит на коленях и готов к смерти. Неописуемое зрелище. И на заднем плане, сама императрица Цы Си.
Всего было выставлено на этой выставке около двадцати полотен Генри Страха. И они произвели на всю Америку и весь мир полнейший фурор.
Элизабет Страх представила меня всей аудитории и что здесь началось, как сказали бы в Одессе, мамочка моя! Отец и дед самого Генри Страха были родом из нашей великой Одессы. И им светлая память. Как всё в этом мире перепуталось.
Все эти картины сразу же подорожали в десять раз, потом в сто и в тысячу раз. Вот такая судьба у Генри Страха и его уникальных картин, повторяю, что аналогов им нет, и, наверно, уже никогда не будет.
— А вас, господин Бодров, попрошу никогда не забывать старую уже Элизабет Страх. Этот чудный день нашей встречи продлил мне жизнь на два десятка лет, спасибо вам!
И старушка утирала слёзы умиления на своих глазах.
— Я ещё обязательно к вам приеду в гости, обязательно! Теперь я богатая и могу позволить себе это чудо!
Довелось мне побывать в служебной командировке и в Социалистическом Китае, — продолжал Александр Романович, — и там мне пришлось побывать в их историческом музее. Я хоть и не планировал себе никаких культпоходов, но отказываться организаторам было уже как-то неудобно, и я согласился.
И ни на секунду потом не пожалел об этом, я был зачарован всем там увиденным. Но совсем меня выбило из толку то, что девушка-экскурсовод на чистейшем русском языке всем объясняла.
— В сокровищнице культуры императрицы Цы Си лежит письмо, написанное ей русским казаком, атаманом Бодровым Лукой. Сначала это письмо привело её в ярость, очень дерзко оно было написано, и без должного уважения к ее Светлейшей Особе. Но когда она сама познакомилась с автором, именно он и спас её от заговора приближённых людей. И целые сутки со своими казаками охранял от врагов, пытавшихся уничтожить её. Вот тогда она прониклась уважением к этому благородному человеку и простила ему все обиды. И сама лично наградила его орденом. Это была наша глубочайшая ошибка, что мы втянули Россию в войну. С ней нам надо жить всегда дружно, и тогда нам никакие враги не будут страшны.
Меня тут же спросили китайские коллеги об этом письме и о моих родственных связях. Конечно, всё это было завуалировано в шутку, не более того.
Но я решил их, как говорится по-русски, хорошо озадачить, и мне это удалось с большим эффектом.
— Несомненно, это мой прадедушка Лука Васильевич, только я сам ни разу не видел его. И дедушка мой, Григорий Лукич, будучи совсем ещё подростком, тоже участвовал в той войне. Именно он мне много рассказывал обо всем ходе тех давних событий, и об этом письме тоже. Так что и дедушка мой — герой. А можно посмотреть это письмо поближе, как говорится у нас, русских, воочию убедиться.
Замерли все присутствующие в зале люди в ожидании интересной, интригующей всех, развязки этой неожиданной истории.
Подошёл сам директор музея и очень тактично, с глубоким поклоном, мне сообщил.
— Только в виде исключения, потому что никому это не дозволено делать, это исторический документ. Но вы составляете исключение из этих правил.
Вот так довелось мне подержать в своих руках исторический документ. И меня не покидала мысль, что так же держали его в своих руках и дед мой и прадед.
И посыпались совсем провокационные вопросы.
— А вы сами, казак будете, или нет.
Что им ответить? И вряд ли они поймут меня правильно. А тем более всю нашу трагическую историю всего Российского казачества. И не перескажешь её, не найдётся слов.
— Сейчас я государственный чиновник, а казак я только в душе!
Мне зааплодировали.
— Вы большой дипломат, Александр.
Как я мог им всем рассказать, что я родился в тайге, прямо на лесной деляне. И роды у моей мамы принимал совсем не врач, а бабушка Екатерина Даниловна. И что, не задумываясь, я возвестил весь этот лесной мир своим звонким криком. Вот, мол, родился новый человек, радуйтесь этому лесные люди. И хоть вся природа благоухала на самом высоком уровне, и солнце и небо, низы радоваться не торопились, пошумели между собой деревья и угомонились. Лично они от людей никогда и ничего хорошего не видели.
Но чёрный ворон, возмущенный таким их поведением, громко возмутился.
— Этот маленький рождённый человечек далеко пойдёт в жизни. И у него большое предназначение там, раз небо и солнце за него, то и нам надо воздать ему славу.
И первый захлопал своими, чернее ночи крыльями, гортанно изливая свои чувства. Никто не посмел ему перечить, так как дедушка ворон был очень мудр, и возраст его перевалил за триста лет.
И возликовала вся Природа, уже без остатка, не было равнодушных участников столь великого события.
Рассказал еще Александр Бодров:
— Была в моей жизни ещё одна замечательная встреча, но уже в Японии, где я так же оказался по долгу службы в государственном историческом музее. Среди множества боевого японского оружия я увидел видавшую виды казацкую шашку. Она сразу же привлекла моё внимание, от неё исходила странная энергия.
При взгляде на нее я сразу же почувствовал что-то родное, далёкое и почти забытое.
Я попросил экскурсовода мне прочесть, что же там написано, на этой казачьей шашке?
Оказалось, что она принадлежит знаменитому в Японии, славному роду Тарада. А именно, Сэцуо Тарада, который ещё в девятнадцатом веке поменялся своим оружием с русским славным казаком Василием Бодровым.
— Они подружились и сохранили свою дружбу до конца своих дней. И это боевое оружие стало достоянием всего рода Тарада. Но и оно не стояло без дела, как говорится у русских, не ржавело в ножнах. В Русско-Японскую Войну внук славного Василия Бодрова, Григорий, будучи совсем ещё молодым, раненым попал в плен и лечился в наших госпиталях.
Несмотря на свой молодой возраст, он уже имел два Георгиевских Креста и полученные ранее медали за войну с Маньчжурией. Так что это был очень опытный боец. Вот этим оружием, своей дедовской шашкой, он отстаивал честь всей России на нашем параде Победы. Перед самим императором и японским народом. И победил своего титулованного соперника, за что и получил обещанную ему свободу.
Трагическая смерть господина Тарада и его дочери Идиллии, последних представителей славного рода, сыграла знаменательную роль и с этим казацким оружием, оно было передано в национальный исторический музей. И стало достоянием всего японского народа.
А о романтической любви казака Григория и красавицы Идиллии у нас в Японии слагались песни. Она трагически погибла, прикрыв своим телом жениха, исключительно редкое самопожертвование. Кстати, убийцей красавицы Идиллии был русский пленный генерал Тряпицин.
Вот такая интересная судьба у этого русского оружия.
— А почему вас так заинтересовала вся эта романтическая история?
Мне ничего не оставалось делать, как признаться, что я и есть представитель династии Бодровых. И я тронут заботой Японского правительства о русских национальных ценностях. Я очень благодарен всему японскому народу за то, что они сохранили хорошую и добрую память, о моём дедушке, Григории Лукиче.
Я гордился за моих предков, но, в то же время, на душе было очень горько, такое двоякое чувство.
И всё потому, что никто из здесь присутствующих людей не знает о трагической кончине Григория Лукича. И о трагической судьбе всего Амурского казачества. Как можно объяснить этим зажиточным и счастливым людям, что из восьми детей, что были у моего отца Романа Григорьевича, в живых осталось только четыре ребёнка. Три моих сестры и брат умерли от голода и болезней во время жизни на выселках. Как объяснить им, что грамоте меня учил ссыльный солдат Михаил Киятов, то ли осетин, то ли черкес по национальности. Тогда в стране властвовал интернационал, и это было действительно достижением молодой страны. Он же, Михаил Киятов, и привил мне любовь к книгам. И носил мне их, маленькому ребёнку, и сам мне много читал и рассказывал.
Как всё им рассказать, японским людям, о благородной женщине — комиссаре Гордеевой. Которая именем Советской Республики и своей человечностью спасла тысячи ни в чём не повинных людей. Это её подвиг. Ведь это она, по-своему, по-революционному, боролась с чиновниками и бюрократами. Словом и маузером! И могла она за просто так расстрелять любого, кто не вписывался в линию партии, без всякого суда и следствия. Но тогда было время такое, как на фронте, и иначе было нельзя поступать. Всё моё детство прошло в военное и послевоенное время. И, тем не менее, несмотря на все трудности и голод, я успешно окончил среднюю школу. По-настоящему сыт я был тогда всего несколько раз, их можно было по пальцам посчитать. Но это был удел того поколения людей, а не только мой.
И это не мешало мне быть хорошим пионером и комсомольцем, а со временем и комсомольским организатором и парторгом. Пройти всю мудреную школу общественного организатора и руководителя.
Так же успешно я закончил высшее учебное заведение, отслужил в Советской Армии. И успешно продвигался по служебной лестнице. И скоро занял место главного инженера предприятия, а затем директора. И уже позднее перешёл на государственную службу. Но где был у меня настоящий пробел, так это в восстановлении Амурского казачества. Здесь всё происходило очень болезненно. Потому что всё надо было начинать с нуля. И порой просто опускались руки.
И хоть дано было нашим правительством нужное направление на восстановлении казачества, но весь вопрос упирался в отсутствии грамотных и патриотично настроенных молодых кадров.
Где их взять?
Это надо вырастить не одно поколение молодых людей. И именно, воспитанных на образе казаков-героев славного Амурского казачества. Конечно, есть такие герои в роду самих Бодровых, которые и Берлин штурмовали, и с Японскими милитаристами воевали, и имена их известны.
И именно они из тех внуков, что так взволнованно слушали своего дедушку, Григория Лукича, его интересное повествование не только о родственниках, но и обо всем Амурском казачестве. И их неслыханной по своим размахам трагедии — репрессиям.
И, тем не менее, словом и мыслью преподавалось патриотическое чувство внукам, во славу нашего Отечества.
Алексей Иванович служил танкистом, горел в танке, участвовал в штурме Берлина, жив и сейчас этот герой.
Слава ему, и долгих лет жизни!
Григорий Александрович с тысяча девятьсот сорок второго года служил в армии. Участвовал в Японской войне. Моряк-десантник, погиб в Корее!
Вечная слава ему!
Не уронили они чести Амурских казаков и всего славного рада Бодровых.
Огромнейшею работу по сбору архивных документов об Амурском казачестве провели Евгения Кабанцова и сам Александр Бодров, озвучивание их через средства массовой информации — Виктор Горелов. Его потрясающие газетные статьи о казаках до сих пор будоражат умы многих читателей, неужели всё это было?
И возрождается слава Амурского казачества. Настолько понятно всё там написано, и настолько бережно само отношение автора к героям. Есть о чем задуматься любому читателю!
Работы по восстановлению казачества непочатый край, на весь долгий век хватит.
Вот такая трудная задача стоит сейчас перед Амурским казачеством. Решить её на нашей Дальневосточной земле — почётная миссия. Так пожелаем же ему доброго здоровья и счастья! И успехов во всех казачьих делах!
— Любо, атаман!
17 апреля 2009 г.

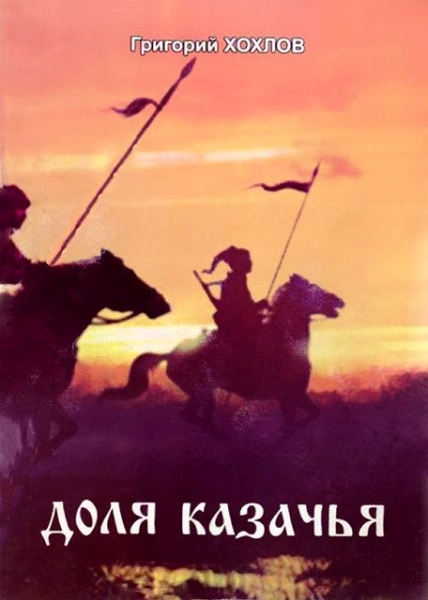

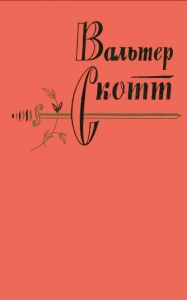

Комментарии к книге «Доля казачья», Григорий Семенович Хохлов
Всего 0 комментариев