Виктор Потанин Капли теплого дождя Страницы жизни Степы Луканина Повесть
Рисунки Л. Смирновой
Солдатский мед
Степа рос заморенный, печальный, качни его — упадет. По утрам еле с кровати сползал. А голова такая тяжелая, хоть вози на тележке отдельно. Так и ходил, пригибаясь вперед и покачиваясь, и все время в этой тяжелой голове стоял слабый туман. Часто бабочки в глазах мельтешили. То белые, желтые, то черные совсем, как земля. «Это от слабости, худо Степу кормили…» — утешали в больнице. А Степе — не легче. Зато ростом бог не обидел. Но Степа стеснялся себя, все время ходил, пригибая голову, да и говорил тихонько, чуть слышно. Из-за этого и прозвища были. Да у кого их нет. Последнее отец привез с фронта. Как увидел сына, так напугался:
— Ой-е, какая жердина! Чей такой зверь?
— Он не жердина, — вступилась за Степу мать. А потом не выдержала и заревела. Еле водой отпоили. Наверно, напугалась Степиной худобы. Только отец удержался — ни слезинки не выронил. На фронте, видно, всего повидал, сейчас, не проймешь.
Хороший пример отец подал. Глядя на него и мать успокоилась — слезами горю не поможешь. Да и что оплакивать раньше времени — живой ведь Степа. А то, что худой — не у них одних. Были бы кости, а мясо будет. Только помани его — нарастет. И мать совсем успокоилась и теперь смотрела большими глазами на мужа. Он молчал и развязывал большой зеленый рюкзак. Достал две буханки, хромовые сапожки, шаль большую, пуховую, и белую банку. В банке той запечатай мед. Отец сразу распечатал и выставил.
— Ешь, Степан, поправляйся. Через две границы провез. Особый медок, солдатский.
Степа хлебал прямо ложкой и незаметно начал пьянеть. От меда и здоровый человек соловеет, а мальчишка подавно. Да и слабый был. А через час голова совсем налилась чугуном, и этот чугун свалил его с ног. Еле доковылял до кровати и бухнулся на одеяло. И сразу полетел, поднялся куда-то: и тело летит, и голова полетела, и все это раздвоилось, и не собрать никак. А Степе жалко расставаться с отцом. Да и меда, самое главное, жалко. И он собрал все силы — проснулся. Верней, он и не спал даже, только голова потерялась. Но теперь й голова нашлась, и он опять сел за стол, и снова за ложку. Похлебал немного, и опять в голове закружилось, и вот уж там поднялось видение. О чем подумаешь — то и придет. А Степа войну увидел. Шли танки, неслись самолеты, мчались всадники на высоких конях. И впереди всех — отец. Он что-то кричал, и глаза сверкали, а конь у него — белый, могучий, ни у кого нет такого коня.
— Об чем, Степа, задумался? Может, хватит хлебать-то? Оставим… Еще желудок с непривычки засоришь, — это мать подала свой голос.
— Пусть ест! И ты попробуй, и ты заслужила, такого сынка сберегла мне, — отец смеется, а мать опять плачет, но к меду даже не притрагивается, бережет. Пусть, мол, ест один Степа, а мы ничего — перетерпим.
Когда дошел до середины банки, то совсем опьянел. И опять на него напали видения, но он не обращал на них большого внимания. Только ложкой работал.
— Ешь, сынок, поправляйся. Через две границы провез. Он — целебный медок.
Степа хлебал уже машинально, и руки теперь еле слушались, и глаза закрывались. Но он знал, что рядом сидит отец, и крепился.
— Ешь, ешь. Закончились твои голода. Вон видишь, пошел какой дождичек. К урожаю это, сынок, к урожаю… — и еще что-то обещал отец, но Степа уже не слышал. От меда пахло полынкой и листьями, и еще чем-то горьким, солдатским, от чего стало совсем хорошо. Так же пахло и от отца. Степа опять разомкнул глаза. Сразу увидел мать. Она разложила на коленях свою новую шаль и, кажется, от радости обмерла. Глаза ее запнулись на одном месте и не мигали, и стояло какое-то светлое, бездонное сиянье в этих глазах. В избе было тихо, протяжно тихо и чутко. Только ложка стучала о белую жесть. Вот и кончился мед, вот и ложка на дно упала. И сразу мать ожила.
— Ну, Степан, падай в ноги отцу. Таким кушаньем накормил, да и сам к нам вернулся, живой да здоровый…
— Это мне надо кланяться!.. Така война, а вы живы. Нет, я самый теперь счастливый. Хоть и раненый, да это все замнем, перемелем, — и вдруг отец размяк и заплакал. А мать посмотрела ему в лицо, напугалась:
— Ты раненый разе?
— Да каки теперь наши раны! — и отец засмеялся и поднял Степу на руки. И Степа вверху проснулся и сразу почувствовал, как сила ему в грудь вошла, и в руки вошла, и в ноги. И смеяться захотелось, и бороться с отцом, и кричать на всю улицу. Отец понял его, и мать поняла:
— Вот он, медок-то!
— Через две границы провез, — опять хвастал отец и Смущенно смотрел на сына. Они уже в ограде стояли у высоких, зеленых плетней. Теплый дождичек сыпался. И неизвестно было — то ли слезы опять набухали на щеках у него, то ли это были капли дождя. И дождь здоровался с ним, и поздравлял с возвращением, и обещал урожай.
Белые кони
Росли в табуне два жеребенка — Сивко и Бурко. Бегали совсем белые, только чулочки на ногах — черные. Может быть, братья были, а может, просто одинаковая масть — случайное совпадение. Так и у людей иногда бывает. Живут два человека, и так один похож на другого, что подумаешь — близнецы. И лицом похож, и походкой, и голосом, а разберешься — окажется, что эти двое совсем чужие и даже не знакомились никогда.
Ходил за жеребятами колхозный конюх Степан Луканин. Он-то, конечно, знал их родословную, но посторонним об этом — ни слова. Да и хранил жеребят пуще жизни от злого человека и от лукавого взгляда. В деревне— всякий народ. Многие, например, даже смеялись над конюхом: «Степан дурью мается. С жеребятами вместе спит».
В этой насмешке было много от правды. Решил Степан, что жеребят его уведут цыгане. Как решил — так и сон потерял. Стал заставать жеребят в свой загон. А это не дело и даже полное нарушение. Жеребята должны в колхозном табуне ходить, а Степан пригонял их в свою ограду. Начальство знало об этом, но все ему прощали — за хорошую работу, за честность. Да и была мечта у Степана, что вот вырастут жеребята, он их объездит и заберет все призы на конных соревнованиях. Степан был конюх-спортсмен.
В теплые светлые ночи жеребята плохо спали, томились. Видно, хотелось им на волю, в луга. Степан приходил к ним в загон, утешал. Кто знает, какие клички, слова он им придумывал в эти тихие ночи. Но только жеребята успокаивались и сами лезли к нему, ласкались. А он толкал им в губы то мягкий кусочек от шаньги, то сахар. И жеребята опять чмокали его в широкую сухую ладонь или цеплялись за шею. А Степан рад. Чего ждал, того и дождался. Он расстегивал потный ворот рубахи, потерянно хмыкал — не смотрит ли кто за ним, — и думал, вспоминал, удивлялся, за что ему это тихое счастье. С этим и засыпал, и даже во сне за ним ходили белые кони, говорили по-человечьи. И пахло от них так хорошо, как от теплого хлеба, который только что сняли с противня. И от этих видений, от запахов он засыпал еще крепче — и просыпался бодрый, уверенный.
Часто сына приводил к ним. Маленький Степа поглядывал на жеребят и смеялся, и казалось, что жеребята тоже смеются. Степе было пять с половиной лет, а он уже ездил верхом. Правда, садил его отец всегда на смиреную лошадь, а сам шел сзади, стерег. Серуха эта была старая и бегать быстро отвыкла. А жеребята шагом ходить не умели. Выведет их Степан из загона, наберет полную горсть рафинада и бежит впереди, а они за ним. Опять люди смеются: «Совсем сдурел наш Степан. Уж сына родил, а сам как подросток…» Но была в этом смехе и радость. Раз хорошо человеку — в тридцать лет бегом носится — то и пусть блажит, никому не мешает. А то, что любит коней, — это даже полезно. Это теперь все машины, машины, скоро и в бане, говорят, спину мылить будет тоже машина, а тогда, до войны, лошадь — главный помощник.
«Война». Хорошо бы совсем забыть это слово. Так это тяжело и печально. Но разве выкинешь из жизни, забудешь в каждой судьбе те тяжелые годы…
Вот и кончилось счастье Степана. Попрощался с семьей — и на фронт. А жеребята без него стали тосковать, присмирели. Стали даже искать его, точно не верили, что уехал. Но потом все равно привыкли. Теперь ходила за табуном, конюшила Мария Покидова, а мужиков-то не было — все на фронте. Из женщины, конечно, какой конюх. Не та ухватка, не те привычки, но табун привык и к Марии. Лошадь, как и человек, ко всему привыкает.
А время летело. Сивко и Бурко уже выросли, их обучили, объездили. В мирное время они бы забрали все призы и награды, но теперь про соревнования забыли. А скоро прошел слух, что будут забирать на фронт и коней. Слух подтвердился. В колхоз пришла разнарядка от военкомата, — и табун опустел. Взяли самых лучших, самых отборных. Сивко и Бурко тоже на фронт поехали. Мария Покидова провожала коней до станции. Там их погрузили в вагоны-теплушки, надавали овса, задвинули двери, и эшелон поехал. Никто цветов не бросал в теплушки, никто не оплакивал, кони — не люди. Но Мария не сдержалась, завыла, как по покойнику. То ли о чем-то вспомнила добрая женщина, то ли просто пожалела коней. Ведь поехали под немецкие пули, и кто знает — вернутся ли? И о людях Трудно загадывать, а тут кони…
Прошло время, и оказалось, что Мария права — Сивко и Бурко не вернулись. Зато вернулся с победой Степан Луканин, и сразу пошел на работу. Но силы уже не те, растерял. На войне его всего повредило: один осколок в плече ходил, голова тоже задета, а в правую ногу — пулевое ранение, и не гнется она. Вот как охлопатывали сосновские мужики победу. Но хорошо — хоть живой… Степана сделали бригадиром, потом самим председателем, а через месяц повезли в госпиталь. Открылись раны, и нависла беда.
Госпиталь далеко, в другой области, и поехал туда Степан умирать. Он так и дома сказал, попрощался с соседями. Правление колхоза собрал и там попрощался. Одним словом, приготовился человек. А сын не верил отцу. Мало ли люди болеют, да оздоравливают, и у них так же будет. Скоро от отца совсем писем не стало, и Степа загоревал. Как жить без отца — не мог и представить. Решил посоветоваться с учительницей своей — Ниной Яковлевной. Но она никаких надежд не дала, только велела писать больше писем. И чтоб письма были веселые, бодрые, чтоб помогали отцу.
Так и сделал Степа Луканин. В первом же письме сообщил, что в табуне появились два жеребенка — Сивко и Бурко. Всего месяц назад родились, а уже сейчас видно, что будут крепкие, добрые кони. А масть у них — белая, только чулочки на ногах черные… Отец сразу откликнулся и просил написать о жеребятах подробно. Степа постарался, не пожалел чернил. А потом так понравилось, что стал писать отцу каждый день. В этих письмах — все деревенские новости, но больше всего о том, как растут жеребята. И отец стал чаще писать, а потом сам приехал. И сразу с порога обнял Степу, поцеловал.
— Ну и Степан! Что за сын у меня! Да кто тебя научил так писать-то!..
Степа улыбнулся, стал прятать глаза.
— Сам хотел, сам писал…
— Ох, и хорошо ты писал! Помог ты мне крепко, сынок… А. то уж я глядел в домовину. А ты растолкал меня письмами, растревожил.
Помолчал немного, присел на лавку. Потом вдруг рассмеялся:
— Ты представляешь, Степа, они мне снились даже — твои жеребята… Нет, думаю, — не помру, все равно вас повстречаю! Ну как они — Сивко, Бурко?
— Растут, бегают, тебя ждут, — и у Степы играют глаза. Понял, что легче отцу.
Но болезни не прошли, они затаились. Степан отпросил себя с председателей. Отпустили с трудом, под честное слово. Вот выздоровеешь, мол, тогда снова выберем.
Так и стал опять Степан конюшить. Днем все время на лугу пасет молодняк. И ночью часто на лугу остается. Там у него избушка, вся веселенькая, просторная, правда, пол земляной. Но Степан уже не боится болезней. Они стали от него разбегаться. При таком сыне да при такой работе разве можно болеть?
А Степа-младший все время с отцом. Часто в избушке вдвоем ночуют. Вначале костер жгут, уху варят или картошку, а потом травы набросают на пол — и на покой. И ночью снится опять им дневная жизнь. Только закроет отец глаза — сразу заводит в оглобли лошадь, и вот уж едут куда-то с сыном, а сзади — кони. Их много, много — целый табун. Они бегут, на ходу играют, и пенятся ноздри, летят копыта. И катается, взбухает в груди упругая сила. Он давно уже не слышал, забыл про нее, а теперь она опять ожила. На двоих ее хватит, на четверых, на новую жизнь, которую принесли ему эти белые кони.
Прощание
Однажды ночью, когда горел костер и звезды склонились над ним так близко, что казались живыми, отец спросил сына:
— Ты бабушку не забыл?
— Что ты, папа! Конечно, нет…
— Конечно-то, конечно, а давно не бывал у нее. А заказывали…
— Из-за Заборки?
— Оттуда, Степа. Плоха твоя бабушка. Надо бы попрощаться.
— А почему?
— Да потому, Степа. Все мы не вечны. Все там будем, только не в одно время… Ну, ладно, спи, не расстраивайся, может, и обойдется…
Не обошлось. Бабушка Татьяна опять послала весть, чтобы ехали, а то она уже детей своих стала путать. Смотрит на Федю, а называет его Степой. Фамилию свою позабыла. По всему видно — гонит человека к концу.
Жила она в Заборке, в соседней деревне. Жила с младшим сыном Федором. Трех дочерей ему вынянчила и вот собралась уходить. Относилась к смерти спокойно, даже душевно. Рассказывают, что сама припасла смертну одежду, купила обувь, простыню, полотенца. И все это отложила в свой сундучок, заперла. И все время была в сознаньи, только память немного запутывалась и всех людей было жалко. Увидит Федора — и заплачет. Внучки подойдут, на стульях рассядутся, она поднимет глаза — и заплачет. Спросят:
— Почему плачешь?
— Жалко вас… — и махнет рукой.
Руки у нее были красивые, полные, как у молоденькой. И глаза были еще ясные, умные. Посмотрит на человека — и тот сожмет плечи, стушуется, как будто она — прокурор какой, а он сам, человек этот, — ответчик. А бабушка посмотрит еще строго с минуту и улыбнется. И улыбка такая же умная, с дальним значением. Но значение это — хорошее, и человеку делается легко, и с души сползает накипь-печаль. И еще многое про нее рассказывали, потому в смерть ее не верил никто. Не верили и в то, что начала она заговариваться, что начала детей своих путать. Так же бы удивились, наверно, если бы в бору вдруг зашаталась большая сосна и вдруг бы упала наземь. «Как это? Зачем ей падать? Надо стоять еще и стоять!» Так и про бабушку Татьяну не верили. Зачем, мол, умирать, такая война пережита, оба сына пришли целехоньки с фронта, и снохи к ней хорошо относятся. Так что — зачем?.. Но смерть не обманешь…
И Степан с сыном собрался в Заборку. Ехали долго, поди, часа два. Дорога лесная — все по корням да по кочкам, да еще дождь прошел накануне. Теперь в колею хоть гусей загоняй. Есть где поплавать. И часто телега у них не ехала, а ныряла в воду с размаху, только лошадь пофыркивала. Наверное, думала, что ее обманули или обманывают. Для других, мол, лошадей есть дороги, а ее куда-то в болото заперли да еще кнутом понужают… Зато воздух, воздух какой в бору! Пей, режь его, в сумку складывай, выпусти на волю этот боровой воздух — и сразу разольется вокруг чистый мед…
Бабушка не узнала старшего сына. Когда он зашел в высокую комнату, то сразу же поздоровался бодрым голосом:
— Здравствуй, мама! Ты передавала, вот и приехали.
Лицо ее ничего не сказало. Она смотрела мимо Степана, как бы видела сквозь него. На кровати она не лежала, а сидела. Так, видно, легче дышать. На щеках, у ней выступил желтый холодный глянец, и оттого лицо сделалось нежное, восковое, и этот воск на Лице особенно расстроил Степана.
— Что со щеками-то? Как яичком облиты? — спросил он у Федора, младшего брата.
— Это худо, братан, — ответил шепотом и отвернулся, потом полез в печурку за табаком.
— Сейчас ты зайди, — подтолкнул Степу отец.
Степа и раньше очень боялся, когда по бору ехали, а теперь совсем связал страх. Но отец сзади:
— Иди, сынок… Надо идти!
И Степа ступил через порог. Потом прошел еще две плашки и замер. Бабушка рукой поманила, она сразу его узнала.
— Шагай, Степа, не бойся.
Он еще раз шагнул и оказался возле кровати.
— Какой ты, Степа, высокой. Поди, много ешь?
Голос был низкий, но очень слабый. И еще показалось Степе, что голос шел не от бабушки, а откуда-то снизу.
— Степа, где ты? Где лицо-то? — опять ее голос. Степа посмотрел и опять напугался. Этот голос и восковые щеки, эта просьба — «где лицо-то?» — напомнили ему какую-то фигуру из страшной сказки, — и он поежился, задышал, как будто в комнату вошел холод. Она вдруг поняла его:
— Не бойся, внучек, меня. Я худа стала, страшна…
Устала говорить, замолчала.
Он беспомощно оглянулся, отец что-то маячил. Степа очень хотел понять его знаки, но потому, что очень хотел — так и не понял. А бабушка опять:
— Дай мне лицо-то? — и вдруг он догадался: она хочет потрогать лицо его, а достать до лица не может. И тогда он упал перед ней на колени, и лицо его стало на уровне бабушкиных ладоней. Эти ладони сразу обхватили щеки. Словно хотели согреть их или запомнить. Подержали с минуту и отпустили.
— Я умру завтра, Степа. Не реви, не жалей меня, я пожила.
— Ты не умрешь! — он не сказал слова эти, а выкрикнул. И сразу напугался своего громкого голоса. Щеки у бабушки задвигались, а по лицу прошел трепет. Кажется, она улыбнулась.
— Спасибо, внучек. Я все запомнила… — она устала опять и побледнела. Но Степа этого не заметил.
— Что ты запомнила?
— Как в ноги пал перед бабушкой. А я недостойна…
— Что ты говоришь?
— Недостойна, говорю… Недостойна я.
В четыре часа утра она перестала дышать. Умерла во сне, перед смертью даже не состонала. Говорят, так умирают только очень добрые, чистые люди. Хоронили ее в Сосновке.
За гробом шла вся деревня. Степе было так тяжело, что даже не мог заплакать. Это была первая смерть в семье. Первая на глазах у него.
Кладбище находилось на самой опушке бора. Здесь росли очень высокие сосны. Деревья были зеленые, стройные, словно бы в утешенье умершим. Пришли к могиле все старики ' и старухи. Они смотрели, как хорошо, степенно хоронят бабушку Татьяну, и себе желали такой же мирной, спокойной смерти. Но один старичок сильно плакал. Это был Силантий Лисихин. Говорят, давно, в ранней молодости он сильно любил бабушку Татьяну. Но вышла она за другого, а Силантию отказала. Он всю жизнь не прощал ей, не разговаривал, отворачивался. А вот к гробу пришел. Степа видел, как он сильно плачет, и пожалел его.
Ему равно жаль было бабушки, и Силантия, и всех стариков, которым жить осталось недолго. Когда бросили на гроб первый песочек — брызнул дождик. Вроде не было тучки, а вот погодилась.
— Примета добра… — сказал Силантий, — хорошо ей там будет.
Он сказал о бабушке, как о живой. И для Степы она тоже была живая. Так и стало потом — всю жизнь она была для него, как живая.
Придумала
В войну ездили на коровах. Что поделаешь — человеку тоже не легче. И по дрова ездили, и по сено, даже землю на них пахали. И ведь молоко еще от коровы просили. И на все бедная корова согласна, лишь бы угодить, не обидеть. Но, бывало, что обижала…
Запрягла как-то Маньку Степина мать. Поехали за чащой. А ехать — далеко, на луга. Но это б не страшно, если б корова обученная. А Манька всего второй раз в запряжке.
Вначале хорошо шла корова. Степа с матерью слезли с телеги — Маньку жалеют. У Степы глаза смеются, в груди поют разные птички. Посмотришь со стороны — Степа самый счастливый. Так и есть: от отца письмо получили. Отец живой, здоровый, даже шутит в письме. Говорит, — «Гитлеру зубы все выбили», что война на убыль пошла. Кто его знает, может, и вернется отец, не убьют… Когда вернется, заживут лучше всех! Потому и хорошо Степе.
Вот и за деревню выехали. Еще километр проехали — и Манька остановилась. Они подумали, что сейчас постоит она, отдохнет и опять пошагает. Но Манька стала мычать. Мычит и высоко смотрит.
— Да матушка ты моя! Чё, неохота в оглоблях…— стала мать уговаривать. Она еще громче замычала, потом прилегла.
— Да неуж ты на нас пообиделась? Запрягли тебя да обидели. Вот каки мы дураки.
Но Манька не поддавалась на ласку. Стала бока облизывать и прикрыла глаза.
— Степа, она умирает у нас?
— Нет, мама! Ей неохота…
— Как это неохота! Вот я поучу, — и мать ударила ее прутиком. Та даже глаза не открыла.
— Ах, ты така хабазина! Ты чё издеваешься! — мать ее давай хлестать со всей мочи, а у самой в глазах слезы. И жалко, обидно. Ведь всё, мол, понимает, а не хочет идти.
— Все, Степа, не могу я! Съездили, глядишь, за чашшой.
Степа за рога ее давай поднимать, но она только головой крутит, моргает. И вдруг он услышал за спиной материн смех:
— Хватит, сынок, я придумала! Она хитра, а мы хитрее…
— Ну ладно, — и Степа стал успокаиваться, а мать подошла близко-близко к корове и наклонилась над ней. Потом еще ниже, ниже, — и присела над самым ухом и сделала ладони трубой. Да в эту трубу как ухнет со всего голоса, даже Степа вздрогнул от страха. А корова сразу соскочила — и ну бежать! Да побежала не вперед, а повернула в домашнюю сторону. И с дороги сразу свернула. И теперь уж по траве, по кочкам бежит она, а сзади два человека машут руками. Да кого тут — Манька про все забыла. Вот что наделал страх.
А телега старая — разве можно по кочкам. И разлетелось старье! Вначале одно колесо отлетело и побежало рядом с телегой, потом второе отпало, но это уж в улице было. Потом и передок отвалился. Когда к дому подбежала корова — только одни оглобли остались. Одни оглобли и принесла. Степа с матерью подскочили, мать замахнулась:
— Ох ты, коровешка проклята! Я вот как хропну!..
Но ничего из этих угроз не вышло. Даже наоборот: мать сохваталась за шею Маньки и давай причитать.
— Как дале-то жить, наша Манюшка! Ты подскажи, посоветуй.
Корова уже успокоилась. Дышала ровно, смирно моргала. Глаза ее были совсем человеческие. Они чего-то знали и понимали, чего не мог еще понять человек.
Силантий
В Сосновке были бахчи. Колхоз завел их для смеха: у других, мол, растет, может, и у нас что-то вырастет. Да и детям бы помощь — свои бы дыни, арбузы в яслях. А веселые головы даже мечтали — на трудодни раздавать арбузы! Пусть веселятся — не запретишь.
За бахчами ходил Силантий. Он был такой старый, что помнил время, когда не было ни машин, ни самолетов, ни трещуна-телефона. Все это было, конечно, только в малом количестве, потому Силантий и не заметил. Но время, что вода, бежит и бежит. Воду хоть остановишь запрудой, а время не остановишь. И вот уж Силантий одряхлел и состарился. Его руки и ноги извертел ревматизм, а тело походило на корягу, которая высыхала на солнце.
На бахчи его возили на велосипеде. Велосипед он получил как мичуринец в награду за тугие арбузы, за дыни-крепыши, за алые, как мак, помидоры. Рассудили в колхозе: «Ногам шагать тяжело, пускай теперь ездят…» Старик обрадовался подарку и поклонился начальству в пояс: «Благодарствую, не забыли меня…» Даже лицо у него покраснело, так стало хорошо, так волновался.
Велосипед он вел домой бережно, похлапывая рукой по сиденью, как по крупу сытой и стельной телки. Сзади прыгали ребятишки.
— Залазь верхом, повезет…
Но залазить на велосипед старик не спешил. Он поставил его в горницу, на железный ящик — и давай любоваться. Сиденье доставало до потолка, и сам велосипед казался в доме еще лучше, красивей. Любовался им всю неделю, а потом решил прокатиться. И сразу упал, потому что ноги потеряли педали, а руль из рук выскользнул, как быстрая змейка. Силантий содрал ногу и обозлился. Человек он был хоть и дряхлый, а настырный, потому решил любой ценой покорить эту злую машину.
Теперь он не расставался с велосипедом. Каждый вечер подводил его к пряслу, перелазил с жердей на беседку и целился ехать. Но ноги опять теряли педали, и Силантий падал на землю. Озирался кругом, тер ушибленные колени и снова подводил велосипед к пряслу. И опять летел через руль, сдирал в кровь все руки. Вокруг прыгают ребятишки:
— В Москву поехал, держи его! — потом сжалились над старым. Да и Степа Луканин помог. После смерти бабушки он подружился с ним еще больше. Часто гостил у него, слушал разные от него истории. Кто много прожил, тот много видел.
В доме его и велосипед узнал. Жаль только, что не умел ездить, а то бы сам обучил Силантия. Зато помирил с ним ребятишек. Объяснил им, что велосипед — большая награда. И на фронте солдат награждали, а Силантий на мирных полях прославился, вот и нужно ценить его, помогать. Степу все уважали. Вот и в этом деле послушались, и сразу Силантий свободно вздохнул, — в спину теперь никто не кричал. Даже больше — теперь помогали Силантию. И часто прохожие видели: пока Силантий на беседку карабкался, двое за руль поддерживали, третий— за раму. Потом радостно толкали сзади, и с шумом, смехом мчались по улице, вылетали за околицу.
И так каждый вечер, пока у ребятишек были каникулы. А скоро велосипед перекрасился в голубой цвет, под цвет реки, под цвет неба. Хозяин думал, что после этого велосипед станет ручным совсем и самым послушным. Только напрасно: ноги все так же боялись педалей, все так же Силантия до бахчей везли ребятишки, и добрые люди смеялись:
— Старый, что малый — занять бы ума…
Пришла зима, и велосипед отпустили на отдых. Силантий не унывал. Он обещал Степе, грозился:
— Вот зиму проводим, опять сяду за руль! Не может быть, научусь — одолею коня железного…
Новая весна грянула ранняя, с жарким солнцем и теплым дождем. Зато в июне — холод, стынь по ночам. А по утрам — иней. Силантий сторожил бахчи до захода солнца. Знал, если зайдет оно в тучу сухую, опять падет иней. И Силантий укрывал всходы прошлогодней травой, газетами, даже все одеяла были в ходу. Часто помогал Степа. Укрывать луны — нехитрое дело, но утомительное. Только на что не пойдешь ради родни. А Силантий ему настоящей родней сделался. Очень привязался Степа к нему и привык! И тот тоже привык. По всей деревне расхваливал Степу:
— Нет, не согрешат с таким сыном Луканины! Уж не убежит их Степа от работы, не убежит…
А зачем бежать Степе? Пока укрывают луны — сто историй расскажет Силантий. Старому человеку одно: удовольствие — вспоминать да рассказывать. Только однажды не стали закрывать всходы. Вроде небо в тот вечер было хорошее, и погода уже направилась, и повернулся июнь на лето. И спокойно спал в эту ночь Силантий. Утром, как обычно, поехал на велосипеде. И уж ехал спокойно, уверенно — покорил свою голубую машину…
Возле самих бахчей слез на землю, насторожился. И глаза изменились, что-то услышали. И вдруг побежал со всех ног. Но что бежать — опоздал… Листочки пожухли, прижались к земле — неживые. Всходы померзли на всех четырех гектарах. Кое-что осталось, конечно, но арбузы все обварились. Такой сильный иней.
Два дня он не выходил из дому. Когда пришел к нему Степа навестить, посочувствовать — у порога запнулся о велосипед. Он лежал изувеченный чем-то тяжелым.
— Зачем друга порешил?
— Стравил бахчи ваш мичуринец… Как в глаза глядеть… А тоже гордился, арбузное семя… Ишо машину завел.
Потом из правления пришли и тоже о велосипед запнулись.
— Зачем ты его?
— Увольняйте меня из колхоза, ишо доверяли!
— Успокойся, чего ты?
— Ничего. Тяжело мне. Душа горит. В войну и то было легче.
И все понели, почему он погубил свою голубую машину.
Цыганское солнышко
Жил в Сосновке мальчик Коля Лагутин. Не любили его в школе, избегали ребята. Да и сам виноват Коля, очень злой рос, напористый. В деревне говорили, что он — в отца, в Андрея Лагутина. На фронт Андрей не попал, а занимался снабжением всю войну: был торговым агентом, а сказать проще — заготовителем. Заготовлял рыбу, мясо для госпиталей, в Сосновке почти не жил, а был всегда в ближних и дальних разъездах.
Другие говорили, что Колька в мать — в Лукерью Лагутину. В деревне ее называли Лушкой и всегда про нее рассказывали плохое. Лушка держала кроликов и всю войну торговала теплыми шапками. Сама шила их из крольчиного меха. Так что всю войну семья горя не знала, а наоборот, нажила много денег.
Сшила мать такую шапку и Кольке. Красивая шапка, из черного меха, он надел ее и пошел с горки кататься. И все хорошо было, а потом раскатились санки во весь опор, и на самом большом ухабе вылетел Колька. Сам — в снег и шапка долой. А рядом с Колькой бегал Дружок, веселый добрый щенок. Он увидел, что мохнатая шапка валяется и сразу ухватил ее в зубы и потащил. Отбежал немного и давай ее драть зубами. Мех податливый, а щенок молодой, неразумный. Одно пустое место от шапки осталось, и Дружок только облизнулся и припустил домой. За ним Колька ринулся, весь злой, кипит пузырями. А щенок добежал до ограды и вальнулся на сено как ни в чем не бывало. Коричневые глазки моргают и щурятся. И совсем не подумал щенок, что на него беда надвигается. А на него надвигался Колька с толстой березовой палкой. Замахнулась рука, блеснула на солнце береза, и только теперь Дружок вздрогнул и прижал уши. Но было уже поздно, поздно и поздно. Кольке хватило одного удара, — и вот лежит Дружок на спине, дергает лапками.
На дороге Дружок пролежал недолго. На него наткнулся Степа Луканин и сразу же поднял щенка на руки. Но Дружок уже застыл, был твердый, как камень. Степа решил его схоронить. Он вырыл в снегу ямку, но этого оказалось мало. Тогда Степа принес лопату и сделал в снегу траншею. На дно положил свой изношенный пиджачок и кусочек старенького одеяла. На эту постель опустил Дружка. Не смог сдержаться — заплакал.
Утром зашел к Степе Колька Лагутин. На нем уже была новая шапка из черного блестящего меха. Он пришел, чтобы отомстить Степе. Подумаешь, мол, нашелся жалетель. Собака — не человек, да и нечего, мол, лезти, куда не просят.
Колька был хитрый и вначале себя не выдал. Да и начал издалека, постепенно:
— Дай мне книжку «Дальние страны». Она на тебя записана в библиотеке. А мне не дождаться, терпенья нет.
Степа подал книгу. Характер добрый — не отказать. Даже спросил Кольку просто так, для приличия, не молчать же:
— Как живешь, как дела?
— А-а, катись ты, такая жись! — ответил тот и захохотал. Слова эти он, наверно, услышал от Лушки, от матери, а теперь вспомнил их и похвастал. Но Степа словно не слышит.
— На улице холодно?
— Жарко! Цыганское солнышко вышло!
— Какое цыганское? — удивляется Степа.
— А тебе не рассказывали, как торговал цыган за две зимы одно лето?.. — и опять Колька ощерился, и бегают огоньки в хитроватых глазках. Но прибаутка эта снова чужая. Где-то услышал, теперь преподносит. Глазки еще больше шныряют. Не могут стоять на месте. Такие же глаза бывают часто у Лушки. Значит правильно говорят: каков корень — таков и отростель.
— Я не слышал про цыганское солнышко, — опять повторяет Степа. Теперь он сам похож на Дружка. Так же моргают глаза, так же всему доверяют.
— Ничего, скоро услышишь! — обещает Колька и начинает медленно разглядывать Степу. Как будто только увидел.
— Степка, ты Дружка закопал?
— Я схоронил, — отвечает Степа понуро.
— А я вырыл его и бросил в пригон.
— Куда? — вскакивает Степа со стула.
— В пригон к вам… — Колька хохочет и дергает нижней губой, опять подражая кому-то. Степа срывается с места, в одних носках, выбегает в ограду. И там, по снегу, единым махом залетает в пригон. А за спиной бежит Колька. Мычит корова, и шурчит сено. Степа ищет Дружка, ищет долго и не находит. Потом идет к двери и хочет открыть ее, но дверь — ни с места. Ее приставили вилами. И сделал это, конечно, Колька. Потому он доволен.
— Ну как там цыганское солнышко? Поди вспотел?
Степа еще ничего не понял. Он наваливается на дверь всем телом, но сил маловато. А Колька хохочет:
— Мало каши ел, Степочка!
— Открой! — стучит Степа в дверь. — Кому говорят — открой! — он все уже понял, но было уже поздно.
— Ну ладно, посиди, а мне некогда! — кричит Колька в последний раз и уходит. Степа стучит все сильнее, но никто не услышит, — зима, никого нет в ограде. Потом кричать начал, потом заплакал, и это были такие горькие, обидные слезы, что запомнились на долгие годы.
Что было бы, если бы не пришла мать? Когда отбросила она вилы — глазам не поверила—Степа лежал на сене в одной рубашке, в носочках, а сверху его обнюхивала корова, а может, согревала дыханьем.
Проболел он два месяца. Открылось воспаленье легких, потом вспухли десны — выходила простуда. Еле-еле остался жив. И с тех пор болел часто, до самого приезда отца. А Кольку Лагутина простили. Мать Степина так и сказала:
— Пусть плачут, да не от нас.
Вспомнилось…
Степа был высокого роста, и это его пугало. Он никогда не любил выделяться. Да и насмешки уже неслись, а что делать. В деревне любят просмеять, припечатать. И доброму достается и злому. Так уж ведется. Да и на каждый роток не накинешь платок. Но бывает, конечно, обидно…
Как-то зашли в магазин Степа и Толька Жучок. Степа — высокий, а Толька маленький, кнопка прямо, малыш. Продавщица тетя Оня их вместе увидела и руками всплеснула:
— Чё жо такое! Тебе бы, Степка, ноги-то отрубить, а ему бы приставить!
Степа сразу побледнел от обиды, и тетя Оня одумалась.
— Я ж пошутела, Степанко! Долги ноги — хорошо дело! От любого убежишь от бандита. И от конного, и от пешого…
— У нас нет тут бандитов!—обрубил ее Толька. Он тоже обиделся. Так ребята и ушли, ничего не купили.
У Степы целый день на душе — тяжелая туча. Ничего, мол, утешила, успокоила тетя Оня. Он даже вставал в полный рост перед зеркалом и все разглядывал свои ноги. Но тетя Оня, видно, права, — очень длинные ноги. Да еще худые, как палочки. И он совсем сник, потемнел. Стало жаль себя, о прошлом раздумался, и вдруг ему вспомнилось, вдруг привиделось, как спасли его эти ноги…
Дело это уже далекое, еще шла война. Он в Заборку приехал к своей бабушке Татьяне. Та обрадовалась, забегала. Сразу к столу посадила, а на стол поставить нечего. Пришлось покормить лепешками из сушеной клубники — полевой, дикой ягоды, да молока стакан выпоила. Но что это за еда? Хотя бы для постороннего, а тут сам внук заявился. И бабушка Татьяна горюет.
— Да когда жо моя смёртна придет? Да когда жо? До чё мы дожили, а ишо до чё доживем? Приехал внучек, а покормить — нету… Пойдем-ко, Степа, по колоски?
— Пойдем! — Степа даже обрадовался, повеселел. Он любил ходить с бабушкой по грибы и по ягоды. А за колосками тоже в поле идти! Да и был опыт в этом деле у Степы. В Сосновке тоже колоски собирали, и Степа не отставал от взрослых.
Взяли с собой тележку, мешок и грабли и отправились потихоньку. Бабушка уже медленно ходит. К старости ноги чугуном наливаются — так тяжелеет кровь. Потому Степа не спешит, а идет медленно и вразвалочку, разговорами занимает:
— Баба, раньше как хлеба убирали?
— Раньше, Степа, комбайнов-то не было. И сейчас вроде не лишка. А после войны будет полно. Люди так говорят — я не знаю… А косили так наши хлеба. Возьмем литовки с грабельцами, да на поле. Да гектар за день выкосим — и падешь в перву борозду. Хоть водой отливай да откачивай. Почему так уставали? Гектар — совсем не простое дело, да рядок-то надо выложить хорошо. А за нами снопы идут, вяжут. Так и подбирали пшеничку. Ну, понял чё иль не понял?
— Понял, понял! — соглашается Степа. — А ты кем в колхозе работала?
Бабушка смеется, платок на голове поправляет.
— Ты, Степка, какой-то пытательной. Чё-то и будет жо из тебя? Да поди никого — сильно умной… Аха. А ты про колхоз? В колхоз мы сами первы зашли. Был тут колхоз в Заборке, назывался «Крестьянин». Я и на пашне робила, на лугу, за быками ходила. Да и конюшила, Степушка, конюшила! Коней у нас было тридцать пять штук! Как сейчас вижу — Фома да Рома да Евланя. У нас было три жеребца. Ох и ко-они! Так и звали по-человечески, А это, ничево, Степа. Лошади сильно умны, хороши, не хуже людей… У нас все в роду коней любят. А твой отец ото всех на особе. Без них и жить не мог даже. Как на войне-то обходится…
— А дедушка у меня был хороший? — не унимается Степа. Да и не часто ему приходится видеть бабушку Татьяну. Деревни хоть и рядом, а каждый день — не ускочишь.
— Вот хорошо — дедушку вспомнил! Доброй был, ласковой мужик у меня. Мы с ним даже в церкви венчались…
— В церкви?
— Да-а. Все пришлось… Я бы рассказала, да тебе рано.
— Расскажи!! — просит Степа ее, умоляет.
— Ну ладно, да не поймешь… Вначале записали нас в книгу церковну, а потом одели венцы. Это — корона такая, так называтся. Вначале на жениха, потом на невесту. Потом кольца одели, мы обменялися…
— Какие кольца?
— Ну, ладно, Степа, не буду я. Ты ничё не поймешь, да дитя еще… Ну разе только маленько… Значит так: нас к родителям жениха повезли. А там уж на столе состряпана булка. Из белой крупчатки, так и отпыхиват. Ее подают всегда стары родители. Жениху да невесте — ешьте, кусайте! Они из одного места и откусывают. Вот тут и примета. Если много жених откусил — все смеются да переглядываются. Значит, хорош будет пахарь! Если много невеста поела — тоже дело хорошо. Будет жена хозяйкой, помощницей, народит много деток… Вот бы сюда эту булку! Разговелись бы с тобой, подразнили животы… — бабушка смеется и Степа тоже.
А день хоть и осенний, а теплый. Небо высокое, чистое, только вдали собираются тучки. Потому тихо, просторно, не шевельнется травинка.
— Баба, гроза идет?
— Едва ли… В это время едва ли.
За беседой быстро идет время. Вот и поле. Рядом — лесок. Они тележку поставили, стали грести. Нагребут кучку, на тележку завалят и — прямо в лесок. Там колоски обмолотят, а зерно приберут. В мешке уже дно закрыло. И опять ходят, гребут. Бабушка ободрилась, повеселела, а Степе страшно. В Сосновке у них верховые поля охраняют и здесь, поди, так. Поймают — под суд отдадут. Уже были, случаи — отдавали… Все люди боятся суда, и Степа очень боится. Потому сейчас все время головой вертит — томит предчувствие, давит страх. И место здесь незнакомое. Хоть бы ветерок дунул или дождик пошел — все бы повеселее. Но кругом — тихо, безлюдно, и в тишине этой — страх. Он совсем довел Степу — даже спина замерзла. Бабушка поняла его, начала успокаивать.
— Голову-то отронишь! То ли боишься кого…
— Боюсь! Вдруг поймают нас, — и Степе еще страшней.
— Не надо, Степа! Кого ты… Мы не воруем, а подбирам. Не возьмешь колосок, он под снег уберется — и тогда никому… А мы насобирам, намолотим да каши наварим. Ох и будет каша да пишша наша! — ей даже весело, еще что-то сказала. Но он уже не слушал — он разглядывал верхового. Степа сперва ничего не понял. Да и верховой глядел на них спокойно, внимательно, только лошадь под ним танцевала и задирала голову.
— Баба, кто это?! — сказал Степа, не вытерпел. А она уж сама заметила, да как закричит:
— Беги, Степка, беги-и!
И он побежал со всей мочи. А верховой только и ждал этого. Но разве Степу догонишь? Да и страх придал силы. Вот и понесли ноги, от земли приподняли. Правда, лошадь тоже быстрая, резвая, да и выслужиться, видно, хотела. Она не бежала, прямо летела по воздуху, и Степа слышал уже храп за спиной. Верховой громко свистнул, и это еще подхлестнуло. Вот и лесок, вот и спасение — какой конь побежит на березы. Степа оглянулся — верховой стоял в нерешительности. Но вдруг заметил бабушку Татьяну. Да и как не заметишь. Она стояла с тележкой посреди самого поля, оцепенела. И верховой хлестнул лошадь и прямо на бабушку. Та схватила тележку и побежала. Откуда сила взялась — верховой не догонит. Может, не догонял специально, а потешался? Над кем и потешиться, как не над старым и малым. Наконец, догнал, кнутом замахнулся — и бабушка присела, как подрубили. Но он не хлестнул, а захохотал. Даже Степе издали слышно, какой густой, пьяный смех. Даже лошади стало стыдно, она понурила голову и обреченно мотала хвостом. Но это длилось недолго. Верховой гикнул и поскакал. Бабушка медленно поднялась, оглянулась и опять присела на землю. Когда Степа подошел, она плакала:
— Изъедуга проклятой!.. Это Ванька Демидов, объездчик. Нальет глотку и ездит. И стегат кнутом нашего брата. Таких и в армию не берут чё-то. Говорят — больной, больной, а вино халкать — здоровой… — последние слова она уже сказала твердо, спокойно. Поднялась на ноги и взглянула на Степу.
— Я жо за тебя напужалась. Думаю, Ванька догонит — захлестнет с первого раза. А у тебя ноженьки-то добро бегают. Вот и гляди, что слабой, худой… — она засмеялась и похлопала его по спине.
— Ничё, придем сичас, каши наварим, пшеничку-то Ванька не вытряхнул. Вот и будет каша да пишша наша… — и опять смеется бабушка Татьяна.
А сверху уже посыпался дождь. Но дождик был медленный, теплый.
— Поди грузди пойдут? Как думашь, Степа, — пойдут?..
Он хмыкает, улыбается, головой крутит растерянно. И хочется признаться в чем-то добром и ласковом, но бабушка уже зовет его на дорогу.
Она идет теперь бодрее, уверенней и блестят радостью совсем молодые глаза. А по земле и по небу — по воздуху стелются такие цветочные запахи — то задышали все травы, цветы и деревья. Дотронулся дождик, и задышали. Пройдет дождь, и все еще оживет и поднимется — еще долго до зимы, до первого холода. А бабушка думает, что ей далеко до смерти. Потому и заблестели глаза.
Вот что Степе внезапно вспомнилось. Уже и бабушки нет давно, уже много дней прошло в его детской веселой жизни, а не забудутся те часы. Этот теплый медленный дождичек. Этот внезапный испуг от Ваньки Демидова — и спасение. Не забудется и дыханье осенних полей и дыханье бабушки. Потом все это вместе сольется в одну тихую и родную музыку. Она будет в Степе до последнего дня.
Смешные дела
Много во время войны и смешного было. Не все рыданья да слезы. Человек поплачет, потом посмеется, глядишь, и уровнялась жизнь.
Возле Сосновки протекала река. Это был знаменитый Тобол. В реке водилась разная рыба — окунь, щука, чебак. Она уж коромыслом на него замахнулась, но он в воду прыгнул, отплыл и снова свое:
— Развяжи, тогда скажу, где твои деньги…
Той делать нечего, стала развязывать. Руками не получается, пришлось и зубами помочь. А возле плотика уже сошлись женщины, стоят, в кулак прыскают, а Лушка старается. Минут двадцать старалась, но развязала все узелки.
— Спасибо, тетя Луша! Сейчас на плотик положь одежду. Отвернись, я же голый — стыжуся.
— Где деньги? Где выронила? — ее уже трясет, не может сдержаться.
— Положь одежду, потом скажу… — И снова Лушке отступать некуда, подошла к плотику и положила Толь-кину одежду на самый край. А тому только это и надо. Схватил в одну руку, а второй огребается и поплыл. Лушка бушует на берегу.
— Отдай деньги! Я в совет заявлю…
— Я пошутил, тетя Луша!—Толька уже плывет далеко. Заплыл за дальние кустики, вылез на берег, оделся. А Лушка не успокоится, ищет у женщин сочувствия. А те вроде сочувствуют, отойдут немного и давай хохотать: «Проучил Лушку Толька. Так и надо халяве!»
К вечеру вся деревня узнала. Целый месяц потом хохотали. Лушка в магазин боялась прийти.
И берега у Тобола были песчаные, ровные, летом хорошо здесь купаться, хорошо и белье хозяйке постирать — подходы к воде наделаны и плотики есть.
Многих лучше плавал Толька Жучок. И не только плавал. Он мог и донырнуть почти до середины. Но однажды его сильно обидели. Пришла Лушка Лагутина на реку, смотрит: Толька купается возле самых плотиков. И одежонка тут же лежит на песочке. Тогда не купались в трусах да в плавках, а купались голые, в чем мать родила. Лушка ненавидела Тольку из-за сына. Очень много у ней накипело: Толька в школе был старостой и не спускал ни одной проделки Кольке Лагутину. Бывало, что и кулаки применял — надо же наказывать хулиганов. Вот об этом, наверное, Лушка вспомнила, когда увидела Тольку Жучка. А голос все равно ласковый, покоряющий:
— Говорят, Анатолей, ты сильно ныряшь?
— Могу показать!—он сразу обрадовался. Каждый любит, чтобы его похвалили. На том человек стоит.
— Покажи, Толенька, покажи!..
И Толька нырнул. А Лушка белье его в руки сцапала и навязала узлов. Намочила их да песочком присыпала. Сейчас и взрослый мужик не развяжет, так плотно слилась материя.
Толька вынырнул почти на середине и рукой машет, ждет похвалы.
— Молодец, Толенька! — кричит Лушка, поднимает ведра и уходит с реки.
Толька подплывает к плотику и выходит на берег. Взял одежду, а одеться не может. Попрыгал, попрыгал и присел на корточки. Стал зубами развязывать, но разве узлы развяжешь. А Лушка еще не зашла в улицу, с во-дой-то быстро не попадешь. И вдруг она оглянулась — не утерпела. И тут же Толька принял решение:
— Тетя Луша, ты деньги выронила!
Лушку как током ударило, сразу ведра на землю поставила. Знал, на чем сыграть, Толька. Он опять повторил:
— Ты деньги выронила!!
А Лушка уже бежит к плотику.
— Отдай деньги! Где деньги?
— Развяжи белье, так скажу.
Нечаянно
В Сосновке было два колхоза в войну — имени Пушкина и «Заря». В «Заре» дела шли лучше. Наверное, здесь были лучше земли.
В августе из МТС посылали комбайн. Ночью комбайн не работал. Он заходил на полосу только днем. Да и комбайн был прицепной. Вечером его трактор отцепит, и комбайн остается на полосе. Но комбайн всегда охраняли: дежурили возле него по очереди. Поручали дежурство старикам или детям. Дошла очередь и до Силантия. В ту ночь с ним случилась беда. Потом он так Степе рассказывал:
— Обошел комбайн раза три — все хорошо, присел на подножку и покурил. А скучно. Решил кверху залезти. А ночь светлая, залез прямо на мостик. Ничё тут хорошего— холодно. И вдруг ремешок увидал. Такой толстой, брезентовой. И в ширину подходящий. На какой-то шестеренке болтатся… Ладно, думаю, доживу до зимы, ремешок пригодится. Разрежу его — буду валенки подшивать. Подумал — и отцепил ремешок… А утром пришли на комбайн, а комбайн не работает. Пристали ко мне: «Ты чё наделал?» — «Ничё не знаю», — говорю. Председатель приехал на Воронке. Нервничат. Прямо рвет его. Мне жалко стало: «Не в этом ли ремешке дело? Я снял нечаянно…» Так и есть: приделали ремень — и комбайн пошел. А председатель все равно наскочил: «Хорошо, что сознался. А то бы все равно нашли — и получай семь лет принудиловки. Больше не пойдешь караулить — занимайся своими арбузами…» А знашь почему его злось взяла, Степа?
— Почему?
— Мы с тобой в колхозе Пушкина числимся. И все время последни. А ему в первы выскочить надо. Вот и прицепился ко мне с ремнем. Ты как думашь? Неуж бы меня в тюрьму посадили? За ремешок-то?
Степа промолчал. И старик потемнел лицом и еще сильнее задумался.
Счастье мое и злосчастье мое
Вот и война закончилась. Вот и отец из госпиталя приехал. Стал отходить от ран, поправляться. Идет время, бежит, как река. И только Степа один не меняется: все такой же… Недаром мать его, Наталья Васильевна, часто засмотрит на сына, засмотрит да подопрет кулачками щеки и скажет:
— Ох ты, счастье мое, и злосчастье мое! Чё жо из тебя и получится. Уж больно простой ты. Куда тебя потрясешь…
— Куда, куда, — рассмеется Степа. — Я скотником на ферму пойду. Сын — скотник, мама — телятница, все трудодни заберем!
— Ничё ты, сынок, не тямашь. Я по нужде оказалась телятницей — не пришлось почти поучиться. А ты у нас грамотной. Тебе надо в городе жить!
— Как ты сказала, мать?—это старший Степан подключился.
— В Курган, говорю, Степе надо. Поступать на како-то предприятие. Поживет, обживется, может, нас к себе вызовет. Все жо родители…
— Неправильно, мать, неправильно! Я отсюда никуда не поеду. Я здесь и дышать начал!.. — это снова старший Степан.
— И я не поеду! — Степа смеется, и глаза открылись, большие…
— И мне чё-то неохота отсюда, — смеется Наталья Васильевна. — Ну, ладно, извиняйте старуху. Пошутела я, попытать решила. Да куда уезжать-то! Вон како в окно солнышко…
С этим солнышком и закончилось детство Степы Луканина. С этим солнышком и пришла его юность.








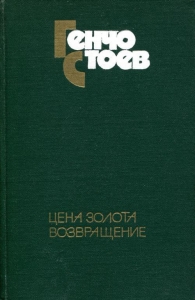
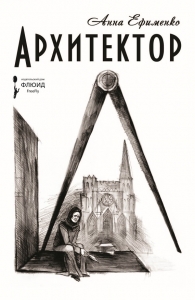
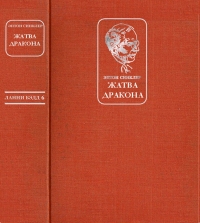
Комментарии к книге «Капли теплого дождя», Виктор Федорович Потанин
Всего 0 комментариев