Пифагор
Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона,
СПб., 1890
ПИФАГОР — сын Мнесарха, уроженец Самоса, «процветал» при тиране Поликрате и основал общество в Кротоне, италийском городе, находившемся в тесных отношениях с Самосом. По словам Гераклита, он был умнее всех своих современников, хотя Гераклит видит в его мудрости какое-то «худое искусство» — знахарство своего рода. Неизвестно, сколько времени Пифагор оставался в Кротоне, но несомненно, что умер он в Метапонте, куда переселился вследствие враждебного отношения к его союзу. После его смерти вражда против пифагорейского союза усиливалась во всех демократиях Великой Греции, и в середине пятого века разразилась катастрофа: в Кротоне многие пифагорейцы были убиты и сожжены в доме, где они собрались. Уцелевшие бежали в Грецию, куда принесли с собою учение своего союза. К концу пятого века наблюдается возрождение политического влияния пифагорейцев в Великой Греции. С шестого века пифагорейство приходит в упадок, его учение поглощается платонизмом и от него остаётся лишь секта, вплоть до появления новопифагореизма.
Сам Пифагор, по преданию, не оставил письменного изложения своего учения, и Филолай считается первым писателем, изложившим пифагорейскую доктрину. При таких условиях трудно с достоверностью отделить первоначальное существо пифагорейского учения от позднейших наслоений и начертать хотя бы общий план его развития.
Есть основание видеть в Пифагоре учредителя мистического союза, научившего своих последователей новым очистительным обрядам. Обряды эти были связаны с учением о загробной жизни, о бессмертии и переселении душ, — учением, которое можно приписывать Пифагору на основании свидетельств Геродота и Ксенофана.
Если верить преданию, Пифагор также впервые назвал Вселенную космосом, то есть строительным складом. Предметом его философии был именно космос, то есть мир как закономерное стройное целое, подчинённое законам «гармонии и числа».
В основании учения о числе усматривалась, по-видимому, коренная противоположность чётного и нечётного: чётные числа суть кратные двум, и потому «чет» есть начало делимости, раздвоения, разлада, «нечет» знаменует противоположные свойства. Отсюда понятно, что числа могут обладать и нравственными силами: 4 и 7, например, как средние пропорциональные между 1 и 10, являются числами или началами пропорциональности, а следовательно, и гармонии, здоровья, разумности.
Философия пифагорейцев заключает в себе элементы философии Платона, а следовательно, всех тех учений, которые испытали на себе влияние платонизма. Фантастическая мистика, которой эта школа предавалась более всех других школ, не помешала ей «взяться за математические науки и впервые продвинуть их вперёд». Пифагор изобрёл монохорд, ученик его Архит определил соотношение тонов в гамме хроматической, энгармонической и диатонической.
Особенно замечательны астрономические теории пифагорейцев. Система Филолая есть первый шаг к гелиоцентрической системе, и если мы ещё не находим в ней учения о вращении Земли вокруг своей оси, то всё же суточное обращение Земли вокруг воображаемого центра являлось значительным приближением к истине.
ОТ АВТОРА
Мало о ком в древности вспоминали с такой охотой и говорили с таким восхищением, как о Пифагоре, видя в нём не только великого мыслителя, но также мага, а в последние века античной истории — языческого святого. Каждая эпоха античной истории знала своего Пифагора, но нам приходится судить о Пифагоре преимущественно по трудам, написанным в III в. н.э. и представляющим нечто среднее между жизнеописанием и похвальным словом. Автор одного из этих сочинений, философ Порфирий, известный также своим трудом в 15-ти книгах, направленным против христианства, ссылается на тридцать одного предшественника, писавшего о Пифагоре, но ему не известны ни произведение его современника Ямблиха, ни обнародованный ранее сборник Диогена Лаэртского, в котором имеется и биография Пифагора.
Любая попытка отделить в трудах Порфирия, Ямблиха и Диогена Лаэртского легенду от истины не может вызвать ничего, кроме отчаяния. И если даже отбросить самые баснословные подробности — золотое бедро, появление одновременно в нескольких местах, беседа с животными, приветствие реки и прочие чудеса, не уступающие христианским, окажется, что и в самых элементарных пунктах, на которых строится любое жизнеописание, нет единства. Время рождения Пифагора колеблется между 606, 580, 558, 509, гг. до н.э. Отцом его называют Мнесарха, Мнемарха, Мармака. Профессия родителя — резчик камней, торговец, торговец зерном. Учителя — едва ли не все греческие мудрецы VI в. до н.э., но также и один из современников Гомера, египетские и вавилонские жрецы, финикийские учёные. И наконец, неясность в главном: согласно одним сведениям, Пифагор ничего не писал, согласно другим — был автором множества произведений, написанных не только прозой, но и стихами. И всё же есть в древних свидетельствах о Пифагоре и нечто другое, что делает возможным увидеть в нём реального человека и оригинального мыслителя. И путь к этому — во включении Пифагора в контекст его эпохи (вторая половина VI в. до н.э.).
Большая часть жизни Пифагора (до сорока или даже пятидесяти шести лет), о которой менее всего известно, была связана с островом Самос, откуда он, возможно, совершал ближние и дальние путешествия. По отцу Пифагор был потомком ионийских колонистов, заселивших остров и центральную часть побережья соседней Малой Азии в XI в. до н.э., по матери же — лелегом (коренные обитатели этой и других островных территорий Эгейского моря). То, что семейные предания уводили родословную в такую глубокую старину, позволяет видеть в Пифагоре человека, связанного с Самосом тесными узами. Профессия отца — резчик драгоценных камней или торговец — указывает на то, что семья Пифагора не принадлежала к крупным землевладельцам, экономическое и политическое могущество которых при жизни Пифагора было сломлено самосским тираном Поликратом. Этот талантливый политик сумел в те годы, когда персы завоёвывали другие ионийские города, создать при поддержке египетского фараона Амасиса островную морскую державу с сильным военным флотом. Все малоазийские ионийские города, кроме Самоса, попали в рабство к персам. Самос же при Поликрате был островом свободы и надежды ионийцев. При дворе Поликрата нашли убежище многие ионийцы, и среди них певец Эроса Анакреонт.
Таковы координаты места и времени, позволяющие ввести самосского мыслителя в реальную социальную и политическую среду, связать его с кардинальными событиями десятилетий, предшествовавших хрестоматийным греко-персидским войнам. Обитателям Афин и Спарты, за которыми пас приучила следить наша школьная память, персидская опасность виделась едва ли осознаваемой угрозой, для ионийцев она была уже пережитой катастрофой.
Самос был отделён от азиатского материка проливом шириной всего в полтора километра и отстоял от главного культурного центра ионийского двенадцатиградья Милета менее чем на полдня пути. Естественно было бы ожидать, что юноша Пифагор должен был быть связан с отцом ионийской философии Фалесом и его учениками Анаксименом и Анаксимандром. Однако, скорее всего, этого не произошло из-за зависимости Милета и других материковых центров Ионии от персов.
Так, Ямблих и Порфирий приводят ряд легенд, связывающих учение Пифагора с Финикией. Ямблих вводит Пифагора в тайные секты Тира, Библа и других городов Финикии, заставляет его посетить храм на горе Кармел. И вряд ли в этом можно увидеть проявление местного патриотизма (Ямблих и Порфирий были сирийцами), поскольку нам хорошо известно, что Финикия была родиной греческого письма и страной высочайшей культуры. Древнейшему финикийскому мудрецу Моху, жизнь которого относили примерно к X в. до н.э., приписывали учение о разделении материи па атомы, развитое впоследствии Демокритом.
Менее доверия, на наш взгляд, заслуживают сведения об обучении Пифагора в Египте. Поскольку Египет считался классической страной мудрости, античные биографы Пифагора не могли устоять перед соблазном сделать его учеником египетских жрецов, тем более что тиран Самоса Поликрат был союзником египетского фараона. Согласно Порфирию Пифагор добился от Поликрата письма к фараону с просьбой рекомендовать его жрецам, и те открыли перед ним свои тайны. Нереальность предлагаемой Порфирием ситуации явствует уже из хронологического несоответствия — в годы прихода Поликрата к власти и дружбы его с Амасисом Пифагор был уже далеко не юношей. К тому же в самом учении Пифагора мы не находим каких-либо характерных для Египта элементов. Учение о переселении душ, составлявшее основу религиозных взглядов Пифагора, египтянам было неизвестно. Распространено оно было в Индии, и Пифагору могло стать известно через халдеев в Финикии или Вавилоне, с которым его также связывают древние биографы, сообщая, что в этом великом городе он провёл двенадцать лет.
Ко времени возвращения Пифагора на Самос после двадцатилетних странствий, о чём говорят все античные биографы, остров находился во власти Поликрата. Диоген Лаэртский и Порфирий утверждали, что именно нежелание находиться под властью тирана вынудило философа покинуть родину и переселиться в италийский Кротон. Однако в такой аргументации следует видеть отношение к факту тирании тех из использованных биографами авторов, которые жили в период поздних тираний, формировавших отрицательное отношение и к ранним тиранам. Между тем у Пифагора вряд ли могло возникнуть негативное отношение. Достаточно вспомнить, что время тирании Поликрата было временем наивысшего экономического и культурного расцвета острова, о чём свидетельствуют и античная традиция, и археология. Па нем были возведены такие описанные Геродотом великие сооружения, как восьмисотметровый тоннель, прорезавший гору, храм Геры, равного которому не было во всём эллинском мире, искусственный волнолом. Они не уступали тем сооружениям, которые впоследствии стали считаться чудесами света. О том, что Пифагор при Поликрате вписался в культурную жизнь острова, свидетельствует сообщение Ямблиха об организации им в городе школы, в которой необеспеченные ученики содержались на его средства, и Порфирия о том, что, кроме училища в самом городе, он приспособил за городской стеной для занятий философией одну из пещер, «где проводил почти все свои дни и ночи, беседуя с друзьями». Утверждению Порфирия о том, что тем не менее Пифагор покидает остров, находя тиранию «слишком суровой, чтобы свободный человек мог её выносить», явно противоречит также отсутствие каких-либо данных о проявлении Поликратом жестокости в период расцвета его власти. Если говорить о «суровости» во время прихода к власти, то она относилась к крупным землевладельцам-аристократам (геоморам), которые были изгнаны с острова с конфискацией земель, превращённых в пастбища. Что касается семьи Пифагора, кем бы ни был его отец — камнерезом или торговцем, — она от политики Поликрата пострадать не могла.
Тем не менее переселение Пифагора с острова — исторический факт, но объясняется он, скорее всего, угрозой, которая возникла перед 525 г., когда персидский царь с огромными полчищами двинулся на Египет. Именно в то время был захвачен остров Кипр, принадлежавший ранее союзному с Самосом Египту, и Поликрату пришлось разорвать отношения с Амасисом, что нашло искажённое отражение в знаменитой легенде о брошенном в море и чудом возвращённом Поликратовом перстне. В обстановке напряжённого ожидания персидского нашествия не только Пифагор, но и многие другие самосцы стали искать нового убежища. Часть из них переселилась на остров Крит, часть — в Сицилию и к Неаполитанскому заливу с его благодатными землями, где возникла самосская колония Дикеархия (в римскую эпоху переименованная в Путеолы). Тогда же или несколько ранее Пифагором был избран далеко не самый богатый из южно-италийских городов Кротон.
Выбор именно этого города требует объяснения. Прежде всего обращает на себя внимание то, что это был центр научной медицинской школы, главой которой был Демокед. Известно, что Демокед отправился как раз в это время к заболевшему Поликрату и, после того как тот прошёл курс лечения, отправился в качестве его спутника к персидскому сатрапу Оройту, где Поликрат был схвачен и распят на кресте, а Демокед, сначала обращённый в рабство, в дальнейшем оказался привлечённым к лечению Дария и достиг положения главного царского врача. Вовлечённость Демокеда в самосские дела и самосскую трагедию предполагает наличие каких-то связей между Кротоном и Самосом. Пифагор мог быть посредником между Поликратом и Демокедом. Демокед мог выступить ходатаем за предоставление Пифагору убежища в городе, в пользу этого говорит и то, что известный кротонский атлет Милон, многократный победитель в общегреческих играх, был близок как Пифагору, так и Демокеду, и дальнейшие трагические события в Кротоне оказались связанными именно с домом, принадлежавшим Милону.
Имелось и ещё одно обстоятельство, способствовавшее утверждению Пифагора в Кротоне. Этот город находился в то время в угнетённом состоянии — его войско было полностью разгромлено на реке Сагре соседними Локрами Эпизефирскими, расположенными к западу от него, и не менее серьёзную угрозу представлял его восточный сосед Сибарис.
Согласно Порфирию, Пифагор, появившийся в Кротоне, в кратчайшее время добился у кротонцев огромного авторитета и взволновал городских старейшин, а затем юношей, мальчиков, сбегавшихся из училищ, и даже женщин, которые собирались на него посмотреть. Сохранились сведения и о путях достижения такого авторитета — о его удивительном красноречии, об умении находить слова в беседах с людьми разного возраста и даже с женщинами, к которым, кажется, до него ещё никто публично не обращался с речами, а также и о хитростях, с помощью которых он создавал себе репутацию полубога.
По последнее трудно согласуется с вкладом Пифагора в науку, с его поистине величайшими открытиями в различных областях знаний. Древние авторы сообщают о многочисленных учениках Пифагора, о его методах обучения, основанных на развитии памяти.
Что же представляла собою созданная им школа? Была ли она аморфным объединением типа тех, которые возникали в Ионии вокруг милетских мудрецов, или же религиозной сектой, хранившей своё учение в тайне, или чем-то совершенно иным, ранее не встречавшимся в греческой практике? Ответ на этот вопрос может быть лишь предположительным, и наше его решение опирается на сообщение о том, что кротонцы построили для Пифагора храм Муз и что он якобы окончил свои дни в метапонтском храме Муз.
Почитание муз согласуется с практикой музыкального воспитания, введённого Пифагором. По скорее всего, храм Муз — это название школы, указывающее на универсальный характер обучения. Музы (дословно — «мыслящие») были покровительницами не только искусств, но и любого приложения человеческой мысли и чувства. При этом служение музам рассматривалось как служение их покровителю Аполлону, с которым Пифагор был связан уже своим именем. Не потому ли ученики могли называть своего руководителя Гиперборейским Аполлоном?
Обозначение школы Пифагора храмом Муз не случайный факт в истории античной науки. Известно, что при Академии Платона существовал тот самый храм Муз, который послужил для Деметрия Фалерского, приглашённого египетским царём Птолемеем, прототипом в создании знаменитого александрийского мусейона, сочетавшего в себе и школу, и исследовательский центр, и библиотеку, без которой непредставимо сама школа.
Невоспринятой, скорее всего, была авторитарная система обучения, превращавшая учеников в покорных потребителей истины в последней инстанции. На первых порах, может быть, это и способствовало быстрому продвижению к цели, но одновременно становилось источником имевшего трагические последствия конфликта между продвинутыми учениками («математиками») и слушателями («акусматиками»).
Создание храма Муз, функционировавшего как учебно-воспитательное учреждение, было событием, выходящим за рамки не только Кротона, но и всего южно-италийского региона, получившего впоследствии название Великая Греция. Создавалась прослойка интеллектуалов, занявших ведущие места в своих городах-государствах. Они были носителями определённого образа жизни и определённой идеологии, чуждых основной массе населения, отцовским и дедовским обычаям.
Этот конфликт не мог не завершиться катастрофой, но попытка понять связанные с нею обстоятельства гибели Пифагора наталкиваются на тот же разнобой сведений, который характерен для всего, что связано с этим человеком. Так же как мы не знаем точной даты его рождения, не известна нам и дата его насильственной или естественной кончины. Мы можем только догадываться, что смерть Пифагора ещё не означала гибели созданной им организации. Уничтожение же первой волны пифагореизма достаточно определённо датируется серединой V в. до н.э.
Места собраний пифагорейцев тогда окружались и поджигались. За отдельными беглецами шла охота, как за дикими зверями. Именно тогда, вопреки утверждению, будто рукописи не горят, большая часть сочинений ранних пифагорейцев превратилась в пепел. Сгорели бы и труды Пифагора, если бы он их писал.
И всё же кое-что сохранилось. Одному любознательному афинскому юноше столетие спустя удалось приобрести за огромную сумму сочинение ученика Пифагора Филолая. Этот юноша не стал пифагорейцем, но без труда Филолая он не стал бы и Платоном. По «диалогам» Платона, как по стенам его знаменитой пещеры, проходит тень Пифагора. Эти диалоги дают возможность понять, откуда у Платона возникла не покидавшая его всю жизнь идея государства, управляемого философами. То, что рисовалось Платону прекрасным, едва достижимым, как Атлантида, будущим, было хорошо забытым прошлым, трагическим опытом Пифагора, показавшим, что философам не дано управлять государством и что государство не может быть основано на сконструированных Разумом началах.
ПРОЛОГ
На радужной узрел я оболочке
Бегущие квадратики, кружочки,
Вселенной опрокинутой узор,
И вспыхнуло в мелькании сквозь строчки
Пылающее имя — Пифагор!
В то погожее тихое утро Сократ вместе с учениками спускался по заросшему соснами склону Ликабета к роще Академа[1]. В разрывах белых скал всепоглощающе цвела акация. Перелетая от цветка к цветку, сладостно звенели гиметские пчёлы. Сквозь дрожащие струи Эридана[2] просвечивало чистое песчаное дно. В такие редкие мгновения каждый, умеющий чувствовать, боится нарушить чарующее трепетание жизни. Наверное, поэтому Сократ не задавал своим спутникам пробуждающих тревогу или любопытство вопросов, не вызывал их на спор, но радостно-испуганно озирал и впитывал мир, словно впервые открывшийся в неповторимой новизне.
И тогда, охваченный внезапным порывом, к нему приблизился младший из учеников, юноша лет двадцати. На широком, с румянцем во всю щёку лице задорно поблескивали узко поставленные глаза.
— Скажи, Сократ, почему, пронизывая всё сущее иглою сомнения, ты не стараешься оставить после себя хоть какой-нибудь письменный след? Ведь не запечатлённое на коже или папирусе смывается водами времени, исчезая, как сновидение.
Сократ повернулся к юноше и доверительно положил на его плечо тяжёлую ладонь ваятеля:
— Нет, не всё, Платон! Клянусь собакой, не всё! Смываются случайные домыслы, досужая игра ума. Остаются совершенные числа. Это высказано и доказано тем, кто обогатил нашу исконную речь словом «философия». Хотите о нём услышать, друзья?
— Да! Да! — раздались голоса.
Сократ присел на камень.
— Ещё в юности, — начал он мечтательно, — мою душу пробудило от лености и позвало в путь это вещее имя. Побывал я на его острове вместе с моим наставником Архелаем ещё до того, как наш город, одолеваемый жадностью к чужой славе, вступил с островитянами в неправедную войну. Мне довелось отыскать пещеру, во мраке которой впервые в Ионии вспыхнуло пламя истины. И с тех пор я неотступно следую за ним, как слепец за поводырём, ощущая в себе каждое мимолётное движение его мысли. Подчас я слышу в себе глуховатый голос, звучащий с благородной простотой, полный благожелательности. В отличие от других голосов, он не внушает мне беспокойства, ибо я знаю, кто будоражит меня, не давая останавливаться, кто подталкивает меня к истине, подбадривает и призывает меня к новым делам, увлекая ко всё новым целям.
— Так это же Пифагор! — воскликнул юноша. — Почему ты нам раньше о нём не говорил?!
— Этому мужу, — продолжал Сократ проникновенно, — не было равных в уважении к жизни и ко всему живому. Он не брал в руку каламос[3], поскольку был уверен, что небожители создали тростник, как и все другие растения, для роста, а не для письма, не ел животных и не приносил их в жертву, чтобы ненароком не разорвать цепь вечного бытия. О нём передают такие чудеса, что в них трудно поверить, но отыщется ли тот, кто осмелится в них усомниться? Я нисколько не удивлюсь, если вот сейчас, обойдя вот эту скалу, мы увидим его идущим нам навстречу в льняной ли хламиде мудреца, в медных ли доспехах троянского воина, в грубом ли одеянии морехода или ещё в каком-нибудь из неведомых нам земных воплощений его небесной души.
— Не в тебе ли она, учитель? — спросил Платон.
Сократ задумался.
— Во мне, в тебе, в Ксенофонте, в любом из мыслящих. И с какой доходящей до исступления страстью к знанию — Пифагор называл её философией — надо вслушиваться и всматриваться в себя и в других, чтобы вычислить эту душу, а через неё постигнуть весь мир, названный — опять-таки им — космосом: ведь впрямь он украшен не чьей-нибудь, а Пифагоровой мыслью. Поэтому каждый из пифагорейцев — а их так много и у нас в Афинах, и в Италии, — что-либо открывая, уверен, что это сделано Пифагором. Так Пифагор, ничего в своей жизни не написавший, становится создателем множества трудов и открывателем великих тайн. Он продолжает жить и творить уже на небесах.
Сократ взметнул голову. Его простое и в то же время необыкновенное лицо оказалось в тени выплывшего на небо облачка, мгновенно менявшего очертания. Толстые губы зашевелились. Ученики затаили дыхание, поняв, что сейчас они услышат самое главное. Но Сократ уже всё сказал.
— Это я... — внезапно произнёс Платон прерывающимся голосом, — я перенесу к подножию Ликабета сокровенную самосскую пещеру, и в ней устами Пифагора будет учить Сократ.
Часть I ПОЛИКРАТОВ ПЕРСТЕНЬ
Возвращение
Волны с беззаботной небрежностью плескались у низкого чёрного борта.
На палубе керкура не было никого, кроме прикорнувшего у весла кормчего, да высокого мужа, шлёпавшего босыми ногами по мокрым доскам от носа к корме. В его колеблющейся фигуре ощущалось торжественное ожидание. Останавливаясь, идущий хватался за поручни и пожирал взглядом приближающийся, приобретавший всё более ясные очертания берег. Ветер раздувал просторную, старого покроя хламиду, трепал отброшенные на затылок вьющиеся на концах светлые волосы. И никто, взглянув на него, не поверил бы, что этому мужу уже перевалило за середину человеческого возраста.
Рассветало. Сверкающая корона Гелиоса сказочно выплывала из перламутровой раковины небес. Трепетные лучи вырывали зубчатый изгиб бухты. За каменной линией мола едва покачивались мачты, напоминавшие голые зимние деревья. В глубине за ними просматривались прямоугольные каменные строения с симметрично расположенными дощатыми воротами. Засверкали крыши — черепичное море, подступавшее к замыкавшим горизонт сиреневым горам.
— Что это за берег, Абибал?! — воскликнул длинноволосый, приблизившись к кормчему. — Не сбился ли ты ненароком с пути?
Кормчий обиженно тряхнул седой головой:
— Может, для кого другого, Пифагор, все берега и все моря на одну мерку...
Пифагор прервал его прикосновением:
— Прости меня, друг. Но я, право, не узнаю своего Самоса. Где милые сердцу рыбачьи хижины, где колья с развешанными сетями, где помнящая мои пятки палестра? Над Астипалеей, если это она, я вижу восьмиколонный храм. Левее вместо горы Ампел какая-то другая, словно бы укороченная. И вот эта гигантская статуя. Мне кажется, будто у неё светятся глаза. Наконец, музыка в такую рань. Не остров ли это феаков[4]?
Обратив лицо к берегу, кормчий прислушался.
— Да, музыка... Опять какой-то праздник. В глазницах Астарты драгоценные каменья, ценою в талант[5] каждый. Напуганная их блеском рыба покинула бухту. Мелек отселил рыбаков на северное побережье, а на месте посёлка построил эти огромные доки для кораблей, насыпал волнолом, такой же, как в Тире.
Пифагор слушал, внимательно переводя некоторые финикийские слова на родную речь. Финикиец называл Афродиту Астартой, а тирана — мелеком. Но уход рыбы из-за блеска драгоценных камней! Не басня ли это корабельщиков, подобная тем, какие болтун Гомер разбросал по своей «Одиссее»? Перенести в другое место целый посёлок, соорудить такой мол, превратить статую в маяк... Кому это нужно? На что замахнулся этот человек! Конечно же в Азии в эти же годы произошли не менее разительные перемены. Исчезли многие царства. Разрушены великие города. Власть над половиной континента Азии досталась персам, народу, ранее мало кому известному. Но Пифагор, свидетель многих из этих перемен, наивно верил, что они обошли его Самос и он, возвратившись на родину, найдёт остров таким, каким его оставил два с лишним десятилетия назад.
— Как имя мелека, о котором ты говоришь, Абибал? — спросил Пифагор.
— Поликрат... Насколько я понимаю, на твоём языке это означает «Всесильный».
— Да, — подтвердил Пифагор, — почти точно. Но как этот человек достиг могущества? Что дало ему такую силу?
— Конечно же самояны! — отозвался Абибал не сразу.
— Самояны? — протянул Пифагор. — Что это такое?
— Суда типа наших гаул, но несколько шире корпусом, с третьим косым парусом на верху задней мачты, двумя кормовыми вёслами, — пояснил финикиец. — Их снаряжают в этих доках и спускают в бухту едва ли не каждый месяц. Кто теперь назовёт эллинские суда плавающими лоханями! Самояны принесли твоему острову богатство и процветание, сделав его жемчужиной Икарийского моря и всей Эллады. Ведь самояны теперь по всем морям хрюкают.
Лицо Пифагора вытянулось.
— Хрюкают? — повторил он.
Абибал рассмеялся.
— Это мы так говорим. Ведь корабельные носы самоян завершаются свиными рыльцами, такими же, как днища самосских амфор. Фараон Амасис, если верить молве, посоветовал Поликрату заменить их на что-либо другое, — ведь для египтян, как и для евреев, свинья — нечистое животное. Но тот будто ответил, что эти «свиньи» принесли ему счастье и власть. И впрямь, как бы он без самоян превратил в рабов обитателей островов, которые вы называете Круговыми[6]? Теперь они исправно платят ему дань. Их трудом пробита гора, и через неё пропущена целая река.
— Что я слышу! Сквозь гору?! Совсем как в Иерусалиме?! И это на моём заброшенном Самосе! Видимо, и впрямь надо надолго расставаться с отечеством, чтобы оно могло тебя удивить!
— Можно было бы ещё многое порассказать, — перебил Абибал. — Но вот уже твой берег. Как только сойдёшь, я сразу отчалю. Если понадобится помощь, моя посудина будет здесь в следующее новолуние.
Пифагор, подхватив полотняный мешок, шагнул к сходням.
— Ты и так из-за меня отказался от плавания в Картхадашт и терпишь убыток.
— О чём ты говоришь, господин мой?! — взволнованно произнёс финикиец. — Ты вернул к жизни моего первенца, и моя жизнь принадлежит тебе. Знай, что нет услуги, которой бы я тебе не оказал. И она будет мне радостью, а не обузой.
Сходни, подтянутые дюжими руками, скрылись за бортом. Судёнышко, мгновенно развернувшись, показало берегу корму. Последний раз блеснула седина Абибала. Пифагор перекинул котомку за спину и побрёл по набережной навстречу всё громче звучащей музыке.
Праздник Геры
Пифагор шагал по молу, обходя судно, застопоренное на очищенных от коры стволах. Нижняя его часть у киля блестит древесной слезой, на верхней, свежевыкрашенной, выделяются выписанные белым, никому не понятные иероглифы. На выгнутом дугой носу рядом с фигуркой бегущего кабана укреплена оливковая ветвь. Всё говорит о том, что эта, судя по описанию Абибала, самояна предназначена в дар союзнику Самоса фараону.
Всё отчётливее и призывней звучали авлосы. И вот уже на мощёной дороге, повторявшей изгибы обозначенного прибоем берега, показалась священная процессия. Впереди шла верховная жрица в облике богини. Её пеплос[7], переливаясь яркими красками, напоминал распущенный хвост павлина. Над обнажёнными, покрытыми жемчугами и драгоценными камнями руками жрицы возвышалась чаша из красного Электра[8] в форме ладьи с высоким носом и тремя лилиями вместо парусов. Венок на голове женщины сверкал литыми золотыми колосьями. Ниспадавшие из-под него светлые волосы свободно и мягко ложились на обнажённую шею. Стайки мальчиков и девочек, двигаясь справа и слева, размахивали ветвями ивы и пели:
Славься, владычица всеблаженная, Под именами известная разными: Тем, кто на Ниле родился. — Исидою, Перворождённым фригийцам — Кибелою, Критянам — Артемидой Диктиною, Нам же — божественной матерью Герою.За жрицей пёстрой и шумной толпой двигались ряженые — в масках кукушек, с клювами и хохолками, в коричневатых с жёлтыми разводами гиматиях. Они одновременно опускали и поднимали полы, выкрикивая: «Ку-ку!» За «кукушками» с пляской шли обнажённые храмовые рабыни. В серебряных зеркалах, прикреплённых к их спинам, перекатывались, подобно медным шарам, смазанные жиром груди с позолоченными сосками, и вместе с ними плясало и переливалось во всей пестроте восточное сладострастие, несовместимое с именем той, которую эллины, а до них пеласги, считали супругою Зевса и хранительницей святости брака.
Священную процессию замыкали авлеты. Прижатые к губам авлосы согласно выдували знакомую Пифагору с детских лет гулкую, дробную мелодию, которую называли «снопом», но звучала она менее стремительно и более протяжно, словно бы в неё каплями вливался тягучий как мёд лидийский лад.
«Вот она, моя Итака, в бурном море перемен, — напряжённо думал Пифагор. — О, как же не похож этот праздник на тот, что описан Асием! Владычица перестала быть одинокой. Гармония сделалась сложнее и запутаннее. И как постигнуть её слагающие! Как вычислить формулу этих перемен и понять их смысл?»
Внезапно всё умолкло. Скрылась бухта. Глазу открылся песчаный, ничем не защищённый берег с перемежающимися наподобие сосцов Кибелы холмами. Вместо посоха в руке Пифагора оказался меч необычайной формы, и он явственно ощутил тяжесть доспехов. Взгляд привлёк зелёный островок. Из-за островка в нескольких стадиях от берега вышли корабли. Ветер надувал их розовые от заката паруса. «Ахейцы! — мелькнуло в мозгу. — Надо предупредить Приама».
Видение исчезло так же мгновенно, как и появилось. Слух наполнился гулкими ударами молотов, выбивавших клинья на брёвнах. Киль под ликующие вопли заскользил по брёвнам, и самояна, как утка, закачалась на волнах.
И вдруг неожиданно для себя Пифагор запел, сначала тихо, про себя, а потом всё громче и громче. Один из устроившихся в тени платана игроков в кости, кинув на утоптанную землю астрагал[9], удивлённо пробасил:
— Слышь, как подпевает босоногий.
Сказав это, он, кажется, лишь увидел поющего Пифагора, но не вслушался в его песню, ибо даже подвыпивший по случаю праздника гуляка должен был понять, что рождённая голосом незнакомца мелодия не имеет ничего общего со звучащим в отдалении пеаном[10], а если бы пение услышал человек, наделённый воображением и музыкальным слухом, он с первых же тонов понял бы, что мелодия не похожа ни на одну из когда-либо звучавших и, более того, что она выражает истинную, скрытую от непосвящённых суть богини, которую ионийцы называют Герой, а обитавшие до них на острове лелеги — Керой, что на их языке означало «корень».
«Откуда этот напев? — думал Пифагор, двигаясь в обход агоры к улице Древоделов. — Не от испарений ли от этой древней земли? Или его нашептало море, по которому плыл Орфей? Видение опять вернуло меня к первому из моих земных существований. Ахейцы совершили очередной набег на Трою. А что стало с моей Парфенопой, где она закончила свои дни? И долго ли можно ещё жить, оставаясь в неведении? Как раскрыть эту обжигающую тайну? Уже видны ворота. Нет, не Скейские[11], а Кузнечные».
Сердце Пифагора защемило. Взгляд выхватил старый дом, сиротливо зажатый между двумя новыми с башенками по углам. Тот же матовый цвет стен. Гнездо на шесте у кровли. Аист повернул белую, как гипс, голову и что-то невнятно прокричал. «Тот ли это аист, что меня напутствовал, или его сын? — думал Пифагор. — И сколько лет живут аисты? Воюют ли пигмеи с аистами или журавлями? Вопросы! Вопросы!..»
Отец
Послышался знакомый с детства звук, напоминавший стрекотание кузнечика. Резец возвратил Пифагора в юность, словно бы и не было этих долгих лет скитаний и он снова сидит рядом с отцом, наблюдая, как под его пальцами в твёрдый камень вписывается изображение.
Пифагор толкнул дверь и охватил лесху беглым взглядом. Ларь с углами, сбитыми чеканной медью, деревянная скамья с растопыренными ножками, стены, украшенные керамикой с геометрической росписью. Стол у окна, и за ним сгорбленная фигура. Поседевшая голова, и над нею в солнечном луче столбик каменной пыли. «Но почему так пусто? Где же мать? Где брат? Неужели нас осталось двое?»
— Что же ты медлишь, Пифагор? — послышался голос отца. — Ну вот я и дождался тебя. Но мать... — Голос задрожал.
Пифагор бросился к старику, подхватил его вместе с сиденьем, прижал к груди.
— Довольно, отец, — произнёс он нежно. — Помню я тебя насмешливым, гневным, нежным, решительным, раздражённым... однажды, на свадьбе брата, пьяным. Плачущим — вижу впервые.
Мнесарх смахнул со щеки слезу.
— Сегодня утром я проснулся так, будто меня схватили за грудь и тряхнули. А до того я видел тебя в полудрёме рядом с седовласым незнакомцем, лицо твоё то возникало, то исчезало, ты спрашивал: «Не остров ли это феаков?» Раньше со мной такого не случалось!
— Да. Порой открывается нечто, во что верится с трудом. К таким явлениям ныне устремлены мои мысли.
Пифагор опустил голову.
— Что нет матери, я понял сразу. Но почему ты один? Где наш Эвном? Неужели и он?!
Мнесарх попятился к выходу, и стало слышно, как крюк с жалобным скрипом входит в жёлоб наружной двери.
— Твой брат — беглец, — проговорил он, возвратившись, — Эвном присоединился к изгнанникам. Хотел взять с собой и меня, но я верил, что ты жив. Почти каждый день, когда не было работы, ходил в гавань.
— Погоди, отец. Объясни, что угрожало Эвному? От кого он бежал? О каких изгнанниках ты говоришь?
— Поликрат! — почти выкрикнул Мнесарх. — Второй Минос[12] и страшилище морей! Раньше у каждого, высаживающегося на ближние и дальние побережья, спрашивали: «Не разбойник ли ты?», а теперь: «Ты самосец?» Из-за Поликрата многие покинули остров, а некоторых он выслал. Разорены геоморы[13]. Отнятыми у них землями и рабами вознаграждены ничтожные людишки и жадные до чужого добра пришельцы. Раньше в саду Астипалеи звучали кифары, ныне всё заглушает боевой клич упражняющихся критских наёмников. Поликрат захватил власть с дюжиной воинов, а удерживает её, содержа тысячу.
Мнесарх, задохнувшись от волнения, замолк и через мгновение продолжил:
— Помнишь Феспида?
— Как не помнить? Это было первое в моей жизни плавание на соседнюю Икарию. Как возвышенно он пропел нам свои стихи! И даже вкус яблок его помню. Яблоня с большим дуплом прямо у дома росла. В дупле я любил прятаться. Детская память цепка.
— Так вот. Навёз Поликрат на наши острова наксосских коз. Они Икарию превратили во вторую Рипару. Ты знаешь, я человек не кровожадный, но всех бы коз переколол. Да нет, — он засмеялся, — вкопал бы два столба и к ним большую доску приколотил с надписью: «Хайре, прохожий! Убил ли ты козу?»
— А с Феспидом-то что?
— Куда-то уехал. Выжили его козы. А о нашем городе что тебе сказать? Распущены священные филы[14]. Город теперь разделён по тысячам, назначены тысячники, им, кроме сбора податей, поручена слежка. В конце каждого года мы сообщаем о своих доходах и отдаём тирану их десятую часть, словно Аполлону. Когда будешь отмечаться у нашего тысячника, не говори лишнего. О бегстве Эвнома ему неизвестно. Сопровождая торговые суда в Кирену, Эвном, как мне стало известно, привёл свою триеру в Пелопоннес.
Пока это удаётся скрывать. Но надолго ли? Вот так мы живём. Пугаемся собственной тени. Всюду соглядатаи. Поначалу твоё решение повидать мир...
— Это не так, отец! На чужбину меня погнало не любопытство, не жажда странствий.
«Бедный мальчик...» — подумал Мнесарх.
— Вовсе не бедный, — возразил Пифагор, прочитав мысли отца. — Да пойми же наконец, могли я здесь жить спокойно, когда об Илионе распространяют всякую напраслину?!
— Да, — обречённо проговорил Мнесарх. — Но ты ещё ничего не рассказал о себе. Где ты был все эти годы, у кого и чему учился? Впрочем, одного твоего учителя я знаю. Он был здесь и интересовался тобою.
— Так ты знаком с Ферекидом Сиросским! Да, я сначала побывал на Сиросе. А потом... Мне легче назвать страны, где я не был. А не посетил я Египта и лежащей за ним пустынной Ливии, а также сожжённой Гелиосом Эфиопии. Не был в Тиррении и в землях живущих к западу от неё варваров. Также не испытал леденящего скифского холода. Главная наставница моя — природа — беседовала со мной на языках камней, животных и растений. Смысл её поучений казался поначалу тёмным. И как будто лишь теперь я начинаю понемногу постигать отдельные отрывочные слова её дружественной и одновременно враждебной нам речи. Потребовались Геракловы труды. Меня гнало от одной науки к другой, от учителя к учителю. Я, как птенец, ненасытно поглощал вкладываемую в меня наставниками мудрость, пока у меня не отросли крылья и не появилась тяга к полёту.
— А потребности завести своё собственное гнездо ты не почувствовал? — нетерпеливо перебил Мнесарх.
— Если имеешь в виду семью — нет. Но я чувствую себя созревшим для создания школы, где сыновей заменят ученики. Их будет волновать не имущество учителя, а только то, чему глупцы и невежды не придают значения, — знания, опыт, искусство красноречия. Я вернулся, чтобы создать такую школу здесь, но всё то, что ты рассказал, меня настораживает. Не придётся ли отправляться с веслом на плече к каким-нибудь варварам, никогда не видевшим моря, и идти, пока не спросят: «Куда же ты, чужеземец, собрался с лопатой?»
Мнесарх поднял глаза.
— Гера милостива! Оберегла от варваров, — может быть, услышав наши мольбы, и от Поликрата избавит.
— Но не будь Поликрата, Самосом, как всеми другими ионийскими городами, владели бы персы! Стоит ли обращаться к Гере с подобной мольбой? Просто, по обычаю предков, воздадим ей хвалу. Я к этому уже готов.
— Не торопись, мой сын. Надо же тебе отдохнуть с дороги, а мне купить ягнёнка или поросёнка.
— О нет, кровавых жертв я не приношу. Я видел во дворике куст пылающих роз. Этого достаточно.
Священная дорога
Сразу же за воротами по обе стороны дороги, прорезавшей заболоченную низину, замелькали гробницы с квадратными и овальными стелами, обращёнными в сторону города. На самом древнем из городских некрополей нашли упокоение почтеннейшие из геоморов. Засохшая трава, отбитые углы живо дополнили рассказ отца об изгнанниках, лишённых отцовских могил.
Они остановились у одной из стел. Пифагор, наклонившись, прочёл вслух:
— «Иадмон, сын Филарха, радуйся!»
Мнесарх прикоснулся пальцами к выщербленному краю.
— Радуйся... — произнёс он с горькой усмешкой. — Знал бы ты, мой благодетель, кто владеет твоими угодьями под Керкетием и где скитаются твои сыновья и внуки. Знал бы ты, что на твоей могиле нет ни лент, ни окроплённых благовониями восковых цветов, а обезображенная стела покрыта птичьим помётом... Сам Гермес не отыщет того, кто носит смарагдовый перстень, который я вырезал для тебя. И кто о тебе помнит?
Пифагор неожиданно рассмеялся.
Лицо Мнесарха вытянулось.
— Не говори так, отец! Месяц назад в Китионе подошёл ко мне оборванец, обосновавшийся рядом с моим гостеприимцем и знавший, что я самосец, и спросил меня с ухмылкой, как поживает Иадмон.
— Не может быть! — воскликнул Мнесарх. — Как могут знать Иадмона на Кипре, если он забыт у себя на родине?!
— Да ты послушай! — продолжал Пифагор. — Из дальнейших слов этого бродяги я понял, что Иадмон и его раб фригиец Эзоп стали героями сочинённой каким-то бездельником басни, будто первый — дурень и нечестивец, а второй — умник и острослов. Черни захотелось иметь собственного героя. Кто гордится царём Кекропом, а кто — рабом Эзопом! Впрочем, на Востоке об Иадмоне ничего не слышали, но едва произнесёшь, что ты самосец, как начнут склонять лисицу с зелёным виноградом, волов и кряхтящую телегу или чурбан, ставший царём у лягушек. Таковы причуды молвы!
Дорога постепенно заполнялась людьми. Загорелый рыбак тащил на плече белого персидского петуха, молодая женщина — голубя в клетке, пастух за спиною — барашка, старец под мышкой — гуся: дары за спокойное море, за рождение первенца, за удачный приплод. Все торопились встретиться с богиней.
Вскоре открылся Имбрас, ранее скрывавшийся за городской стеной. Извиваясь голубой змейкой, поток полз к заливу. С противоположного, плавно поднимающегося к горам берега донёсся свирепый лай. Огромные молосские овчарки сгоняли овец в курчавые, меняющие очертания прямоугольники.
Пифагор недоумённо пожал плечами:
— Овцы на угодьях Геры? Помнится, здесь до самого моря тянулись грядки. Самосскую капусту хвалили даже лучшие эллинские огородники — мегарцы.
Мнесарх махнул рукой.
— Стада повсюду. Что Поликрат сделал с нашим островом! Ты не увидишь и наших знаменитых виноградников. Овцы завезены из Азии и Аттики, козы — с Наксоса. И эта зараза за десятилетие исковеркала всё. Люди забыли запах свежевспаханного поля. Видишь ли, овцы и козы дают больший доход. Самосские пеплосы и гиматии ныне соперничают с милетскими, дешёвые сосуды с самосским клеймом идут нарасхват. Раньше славились самосские розы, теперь — самосские козы.
— Козы?
— Ну да. Так называют обработанные козьи кожи для письма, вытеснившие из оборота египетский папирус даже в соседних с Египтом странах.
Солнце начало припекать, и путники свернули к одиноко белевшему среди кипарисов каменному столбику, увенчанному горделиво вздёрнутой юношеской головкой.
— Будь благословен, сын Майи, — проговорил Мнесарх, протягивая к герме руки.
Повернувшись к сыну, он сказал:
— Присядем. Сам Гермес указал нам место для отдыха.
Они устроились на смоковнице, судя по всему поваленной бурей. Мнесарх тяжело дышал.
— На днях тебе станет легче, отец, — произнёс Пифагор озабоченно. — В атмосфере нарушено равновесие. Дождь вернёт дыхание.
Мнесарх удивлённо взглянул на сына. На небе не было ни облачка.
На дороге появилась стайка девушек. Они непринуждённо болтали и смеялись. Одна из них, самая молоденькая, неожиданно остановилась. В её обращённом на Пифагора взгляде вспыхнул восторг. На светлом, с высоким белым лбом лице выделялись продолговатые глаза темно-каштанового цвета.
— Прекраснейший из мужей, подари мне твой цветок, — проговорила девушка.
— Прочь, бесстыдница! — крикнул Мнесарх. — Портовые девки... — небрежно бросил он. — Их квартал в пригороде, на месте старой палестры, называют самосской клоакой. Он известен всем мореходам от Боспора Киммерийского до Сикелии.
— Что ты застряла?! — прокричала одна из ушедших вперёд подруг.
Девушка, словно очнувшись, поспешила на её зов.
— Как она чиста и миловидна для блудницы, — проговорил Пифагор, глядя девушке вслед. — И конечно бы она получила цветок, если бы Гера благоволила к чётному числу.
— Миловидна каждая девушка, пока Гера не превратит её, как Ио[15], в корову, — раздражённо проговорил Мнесарх.
Они вновь вышли на дорогу.
— Скажи, отец, — проговорил Пифагор, — почему ты, не имея земель и обходясь без рабов, осуждаешь Поликрата за его меры против геоморов? Вспомни, что и в Афинах Солон, хотя он сам был знатного рода, лишил эвпатридов[16] их преимуществ. К тому же Поликрат спас остров от персов. Ведь на нашем Самосе нет залежей золота и серебра. Их заменили овцы и козы — для строительства самоян требовались деньги... Выходит, овцы спасли остров от персов.
— Не знаю, что тебе сказать.
— Вот я вижу — течёт полноводный Имбрас, — продолжал Пифагор. — Если бы Поликрат не приказал пробить Ампел, река бы давно высохла и воды на столь разросшийся город могло бы не хватить. И конечно же без большого количества рабов такой труд не осуществить. Пришлось вести войну.
— Но Поликрат вёл войну с эллинами! — вставил Мнесарх. — Рабами сделались не варвары, а лесбосцы. Среди них — представь себе! — был племянник Сапфо, и он не возвратился на свой остров.
— Видимо, погибло много других лесбосцев и нелесбосцев. Поликрат для обитателей Лесбоса и других неионийских островов хуже чумы; для ионийцев же, порабощённых персами, насколько я понимаю, он величайший из героев. Злодей и герой в одном лице! Такую двойственность можно обнаружить едва ли не во всём. В рассказах эллинов и варваров о богах и героях и об их противниках — титанах и драконах, если, конечно, повествователь не Гомер, есть много такого, что может быть сочтено выдумкой, но в выдумке немало правды, иногда высшей. Зло и добро, невежество и мудрость, вымысел и правда, женское и мужское — ни одно не может обойтись без другого, ему противоположного, создающего равновесие и рождающего гармонию. Но вот я вижу храм Геры. Прервём нашу беседу до поры.
Герайон
Остов огромный разобран на блоки,
Люди на известь их пережгли.
Я по Священной шагаю дороге,
Ноги мои по колено в пыли.
Но ведь не занято храма пространство,
И возникает в сознании он.
Здравствуй, моё Пифагорово царство
С мраморно-белым лесом колонн.
Святилище высилось на холме. Обращённое колоннадой к морю, оно сбегало к нему широкой гранитной лестницей. Вместо одного ряда колонн выросло пять, завершающихся изящными капителями. Фронтон заполнился мраморными, пестро раскрашенными фигурами. Левый угол его захватил полулежащий бородатый муж с рожками на курчавой голове. Конечно же это поток Имбрас. Центр заняла ива с раскинувшимися по обе стороны ветвями, образующими некое подобие шатра. В нём — изображённая по пояс женская фигура. В благословляющем жесте руки, в сдержанном повороте украшенной диадемой головы ощущалось величие. Гера выходила из земли, поддерживаемая двумя девами. В правом углу полулежала обнажённая молодая женщина с флейтой — наверняка Окироя. Имбрас и его дочь — свидетели появления на свет великой богини, покровительницы Самоса.
«О, как же это всё не похоже на храм Феодора! — размышлял Пифагор. — Утрачено гармоническое изящество геометрических линий. Треугольник, ключ вселенной, отягощён чуждой ему сценой. И разве чудо нуждается в свидетелях? С лица Геры ушла беспомощная застенчивая улыбка, присущая старинным священным изображениям.
Прижатые, словно приросшие к телу руки, отделившись, приобрели женскую полноту. Азия не только захватила ионийское и эолийское побережья, она, перешагнув пролив, овладела душами новых самосских художников, презревших древний отеческий стиль».
Пифагор поставил ногу на ступень.
«Сколько потребуется столетий, чтобы она сравнялась с теми, истёртыми», — подумал он и проговорил:
— Но это же другой Герайон.
— Конечно, другой, — отозвался отец. — От Герайона твоего детства не осталось и следа.
— Пожар? — спросил Пифагор.
— Началось это так, — нахмурился Мнесарх. — Вскоре после того как Поликрат с дюжиной гоплитов[17] внезапно захватил акрополь, поддерживавшая его толпа рассыпалась по городу. Многие геоморы в надежде найти убежище бежали в Герайон, но преследователи отрывали людей от алтаря, выволакивали наружу и убивали. Великий храм сгорел от опрокинутого светильника. Гасить было некому.
— Какое несчастье!
— Тиран дал обет отстроить святилище, — продолжил Мнесарх. — Может быть, он будет богаче и краше прежнего, построенного Ройком[18] и украшенного Феодором, но разве то, что я пережил, можно забыть?
— Ты тоже скрывался в храме, отец?!
— Нет, в тот день я там работал вместе с Феодором. Учитель попытался преградить вход в храм и был раздавлен.
— А кто же этот Поликрат, ставший тираном? Чужеземец?
— Да нет, он коренной самосец, по отцу потомок Анкея. Ты должен помнить Эака.
— Припоминаю. Кажется, у него был сын Пантагнот по кличке Кривой.
— Это младший. А старшие, Силосонт и Поликрат, были наёмниками на службе у фараона Амасиса. Пантагнота за строптивость Поликрат, придя к власти, почти сразу убил, а с Силосонтом несколько лет правил вместе, но потом избавился и от него, и тот отправился в Египет. Сейчас Силосонт на Пелопоннесе, где возглавляет самосских беглецов. Добивается власти, полагая, что по старшинству она должна принадлежать ему. Самосцы говорят о нём с уважением. Но что я всё о Поликрате...
Отец и сын медленно поднялись по ступеням и через проход, образованный двумя пахнувшими кедровой смолой столбами (видимо, дверь ещё не была готова), вступили в храм. Взгляд Пифагора нащупал поодаль грандиозный квадрат алтаря пепельного цвета и в центре его зеленеющую иву.
Пифагор приблизился к алтарю и положил на его край, рядом с кучей медовых лепёшек, три розы. Затем, спустившись, он подошёл к отцу, стоявшему среди богомольцев с чашами в руках. В их глазах Пифагор прочёл удивление. Конечно же им никогда не приходилось наблюдать за таким жертвоприношением.
Обойдя алтарь, отец и сын прошли к главной святыне храма — ксоану[19].
— Взгляни! — воскликнул Мнесарх. — Огонь не тронул Геры.
— Но ксоан почернел, — отозвался Пифагор. — И вот трещина. Раньше я её не видел.
Пифагор не мог отвести от ксоана взгляда. И на мгновение ему показалось, что из трещины вырвалось пламя и он уже не видит ничего, кроме пламени. Оно съело всё вокруг. Исчез отец. Скрылось солнце. Над горизонтом угрожающе навис серп месяца. Пифагор ощутил сильный порыв ветра. Что-то больно ударило его по голове. В лёгкой дымке перед ним возник старец, прижавшийся спиною к могучему стволу дуба. От нового порыва ветра на землю градом посыпались жёлуди, загудели привязанные к ветвям рога.
— Тебе повезло, Эвфорб, ты избежал этой бури, — издалека послышался голос Анкея. — Смотри, в каком исступлении нынче море. Опоздай ты на день, твой корабль разнесло бы в щепки. Не иначе, тебя оберегала святыня. Передай царю, что его дар станет знаком вечной дружбы нашей Кипарисии с Троей и что мы, лелеги островов, не оставим братьев в беде.
— Ахейцы уже удалились, — проговорил Эвфорб не сразу. — Трое ничто не грозит. Беда обрушилась на нас с тобою. Это было перед той ночью, когда лик Селены покрылся копотью, как щит, повешенный над очагом в мегароне[20]. Парфенона со служанками была на берегу. Она похищена...
Рёв бури прекратился так же внезапно, как и возник. Наступила тишина. Рядом по-прежнему стоял отец. Пифагор уловил в его взгляде беспокойство.
— Да ты меня не слышишь? Что с тобой?
Пифагор встряхнул головой:
— Теперь слышу. Идём.
Они остановились перед раскрашенной деревянной статуей египетского стиля.
— А это чей дар? — удивился Пифагор.
— Не знаю. Его доставила Родопея, любимая наложница Амасиса. Девочкой была она на Самосе рабыней, а теперь — почётная гостья Поликрата. Вот до чего мы дожили.
— Взгляни, отец. В руках идола жезл и плеть. Это священное изображение фараона. Такого за пределами Египта ещё не было.
— Но ведь Амасис союзник Поликрата.
— Однако что его могло заставить пойти на такой шаг? Кажется, фараон уже не доверяет своим богам или опасается, что его священные изображения будут разбиты? Боюсь, что Поликрат вскоре окажется лицом к лицу с царём царей.
У выхода Пифагор оглянулся и обвёл взглядом храм. Отыскав ксоан Геры, он зашевелил губами. Понимающий речь губ услышал бы его беззвучный пеан:
Радуйся, Гера Самосская, трижды священная, Дар мой принявшая за возвращение! Радуйся, радуйся, вечно живущая!Агора
Видения обрушивались на Пифагора как ураган. Тогда ему начинало казаться, что все его поиски и занятия не имеют никакого смысла, и что-то безудержно тянуло в ту жизнь, где он был не мыслителем, а воином. Если каждое мгновение последней жизни, начиная едва ли не с младенческих лет, он мог вспомнить по дням и часам, то та, самая древняя, состояла из обрывков, и никто не мог ему помочь восстановить последовательность событий, участником которых он себя постоянно ощущал.
Взгляд, брошенный на ксоан, напомнил Пифагору давнее, ещё в той, первой жизни посещение Самоса и встречу с Анкеем, о том, что он должен был посетить царя Мурсили. Но над каким народом тот царствовал? Где находилось его царство? Какова цель посольства? Об этом не было сведений ни у Гомера, ни у Гесиода, ни у Асия. Отыскать бы хоть какой-нибудь предмет из той жизни и сделать его своим проводником в прошлое! И он отправился на агору.
Агору охватывала каменная стена. У ворот взгляду открывался гелиотропий[21]. Люди равнодушно проходили мимо, не осознавая, что перед ними лик вечности. Пифагор вспомнил, как тридцать лет назад, ещё мальчиком, он вместе с отцом, находясь в толпе, наблюдал, как рабы, которыми руководил седобородый муж, устанавливали эту причудливо расчерченную плиту. Отец шепнул: «Запомни — это мудрец Анаксимандр. Гелиотропий — копия того, что он установил у себя на родине, в Милете».
На всю жизнь врезался в память облик этого человека — с окладистой бородой, лбом, испещрённым морщинами, размеренными неторопливыми движениями, и он ему показался тенью самого времени. Позднее, во время своих странствий, Пифагор увидел такие же часы в Вавилоне и узнал, что там они появились на столетие раньше. Но всё равно, был ли Анаксимандр изобретателем или подражателем вавилонян, гелиотропий стал для юноши подлинным чудом света, первой моделью космоса. Пространство и время на этой каменной доске находились в полном соответствии — ведь её деление на двенадцать частей выражало соотношение времени и пространства. Передвижение гномона от одного деления к другому зимой указывало на одну величину, летом — на другую.
Позднее, уже на Сиросе, Пифагор услышал от первого своего учителя Ферекида о величайшем из открытий, сделанном тем же Анаксимандром, — о том, что Луна — потухшее тело, отбрасывающее заёмный свет Гелиоса. Тогда он сразу написал Анаксимандру, но получил ответ от его ученика Анаксимена о кончине учителя.
Миновав ворота, Пифагор окинул взглядом агору, столь не похожую на шумные финикийские базары. Не слышалось обычных выкриков. Господствовал установленный смотрителями порядок. Вскоре он оказался у столика менялы с разложенными на нём монетами разных городов, в просторечье именовавшимися по выбитым на них изображениям дельфинами, пчёлками, львами, колосками. Столик словно бы охватывал весь эллинский мир — не только ближайшие полуострова и острова, но самые отдалённые области, куда уже проникла эта новинка, видимо не случайно изобретённая одновременно с гелиотропием.
Заметив внимание к своему товару, меняла подошёл к Пифагору и стал его убеждать, что дешевле он нигде не совершит обмена.
Пифагор поспешил отойти, понимая, что здесь ничто не напомнит о жизни в Илионе, которую он силился восстановить, но меняла не унимался:
— Я могу перевести твои деньги в Эфес, Милет, в Афины, куда тебе угодно, даже в Сиракузы, и всего за пять на сотню.
Пифагор ускорил шаг.
— За три на сотню! — крикнул меняла вдогонку.
Больше всего народа толпилось в рыбном ряду. Здесь был выставлен только что вытащенный улов, и самосцы, обступив корзины, перебирали скользких, бьющих хвостами и шевелящих клешнями обитателей морских глубин.
Заглядевшись, Пифагор едва не столкнулся с критским наёмником в доспехах, нёсшим в шлеме яйца и зелень.
— Не скажешь ли, приятель, где тут лавка оружейника? — обратился он к воину.
— Вон там, за скотными рядами, — отозвался тот на ходу.
Лавка оружейника была пуста, и хозяин её полудремал.
При виде Пифагора он вскочил и стал нараспев расхваливать свой товар.
— Вот мечи из лаконской стали! Вот копья! Щиты коринфской работы, дешевле, чем в самом Коринфе! Поножи с Кипра! Фиванские шлемы! Превосходный критский лук и самшитовые стрелы! Вооружу на любую войну!
Пифагор взял в руки меч.
— Оружие прекрасное. Но оно для современного боя. А нет ли у тебя в продаже старинных пекторалей и боевых топоров?
— Старья не держим. Но если для забавы, а не для боя... видишь, вон там, в конце ряда, лавка. Там скупают металл для переплавки. Может, что отыщешь.
Лавка старьёвщика в полной мере соответствовала своему названию. За каждым из многочисленных предметов, разбросанных на полу и развешанных по стенам, была своя долгая жизнь, теперь уже никому не интересная и не нужная. Это было кладбище быта, по которому можно представить, как изменялась жизнь на острове за двести, если не более, лет. Котлы, топоры, сломанные ободы. Поначалу ни один из этих предметов не вызвал у Пифагора никаких воспоминаний о прошлой жизни. Но вдруг его взгляд остановился на валявшихся за прилавком слитках, напоминавших по форме бычьи шкуры.
Заметив взгляд Пифагора, торговец поднял один из слитков и положил на прилавок.
— Сегодня утром приволокли ловцы губок. Никто не знает, что это такое, но вещи явно древние. У Паруса в старину, как и ныне, разбивалось много кораблей. Металл хороший, чистая медь. Можешь вделать в дверь и отчеканить своё имя...
Старьёвщик продолжал говорить, явно не догадываясь, что перед ним древнейшие деньги и что на одну из таких плиток в старину можно было бы приобрести полное воинское снаряжение.
Голос его постепенно стал затихать, пока совсем не исчез, и Пифагор перенёсся в милый ему мир.
— Не рискуй, Эвфорб! — явственно услышал он голос Лакея. — Видишь, как кипит море. Корабль вот-вот расколется. Тебя смоют волны.
— Но мне нужны крепкие мечи. Алашия вновь не расщедрится. Кетейский царь в долг ничего не даст. Конечно же всех бычков мне не увезти, но хотя бы часть.
— Так что же ты молчишь? — донёсся голос старьёвщика. — Вещь-то стоящая.
— Я возьму одного бычка, — проговорил Пифагор, протягивая торговцу драхму.
Клисфен
По пути к дому Пифагора остановил муж лет двадцати пяти. Мягкий петас с загнутыми наверх краями открывал высокий лоб и тёмные волосы, стянутые сзади в тугой узел.
— Скажи, как добраться до Герайона?
Пифагор повернулся к городской стене.
— Видишь эти ворота? За ними начинается Священная дорога. Она прямиком приведёт в храм. Он на островке в устье реки.
— А мне говорили, что храм на агоре, — удивился чужеземец.
— В старину располагали храмы подальше от обмана не только у нас, но и у тебя в Афинах.
— Как ты догадался, что я из Афин?
— По выговору.
— Да, ты не ошибся. Будем знакомы. Меня зовут Клисфеном.
— Какое великое имя! — воскликнул Пифагор. — Ещё в юности я восторгался Клисфеном, властителем Сикиона, узнав, что им запрещено публичное чтение Гомера. Конечно же у меня и у твоего тёзки разные причины возмущения Гомером. Сикионец ненавидел Гомера за то, что городская знать считала его героев своими предками и требовала на этом основании почётных привилегий, я же не прощаю Гомеру того, что он навязал нам Трою, войну, какой не было.
— Мне приятно твоё суждение о Клисфене, — произнёс афинянин. — Это мой дед по матери. Должен тебе, однако, заметить, что отец мой, будучи ненавистником Писистрата, отнявшего власть у порядочных людей, одобрял его распоряжение о записи песен Гомера, и не только потому, что слепец воспел нашего прародителя Нестора, — с Гомера началась эллинская поэзия. И ещё он хвалил Писистрата за открытие библиотеки.
— О библиотеке слышу впервые! — перебил Пифагор. — Интересно, много ли в ней свитков и как они достались Писистрату?
— Этого не знаю. Писистрат отправил нашу семью в изгнание ещё до открытия библиотеки. Я из рода Алкмеонидов.
— Я это понял из твоих слов о Несторе. Наш Поликрат также изгнал знатных самосцев.
— Ты не назвал своего имени.
— Пифагор, сын Мнесарха.
— Меня, Пифагор, заинтересовало твоё столь необычное суждение о Гомере. Ты говоришь, что его описание Трои ложно. Какой же, по-твоему, была подлинная Троя, которую осаждали ахейцы?
— Осаждали! И ты веришь этой басне?! — воскликнул Пифагор. — Откуда бы у варваров взялись силы для осады великого города? Они лишь совершали набеги на Троаду.
— Так ты считаешь, что не было войны? — растерянно проговорил Клисфен.
— Поразмысли сам: откуда Гомеру могло быть известно об осаде и взятии Трои? Ведь он муж настолько незнатного происхождения, что даже постыдился назвать своих родителей.
— А ты, я вижу, из геоморов! — обрадовался Клисфен.
— Нет, я не из геоморов. Но по матери мой род восходит к кормчему «Арго» Анкею. По возвращении из Колхиды Анкей возблагодарил Геру за помощь в плавании и воздвиг владычице храм из стволов кипариса. Остров тогда назывался Кипарисией. Если ты хочешь узнать об Анкее, прочти поэму Асия. Не знаю, имеется ли она в библиотеке Писистрата, но у нас ты её легко найдёшь.
— У меня мало времени. Видишь ли, после кончины моего отца Гиппий и Гиппарх, сочтя, что я им не опасен, разрешили мне вернуться в Афины. Но кто знает, что на уме у тиранов и не придётся ли мне снова бежать из Афин, бросив всё. Вот почему я решил оставить деньги на приданое дочерям здесь, где часть своего состояния хранил отец моей матери.
— Как! У тебя уже дочери на выданье?! — удивился Пифагор.
— О нет. Старшей пять, младшей три, но дети, как цветы, растут быстро, и если не позаботиться о них сейчас, дочери могут остаться бесприданницами. Если у тебя будет время, а я удержусь в Афинах, давай встретимся и продолжим нашу беседу там.
— С удовольствием. И как тебя найти?
— Сначала дома нашего рода были на акрополе. Теперь же тебе придётся идти в Керамик, и там любой скажет, где моё пристанище.
Ливень
Такого ливня на Самосе не помнили старожилы. И от отцов своих о подобном не слыхивали. Удивительней же всего было то, что дождь захватил только один остров, а на ближайшем к нему материке и на соседней Икарии не выпало ни капли Зевсовой влаги.
Ливень внезапно начался на рассвете и безжалостно хлестал весь день прямыми струями. По улицам к гавани неслись грозовые потоки, и каждый дом превращался в островок. С кровельных черепиц и уличных камней смывалась вековая пыль. На валунах, каких на Самосе великое множество, обнажались невидимые трещинки, и эти громады, казавшиеся ранее безликими, обретали человеческий или звериный облик. Это было врезавшееся в память самосцев великое очищение, и долго после него можно было слышать: «За год до ливня» или: «Через год после ливня, предвестника слёз». Поэтому и возвращение Пифагора многие самосцы впоследствии связали с этим событием. Не зная о том, что он появился незадолго до него, говорили: «Он пришёл вместе с ливнем».
Под шум капель Пифагор перечитывал единственный сохранившийся в доме свиток — трактат Феодора об архитектуре. Его привлёк раздел о соразмерности. Феодор, пользуясь законами геометрии, открытыми вавилонянами, перенёс в строение храма пропорции человеческого тела. Так же как вавилоняне, он считал совершенным числом шестёрку, исходя из того, что ступня составляет шестую часть тела. Ему была совершенно незнакома десятичная система, открытая индийцами и позволяющая пойти в познании устройства мира куда дальше, чем при счёте дюжинами. «Десятка! — думал Пифагор. — Великое, совершенное и всё производящее число в божественной и небесной, равно как и в человеческой, жизни. Без него всё беспредельно, неосязаемо и невидимо. В нём — гармония космоса. Оно несовместимо с завистью и обманом».
— Подойди ко мне! — послышался голос отца, и сразу же звякнул увеличительный хрусталь. Заскрипел отодвигаемый стул. Мнесарх встал.
Пифагор отложил свиток и подошёл к столу:
— Можно взглянуть?
— Сейчас.
Отец погрузил кольцо в чашу с водой и обтёр его полой хитона.
— Вот, взгляни!
К своему удивлению, Пифагор увидел на камне, как ему показалось, мифологическую сцену. Обнажённые тела, слившиеся в экстазе, были совершенны.
— Ты превзошёл себя, отец! — воскликнул он, продолжая вглядываться. — Но скажи, кто эта красавица, привлёкшая Пана?
— Это не Пан. И не сатир. Видишь, голова без рожек? Перед тобой гетера с заказчиком, предложившим мне свой сюжет.
— Интересно, кому же захотелось иметь такой перстень? Конечно же не купцу, не мореходу, не...
— Не ломай голову. Подобный каприз мог возникнуть только у поэта.
Пифагор положил перстень на край стола.
— Тебе известны его стихи?
— Нет, но он представился поэтом, и в этом нет сомнения, поскольку он гость Поликрата. Тиран всё время приглашает к себе знаменитостей. На его содержании в Астипалее живут многие. Незадолго до твоего прибытия Самос покинул поэт Ивик, кажется региец. Наш Асий, как понимаешь, не заказал бы такого перстня.
Пифагор улыбнулся:
— А если бы это и пришло ему в голову, кто бы мог в его время выполнить такой заказ? Резьба по камню, процветавшая в древности, возродилась лишь недавно.
Мнесарх вложил перстень в футляр.
— А заказчик лесбосец? — спросил Пифагор.
— Нет, беглец из ионийского Теоса, захваченного персами. Если он тебя интересует, можешь отнести ему его заказ. Старец каждое утро проводит в гимнасии.
— Старец? — удивился Пифагор.
— Он моих лет. Зовут его Анакреонтом. Он расхаживает по городу в сопровождении рыжеволосого юноши-красавца, тоже гостя Поликрата. Разное о них говорят.
В гимнасии
Дорогу к новому гимнасию не надо было спрашивать. Его пропилеи[22] издалека блистали мрамором колонн, выделяясь на фоне зелёной горы, которую Пифагор помнил с детства. Сквозь неё проходил теперь водный поток, охватывая гимнасий двумя рукавами и превращая его прямоугольник в полуостров.
Огороженное поле, полого спускавшееся к Имбрасу, занимали не более десятка атлетов, упражнявшихся в прыжках, беге и метании диска. Пифагор мгновенно определил того, кто ему был нужен, обратив внимание на юношу и старца, перебрасывавших друг другу мяч. Если он отлетал далеко, за ним вдогонку бежал мальчик лет четырнадцати. Тогда слышалось непривычное имя — Залмоксис.
Прошло немало времени, пока играющие обратили на Пифагора внимание, и старец, передав мяч юноше, приблизился.
Судя по седине и морщинам, ему было лет шестьдесят, но блестящие, коричневатого оттенка глаза придавали лицу юношескую живость.
— Не желаешь ли занять моё место? Эта игра, как и любовь, на троих не рассчитана. Мне же давно пора передохнуть.
Речь у него была чисто ионийской.
— Благодарю тебя, Анакреонт, — ответил Пифагор. — Но, право, ни в той, ни в другой игре у меня нет твоего опыта.
— Так ты знаешь меня? Откуда? Ты самосец?
Прочтя на губах собеседника непроизнесённые слова: «И где твои сандалии?», Пифагор улыбнулся.
— Мой отец Мнесарх посылает твой заказ.
— Триерарх[23]! Я о тебе слышал! — воскликнул Анакреонт, меняя тон.
— Нет, не триерарх. Триерарх — мой младший брат Эвном. Я — Пифагор и покинул остров задолго до того, как ты здесь появился, ещё до прихода к власти Поликрата. Вот твой перстень.
Анакреонт поднёс перстень к глазам и радостно закричал:
— Метеох!
Юноша поспешно последовал на зов, и Пифагор оказался лицом к лицу с самим совершенством. Увлажнённые недавним напряжением волосы, разделённые спереди пробором, ниспадая, подчёркивали матовую белизну щёк и округлость подбородка.
— Взгляни! — обратился поэт к юноше. — Как раскинулась молодая кобылица на лугу Эроса!
Юноша скользнул по перстню рассеянным взглядом. Видимо, его мысли были заняты другим.
— Да посмотри же! Каков изгиб поясницы! Какая дымка страсти в глазах! Вот этим перстнем я буду запечатывать послания к тебе, если ты не раздумаешь уехать.
— Но ведь я должен навестить отца, — неуверенно проговорил юноша. — И вскоре вернусь.
— Должно быть, твой отец знатного рода? — вступил в разговор Пифагор.
— Его отец Мильтиад, владыка Херсонеса, страж проливов, в прошлом друг царя Креза, — ответил за юношу Анакреонт.
Пифагор, припоминая, наморщил лоб.
Метеох улыбнулся:
— Мне кажется, Пифагору должен быть известен афинянин Мильтиад, сын Кипсела, оказавший гостеприимство варварам, растерянно бродившим по городу в поисках своего будущего правителя.
— Вот именно! — обрадовался Пифагор. — За своё долгое отсутствие я стал почти чужестранцем. Удивительную же историю о юноше, сидевшем у порога и окликнувшем чужеземцев в странных одеяниях с копьями в руках и открывшем им двери своего дома, я услышал на Сиросе от учителя Ферекида.
— О том, что долонки передали моему отцу изречение пифии, согласно которому они должны избрать своим вождём первого, кто окажет им гостеприимство, тебе известно, — проговорил Метеох с гордостью. — Так вот, тяготясь владычеством Писистрата, отец отправился вместе со своими новыми подданными и частью афинян на Херсонес и отделил перешеек стеною, чтобы защитить его обитателей от набегов непокорённых фракийцев.
— У этой стены мы и познакомились, — вставил Анакреонт. — И когда Мильтиад отправил Метеоха с дружеским посланием к Поликрату, я взялся его сопровождать.
— Залмоксис! — крикнул Метеох. — Собери мячи.
— Какое странное имя... — заметил Пифагор. — Если не ошибаюсь, оно означает на языке крестонеев — есть во Фракии такое древнее племя — «затихший», «заснувший». Это слово имеет тот же смысл, что наш «медведь», поскольку животное уходит в долгую зимнюю спячку. Не правда ли, Залмоксис?
Мальчик оживился:
— Да-да, на нашем языке «залмоксис» означает «медведь». Лучше не называть его настоящего имени, чтобы он не явился.
— Вот так, друзья мои! В те годы, когда предки ионийцев бродили по горам в звериных шкурах и жили в шатрах, родичи Залмоксиса — это были пеласги — населяли города, частично до сих пор сохранившие пеласгийские названия. Да и Эллада называлась Пеласгией. Пеласги обучили охотников и скотоводов земледелию, ремёслам и письму. Нет, не тому, которым эллины пользуются сейчас, а письму пеласгийскому, кое в чём напоминающему египетские иероглифы.
— Убедительно, — с едва заметной улыбкой проговорил Анакреонт. — Но почему же исчез такой великий народ, столь превосходящий эллинов? Ведь от него должно бы было остаться что-то посущественней, чем названия.
— И осталось, — сказал Пифагор. — Во многих местах Эллады можно увидеть полуразрушенные стены, искусно сложенные из огромных камней. Эллины называют их киклопическими, сочинив басню, будто это дело рук одноглазых великанов киклопов. Эти стены возведены пеласгами, и кое-где этого не забыли: афиняне, сохранившие город с пеласгийских времён, до сих пор называют акрополь Пеласгиконом. Есть такие руины и у нас на Самосе. Когда вы будете входить в Астипалею, обратите внимание на лелегскую кладку с обеих сторон ворот.
— Лелегскую?
— Или пеласгийскую. Как тебе больше нравится, — продолжил Пифагор. — Ибо лелеги — одна из ветвей пеласгов. У нас на Самосе от них, кроме части стены, осталось пещерное святилище и дуб Анкея в горах.
Глаза Метеоха загорелись.
— А это далеко отсюда? Как туда попасть? — спросил он.
— Очень просто. Завтра можем отправиться туда вместе. И не забудьте захватить факел.
Пещера чисел
Явь — это круговращенье.
Всё остальное — сны.
Жизнь — это возвращенье
По правилам кривизны.
Дряхлое вровень юному.
Свет возникает из тьмы.
И незримыми струнами
В мире связаны мы.
Кажется, только здесь да ещё на поросших лесом кручах Керкетия, самой высокой горной гряды, не было слышно собачьего лая и блеянья овец. Но именно овцам эта долина была обязана своей прозрачной чистотой. Узнав, что животные любят сильфий и мясо их приобретает от него удивительный аромат, Поликрат, ещё в то время, когда у него гостил изгнанный из Кирены тиран Аркесилай, приказал засадить долину этим знаменитым растением и огородить огромную плантацию забором, чтобы дать ему разрастись.
Берег ручья, вдоль которого вилась тропинка, зарос ирисом и асфоделью. Над цветами кружились шмели и осы, наполняя долину гудением.
Лощина пошла на подъём. Посадки сильфия оборвались. Тропа вывела на каменную осыпь, белизну которой подчёркивали склоны красноватого оттенка с редкими невысокими кустиками колючих растений. Тропинка становилась всё круче. И вот путники на площадке под кроной дуба-великана, рядом со скалой, зияющей неровным чёрным отверстием.
— Священный дуб Тина, — проговорил Пифагор, подходя к стволу. — Тином лелеги называли Зевса. Здесь они вопрошали его волю, тряся в горшке вместо жребиев жёлуди, здесь они принимали посланцев от других племён. А соседняя пещера не только укрывала от непогоды, но и была святилищем задолго до того, как у моря появился Герайон.
Узорные тени листьев пробегали по лицу Пифагора, придавая ему необыкновенную подвижность и одухотворённость. Его голос звучал глубоко и уверенно.
— Какой ты счастливец, Пифагор! — внезапно воскликнул Анакреонт. — Ты избежал страха.
Пифагор удивлённо вскинул брови:
— Какого страха?
— Липкого, обволакивающего. Тебе не пришлось, спасаясь бегством, оставлять родной город, родные могилы. Сколько раз я вспоминал Бианта, советовавшего ионийцам переселиться на огромный западный остров Ихнуссу[24]. Только здесь, на Самосе, благодаря гостеприимству Поликрата мне удалось обрести спокойствие. Я стал под звуки кифары славить вино и любовь. Самос вернул мне способность радоваться. Это было подобно второму рождению.
— Могу тебя понять, — сказал Пифагор. — Поликрат сделал Самос скалою спасения для эллинов, обитавших в Азии. Но скала даёт приют немногим, и, может быть, пора вернуться к совету Бианта?
Под холмом появился Залмоксис. Запрокинув голову, он смотрел вверх.
— Взгляни, как этот юный варвар похож на Диониса, — проговорил Пифагор.
— Да! — согласился Анакреонт. — В руке тирс[25]. И в поведении есть нечто сверхъестественное. Прошлой зимой этот юный раб проспал полмесяца, и мог бы больше, если бы его не разбудил Метеох. И представь себе, в спячке он слышал все наши разговоры и сумел передать их слово в слово.
Раскачиваясь на ходу и, кажется, насвистывая и напевая, Залмоксис поднимался по тропинке, змеившейся среди редких пучков высохшей травы и колючего кустарника. Когда он остановился, блеснули глаза цвета лазурита. Его можно было бы принять за эллина, если бы не вздёрнутый нос и слегка утолщённые губы, которыми он сжимал стебелёк сильфия.
— Кто твои родители, Залмоксис? — спросил Пифагор. — Расскажи о себе.
— Родителей я не помню. Меня подобрал младенцем охотник в лесу, точнее, в медвежьей берлоге. Я стал приёмным сыном своего спасителя, крестонея.
Мальчик приподнял хитон, и открылась грудь с синими линиями рисунка: медведь на задних лапах с грозно разинутой пастью.
— Это его работа, — с гордостью произнёс он. — Он был жрецом Бендис[26] и никому не доверял священных изображений угодных ей зверей. После гибели крестонея во время набега на херсонесских эллинов я оказался рабом.
Залмоксис отломил верхушку своей палки, оказавшейся полой, и принялся раздувать спрятанный там уголёк.
— Оставайся здесь, — сказал Пифагор, когда мальчик зажёг факел. — Придёшь по моему зову.
Пифагор первым шагнул во мрак, за ним — Анакреонт и Метеох.
Мальчику было слышно всё, что говорил Пифагор. Его голос, усиливаемый пустотой, приобрёл необыкновенное, почти божественное звучание.
— «Почему я вас привёл в пещеру?» — спросите вы меня. Во мраке вы лишены всего того, что потворствует обману вашего разума и служит источником заблуждения. Сюда не проникают лучи Гелиоса, катящегося по небу подобно огненному колесу. На огромном расстоянии он видится окружностью, а на самом деле это колоссальный огненный шар, во много раз превышающий размеры Земли. Здесь не видно и звёзд, которые кому-то кажутся гвоздями, прибитыми к небесной сфере, а это рассеянные в пространстве числа.
По шороху перекатывающихся камешков Залмоксис понял, что Пифагор перешёл в дальнюю часть пещеры. Оттуда послышалось:
— Зрением и слухом обладают все населяющие землю существа. Каждое из них видит и воспринимает окружающий мир по-своему. Но только у человека есть некое мерило, позволяющее ему сопоставить наблюдения и ощущения, и ему для установления истины полезно порой оставаться во мраке и безмолвии.
Голос постепенно стихал, удаляясь, но через некоторое время он зазвучал явственнее.
— Небо подчинено всеобщему закону. В нём нет ничего оттого, что поэты именуют Хаосом. Все небесные явления, отражающиеся в земной жизни, следуют с такой математической точностью, что мы в состоянии их предсказывать. Поэтому я называю мир космосом. Мне кажется, я знал об этом уже тогда, когда был Эвфорбом и сражался под стенами Микен с Менелаем.
Раздался шум перебивающих друг друга голосов. Пифагор и Анакреонт вступили в спор. Через некоторое время Пифагор позвал Залмоксиса.
Мальчик вошёл в пещеру. Факел осветил земляной пол и неровные стены с потёками.
Отделившись от спутников, Пифагор сделал несколько шагов в сторону и поднёс факел к стене.
На гладком участке стены проступили какие-то знаки.
— Так писали лелеги и фригийцы во времена моих предков, — торжественно произнёс Пифагор. — Гомер как-то упомянул эти письмена, назвав их роковыми.
Анакреонт подошёл поближе и провёл пальцем по углублениям, оставленным резцом.
— О чём писали в те дремучие времена? Для меня это лишённые смысла палочки, крестики, кружочки.
— Это числа — единицы, десятки. Всё нами видимое есть выражение числа, невидимого и вечного. Всё сущее — воздух, вода, земля — вторично по отношению к числу. Исследуя числа, мы в состоянии понять не только расстояния, отделяющие нас от видимых и невидимых миров, но уяснить законы их возникновения и гибели. Что касается данного числа, то оно записано Анкеем. Под ним имеется плита — вы можете её нащупать. На ней стоял ксоан Аполлона, находящийся ныне в Герайоне.
— Но откуда тебе, Пифагор, известно, что это надпись тех времён? — усомнился Анакреонт.
— Из видений, раскрывающих мои прошлые жизни. Иногда я вижу себя Эвфорбом, иногда — делосским рыбаком Пирром.
— Мало ли что может привидеться? — улыбнулся Анакреонт. — И я нередко себя вижу, задремав, в объятиях юной красавицы, покрывающей мою грудь страстными поцелуями.
— И ты, проснувшись, находишь их следы? Ведь нет? А вы видите на стене древние письмена. И вот ещё...
Пифагор засунул руку под полу хитона и извлёк оттуда небольшой слиток. Поднимая его, он проговорил:
— Этот предмет искатели губок вытащили со дна бухты близ скалы, которую называют Парусом. Вглядитесь. Это кусок меди, напоминающий бычью шкуру. Сравните — на нём те же знаки, что и на стене. Это не что иное, как деньги, какими пользовались во времена Приама и Анкея.
Пифагор торжествующе взглянул на собеседников.
— А между тем Гомер не знает о том, что в те времена были деньги. Помните, как у него ахейцы покупают вино?
Все остальные ахейцы вино с кораблей получали. Эти медью платя, другие блестящим железом. Шкуры волов приносили, коров на обмен приводили Или же пленных людей...Что это, как не клевета на моих, да и на ваших предков? Представьте себе обрисованную Гомером картину — и куда бы продавцы вина могли деть, например, коров? Как бы они их разместили на своих беспалубных судёнышках? Нет, не коровами и шкурами быков, не железом, имевшим тогда ещё цену золота, а вот такими медными слитками, изображавшими шкуры, расплачивались в старину наши предки. И подобных нелепиц у Гомера хоть отбавляй!
Анакреонт протянул руку и, взвесив слиток на ладони, сказал:
— Увесистое доказательство.
Вращающийся калаф
На Самосе да и повсюду в местах обитания ионийцев, эолийцев, но не дорийцев, можно было слышать забавные истории, героями которых выступали софосы (мудрецы). Если мореход следил за волнами, чтобы определить направление и силу ветра, то софос, сидя на скале над прибоем, считал набегающие волны и, сбиваясь со счета, рвал на себе космы. Если земледелец обращал взгляд на ночное небо для определения срока посева и сбора урожая, то софос наблюдал звезды целыми ночами, чтобы дать им название. Днём же он находил у себя под ногами нечто такое, на что другой не обращал внимания, и уверял, будто бы на месте луга или пашни некогда простиралось море. Вместо того чтобы скрываться в жаркое время в тени, он измерял тень деревьев и высоких домов, вызывая на себя гнев Гелиоса. Он появлялся в людных местах и, выбрав себе жертву, засыпал её вопросами и потом сам же на них отвечал.
И конечно же весть, что вместе с невиданным дождём и на Самос, словно с неба, свалился софос, вскоре облетела остров. Многим было известно, что это пропадавший долгие годы Пифагор, сын камнереза Мнесарха. К дому у Кузнечных ворот шли и шли, чтобы взглянуть на чудака. Вопреки представлениям о софосе, рассеянном, нескладном, изрекающем тёмные поучения, не знающем, что делать с молодой женой в брачную ночь, это был высокий, видный и крепкий муж, с загорелым лицом, внимательным взглядом серых глаз, с аккуратно подстриженной бородой. За ним как будто не замечалось никаких странностей, кроме разве той, что он всегда ходил босым и не носил шерстяных одеяний.
Часть любопытствующих побывала в пещере, которую все уже называли пещерой Пифагора, и не было среди них ни одного, кому бы его рассказы показались сложными, ибо для мужа, женщины и подростка, горожанина и пастуха он ухитрялся находить доступные им выражения и образы и порой по дороге в город вступал со слушателями в беседу, добиваясь полного понимания.
Всех постоянных слушателей, которых Пифагор наставлял в мудрости, вскоре стали называть любителями мудрости, и с тех пор в язык ионян, а затем и других родственных им племён вошло слово «философия» — страсть к мудрости. Впрочем, сам Пифагор считал себя не софосом, а только философом, подчёркивая, что он не претендует на то, чтобы войти в число семи, да и восьмым быть не намерен.
И открылось посетителям пещеры странное и удивительное. На одно из собраний Пифагор принёс калаф, обвязанный снаружи гипсом и проткнутый стержнем, за который его можно было удерживать как бы в парящем состоянии. Держа ось, он крутил этот сосуд, уверяя, что такое же движение совершает Земля.
— Спорам о форме Земли нет конца, — пояснял он, продолжая вертеть калаф. — Милетские мудрецы мыслят её в виде атлетического диска с загнутыми краями, удерживающими массу воды. Полагают, что такую же форму имеют Солнце, Луна и другие небесные тела, вращающиеся вокруг Земли. Ближе к истине милетянин Анаксимандр, считавший, что Земля, в отличие от плоских небесных тел, частично прибитых к небесному своду, частично плавающих в пространстве, имеет форму цилиндра. Но ошибается и он.
Пифагор поднял руку с калафом.
— Вот какова наша Земля! Она — шар. Такую же форму имеют Луна, Солнце и другие небесные тела. Они кажутся плоскими из-за дальности расстояния. И не заваливается Солнце за край Земли к ночи, чтобы выйти с другой её стороны утром, а просто исчезает из виду для тех, кто находится в определённой точке земного шара. Наблюдатель, способный лететь с быстротою Гелиоса, видел бы его незаходящим. Для него не было бы ночи. Длительность дня зависит от того, в какой части Земли находится наблюдатель.
Пифагор накрыл ладонью верхнюю часть калафа.
— Это Арктика, страна гипербореев. Если силой воображения мы бы туда перенеслись, нам бы открылась равнина, освещённая незаходящим светилом. О нет, я не бывал в этой стране гиперборейской белизны. Но разве точный расчёт и опыт с помощью этого калафа не заменяет зрение?
Пифагор опустил калаф на землю.
— Я не во всём согласен с милетскими мудрецами, — продолжал он, — но среди ионийцев и других эллинов они были первыми, кто учил мыслить. Ведь многие до сих пор верят россказням Гомера о реке Океане, о коварных сиренах, заманивающих своим пением мореходов на скалы, и прочих чудесах. Но наша Земля и мироздание полны истинных тайн, осмысление которых должно заменить сказки. В начале своих странствий я побывал в Тире, и мне рассказали о финикийце, служившем в египетском флоте во времена фараона Нехо. Этому финикийцу было лет семьдесят, но он сохранил память и ясный ум. От него я узнал, что фараон поручил мореходам, охранявшим египетские границы в Красном море, обогнуть Ливию и вернуться в Египет через Геракловы столпы (тирянин называл их Мелькартовыми). Но вот что более всего меня поразило: финикийские мореходы, привыкшие находить путь по звёздам и обучавшие этому искусству эллинов, миновав Эфиопию... потеряли ориентацию! Исчез Возок, или Арктос, как называем его мы, указывающий путь на север. Да и солнце оказалось с правой стороны, хотя они двигались на Запад. Вот тогда я впервые понял, что Земля — шар.
Гиганты
Казалось, что век, озадаченный золотом Креза,
Не сдаст никому монархической власти бразды.
Но в скалах тоннель насквозь продолбило железо,
Топор-триумфатор навёл над проливом мосты.
И в новое русло текли рукотворные реки,
И Хаос сдавался под натиском чисел и мер.
И возникали впервые библиотеки,
И сделался свитком беспечно поющий Гомер.
В открытое море уже выходили триеры,
Свои колоннады наращивал храм-исполин,
Вершили судьбу не монархи, а инженеры,
И первым из них мегарец был Эвпалин.
Словно бы по молчаливому уговору, в самосской пещере раздавался лишь голос Пифагора. Его слушали затаив дыхание, впитывая каждый звук, каждое слово.
— Мой отец, — проговорил Пифагор, — работает с линзой из горного хрусталя, позволяющей наносить на камень тончайшие линии. Но для того, кто смотрит на перстень, важны не эти мельчайшие детали, а то целое, что они создают, — образ. Для математика образом является число. Обращаясь к нему, он устанавливает общие законы, по которым возникают, развиваются и рушатся миры. Ему не нужен увеличительный хрусталь.
Внезапно послышалось:
— Великолепно!
Голос принадлежал незнакомцу плотного телосложения. Если бы не седая прядь, разделявшая его волосы на две половины, этому человеку можно было бы дать лет сорок, не более.
— Как жаль, — продолжил он, — что ты не появился на острове двумя годами ранее, тогда бы тоннель не отнял у меня стольких лет и обошлось бы без ошибки.
— Эвпалин! — воскликнул Пифагор. — Так это ты! Неужели тебе мало того, что ты уже совершил?! И ты ещё говоришь об ошибке!
— Она едва не стала роковой, — поспешно возразил Эвпалин. — Тоннель пробивался с обеих сторон горы. Когда было пройдено по два стадия и три оргия, штольни должны были соединиться, но этого не произошло. И меня охватило отчаяние. Ошибка, как потом выяснилось, составила целых десять локтей. Теперь тоннель в одном месте стал коленчатым, и только сегодня, слушая тебя, я понял, почему это случилось. Я оперировал мёртвыми числами, воспринимая их вне природных сил, которые стремился обуздать. Я видел в них только меру мира, не понимая, что они обладают властью сливать ручьи в могучие потоки, соединять материки, проникать на дно морей, овладевать воздушной стихией. Да мало ли какие нас ещё ожидают открытия, если мы оседлаем числа!
Они покинули пещеру.
— Наконец-то я встретился с тем, для кого главное — преодоление препятствий, — произнёс Пифагор.
— Что моя работа по сравнению с твоей! — отозвался Эвпалин. — Ты пробиваешь тоннели во мраке нашего невежества, и становится ясно, что мир стоит на пороге величайших открытий. Таково мнение и Поликрата, с восторгом говорящего о тебе.
— Поликрата? — удивился Пифагор. — Но мы ведь незнакомы.
— Содержание твоих бесед ему передаёт Метеох, и, собственно говоря, у меня поручение: если тебя не затруднит, найди время для встречи с Поликратом. Он отложит все свои дела, чтобы насладиться беседою с тобой. Таковы его подлинные слова.
Они направились к городу, продолжая беседовать. Когда показались башни и стены, Эвпалин предложил свернуть влево, и они оказались у бурлящего Имбраса.
— Вот, — сказал мегарец, показывая на жёлоб, из которого широким потоком лилась вода. — Это краса Керкетия Левкофея, которую я провёл по высохшему руслу какой-то реки, а затем сквозь гору.
— Какой-то?! Так ты не знаешь нашего мифа об Окирое?! — удивился Пифагор.
Эвпалин недоумевающе взглянул на собеседника:
— Первый раз слышу это имя.
— Тогда слушай. У реки Имбрас была красавица дочь. Звали её Окироя. Увидел её с небес Аполлон и, спустившись на землю, стал преследовать. В облике Аполлона было нечто волчье, и Окироя изо всех сил помчалась к своему родителю. «Спаси, отец! — взмолилась она. — Меня преследует Аполлон». У Имбраса был друг, мореход Пампил, давно уже добивавшийся руки Окирои. Обратился к нему Имбрас: «Над моей дочерью нависла смертельная опасность. Спасти её можешь только ты. Снаряди корабль и увези Окирою как можно дальше. Пусть она будет твоей женой».
Поблагодарил Пампил Имбраса, снарядил судно, взял на него Окирою и вышел в открытое море. Разгневанный Аполлон превратил корабль в камень. Ты можешь его наблюдать в бухте в виде скалы, напоминающей парус. Пампила сделал рыбой, а Окирою увёз на мыс Микале, где она и поныне втекает в Меандр. И стал Имбрас сохнуть от горя по дочери. И совсем бы высох, если бы не мегарец Эвпалин, чудом своего искусства вернувший Имбрасу полноводие, соединив с другой его дочерью, отделённой от него Аполлоном.
— Вот оно что! — воскликнул Эвпалин. — Я и не догадывался, что Имбрас был царём, а океанида Окироя нимфой, возбудившей, подобно красавице Дафне, страсть неистового Аполлона. Как бы и мне не вызвать его недовольства!
— Недовольства? — отозвался Пифагор. — Ты же не посягнул на его Окирою, ты заменил её Левкофеей.
— Я имею в виду новое поручение Поликрата, — проговорил Эвпалин. — Мне приказано разрушить островок, который и впрямь имеет вид корабля или паруса, в зависимости от места наблюдения.
— Неужели такое возможно?!
— Да. С помощью смеси, которая в состоянии превратить в пыль целую гору.
— И ты её использовал при прорытии тоннеля?
— О нет, я её открыл во время работ и хочу впервые проверить на деле.
Астипалея
Через глубокий, пахнущий гнилой водой ров был переброшен мостик. Посередине него стоял стражник с обнажённым акинаком. На голубом гиматии поблескивали ряды золочёных, а может быть и золотых, блях. Пифагор уловил беглый взгляд, брошенный им на его ноги. «Видимо, никто на его памяти не входил сюда босым», — подумал он.
Дворец Поликрата был невысок, но выходящими почти к самым воротам крыльями охватывал весь акрополь, повторяя конфигурацию городской стены и превращая всё остальное пространство во внутренний двор-сад. Дорожка проходила между рядами бронзовых фигур, поставленных перед деревьями. Пифагор сразу узнал в них статуи, некогда украшавшие Герайон. Его взгляд задержался на трёх коленопреклонённых куросах, поддерживающих головами огромную серебряную вазу.
Оглядевшись, Пифагор увидел в тени колонны приветливо улыбающегося человека в пёстром одеянии. Конечно, это Поликрат, вовсе не похожий на страшилище морей, — муж, склонный к полноте, но не полный, с небольшими прищуренными глазами. Значительность лицу придавал лишь нос, почти отвесно спускавшийся к буйно растущей бороде. Сделав навстречу Пифагору несколько шагов, тиран обнял гостя.
— Уже много дней, Пифагор, имя твоё не покидает моих покоев. Лучше всего сказал о тебе Метеох: «Когда он говорит, теряешь дар речи, ибо боишься, что прервётся поток, созданный силой ума и воображения, и вещи воссоздаются такими, какими ты их никогда не видел, такими, какими они должны быть». И конечно же, наслышанный о тебе, я мысленно потянулся в пещеру Пифагора. Не возражай! Кто отныне станет называть её пещерой Анкея?! Ведь не называют же «Илиадой» сочинения Лина и других древних аэдов после того, как Гомер населил стены воспетой им Трои своими героями.
Они вошли в зал, залитый жёлтым светом от отверстия в потолке, закрытого пластинками янтаря. Ступни Пифагора погрузились в мягкость ковра.
— Ты находишься в той части дома, которую мои гости называют залом Колея. Ведь это он проложил дорогу в Тартесс, город на берегу Океана. Здесь я и приму тебя, нового Колея.
— Да. Я много путешествовал, — проговорил Пифагор, усаживаясь на сиденье против Поликрата. — Но ветер судьбы погнал меня на Восток, а не на Запад. Колей работал для агоры, я — для знания. Он вернулся на корабле, набитом доверху серебром и янтарём, с серебряными якорями на бортах, а я — вот в этом гиматии и босиком.
— Чудачество великого мужа, — отозвался Поликрат.
— Скорее жизненная линия, Поликрат, — отозвался Пифагор. — После долгих странствий на чужбине у меня возникли иные пристрастия и привычки: например, я не приношу кровавых жертв богам, не ем мяса животных, не ношу шерстяной одежды — ведь и она добыта насилием над живыми существами.
— Всё это так необычно, — задумчиво произнёс Поликрат. — Я думаю, всем интересно будет прочитать о твоих странствиях и о том, как ты пришёл к своему выбору. Как ты назовёшь свою книгу?
— Её не будет, — отозвался Пифагор, — ибо писание отвлекает от мыслей и служит пищей самомнению, создавая иллюзию собственной значимости. К тому же мы, ионийцы, с тех пор как три века назад заговорил Гомер, болтаем без умолку. Пора и остановиться.
— Но тишина — это ведь смерть! — заметил Поликрат.
— Если она вечная, — возразил Пифагор. — Надо замолкнуть на время, хотя бы для того, чтобы собраться с мыслями. К тому же молчание — это не тишина. Неведомый во времена Гомера авлос, закрывающий рот, служит молчанию. Дыхание, даруемое нам космосом, возвращается в его гармонию.
— Возможно, ты прав, — произнёс Поликрат. — Но тот, кто не пишет, беззащитен перед молвой. Он может утратить родину и родителей.
— Перед молвой беззащитен любой из творцов, — отозвался Пифагор. — Солон, в отличие от Гомера, не преминул рассказать о себе и своих родителях. И что же? Разве не говорят, будто он был гостем и советчиком Креза, хотя умер за двадцать лет до его воцарения? И я почти уверен, что мне дадут в учителя египетских жрецов.
— У кого же ты тогда учился, если не у них? — спросил Поликрат.
— Моим первым учителем был Ферекид, сын Бабия.
— Поразительный человек! — воскликнул Поликрат. — Он побывал у нас и, напившись воды из колодца Геры, сказал, что на третий день произойдёт землетрясение. Его высмеяли. А землетрясение произошло, к счастью не катастрофическое. Пострадал лишь один храм Аполлона в горах.
— Нет эллина, лучше истолковавшего природу, чем Ферекид, — подхватил Пифагор. — Землетрясения возникают от давления наполняющего поры земли газа. По насыщенности воды газом Ферекид и смог предсказать бедствие. Ферекид поделился со мной и многими другими открытиями, но сам он более всего ценил учение финикийцев и поэтому направил меня на мою родину в Сидон.
— Твою родину? — удивился Поликрат.
— Да, я родился в городе великих мастеров Сидоне. Когда мои родители прибыли в Дельфы, мать была уже тяжела мною, и пифия посоветовала ей родить в Сидоне. А на Самос они вернулись уже после моего рождения. В Сидоне, куда я попал вторично двадцати лет от роду, я встретил последователей Моха. Мох, живший за шесть веков до Фалеса, достиг в понимании космоса неизмеримо больше, чем милетяне. Он установил, что всё сущее состоит из мельчайших, невидимых глазу частиц, а не из воды, как полагает Фалес.
— Откуда же он мог это знать, если частицы, о которых ты говоришь, невидимы?
— Мох был математиком, а в математике не обязательно видеть всё, что вычислено.
— И долго ты пробыл среди последователей Моха?
— Три года. Затем дорога ввела меня в крепость знаний Вавилон, где мне были открыты тайны звёздного неба. Из Вавилона я отправился ещё дальше на Восток, в страну, где верят, что бессмертна любая душа и что нет страшнее преступления, чем насилие над живым существом.
— Ты имеешь в виду страну, куда проложил путь Дионис?
— Да, Индию, в которой никто из эллинов до меня не побывал.
— Зато мы наслышаны о ней, а иногда нам достаются её дары. Вот взгляни на этот индийский камень. Он мне дороже всех моих богатств.
Поликрат снял с пальца перстень и протянул его Пифагору.
Разглядывая лежащий на ладони Поликрата смарагд, он одновременно изучал руку собеседника, пытаясь понять характер этого человека, мысли которого ему не удавалось прочитать. Цельная линия резко обрывалась. Пересечение её с другой предвещало смертельную угрозу.
— Это дар моего друга Амасиса, — проговорил Поликрат, надевая перстень. — По его совету я расширил гавань и создал флот.
Они вышли на галерею, возвышавшуюся над колоннами таким образом, что её центр приходился на среднюю из них. Это было то крыло здания, которое Пифагор с моря принял за восьмиколонный храм.
— Какой прекрасный обзор! — вырвалось у Пифагора. — Видна вся бухта вплоть до Герайона.
— А также и полуостров Микале по ту сторону пролива, — добавил Поликрат. — О, если бы Самос оторвался от своих корней и его можно было бы оттащить поближе к Европе! Страшно подумать, что этот клочок суши, единственный свидетель младенческого крика Геры, её девичьих забав на лугах у Имбраса, может достаться персам.
— В день моего возвращения на Самос спускали корабль с египетской надписью на носу, — заметил Пифагор.
— Так я отблагодарил Амасиса, отпустившего ту, что сделала нас друзьями.
— Ты имеешь в виду Родопею?
— Да, её, новую Елену Прекрасную. Ведь она родилась на Самосе и была в девичестве рабыней Иадмона.
— Господина Эзопа?! — удивился Пифагор.
— Да, его. Иадмон отправил Родопею в Навкратис на обучение к местным гетерам. Амасис же взял её во дворец, сделал своей наложницей и, будучи уверен, что она, им осчастливленная, пожелает кончить дни в Египте, соорудил для неё небольшую пирамиду. Но Родопею потянуло на Самос. Хочешь с ней познакомиться?
— Есть ли человек, который от этого откажется?
— Тогда посети нас завтра после полудня.
Недовольство
Пифагор петлял по тёмным улицам, стараясь подавить гложущее чувство неудовлетворённости. Всё, что он говорил о себе Поликрату, было ложью или, точнее, попыткой скрыть правду. В страхе перед нею он покинул родительский дом и отправился на чужбину, чтобы стать там человеком без рода и без имени. Открывшиеся ему уже в юности видения подчас мешали понять, кто он на самом деле — Эвфорб, Пирр или даже сын Гермеса Эталид. О первой своей жизни он даже в находивших на него припадках откровенности долгое время не мог рассказать никому, ибо что бы могли подумать, узнав, что к нему, Пифагору, среди бела дня явился Гермес и предложил на выбор любой дар, кроме бессмертия. Не мог он никому поведать о своём странном страхе перед буквами. Когда он пытался занести их на папирус, они двоились, поворачивались друг к другу так, что их можно было читать и справа налево, и слева направо, как делают финикийцы и иудеи. И странным образом из этого бреда выросла уверенность в парности как всеобщем законе бытия. Бред стал источником его знаний о космосе. Конечно, Пифагор понимал, что Эвфорб — это тоже бред, но и он натолкнул его на здравую мысль, что всё сказанное Гомером о Троянской войне — злокозненная ложь, и он мог бы это доказать с помощью неопровержимых доводов.
Из-за Гомера произошла давняя ссора с отцом. Когда он, ещё будучи мальчиком, поведал ему о своём открытии, отец возмутился:
— Ты ещё молод, чтобы судить того, о месте рождения которого спорят семь городов.
— Это ни о чём не говорит, — возразил тогда он. — Это спор из-за тени осла. В ней пытаются скрыться от слепящего света истины. О месте моего рождения спорить не будут.
— Вот в этом ты прав, — усмехнулся отец. — Ты не можешь закончить работу даже над одним-единственным перстнем. О тебе просто не вспомнят.
Именно тогда он, разобиженный, отправился на Сирое к Ферекиду.
«Конечно же Гомер выдумал свою Троянскую войну и все эти корабли, на которых ахейцы приплыли в Троаду. Но сколь великолепна эта выдумка и кому она принесла вред? А я в спорах с нею погубил мать, я-то ведь знаю, что она ушла в Аид с горя. Глупое упрямство!»
Раздражение собой вскоре перенеслось на недавнего собеседника. «Отец прав. Есть в этом человеке что-то отталкивающее. И откуда эта непроницаемая броня, которой он себя окружил? Зачем он меня пригласил? Кто я для него? Одна из диковин, которой он хочет украсить свой дворец? И почему я принял его приглашение встретиться с Родопеей? А о Ферекиде я ему хорошо сказал. Надо обязательно навестить старика. Интересно, что он думает о Поликрате? А ведь Ферекида не раздражали мои нападки на Гомера. Он, кажется, понимал, что в споре с тенями я обогащаюсь. Да и впрямь спор с Гомером, никогда не покидавшим Ионии, позволил мне открыть для себя Финикию, Вавилон, Индию и понять, насколько превратно судят о мире те, кого считают семью мудрецами. Кто они, эти великие мужи, принёсшие свою жизнь на алтарь ясности и изрекающие тёмные истины наподобие пифии? Не пытаются ли они, подобно персидским магам, заговорить самих себя от пугающей сумятицы мира?»
В триклинии
Вовсе не то вы мыслите Эросом —
Эрос ваш мучает, жжёт и томит.
Мой же — нас всех возвышает над серостью,
Право даёт называться людьми.
Низкий прямоугольный стол, застеленный белой материей, блистал золотой и чеканной серебряной посудой, украшениями из гиперборейского янтаря. На ложах возлежали трое. Поликрат опаздывал. Но вот пахнуло восточными благовониями. В зал во всём блеске красоты вступила Родопея. Совершенные формы просвечивали сквозь полупрозрачный пеплос, заколотый на плече пряжкой из Электра. На груди поблескивало золотое украшение. Поликрат шёл сзади с кифарой в руках.
— Друзья мои, — начал Поликрат, — в такие вечера, когда самая жизнерадостная из муз Талия призывает к дружескому застолью, мы обыкновенно выбираем симпосиарха[27]. Сегодня же я привёл к вам царицу пира и его награду. Готовы ли вы подчиниться воле моей гостьи?
— Готовы! Готовы! — послышались голоса.
Поликрат и Родопея заняли свои места. Тиран протянул ей кифару.
Родопея положила инструмент на обнажённые колени и, тронув струны, запела грудным голосом:
Я объявляю агон, и буду сладкой наградой Всю эту ночь до появления Эос Я для того, кто суть обозначить сумеет Бога, к которому тянется каждый живущий, Как к магнезийскому камню железо, Бога, который безумную жажду сближения В наших телах и радость в душах рождает, Ту, пред которой иные желанья ничтожны.— Итак, задание получено, — произнёс Поликрат, обводя взглядом присутствующих. — Давайте начнём агон. Из него я исключаю себя, чтобы взять роль судьи. О могуществе Эроса много сказано. Но речь идёт о природе Эроса, о предмете, насколько я понимаю, почти не исследованном.
— Это верно, — согласился Эвпалин. — В рассуждениях поэтов о строении мира нет ясности. Согласно Гесиоду, сначала родилась широкогрудая Гея, а за ней появился Эрос, потом Уран и Тартар. Если это так, надо думать, что Эрос — это сила, соединившая Гею с Ураном. Здесь я должен вспомнить, что сказано о Гее в священных книгах иудеев: «Гея была безвидна и пуста». Итак, потянувшись к Урану, Гея преобразилась. На её могучем теле появились два ровных, как бы прочерченных циркулем круга. В этих местах тело Геи вздыбилось, образовав два купола. Несколько ниже возникло глубокое ущелье. Гея стала напоминать женщину, и Уран, с яростью обрушившись на неё, её оплодотворил, став родителем титанов, киклопов и сторуких великанов.
— Превосходное дополнение Гесиода, — сказал Поликрат, пододвигая к себе чашу. — У Гесиода Эрос, наряду с Хаосом, Геей и Тартаром, — одно из четырёх лишённых родителей первоначал. Но место и роль Эроса у него не ясны. Он только называет его «сладкоистомным» и «приводящим в безумие». Ты же, Эвпалин, соединив два мифа, объяснил, что без Эроса Гея, будучи бесформенной, как Хаос, из которого она вышла, не могла бы привлечь к себе Урана, и ты исключил из мироздания Тартар. Так ли я тебя понял?
— Так, — ответил Эвпалин. — Тартар, как его понимают поэты, — бессмыслица.
— Превосходно! — воскликнула Родопея. — Но всё же какова природа самого Эроса, этой могучей силы соединения мужского и женского начал?
— Это вечно пылающий и творящий огонь, инстинкт созидания, — ответил Эвпалин, — и в то же время — основа всякой деятельности. Недаром ведь Афродита была супругой Гефеста.
— Кажется, теперь мой черёд, — начал Анакреонт. — Я ничего не знаю о первоначальном Эросе, и мне нет до него дела. Меня мучает Эрос, сын Афродиты. Он, единый по своей сути, постоянно меняет облики, представая то прекрасной девой, то обольстительным юношей. Я тянусь к нему, а он то подаёт мне надежду, то отворачивается. Счастливец Гомер обращался к музе в начале великой поэмы, а я не устаю взывать к нему, шалуну и мучителю, в каждом, даже самом маленьком стихотворении. Вот последнее из них:
Бросил шар свой пурпурный Златовласый Эрос в меня И зовёт позабавиться С девой пёстрообутою, Но смеётся презрительно Лесбиянка прекрасная. На другого любуется.Взгляд Поликрата обратился к Метеоху.
— Теперь ты.
— Что я могу сказать после таких стихов? Да и опыта у меня нет.
Юноша растерянно развёл руками. Звякнула чаша. Взоры пирующих обратились к пятну, расплывавшемуся на скатерти. Поликрат дал знак слуге, стоявшему у стены.
— Не надо, — проговорила Родопея, — вавилонские маги гадают по очертаниям таких пятен.
Пятно стало похожим на несущегося во весь опор коня. Родопея закрыла лицо ладонями.
— Успокойся, царица, — обратился к ней Пифагор, — стоит ли верить магам? Я согласен с Эвпалином. Эрос — это вечный огонь, вокруг которого вращаются Земля и другие космические тела. Но прав и Анакреонт. В твоих великолепных строках, Анакреонт, Эрос — златоволосый и златокрылый лучник. Ведь стрела — это солнечный луч. Не так ли? Индийский Эрос Кама — тоже лучник, но лук у него не из кизила, не из орешника, а из медового тростника, стрелы — из сцепившихся пчёл. У тебя Эрос принял форму мяча цвета заката, в который ты вступил. И уже с первой строки становится ясно, чем закончится великая песня.
Прекрасно вечернее солнце, но юные жаждут не старческой бессильной красоты.
— Боги мои! — перебил Анакреонт. — Как ты истолковал мои стихи! Я ни о чём подобном и не думал. Ко мне строки явились сами, и я старался их не спугнуть.
— Вот-вот! — подхватил Пифагор. — За тебя думал Эрос. Он творец любого творчества и основа могущества. О последнем хорошо сказано в индийском мифе. Послушайте. Как-то два старых бога Вишну и Брахма встретились с юным Шивой и стали перед ним хвалиться своей мощью. Шива выслушал их и сказал: «К чему много слов? Сейчас я приму свой истинный облик, и тот из вас, кто найдёт его пределы, будет самым могущественным». В один миг Шива превратился в огромную колонну с округлой капителью. Она стала расти, уходя в небо. И тогда Брахма, превратившись в лебедя, воспарил, чтобы достигнуть её края, Вишну же стал кротом, чтобы дорыться до её корня. Прошло много тысяч лет, и старые боги вернулись к Шиве, признав своё поражение, ибо сила Эроса беспредельна.
Родопея сняла с головы венок и протянула его Пифагору.
— Мне нравится твоё толкование, Пифагор, ты показал, что Эрос — основа не только жизни, но и поэзии. Ты дал зримый образ тому, чему я посвятила жизнь. Пусть же этот венок увенчает твою голову в знак того, что я готова идти за тобой. Ты будешь первым...
— Первым?! — рассмеялся Поликрат.
— Первым, — повторила Родопея, — ибо я впервые не потребую за любовь вознаграждения. Я его уже получила.
Пифагор поднялся.
— Я счастлив, царица, что своим рассказом возбудил в тебе силу Эроса. Сам я не ищу сближения ни с женщинами, ни с мальчиками. Мой Эрос так же беспределен, как тот, перед которым склонились Брахма и Вишну, но он бестелесен и открывается лишь в сочетании чисел и звучании небесных сфер. Но если ты сочла меня победителем, я не отвергну награды.
Мнения
Почти сразу за победителем и царицей пира, сославшись на неотложные дела, зал покинул Поликрат. Анакреонт, Метеох и Эвпалин остались за столом, и конечно же речь зашла о Пифагоре.
— Удивительный человек, — проговорил Анакреонт, наклоняясь над чашей. — Вот уже две декады, как я с ним знаком, и до сих пор он остаётся для меня загадкой.
Сделав глоток, Анакреонт продолжил:
— Меня удивляет его неприятие Гомера. Пифагора возмущает то, как Гомер описывает старину. Гомер для него — не авторитет в героическом прошлом, а чужестранец, едва ли не невежда. Пифагор глядит на Гомера глазами Ахилла, Приама, Гектора — одним словом, их современника. Но ведь не бывает, чтобы человек жил в нескольких поколениях сразу.
— Не знаю, Анакреонт, не знаю, — сказал Эвпалин, приподнявшись на ложе. — Мне он кажется сосудом, в котором спрессовано нечто такое, что, если ему дано будет развернуться, оно перевернёт весь мир. Его вымысел столь неудержим и дерзок, что не может быть оспорен по законам реальности, и тем самым он становится явлением, совершенным числом, о котором он нам рассказывает и в которое веришь, как в божество. Он становится для нас линзой, расширяющей границы наших чувств и наших возможностей. Ты помнишь изречение, выбитое у входа в храм Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя»? Запись, достойная славы Дельфийского оракула, обратившегося к глубинам человеческого сознания. Но, восприняв этот совет или призыв, Пифагор поставил вопросы, какие не приходили в голову ни одному из тысяч эллинов или варваров, переступавших порог храма, — какова природа слуха и зрения, соответствует ли видимый и ощущаемый мир существующему? Давая на эти и иные вопросы ответы, он, право, превзошёл всех мудрецов и открыл для понимания законов бытия и жизни неизведанные, новые пути. Не знаю, жил ли Пифагор во времена Приама, но я уверен в том, что его жизнь не определена сроком, данным смертным, и ему суждено жить и через сотни, и через тысячи лет.
Анакреонт отодвинул чашу.
— Пожалуй, ты прав. Такие люди, как Пифагор, подобны богам. Поначалу, не зная его, я с ним спорил, а теперь только слушаю. Глядя на него, легко поверить, что он пил воду из Инда и побывал в тех местах, где восходит Гелиос и рождаются звезды. Однако его величие не подавляет. Он может отыскать ключ к каждому сердцу и найти общий язык не только с молчаливыми рыбаками — я сам был свидетелем его беседы с рыбаком на агоре, — но и с морскими разбойниками.
— Да-да! — подхватил Метеох. — Увидев детей, бросивших камни в бродячую собаку, он заговорил с ними на равных, и дети к нему потянулись. Я уверен, что они больше никогда не обидят беззащитное животное.
— Но самое удивительное, — перебил Анакреонт, — что ни разу в разговорах Пифагор не назвал имени Орфея. А ведь учение о метемпсихозе[28] принадлежит именно ему. И я никогда не слышал от Пифагора об Аиде и о наказании там душ. Не кажется ли вам это странным?
— Я тоже это заметил, но странным мне это не показалось, — проговорил Эвпалин. — Орфей старался вырваться из круга, назначенного смертным судьбой, считая его мучительным. Пифагор, напротив, стремится войти в этот круг и пережить заново если не все свои прошлые жизни, то главные из них. И именно это даёт ему возможность прозревать будущее. Орфей стремился принести утешение смертным, Пифагор нам ничего не обещает, а обращает наши глаза и уши к невидимому и неслышимому.
Золотой амулет
Пифагор осторожно отодвинул лежащую между ним и Родопеей кифару. Рука потянулась к золотому амулету, блестевшему в лощине между двумя розовыми округлостями, и на миг застыла.
— Нет! — тихо проговорил он. — Только не это!
— Понимаю, — вкрадчиво произнесла гетера, — неприятно видеть на мне дар другого. Но эту вещь я получила ещё девушкой от грабителя гробниц... Есть в тени пирамид и такая профессия. Жрец Амона, которому я показала эту вещь, повёл меня в храм. Там на стенах была изображена схватка со вторгшимися в Египет чужеземцами. Жрец называл их народами моря. У них были точно такие предметы.
...Губы Пифагора зашевелились. Он был не с нею. Говорил с кем-то другим. Родопея прислушалась.
— Нет, Приам, меня привлекает форма. Это небесный знак — две переходящие друг в друга окружности. Это два солнца. Они ослепят Менелая.
Глаза Пифагора ожили. Он положил руку ей на грудь и улыбнулся одними губами.
— Что с тобой? — спросила Родопея. — Ты словно заснул и меня не слышал.
— Нет, слышал. Это было видение из другой моей жизни. Я беседовал с Приамом, перед тем как принять решение о схватке с Менелаем.
Глаза Родопеи расширились.
— Ты сражался под Троей?
— Под Микенами. Сражался и погиб. Потом моя душа переселилась в делосского рыбака Пирра. Тогда у меня была дочь Мия, такая же красавица, как ты.
— Ты хочешь сказать, что знал Елену Прекрасную? — усмехнулась Родопея.
— О какой Елене ты говоришь? Не о Елене ли, богине спартанцев?
— Но ведь Гомер...
— Откуда бы ему знать о Елене, если он жил через три века после Приама?! Я не обманываю. А вот ты... Ты отдалась грабителю пирамид, и он расплатился с тобой золотой безделушкой. Мало того, он обещал сделать тебя царицей. Твои подруги, узнав об этом, потешались. Несмотря на насмешки, ты всегда носила эту вещичку как амулет и помнила о том, кто сделал тебя женщиной. Эрос тебя не обманул. Грабитель пирамид Амасис стал воином, потом военачальником и, возглавив восстание египетской черни, — фараоном. Он выполнил своё обещание и взял тебя во дворец. Не без твоего влияния он стал верным другом Поликрата, а ты — залогом их дружбы. Потом что-то произошло, и он повелел отвезти свою статую Гере как прощальный дар. Но ведь кроме статуи было послание. Можешь не говорить какое. Но ведь было.
Родопея сорвала с себя амулет.
— Да, было. Всё было. Было и сновидение, и истолкование его жрецом. И насмешки подруг. И прощание. И клятва никогда не снимать амулет. Было и послание Амасиса. Война с Персией неизбежна. Поэтому я покинула Египет. Вскоре бедствие обрушится и на Самос. Впрочем, зачем я тебе всё это говорю? Ведь ты маг, величайший из магов. Для тебя нет тайн. Ты снял с меня заклятье. И я хочу быть с тобою в трёх лицах, трижды прекрасный.
Пифагор поднял голову, и вдруг перед его глазами возникла гордая, золотистая и сияющая голова, лебединая шея. Это была Парфенона, встречи с которой он ждал столько лет, время от времени пытаясь сложить её облик из черт женщин, так же, как Родопея, предлагавших себя. Теперь всё это позади. Она явилась к нему такой, какой он её потерял, и в движении её губ можно было прочитать имя — Эвфорб. И она поёт. «О, боги мои! Это же песня Орфея!»
Парфенопа плавно двигалась навстречу ему, пока, приблизившись, не слилась с женщиной, раскинувшейся рядом, и Пифагор рванулся к ней.
Оплыв
Стремительно взлетали вверх и опускались, взметая жемчуг брызг, вёсла. О скорости можно было судить лишь по дрожанию корпуса, силе бьющего в лицо ветра и изменениям панорамы. Пролив, отделяющий остров от материка, понемногу сужался. Самос разворачивался освещённой солнцем зубчатой стеной кипарисов, и, наверное, древнее название острову — Кипарисия — могли дать лишь те, кто обитал на Ми кале.
Поликрат и неожиданно вызванный им Пифагор стояли рядом на носу пентеконтеры. Лицо тирана не выражало никаких чувств. После того как они обменялись краткими приветствиями, Поликрат не проронил ни слова, и Пифагор терялся в догадках: «Почему он предпочёл иметь спутником меня, с которым едва знаком, а не тех, кого знает много лет? И куда мы плывём? Если на подвластные Поликрату острова, незачем входить в пролив. Или, может быть, в проливе судно движется быстрее и Поликрату хочется похвастаться быстротою хода? Вот и мыс Трогилий. Сколько раз эфебом, глядя на него, я встречал поднимающееся из-за Микале солнце, пока оно не позвало меня в путь и я не двинулся ему навстречу».
Пролив расширялся. Судя по развороту, Поликрат намерен посетить берег, открытый Борею. Пифагор мгновенно оживил в памяти очертания Самоса на медной доске Анаксимандра. «Барашек», обращённый головою к Азии. Очертания острова совпадали с направлением движения ионийцев, бежавших на другой материк от бедствий, которые постигли материковую Элладу после погубившего Трою землетрясения. Так на азиатском побережье появились ионийские города, от которых Самос отделён проливом.
Обойдя баранью головку мыса Посейдона, судно спускалось по выгибу шейки в бухту.
«Сюда переведены рыбаки, — думал Пифагор. — Если бы Поликрат намеревался здесь высадиться, судно должно было переменить направление. Но оно шло прежним ходом. Видимо, Поликрат решил обогнуть акрополь своей морской державы. Так же в дни праздника обходят теменос[29] храма Мелькарта в Тире, так же и персидские маги делают круги во время жертвоприношения огню. Это магический круг, отделяющий священную территорию от неосвященного мира и закрепляющий над нею власть высших сил. Поэтому так серьёзен и значителен Поликрат».
Судно совершило ещё один разворот. Побережье по обе стороны мыса Дрепан было равнинным и, кажется, шевелилось от курчавой волны пасшихся овец. Справа по борту в тумане выступила едва различимая Икария.
— Несколько дней назад мною получено послание от Амасиса, — внезапно проговорил Поликрат. — Поблагодарив за самояну, фараон напомнил мне, что счастье недолговечно и что ни один из известных ему счастливцев не кончил хорошо. Поэтому — таковы его подлинные слова — «тебе, мой друг, надо шагнуть самому навстречу несчастью». Как ты думаешь, что он имел в виду?
— Видишь ли, — начал Пифагор после недолгого раздумья, — вавилонские, а также индийские мудрецы полагают, что счастье и несчастье — это две гири, колеблющиеся на чаше весов. Судьба смертного также колеблется на этих гирях, и если счастье сильно перевешивает, то это может привести к такому резкому повороту, что человек летит в пропасть и ничто его не в силах удержать. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать чрезмерного счастья и надо самому поддерживать равновесие.
— Как же мне поступить?
— Изменить свою жизнь. Помнится, в таком случае один индийский царь покинул дворец, став отшельником. Может быть, отказаться от самого тебе дорогого.
— Здесь не Индия, — отозвался Поликрат. — А насчёт дорогого? Вот что. Я откажусь от перстня. У меня нет вещи дороже его. И ты будешь свидетелем того, как он исчезнет в пучине. Вот здесь, перед мысом Канфарион, самое глубокое место.
Поликрат снял с пальца перстень и, закрыв глаза, бросил его за борт. Проследив за описанной дугой, Пифагор перевёл взгляд на тирана. И сразу же его оглушил поток мыслей, считываемых с губ Поликрата. «Вот и нет перстня, как нет и дружбы. Амасис беспокоится обо мне, а Силосонта не только не задержал, а отправил на своём корабле в Навплию. Пора действовать. Выделю Меандрию пять кораблей. Этого хватит, чтобы покончить с осиным гнездом».
Поликрат повернул голову.
— Вот я без перстня, — проговорил он. — Ощущается непривычная лёгкость. Надо будет заказать другой.
«Такого, как тот, ты не найдёшь! — подумал Пифагор. — Он был броней, мешавшей мне узнать о твоих намерениях».
— Да, к вещам привыкаешь, как к чему-то живому. Но ты не огорчайся. Главное, что внял совету друга, — проговорил он.
Достигнув западной оконечности острова, судно свернуло в открытое море. Слева по борту возникали и рушились пенные гребни. Это скопище острых скал и подводных камней мореходы называли некрополем кораблей и старались к нему не приближаться. Впереди островок Рипара, обиталище чаек. Зобастые и тяжеловесные, поднявшись в воздух, они становились похожими на гаммы[30]. И Пифагор начал их машинально складывать. Получилось тридцать шесть.
Судно развернулось ещё раз и двинулось вдоль южного берега, блестевшего песчаной полосою пляжа. В глубине показались гора Хесион и у её подножия — освещённый закатом храм Артемиды. Здесь был исток Имбраса, считавшегося супругом Хесион и отцом Окирои. Отсюда недалеко до Герайона, а там уже гибельный Парус и гавань.
Какое-то смутное воспоминание шевельнулось в душе Пифагора, но тотчас же ускользнуло.
— Эвпалйн обещает уничтожить это бельмо на глазу Самоса, — услышал он голос Поликрата. — Но не знаю, успеет ли.
Улов
Город ещё спал. Молчали на насестах петухи. До слуха Пифагора доносилось лишь уханье ночной стражи стен — сов — и ещё какой-то посторонний шум. Пифагор поспешил на него и нагнал телегу с мусором. Присоединившись к ней, он покинул город незамеченным.
Рядом со свалкой проходила дорога, пересекающая город с юга на север в самом узком месте. Пифагор шагал, насвистывая любимую мелодию, которую ещё в детстве напевала ему мать. Проснувшиеся дневные птицы подхватили её, дополнив своим щебетом и хлопаньем крыльев.
Небо быстро светлело. За перевалом дохнуло Бореем. Поправив растрепавшиеся волосы, Пифагор прибавил шагу и вышел на берег. Вот и бухта, куда переправлены рыбаки. По колено в воде четверо тащили сеть, кажется не подозревая, что кто-то за ними наблюдает.
И словно туман застлал глаза Пифагору. Когда же он рассеялся, изменилась панорама. Вместо узкой бухты взору открылся плоский песчаный берег и плывущий к нему керкур, а на нём человек, в котором он узнал самого себя. Рыбаки с берега махали ему руками, среди них девушка, её лицо показалось Пифагору давным-давно знакомым, но он никак не мог вспомнить, кто она.
Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Пифагор не имел власти над своей памятью. Скорее она обладала властью над ним, неожиданно раскрывая эпизоды прошлой жизни. Но ему не удавалось соединить обрывки видений в нечто целое. Об Эвфорбе и его схватке с Менелаем писал Гомер, но Гомеру не было известно об учёных занятиях Эвфорба. Что касается последней жизни, проходившей на прилегавшей к Делосу Рении, то не было никакой надежды узнать что-либо от постороннего лица.
Взглянув на берег, Пифагор увидел рыбаков с обильным уловом. Он сбежал по склону. Рыбаки, услышав шум шагов, обернулись. У одного из них, сгорбленного старца, глазницы были пусты, однако черты лица показались Пифагору знакомыми. Старец подошёл к Пифагору, и тот ощутил лбом и щеками прикосновение бегающих холодных пальцев. Неожиданно старик вздрогнул и испустил вопль.
— Пирр! Друг мой! Ведь мы с Мией тебя похоронили на Рении! Поставили тебе кенотаф[31]. Где же ты был все эти годы? Почему не давал о себе вестей? А впрочем, что я? Ты ведь не знал, что Писистрат превратил нашу Рению в некрополь, перенеся туда могилы с Делоса, а Поликрат приковал её цепью к Делосу и посвятил Аполлону.
— Отец, — обратился к старцу молодой рыбак, — это не твой земляк, а софос Пифагор. Его знают все на Самосе.
— Нет, нет! Это Пирр! Мне ли не узнать моего друга!
— Не сердись, господин, — обратился юноша к Пифагору. — В таком возрасте что не привидится. Отец тебя с кем-то спутал.
— Нет, не спутал, — настаивал старик, — это мой друг, попавший в бурю за год до очищения Делоса Писистратом, друг, которого я долгие годы считал покойным.
— Извини, господин, — повторил юноша. — У моего отца всё смешалось в голове после того, как Поликрат приковал его островок цепью к Делосу. Ты, наверное, пришёл за рыбой, но сначала нам надо разделить улов.
— Тогда можете взять каждый по пять крупных и по тринадцать мелких рыб, и останется ещё одна, самая большая.
Рыбаки переглянулись.
— Как ты можешь знать, сколько рыб мы поймали? — спросил один из них.
— Я посчитал. И вы можете мне поверить. Если я ошибся, оплачу весь улов, если нет — вы возвратите Посейдону тех рыб, какие ещё будут дышать.
— Идёт! — обрадовались рыбаки и бросились разбирать рыб.
Прошло немного времени, и от кучки осталась лишь одна большая рыбина. Пифагор подошёл к ней, и рука его, коснувшись чешуи, ощутила лёгкое жжение, как тогда, в Астипалее, когда он коснулся перстня Поликрата.
— А что это за рыба? — обратился он к стоявшему рядом рыбаку.
— Мы называем её пампилом. Забирай её себе.
— Да нет! Такая большая рыба должна принадлежать самому большому человеку Самоса.
— Ты прав! Я сам отнесу её во дворец, — проговорил один из рыбаков.
Протягивая драхму, Пифагор сказал:
— А оставшихся в живых, как договорились, верните Посейдону.
Простившись с рыбаками, Пифагор отправился к проливу, отделявшему остров от мыса Микале, и долго смотрел на противоположный берег. В памяти его вставал пролив, отделяющий Рению от Делоса. Раньше он колебался — стоит ли наносить Поликрату такой удар. Теперь сомнения исчезли.
Взрыв
Открыв глаза, Поликрат отёр ладонью пот. Ночной кошмар всё ещё не покидал его. Это была встреча с Амасисом, но не в зале дворца, а на носу пентеконтеры, оплывавшей остров. И было это не днём, а ночью. Сияли звезды, и их отражения мерцали в воде. Египтянин стоял слева, как тогда наяву Пифагор, и поворачивал руку, любуясь блеском кольца. Знакомая золотая оправа. И поначалу Поликрат подумал, что это его кольцо, а затем понял, что на пальце Амасиса полная луна почти с такой же тенью, какую можно увидеть в ясную ночь. Тень перемещалась, принимая пугающие очертания. «Зачем ты заменил смарагд в моём перстне?» — спросил Поликрат. Амасис повернулся. Выступили провалы носа и щёк. Блеснули сплошь золотые зубы. «Спасибо тебе за золото», — зловеще прошамкал мертвец, и Поликрат проснулся.
«Конечно же сон навеян новым посланием Амасиса, о котором я размышлял весь день, — успокаивал себя Поликрат. — Мертвец во сне — к счастью. Но какая нелепица — золото во рту...»
Поликрат спустил ноги, и ступни его утонули в ворсе мидийского ковра, покрывавшего пол всей спальни. Вспомнился сатрап Багадат. Ковёр — плата за посредничество в дружбе с фараоном.
Мысль Поликрата перенеслась к донесению с Пелопоннеса о неудаче брата в Спарте. Он улыбнулся, живо представив себе, как вытягивались лица эфоров[32], слушавших речь Силосонта — брат коротко говорить не умел, — и как старший эфор, когда речь была кончена, наверняка, кривя губы, произнёс: «Ты так долго разглагольствовал, что я успел забыть начало, когда ты добрался до конца».
Поликрат дёрнул шнур. Занавес раздвинулся, и в спальню хлынуло утро вместе с сиянием моря. Внутренняя гавань пуста. Поликрат вспомнил, что на поддень назначен взрыв Паруса.
«Наконец, — подумал он, — исчезнет эта преграда и корабли смогут входить в гавань даже во время бури. И этого всего добился я, один я. Тоннель, искусственная гавань и безопасный вход в неё. Персы захватили все ионийские города, кроме моего Самоса. Мне удалось отстоять свободу с помощью фараона и разорвать союз, когда он стал опасным. У Камбиза нет оснований гневаться на меня. Я чист».
За спиной Поликрата послышались торопливые шаги. Обернувшись, он увидел повара с сияющим от радости лицом.
— Рыбак, — прокричал он, — принёс рыбу, и я её принял.
— Ну и что? Почему не принять? Рыба была свежей?
— Ещё била хвостом. Но когда я её стал потрошить, нашёл вот это. — Повар разжал кулак, и на ладони его блеснул перстень.
Поликрат закачался и стал бледнее стены. Перепуганный повар немедленно исчез, и через несколько мгновений вбежал казначей Меандрий с телохранителями.
Тотчас же послышался грохот взрыва. Но Поликрат, кажется, его не услышал. Он лежал на ковре, с тупой обречённостью повторяя:
— Не принял... Не принял...
Сотворение мифа
Пифагор шёл не разбирая дороги, натыкаясь на кусты. «Что меня заставило покинуть город? Не почувствовал ли живущий во мне дух рыбака Пирра, что на этом берегу есть некто, знавший меня в другой жизни? И каким образом я сумел сосчитать вытащенных на берег рыб? Как ощутил в брюхе одной из них кольцо? Почему внушил мысль отнести рыбину Поликрату? Что руководило мной — тщеславие или какой-то неосознанный расчёт? «Познай самого себя», — гласит надпись на стене дельфийского храма. Понимал ли впервые сказавший это, что обративший взор в самого себя обречён на блуждание во мраке сновидений? И зачем ограничивать мир самим собою? Да, я увидел кольцо в брюхе рыбы, и не всё ли равно, как пришло это необыкновенное зрение? Не важнее ли им воспользоваться, чтобы открыть глаза другим?»
К своему удивлению, Пифагор оказался около дуба Анкея, словно кто-то привёл его сюда, чтобы он провёл ночь на его выходящих из земли корнях.
Тишина располагала к раздумью, и он вновь и вновь перебирал в памяти числа. Арифметика была для него главной из наук. Он ставил её выше астрономии и геометрии и надеялся приблизиться к пониманию числа чисел — высшего божества.
Так прошла ночь. Под утро Пифагор задремал и вскоре проснулся от звука, напоминающего падение громовой стрелы. Небо было чистым, и он подумал, что в горах обвал. И лишь тогда, когда взгляду открылось море, вспомнился разговор с Эвпалином. Ему стало не по себе. Чтобы развеяться, он двинулся в гавань, и первым, кого он встретил, оказался мегарец, прохаживавшийся по молу.
Пифагор взглянул туда, где совсем недавно высился Парус, породивший миф о похищении Окирои.
— Конец мифа, — проговорил Пифагор. — И к этому причастен ты, Эвпалин. У всего есть конец. Мифы смертны, как и те, кто их создаёт. Но на место угасших приходят новые.
— Что ты имеешь в виду?
— Поликратов перстень. Ведь море вернуло его тирану.
Эвпалин испытующе посмотрел на Пифагора:
— Это действительно так. Я как раз в это время явился во дворец, чтобы доложить об окончании всех моих работ, и застал Поликрата без сознания, с перстнем, зажатым в кулаке. Его нашли в брюхе огромной рыбины, доставленной каким-то рыбаком. Но ты-то этого знать не мог!
Пифагор загадочно улыбнулся:
— Я это предвидел в тот миг, когда Поликрат занёс руку с перстнем для броска. Вот тебе и то, что когда-нибудь станет мифом. И за ним тоже что-то стоит.
— Верная мысль, — согласился Эвпалин.
— Если за мифом ничто не стоит, это выдумка, может быть и великая, но с ножками пигмея. У неё короткая дорога. У мифа же — далёкий путь, потому что он не единоличное творение. Искать его создателя — дело столь же бессмысленное, как пытаться отделить воды моря от вод втекающих в него рек. Мы с тобой, Эвпалин, соучастники гибели одного и начала другого мифа. А ты, как мне кажется, задумал нечто более грандиозное, чем тоннель и мол.
— Ты прочитал мою мысль, и я к этому уже привык. Я действительно мечтаю построить мост, который соединит два материка. Во всяком случае, мне на Самосе больше нечего делать.
Диалог
Простившись с Эвпалином, Пифагор шёл домой, ведя спор со своей пребывавшей в сомнениях душой героического века.
— Чего это тебе вздумалось, Пифагор, возвращать Поликрату перстень? — спросил Эвфорб.
Пифагор не сразу нашёлся что ответить.
— Мог ли бы я допустить подобное по отношению к моему покровителю Приаму?! — не унимался Эвфорб.
— Конечно, не мог, — отозвался Пифагор. — Тебе бы это просто не пришло в голову. А если бы и пришло, ты бы не смог этого осуществить. У нас с тобой разные горизонты. В твоё время, как на этот раз правильно описано у Гомера, такие знатные люди, как мы, сами мастерили себе ложе и строили дома. Жизнь была прозрачней и гармоничней.
Даже язык у тебя другой, и мне приходится переводить некоторые слова, словно я беседую не с самим собой, а с чужестранцем. Ты ведь называешь Милет Меловандой, Илион — Вилушей, Самос — Кипарисией, Пелопоннес Аппией. Что касается твоего первого вопроса, то у тебя впереди ещё полтысячелетия, моя же последняя жизнь на исходе. Да и что болезнь Поликрата и даже его гибель по сравнению с той темнотой, которая грозит человечеству, если факел знаний, зажжённый мною в Индии и пронесённый через весь материк, погаснет? Сколько потребуется столетий, пока его воспламенит кто-нибудь другой?.. Вот ты был в Вавилоне ещё до меня и изучал там математику, так же как я, но лишь для того, чтобы удовлетворить собственную страсть к знаниям и честолюбие. Ты и не помышлял о том, что знание нуждается в защите.
— А зачем знанию защита? Ведь нет Агамемнона, стремящегося к его захвату и обладанию.
— Дело, мой друг, не во внешней опасности, она существует и теперь — но в разных уровнях знания. В твоё время не могло быть конфликта между мудростью и властью. Приам не пытался использовать твои знания в своих интересах. Он был законным царём, ему не угрожал ни Гектор, ни Парис. Поликрат же страшится родного брата. Не забудь — ты ведь человек медного века, а я железного.
— Допустим. Но почему тебе понадобилось наносить Поликрату такой удар исподтишка? Ведь это бесчестно.
— А честно было превращать акрополь в свою резиденцию? Честно было...
— Но Поликрат делал это для спасения своих подданных, своих соотечественников.
— А я считаю делом своей чести спасение не Самоса, как он мне ни дорог, а науки от деспотии не только Поликрата и ему подобных, но и от персов, стремящихся к порабощению эллинов.
— А кто такие персы? Не потомки ли они Персея?
— О нет, хотя, как ни странно, такое мнение высказывается довольно часто. Персы — это народ, находившийся в твоё время за Эламом и переселившийся в земли Элама через пять поколений после окончания твоей жизни. Затем они захватили земли, принадлежащие царям Лидии, Вавилона, Египта. Самос, по расположению ближайший к ним остров, казалось бы, предназначен судьбой быть на грани между Азией и Европой. Отсюда должен был бы вестись диалог между материками. Но стало необходимым перенести дух в более безопасное место, найти ему новый центр, крепость разума. Я вскоре покину эти места, где начинался в тебе, и больше никогда не вернусь на наш остров. Я буду вести диалог оттуда, и он не завершится с моей смертью.
Часть II НАВАРХ
Где же тот материк, где же то побережье,
Где тот город, что станет началом начал?
И когда же над миром безумья забрезжит
Откровение циркуля, а не меча?
Оройт
Оройт неторопливо поднимался к Астипалее. Устремлённые вперёд миндалевидные глаза и задорно вздёрнутые усы придавали холёному, матового цвета лицу выражение холодной заносчивости. Справа от сатрапа шёл воин в обычном персидском одеянии с копьём, обращённым к небу, слева — человек средних лет в коротком эллинском гиматии, сзади — пятеро рослых воинов с копьями наконечниками вниз. Один из них нёс на плече небольшой калаф.
Оройт намеренно не предупредил о своём решении посетить остров и встретиться с его правителем, словно бы желая показать, что Самос был уже владением царя царей, или же он действовал в соответствии с услышанной от какого-то ионийца эллинской поговоркой: «Благородный может являться к худородному без приглашения». Не исключено также, что он рассчитывал на неудовольствие или на прямое оскорбление как на повод для вторжения — войско стояло наготове по ту сторону Самосского пролива.
Как бы то ни было, расчёт сатрапа не оправдался. Самосцы восприняли появление чужеземцев в азиатских одеяниях не как демонстрацию силы и угрозу, а как некое красочное представление. Оказавшийся в гавани казначей Поликрата Меандрий встретил Оройта с почтением и взялся сопровождать его в акрополь. Сатрап, даже не остановившись, передал через толмача, что сумеет и сам отыскать дорогу.
Так Оройт со своей свитой беспрепятственно достиг Астипалеи. Пройдя по мостику меж двух застывших в изумлении стражей, он двинулся через сад к дворцу, где стоял Поликрат, которого Меандрий успел предупредить, воспользовавшись подземным ходом.
И вот они, правитель Азии и владыка островов, расположились друг против друга, разделённые столом, как проливом. Поликрат не понимал по-персидски ни слова. Оройт — не знал ни одного из языков, на которых изъяснялась его огромная сатрапия, считая, что ему достаточно языка палки.
Глядя как бы сквозь Поликрата, перс не торопился сообщать о цели визита. Он явно наслаждался замешательством того, кто возомнил себя владыкой морей и даже приковал один из островов к другому.
Поликрат, ожидая самого худшего, был бледнее стены. «Очевидно, персы вошли в Египет и появление сатрапа связано с этим», — с ужасом думал он.
Оройт, не меняя положения, бросил несколько слов, и толмач, стоявший за его спиной, перевёл:
— Царь царей Камбиз волею Ахурамазды вступил в Египет как победитель. Он наказал твоего союзника.
— Бывшего союзника! — выкрикнул Поликрат. — Прошло уже более трёх месяцев, как наш союз разорван.
Иониец сказанного не перевёл. Оройт же, помедлив, дал знак одному из воинов, и тот опрокинул на стол калаф.
С лёгким шелестом выкатилась забальзамированная, страшная в своей неправдоподобности голова Амасиса с провалами носа и щёк и золотыми зубами в яме рта.
Поликрат отшатнулся. Лицо его покрылось каплями пота. По телу прошла дрожь.
Оройт не скрыл удовлетворения произведённым эффектом. В глазах его появился блеск, губы растянулись в торжествующей улыбке. Но Поликрат ничего не замечал, не в силах отвести взгляда от сморщенного лица того, кто был ему другом. «Сон сбылся!» — шептал он, глотая словно бы отяжелевший воздух.
— Царь царей Камбиз, — продолжал иониец, — приказав вытащить мумию самозванца и обманщика, подверг её бичеванию. Сыну наказанного была сохранена жизнь, а его дочь взята в служанки. Тебе же царь царей повелел передать, что объявлена война нечестивым картхадаштцам, поедающим собак, священных тварей Ахурамазды. Ты должен доставить к следующему новолунию в Навкратис сорок кораблей с матросами и воинами. Кормчие для их сопровождения прибудут с Кипра. Надеюсь, тебе понятно, что будет с тобой и с твоими подданными, если ты вовремя не выполнишь приказа царя царей.
Едва были переведены последние слова, Оройт шумно поднялся и, сопровождаемый свитой, не простившись, покинул лесху.
Поликрат встал. Но ноги его не держали, и он грузно опустился на скамью.
Лучи мрака
На небе выступило созвездие Пса, и началась ненавистная всему живому несусветная «собачья» жара. Опустели улицы и агора. Горожане скрылись в домах за запертыми ставнями. Но, кажется, ничто не могло остановить Пифагора, и он по-прежнему выходил на заре, возвращаясь поздно вечером, или оставался в пещере на ночь.
В тот день, не найдя друга ни в городе, ни у моря, Анакреонт отправился на поиски к знакомому ему месту. Поднявшись к дубу Анкея, он увидел Пифагора, выбегающего из пещеры.
— Ты мне как раз нужен! — воскликнул Пифагор, обнимая поэта. — Тебя послала сама Гармония.
— Гермес, — отозвался Анакреонт. — Я с новостями!
— Сначала дело! — отмахнулся Пифагор. — А я уже не надеялся, что кто-нибудь обо мне вспомнит, и вот двойная радость — друг и к тому же человек, обладающий слухом. Давай войдём в пещеру.
Прикреплённый к стене факел бросал свет на ряд кольев, соединённых струнами.
— Ого! — протянул Анакреонт. — Вот что тебя занимало! Пещера чисел превратилась в гигантскую кифару. Не собираешься ли услаждать пещерной музыкой слух богов?
Пифагор усмехнулся:
— Напротив, пытаюсь вырвать одну из их тайн. Я исследую высоту и соотношение тонов. Струны издают звуки не только в зависимости от их толщины, но и длины. Как видишь, толщина одинакова, различие — в длине. Наименьшая длина принята мной за монаду, следующая — доада, средняя — триада и так далее. Всего их семь. По моему знаку ты будешь с одинаковой силой ударять палкой по каждой из струн. Итак, я выхожу наружу. Начнём.
После того как палка прошлась по всем струнам, Анакреонт рванулся к выходу, но Пифагор его задержал. Вернувшись, он увеличил натяжку струн и заставил Анакреонта колотить вновь и вновь, то уменьшая, то увеличивая промежутки ударов.
— Ты меня замучил! — взмолился Анакреонт. — Объясни наконец, какую преследуешь цель!
— Ты это заслужил, — сказал Пифагор, гася факел о землю.
Они уселись под дубом, и Пифагор начал:
— Движущиеся постоянно в космосе тела, такие же сферы, как мир, в котором мы пребываем, посылают лучи, оказывающие воздействие на всё живое: на растения, на животных, на людей. Эти лучи подобны палке, которой по моей просьбе ты ударял по струнам. Мне надо определить характер и законы этого звучания, какое я не всегда могу услышать, хотя и нахожусь под его воздействием и творю, создавая что-либо, в зависимости от этих лучей — от их скорости, от их наклона, от приближения той или иной планеты к Земле и к Солнцу.
— Погоди. А я могу услышать голоса этих планет?
— Ты их воспринимаешь, не давая себе в этом отчёта, подобно растению, поворачивающемуся к солнцу.
— Не то ли это, что меня порой захватывает и заставляет слагать напевы, что мы называем музами?
— То самое. Гесиод, лучше чем кто-либо сказавший о дочерях Мнемозины Музах, воссоздаёт их зрительный образ. У меня нет в этом нужды, ибо я оперирую связанными со звуками числами. С их помощью я устанавливаю общие законы, по которым возникают, развиваются и рушатся миры.
Проговорив это, Пифагор положил ладонь на плечо друга.
— Ну, теперь выкладывай свои новости.
Анакреонт начал:
— К Поликрату прибыл вновь назначенный сатрап Камбиза Оройт с требованием отправить в Египет, захваченный персами, корабли с командой.
— Едва вступил на трон — и уже воевать! И чем досадил осторожный Амасис этому деспоту?
— Камбиз, — продолжал Анакреонт, — утвердившись на престоле, отправил в Египет послов, известив фараона о своём желании с ним породниться. Амасис же, прослышав о безумствах Камбиза, послал ему под видом собственной дочери дочь свергнутого и убитого им фараона Априя. Узнав об обмане, Камбиз пришёл в ярость, поклялся наказать Амасиса плетьми и тотчас стал готовиться к походу. Напуганный Амасис скончался. Фараоном объявлен его сын, поведший войско к границам Египта.
Пифагор сжал голову ладонями:
— Бедный Поликрат! Несчастный Самос! Пробились лучи мрака.
— Мрака? — удивился Анакреонт. — Разве мрак может испускать лучи?
Пифагор молчал. На лбу его выступила испарина. Глаза остановились.
— Что с тобою, друг мой?! — вскрикнул Анакреонт.
Пифагор увидел себя неподвижно лежащим у пылающего костра. Языки пламени подползали к охладевшему телу, но душа уже не ощущала жара. Он явственно услышал собственный голос, обращённый к самому себе: «Ещё мгновение, Эвфорб, — и твоё «я» оставит отслужившее тело всепожирающему огню и соскользнёт с утёса, чтобы понестись над гребешками волн. Неведомо, сколько лет или столетий будет длиться полёт, но однажды оно отыщет новорождённое человеческое или животное существо, чтобы расти вместе с ним, пока оно себя не осознает и не начнёт припоминать минувшее до этого крайнего часа. Две жизни соединятся в одну, чтобы затем влиться в ещё одну и стать главным из чисел — триадой».
Лицо Пифагора ожило. Никогда ещё Анакреонт не видел его таким одушевлённым.
— Теперь меня не мучают провалы Мнемозины, — проговорил Пифагор, блаженно улыбаясь. — Я знаю, что моя первая кончина была достойной. Я на вершине. Ведь Самос на языке лелегов — «вершина». Я выполнил свой долг перед Илионом. Теперь я буду служить Самосу. Тебя удивило выражение «лучи мрака»? Знай, что лучи отбрасывает всё зримое и незримое, свои собственные и отражённые. Вот ты смотришь на меня и недоверчиво ощупываешь моё лицо лучами своих глаз. Возвращаясь к тебе отражёнными, они создают мой образ. Я называю его эйдосом. Космос полон таких эйдосов. И если ты их не видишь, то это не значит, что ты смотришь в пустоту. Несовершенно твоё зрение, как несовершенны твой слух или обоняние хотя бы по сравнению со зрением орла или обонянием собаки. Порой эйдосы открываются нам как привидения, и мы отдаём их под власть ночной богини Гекаты. Меня они посещают и днём. Родопея предупреждала о неизбежности войны, и я попытался вмешаться. Опыт удался. Но от него никакого толку. События приняли неожиданный и опасный оборот.
— Подожди, Пифагор! — перебил Анакреонт. — О каком опыте ты говоришь?
— Только не о том, участником которого ты был. Теперь это станет мифом.
Решение
Солнце едва поднялось из вод и ещё не рассеялся утренний туман, когда Пифагор оказался у дома и стоял, размышляя, стоит ли будить отца. Но вот скрипнула дверь.
Увидев Пифагора, Мнесарх выбежал ему навстречу.
— Ты знаешь, что случилось?! Критяне врываются в дома и хватают всех подряд! Родителей беглецов заключают в доки! К нам пока никто не заходил, а у соседей уже увели стариков.
Пифагор нахмурился:
— Это великое бедствие, отец, и я не могу остаться в стороне. Совесть мне приписывает разделить общую судьбу.
— Хорошо ли ты подумал, Пифагор?! — в ужасе закричал Мнесарх. — Ты же идёшь на верную гибель!
— Разве, отец, я похож на человека, действующего по первому побуждению? Ты забыл, что во мне кипит кровь Эвфорба и Пирра?
Мнесарх опустил глаза. Упоминание о прежних жизнях сына каждый раз ввергало его в немоту.
— У меня возник план, — проговорил Пифагор после недолгого раздумья. — Не время его раскрывать. Но я уверен: молодёжь Самоса будет спасена.
— Тебя же нет в списках! — не унимался Мнесарх. — Видимо, наёмники обошли наш дом не случайно. Поликрат тебя ценит. Почему бы тебе с ним не встретиться и не поделиться своим планом спасения Самоса?
— Поликрат болен, да если бы и был здоров, в моих советах не нуждается. Что касается списков, меня там, должно быть, действительно нет. Чтобы не навлечь на тебя беды и осуществить свой план, я назовусь Эвномом.
— Тебя же здесь все слишком хорошо знают, чтобы спутать с Эвномом! — закричал Мнесарх.
— Но не наёмники. Что касается тебя, придётся немедленно покинуть остров.
— Так, сразу? Бросить дедовский дом? Оставить родные могилы?
— Но не прибавлять же к ним свою? Вспомни о судьбе Фокеи и Теоса. Те, кто вовремя ушёл, из этих городов, остались людьми, а тот, кто побоялся оставить добро и родные могилы, достался вместе с ними варварам. Желающий быть свободным не должен медлить и колебаться.
Говоря это, Пифагор уловил опущенный долу взгляд отца. Ранее тот словно бы не замечал его ног, так же, как избегал затрагивать во время бесед то, что ему казалось ненормальным в поведении или в речах сына.
— Давай я принесу тебе тёплой воды, — проговорил Мнесарх.
В это мгновение дверь задрожала от ударов.
— Спокойно, отец, — проговорил Пифагор. — Спокойно, мой дорогой. Ведь мы с тобой договорились обо всём.
У корабельных доков
Квадрат, образованный корабельными доками и линией мола, колыхался сотнями голов. Кто устроился на обструганных брёвнах, кто на кучах опилок. Судя по выражению лиц, согнанные свыклись с неизбежностью, хотя и страдали от ожидания. Скорей бы!
Время от времени оглашалось очередное имя. Писцы, сидя за столами с развёрнутыми папирусными свитками в руках, вызывали по одному. Их интересовал возраст, прохождение военной службы на море или на суше. Пифагор заметил Меандрия, что-то втолковывавшего писцам.
Наконец глашатай выкрикнул: «Эвном!» — и Пифагор приблизился к столу. Лицо Меандрия удивлённо вытянулось.
— Как ты тут оказался?!
— Как все. Мне нет пятидесяти.
— Но тебя нет в списке!
— В списке есть Эвном, и я его решил заменить. Разве это не естественно? Брат за брата.
— Но ты ведь не корабельщик и не воин.
— Зато я знаю языки, — возразил Пифагор. — Поверь, это может принести пользу. Кроме того, мне хочется устранить мучающее меня упущение: я никогда не был в стране, с которой связано столько чудес и небылиц.
Меандрий неодобрительно пожал плечами:
— Почему же тогда ты не посетил Египта при жизни фараона, дружившего с Поликратом? Теперь его царством правит безумец, и стремиться туда — не меньшее же безумие.
— Часто называют безумием то, чего не в состоянии объяснить, иногда же возбуждение, которого удаётся добиться искусственным путём.
— Говори яснее.
— Персидские цари, открывая совет, спрашивают, все ли приняли хаому.
— Хаому?
— Это сок какого-то неведомого нам растения, обладающего свойством обострять силу ума и развязывать языки. Не выпившие хаомы на царский совет не допускаются, чтобы мысли их не были скованными, а язык лживым. Должен сознаться, что отец, узнав о принятом мною решении, тоже назвал меня безумцем. Но кому-то надо обезуметь, чтобы спасти Самос.
Меандрий покачал головой:
— Я вижу, ты непреклонен. Можешь оставаться. Я вношу тебя в список вместо брата. Но на посадку не выходи.
Из разговора Пифагор заключил, что все остальные перед посадкой на суда будут распределены по кораблям и выстроены. Задание для людей, незнакомых со сложными подсчётами, отнюдь не лёгкое. Ведь кроме данных, имеющихся у писцов, надо учитывать также вместимость судов: Пифагор заметил, что у мола стояли старинные пентеконтеры, триеры, а также самояны. Поэтому, видимо, предварительно команды будут собраны у мола, а затем отведены на палубы.
Быстро стемнело. Пифагор, положив под голову мешок, расположился у брёвен и мгновенно погрузился в сон. Он пробудился от чьего-то шумного вздоха. Полная луна освещала склонившееся над ним широкое безбородое лицо со вздёрнутым носом.
— Залмоксис! Как ты тут оказался? — удивился Пифагор.
— Господин уехал, как только начался переполох. Меня он не взял с собою. Ведь я пугаю коней. Критяне схватили меня и привели сюда вместе со всеми.
— Я вижу, ты чем-то взволнован. Что случилось?
— Там, в доках, люди, — сбивчиво заговорил Залмоксис. — Я отсюда слышу плач и проклятия. Вот сейчас некто уверяет, что Поликрат отправил гонца к Оройту и вызвал его на остров, чтобы тот от имени царя приказал отправить самосские корабли в Египет, ибо тиран с тираном всегда найдут общий язык и нет для тирана никого опасней собственных граждан. Я понял, что это родственники скрывшихся. Ворота не охраняются. Замок легко сбить.
— Дай мне, мальчик, пожать твою руку, — сказал Пифагор. — У тебя доброе сердце.
— Господин, почему ты называешь меня мальчиком? Ты же видишь, что у меня крепкая рука!
— Но ведь тебе нет двадцати?
— Нет. Мне пятнадцать.
— Значит, ты мальчик. После двадцати лет будешь юнцом, а достигнув моих лет, станешь юношей. Впрочем, такова моя система возрастов. Старикам надо помочь. Но замка мы сбивать не будем. Надо подумать, как дать им законно вернуться в свои дома.
Дома, кошки и мышки
Едва рассвело, когда появились несколько городских рабов с кольями. Вскоре колья покрыли всё свободное пространство, будучи воткнуты на некотором расстоянии друг от друга. Затем писцы прикрепили к каждому колу дощечку с названием судна. К полудню глашатай провозгласил названия кораблей и имена всех, входивших в три судовые команды. Каждая команда должна была подойти к своему колу и оставаться возле него до утра, когда намечались посадка и отплытие.
Казалось, всё было продумано. Но едва успели люди подняться на берег, как оттуда послышались вопли на ломаном эллинском языке. Перевесившись через перила, финикийские кормчие, которым было приказано сопровождать суда до Навкратиса, выкрикивали ругательства, сопровождая их соответствующими выразительными жестами. Одни вопили, что им дали старцев, которые не в силах и вёсла поднять, другие — что им достались люди, видевшие парус лишь издали.
Пришлось возвратить команды на берег и весь остаток дня заниматься перестановкой. Но на следующее утро повторилось то же самое. Писцы встревоженно забегали.
И тогда Пифагор, подойдя к Меандрию, обратился к нему с должным почтением:
— Если мне будет дозволено, я помогу тебе решить несколько видоизменённую задачку с домами, кошками и несчастными мышками.
Меандрий взглянул на Пифагора как на безумного.
— Как ты сказал? Мышками?
— Ты меня не понял, — проговорил Пифагор. — Речь идёт о том, чтобы никто не остался на берегу и кошки с мышками были распределены по домам равномерно. От тебя требуются списки судовых команд и сведения о вместимости каждого судна.
— Но при чём тут дома, кошки и мышки?
— Так озаглавлена древняя задача, подобная твоей. Её, судя по прочитанным мною ассирийским письменам, разгадали в Вавилоне более тысячи лет назад. Воспользовавшись этим, я справлюсь с твоей задачей. Но при одном условии — если ты освободишь из доков несчастных старцев.
Лицо казначея вытянулось. Видимо, он никак не мог связать задачу, которую обещал разрешить Пифагор, с пленниками доков, но понимал, что должен согласиться с предложением Пифагора.
— Пусть будет по-твоему. Я рискну выпустить старцев, как только поднимутся якорные камни.
Прошло немного времени, и команды вступили на палубы. На этот раз кормчие не подняли крика. И вскоре послышалось потрескивание якорных камней. Корабли начали отчаливать. «Минос» качнулся. Самос стал удаляться. Ресницы, едва дрогнув, словно от дуновения ветерка, выдали волнение, охватившее Пифагора при мысли, что он прощался с Самосом навсегда. Но лицо его скорее выражало радость. Стоя у борта, он глядел, как площадь заполняется стариками и старухами. Некоторые поддерживали друг друга, не обращая внимания на отходящие корабли. Они не догадывались, кто их спас.
Пифагор положил ладонь на плечо мальчика.
— Когда делаешь доброе дело, не имеет значения, узнают об этом или нет. И пусть несчастные припишут своё освобождение доброте Меандрия. Мы с тобой выполнили то, что зависело от нас.
На палубе
— Как тебе это удалось, господин? — обратился к Пифагору Залмоксис, когда Самос исчез из виду. — Что это за вавилонская задача, которую ты назвал, если это, конечно, не тайна?
— О нет! — рассмеялся Пифагор. — Подойдём к корабельным канатам, и я тебе её объясню.
И вот уже участок палубы покрылся квадратами и треугольниками. Появились зрители. Один из них, уже немолодой человек, неодобрительно покачивал головой. Это был плотный мужчина с большими волосатыми руками и широким лицом, усеянным веснушками. Обшитый золотыми нитями гиматий говорил о том, что этот человек был не из числа тех, кто добывал хлеб физическим трудом.
— Зачем парня мучаешь? Ведь быть ему не натягивателем верёвок, а воином на персидской службе, так же как тебе и всем нам.
— Как тебя зовут? — спросил Пифагор, отрывая уголёк от палубы.
— Я Никомах, — протянул незнакомец. — Самояна, на которой мы плывём, как и все другие, — из доставленного мною леса.
— Я могу понять твою обиду, — проговорил Пифагор. — Но с предсказанием не согласен. Откуда твоя уверенность, что мы будем воинами? Когда-то мне было предсказано, что я никогда не вступлю на землю Египта. Далее, почему ты решил, что я учу землемерному делу?
— Из твоих начертаний.
— Но ты бы мог предположить, что я хочу познакомить мальчика, допустим, с устройством знаменитых пирамид, воздвигнутых на берегу Нила в незапамятные времена.
— Пожалуй, — отозвался Никомах.
— Наверное, — продолжил Пифагор, — можно было бы отыскать ещё сотню применений геометрии, науке, которая всем этим занимается. С её помощью мы измеряем землю не шагами, а мыслью, и более того — наша рука, которой водят боги, отражает красоту отпущенной нам жизни, и линии, отрывая нас от земли, ведут к звёздам. Геометрия показывает нам, что миром управляют не бездельники и развратники, какими их изображают поэты, а существа, наделённые высшим интеллектом. Нам надлежит быть похожими на них.
Выручай, Нестис!
На третье утро показались зелёный мыс и гавань, окружённая белыми домами.
— Китион! — воскликнул Пифагор. — Древнейший из городов Кипра! По его имени в древности называли весь остров. Здесь, возвращаясь из Индии, я прожил месяцы зимних бурь и в счастливом времяпрепровождении обрёл друзей, среди них Абибала, человека высокой души. Твоя задача, Залмоксис, — найти дом Абибала. Он сразу за агорой. Стены розового цвета. У входа — изображение корабельного носа с фигуркой пигмея, чёрного человечка. Абибалу уже должно быть известно, что персы объявили войну Кархедону, а возможно, и то, что царь царей намерен послать против кархедонцев самосские корабли. Но он не знает, что на одном из кораблей я. Это ты ему объяснишь.
— А поймёт ли китионец меня?
— Финикийцы и эллины живут на этом острове вместе много поколений. Как давние соседи, они знают язык друг друга. Итак, объясни Абибалу, что я на корабле, и передай следующее: пусть он отыщет кархедонские корабли и сообщит наварху[33], что корабли Самоса, неготовые к бою, направляются в Египет. Захватить невооружённые корабли с людьми, не рвущимися в персидское рабство, и кормчими-финикийцами не составит труда.
— А если Абибала не окажется в городе?
— Молодец! — похвалил Пифагор. — Это не исключено. Тогда ты всё сообщишь сыну Абибала, мальчику твоих лет. Он хромает и в море пока не выходит. Он выполнит моё поручение с помощью кого-либо из братьев Абибала, которые, как и он, занимаются торговлей и тоже владеют керкурами. Ты дождёшься следующей ночи и с берега дашь мне знак факелом, очертив им круг над головой. Я пойму, что поручение выполнено, а если нет, проведёшь прямую линию перед собой. Запомнишь?
— Да, господин. И когда я должен отправляться?
— Сейчас. Кто знает, удастся ли тебе покинуть судно в городе. Ты родился на Гебре и, наверное, хорошо плаваешь?
— Конечно!
— До берега менее двух стадиев. Пока корабли обогнут этот мыс и причалят, ты окажешься уже вон там, у Солёного озера, а оттуда до дома Абибала рукой подать.
Они помолчали.
— Ты, разумеется, мечтаешь вернуться на родину, — проговорил Пифагор. — Согласно распоряжению Поликрата, раб, взятый в качестве воина на корабли, освобождается от власти господина. А я тебя сразу отпускаю с корабля.
Дрожащий голос, которым были произнесены эти слова, не соответствовал их смыслу. Пифагор не отпускал Залмоксиса, а отрывал его от себя. И Залмоксис это понял. Глазами, полными слёз, он смотрел на протянутый ему остракон со знаком пентаграммы.
— Это будет для Абибала знаком того, что он должен о тебе позаботиться. Если встретишь Метеоха, расскажи ему о случившемся, и пусть он поможет тебе добраться до крестонеев. Я буду тебя помнить, Залмоксис, с благодарностью.
— А мне?! Как мне тебя благодарить? — отозвался мальчик. — Мои одноплеменники не только не умеют ни считать, ни писать, но гордятся этим, считая подобные занятия позором. Ты открыл мне мир.
Пифагор обнял Залмоксиса и подтолкнул его к борту.
— Плыви к этому мысу, и ты будешь у Абибала раньше, чем мы причалим.
Залмоксис подошёл к перилам и, воскликнув: «Выручай, Нестис!», соскользнул за борт. Раздался лёгкий всплеск. Следя зато возникающей, то исчезающей рыжей головкой, Пифагор прокручивал в памяти незнакомое ему имя. «Кто бы это мог быть? — думал он. — Бог или богиня? Не от той ли же основы имя Нестор[34]? Или с ним связано название реки Несс[35]?
Наконец голова, мелькнув последний раз, исчезла. Пифагор отвернулся. Ни одно из расставаний после прощания с матерью не было для него тяжелее, чем это.
Леонтион
Решение Пифагора отправить Залмоксиса вплавь оказалось разумным. Едва корабли причалили, откуда-то появились персидские лучники. Они образовали цепь, не пропуская никого на мол и следя за тем, чтобы никто с кораблей не сошёл на берег. Около полудня к «Миносу» приблизился знатный перс. По спущенным сходням он поднялся на борт и был встречен почтительно склонившимся кормчим. Заскрипели ступени лестницы, ведущей на нижнюю палубу. Кажется, они спустились в каюту. Будь на корабле Залмоксис, Пифагору стали бы известны планы персов. Теперь же оставалось ждать и надеяться, что Залмоксис отыщет Абибала и тому хватит времени для выполнения задуманного.
Вскоре после ухода перса у крайнего судна показались четыре раба, груженных бурдюками. Кажется, персы не торопились. И Пифагор подсчитал, что загрузка всех сорока судов займёт конец этого дня и весь следующий. А там, глядишь, выход в море задержит что-нибудь ещё.
До наступления темноты рабы, успев загрузить девять кораблей, удалились. Устроившись у правого борта, Пифагор всматривался в берег. Волнение его возрастало. Абибал, против обыкновения, мог взять сына с собою, ведь хромота не препятствие для моряка. Или персы отобрали у китионцев керкуры — они ведь здесь хозяева. Не сомневался Пифагор лишь в одном: если Абибал на месте, он сделает всё возможное и невозможное для спасения самосцев. Но вот в рощице на значительном расстоянии от мола блеснул факел, и стал явственно виден очерченный им огненный круг. Кровь прилила к лицу Пифагора, и он возблагодарил молитвой бога добрых вестей. Огненный круг повторился. И в это мгновение Пифагор услышал, как рядом по борту от тяжести трётся якорный канат.
Наклонившись, он увидел чёрную голову и быстро скользящие руки. Ладонь, оторвавшись от каната, коснулась рта. Человек перекинул тело через перила, и Пифагор ощутил под ступнями влагу. Лицо юноши было Пифагору незнакомо. Нет, это не был посланец Абибала, как он предположил в первое мгновение.
— Я с соседнего судна, — послышался приглушённый голос. — Моё имя Леонтион. Мы решили связать кормчих и выйти в открытое море, пока на корабли не введены персидские воины.
— Кто это мы? — шёпотом спросил Пифагор.
— Я с «Тесея», — проговорил юноша, глотая слова. — Я уже оплыл два судна, там с нами согласны! Присоединяйтесь! Сегодня или никогда.
— Эта мысль возникала и у меня, — прошептал Пифагор. — Уйти можно было ещё и раньше. Но, взвесив последствия, я отказался от такого замысла. О бегстве известили бы Оройта, и его воины, переправившись, вырезали бы всех наших.
— Но ведь уйдут не все корабли. Неужели из-за трёх-четырёх судов поднимется такой переполох?
— Видимо, ты не знаешь персов. У них действует закон круговой поруки. За побег немногих расплатятся все. Оройту хватило бы и одного скрывшегося корабля — нужен лишь повод, чтобы покончить с ненавистной ему свободой Самоса и очистить остров для персидских переселенцев.
— Что же, по-твоему, мы должны сидеть сложа руки?
Пифагор склонился над юношей:
— Когда ты карабкался по канату, тебе случайно не был виден факел, прочерчивающий круг?
— Видел. Ну и что?
— Это мои друзья дали знак, что хотят нам помочь. Ты ещё успеешь оплыть корабли, на которых побывал, и передать, что имеется другой план, более надёжный и не создающий угрозы Самосу. И передай, что, если появятся чьи-либо корабли, не надо их пугаться. Следует вести себя как людям, захваченным в плен и жаждущим освобождения. А храбрость, достойную твоего имени, тебе, Леонтион, ещё удастся проявить.
Условный знак
На заре, ещё до появления на корабле водоносов, Пифагор прошёл на корму. Кормчий лежал на подстилке у весла с открытыми глазами. Услышав шаги, он поднял голову.
— Тебе чего? — спросил он по-эллински.
— Да вот хочу узнать, сколько дней пути от Китиона до Навкратиса, — ответил Пифагор по-финикийски.
Кормчий повернулся на бок.
— Да ты говоришь по-нашему! Не с Кипра ли?
— Немного говорю, — сказал Пифагор, присаживаясь. — Я, как все, самосец, но в Сидоне и Тире в юности жил почти три года.
— Редко эллины по-нашему изъясняются, если они не с Кипра, — заметил кормчий. — Что касается твоего вопроса, при северном ветре в корму — а другие ветры в эти месяцы здесь не дуют — до Египта от южного берега Кипра не более трёх суток. На вёслах было бы дней шесть тянуть, а то и семь. Но тебе, насколько я понимаю, в Навкратис не к спеху?
— Пожалуй, — отозвался Пифагор. — У нас на Самосе говорят: «Поспешность к лицу только глупцу». Я слышал, что наш крайний срок — полнолуние, а до него ещё десять дней.
На мол в сопровождении воинов вышли водоносы. Кормчий, дав знак своему помощнику спускать трап, стал у мачты рядом с лестницей в трюм. Один за другим носильщики поднимались по дощатым мосткам, пружинившим под их ногами, и с шумом сбрасывали с голых потных плеч свои ноши. Один из бурдюков привлёк внимание Пифагора. На нём охрой был выведен треугольник. В центре его — какая-то фигурка. Наклонившись, Пифагор разглядел медвежонка с уморительной мордочкой.
Волна радости захлестнула Пифагора. Он мог бы запеть, если бы не соседство кормчего.
— Тебя как зовут?
— Мисдес. Тебя же, я знаю, все называют Пифагором. И что ты, Пифагор, думаешь насчёт этого раскрашенного бурдюка?
— Должно быть, кто-то с берега нам знак подаёт. Держитесь, мол. Ждут вас хорошие вести.
— Что ж, будем держаться, хотя времена страшные. Слышал ли ты, что персы в Египте вытворяют? Люди от отчаяния в Ниле топятся. А нашим родичам, картхадаштцам, война из-за собак объявлена. И какое им дело, что кто ест...
— Собака у персов священное животное, — заметил Пифагор. — Ведь они бродячим собакам и птицам с кривыми когтями отдают на съедение своих покойников.
Кормчий всплеснул руками:
— Настоящие дикари! Надо же такое! Телами родителей собак кормить...
Пифагор пожал плечами:
— Таковы их обычаи. И конечно, есть собак, да и не только собак, но и других животных — это варварство, но с ним надо бороться не оружием, а убеждением. Однако довольно об этом. Скажи, Мисдес, когда тиряне отмечают великий праздник Мелькарта?
Финикиец разгладил пальцами морщины на лбу.
— Праздник будет через четыре дня. А что?
— Просто так. Был я в Тире как раз в этот день. Хотелось проверить, не изменила ли мне память. Как сейчас помню. В проливе между Тиром и материком корабли всех основанных Тиром колоний, ночью же в гавани — факельное шествие. Удивительное торжество — единение рождённых от одного корня. Такое же не мешало бы ввести и эллинам.
Абдмелькарт
Полдня корабли шли, не теряя из виду берег, сверкавший подобно створке драгоценной раковины. Кажется, именно здесь родилась Афродита, сделав остров привлекательным для обитателей Азии и Европы, селившихся рядом и сменявших друг друга на протяжении столетий.
«Море, — думал Пифагор, — будучи такой же частью космоса, как земля, небо, ночь, огонь, вобрало в себя все их качества. В нём глубина Неба, непрозрачность Земли, полыхание Огня, прохлада Ночи. Оно — вечное колебание материи. Ведь Посейдон — это бог колебаний. Раскатистый хохот, содрогающийся в схватках земли, грохот туч, разрезаемых зигзагами молний, — это его эхо. Оно — кипящий котёл превращений. Данный живым существам мозг — его слепок. Его размытые, неизведанные дали — память.
Буря — его безумие. Насколько же непохожей кажется его стихия на видимую поверхность земли!»
Как ни пытался Пифагор отвлечь себя размышлениями, волнение не проходило, и он подошёл к кормчему.
— Как бы ты себя повёл, Мисдес, если бы вдруг появилась флотилия Картхадашта?
— С тех пор как у нас на острове обосновались персы, картхадаштцы обходят Кипр стороной. А почему ты спрашиваешь?
— Да ведь из-за них нам приходится плыть в Египет.
— Трудно сказать, — проговорил кормчий не сразу. — Наверное, не стал бы от них бежать. Да и ход у их кораблей быстрее, чем у меня.
К борту «Миноса» приблизилась кархедонская гаула с опущенными вёслами. Между судами образовалась медленно сужающаяся полоска воды. Мисдес перебросил за борт канат, который кархедонцы тут же закрепили. На палубу самояны перешёл муж плотного телосложения в синем одеянии и, внимательно оглядев всех, двинулся к Пифагору.
— Тебя приветствует суффет Абдмелькарт, — представился он. — Я возглавляю посольство, ежегодно отправляемое к нашей матери Тиру с дарами от преданной дочери. Война не могла помешать выполнению священного долга, но для охраны посольского судна выделены эти военные корабли. Поэтому мы и оказались в этих водах. Знал ли ты об этом, отправляя ко мне своего вестника?
— Я был уверен, что посольство должно посетить Тир, и догадывался, что на Кипр, захваченный персами, оно заходить не станет. Таков мой расчёт.
— Не только разумный, но и взаимовыгодный, — подхватил суффет. — Я обещаю сделать всё, чтобы картхадаштцы не рассматривали вас как пленников, а ваши суда как военную добычу.
— Я надеюсь.
— Теперь же я отправлю посольское судно в Тир и буду сопровождать твои корабли до Картхадашта, где на совете будет решаться ваша судьба. Мои корабли пойдут сзади, чтобы вас охранять от всяких неожиданностей.
— Но сначала, видимо, мы зайдём в Кирену, — заметил Пифагор.
— Мы на это рассчитывали, ибо на пути к Тиру всегда останавливались в этом прекрасном городе, отдыхали там и набирали в бурдюки благоуханную воду Кирены. Ныне же, как нам удалось выяснить, царь киренян Аркесилай отдал себя и свой народ Камбизу и платит ему дань.
— А ведь отец этого Аркесилая пользовался у нас на острове гостеприимством. Я видел его мальчиком, и до сих пор на Самосе растёт сильфий, посаженный с его помощью.
— Я этого не знал, — сказал суффет. — Но кто в наше время помнит о благодеяниях, оказанных отцам? Так что нам придётся сделать первую остановку только в нашей гавани близ жертвенника Филенов.
— Филенов? — удивился Пифагор.
— Это братья, наши воины, сражавшиеся с киренцами и павшие в битве с ними, — пояснил суффет. — Мы им поклоняемся и приносим жертвы.
Приблизившись к Пифагору, он добавил:
— Твой посланец Абибал, видимо, из тех людей, кто помнит добро. Он рассказал о тебе много хорошего, и мне думается, что в Картхадаште у нас будет время поговорить по душам.
С этими словами суффет покинул судно. Мисдес принял брошенный ему с палубы канат, и корабли разошлись.
Наедине с собой
Корабли шли в стадии от берега, пышущего жаром, как раскалённая печь. По ночам оттуда доносился рёв зверей.
«Залмоксис мог бы услышать больше», — подумал Пифагор.
Всё чаще мысли его возвращались к дням, проведённым с этим мальчиком, словно бы посланным ему свыше. Порой он видел в нём самого себя, юного, обращённого к загадочному миру. О, как ему хотелось рассказать Залмоксису обо всём, что ему пришлось пережить в годы странствий! Такого желания у него не возникало при общении с кем-либо другим, ибо все они — Метеох, Анакреонт, Эвпалин — были лишены связи с миром, откуда исходят лучи мрака. Конечно же сам Пифагор знал о нём не больше, чем о знойном материке, показывавшем лишь свою прибрежную кромку, но из этого загадочного мира к нему подчас поступали сигналы как видения и сны. Иногда огромным напряжением воли он мог сам посылать такие сигналы — ведь отец воспринял один из них. Теперь же Пифагору казалось, что такое ему, возможно, удастся и с близким по духу Залмоксисом. И он неотступно думал об Индии, оживляя в памяти её природу и лица её людей в надежде, что мальчик услышит его и найдёт возможность повторить его путь.
И вот он уже снова в лесных дебрях, в сплетённом из ветвей и листьев шалаше, и учитель втолковывает ему одну из историй, сочинённых поэтом, имя которого Вальмики — Муравей. И он ощущает причастность к природе, позволяющую ему не только предсказывать землетрясения — этому его учил Ферекид, — но и воспринимать гармонию, возникающую при движении небесных светил.
Картхадашт
Привет тебе, дочь Океана,
Прибежище наше от бурь,
Где в берег оттенка шафрана
Вливается бухты лазурь.
С высот опоясанных Бирсы
На море взирает Танит,
И всех, кто пред нею склонился,
Она от напастей хранит.
Две декады спустя Пифагора как наварха приведённых в город кораблей торжественно принимал Малый совет Картхадашта. За длинным прямоугольным столом — советники, с каждой стороны по четырнадцать. На пальцах, а у кого и в ноздрях — золотые кольца. Двойные подбородки.
Лбы в морщинах, лысины, седины. Умные проницательные глаза, устремлённые к двери из чёрного дерева с рельефно вырезанным знаком хранительницы Совета богини Танит.
Дверь распахивается. На пороге муж в пурпурном одеянии до пят, подпоясанном ремнём из витых золотых нитей. Суффет Абдмелькарт. Рядом с ним чужеземец, совершенный, как изваяние эллинского бога, но в потёртом дорожном гиматии и босиком.
Шарканье ног, вскинутые в приветствии ладони, шелест одежд, удивлённые возгласы. Вошедший подходит к узкой стороне стола и опускается на сиденье со спинкой из слоновой кости. Советники садятся. Пока суффет представлял гостя как человека, оказавшего государству услугу, Пифагор, слушая вполуха, оглядывал лесху, великолепное убранство которой соответствовало славе и могуществу владычицы морей. На стенах поблескивали серебряные чеканные блюда и чаши, пластины, инкрустированные золотом севера — янтарём, ожерелья из драгоценных камней, раковины неведомой формы, шкуры каких-то животных.
— Как видите, — доверительно проговорил суффет, — сегодня со мной нет никого, кто должен переводить речь чужеземца. Он в этом не нуждается, ибо превосходно изъясняется на нашем языке.
Сидящие в зале оживились. Ведь из-за вражды с эллинами Сикелии недавно запрещено изучение и использование в общественных местах эллинского языка. Ловко же удалось суффёту обойти этот запрет.
Абдмелькарт оглядел зал.
— После завершения церемонии, — закончил он, — наш гость собирается обратиться к вам с приветствием. Пока же я передаю слово глашатаю.
Абдмелькарт тяжело опустился на сиденье. Глашатай зачитал проект постановления об объявлении Пифагора, сына Мнесарха, почётным гражданином Картхадашта и вручении в признание его заслуг золотой цепи.
После принятия постановления под одобрение присутствующих суффет надел на шею сидевшего рядом с ним гостя массивную золотую цепь со знаком Танит из янтаря.
Пифагор поднялся.
— Отцы великого города, — начал он, — благодарю вас за оказанный мне почёт. Я воспринимаю эту награду как воспоминание о тех далёких временах, когда ещё не было ни Мидии, ни Персии, когда не существовало вражды между финикийцами и эллинами, когда сидонянин Кадм основал семивратные Фивы, обитатели острова Эвбеи беспрепятственно селились близ Библа, когда в воображении эллинских сказителей океан был рекой, а Внутреннее море заселено Скиллой, Харибдой, сиренами и другими дивами и чудовищами. Открывателями торговли и мореплавания на этом море были ваши предки, отличавшиеся пытливостью ума и предприимчивостью. Это они проложили путь в океан, к землям, богатым драгоценными металлами. Так пусть же золото и серебро не разделяет завистью и враждой тех, кто живёт под одним солнцем, а соединяет их, как братьев, населяющих одну землю, полную ещё загадок и тайн.
Лесха взорвалась рукоплесканиями. Такой речи здесь ещё не произносил никто. Уже входя в зал совета, Пифагор обратил внимание на стену, украшенную цветными камешками, но только выходя он понял, что это начертание владений Кархедона. Синим цветом было обозначено Внутреннее море, голубым — змейки рек, жёлтым — суша, чёрными точками — города. Наряду с ливийским побережьем вырисованы треугольник Сикелии и Ихнуссы в форме следа человеческой ступни. Интерес Пифагора не остался незамеченным.
— В годы составления этого плана, — сказал Абдмелькарт, — когда был ещё жив мой дед, чьё имя я ношу, нам принадлежала большая часть побережий двух великих островов и все окружающие их островки. Тогда, как я слышал, советники проходили мимо этой карты с высоко поднятой головой, а теперь стыдливо прячут глаза. Эллины, основав многочисленные города, загнали нас в западный угол острова. Тесня сикелов, они захватили равнинную его часть, дающую им хлеб и поставляющую рабов.
— Успехи эллинов в этих морях для меня не новость, — проговорил Пифагор. — Но какое мне дело до их завоеваний и богатств. Я вспоминаю медную доску Анаксимандра, дающую поверхностные и неточные представления об ойкумене, и сравниваю её с этим великим творением, позволяющим совершить мысленный облёт островов, увидеть окружающие их островки, вступить в бухты, полюбоваться Этной. Я вовсе не думаю о том, кто сейчас живёт в этих чёрных точках. Я счастлив, что мне, первому из эллинов, привелось увидеть это чудо. Любое открытие, кому бы оно ни принадлежало — эллину, вавилонянину, египтянину или финикийцу, — рано или поздно станет всеобщим достоянием. И я это понял ещё раньше, во время странствий по миру. Многое разделяет смертных, которые его населяют, делая их врагами, — боги, языки, предрассудки. Познание мира, в котором мы живём, будет способствовать объединению народов и прекращению вражды между ними.
— Прекрасная мысль! — отозвался Абдмелькарт. — Но человечество для мира не созрело, и я не уверен, что люди когда-нибудь её воспримут.
Собрание
Приближаясь к торговой гавани, Пифагор услышал шум голосов. У борта «Миноса» теснились люди в эллинских одеяниях. Мелькнули знакомые лица. Самосцы явно поджидали его. «Конечно же, — подумал он, — давно мне пора встретиться с согражданами, не догадывающимися ни о моих планах, ни о препятствиях, стоящих на пути. Да и мне неизвестно, что их волнует, к чему они стремятся».
— Выделите представителей! — прокричал Пифагор, пробиваясь к сходням. — Нам есть о чём поговорить.
И вот представители кораблей устроились на палубе и даже на канатах и перилах. Подождав, пока смолкнет гомон, Пифагор сказал:
— Нет смысла выслушивать ваши вопросы и недоумения. Я их понимаю. Ответить на главный из них — куда мы направляемся, — не смогу: он как раз сейчас решается на совете кархедонцев. Помолимся нашей Гере-заступнице, чтобы решение оказалось для нас благоприятным.
Обведя собрание взглядом, Пифагор продолжал:
— Рассмотрим положение, в котором мы оказались. По закону войны мы — пленники Кархедона. Декаду назад мы были воинами и гребцами флота царя царей Камбиза, а ещё ранее — самосцами, которых Поликрат принёс в жертву ради спасения острова от разграбления и сохранения единоличной власти. Кархедонцы могут отнять эти корабли, а нас сделать рабами. У меня есть некоторые основания надеяться, что этого не произойдёт и нам будет разрешено выйти в открытое море. Поэтому уже сейчас надо подумать о том, кому принадлежат вот эти корабли, на которых нас отправили в египетское рабство.
— Конечно, нам! — послышался возглас. — Ведь Поликрат, посылая корабли Камбизу, от них отказался, а Камбиз кораблей не получил.
По голосу Пифагор узнал в говорившем храбреца, на Кипре едва не разрушившего его планов.
— Ты прав, Леонтион, — согласился он. — Поликрат потерял право на эти суда, а Камбиз его не приобрёл. Но это не значит, что корабли принадлежат только нам. Это собственность всех самосцев — и тех, кто остался на Самосе, и тех, кто его покинул, опасаясь преследований. И если мы не хотим нарушить божественных и человеческих законов, следует вернуть корабли тем, на чьи средства они строились. Разумней всего привести их на Пелопоннес, где находятся наши изгнанники.
— А кому нужны эти корабли пустыми? — возразил юноша. — Ведь мы оказались в морях, через которые самосец Колей проложил путь в Тартесс. Почему бы нам не направиться к океану и не возвратиться, как он, с серебряными якорями?
— Правильно! Правильно! — раздались голоса.
Пифагор поднял руку:
— Бесспорно, вернуться с серебром лучше, чем с пустыми руками. Но в Элладу уже более ста лет никто не возвращался с якорными камнями из серебра. Морями, по которым когда-то так свободно плавали наши предки, ныне владеют кархедонцы, и, поверь, они выпустят нас отсюда, лишь будучи уверены, что мы поплывём не на запад, а на восток.
Собрание неодобрительно зашумело. Но тут на канаты поднялся человек лет сорока.
— Можно, я скажу? — обратился он к Пифагору и, не дожидаясь ответа, быстро заговорил:
— Вы знаете меня. Моё имя Никомах. Я родом из Посидонии[36]. Я бывал по торговым делам и здесь. Мне известно, что даже своих союзников — тирренов кархедонцы не пускают по побережью Ливии западнее Прекрасного Мыса и топят их корабли, если кормчие не докажут, что они занесены туда бурей. Стоящая у Геракловых столпов кархедонская эскадра пострашнее трёхглавого Гериона[37], которого силой и хитростью одолел Геракл.
— Поймите же, — заключил Пифагор, — у нас нет иного пути, кроме возвращения в Эгеиду, и мы должны быть счастливы, если нам разрешат это сделать. Вы сейчас разойдётесь по кораблям и обсудите сказанное у себя. Заодно изберите триерархов, чтобы на следующей экклесии[38] они выражали мнение не только своё, но и всей судовой команды.
Бирса
Пифагор и суффет шли вымощенной каменными плитами улицей между шестиэтажными громадами домов. Навстречу, заполняя всё пространство, двигалась толпа. Белые, смуглые, чёрные лица. Невиданные одеяния. Смешение языков.
— Вавилон Ливии! — вырвалось у Пифагора. — Конечно же я много слышал о Картхадаште, но увиденное превосходит воображение. Не только мой Самос, но самый крупный из ионийских городов Милет по сравнению с твоей родиной — захолустье. И представь себе, мне ничего не известно о начале этого великого города, кроме, пожалуй, того, что его метрополия — окаймлённый водами Тир.
— Если ты ждёшь увлекательного рассказа, должен тебя разочаровать, — начал Абдмелькарт. — В летописях Тира сообщается о шестидесяти гаулах, посланных для основания колонии у выхода Внутреннего моря в океан. Путь в океан некоторым из покинувших родину показался слишком утомительным. Среди них были и мои предки Баркиды. Место, что они выбрали для посадки, привлекло их бухтой и вот этим ныне застроенным домами холмом. Так в один год возникло два города: у выхода в океан — Гадес, а здесь — Бирса. Вместо одной дочери у Тира оказалось сразу две, ревнивые и жадные к славе и богатству. Одна, та, что у уст океана, мнит его своим законным супругом, но он, неверный, открыл свои богатства и другой, и стала она через двести лет от основания Бирсы больше и богаче своей матери Тира и приняла новое название — Картхадашт. Именно от этого времени у нас ведётся отсчёт лет жизни нашего города, ибо Бирса, к которой мы подходим, была вовсе не городом, а только лишь крепостью. Конечно, наши недруги, сицилийские эллины, рассказывают об основании нашего города по-другому. По их словам, основательницей нашего города была преступница Дидона, обокравшая царя Тира, своего брата, и отправившаяся на чужбину из страха перед наказанием. Здесь она будто бы обманула местного вождя, уговорив его продать клочок земли размером с бычью шкуру. Разрезав её на ремни, беглянка захватила всю эту землю до моря. И скажи, на кого рассчитана эта басня?
— На того, кто не знает эллинского и финикийского языков, — отозвался Пифагор, — ибо ему не ясно, что на твоём языке Бирса — крепость, а на нашем — шкура. Вообще же басни — злой рок, висящий над прошлым всех великих народов. И творят их все кому не лень — и друзья, и враги. Выдумка с Бирсой, пожалуй, самая безобидная из них.
С плоской кровли храма Баал-Хаммона открывался вид на занятый Кархедоном полуостров. Стена обегала всё его огромное пространство, то спускаясь в низину, то взбираясь на холмы. Сверху она казалась змеящейся дорогой, столь же широкой, как улица, по которой они недавно шли. В лучах утреннего солнца блестели окаймлённые зеленью черепичные кровли Магары, городского района, населённого знатью и богатыми судовладельцами. За заполненным человеческими фигурками квадратом агоры тянулась ещё одна стена, а за нею открывалась словно бы проведённая циркулем голубая окружность военной гавани с маленьким островком в центре. Корабли не были видны, но можно было догадаться, что они под кровлей обнимавших искусственное озеро доков. Узкий проход соединял внутреннюю гавань с треугольником внешней.
— Вот твои корабли, — сказал Абдмелькарт. — Знал бы ты, какой из-за них пришлось выдержать бой. Я его выиграл. Ты сможешь покинуть город. Путь твой будет проходить вдоль западного побережья Сикелии, чтобы твоим планам не смогли помешать наши соперники.
— Неужели они существуют? — спросил Пифагор.
— Наш город может показаться неодолимым только чужестранцу с высоты Бирсы, — улыбнулся суффет. — Ведь наше сухопутное войско состоит из наёмников, содержание которых для нас обременительно, а управление требует высочайшего, доступного немногим искусства. Мы можем положиться только на корабли. Так что в этом плавании тебе не увидеть ни Акраганта, ни Сиракуз.
Абдмелькарт шлёпнул себя по лбу.
— Совсем забыл! Подойдём поближе к храму.
Они остановились у медной фигуры огромного быка с наклонённой головой, словно готового броситься на первого встречного.
— Я не знал, что кархедонцы почитают быка, — сказал Пифагор.
— Это чудовище мы захватили при взятии Акраганта.
— Почему чудовище?
— Таковым сделал его Фаларид.
— Это, кажется, правитель Акраганта? — вспомнил Пифагор.
Суффет наклонился и показал на брюхе быка крышку с запором.
— Сюда, — продолжил он, — Фаларид загонял свои жертвы и разжигал под брюхом костёр. Вопли несчастных в раскалённой меди слышались мычанием. Вот те, кто обвиняет нас в жестокости. Не подумай, что моими устами говорит зависть к удачливому сопернику. Твои корабли до Эрика поведёт один из местных жителей Сикелии — Дукетий. Побеседуй с ним, и ты узнаешь, как эллины обращаются с другими народами. Вслед за Регием, куда тебя доставит Дукетий, ты можешь остановиться в любом из эллинских городов южного побережья Тиррении — в Кротоне, Сибарисе, Таранте, Метапонте, а оттуда, если пожелаешь, продолжить свой путь куда угодно.
— Я понимаю твоё беспокойство, Абдмелькарт, — сказал Пифагор. — И я согласен с решением Совета. Наши корабли не дадут никому опасного перевеса над вашим флотом. Более того, я могу тебе твёрдо обещать, что ни сейчас, ни в будущем не стану поддерживать твоих недругов.
— Я счастлив, что отразил грозившую тебе опасность, — проговорил суффет. — Мои предки, нарушив данное им предписание о месте основания колонии, оказались у истоков вражды финикийцев и эллинов. Я хочу исправить эту оплошность. Наше будущее не на берегах этого большого озера, какое мы называем морем, а в океане, где имеется множество побережий и островов, полных сокровищ.
Глаза Пифагора загорелись.
— Я видел океан с берегов Индии и понимаю, о чём ты говоришь.
— Ты был в Индии?! — воскликнул Абдмелькарт. — Тебе известен путь в страну, дающую нам слонов?! Ты великий мореплаватель?
— О нет. Я простой пешеход. Мореплавателем я стал лишь на сороковом году жизни, когда над моей родиной нависла беда. Меня не интересовали золото и драгоценные камни Индии. Меня привлекла древняя мудрость. Она движет мною и теперь. Она ищет выхода, чтобы не замкнуться в себе. Она ненасытна.
— Ты употребил слово «ненасытна». Ненасытен не только дух. Почему бы нам не продолжить наш разговор за трапезой? Обещаю тебе — собачины не будет.
— Надеюсь, что также телятины, баранины и свинины, — добавил Пифагор.
— Как?! — воскликнул суффет. — Ты вообще не употребляешь мяса?
— Камбиз объявил вам войну из-за собак. Мне бы его власть... Я бы ополчился против всех, кто питается теми, в ком бессмертная душа.
Суффет с удивлением взглянул на своего спутника, видимо желая возразить, но, в последнее мгновение поняв, что Пифагор шутит, только улыбнулся.
Яблоко Пифагора
Запряжём мы все ветры в морские свои колесницы
Из ливанского кедра и тонкого нильского льна,
Океанские зори нам однажды раскроют ресницы,
И у Южного Рога на гребень поднимет волна.
— Ну как? — спросил Абдмелькарт, показывая на накрытый овощами и фруктами стол. — Это, надеюсь, тебя устроит?
— Я не ем ничего, в чём есть или была душа, и радуюсь изобилию плодов Семлы.
— Первый раз слышу это имя, — признался Абдмелькарт.
— У фракийцев оно обозначает и почву, и весь наш мир. Родственные фракийцам фригийцы, обитающие напротив нашего Самоса, Семлу называют Семелой и почитают как великое божество, мать Диониса.
— Может быть, ты всё же вкусишь какой-либо из даров этой Семлы, или Семелы? — предложил суффет.
Пифагор потянулся к серебряному блюду с яблоками и взял самое крупное, но, к удивлению Абдмелькарта, не поднёс его ко рту, а стал ловко вертеть пальцами.
— Этот плод евреи, страну которых я посетил по пути из Тира в Вавилон, признают первым, который вкусила женщина, сотворённая из бедра первого мужа. Нелепая басня. Мужское и женское изначальны, как мгла и свет. Я же хочу обратить внимание на форму этого плода. По закону подобия такую же форму должен иметь мир, в котором мы живём.
— Но ведь считают, что Земля — диск.
— Как я имел возможность убедиться, о форме Земли и о том, какие силы поддерживают её в пространстве, нет единого мнения. В Индии полагают, что плоская Земля покоится на слонах. В дни, когда мой отец был ещё мальчиком, египетский фараон Нехо, которого, кажется, мучил тот же вопрос, что и нас с тобой, приказал финикийцам, своим подданным, оплыть Ливию.
— Да-да, мне известно об этом великом плавании наших предков, славу которого присвоил себе фараон с этим именем, — вставил Абдмелькарт.
— В Тире, — продолжил Пифагор, — мне показали отчёт мореплавателей, и я обратил внимание на то, что, плывя на юг, они достигли выжженной солнцем земли, южнее которой становилось всё прохладнее и прохладнее. Это позволило мне составить мнение о форме Земли.
Пифагор пододвинул к себе светильник и поднёс к нему яблоко.
— Представь себе, что светильник — Солнце, а яблоко в моей руке — наша Земля. Солнечные лучи падают на выпуклую часть. — Он провёл ногтем полоску. — Вот здесь — невыносимая жара. А здесь, по обе стороны полосы, — прохладнее и прохладнее. А здесь...
— Здесь сплошной лёд! — вставил суффет.
— Как ты догадался?!
— Не догадался, а знаю от застрявшего в этих льдах нашего наварха Гимилькона, моего родственника. Однажды по пути к острову, населённому кельтами, ураганный ветер занёс его гаулу в край вечного холода. Судно вмёрзло в лёд, и во мраке вокруг него с рёвом ходили медведи цвета того же льда.
— Белые медведи! — воскликнул Пифагор. — Наверное, отважный наварх, о котором ты говоришь, направлялся на остров к западу от Европы. В донесении нашего морехода Колея он назван Оловянным. А вот есть ли океанские острова к западу от Ливии?
Абдмелькарт задумался.
— Не буду говорить с чужих слов! Три дня назад возвратился из плавания мой сын.
Суффет хлопнул в ладоши. Появившийся почти мгновенно слуга был послан за юношей. Пока его искали, суффет успел рассказать Пифагору о кораблях с переселенцами, которым предстояло обосноваться на океанском побережье Ливии, против Гадеса.
Сын суффета оказался худощавым юношей лет тридцати со светлыми вьющимися волосами и голубыми глазами, более похожим на эллина, чем на финикийца.
— Ганнон! — обратился Абдмелькарт к сыну. — Мой друг Пифагор интересуется океанским побережьем Ливии и островами к западу от него. Если я не ошибаюсь, мне кажется, какой-то остров за последнее время был там открыт.
— Гадесцы давно знали об этом острове, — отозвался Ганнон. — Прошёл слух, будто года три назад туда был занесён бурей тирренский корабль. Проверяя это, я побывал в Тиррении и побеседовал с кормчим. Он мне сообщил, что остров расположен в четырёх днях плавания от Ливии и что на нём имеются судоходные реки и роскошные леса, могущие прокормить своими плодами большое войско. После высадки колонистов я надеюсь побывать на этом острове, а также совершить плавание к Южному Рогу, к могучей реке, которая, как говорят, полна крокодилами.
— Не от этой ли реки отходит Нил? — поинтересовался Пифагор.
— О землях и народах к югу от великой пустыни нам известно лишь от чернокожих рабов, которые попадают на наш рынок. И я вряд ли смогу проверить верность полученных от них сведений. Моя задача — очертить линию океанского побережья материка с бухтами, мысами и реками и дать его описание для будущих мореходов.
— И тогда, — вставил Пифагор, — вместо чертежа центральной части Внутреннего моря на стене, что в здании вашего Совета, появится чертёж океанского побережья Ливии?
— При этом заселённого нашими поселенцами! — воскликнул Абдмелькарт. — Довольно нам квакать вокруг этой лужи, подобно лягушкам! Нас ждёт океан. Мы направим туда наши морские колесницы и запряжём в них океанские ветры. Мы достигнем Южного Рога и вдоль южного побережья Азии двинемся к Индии, стране сокровищ.
Пифагор поднял яблоко.
— Или воспользуетесь более коротким, западным путём в эту страну чудес, где мне посчастливилось побывать, — путём, которым не плавал ещё никто, и тогда вы убедитесь сами и сможете сказать остальным, что Земля имеет форму шара, совершеннейшую из форм.
Отец и сын обратили на яблоко заворожённые взгляды.
— Может быть, нам удастся сделать и это, — проговорил Абдмелькарт после долгой паузы. — И если вдруг между Ливией и Индией окажется какой-нибудь неведомый материк или остров, мы назовём его Пифагореей.
Дукетий
Трое суток попутный ливийский ветер без устали гнал обретшие свободу корабли. На палубах вовсю шла игра. Потрескивание парусов дополнялось стуком костей и азартными выкриками. Кто-то изготовил крюк и поймал на кусок прогнившего мяса жадную морскую лисицу. Её долго тянули за кормой, а затем искусно вытащили на палубу и под радостные вопли прикончили. Забавы прекращались лишь с появлением встречных кораблей. Тогда все сбегались на один из бортов и пялились на проходящих, как на невидаль.
Чего только не везли в Кархедон — и рыжеволосых, скованных по двое рабов, видимо кельтов, и необструганные брёвна, и слитки меди. На второй день плавания обогнали корабль с железными клетками на палубе. В них перевозили зверей Ливии. Особенно самосцев поразил страус, о котором они много слышали, но увидели впервые. Никомах уверял, что зверей везут на продажу к тирренам, которые, по его словам, держат их в огороженных местах в своих поместьях, а в городах показывают охочей до зрелищ толпе.
Кормчий, коренастый великан с тяжёлым взглядом, вёл самосскую флотилию древней морской дорогой.
«И что нас ждёт впереди? — думал Пифагор, засыпая. — Встретятся ли на пути сирены, или лестригоны, или обойдётся без приключений? В это время года Посейдон милостив. Но удастся ли избежать встречи с сикелийскими эллинами? Ведь в Кархедоне могли быть их лазутчики, а невооружённые корабли для них желанная и лёгкая добыча».
На заре до Пифагора донеслись звуки оживлённой речи. Кормчий, беседовавший со своим юным помощником, не выглядел столь суровым и недоброжелательным, каким он показался Пифагору на первый взгляд. Имя Дукетий, сообщённое ещё Абдмелькартом, не было финикийским, как и облик кормчего. Непонятна была и речь. Впрочем, некоторые её слова по звучанию напоминали ионийские, и одно из них, с которым младший обращался к старшему, — «патя» — было понятно: «отец».
Подойдя ближе, Пифагор обратился к кормчему по-финикийски:
— Не прими, Дукетий, моё любопытство за назойливость. Меня заинтересовало, на каком языке ты говоришь с сыном.
— На сикелском, — пояснил кормчий, скосив взгляд на Пифагора. — Ты, наверное, слышал о моём народе.
— Конечно, — отозвался Пифагор. — О сикелах мельком вспоминал наш певец Гомер, рассказывая о плаваниях в этих местах своего героя Одиссея.
— А как ты догадался, что у второго весла мой сын? — перебил сикел. — Ведь он весь в мать, да будут к ней милостивы подземные боги. Туя была шарданкой...
При этих словах глаза Пифагора застлал туман. День сменился ночью. На берегу близ дуба пылал раздуваемый ветром костёр. Голос Дукетия стал затихать, и его заменил другой, уводивший в прошлое. Затем выплыло и лицо Анкея. Праотец вспоминал о своей юности.
— Так мы вошли в устье великой реки и всю ночь плыли против её течения. На заре нас встретили туземцы на барках из папируса. Вперёд рванулся корабль шарданов, на котором были также сикелы. Я — вслед за ним. Завязался бой. В нас летели тысячи стрел. Одна угодила мне в плечо. Вытащив наконечник, я оглянулся и увидел, что следовавшие за нами карийцы и ахейцы обратились в постыдное бегство...
Когда посветлело, выплыло напуганное лицо кормчего, и Пифагор услышал:
— Вот ты и ожил. Только я тебе начал рассказывать про странствия родичей моей жены, вижу, ты глядишь сквозь меня, вроде бы заснув с открытыми глазами.
— Да. Мне, кажется, что-то пригрезилось, — ответил Пифагор, проводя ладонью по лбу. — Я словно перенёсся в то время, когда лелеги, мои предки, совершали вместе с сикелами поход на Египет. Это было тогда, когда эллинами себя называло крошечное племя, жившее в горах, а все острова, большие и малые, принадлежали нам, народам древнего корня, — карийцам, шарданам, тирренам, лелегам, пеласгам. По матери я не иониец, а лелег с острова близ материка, западной частью которого владеет сейчас царь персов. Но ты о чём-то меня спросил?
— Как ты узнал, что это мой сын?
— По одному произнесённому тобою слову. Я, в отличие от остальных эллинов, не интересующихся чужими языками и называющих всех, кто не говорит по-эллински, варварами, пытаюсь увидеть в каждом из языков тропу, ведущую в прошлое, когда мир был иным, чем ныне.
Юноша, как заметил Пифагор, не отрываясь смотрел на него, машинально двигая веслом.
— Ты меня не познакомил с сыном, — обратился Пифагор к кормчему.
— Это мой младший, Тилар, — сказал Дукетий. — Он знает язык эллинов и читать по-эллински умеет. А старший у меня воин.
— Мне показалось, Тилар, что тебя заинтересовали мои мысли, — обратился Пифагор к юноше.
— Ещё бы! — заговорил юноша. — Меня тоже влечёт старина. Но из наших песен не узнаешь о плаваниях древних народов. Они прославляют Адрана, в честь которого дали имя моему брату, наших покровителей паликов, прозорливого царя Кокала. Эллины, поселившиеся у нас в Энне, называют Адрана по-своему, Аресом, а паликов — Диоскурами. Картхадаштцы же именуют Адрана Мелькартом. А о Кокале, стремясь присвоить нашу славу, эллины присочинили, будто бы у него нашёл убежище человек, прилетевший с какого-то далёкого острова и создавший для него много полезного — неприступную столицу, лечебные паровые бани в подземной пещере и много другого.
— Не мешало бы нам, сикелам, объединиться, — вмешался Дукетий, — и с помощью Адрана прогнать с острова эллинов. Ведь когда-то славный царь Кокал правил всей Сикелией... Но вот, смотри, показался Эрик.
Пифагор повернул голову.
Прямо впереди на фоне неба вырисовывался конус зелёной горы со срезанной верхушкой. Она возвышалась над уходящим к востоку плоским побережьем.
— Эрик. Один из трёх мысов нашего острова, — пояснил Дукетий. — Здесь мы наберём воду и отдохнём.
— Можно, отец, я покажу Пифагору эти места? — спросил Тилар.
— Конечно же, — сказал Дукетий, улыбаясь. — Поведи его на гору. Жаль, что она не так высока, как Этна. Далеко с неё не увидишь.
Эрик
Небольшая гавань не без труда вместила самосскую флотилию. Пока самосцы, высыпав на берег, радовались возможности размяться, Пифагор в сопровождении Тилара поднимался на вершину горы, к городку элимов, расположенному на северном её склоне.
До этого дня Пифагор был уверен, что Сикелия до финикийцев и эллинов была заселена племенами сиканов и сикелов. Об элимах он никогда не слышал.
— Элимы занимают всё западное побережье, — объяснял юноша. — Мы переселились на остров, занятый сиканами, из Тиррении, они же гордятся, что переправились сюда на кораблях под водительством своего родича троянца Энея. Будто бы здесь он похоронил своего отца Анхиза.
«Какая странная фантазия, — подумал Пифагор. — Самозванство целого народа. Наверное, эти элимы услышали легенды от местных эллинов и им полюбилось имя троянцев или они сочли выгодным иметь знаменитую родню, чтобы не сгинуть в безвестности?»
Тропинка, выведя на плоскую вершину Эрика, незаметно перешла в хорошо утоптанную дорогу. По её обочинам среди зелени виднелись плиты с рельефным изображением полумесяца и финикийскими надписями. Наклонившись над одной из них, Пифагор прочитал: «Украшение Ваала».
— Как это понять? — обратился он к юноше.
— Это титул владычицы Танит, к её храму нас выведет эта дорога.
— Элимы почитают картхадаштскую богиню? — удивился Пифагор.
— Они почитают Геракла, полагая, что он здесь побывал и одолел их героя Эрика, пытавшегося похитить быка из его стада. Хотя откуда бы здесь оказаться Гераклу? На самом деле они называют Гераклом картхадаштского бога Мелькарта, который своими лучами указывает кораблям путь в океан. Но вот и храм Танит, главной богини элимов. В день великого её праздника отсюда в Картхадашт летит стая посвящённых владычице голубей и возвращается назад. Видишь, над кровлей вьются голуби?
— Как прекрасно расположение этого святилища! — восхитился Пифагор. — Над морем, между двумя материками. Но ещё прекраснее то, что птицы становятся вестниками Танит, а не приносятся ей в жертву.
Тилар едва заметно вздрогнул. Взглянув юноше в глаза, Пифагор уловил его мысль.
— Идём отсюда, Тилар, — проговорил Пифагор, отвернувшись. — Сквозь вонь помёта пробился запах крови, нет, не голубиной. Элимы, как и картхадаштцы, оскверняют близкие к богам высоты человеческими жертвоприношениями.
Спустившись к гавани, Пифагор увидел бегущего навстречу Никомаха и по выражению его лица понял, что произошло что-то неприятное.
— «Тесей» вышел в открытое море, — взволнованно проговорил Никомах. — Мы кричали ему вслед, но с борта никто не откликнулся.
«Этот упрямец Леонтион решил испытать удачу, — подумал Пифагор. — Кажется, для нас это не будет иметь последствий, но что придётся испытать ему и тем, кто с ним...»
Блуждающие огни
Быстро стемнело. Но Гипнос не приходил. И вот взору открылось сказочное зрелище. Слева и справа от судна прыгали, куда-то проваливались и вновь появлялись огни. Самосцы, прижавшись к перилам, силились понять, что это такое.
— Охота на тунцов, — пояснил Дукетий. — Выходят в море на лодках. Два гребца, факельщик на корме, а на носу гарпунщик. Когда набегает волна, огонь не виден.
— А в наших водах тунцов нет, — заметил один из самосцев. — Я только слышал о том, что у них сладкое мясо.
— У тунцов, как у перелётных птиц, свои пути, — продолжил Дукетий. — Известны они не только рыбакам, но и рыбам мечам. Они-то и преследуют тунцов, несущихся как бешеные. В сети их не поймаешь — прорвут. А бить с лодки большая сноровка нужна. Слишком сильно кинешь — сорвёшься в воду. Попадёшь — рыба лодку потащит, пока не устанет. Встречаются особи весом в десять и даже более талантов. Присоленных тунцов в Сибарис на продажу везут — сибариты обычной рыбы не едят. Только тунца и антанею, рыбину, которая водится в Понте Эвксинском.
Блуждающие огни остались за кормой. Впереди загорелось зарево.
— Здесь конец огненной реки, тянувшейся до Этны, — проговорил Дукетий.
Удивившись этой фантазии, Пифагор спросил:
— А как ты мыслишь реку, соединяющую две огнедышащих горы?
— Я над этим не задумывался, ибо это не моя мысль, а эллина, которого я слышал на агоре в Посидонии. И он ещё рассказывал басню, будто на острове обитает старец, у которого в пещере, как узники, заточены ветры.
Пифагор понял, что так запомнился сикелу рассказ Гомера о старце Эоле, вручившем Одиссею кожаный мешок с враждебными ветрами, выпущенными по оплошности его спутниками, которые решили, что в мешке серебро. «Интересно, — подумал он, — откуда Гомер узнал о Липаре — от ионийских моряков или заплывавших в Ионию финикийцев? И почему они не рассказали ему об Этне? Он в этих морях, как и почти во всём другом, — слепец».
— И пламя горит здесь всегда? — поинтересовался Пифагор.
— Сколько бы я ни проплывал, оно горело, но я слышал, что огонь исчезал на шестнадцать лет, а на семнадцатый вернулся.
— А живут ли на этих островках люди? — спросил Пифагор.
— В старые времена острова были, как мне рассказывал дед, необитаемыми. А вот лет тридцать назад на нашу голову здесь обосновались какие-то бродяги.
— Бродяги?
— Да, люди без рода и племени. Вот навстречу керкур плывёт. Побеседуй с кормчим.
Через некоторое время с бортом «Миноса» поравнялось судёнышко.
— Эй! — крикнул человек с профилем хищной птицы. — Женщин на продажу нет?
— Сами их два месяца не видели.
Керкур отошёл в сторону.
— Они не имеют семей, — проговорил Дукетий, — и потому у них всё общее. По очереди одни землю обрабатывают, другие — по морю шныряют. Живут как во времена Сатре.
Поймав недоумённый взгляд Пифагора, сикел продолжил:
— Сатре — бог наш. Есть предание, что при нём у людей было всё общее. Не было ни господ, ни рабов. Одним словом, золотой век.
«Одинокий островок, где всё общее, — думал Пифагор. — А школа, цель которой познание, не должна ли быть таким же островком? Островком разума в мире безумия. Одиночеством мужчин, объявивших войну накопительству и наслаждениям. Но для них должны существовать строгие правила. Конечно, возможны такие же женские островки со своими правилами. Тот, кто придумал одногрудых амазонок, это понимал. Итак, островок и устав для его обитателей».
Пролив
Пламя Липары недолго занимало воображение самосцев. Усталость взяла своё. В храп вплелись шорохи и вздохи моря. Пифагор лежал с открытыми глазами.
«Видимо, скоро пролив, — думал он. — Куда же направил Леонтион судно? Ведь он мог поплыть к Ихнуссе или обойти Сикелию с юга».
Задремав ненадолго, Пифагор проснулся на заре посвежевший. Гелиос, пробившись сквозь туман, вычерчивал справа по борту мыс, над которым кружилась стая чаек. Волны стали бить сильнее, но вскоре успокоились.
— Оставь свои волнения, — послышался голос Дукетия. — Пролив не опасен.
— Я плохо себе представляю, где мы находимся, куда плывём. Вот это меня и тревожит.
Сикел, придерживая кормило правой рукой, отступил на шаг.
— Полуостров, — начал он, — лежит между двух морей, будучи обращён носком на Запад.
— Носком? — удивился Пифагор.
Дукетий картинно выставил вперёд правую ногу, словно бы собираясь вступить в пляс.
— Смотри. Вот форма полуострова, нависшего над Сикелией. Несколько загнутый носок педила, готовый её поддать, это и есть Регий, отделённый от Сикелии узким пространством пролива.
— Очень наглядно! — восхитился Пифагор. — Можно обойтись без чертежа Земли, созданного Анаксимандром. Я припоминаю, что на нём очертание полуострова именно таково, как ты показываешь.
Опустив ногу, Дукетий продолжал:
— Мыс, который сейчас будет справа от нас, — крайняя оконечность нашего острова. Здесь раскинулся эллинский город Занкла, соперник Сиракуз. Поэтому пролив закрыт для сиракузян. Тирренские корабли стоят в Регии и Занкле, пропуская в пролив только торговые суда, а из военных лишь картхадаштские как союзные. Чтобы твои корабли не пустили ко дну, нам предстоит остановиться в Регии на несколько дней. Объяснение с тирренским навархом я возьму на себя. Заодно пополним запасы воды.
Вскоре судно вступило в пролив, куда Гомер поместил чудовищных Скиллу и Харибду.
«Вопреки его болтовне, — подумал Пифагор, — здесь ничто не препятствует мореплаванию. Сам же пролив немногим более широк, чем тот, что отделяет наш Самос от Микале».
Дукетий направил судно влево, и вот уже стали видны жавшиеся друг к другу домики. Их стадо подступало к вершине холма, занятого, судя по колоннаде, храмом. Дукетий подвёл судно к сторожевой башне и что-то крикнул на своём языке вышедшему на площадку воину. И почти сразу заскрипела державшаяся на поплавках железная цепь. Вход в бухту был открыт.
Ксенофан
И вот корабли один за другим прошли в гавань и в том же порядке заполнили линию мола, где теснилось несколько рыбачьих судёнышек.
Тилар начал утро с хождения на руках и, к восторгу самосцев, так обошёл всю палубу. Потом он приблизился к Пифагору, и тот, похвалив его, начал рассказывать о своём учителе Ферекиде.
И вдруг с мола, к которому был пришвартован «Минос», по сходням взбежал незнакомец. Тёмный загар его лица подчёркивался курчавой белизной бороды. Не представившись, он заговорил срывающимся голосом:
— Увидел я с мола сначала болтающиеся ноги, а затем услышал ионийскую речь. И не просто речь, а беседу, подобную тем, какие вёл со мною незабвенный Анаксимандр.
— Ты его ученик? — обрадовался Пифагор. — Вот неожиданность! Ты знал Анаксимандра?!
Незнакомец гордо выпрямился.
— Да! И это единственное достояние, которым меня наградило отечество. Давай познакомимся. Ксенофан из города, погубленного роскошью.
— Из Сард? — удивился Пифагор. — Но ведь ты эллин.
— О нет, не из Сард, а из Колофона, заболевшего лидийским недугом. Об этом моя элегия:
Роскошью заражены бесполезной лидийской, В годы, когда ещё тирании не знали, На агору, кичась, несли аромат благовоний, Пурпура блеск, великолепье причёсок.— Вот что! Ты ещё и поэт?! А я с родины Асия! Перед тобою Пифагор.
— О, ты самосец! — воскликнул Ксенофан. — А ведь я несколько лет назад посетил твой остров, побывал в Герайоне, насладился зрелищем пробитой горы, обошёл ваш акрополь, а внутрь меня не пустили. Уплыл, разобиженный. Значит, и до вас наша общая беда докатилась. Хотите построить новый Самос? А ты, судя по всему, ойкист[39]?
— Нет, Ксенофан, мы беглецы и, так же как ты, не можем вернуться на родину и даже не знаем, что с нею. А ты откуда и куда держишь путь?
— Лет десять я жил в Занкле по ту сторону пролива. А потом меня лишили гражданства. Собираюсь обосноваться неподалёку. Городок тут есть. Ранее Гиелой назывался, а когда фокейцы в нём поселились — Элеей. Фокейцы, как всем известно, народ торговый, дерзкий, неугомонный. Надеюсь, их мои воззрения не напугают.
— Давай спустимся на берег, — предложил Пифагор.
Некоторое время они шли молча мимо самосских кораблей, лениво покачивавшихся на волнах.
— После бегства из Колофона я много странствовал, — начал Ксенофан первым.
— И где же ты побывал? — спросил Пифагор.
— Первой страной, какую я посетил, был Египет, — продолжил он. — Я поднялся по великому Нилу до порогов Слоновьего острова. В Мемфисе я видел, как египтяне оплакивают бога, и сказал им: «Если вы считаете оплакиваемого богом, зачем же его оплакивать?» Меня едва не побили камнями. Эта древняя страна поражена суевериями. Кому только не поклоняются египтяне, кому не приносят жертв! Да и мы, эллины, недалеко ушли от них. Я отрицаю богов Гомера и Гесиода, сладострастных, лукавых, лживых, как люди, творящие их по своему ничтожному подобию.
— Не эти ли воззрения заставили тебя покинуть Тринакрию?
— О нет! У них в почёте атлеты. Когда я высмеял их любовь к грубой силе, у меня появилось много врагов.
— И неудивительно, — заметил Пифагор. — Атлеты — гордость Эллады. И если ты выступаешь против роскоши, тебе бы надо воспевать атлетов.
— Когда я был в Посидонии... — вновь заговорил Ксенофан.
— Так это был ты?! — перебил Пифагор. — А ведь я тоже с недавнего времени мечтаю об основании школы.
— Это преисполняет меня гордостью! — воскликнул Ксенофан. — Ионийцы приобретут славу первых учителей Европы.
— Будучи первыми учениками Азии, — вставил Пифагор.
— Которая сделала нас изгнанниками, — добавил Ксенофан.
— Конечно же, — продолжал Пифагор, — отношения наши с Азией не всегда дружественны. Но ведь ученикам, когда они становятся с учителем вровень, дозволяется вступать с ним в спор. В диалоге мы не просто стараемся доказать свою правоту. Мы — и это главное — постигаем в нём сами себя. И время этого постижения, мне кажется, наступило. А бежим мы не от Азии, а от того, кто взял над нею власть.
Вдали на пригорке Пифагор заметил Дукетия, беседующего с каким-то человеком, и понял, что это тирренский наварх.
— Прости, Ксенофан, — проговорил он. — Сейчас должно решиться, выпустят ли нас тиррены из гавани, да и Регия я ещё не повидал.
Дукетий, заметив Пифагора, отделился от своего собеседника и поспешил навстречу.
— Договорились! — крикнул он ещё издалека.
Приблизившись, он сказал:
— Никаких препятствий нет. Можешь отплывать хоть сегодня. Советую тебе остановиться в Кротоне и там решить, плыть ли дальше или зазимовать. До Кротона при этом ветре не больше двух дней пути.
Пифагор положил руку на плечо кормчего.
— Плавание с тобой было не только спокойным, но и поучительным. И сын твой мне понравился.
Никомах
Место Дукетия у кормового весла «Миноса» занял Никомах, знавший это побережье и в юности плававший на кораблях своего отца. Пифагор решил стать у второго весла, ибо уже привык находиться рядом с кормчим.
— Я вижу, для тебя это дело не новое, — проговорил Никомах, наблюдая, как Пифагор справляется с кормовым веслом.
Пифагор отбросил ладонью к затылку растрёпанные ветром волосы.
— Конечно, — подтвердил он. — Мы сами порой не понимаем, откуда у нас берутся навыки. Одному удаётся сразу, а другого сколько ни учи — бесполезно.
— Взгляни! — воскликнул Никомах. — Показались тирренские корабли. Пасут они нас.
Пифагор начал считать появившиеся на горизонте паруса.
— Интересный народ, — проговорил посидонец. — Второго такого на свете нет.
— А откуда ты тирренов знаешь? — спросил Пифагор. — Ведь твоя родина от их земли далеко.
— Далеко? — удивился Никомах. — А разве тебе не известно, что многие тирренские города находятся в Кампании? От Посидонии до отстроенных тирренами Помпей при попутном ветре полдня плавания. Тиррены — наши соседи. Их у нас сердаями называют.
— Откуда это название? — заинтересовался Пифагор.
Никомах пожал плечами:
— Не знаю.
Сикелийский берег стал понемногу удаляться, когда же Никомах круто повернул своё весло, сразу оказался за кормою. Судно вышло из пролива и, обойдя носок педила, двигалось параллельно подошве.
Берег Италии был гористым, напоминая очертания возвышенного, занятого отрогами Керкетия побережья Самоса. «Я переместился с носа на корму, — подумал Пифагор, вспоминая оплыв. — И сколько произошло за эти два месяца событий!»
— Здесь окончание хребта, перерезающего полуостров по центру, — пояснил Никомах. — С него, называемого Апеннинами, текут почти все реки Италии. Её так называют по Италу, царю обитавших здесь в старину сикелов.
— И это земля Регия?
— Нет, другого эллинского полиса, Локр, расположенных вот за тем ущельем. Их называют Эпизефирскими по открытому зефиру мысу, где они обосновались. Этими берегами ранее владели кротонцы. Рассказывают, что стотридцатитысячное кротонское войско двинулось в эти места, чтобы сбросить пришельцев в море. На реке Сагре оно встретилось с десятитысячным ополчением локрийцев и было вдребезги разбито. В такое трудно поверить. А случилось это будто в тот день, когда в Олимпии открывались игры. С этих пор недруги кротонцев локрийцы и сибариты стали называть своих дочерей Саграми.
— А разве сибариты враждуют с кротонцами?
— Они-то и есть главные их враги. Ведь Сибарис в отличие от Локр могущественный город, с огромной округой. Ему подчинено двадцать пять окрестных городов. У него трёхсоттысячная армия из местных варваров, и к тому же сибариты ведут обширную торговлю с Кархедоном, с Милетом и другими городами Ионии, ныне находящимися под властью персов. В союзе с Сибарисом и тиррены, самый могущественный народ Италии.
— Вот оно что. Значит, Кротону приходится нелегко — он между двух огней.
— Взгляни, Пифагор! — воскликнул Никомах.
Пифагор повернул голову. Прямо над морем высился белоколонный храм.
— Это святыня Геры, — пояснил Никомах.
— Нашей Геры! — воскликнул Пифагор. — Родившись на Самосе, она достигла Италии.
— Здесь её называют Лакинийской по имени обитавшего на этом мысе древнего героя Лакиния, — пояснил Никомах. — Отсюда в пятидесяти стадиях жил его друг Кротон. Напуганный ночью прибытием Геракла с быками Гериона, он бежал сюда и был в суматохе убит Гераклом. Городу дали имя погибшего — как говорят, по воле Геракла, пожалевшего о случившемся.
Демокед
Бухта Кротона имела форму двух соединённых рукоятками, но не сходящихся концами серпов. Она могла вместить и сто кораблей, дав им надёжную защиту, на берегу же можно было построить город не меньший, чем Самос. Но Кротон, во всяком случае на первый взгляд, был невелик.
Внезапно Пифагору показалось очертание бухты знакомым. Решив, что она похожа на какую-либо из посещённых им, он стал перебирать в памяти эллинские города, в каких ему пришлось побывать.
«Откуда мне это знакомо?» — мучительно вспоминал он, направляясь к агоре. Она успокоила его, не вызвав никаких воспоминаний. Он брёл между рядами торговцев. Взгляд его задержался на сосуде с пиявками в окружении медовых сот. Столь странное сочетание заставило его остановиться. Заметив интерес к своему товару, продавец обрушил целый вихрь слов:
— У меня всё необходимое для здоровья! Вот пиявки! Посмотри, какие они свежие! Лучшее средство от всех болезней. Их Демокед рекомендует при отёчности. А это целебный мёд. У меня его покупает сам Милон! Неужели ты не слышал о Милоне?
Молчание Пифагора вызвало новый поток.
— Демокед, сын Каллифонта, несмотря на молодость, величайший из медиков. Милон врачуется у Демокеда.
— А чем болеет Милон? — спросил Пифагор.
— Болеет! — возмутился продавец. — Чем может болеть человек, трижды бывший олимпиоником[40]? Он здоров как бык, которого каждый день носит на плечах. Здоров, потому что выполняет предписания Демокеда. Сейчас Милон в пританее. Кормится за общественный счёт. Демокед же ведёт приём в доме Милона, ибо отец его, Каллифонт, суров. Если хочешь посетить Демокеда, поспеши. Завтра он отправляется на Самос по приглашению Поликрата.
Услышав имя Поликрата, Пифагор решил посетить местную знаменитость и поторопился покинуть слишком словоохотливого собеседника.
— Да куда же ты, чужеземец?! — кричал вслед торговец. — Я же тебе ещё дороги не показал! Живёт он у старой агоры! На другом берегу Эзара.
Пифагор был уже далеко, а продавец всё ещё сыпал ему вслед словами, как горохом.
Старую агору Пифагор нашёл легко. В лесхе перед дверью с изображениями змеи, пьющей из чаши, была очередь из множества больных. От их голосов стоял гул. Говорили о мазях, о диете, исцелениях, хвалили одних лекарей, хулили других.
«Этих людей прежде всего надо лечить от болтовни», — подумал Пифагор, поворачиваясь, чтобы удалиться, но в это время дверь отворилась и вышел больной в сопровождении молодого человека с огромным лбом, увеличиваемым лысиной на полголовы. Увидев Пифагора, Демокед — а это был он — спросил:
— Откуда ты, чужеземец?
— Сейчас из Кархедона. Веду на Пелопоннес корабли.
— Зайдём ко мне.
Входя в лесху, Пифагор оглядел стены, и взгляд его выхватил висевшую у окна кифару.
— Я вижу, тебя удивляет кифара в лесхе, где принимают больных? — сказал Демокед, уловив взгляд Пифагора.
— Скорее радует.
— Это кифара моего друга Милона. Но скажи мне, наварх, каковы твои ближайшие планы?
— Осмотрю Кротон, затем поплыву в Сибарис.
— Сядем, — предложил Демокед гостю.
Они сели друг против друга.
— В отношении Сибариса ты прав, — начал Демокед. — Побывать на этом берегу и не посетить Сибарис — всё равно что высадиться на побережье Аттики и не увидеть Афин. Только зачем вести туда корабли? Выйдешь из Кротона на заре, в Сибарисе будешь через день к полудню. Дорога туда прямиком от нашего акрополя идёт. Как речку перейдёшь — она называется Сирис, — начнутся владения Сибариса.
— Благодарю тебя, Демокед, за совет. Я с удовольствием ему последую. Приятно после стольких дней в море ощутить себя пешеходом.
Взгляд Демокеда упал на ноги Пифагора.
— Да, ноги скучают по твёрдой земле, да и для здоровья это полезно. Но в Сибарис лучше идти в педилах и не одному. Хорошо бы тебе иметь спутником кого-нибудь из кротонцев.
— Я понимаю, что с проводником лучше, чем одному. Но почему в педилах?
— Видишь ли, в этом городе на десять тысяч граждан приходится семьдесят пять тысяч рабов. Сибариты ходят в одеяниях, расшитых золотыми нитями, в педилах, обшитых жемчугом, рабы же их — в отрепьях и босиком.
— Ты хочешь сказать, что меня могут принять за раба?
— Именно это. Неприятно ведь свободному человеку доказывать, что он не раб.
— Неприятно, — согласился Пифагор. — Но я не привык ради кого бы то ни было менять свои привычки. Даже во дворец Поликрата я явился босиком.
— Поликрата?! — воскликнул Демокед. — Ты знаешь самого Поликрата?!
— А что в этом удивительного? Ведь я самосец.
— Удивительно совпадение — я приглашён на Самос Поликратом и завтра отплываю.
— А на какую болезнь жалуется Поликрат? — заинтересовался Пифагор.
— Этого он не сообщил. Но обещал заплатить за лечение два таланта. Это самый большой гонорар, какой мне приходилось получать. Эгинцы заплатили мне один талант за год, афинский тиран Гиппарх — сто мин за месяц.
— Я вижу, ты врачуешь тиранов, — сказал Пифагор.
— Я лечу всех, кто ко мне обращается. Могу поставить диагноз и тебе.
— Благодарю тебя заранее. Вот сейчас, идя к тебе, я увидел, как живого, твоего отца Каллифонта — таким, каким он был в юности.
— Ты знаешь моего отца? — воскликнул Демокед. — Откуда?
— Из видения. Во второй своей жизни я был рыбаком Пирром. Меня укусила рыба, и нагноилась рука, твой отец Каллифонт в Книде меня исцелил.
— Какого рода эти видения? — заинтересовался Демокед.
— Порой пространство передо мной рассеивается и открываются люди, которых я когда-то знал, при этом я совершенно забываю о нынешней жизни и тех, кто меня окружает теперь. Однажды, ещё в юности, во время болезни я заговорил на никому не понятном языке. Очнувшись, я догадался, что это язык моих предков лелегов. Конечно же я не смог полностью овладеть этим языком. Но они изредка являются ко мне, и я понимаю их речь, которая возвращает меня в давно отшумевшую жизнь. Между мною и тем, кем я когда-то был, нет постоянного общения. Оно приходит от случая к случаю, в самые неожиданные моменты. И тогда я переношусь в тот мир, забывая об этом. Но, возвращаясь в этот, помню и о том. И мне он не безразличен...
— А при каком ветре бывают у тебя видения? — внезапно спросил Демокед.
Пифагор бросил на вопрошающего взгляд.
— При ветре вечности.
— И тебе не страшно в этом мире призраков?
— Первоначально видения меня пугали, и я пытался их избегать. Но затем, обретая мужество, я вновь и вновь погружался в свои глубины и был счастлив, когда мне удавалось заполнить провалы в памяти и вернуть то, что мне когда-то принадлежало.
— Но ведь ты осознаешь, что это призраки?
Пифагор пожал плечами:
— А что ты называешь призраком?
— Не думаю, что это слово нуждается в определении.
— Но всё же?
— Это то, чего нет, чего нельзя взять руками.
Пифагор подошёл к стене и, сняв кифару, сыграл свою любимую мелодию — ту самую, которая ему вспомнилась при возвращении на Самос.
Демокед слушал, откинувшись на сиденье.
— Ты ещё и прекрасный кифаред! — воскликнул Демокед, когда Пифагор перестал играть.
— Так вот, — сказал Пифагор. — В состоянии ли ты взять руками эту мелодию? По твоему определению, это и есть призрак. Но согласись, что такие призраки значат больше, чем кусок дерева, из которого извлекают мелодии.
Демокед подошёл к Пифагору и, приподняв ему веки, так внимательно взглянул на зрачки, словно надеялся отыскать там источник видений своего гостя.
— Я слышу, хлопнула дверь, — внезапно проговорил он, — судя по силе удара, это, должно быть, Милон. Обычно он заходит ко мне в это время. Сейчас проверю.
Демокед удалился и через несколько мгновений появился с приземистым мужем атлетического телосложения.
— Я думаю, — проговорил Демокед, подводя Милона к гостю, — что Милон согласится стать твоим провожатым. Он совершает длительные прогулки ежедневно.
Милон молча кивнул.
— Пойдите договоритесь. Посетители меня заждались.
Когда Пифагор и Милон удалились, Демокед приоткрыл дверь и выкрикнул:
— Аристофилид!
В лесху вступил больной.
Хайре, Пифагор!
Всю дорогу Милон занимал Пифагора рассказами о Кротоне, который, если ему верить, не имеет себе равных во всей Великой Элладе по удобству положения и красоте окрестного леса, известного у местных жителей под именем Силла.
— Чем идти в Сибарис, лучше бы мы с тобой побродили по Силле. Там сосны стоят как колонны, поддерживая небо. И кто только сюда за ними не едет! К тому же ещё и смола. Лучше нашей только фракийская. Демокед установил, что смолокуры не болеют лёгкими — смоляной дух целебен.
— Сосны — это хорошо, — отозвался Пифагор, отвечая давним своим мыслям. — Я помню сосны горы Иды. Когда дует ветер с Геллеспонта, они гудят по-особому, и кажется, что по ним, как по струнам кифары, ударяет плектр самой владычицы Кибелы. Я думаю, Милон, что Демокед заблуждается в отношении смоляного духа. Исцелить могут лишь живущие сосны. Существует поверье, что никто не может коснуться сосны Иды топором, не испросив на это разрешения богини. Ахейцы, осаждавшие Трою, в пылу победы об этом забыли. И сосны их кораблей ломались под ветром, как высохшие ветки.
Так, беседуя, они дошли до Сибариса.
В городе Милон заскучал. Когда они дошли до акрополя, он проговорил:
— Улицы тут прямые и все к гавани ведут — не заблудишься. Я тебя здесь подожду.
Сибарис был удивителен. Лучшие дома Самоса по сравнению с жилищами сибаритов могли показаться лачугами. Стены едва ли не каждого были облицованы, через решетчатые заборы просвечивали бьющие струи фонтанов. По лужайкам, блистая оперением, важно прогуливались павлины, из-за деревьев виднелись головы и пёстрые шкуры оленей. За рвами с водой на каменных горках возлежали львы, из клеток доносились крики попугаев. «Не в Сибарис ли шло судно, какое мы обогнали?» — подумал Пифагор.
К каждому изломов шли глиняные трубы, укреплённые на деревянных рогатках локтях в двух от земли. Водопровода такого устройства Пифагору видеть не приходилось. В месте, где от более широкой трубы отделялась тонкая, капало что-то тёмное. Подойдя поближе, Пифагор подставил ладонь. Пахнуло вином.
Заинтересовавшись, он пошёл вдоль толстой трубы, и она привела его к молу, у которого стояло несколько судов. С одной палубы доносилась эллинская речь. Приглядевшись, Пифагор увидел, что черноволосый юноша наливает вино в воронку, заканчивающуюся трубой, конец которой придерживает седой муж, судя по одеянию сибарит.
— Откуда гаула? — спросил Пифагор у седого.
— Из Хиоса, — ответил тот.
Пифагор хотел спросить: «А разве нет более близких к Сибарису виноградников?» — но раздумал. «Ведь и леса Тиррении, должно быть, не пусты, но сибаритам нужно всё заморское — звери, вино и всё остальное. Вино по трубам, словно некому его донести... А может быть, это из скупости — вино-то обходится недёшево, пока будут тащить — напьются».
Походив ещё немного, Пифагор вернулся к месту, где он оставил Милона. Тот дремал под смоковницей. Они двинулись в путь. С моря подул ветерок, принеся с собою влагу. Донеслись крики чаек. И вдруг со стороны дороги послышался резкий голос.
Повернув голову, Пифагор увидел в отдалении шестерых рослых рабов, нёсших на носилках очень полного мужчину в расшитом золотыми нитями гиматии. Прибавив шагу, Пифагор вгляделся в его узоры. Толстяк продолжать распекать носильщиков:
— Да вы что, утомились, негодяи?! Из-за вас жаркое перестоит.
Такой способ передвижения не был для Пифагора новинкой — он видел носилки и носильщиков в Тире и Вавилоне, но там знатных и богатых людей носили на лёгких деревянных носилках, здесь же толстяк возлежал на золоте.
И именно поэтому рабы еле передвигали ноги. На светлых и тёмных лицах блестели капли пота.
Когда носилки оказались в нескольких шагах от Пифагора и он уже слышал прерывистое дыхание несущих, порыв ветра сбил с головы толстяка петас.
— Эй, ты! — крикнул толстяк Пифагору. — Подбери!
— Нельзя ли повежливей? — отозвался Пифагор. — Я не раб.
— Ах, так! — завопил сибарит. — Остановитесь, слуги! Бейте грубияна ремнями, пока он не запросит пощады.
Носильщики опустили носилки на землю и стали вытаскивать тяжёлые ремни.
— Черепахи! — продолжал орать толстяк. — Я вас!
Наконец ремни были вытащены, и рабы бросились к Пифагору. Рослый нубиец завёл уже руку с ремнём за спину, как вдруг к нему кинулся Милон. От мощного удара нубиец отлетел в сторону. На подмогу поспешили кельт и фракиец. Милон схватил их за чубы и столкнул лбами. Остальные пустились наутёк.
Подойдя к носилкам, Милон вытащил за шиворот толстяка, тряхнул его и, как пушинку, закинул за придорожный платан. Уцепившись за ветки, сибарит поднял такой вой, что из соседних домов выскочили люди.
Милон подобрал ремень и, размахивая им, крикнул:
— А ну, подходи!
Сибариты попятились.
— Пойдём, — проговорил Милон, оборачиваясь. — Здесь нет ничего заслуживающего внимания.
— Почему же? — возразил Пифагор. — Я не мог оторвать взгляда от одеяния сибарита, закинутого тобою на дерево.
— А что тебя удивило?
— Изображение городов — сверху Вавилона, снизу Суз. Я в них побывал. Приятно вспомнить.
Всю дорогу до пограничной реки Милон, возбуждённый схваткой, рассказывал о каждом из своих соперников, которых ему удалось одолеть в Олимпии, попутно демонстрируя приёмы борьбы.
Дойдя до текущей в камышах реки, путники решили отдохнуть.
— Эта река пугает лошадей, — начал Милон. — Поэтому сибариты гоняют свои табуны подальше отсюда. Река по другую сторону Сибариса окрашивает волосы купающихся в жёлтый и белый цвета. К западу от нашего города есть ещё одна река. Перейдя её, наше войско обессилело и было уничтожено локрийцами, несмотря на их малочисленность. В тот день я одержал в Олимпии первую из моих побед и потерял всех своих братьев.
— Я слышал об этом несчастье, — проговорил Пифагор. — И будто бы в Олимпию весть о происшедшем пришла в тот же день.
— Об этом я и хотел рассказать. Среди бела дня я вдруг увидел бледных окровавленных братьев. По возвращении в Кротон мы узнали, что битва совпала с первым днём игр.
— Такое бывает, — отозвался Пифагор. — Мне известно множество случаев, когда о несчастьях с близкими узнавали в тот же день и в то же мгновение. Видимо, в воздухе носятся волны, подобные тем, что сейчас бегут по реке, только невидимые и перемещающиеся с необыкновенной быстротой. Их могут воспринять люди с обострёнными чувствами. Так и ты воспринял на большом расстоянии гибель близких на Сагре.
— Прошу тебя — никогда не произноси этого названия! — перебил Милон. — У нас в Кротоне за него с граждан берут штраф триста драхм. Столь болезненна память об этом поражении.
Милон поднялся и направился к броду. Пифагор шёл в нескольких шагах от него. И вдруг Милон явственно услышал:
— Хайре, Пифагор!
Ища говорившего, атлет обернулся и увидел, как его спутник опустил ладонь в струю, словно бы отвечая реке рукопожатием.
— Хайре, Сирис, — проговорил Пифагор.
— М-м-может б-быть, я ослышался? — заикаясь, проговорил Милон.
— Нет, это не галлюцинация, — отозвался Пифагор. — На море совсем недавно я различал обращение к себе ветра в скрипе мачт. Однажды со мною заговорила растрескавшаяся от жары скала. А вот река меня приветствует впервые. И я в этом вижу знамение. Мне понравился твой рассказ о Силле, и я подумал, не основать ли мне в Кротоне школу. И вот приветствие реки показало мне, что я угоден окрестной природе.
Весь остальной путь до городской стены Милон молчал.
Союзник
Утром Пифагор пробудился от шума голосов и шарканья ног. Мол заняла ликующая толпа кротонцев. Незнакомые люди пожирали его глазами. Некоторые упали на колени. Но вот появился Милон, и всё смолкло. Пифагор понял, кто истинный виновник торжества.
— Почему ты это сделал? Зачем ты привёл сюда такую массу людей? — посетовал он, когда Милон поднялся на борт.
Милон смутился.
— Да, я поведал о нашем вчерашнем приключении двоим друзьям, — проговорил атлет извиняющимся голосом. — Не подозревал, что весть распространится с такой быстротой. Впрочем, тут особое обстоятельство. Тебе ведь неизвестно, что вражда Кротона и Сибариса длится почти век, что во всех сражениях на суше и на море мы терпели поражение. Сибариты наложили дань на двадцать четыре соседних народа. Они, как и кархедонцы, сидя в своих роскошных домах, воюют с помощью наёмников. А тут ещё это страшное поражение на роковой для нас реке. Неизменные неудачи озлобили моих сограждан. Ты, наверное, заметил их угрюмые взгляды. И вот произошло чудо. С тобою заговорила река, а я проучил негодяя. Это был архонт Сибариса Алкистен. Мелочь. А кротонцы, уставшие от поражений, воспринимают её как некий перелом, как ласточку, приносящую на крыльях весну, как первую улыбку судьбы. Взгляни на их счастливые лица!
— Теперь я понял. И благодарю тебя за то, что ты показал мне Сибарис и спас от сибаритов. Ещё до нападения на меня город этот мне стал неприятен, потому что главное его божество Плутос. Там, где он правит, нет места Аполлону и музам, нет уважения к Афине Работнице. Как ты думаешь, Милон, не разрешат ли мне кротонцы купить здесь участок земли для школы, которую я хочу основать?
— А чему ты будешь учить? — спросил Милон.
— Я буду учить мыслить, — отозвался Пифагор.
— Разве этому учат?
— В первую очередь. Мысли надо направлять, иначе они разбредутся, как овцы. Порой они спотыкаются о воздвигаемые ими самими препятствия, наталкиваются друг на друга и при малейшей опасности несутся в разные стороны. Мыслям, пока они не укрепились, нужен пастух, кормчий, царь — назови это как хочешь.
— Но ведь у людей разные головы, — возразил Милон.
— Это верно! — согласился Пифагор: — И наука, учащая мыслить, должна учитывать различные способности и к ним приноравливаться. Приходится считаться с мыслями тугодумов, которые трудно сдвинуть с места, как разбросанные по полю валуны, и с мыслями, разносимыми при малейшем дуновении ветерка и не способными найти себе пристанища. Но различие мыслей может быть выявлено лишь при обучении. И прежде всего нужно отобрать учеников. И это тоже наука.
— А с чего ты начнёшь учить?
— С арифметики. Ведь число основа всего. Сообразно с числом создаются равенства, тождества, согласованности как в природе, так и в государстве. Затем мы займёмся геометрией, построенной по законам гармонии, потом астрономией. И конечно же, изучая природу, было бы неразумно оставаться в неведении о себе самом. Ведь человек — это творение природы, потребовавшее от неё высшего напряжения сил. И можно удивляться тому, как она прошла через это испытание, и задуматься о том, что оно для неё значит. Без всего этого нет мудрости.
— О боги! — воскликнул Милон. — Наука возвысит моё отечество! Одни прибудут, чтобы набраться знаний, а другие — просто подивиться на тебя, как приходят поглазеть на меня, хотя что мой дар в. сравнении с твоим! А может быть, отыщутся и такие, кто почувствует себя готовым вступить с тобою в спор, и станет тогда наш маленький Кротон так знаменит, что ему будут завидовать Афины и Коринф, Тир и Кархедон. И Италия станет велика не только своим многолюдием и богатством, но и тем, что выше всего, — знанием! Тебе надо обратиться к нашему Совету пятисот. Проси земли у Тёплых Вод — есть такой ручей в сорока стадиях от города. Лучшего места для школы не сыскать. И городу оно ни к чему. Правда, там много камней, но их можно убрать.
— Но ведь я чужеземец. К тому же мне кажется, что кротонцы не очень расположены к нововведениям.
— Это верно. Но мои сограждане честолюбивы. Они гордятся Демокедом. Будут гордиться и тобой. Они тебя поддержат, особенно если узнают, что Милон отыскал себе новое поприще и готов заниматься вместе с юнцами.
— Какое счастье! Однако, Милон, я вижу в тебе не только ученика, но и учителя моих будущих учеников. Ведь те, кто занимается философией или общается с музами, должны обладать не только сильным духом, но и здоровым телом. Физические упражнения должны быть непременной частью любого воспитания, и я мыслю своих учеников пусть не олимпиониками, но людьми крепкими, способными за себя постоять. Тогда исчезнут россказни о мудрецах, ненужных государству и неспособных к его управлению, и граждане отдадут им предпочтение во время выборов на государственные должности как людям, в которых гармонически сочетаются сила и ум.
— Да и атлетов не будут считать тупицами и невеждами, — вставил Милон. — И увидишь, мы этого добьёмся. Силе без ума не обойтись, как и уму без силы.
Совет пятисот
Окончились осенние праздники, славящие Деметру и Диониса. Рассеялся дым сожжённого кротонцами жнивья, и зашумели холодные зимние дожди. Со всех сторон рассыпанного по холмам города к Булевтерию[41] потянулись пожилые люди в плотных гиматиях.
Кротонский Совет пятисот собирался в конце года, после завершения работ на полях. Обычно выступали на этом собрании архонты, сообщая о выполнении работ по ремонту дорог и укреплению городских стен, о затратах казны, послы отчитывались о своих посольствах, стратеги — о численности и подготовке эфебов. На этот раз Совету предстояло заслушать речь Пифагора.
Не было в городе человека, который не знал бы Пифагора в лицо. Да что люди! Не было ни одной собаки, которая бы не узнавала его и не бежала за ним в надежде получить кость. Всем было известно, что софос, как называли Пифагора, сам мяса не ел, но остатки трапез собирал для городских собак. Это кротонцы считали таким же чудачеством, как хождение босиком, и, добродушно посмеиваясь, говорили:
— Он снял с нас заботу о кормлении собак и хочет помочь нам в воспитании детей.
И вот теперь им предстояло впервые услышать этого человека.
— Граждане Кротона, — начал Пифагор, — прежде чем обратиться к вам, я проделал долгий и нелёгкий путь, обозначенный названиями таких городов, как Китион, Кархедон, Эрик и Регий. Ваш город оказался по счёту пятым, и, надеюсь, последним. Но для меня он первый. Ведь он не только открыл самосским судам свою гавань, но и дал нам укрытие близ своих стен. Таковы ваши благодеяния. Говоря же о вашем благородстве, давшем мне основание предпочесть вас жителям всех других городов, я обращаюсь с ещё одной просьбой — выделить мне место для осуществления одного из моих замыслов. А замыслил я основать колонию, но не моего родного Самоса, переживающего самые тяжёлые времена, а эллинского знания, находящегося вот уже полстолетия на невиданном взлёте. Некоторым из вас известны имена если не всех, то по крайней мере двух-трёх софосов, их акме приходится именно на эти полвека. Без них у эллинов не было бы ни солнечных часов, ни медной доски с чертежом Земли, ни многих наук, без которых невозможны успехи градостроительства и мореплавания. Благодаря им мой Самос получил свежую воду, пропущенную через толщу горы, и также закрытую гавань, подобную кархедонской, хотя и меньшей величины.
Для чего я вам всё это говорю? Чтобы вы поняли, что ни один из городов не в состоянии ни процветать, ни противостоять своим недругам, не пользуясь достижениями наук, что нет пользы городу от роскошных зданий, от гуляний и зрелищ, если ему недостаёт разумения. Употребляя слово «достижения», я имею в виду усвоение плодов Афины и Аполлона, а не Плутоса. Конечно же Плутос прославил соседний Сибарис, но кому нужна слава неженок, которые парятся в горячей воде, которых рабы тащат на своих плечах и за которыми ухаживают, как за малыми детьми или выжившими из ума слюнявыми старцами! Кротон же прославляет своими могучими руками Милон, столько раз возвращавшийся домой с победными венками из Олимпии и с многих других состязаний.
Кротонцы одобрительно зашумели.
— Слава Милону, самому сильному из эллинов! — послышались выкрики.
— В первые же дни, — невозмутимо продолжал Пифагор, — я, по обыкновению, обошёл городские стены и, не найдя следов заделанного пролома, подумал: «Кротонцы — народ, уверенный в собственном счастье, и у них не было необходимости пропускать олимпийскую Нику через пролом, опасаясь, что она покинет город там, где вошла, если её провести воротами. И тут я понял: лишь этот город откроет ворота не только могучей силе, но и разуму. Неслучайно же в этом городе обосновался и Демокед, самый знаменитый из эллинских врачевателей. Так ко мне пришла мысль просить именно вас дать нашим кораблям зимнее прибежище и выделить место для моей школы. Впрочем, название «школа» мало подходит к тому, что должно возникнуть близ вашего города, если вы дадите на это согласие. Ведь обычно школа — это учитель с несколькими учениками, устроившийся где-нибудь на агоре или в другом шумном, мало пригодном для обучения месте. Моя школа будет храмом Муз с открытым помещением для общих собраний и — главное — со зданиями для занятий и для проживания учеников.
В речи Пифагора, несмотря на отсутствие пафоса, было нечто завораживающее, и люди застыли. Судя по загоревшимся глазам, они ощутили гармонию, как бы божественный план мысленно создаваемого городка знаний.
Пифагор вобрал воздух в грудь и начал с новой силой:
— Мы, эллины, привыкли чтить Диониса, сына Семелы, и отмечать его приход перебродившим соком виноградных плодов. По дороге в Сибарис до реки Сириса мой взгляд радовали курчавившиеся гроздьями холмы. За Сирисом я виноградников не узрел, но в городе увидел трубы, по которым в дома прямо с кораблей потоком лилось заморское вино, а вместе с ним один из самых опасных для людей пороков — пьянство. Пьяницы утрачивают человеческий облик и вместе с ним и разум, а разум — это сила. Они становятся рабами порока и рождают слабоумных уродов, ни к чему не способных калек. В моём маленьком городе пьянство встретит непреодолимую преграду и отступит, трусливо поджав хвост. Я уверен, что мои ученики, став гражданами, отдадут свои голоса за то, чтобы законом полиса был прекращён доступ иноземных вин, а пьяницам было запрещено иметь потомство.
Переждав, пока стихнут рукоплескания, Пифагор продолжил:
— Сквозь стены храма Муз не найдут дороги такие пороки, как распущенность и дерзость. Ведь занятия науками требуют упорства и послушания. У того, кто стремится к знаниям, не найдётся времени для распутства, да И не появится охоты к нему. Они научатся геометрии, арифметике, врачеванию и вместе с этим дружбе, ибо я учу: «У друзей всё общее». Они научатся почтению к родителям, ибо я говорю: «Помни, кому ты обязан жизнью», благородству, великодушию, постоянству, почтению к богам. Вот какую я хочу открыть школу на участке, который хотел бы получить в сорока стадиях от города у Тёплых Вод. Просьбу мою поддерживает и Милон, согласившийся стать моим учеником и помощником в воспитании юношества. Когда наступит время для плавания, я отведу корабли и вернусь к вам со всем тем, что необходимо для занятий. Вас же, кротонцы, я прошу, если на то будет ваша воля, оказать мне посильную поддержку. Усилия и средства, потраченные на воспитание, приносят выгоду неизмеримо большую, чем любые другие вложения в устройство собственной жизни. Ведь дети — наша надежда, наше будущее. На этом я закончу, чтобы не быть похожим на Гомера, который не знает удержу в словах.
Пифагор уже прошёл несколько домов, когда услышал за спиной поспешные шаги. Оглянувшись, он увидел пожилого человека, явно стремившегося его догнать.
— У меня есть сын Эвримен, — начал незнакомец, подходя ближе. — Он увлекается арифметикой. Сейчас он остался без учителя и очень страдает. Не можешь ли ты с ним встретиться?
— Я рад, что ты ко мне подошёл. Может быть, твой сын и будет моим первым кротонским учеником. Пусть он ко мне приходит. Я с ним с радостью поговорю.
Эвримен
Перед Пифагором стоял юноша, похожий на газель, — тонкий, с огромными чёрными глазами.
— Я — Эвримен, — произнёс он.
— Присаживайся. Я таким тебя и представлял. Не удивляйся. Когда отец твой о тебе говорил, я увидел в его глазах твоё отражение. Ты любишь арифметику, Эвримен?
— Люблю. Но я пришёл к тебе по другому вопросу. Не знаю, как это объяснить. Видишь ли, я болел и сгорал в лихорадке и вдруг увидел тебя, стоящего с каким-то старцем у погребальной стелы. Казалось бы, это должно было меня напугать, но я вдруг почувствовал облегчение. Болезнь вышла потоками пота.
— У тебя был критический день, мальчик, — вставил Пифагор, — и я рад, что смог тебе помочь.
Глаза Эвримена расширились.
— Но ты же не знал о моём существовании?
— Это необязательно. Расскажу тебе об одном происшествии. Я по пути на Самос посетил город Китион на Кипре. Был я там впервые. И вдруг ко мне бросается незнакомец и заключает в объятия. Сын его находился при смерти, и я приснился отцу и во сне назначил ему лечение, которое спасло мальчика. Ему сейчас столько же лет, сколько тебе.
— Но это ведь противоречит законам природы! — воскликнул Эвримен.
— О нет. Это говорит лишь о том, что мы ещё мало знаем о собственной природе и её возможностях. Этим эллинские мудрецы не занимаются, ибо исходят из мысли о существовании лишь того, что мы видим и ощущаем. Если что выходит из этого круга, они объясняют непознанное вмешательством богов или каких-то ещё сил, недоступных человеческому пониманию. Таким образом поступают и создатели мифов, объясняя, например, появление огня кражей его Прометеем с Олимпа. В эти мифы продолжают верить, обвиняя тех, кто считает по-другому, в кощунстве. Поэтому те, кто хочет проникнуть в самые жгучие тайны природы, должны держаться вместе, не смешиваясь с невежественной и завистливой чернью, знакомя её лишь с тем, что доступно её пониманию.
— Это так, Пифагор, — проговорил Эвримен. — И я хотел бы стать твоим учеником.
— А кто был твоим первым учителем?
— Фиванец Лисид. Он обучил меня арифметике и геометрии, и я ему благодарен. Но вещей, лежащих за пределами видимости, он не касался. Ему пришлось вернуться на родину, после чего я заболел.
— У твоего учителя, насколько я понимаю, — продолжил Пифагор, — не было заботы, где тебя учить. Он приходил к тебе или ты к нему. Обучение же, соединённое с научным опытом, требует стен, подобных тем, которые защищают города от неприятеля, и особых, приспособленных для занятий и исследований, помещений. Участок нам уже выделен, но плана школы у нас ещё нет. Займёмся этим.
Черновик
Лежит на коленях абакий:
Рождение черновика.
Наносятся линии, знаки —
Покоя не знает рука.
Не так ли, скажите, не так ли
Трудился над миром наш бог?
На небе нет брёвен и пакли —
Умом созидался чертог.
Пять дней ушло на вытаскивание кораблей на сушу и ещё четыре на укрепление камнями и подпорками. И вырос сразу же за стенами Кротона «Самос», как стали называть кротонцы пригород, которому в своё время суждено тронуться с места, оставив после себя ровики, груды камней и многие десятки кострищ.
На плечи тех, кто руководил возведением этой пристройки к кротонским стенам, легли и другие заботы. Надо было думать не только о пропитании, но и о сохранении едоков. Уже в первые дни кое-кто из самосских юношей обзавёлся в городе невестой. И это взбудоражило остальных. В Кротоне, редко посещаемом торговыми судами, не было клоаки, подобной самосской, а в Сибарис после происшествия с Пифагором одни боялись идти, у других на нужды Эроса не хватало денег. Надо было чём-то занять молодёжь, тех, кому опротивели игра в кости и разговоры о женщинах.
И вот тогда-то Пифагору пришла в голову мысль: а почему бы уже теперь не начать строить здание школы на участке, выделенном советом Кротона, благо предприимчивый Никомах обещал поставить сколько угодно леса. Он сразу же после высадки нашёл себе в Кротоне компаньонов, закупил рабов и начал рубить лес в Силле. Дерево представлялось Пифагору хотя и менее долговечным материалом, чем камень, но лучшим для здоровья, особенно в этих местах, где летом дул жаркий южный ветер.
Зимние дни Пифагор проводил, склонившись над абакием. Подобно диковинной геометрической фигуре, вырисовывался, приобретая всё новые и новые детали, план храма Муз — дочерей Мнемозины. Треугольники, квадраты, переносимые из одной части абакия в другую или вовсе стираемые, следовали движению незримой мысли. Казалось, она, подчиняясь какому-то ритму, совершала на доске фантастическую пляску. И вот пришло время, когда Пифагор, откинувшись на сиденье, обратил взгляд к небу, словно кого-то там благодаря за дарованную ему помощь.
Наблюдая за работой учителя, Эвримен мог уже мысленно обойти стену и, вступив через её ворота, остановиться у квадрата, который, как объяснял Пифагор, должен заменить самосскую пещеру и быть приспособленным для того, чтобы заниматься в любое время года и испытывать от этого удовольствие. И он уже знал, что в этом здании не будет окон, а свет и воздух будут проходить через квадратные отверстия в потолке, ибо ничто не должно отвлекать от постижения истины.
В вечерние часы Пифагор вычерчивал сиденья, шкафы для свитков и учебных принадлежностей, попутно объясняя преимущества или недостатки той или иной древесной породы, сетуя на то, что придётся использовать для полок сосну, а не кедр, которому не страшны жучки, источающие папирус. Эвримен узнавал о растениях, запах которых ввергает в сон и исцеляет от болезней или, напротив, порождает дурное состояние духа и которых следует избегать. Пифагор уверял, что каждому из богов угодно своё дерево: Зевсу — дуб, а его матери Кибеле — сосна, и что древние мастера изготавливали ксоаны богов из разных древесных пород. Тогда впервые Эвримен услышал: «Гермеса из любого дерева не вырежешь». Потом он слышал эту акусму от Пифагора много раз, но уже в применении к людям. Пифагор исходил из материала как данности и, видя дурного от природы человека, не старался его исправить. Он просто его не замечал, стремясь работать лишь с добротным материалом.
Женское собрание
После речи в Совете пятисот Пифагор стал городской знаменитостью. Некоторые, повторяя его наставления «разум — сила», «у друзей всё общее», «дети — наша надежда», «Гермеса из любого дерева не вырежешь», стали называть себя пифагорейцами.
Однако весть, что он намерен собрать женщин, вызвала в городе переполох.
— О чём же будет говорить Пифагор с женщинами? — удивлялись кротонцы. — Не намеревается ли он их наставлять, как вести хозяйство, или — о, ужас! — не хочет ли он их обучить арифметике или геометрии?
Успокоение внесли архонты, ибо их Пифагор известил, что речь пойдёт о воспитании детей.
— Рассаживайтесь поудобнее, — начал Пифагор, обращаясь к кучке женщин. — Я рассчитывал, что вас будет больше. Наверное, многим помешали прийти домашние дела. Но я надеюсь, что вы передадите содержание нашей беседы тем, кто не явился, и, разумеется, своим мужьям, ибо понадобится и их помощь. Вам, наверное, известно, что у Тёплых Вод воздвигается храм Муз, служительниц Аполлона и покровительниц не только искусства, но и знания. И я подумал о своих будущих учениках. Какими им быть, во многом зависит от матерей, от раннего воспитания, которым должны руководить вы. Я говорю — должны, поскольку мне известно, что во многих семьях дети отдаются рабам и рабыням, которые по своей природе не в состоянии заложить основы, достойные будущего гражданина. Я вас призываю отказаться от этого неразумного обычая и взять воспитание детей в свои руки. В раннем возрасте дети очень любознательны, они засыпают взрослых вопросами, они очень любят мифы. О них мы и поговорим. Задумывались ли вы над тем, что надо рассказывать детям?
Пифагор сделал паузу, словно ожидая ответа.
— Наверное, — продолжил он, — вы исключали из известных вам мифов всё, что может показаться детям непонятным. Но я имею в виду другое — нравственное значение рассказываемого. На мой взгляд, из мифов должно быть исключено всё, что бросает на героев тень. Малышу необязательно знать ни о вспыльчивости Геракла, ни о колебаниях Ахилла. Из мифов должно быть изъято всё, что вы не хотите видеть в своих детях, когда они повзрослеют. Конечно, вы им не расскажете о том, как обращался Зевс со своей ревнивой и строптивой супругой, или о битвах богов с сыновьями Земли — гигантами. Ребёнок не в состоянии судить, где иносказание. Мнение, воспринятое в столь раннем возрасте, может искалечить его душу. Нельзя позволять богам и героям бедствовать, независимо от того, как оно описано у Гомера или Гесиода. Пусть дети не узнают о превращении Деметры в нищенку, о страданиях Прометея за благодеяния, оказанные им людям. Дети в ваших руках воск, и вы можете этим воспользоваться на благо городу. Очень опасны мифы, вызывающие у детей ужас, — ребёнок не должен знать о том, что ожидает умерших за их прегрешения в жизни. Дети ведь не совершили преступлений, зачем же им знать о наказаниях, тем более вымышленных?
Немного помолчав, Пифагор продолжил с новой силой:
— На вас, женщины, держится семья, а тот, кто разрушает семью, — враг своего отечества. Поэтому я говорю своим ученикам: «Не гоните жён. Они просительницы за вас у богов». Добавлю: в ваших отношениях с мужьями нет грязи. Для посещения храма вам не надо проходить очищения. Но для той, кто изменит мужу, храм закрыт навсегда.
Речь эта, дойдя до слуха мужей, вызвала у них одобрение, и число тех, кто называл себя пифагорейцами, возросло.
Невидимые нити
И возвратилась в Италию весна, мальчишеская пора года. Рассеялись промозглые зимние туманы, и небо засияло первозданной синевой. Зазеленели окрестные холмы. На крыльях ливийского ветра над Кротоном пронеслись первые перелётные стаи, напомнив обитателям пригорода, что и им пора в путь. По ещё не просохшим бортам и палубам застучали молотки, запели пилы, заскрипели топоры, счищая с килей налипших ракушек. Запахло смолой. Под напором сотен плеч на катках заскользила загостившаяся чужеземная стая к бухте и заплясала на волнах. Надутые зефиром белые крылья уже были готовы понести к дальней, давно ждущей гавани.
На собрании триерархов было решено оставить в Кротоне всех самосцев, слепивших семейные гнезда, отправив их к Тёплым Водам. Там за зиму была очищена от камней площадка и заготовлены стараниями Никомаха брёвна, которых должно было хватить для постройки учебных помещений. Пифагор отдавал предпочтение дереву, пропускающему дыхание неба. Но строить было ещё рано — лес не просох и вырытые за зиму канавы полны воды.
Осмотрев их, Пифагор попросил Эвримена вытащить сачками из воды лягушек и жуков и отнести их в безопасное место, а также привязать к деревьям домики для перелётных птиц.
— Будет сделано, — отозвался Эвримен.
— И змей не трогай, — добавил Пифагор.
Юноша вздрогнул.
— Я как раз подумал о змеях. Неужели и их спасать?
— Природа нас одарила сознанием для того, чтобы мы употребили его на благо ей, не причиняя зла ни животным, ни растениям, даже тем, которые вызывают у нас отвращение, доставляют беспокойство или приносят вред. Вспомни, что рассказывают о Меламподе. Этот муж нашёл общий язык со змеями, и они даровали ему необыкновенную остроту чувств. Однажды, находясь в темнице, он услышал разговор двух древоточцев о том, что балка над его головой перегнила и вот-вот обрушится. И это его спасло. Таким же необыкновенным слухом обладал и юный фракиец, которого я считаю первым своим учеником.
— Ты мне ничего о нём не говорил.
— Это он помог мне увести самосские корабли от персов. Перед этим мы с ним расстались, что, однако, мне не мешает чувствовать движение его души. Между нами словно бы протянулись невидимые нити, позволяющие мне ощущать его волнения и грозящие ему опасности. Сегодня я видел его плывущим на корабле. Солнце било мне в глаза. Из этого я заключил, что корабль плывёт на восток.
Отплытие
И вот настала пора отплытия и прощания. Провожать самосцев вышел весь город. Пифагору приготовили дар. На заре, поднявшись на палубу «Миноса», архонт торжественно зачитал постановление совета и народного собрания Кротона о даровании Пифагору кротонского гражданства со всеми его правами и о воздвижении ему после кончины за счёт города каменной гробницы.
В конце церемонии архонт вручил под приветственные крики и рукоплескания кротонцев Пифагору позолоченный ключ от главных ворот города, сказав:
— Возвращайся, кротонец Пифагор, скорее назад, в свой город. Мы все тебя ждём.
Как только архонт спустился на берег, были подняты сходни. Заскрипели по борту якорные камни, ударили вёсла. И вот уже между заполненным людьми молом и бортом «Миноса» обрисовалась вспененная полоса воды.
Пифагору на миг показалось, что не корабль уходит в море, а море шумит ему навстречу, раскрывая свои бескрайние пределы.
Берег вскоре скрылся из виду, и корабль оказался посреди необозримой, тяжело дышащей равнины, то серой, то зелёной. Он то взбирался на волны, то низвергался в глубину. «Колебание — всеобщий закон, — думал Пифагор. — Колеблется море, колеблется и земля, колеблется пламя. И жизнь — это колебание между рождением и смертью. Это огонёк, то вспыхивающий, то затухающий. Познание сродни уничтожению, как любовь — смерти. Зажигаясь, мы созидаем, а всё созидаемое обречено на уничтожение. И есть ли изъятие из этого закона? Что такое душа? Не колеблющееся ли начало, некое пронизывающее мир дыхание?»
Часть III САМОСЦЫ
Мир ахейских владык был на мифы рассеян.
От микенских дворцов ни двора, ни кола,
И лишь в пику бродяге морей Одиссею
Вознеслась над лагуною эта скала.
И, как прежде, божественный ум Паламеда
Обращён к измельчающим горы волнам
И к далёким, летящим в эфире планетам,
К позабытым народам и их письменам.
Не опасны ему хитрецы и пролазы,
Возвышается он над морями интриг —
Независим от мира превратностей разум
И своей обращённостью к тайнам велик.
И пока хоть одна нераскрытой осталась,
На дворец мудреца не опустится мгла,
Обойдут безразличье его и усталость,
И в песок не рассыпется эта скала.
Навплия
Пифагор, увязая в песке, шёл по берегу круглого, словно бы вычерченного циркулем залива. Впереди высилась одинокая скала с бесформенными остатками древней крепости, носившей имя Паламеда. Ещё в юности, наслышавшись о нём от Ферекида, Пифагор мечтал побывать в этих местах, где когда-то взору едва ли не самого изобретательного из эллинских героев были открыты все тайны природы, ныне забытые, как он сам.
Храм Посейдона был за городской стеной Навплии, видимо, потому, что нижний город Паламеда находился на другом месте, чем современный, отстроенный аргосцами и превращённый ими в свою гавань. Обязанности верховной жрицы Посейдона, отца героя Навплия и деда Паламеда, исполняла миловидная девушка в багряном, опоясанном кожаным поясом хитоне. Она могла оставаться в этой должности до замужества. Заплатив ей деньги за жертвенных животных и узнав, как быстрее добраться до стана изгнанников, Пифагор пошёл по берегу какой-то речки, и именно здесь неожиданно произошла встреча с Эвномом, главная цель его пути.
— Пифагор! — воскликнул Эвном, сжимая брата в объятиях.
Пифагор уловил в его взгляде едва ощутимое беспокойство, подмечавшееся им раньше в глазах таких столь непохожих друг на друга людей, как Анакреонт, Метеох, Ксенофан, некую неуверенность в себе в странном сочетании с вызовом как ответом на возможное неуважение или оскорбление. Ничего подобного не было в выражении лица Меандрия, Леонтиона и даже простых рыбаков. От них исходило спокойствие или чувство родного дома.
— Прежде всего ответь, у тебя ли отец? — спросил Пифагор встревоженно.
— У меня. После того как стало известно о твоём успехе — я имею в виду обман персов, — он воспрянул духом и стал рассказывать о тебе моим сыновьям, и ты для них уже герой.
— А откуда вы узнали об обмане? Неужели персы разгадали хитрость?
— Не знаю. Но, видимо, с персами Поликрат договорился, тем более что, забыв о войне с Кархедоном, Камбиз, как взбесившийся бык, двинулся на эфиопов. Об остальном стало известно от Леонтиона.
— Так он здесь! — вырвалось у Пифагора. — А я готов был поклясться, что если ему удастся избежать встречи с кархедонцами или тирренами, то он окажется где-нибудь в Иберии или даже в океане.
— Встречи с тирренами Леонтион не избежал, — подхватил Эвном. — И она, по его словам, произошла близ берегов Ихнуссы. Там, устроив засаду, он захватил тирренское торговое судно, груженное иберийским серебром. На него мы и приобрели необходимое нам оружие и провизию для войны с Поликратом.
— Теперь у вас будет и флот. Пусть кто-нибудь примет от меня корабли, ибо меня ждут другие дела.
Эвном с осуждением посмотрел на брата:
— Корабли примет Силосонт. Но о каких делах ты говоришь? Разве есть что-нибудь важнее, чем освобождение родины?
— Есть такое дело, — отозвался Пифагор. — Я тебе о нём расскажу. Вернувшись после долгого отсутствия на Самос, я надеялся там обосноваться. Но оказалось, что это невозможно. Затем на пути из Кархедона в Навплию я посетил Тиррению, побывал в ряде городов. Из побережий, занятых эллинами, самое безопасное место близ пролива — там, где Кротон, хотя варвары, как и всюду, под боком. Мне же нужно десять — пятнадцать лет спокойствия, чтобы создать там школу, написать справедливые законы, чтобы вывести породу эллинов, не уступающих в мудрости вавилонянам и индийцам, но служащих эллинской идее.
— Какую же ты прекрасную цель избрал, брат! — воскликнул Эвном.
Выздоровление
Закончив утренний осмотр больного, Демокед устроился рядом с ним на ложе.
— Радуйся, Поликрат! Сердце бьётся куда ровнее. Очистилось дыхание. Ресницы не дрожат. Здоровье как будто идёт на поправку. Но лечение будем продолжать до полного выздоровления. Избегай переполнения желудка, равно как и его пустоты. В знойный день старайся быть у воды. Не ешь круто замешенного хлеба. Если возобновится головокружение, пей назначенный тебе отвар. Немного увеличим время прогулки, пока до храма Артемиды, потом...
Поликрат вскочил.
— Да какое там до храма Артемиды! — воскликнул он. — Я готов обежать весь остров.
Демокед неодобрительно покачал головой:
— Такое бывает. Не подкреплённый физическим состоянием душевный подъём... В этом случае перенапряжение крайне рискованно. Объясню по порядку.
— Что тут объяснять! — выкрикнул Поликрат. — Пришла весть о разгроме безумца Камбиза. Теперь ему не до нас.
— Успокойся, Поликрат! Волнение тебе противопоказано. Где твоя собака?
— За Реею тебе великая благодарность. Лучше любого из твоих снадобий. Погрузишь пальцы в её загривок — и словно в Элизии[42]. Правда ли, что она из породы собак, сопровождавших царя Реса, явившегося на помощь Трое?
Демокед рассмеялся:
— Не думаю. На языке варваров, окружавших Кротон, «рес» означает «царь». Наверное, то же значит и Реся.
За дверью послышалось ворчание.
— Слышишь? Голос подаёт моя четвероногая царица. Привязалась она ко мне, всюду сопровождает или под дверью ждёт.
— Но ты начал говорить о Камбизе, — проговорил Демокед. — Каким образом его разбили эфиопы?
— Они его не разбивали. Он вступил в схватку с пустыней и остался без войска... У меня исчезло давление в висках, прошло головокружение. К концу месяца ты наконец сможешь возвратиться в Кротон. Тебя доставят до Коринфа, а там возьмёшь любое судно, привёзшее кротонцев в Олимпию, если, конечно, не захочешь сам побывать на играх. В них же наверняка будет участвовать твой друг Милон!
Взгляд Демокеда потеплел.
— Разумеется. Он не пропускает ни одной из игр, и каждая из них — триумф для Кротона. Но отправляться ли мне на игры, видно будет в Коринфе.
Силосонт
С дороги на Аргос открылась пологая долина. Около сотни юнцов, разбившись на отряды, бегали, прыгали, метали копья. Ими руководил плотный седой муж в доспехах.
— Да-а... — разочарованно протянул Пифагор. — И с такими-то силами вы собираетесь осадить и взять Самос? У Поликрата одних критских стрелков не менее тысячи.
— Но ведь это наши эфебы, — с гордостью, проговорил Эвном. — Среди юношей мой первенец Мнесарх. Он уже дал клятву верности, взяв в свидетели Геру. Это же отборный священный отряд, «гоплиты Геры». Ими командует наш благородный Силосонт, обучая всему, что должен знать и уметь воин. Видишь, он к нам направляется.
И вот Пифагор в крепких объятиях Силосонта, и ещё через мгновение они полулежат на траве среди трещащих цикад. Силосонт не похож на своего брата, но кипучая энергия Поликрата ощущается во всём облике этого немолодого, но ещё крепкого человека.
Силосонт улыбнулся:
— Я уже давно слежу за тобой. Сначала я узнал от Эвнома об «исчезновении брата». Твоё появление на нашей родине тоже не осталось для меня незамеченным. Гражданская распря — всё равно война. На любой войне не обойтись без лазутчиков. Один из них побывал в твоей пещере. Ещё не видя тебя, я оценил твою мудрость, но мог ли я предположить, что муж, углубившийся в числа и столь чуждый Аресу, совершит то, что оказалось бы не под силу и нашему герою Анкею! Надо же! Опираясь на предвидение, увести из-под носа Камбиза целую флотилию и уберечь её в местах, где пострашнее любой посейдонской бури кипит соперничество морских держав. Каждая из них, должно быть, была нацелена на беззащитные самосские корабли?
— О нет. Кархедонцы и тиррены — союзники, и решение первых — закон для вторых. От сиракузян же нас оберегали... — А я тоже о тебе слышал, Силосонт. Ты служил в юности у Амасиса в качестве наёмника, а потом вернулся к нему как изгнанник. Но как же Амасис принял тебя, находясь в дружбе с Поликратом?
— Дружба эта была прочной только в первые годы, во многом благодаря Родопее, а потом Амасис понял, что Поликрат ведёт свою игру. Да и с Родопеей он разошёлся. Поэтому он отнёсся благосклонно ко мне и к другим самосцам, и это для Поликрата не было секретом.
— Я слышал, что Амасис чем-то досадил Камбизу и, вызвав его гнев, был им убит.
— О нет. Амасис умер своей смертью. Возможно, весть об объявлении ему войны ускорила его кончину. Через Навкратис — я, как и многие другие самосцы, жил тогда в этом городе — проходило египетское войско во главе с Псамметихом, сыном Амасиса, направляясь к границе, чтобы преградить путь персам. Ионийские наёмники, помнившие меня ещё юношей, уговорили к ним присоединиться.
— Конечно же, — вставил Пифагор. — Поликрат оставил тебя без всего.
— Да нет! — возразил Силосонт. — Я помню, кем был Амасис для ионийцев, и поэтому меня пугало персидское завоевание. Пока мы укрепляли Пелусий — египтяне, многие годы отражая набеги ливийцев, не ожидали нападения с востока, — появились персидские полчища. Камбиз провёл их через сирийскую пустыню. Со стен было видно, как персы гонят кнутами к нашим укреплениям карийцев и лидийцев. Они отличаются по вооружению от персов и мидийцев. Первый бешеный натиск был отражён. И вот ночью стражи заметили подбирающихся к воротам персов. Их вёл галикарнасец Фанес. Незадолго до этого он у нас в Навкратисе посвятил Аполлону статую. Воины Камбиза залегли, а Фанес...
Силосонт замолк.
— Что же ты остановился? — спросил Пифагор.
— Страшно вспоминать. Наши, схватив Фанеса, наклонили его над пифосом и отсекли ему голову. Затем они влили в пифос амфору вина. Вот этот напиток мне пришлось выпить вместе с другими. Разъярённые предательством, мы ринулись в бой и долго гнали напавших. Затем нас окружили. В живых остались немногие.
Раненный, я выполз с поля боя и добрался до Мемфиса, где у меня были друзья среди египтян. К празднику явления нового Аписа рана затянулась. Камбиз, возвращаясь из Эфиопии, вступил в город и, не зная египетских обычаев, принял праздничное ликование за мятеж.
— И ты видел, как он заколол Аписа?
— О чём ты говоришь? На моих глазах вокруг Аписа резвились египетские мальчики, что-то выкрикивая, а он мычал, поматывая огромной головой, кажется и не подозревая, что его считают воплощением бога. А сдох Апис, как мне стало известно, уже позднее, когда Камбиз находился в Эфиопии. И жрецов, вопреки тому, что болтают эллины, персы и пальцем не тронули.
— Какое счастье! — воскликнул Пифагор. — Значит, не погибла многовековая египетская мудрость, о которой я так много слышал от моих вавилонских учителей.
— Не погибла, — ответил Силосонт. — Жрец Уджагорресент, мой гостеприимец, в последние годы правления Априя служивший Исиде, не примирившись с самозванцем Амасисом и за это подвергшийся гонениям, назначен Камбизом Великим Врачом и одновременно управляющим дворцом, отныне принадлежащим Камбизу.
— А как персы относятся к эллинам, оказавшимся в Египте? — спросил Пифагор.
— Посуди сам по моей истории. Иду я в своём алом гиматии по Мемфису, и вдруг ко мне подходит персидский воин с толмачом-эллином. Персу — а это был царский телохранитель Дарий — понравился мой гиматий, и он попросил уступить его за любые деньги.
— И сколько ты с него взял? — спросил Пифагор.
— Я объяснил, что не торговец, а воин, и речь может идти лишь о подарке. И тут же, сняв гиматий с плеч, передал его персу. Тот, узнав моё имя и родину, сообщил мне, что вскоре в Навкратис должны прибыть из Самоса корабли для затеянной Камбизом войны с Кархедоном. Естественно, я поспешил в Навкратис, чтобы повидать сограждан. Но корабли так и не прибыли. А Камбиз, их не дождавшись, повёл войско против эфиопов.
— Ну и чудеса! — воскликнул Пифагор. — Наши судьбы, не скрестившись в Навкратисе, соединились в Навплии. И всё то время, в какое ты готовил войско для вторжения на Самос, я вёл к тебе самосские корабли, необходимые для осуществления твоего замысла. На них и люди.
— Тех, кто захочет принять участие в освобождении Самоса, — сказал Силосонт, — мы примем в свои ряды. Метекам пообещаем вернуть их дома и имущество, может быть, часть из них вольётся в наше войско. Тех же, кто не хочет воевать, неволить не будем. В твоё полное распоряжение будет оставлен корабль, на котором ты плыл, со всею командой и кормчим. Насколько я понял, ты собираешься в Новую Элладу?
— Не сразу. У меня много дел в старой. Вот хочу побывать в Олимпии. Не отпустишь ли со мной брата?
— Конечно же! — отозвался Силосонт. — Ведь сейчас священный мир. Но, к сожалению, не для меня.
Тревога
Хлопнула дверь. Живость, с какой тучный Меандрий вступил в лесху, и бледность его лица не оставляли сомнений в том, что принесённая им весть будет не из приятных.
— В Навплию прибыли наши суда, — произнёс казначей, опуская голову. — Все сорок кораблей. И знаешь, кто их привёл? Пифагор!
— Д-да, — протянул Поликрат. — Ждали беды с головы, а она с хвоста нагрянула. Теперь Силосонту ничего не стоит договориться с эфорами.
— Конечно! Гостей можно ожидать в любое время, а у нас всего одна трирема. На керкурах их не остановить...
— И только подумай! Все напасти от Пифагора, — произнёс Поликрат не сразу. — А мне он казался человеком безвредным, углублённым в свои числа. Я восхищался его умом. Тебе надо посетить его отца.
— Я к нему бросился первым делом. Дом забит. Никому из соседей неизвестно, где хозяин. И вообще мне кажется, что это не первый удар, нанесённый тебе этим мудрецом.
— Что ты имеешь в виду?
— Возвращение перстня.
Поликрат полюбовался блеском смарагда.
— Не хочешь ли ты сказать, что Пифагор причастен к этому чуду?
— Этот человек — маг, и ему может быть доступно такое, о чём мы и не догадываемся. Перед отправлением кораблей из беседы с ним я понял, что он слышал мой разговор с писцами, находясь на расстоянии полустадия. Или, может быть, он прочёл мои мысли. И я решил его не отпускать. Однако что-то заставило меня ему уступить. Но это пустое. Теперь у нас иные заботы.
— Давай рассуждать здраво. Помешать высадке мы не в состоянии. Она может произойти в любой части острова. Надо перекрыть вход и выход из Самоса всем торговым судам. Часть критян должна быть незаметно выведена за стены, чтобы ударить по высаживающимся. Этот отряд я возглавлю сам. Ценности, что в Герайоне и в других храмах, ночью, не поднимая шума, по подземному ходу перенеси во дворец.
— А не обратиться ли за помощью к Оройту? Ведь после поражения Камбиза он присмирел.
— Во всяком случае, отправь к нему гонца с просьбой о встрече. И вот ещё. У тебя есть свои люди на Пелопоннесе. Может быть, удастся поднять илотов или просто распустить слух о подготовке ими мятежа. В этом случае спартанцы, к которым Силосонт может обратиться за помощью, не покинут Пелопоннеса.
— Прекрасная мысль! — обрадовался Меандрий. — Я немедленно возьмусь за дело. Кроме того, не думаешь ли ты, что имеет смысл сейчас же расплатиться с критянами? Ведь мы им задолжали за три месяца.
— Отдай им деньги немедленно. И всех, кто вызывает подозрение в сочувствии Силосонту, отправь в Горгиру.
— Мне казалось, что от них я уже избавился, — отозвался Меандрий. — Но ты прав. Некоторые из них могли попрятаться в горах. Я прикажу держать все ворота на запоре.
— Этого делать не следует, чтобы не вызывать волнений. Но стражи пусть следят за всеми, кто входит и выходит.
Лаконизм
Простившись с Пифагором, Силосонт сразу же отправился в Спарту. Прежняя его попытка договориться с эфорами была неудачной, как он полагал, вовсе не из-за длинной речи. Просто эфоры знали, что у самосских беглецов не было ни денег, ни кораблей. На обещания расплатиться казною Поликрата после захвата Самоса они не полагались. Вопреки тому, что было сказано Пифагору о серебре Леонтиона, главная часть его оставалась нетронутой. Эфоры смогут получить задаток немедленно. А в качестве залога за остальное теперь можно будет оставить пару кораблей. «Нападение сразу же после окончания священного мира окажется неожиданным и принесёт успех», — рассуждал Силосонт, шагая по заросшему бурым камышом берегу Эврота[43].
И вот он уже на площади, перед дверью, через которую, как говорили, не проскользнёт ни одно словечко, перед невысоким зданием, где вот уже полстолетия решались судьбы Спарты. В прошлое своё посещение он находился тут же, подбирая слова, которые могли бы убедить эфоров, что Поликрат угрожает Спарте и её союзникам. Тогда ему показалось, что владыки Спарты не представляют себе ни расположения островов, ни опасностей самосского владычества на морях. Самос виделся им невероятной далью. Теперь же, когда Спарта заключила союз с Коринфом, устранение Поликрата становилось для них реальностью.
Дверь отворилась, и Силосонт услышал:
— Заходи!
Эфоры, все пятеро, сидели за столом. Но в лесхе был ещё один муж, судя по доспехам военачальник.
— Говори! — обратился к вошедшему один из эфоров.
— Раньше у нас не было флота, — начал Силосонт, стараясь быть предельно кратким. — Теперь он есть. Мы готовы оплатить расходы и дать в залог корабли. Плыть вот сюда. Пока не опередили афиняне.
Силосонт выложил на стол глиняную пластину с обозначением Пелопоннеса, Самоса и лежавших между ними островов.
Это была копия части карты ойкумены, вычерченной Анаксимандром на бронзовой доске. Эфоры, кажется, даже не знали, что существуют такого рода изображения.
Пять голов склонилось над доской.
Выждав время, Силосонт пояснил:
— Путь прямой. Через острова Кифенос, Сирое, Микинос и Икарию.
— А это что? — поинтересовался один из эфоров, ткнув пальцем в берег Азии против Самоса.
— Мыс Микале.
— А это?
Эфор перевёл палец выше и повёл его к морю, повторяя зигзаг Меандра.
Силосонт метнул на эфора взгляд. Вспомнились слова отца: «Не суди по внешности». Нет, спартанцы вовсе не дуболобые. Может быть... они не очень хорошо разбираются в географии, но зато поле зрения их как политиков широко. Намёк схвачен на лету. Им известно, что казначея Поликрата зовут Меандрием и что он изворотлив, как река, давшая ему имя, что он мечется между Афинами и Мегарами.
— Это побережье Азии.
— Подожди за дверью! — было приказано Силосонту.
Через некоторое время вышел старший эфор и объявил:
— Чужеземец! Если доставишь двадцать талантов и дашь в залог три корабля, получишь отряд во главе с царским сыном Дориэем.
Эфор взглянул в сторону сидевшего у стены плечистого юноши. Тот встал и протянул Силосонту руку. Рукопожатие было крепким.
Дорога в Олимпию
Главная из семи ведущих в Олимпию древних дорог тянулась вдоль Ладона, притока Алфея[44], повторяя его плавные изгибы. Пифагор и Эвном оказались в людском потоке, движущемся в одном направлении. Среди идущих не было ни одного знакомого лица, но, поскольку всех вела общая цель, в раскалённом неподвижном воздухе сквозило нечто всех сближающее, и праздник эллинского единения начался задолго до его торжественного открытия. На привалах у источников или под куполами деревьев незнакомые друг с другом люди охотно делились запасённым на дорогу съестным, а те, кто уже побывал на прославленных играх, — впечатлениями. И хотя каждый из говоривших, захлёбываясь, сыпал именами и успехами олимпиоников, прославивших его город и удостоившихся необыкновенных почестей, все ощущали себя эллинами и не забывали об угрозе с Востока.
На одном из привалов из оживлённого, сопровождаемого жестикуляцией разговора соседей Пифагор узнал, что Камбиз разгромлен в Эфиопии.
— Свершилось! — воскликнул Пифагор, взглянув на брата.
Эвном поднял голову.
— Судьбы царств, городов и смертных стягиваются в невидимый узел, — продолжал Пифагор, — пока не наступает то, что может быть названо развязкой. Свидетелем одной из таких развязок я стал, находясь в Вавилоне, в этом великом городе, павшем к ногам вождя воинственных пастухов Кира. До этого Киру удалось стать наследником мидийского царя, захватить Лидийское царство вместе с зависимыми от неё ионийскими и эолийскими полисами. Так появилась колоссальная Персидская держава, а главарь ватаги пастухов стал царём царей. Все эти годы после падения Вавилона я находился в Индии, и до меня доходили лишь отзвуки этих поистине грандиозных событий. Но, возвращаясь на родину через Вавилон, я узнал, что первой гробницей Кира, погибшего от рук царицы скифских пастухов Тамирис, стал кожаный бурдюк с его собственной кровью, куда была ею брошена голова ненасытного завоевателя. Такова была развязка для Кира, но не для созданной им державы. Изучая в Вавилоне астрономические записи, в которых отразилось прошлое этого величайшего из городов, я заинтересовался судьбою ассирийцев, создавших такую же могущественную державу, какими были Вавилон, Мидия, а после них — Персия. Я понял, что державы не могут существовать без завоеваний. Без них они разваливаются, как шалаши, сбитые на скорую руку.
По мере приближения к цели дорога заполнялась всё больше и больше и стала напоминать главную улицу Самоса в день Геры. Было жарко, как на сковороде. Одеяния и обнажённые части тел идущих покрылись густым слоем пыли, и сквозь неё блестели одни глаза.
Пифагор прибавил шагу и оказался перед временными жилищами тех, кто успел прибыть заблаговременно. В толпе, собравшейся со всех сторон населённого эллинами мира, словно иглы в густой ткани, сновали водоносы, торговцы пирожками и глиняными фигурками животных для тех, кто не мог или не хотел раскошелиться на покупку телки или барана для заклания Зевсу Олимпийскому, Гере, Гераклу и другим богам. Пахло дымом, ладаном и человеческим потом.
Пифагор растерялся. Как всегда, его пугала беспорядочная толпа. Вдруг послышался крик:
— Пифагор! Сотер[45]! — Голос был знакомый.
Оглянувшись, Пифагор увидел проталкивающегося к нему Эвпалина. Поздоровавшись с Эвномом, мегарец обнял Пифагора.
— Сотер? Почему ты меня так называешь?
— Так тебя с недавнего времени называет вся Эллада. Конечно же многие, особенно на островах, не жаловали Поликрата, но весть о том, что царь отнял у него корабли и вот-вот захватит остров, вызвала ужас. Когда же стало известно, что Поликрат кораблей лишился, а Камбиз их не получил, возникло ликование, и на его волне вознеслось твоё ранее неведомое имя. Впрочем, кто-то здесь уже слышал и о самосской пещере, и о посещении тобой Индии, и даже о том, что ты ученик чудотворца Ферекида.
— Довольно обо мне! — прервал Пифагор. — Я ничего о тебе не знаю. Что ты сейчас строишь?
— Живу в пути. Строю планы, — отозвался Эвпалин с горькой улыбкой. — Поначалу я надеялся, что мне удастся использовать мою смесь на Истме. В своё время Периандр носился с идеей превратить Пелопоннес в остров.
— Я слышал об этом, — отозвался Пифагор. — Но мне казалось, что Периандр, в отличие от Поликрата, был чужд всяким новшествам.
— Это не так! — горячо возразил Эвпалин. — Афиняне, соперники и злейшие недруги Коринфа, распространяют о Периандре всяческие небылицы, например будто тот раздел всех женщин Коринфа, чтобы согреть в Аиде жену, которую сам же и убил. Давай выйдем на агору и расспросим у встречных, что они знают о Периандре. Я уверен, что каждый третий или даже второй повторит эту нелепицу. К сожалению, Псамметих, ныне правящий Коринфом, не похож на своего дядю, — словно вместе с египетским именем, которое ему почему-то дали при рождении, к нему перешли и египетские пороки. Да и вообще со времени Хилона всем на Пелопоннесе распоряжаются эфоры. Так что мне приходится надеяться на иных покровителей. Кто они? Об этом говорить ещё рано. К тому же мы уже пришли. Олимпия по ту сторону реки. Видишь утёс?
— Ещё бы!
— Это Типайон — «страх женщин».
— И почему ты так странно его назвал?
— Сразу за Типайоном брод через Алфей. С холма, как рассказывают, сбрасывают женщин, осмеливающихся нарушить запрет и посетить олимпийский агон[46]. Я не слышал, чтобы в наши дни кого-либо сбросили. Но женщин даже здесь не увидишь. Такова сила страха. Кто же по ним соскучится, может отправиться в Самос.
— Самос?
— Ну да, Самос, или Самикон, как его часто называют, чтобы не путать с твоим островом. Он отсюда стадиях в шестидесяти к югу. На языке местных жителей, потомков пеласгов, Самос — вершина, точнее — «самая высокая».
— Ну и ну! — воскликнул Пифагор. — Кто бы мог подумать: для того чтобы это узнать, мне надо было обогнуть Сикелию и юг Тиррении, пройти весь Пелопоннес!
— Вот мы и дома, — сказал Эвпалин, показывая на шалаш в форме пирамиды, возвышавшийся над беспорядочно разбросанными навесами.
— Узнаю дело твоих рук, — проговорил Пифагор.
В шалаше послышалось движение. Наружу выбрался светлолицый юноша с повязкой, собравшей на затылке длинные волосы.
— Это его работа, — пояснил Эвпалин. — Познакомься с моим помощником.
— Мандрокл, — представился юноша.
— Давайте заползём в шалаш, — перебил Эвпалин. — Там ты расскажешь о своих странствиях.
Великий день
И вот наступил день, ожидаемый с нетерпением всеми эллинами на трёх материках и на бесчисленных островах целых четыре года. И как всегда, в свете Гелиоса вспыхнули черепичные кровли храмов, вознесённые над густой зеленью рощ. Покрытые пожелтевшей травой насыпи вокруг стадиона заполнились возбуждёнными зрителями. Тысячи глаз устремились к колоннаде, откуда вот-вот должны появиться судьи в алых одеяниях и обнажённые атлеты, прошедшие тренировку и допущенные к состязаниям. Ещё на заре они толпились перед дымящейся жертвой и пели старинные песнопения, составленные четверть тысячелетия назад.
Показалась процессия. Насыпи взметнулись в едином порыве, образовав ликующий прямоугольник голов и вскинутых рук, и тотчас же разнёсся тысячеголосый, словно бы вырвавшийся из одной огромной груди крик. Если воспетые Гомером боги наблюдали за схваткой у стен Трои, где сражалось несколько сотен бойцов, то теперь, наверняка с высоты отдалённого Олимпа, они устремили взоры сюда, где чествуют всеми силами мышц и духа их отца и владыку Зевса. Но конечно же им оттуда не узреть того, что могут видеть смертные, и, наверное, не понять, почему одно из произнесённых глашатаем имён вызвало такое ликование.
— Милон! Милон! — гремело по стадиону.
Он герой не какого-либо одного города, но всей разбросанной по материкам и островам Эллады. Ведь все знают, что этот кротонец, которому нет и сорока лет, одержал свою первую победу в беге на Пифийских играх ещё мальчиком, а затем трижды в Олимпии был удостоен венка из священной оливы как победитель в борьбе и за те же шестнадцать лет каждый раз побеждал на Истмийских, Пифийских и Немейских играх. Да, он Геракл этого тревожного века! Никому в ойкумене не столкнуть его с намазанного маслом диска, не разжать его огромный кулак, сжимающий железными пальцами гранат, плод Афродиты.
Удержав дыхание и дав жилам на висках налиться кровью, он силой напряжения разрывает обвязанную вокруг головы верёвку.
Но куда обращён взор самого сильного из людей? Кого он там высматривает среди зрителей? Вот лицо Милона озаряется радостной улыбкой. Он отыскал. Он отделяется от других и взбегает по склону, и все уступают ему дорогу. И вот он почтительно останавливается перед человеком его лет в войлочном петасе на голове и пёстром одеянии. И те, кто рядом, слышат:
— Пифагор! Акрополь знаний уже защищён стенами. Начали строить аудитории[47]. Если дело так пойдёт, работы завершатся к будущему лету. В строительстве помогают многие кротонцы. И вскоре лесной уголок, не рождавший ничего, кроме терновника, принесёт невиданные плоды знаний, которые будут вкушать не только кротонцы, но и вся старая и вся молодая Эллада. А теперь позволь, я провожу тебя на место, которого ты достоин.
И вот они оба идут к местам для почётных зрителей, и известный лишь немногим босоногий муж усаживается рядом с членами совета Элеи, жрецами, почётными чужестранцами. И все эти люди встают, приветствуя незнакомца, которого привёл сам Милон, ещё не зная имени этого человека и не догадываясь, что самый сильный атлет на земле — его ученик.
— Куда ты меня привёл? — спросил Пифагор шёпотом. — Это же, судя по одеяниям моих соседей, скамья для жрецов!
— Были и мудрецы, — отозвался Милон. — Во время первой из моих Олимпиад здесь сидел один из семи — Хилон, эфор Спарты. Здесь же он и умер.
— Умер?
Милон широко улыбнулся:
— Тебе это не грозит — ведь в забеге участвовал его сын и пришёл первым. Смерть от радости. А теперь я тебя ненадолго покину.
— Твоё выступление?
— Нет, жеребьёвка.
Поле на несколько мгновений опустело. Его заполнили люди с граблями. Надо было выровнять песок и очистить его от посторонних предметов, которые могли бы помешать агону. Затем появился верховный жрец в сопровождении служителей, гнавших белых овец.
Наблюдая за тем, как жрец и его свита движутся к алтарю Зевса у восточного входа, Пифагор оживлял в памяти связанные с этим пространством предания: «Фригийский правитель Тантал, удостоенный участия в пиршествах богов, угостил олимпийцев мясом собственного сына Пелопса. Не заменяет ли жертва белых овец жертвоприношение, подобное тому, о каком сообщают священные книги иудеев? И не пришёл ли сюда этот обычай с Востока, как явился и основавший игры герой с плечом из слоновой кости?»
— Вот и я! — послышался голос Милона.
Пифагор подвинулся и ощутил железную мощь тела атлета.
— Неудача! — воскликнул Милон. — Жребий соединил меня со слабым противником. Он может отказаться от схватки, и тогда победа достанется мне без боя и дорогу, ведущую к храму Зевса, украсит моя статуя.
— При чём тут статуя? — удивился Пифагор.
— Таковы правила. Трус уплачивает штраф. На штрафные деньги ставят статую олимпионику. У храма Зевса их целая фаланга.
Пифагор обратил взгляд к храму. Ведущая к нему дорога была с обеих сторон окаймлена статуями.
Неужели было столько трусов?
— Штраф берут и за попытку подкупа. Но вот, я вижу, выходят трубач и глашатай. Мы дождались бега, который голова всему. Бег коней, в котором Пелоп победил Эномая.
— С помощью обмана, — перебил Пифагор. — А штрафных денег с него не взяли. И более того — назвали полуостров его именем.
Тем временем трубач и глашатай вышли на середину поля. Зазвучала труба, возвещая начало забега, и раздался зычный голос:
— Пусть выходят бегуны!
Их четверо, обнажённых, совершенных в юной красоте. Пока они подходят к белому порогу с протянутыми вперёд руками, упираются ступнями в ямки, глашатай выкрикивает имена состязающихся, называя их родину — Афины, Сиракузы, Спарта, Хиос.
Вперёд сразу же вырываются спартанец и афинянин. Они мчатся, едва касаясь земли. Хиосец бежит третьим. Но вот он обгоняет афинянина и обходит спартанца. Он первый. Судья поднимает его руку и вручает победную ленту, жрец передаёт факел, и под торжествующий рёв загораются уже лежащие на алтаре жертвы.
— Мой выход вечером, — внезапно проговорил Милон. — Но мне бы не хотелось, чтобы ты стал свидетелем постыдного зрелища. Лучше походи по Олимпии.
Пифагор решил начать с посещения олимпийского храма Геры, не уступавшего по древности самосскому, но не испытавшего его бедствий.
Конечно же такого нет нигде. Взгляд выхватил и отделил среди каменных колонн одну деревянную. Коснувшись кончиками пальцев гладкой поверхности, Пифагор ощутил её древнюю неиссякающую теплоту.
И снова в глазах его потемнело. Он увидел себя стоящим у мачты корабля и вглядывающимся в невысокий берег. «Пеласгия!» — услышал он слова кормчего и вслед за ними плеск коснувшихся волн якорей.
— Да хранит тебя Посейдон! — проговорил Эвфорб, подходя к борту. — Можешь отчаливать.
— Нет, я тебя дождусь.
— Откуда у тебя такая уверенность ? — отозвался Эвфорб.
Ноги коснулись дна. И вот он бредёт по пояс в воде, повторяя одно и то же: «Парфенона... Парфенона».
И снова мелькнул свет. Эвфорб ощутил себя Пифагором. Оторвавшись от деревянной колонны, он вступил в пронаос, и взору открылась каменная фигура богини на троне. Вскинутые дуги бровей, взгляд, источающий спокойствие. «Конечно же, — подумал Пифагор, — статуя моложе храма на много столетий».
Из-за боковых колонн послышались размеренные голоса.
— Нет, это не Елена, а человек, замахнувшийся на женщину, — вовсе не Менелай. Ведь Менелай, приняв возвращённую ему Елену, отплыл с ней в свою Спарту.
— Ты прав. Сравни это изображение с тем, что на четвёртом поле, где Елена стоит в окружении братьев Диоскуров. Совсем другое лицо. А там имеется надпись: «Вот Тиндариды Елену ведут».
«Толкователи!» — усмехнулся Пифагор и, подойдя к спорившим, протиснулся между ними к деревянному ларцу с наложенными на поверхность пластинами из слоновой кости и золота. Художник смешал в четырёх рядах мифы Трои, Афин, Коринфа, Мегар. Над головами многих персонажей были надписи бустрофедоном в одну или несколько переплетающихся линий, поворачивающихся, как ходят быки по пашне[48] или разворачиваются атлеты при двойном беге.
Сколько ни вглядывался Пифагор, он не отыскал ни изображения Анкея, ведущего «Арго» через Симплегады, ни Окирои, уносимой с корабля Аполлоном, ни, что его более всего удивило, сцены рождения Геры под самосской ивой. Конечно, художник никогда не читал Асия.
— Брат! — послышался голос Эвнома.
Пифагор оглянулся.
— Я видел Меандрия! — взволнованно проговорил Эвном. — Меня он, к счастью, не узнал.
— Ну и что? — удивился Пифагор. — Почему бы ему не побывать на играх?
— Я за ним последовал и оказался у самосской сокровищницы. Там его ожидало несколько человек, судя по говору пелопоннесцев. Поздоровавшись, Меандрий увёл одного из них внутрь. Другие ждали, а после его возвращения стали заходить по одному и другие. Поликрат что-то затевает. Я должен тебя покинуть.
— Вот тебе и священный мир! — воскликнул Пифагор.
Эвном пожал плечами.
Спартанцы
Дориэй вёл отряд по пыльной улице Спарты. На нём не было ни серебряных доспехов, ни чего-либо другого, свидетельствующего о его царском происхождении. Только отворот гиматия на спине отдалённо напоминал львиную шкуру, указывая, что это потомок Геракла.
Не доходя до дома эфоров, Дориэй крикнул:
— В ногу!
И спартанцы ударили сандалиями по земле с такой силой, что все вокруг скрылось в густом облаке пыли. Но эфоры на шум шагов не вышли, и в сердце Дориэя вкралось сомнение — заинтересованы ли эфоры в его победе.
На воинов приказ двигаться в Навплию для посадки на корабли как будто не произвёл никакого впечатления. Они и их родители не были встревожены. Походы здесь были обыденным делом. До околицы отряд провожала лишь одна женщина, молодая жена Архия. По ней было видно, что по возвращении его будет ждать первенец. Месяц назад Архий вернулся из Олимпии расстроенным, на этот раз без оливковой ветви, и женщине хотелось побыть с ним подольше.
Посадка прошла без спешки. Воины заняли на палубе заранее указанные места, Архий вместе со своим другом Либоном стоял у мачты, где были сложены щиты. Когда корабли отчалили, Архий спросил у Либона — его назначили старшим команды:
— Куда?
— В Азию.
Помолчав несколько мгновений, Либон добавил:
— На Самос, у Азии.
Конечно, Архий не слышал ни о Поликрате, ни о Поликратовом перстне, ни о брате Поликрата Силосонте, ни о самосских изгнанниках, плывших на других кораблях.
В пути друзья обменивались друг с другом взглядом или парой слов, не проявляя чего-либо похожего на любопытство, хотя в море были впервые, а за пределами Лаконики — только в Олимпии.
Флотилия шла день и половину ночи. Наконец вдали показался скалистый берег с остроконечной горою в белом снежном петасе.
— Керкетий! — объявил кормчий.
Ставший рядом с ним Дориэй махнул рукой в сторону совершавшего разворот корабля с самосскими изгнанниками:
— За ним.
Песня костра
Демокед и Анакреонт шли Священной дорогой, на этот раз совершенно пустой. Занятые беседой, они этого не заметили, так же как не обратили внимания и на увеличение стражи у городских ворот.
— Я сделал всё, что было в моих силах, — сказал Демокед. — Поликрат на ногах. Однако причина заболевания до сих пор мне не ясна. Что могло сломить такую сильную и деятельную натуру? Сам больной считает, что во всём виноват Оройт.
— Это так и есть, — подхватил Анакреонт. — Первый приступ начался в день внезапного появления на острове сатрапа. Увидев перед собой голову мумии, Поликрат лишился чувств и жил всё время до твоего прибытия как во сне. Снаряжением и отправкой в Египет затребованных персами кораблей занимался Меандрий.
— Но что это за странная история с перстнем? — продолжал Демокед. — Когда я беседовал с Пифагором...
— Как?! Ты видел Пифагора?! Почему же ты мне об этом никогда не говорил?
— Это моё обыкновение, — отозвался Демокед. — Я не говорю о больных до окончания лечения.
— Больных? — воскликнул Анакреонт. — Кого ты имеешь в виду?
— Конечно же Пифагора. Болезнь его для меня тоже загадка. Медицина ещё не определила её названия. Скорее всего, это избыток воображения. И в этом, мне кажется, таится большая опасность для окружающих. Сам же больной испытывает после каждого приступа радость обновления.
— Ты, наверное, имеешь в виду его уверенность в прошлых жизнях? Но разве это кому во вред? Благодаря видениям, даже если это болезнь, ему становится доступным такое, чего не в состоянии пережить никто из смертных. Если я не ошибаюсь, видения — источник его интереса к загадкам природы. Я был свидетелем того, как он занимался изучением звуков, и даже ему помогал.
— Что ни говори, но эти опыты, конечно же достойные одобрения, не согласуются с бредом о предшествующих жизнях. А его завораживающий ум может принести тем, кто с ним общается, кто ему верит, непоправимый вред, и если...
Бросив взгляд на море, Демокед внезапно осёкся.
— Взгляни, Анакреонт, корабли! Паруса уже свёрнуты. Готовится высадка.
— Да. Целая флотилия.
— Не персы ли это?
Заслоняясь от солнца, Анакреонт поднял ладонь ко лбу.
— Да нет! Это самояны. Видишь, две мачты. Я узнаю силуэт. А ведь самояны ходят только у нас. Значит, это отправленные в Египет корабли. Пифагор сохранил их и возвращает родине.
Загудели флейты.
— Да это же дорийская мелодия! — воскликнул Демокед. — Бежим скорее под защиту стен. Вот и загадывай наперёд! Судьба всё равно распорядится по-своему!
Друзья заторопились. Вслед за ними при виде приближающихся кораблей устремились и рыбаки.
Спартанцы, подхватив щиты, деловито сошли на берег и встали строем. На некотором расстоянии от них выстроились воины Геры.
К Дориэю подвели белую козу. Ударив по шее животного мечом наотмашь, он воззвал к Аполлону и громко крикнул:
— Надеть венки!
Как только команда была выполнена, царевич махнул рукой. Тотчас вышли флейтисты и зазвучала мелодия песни костра. Под её звуки Дориэй возглавил строй. Рядом с ним встали олимпионики Архий и Либон, и только тогда царь запел, и песню подхватили сотни голосов.
Ветер схватки подул, и огонь наших душ разгорелся, Силы нет на земле, чтобы его погасить. Сомкнуты наши ряды, копья готовы к полёту. Зевс, владыка богов, смотрит с Олимпа на нас.За этим захватывающим зрелищем восхищённо наблюдали Силосонт и Эвном.
— Семь лет я ждал этого дня! — вырвалось у Силосонта. — Освобождение Самоса началось.
— И кто бы, глядя на этих храбрецов, мог подумать, что спартанцы на чужой земле, — отозвался Эвном. — Может быть, они даже не знают, кто их противник. Им это знать необязательно: эфоры приняли решение, совет старейшин его подтвердил, их дело — выполнять приказ.
— Когда я покидал Самос, — вздохнул Силосонт, — меня провожала возбуждённая толпа. Меня любили. Я до сих пор не могу этого забыть. Скажи, Эвном, где эти люди, верившие мне?
— Конечно, в городе, — проговорил Эвном, вставая. — Мы же видели с корабля, как отовсюду бегут к стенам. Мне кажется, они увели даже собак. Ведь не слышно лая. Только блеяние. Овцы мечутся по равнине. По крайней мере с голода мы не умрём.
— Не умрём, — согласился Силосонт. — Пищи всем нам хватит надолго. А вот терпения... Если город не будет взят через месяц, спартанцы нас бросят, и у нас не останется даже тени надежды.
— Не каркай! — воскликнул Эвном. — Спартанцы зря обещаний не дают. Будем надеяться на удачу. Но вот, я вижу, зажёгся костёр. Пойдём обогреемся.
Чудотворец
Позади остался холм, напоминающий каменоломню. Из бесформенных, заросших плющом развалин поднималось некое подобие ворот с изображением вздыбленных львиц. Это было всё, что судьба оставила от златообильных Микен.
Дорога через низину вскоре привела к невысокому строению, в котором угадывался храм. Сойдя на обочину, Пифагор обратился к своим спутникам:
— Давайте соберём для Геры цветы и поднесём ей, владычице городов и героев, супруге Зевса.
И вот уже они у колонн святилища с охапками полевых цветов. Но вход преградила старуха в белом одеянии со злым сморщенным лицом.
— С цветами внутрь нельзя, — проговорила она хриплым голосом.
— А с чем можно? — спросил Пифагор.
— С жертвами, чужеземцы. Вступая в теменос, вы должны бы видеть коров и телят, трёх павлинов. Кукушки уже раскуплены. Приобретя что-либо из имеющегося или же изображения животных и птиц из серебра, бронзы, глины или дерева, вы сможете лицезреть нашу Геру.
— А я уже её видел, — сказал Пифагор — Ведь у нас на Самосе копия ксоана вашей Геры. Её привёз мой предок Анкей.
Старуха отступила.
— Самосцы, входите, но ваши дары оставьте у входа. Мы их скормим возлюбленным Герой животным.
Опустив цветы на землю, Пифагор и его спутники вступили в храм. Он встретил их полумраком и блеском пожертвованных владычице драгоценностей.
Жрица семенила сбоку, поясняя:
— Эта золотая кукушка — дар владыки Коринфа Периандра. Он отметил им одну из своих побед. Это изображение павлина из драгоценных камней на серебре — приношение посетившего наше святилище царя Лидии Креза. А эта деревянная раскрашенная корова с золотыми рогами — дар фараона Амасиса, переданный священным посольством.
Когда дошли до оружия, Пифагор, вглядевшись в один из старинных щитов, воскликнул:
— А это мой щит!
— Твой? Но это же дар самого Менелая, лжец!
— Ты меня не поняла, почтенная. Ведь я не сказал, что принёс этот щит в храм. Но щит принадлежал мне, когда я был Эвфорбом, троянцем Эвфорбом, и прибыл я к ныне разрушенным стенам Микен, чтобы освободить свою невесту, захваченную Менелаем и переданную им брату Агамемнону.
— Но кто ты такой?! — воскликнула старуха.
— В этой жизни я Пифагор, сын Мнесарха.
— Слушай, Пифагор, или как там ещё тебя, вот уже четыреста лет как в храме ведётся летопись, куда заносится всё самое существенное, а о поединке под Микенами записи нет.
— Но Эвфорбом я был семьсот лет назад, когда ещё не было финикийского письма, которым мы ныне пользуемся, и я прошу тебя возвратить мне мой щит. Ведь Менелай одолел меня не силой, а коварством.
— Если это твой щит, не болтай, а представь доказательства.
— Согласен. Ты же поклянись, что, если они будут, возвратишь мне мою собственность.
— Гера свидетельница, ты это получишь.
— Итак, поверни щит, и ты сможешь прочесть моё имя, а не Гектора или Диомеда. Но, повторяю тебе, оно будет написано древними письменами, где каждый знак передаёт целый слог — не торопись поворачивать.
— Мне это трудно понять. Но если на щите действительно будут три знака, ты меня победил.
— Договорились. Теперь можешь поворачивать.
Жрица повернула щит и торжествующе проговорила:
— Тут нет никаких знаков. Ни трёх, ни четырёх.
— Так ты их не найдёшь. Ведь щит скреплён в этом месте пластиной из слоновой кости. Сейчас я её приподниму. Вот эти три знака. Смотри!
Жрица остолбенела. В морщинах лба выступил пот.
— Это чудо! Чудо! — забормотала она. — Чудо в храме, сотворённое Герой-владычицей. Это она привела тебя в храм. Но я слышу голоса. Пойду поведаю о чуде другим.
— Конечно, иди. А щит пусть останется здесь навечно, только не забывай сообщать посетителям, что это щит Эвфорба, когда-то пожертвованный в святилище Геры его победителем — царём Менелаем, затем возвращённый законному владельцу Эвфорбу, ставшему в новой жизни Пифагором.
— Да ты чудотворец... — то ли с восхищением, то ли с осуждением протянул Эвпалин, когда они остались одни. — И как тебе такое удаётся?
Пифагор загадочно улыбнулся:
— Поразмысли над этим в пути.
— Ты опять прочитал мои мысли! — воскликнул мегарец. — У меня и впрямь длинная дорога: сначала Коринф...
— А потом Сузы, — вставил Пифагор.
— И это верно, — продолжил Эвпалин. — У царя царей великие планы. Может быть, найдётся и для нас с Мандроклом хоть какая-нибудь работа. А ты-то куда?
— Пока в Навплию, к отцу. А там в ненавистные тебе Афины за мудростью.
— Обери их до нитки! — выкрикнул Эвпалин не то в шутку, не то всерьёз.
Сражение
В то утро самосцы заметили с городских стен и с кровель приближающиеся столбы пыли. Нет, это не овечье стадо, гонимое до наступления жары в горы, а воины из города, не имеющего стен, ибо лучшая его защита — доблесть мужей. И вот уже луг по обе стороны Священной дороги запылал от блеска вражеских доспехов. Мог ли кто год назад и помыслить о том, что недруги будут грозить городу не с моря, а со стороны Герайона, может быть уже ими захваченного и разорённого. Оставалось надеяться на крепость городских стен и искусство критских стрелков. Но где же они, эти наглые чужеземцы, которых Поликрат все эти годы содержал на средства города для защиты собственной власти? На стенах их не более сотни. Неужели тиран увёл наёмников оборонять и без того неприступную Астипалею, оставив город без защиты?
Наступающие всё ближе и ближе. Уже видны их яростно пылающие глаза и полуоткрытые рты. Уже слышна их песня.
Вражеских полчищ не ждите, о граждане Спарты. Мы на чужой стороне вас прикрываем от бед.И вдруг город огласился ликующими криками. Из-за холма показались критяне. Их вёл сам Поликрат, окружённый телохранителями в синих гиматиях. Засвистели стрелы. Сейчас спартанцы будут прижаты к стенам и расстреляны с двух сторон. Но так могло показаться лишь тем, кто не встречался со спартанцами на поле боя.
Прозвучала команда Дориэя. Спартанцы развернулись и, чего трудно было ожидать от тяжеловооружённых, стали наступать короткими перебежками, явно стремясь отрезать критянам отход к холмам. При виде угрозы Меандрий приказал открыть ворота, и критяне во главе с Поликратом устремились к ним. Но ещё до того как опустился щит ворот, двое спартанцев, отделившись от вождя, бросились вдогонку беглецам. И им одним удалось ворваться в город.
Это были Архий и Либон, На глазах граждан в самом городе развернулся бой двоих против всех. Став спинами друг к другу, храбрецы отражали нападение критян и сразили и ранили многих, пока не пали на том же месте.
Дядя Пифагор
Сразу же, спустившись с холма в низину, Пифагор услышал ребячий визг. Судя по всему, мальчики играли в войну. Те, кто залез на поваленное дерево, — осаждённые, носившиеся вокруг, крича и угрожая палками, — осаждающие.
«Конечно же я у цели, — решил он. — Кто же ещё на Пелопоннесе может изображать осаду и при этом выкрикивать по-ионийски, как не дети самосских изгнанников?! Разумеется, никто им не рассказывал, что Пелопоннес был когда-то родиной их предков, покинувших полуостров, чтобы сохранить свою свободу и речь. Но зато им известно, что их отцы и старшие братья воюют с такими же ионийцами, как они сами, в союзе с теми, кто говорит на дорийском наречии, кто превратил всех остальных, не сумевших переселиться, в илотов. Они, наверное, ещё не обучены счёту, но уже усвоили урок, что Полемос[49] — отец всего. Наверное, он возник вместе с Эросом, как его пара, а потом уже появилось всё остальное — белое и чёрное, сладкое и горькое, жизнь и смерть».
Увидев постороннего, дети замолкли. Те, что были на дереве, сошли вниз и смешались с остальными.
— Воины! — обратился к ним Пифагор со всей серьёзностью. — Простите, что ненароком помешал. Нет ли среди вас сыновей Эвнома?
Вперёд выдвинулся толстощёкий мальчик лет десяти с палкой в руках.
— Ты, наверное, мой дядя Пифагор? — спросил он.
Пифагор улыбнулся.
«Какое простое, доброе и неожиданное слово», — подумал он.
— Да, ты не ошибся. А теперь, сын Эвнома, поведи меня к своему деду Мнесарху. Он, наверное, уже не надеется на встречу со мной и обольёт меня слезами. А потом... а потом ты сможешь вернуться защищать свой Самос, ибо, кажется, разговор предстоит долгий.
Разговор был и впрямь долгим. Если раньше отец мало интересовался двадцатилетними странствованиями сына, об этом последнем, длившемся менее года, он хотел знать всё, особенно то, что произошло после прибытия в Эрик, ибо о том, что было раньше, он успел выспросить у Леонтиона.
После одного из бесчисленных вопросов, которыми Мнесарх прерывал рассказ, Пифагор подумал:
«А ведь верно говорят — что стар, что млад. К отцу вернулась любознательность, о которой я не мог знать, ведь для меня он всегда был взрослым».
Когда расспросы дошли до прибытия кораблей в Навплию и встречи с Эвномом, Пифагор перебил:
— А теперь твой черёд, отец. Ты ведь тоже странствовал. Как тебе удалось вырваться с Самоса? Тебе помог Эвпалин?
— Нет. Эвпалин был ещё на острове, когда ночью, дней через десять после твоего ухода, раздался стук. Я зажёг светильник и открыл дверь. И прежде чем пришелец назвался, я его узнал — ведь я его видел во сне вместе с тобой в день твоего возвращения.
— Ты хочешь сказать, что это Абибал?! — удивился Пифагор.
— А кто ещё другой? Он повёл меня к своему керкуру.
— Но ведь я не мог ему этого поручить! Как он узнал? Как отыскал наш дом?
— И ты меня об этом спрашиваешь?
— Нет, самого себя. Ну и задал мне Абибал загадку! Надо сказать, что, оставив тебя, я всё время испытывал волнение. Ты ведь оставался заложником. Но я ни с кем не поделился. А что, если это Залмоксис?
— Какой ещё Залмоксис?! Ты мне о нём ничего не говорил.
— Раб Метеоха, сына Мильтиада.
— Какого Мильтиада? Херсонесского?
— Да, афинянина. Залмоксис был со мной на корабле до Кипра. Удивительный мальчик! Конечно же это он прочёл мои мысли и догадался о моём волнении. Только он мог направить к тебе Абибала.
Дикари
Поликрат и Меандрий шли по огибавшей город стене, разговаривая вполголоса. Внизу пылали костры, и вместе с едким дымом доносился запах горящего жира. Но голосов не было слышно.
— Молчуны, — пробасил Меандрий раздражённо. — Я просил стражей прислушиваться, о чём они говорят, чтобы хоть что-нибудь выведать об их планах. Жарят и жрут баранину! Иногда перебрасываются отдельными словами и так же молча занимаются эросом.
— Жаль, — сказал Поликрат. — Я ещё думал, не подослать ли к ним наших красоток, чтобы они развязали им языки. Наверное, и те, что ворвались к нам в город, были любовниками.
— На всякий случай, — отозвался Меандрий, — я приказал положить трупы в мёд. Если спартанцы захотят их похоронить, можно будет вступить в переговоры. И ещё я подумал: что заставило спартанцев вопреки их обычаям покинуть Пелопоннес? Обещание богатой добычи?
Поликрат прислонился к выступу стены и внимательно посмотрел на своего казначея.
— Допустим. Хотя мне трудно себе представить, как Силосонт смог их уговорить.
— Тогда, — продолжил Меандрий, — мы можем им дать наличными.
Поликрат рассмеялся:
— Но золото ведь ещё у Оройта.
— Хватит и своего.
Меандрий засунул руку за гиматий, и на его ладони заблестела горсть монет.
— Золотые! — выдохнул Поликрат. — Откуда это богатство? Не отыскал ли ты клад Анкея?
— Главк ведь был самосцем, — торжествующе произнёс Меандрий. — Он научил нас сплавлять металлы.
— Я тебя не понимаю.
— Я наплавил тонкий слой золота на оловянные монеты.
Поликрат взял драхму и всмотрелся в неё.
— При свете луны не отличить.
— Убеждён, что и при свете Гелиоса тоже. На зуб же, надеюсь, они пробовать не будут.
Поликрат пожал плечами:
— Как же ты передашь всё это спартанцам? Спустишься вниз или кинешь со стены?
— Пока у меня лишь то, что в ладонях. Закончим работу, тогда и подумаю.
Сразу после прогулки Поликрат погрузился в сон. И приснился ему ящик с золотом и улыбающееся лицо Оройта, дружески похлопывавшего его по плечу.
Пробудившись, он увидел в предрассветном полумраке очертания другого, привычного лица.
— Меандрий?! — воскликнул он. — Что случилось?
— Ушли!
— Кто ушёл? — не понял Поликрат.
— Спартанцы!
— Как спартанцы? Куда?
— Снялись перед рассветом и, не проронив ни слова, строем двинулись к кораблям.
— Ничего не понимаю.
— Думаю, в Спарте что-то стряслось.
— Вот и не пригодилось твоё фальшивое золото. Я как раз во сне настоящее видел рядом с Оройтом, мне его передающим.
Меандрий промолчал. По лидийским поверьям, золото во сне считалось дурным знаком.
Приглашение
— Мне сказали, что ты хочешь меня видеть, — проговорил Демокед, вступая в лесху.
Он был в белом гиматии с повязкой на лбу и, видимо, только что осматривал раненых критян.
— Это так, — отозвался Поликрат. — Я всегда рад тебя видеть. Но сегодня надо поговорить о деле. Обещание доставить тебя в Коринф, как ты понимаешь, я нарушил не по своей вине. Тебе пришлось пережить волнения осады, лечить раненых. Это не входило в твои обязанности и требует вознаграждения, которое я буду счастлив тебе вручить вместе с прежним долгом и всего через несколько дней, если ты соблаговолишь сопровождать меня в Магнезию. Дело в том, что Оройт отыскал сокровища Креза.
— А перстня его предка Гига, делающего человека невидимкой, он случайно не нашёл? — усмехнулся Демокед. — И с какой стати он решил тебя облагодетельствовать? Ведь это твой злейший враг и, как ты сам мне говорил, виновник твоей болезни.
— Милый мой! — сказал Поликрат, пододвигаясь к Демокеду. — Это политика, а не медицина, и здесь действуют свои законы. Злейший враг подчас становится лучшим другом, и наоборот. Ведь тебе известно, что остров разграблен, а я разорён не кем-нибудь, а Пифагором, доставившим самосские корабли изгнанникам. Оройт — а у него на Самосе есть глаза и уши — понял, какова сила спартанцев, и решил меня поддержать. Зная, что я лишился кораблей, он даёт мне золото для восстановления флота, видя в нём щит для принадлежащего персам Ионийского побережья. Ведь собственного флота у персов нет. Им служат финикийцы, которым, как показала затеянная Камбизом война против Кархедона, полностью доверять нельзя. Таковы, как я понимаю, расчёты, заставившие Оройта переменить ко мне отношение, тем более что теперь он не опасается Камбиза. Что же касается клада, то и я поначалу заподозрил неладное и поэтому послал вместе с гонцом Оройта Меандрия. Оройт показал ему сундук, полный золота, и поведал удивительную историю его находки. Я не буду пересказывать. Конечно же, если ты в чём-то сомневаешься, можешь подождать моего возвращения. Если же будешь меня сопровождать, то на том же корабле — он теперь у меня единственный — отправлю тебя в Коринф или, если пожелаешь, прямо в Кротон.
— От этого я не откажусь, особенно после гибели И вика.
— Какого Ивика? Неужели поэта?
— Поэта. Ко мне на приём в Кротон из Регия, родины Ивика, прибыл старик, его отец, с жалобой на боли в сердце. От него я это и узнал. После завершения удачной торговой сделки Ивик направился на Истмийские игры, и по пути на него напали разбойники. Их потом поймали. Но ведь человека не вернёшь. И теперь от Ивика остались лишь стихи да поговорка «Ивиковы журавли».
— А при чём здесь журавли?
— Странная история. Не знаю, можно ли ей верить. Рассказывают, будто бы перед гибелью Ивик успел крикнуть пролетавшим журавлям: «Отомстите за Ивика, перелётные птицы!»
— А как это стало известно? Ведь свидетелей убийства быть не могло.
— Не было, кроме журавлей. И разбойники не взяли их в расчёт. Разделив добро Ивика, они явились на игры, чтобы взглянуть на то, чего лишили поэта, и заняли места среди зрителей. Как раз в это время, когда состязались певцы, в небе Показались журавли — может быть, не та, а какая-то иная вереница. И тут один из душегубов в ужасе вскрикнул: «Ивиковы журавли!» И эти слова услышал гостеприимен Ивика, ждавший его на игры и волновавшийся, почему его нет. «Вот они, злодеи, держите их!» — закричал он. Атлеты схватили разбойников, да так крепко, что они сразу признались во всём и на другой же день были казнены.
— Да... Не ведает человек, что его ждёт. Знай я такое, никогда бы Ивика не отпустил с Самоса, заменившего ему на несколько лет, как и Анакреонту, отечество. Жаль, что Анакреонта не будет с нами. Его пригласил в Афины Гиппарх. А то бы он мог воспользоваться встречей с Оройтом и походатайствовать за своих соотечественников теосцев.
Архий и Либон
Поликрат и Меандрий стояли перед двумя только что установленными стелами. На каждой из них было по имени — Архий и Либон.
— Конечно, ты правильно приказал высечь одни имена. «Радуйся!» было бы неуместно. Сколько бы самосцев радовались, если бы им раньше голову проломили. И ещё больше будет тех, кто тебя осудит за то, что ты тратишь деньги на сохранение памяти наших врагов.
— Доблестных, — добавил Поликрат. — От них бежала наша сотня. Можно было бы, конечно, написать «Радуемся!» в том смысле, что их было только двое. Окажись их пятеро, ещё неизвестно, стояли бы мы с тобой здесь...
— Чего мы ждём? — спросил Меандрий, отбрасывая носком сандалии камешек. Он угодил в стелу Архия.
— Обещал подойти Анакреонт, — отозвался Поликрат. — Видимо, что-то ему помешало. А я и впрямь радуюсь, что их не просто швырнули в яму. О том, что мы ценим храбрость врагов, узнают там.
Он протянул руку в направлении моря.
— Вспомни, Меандрий, Гомера — ведь он оплакивает и ахейцев, и троянцев. Кто знает, может быть, это моё деяние запомнится более всех других.
— Во всяком случае, в Спарте, — сказал Меандрий. — Вот у этого Архия в то время, когда он здесь сражался, родился ребёнок. По спартанскому обычаю его назовут Самием или Самией.
— Откуда тебе это известно? — удивился Поликрат.
— Спартанские обычаи? — улыбнулся Меандрий.
— Да нет, что родился...
— Во всяком случае, должен был родиться. Ведь во время игр я был в Олимпии. Там об участниках игр знают все.
Поликрат покачал головой:
— Ну и ну... А я решил, что у тебя есть свои люди даже среди спартанцев.
— Только среди периэков[50], — уточнил Меандрий. — Но вот я вижу Анакреонта. Он торопится. Пойдём ему навстречу.
— Прости меня, Поликрат, — проговорил поэт, тяжело дыша. — Я уже собирался выходить, как вдруг появился ожидаемый мною корабль. Я отправляюсь прямо сейчас и не смогу тебя проводить. Ты не в обиде?
— Конечно, нет, — отозвался Поликрат, — только не опоздай вернуться к моему приезду из Азии. Ведь у нас тоже будет торжество не хуже того, на какое ты приглашён в Афины. Главное ведь не сокровища, а то, что установился мир с Оройтом. Я уверен, если бы это сближение произошло раньше, мои враги не посмели бы напасть на Самос.
— Обязательно вернусь. Но скажи, сколько дней ты пробудешь в Магнезии?
— Дня три, не более, и ещё четыре дня на дорогу. Меандрий за это время всё приготовит к торжествам.
— Конечно! — отозвался Меандрий. — Соскребу всё, что осталось в казне.
Беглецы
Силосонт и Эвном угрюмо сидели на связке канатов у мачты, Леонтион стоял у кормила.
— Потеряно всё, — простонал Силосонт. — Нас предали. Ведь уговор с эфорами был на месячную осаду. Они простояли три декады и удалились. Хорошо ещё, что мы успели сесть на корабль.
— И как объяснил свои действия Дориэй? — поинтересовался Эвном. — Ты ведь с ним сумел сблизиться.
— Ему хватило одного слова: «Приказ». Но выглядел он расстроенным. Думаю, что снятие осады было для него такой же неожиданностью, как и для нас. Эфоры не имеют привычки обосновывать свои решения. Причину предательства мы, возможно, впоследствии узнаем — восстали ли илоты, или с самого начала эфоры задумали над нами поиздеваться. Но легче нам не станет. У нас теперь нет ни кораблей, ни денег.
— Но корабли нам должны вернуть! — перебил Эвном. — Зачем они Спарте?
— Должно быть, вернут и одновременно прикажут аргосцам лишить нас гостеприимства. Ведь и те рассчитывали на вознаграждение.
— А если сначала добыть деньги? — послышался голос Леонтиона.
Эвном рассмеялся:
— Пошарь на морском дне. Там, говорят, их россыпи. Да и Посейдон к тебе, как известно, благоволит.
— На дно нам ещё рано! — весело произнёс Леонтион. — Вот показался берег. Это остров Сифнос с его золотыми россыпями. Вместо того чтобы платить дань Поликрату, островитяне одолжат нам, допустим, десять талантов. А если откажут, вытянем в десять раз больше.
— Опомнись! — возмущённо простонал Силосонт. — Мы же не пираты! Если мы нападём на Сифнос, это станет известно всем эллинам. Никто нам больше не предоставит убежище. Да и боги...
— Опять боги! — завопил Леонтион. — А твой братец думал о богах, когда завоёвывал и порабощал остров? Когда убивал твоего брата? Когда отсылал нас в египетское рабство? Коль опасаешься гнева небожителей, полезай в трюм. А я со своими людьми выйду на берег и добуду денег взамен тех, какие у тебя выманили эфоры, куплю островок Гидрею. Я его уже давно присмотрел. Переведу на него самосцев, а там уже решим, с кем воевать, куда плыть.
Произвол
Дориэя ввели в лесху тридцати. На скамьях сидели геронты, на возвышении перед ними — эфоры.
— Подойди сюда, — проговорил старший эфор, указав царевичу место, где он должен стоять.
После этого он продолжил:
— В то время как ты с воинами осаждал Самос, мы здесь со старейшинами совещались о назначении царя взамен твоего умершего отца. Посылая тебя против Поликрата Самосского, мы рассчитывали, что ты возьмёшь город с ходу, и это позволило бы назвать тебя царём как победителя. Но этого не произошло, и мы решили, что нашим царём будет твой старший брат Клеомен.
Дориэй вскинул голову:
— Позволь мне сказать.
— Говори.
— Клеомен старше меня, но он сын Дориды, второй жены моего отца. Если вы считаете, что Клеомен достоин быть царём более, чем я, почему вы не послали на Самос его?
Эфоры переглянулись.
— Вы молчите, — продолжал Дориэй. — Тогда я отвечу за вас. Потому что вам известно, что Клеомен слабоумен и ему нельзя доверять войско. Я вернулся лишь без двоих воинов. Будь он на моём месте, вряд ли бы уцелела и половина. Ведь нам Поликрат устроил засаду.
— Решение принято. И обсуждать мы его не будем, — торжественно произнёс эфор.
— Можно и не обсуждать. Но напомню, что ты родственник Дориды и ещё до моего рождения был заинтересован в том, чтобы у Клеомена не было соперников. Мать рассказала мне, что, как только стало известно, что она ожидает ребёнка, ты и другие родственники Дориды подняли шум и стали говорить, что она обманщица и намерена выдать за своего чужого ребёнка, которого тайно внесут в царские покои. Недаром отец потребовал свидетелей, которые бы могли удостоверить моё рождение. Вы кричали, что сами будете свидетелями, и, когда моей матери пришло время родить, ты со многими другими уселся рядом с нею. Поэтому я никогда не признаю царём Клеомена и прошу вас дать мне в спутники настоящих спартанцев, чтобы я мог на чужбине прославить род Гераклидов, который по вашей вине здесь опозорит мой бедный брат.
Четвероногая Кассандра
Все эти дни в Астипалее царила суматоха, словно Поликрату предстояло далёкое плавание, а не переправа на другой берег пролива. Готовили триеру, украшая её, как невесту к свадебной церемонии. Собирали «приданое» — всё, чем была богата Астипалея: пышные одежды, золотые и серебряные украшения, самых юных и привлекательных рабынь для гарема Оройта, в котором, по слухам, были женщины от всех населявших его обширную сатрапию народов, запасали провизию для сухопутного пути от Милета до Магнезии и обратно.
И вот наступил день отплытия. С утра гавань заполнилась жрецами и жрицами, тысячниками и друзьями, допущенными к участию в церемонии проводов. Помимо того, пришли сотни горожан по составленному Меандрием списку. Другие, не пропущенные к молу критскими стрелками, залезали на деревья, карабкались на крыши домов. Наконец из Астипалеи вышел Поликрат в синем, шитом золотыми нитями гиматии и дорожном петасе. Рядом с ним величественно выступал Меандрий, которому на время отъезда тирана была передана власть. За ними шагали ближайшие друзья Поликрата, и среди них кротонец Демокед, вернувший, как все знали, тирану здоровье и сопровождавший его к Оройту.
И хотя никто из провожавших и зевак не ожидал, что Поликрат поделится с ним доставшимися даром богатствами, все радовались, понимая, что должна возобновиться работа на доках и в мастерских потребуются их руки. И даже гетеры в надежде на возвращение золотых времён вышли из своих обиталищ принаряженными и подкрашенными и издалека посылали своему покровителю воздушные поцелуи.
Поликрат и его свита поднялись по украшенному цветами и свежей зеленью трапу и заняли места у обращённого к берегу борта. Стал у рулевого весла и кормчий. Засуетились матросы, отвязывая канаты и поднимая якорные камни. И когда триера уже оторвалась от берега, по проходу, образованному торжественно застывшими критянами, мелькнуло что-то чёрное. Послышался собачий вой, мгновенно вытеснивший все прочие звуки — приветственные выкрики провожатых, голос кормчего, звуки флейты, задававшей ритм гребцам, треск дров, горящих на переносном алтаре. Это Реся, запертая в лесхе, каким-то чудом вырвалась наружу и, отыскав дорогу к молу, высказала воем собственное отношение к происходящему. Была ли это любовь к Поликрату и тоска от расставания с ним, или животное хотело о чём-то предупредить? Такая мысль, должно быть, и пришла кому-то в голову. Во всяком случае, прозвучали слова, потом вспоминавшиеся много раз: «Четвероногая Кассандра».
Скала Паламеда
В один из дней Пифагор совершил прогулку к скале Паламеда. Его сопровождал Мнесарх, первенец Эвнома.
Видимо, у отца не хватало времени для общения с сыном, а излияния деда мальчику надоели, и он с жадным вниманием воспринимал рассказ Пифагора о прошлом этих мест. И юные самосцы вскоре уже не играли в войну, а, представляя себя невидимками, рубили головы Медузе и, сражаясь с морским чудовищем, освобождали Андромеду.
— Это крепость Персея? — спросил мальчик, когда они подошли к скале.
— Нет, — отозвался Пифагор. — Там, на вершине, дворец Паламеда.
— Он с Самоса?
— Нет, не из Кипарисии — так называли в древности нашу родину. Он с Эвбеи, протянувшейся вдоль побережья Беотии и Аттики. Неизвестно, что заставило его вместе с отцом Навплием, который считал себя сыном бога морей Посейдона, переселиться на Пелопоннес. Но они обосновались именно здесь, а не в городе Сикионе, как полагают некоторые. Это было в то время, когда в Микенах правил царь Агамемнон, сын Атрея, а в ещё не завоёванной дорийцами Спарте — его брат Менелай. Об этих героях ты знаешь по Гомеру. О Паламеде Гомер не пожелал рассказать.
— Почему? — спросил Мнесарх.
Пифагор показал на вершину:
— Я тебе это объясню там.
Они стали подниматься по вырезанным в скале ступеням. Подъём был крут. С уступа, где они остановились, открывался вид на дугу залива с белыми отмелями, островком в центре, на окаймлённую горами Арголиду от Аргоса и Тиринфа до едва различимых отсюда Микен.
Наконец они достигли вершины холма. Перед ними расстилалась необозримая равнина открытого моря с разбросанными то здесь, то там чёрными глыбами островов.
Мальчик притронулся к одному из отёсанных камней.
— Какие огромные камни, — сказал он. — Такие же, как в Тиринфе. И их тоже оставили киклопы?
— О нет, не киклопы — обыкновенные люди, обладавшие большими знаниями и навыками, чем мы. Киклопов породило удивление перед мощью ума тех, кто построил Тиринф и Микены, ибо теперь дворцы и могилы во многом уступают древним. Те люди кажутся нам великанами. Паламед же был их учителем и владыкой. Он изобрёл письмена. Не те, которыми мы пользуемся сейчас, а ныне забытые. Этими письменами он записал законы, и по ним жили многие годы, пока в эти места не вторглись воинственные дорийцы, заставившие местное население покинуть Пелопоннес. Среди беглецов были и ионийцы, заселившие Кипарисию и давшие ей имя Самос.
— А почему Гомер невзлюбил Паламеда? — спросил Мнесарх. — Он же ведь тоже был ионийцем.
— Теперь я об этом расскажу. Паламед, как я уже говорил, установил и записал законы. Среди них был закон, обязывающий юношей нести воинскую службу. От неё освобождались лишь больные и слабоумные. Как раз в то время Менелай и Агамемнон собирали отряд для набега на Трою, город более обширный и могущественный, чем Микены и Спарта. В это время на небольшом островке Итаке жил тогда ещё юный Одиссей, тот самый, хитростью которого будто бы была взята Троя. Не желая идти на войну, Одиссей притворился слабоумным.
— Значит, он был трусом! — воскликнул мальчик. — Зачем же Гомер его прославил?
— Этого я не знаю, — продолжил Пифагор не сразу. — Может быть, певец хотел угодить влиятельным родичам Одиссея. Но поведение этого героя в юные годы настолько противоречило всему тому, что рассказывалось о Троянской войне, что Гомер решил вовсе не упоминать Паламеда, ибо тот раскрыл обман Одиссея, которому пришлось отправиться вместе с другими аргосцами и обитателями островов, в том числе с Паламедом, в поход против Трои. И конечно, будучи по природе мстительным, Одиссей не простил Паламеду пережитого им позора и его погубил. Рассказывают, что он убедил Агамемнона на время переместить ахейский лагерь и зарыл под шатром Паламеда золото с табличкой, что это дар от троянского царя Приама, после чего сообщил Агамемнону, что Паламед предатель. Паламед был казнён. Посейдон, дед Паламеда, я думаю, за это обрёк Одиссея на долгие скитания.
— Но если Гомер об этом ничего не говорит, откуда об этом узнал ты?
Пифагор задумался. «Ведь не расскажешь ребёнку, что я встречался с Паламедом в другой жизни. Не скажешь, чем я ему обязан... А может быть, я и сам в той жизни был вовсе не Эвфорбом, а Паламедом?»
— От своего учителя Ферекида, — глухо проговорил он. — Это человек редкой учёности. Я с ним познакомился, когда был на три года старше тебя. Остров Сирое, на котором живёт старец, отсюда не виден, но вскоре я туда направлюсь. Должен же я поклониться человеку, который открыл мне глаза на мир.
Пифагор уловил во взгляде мальчика недоверие. Видимо, он не верил, что может быть человек учёнее его дяди.
Прощание
Братья спускались к заполненному самосцами и их скарбом берегу. Слышалось скрипение снастей и лай собак. Остановившись, Эвном грустно окинул взглядом поредевшую дугу кораблей.
— Вот результат! Вместо сорока — тридцать.
— Но ведь, насколько я понимаю, морского боя быть не могло?
— Его и не было. Десять самоян нам не возвратили спартанские эфоры.
— А зачем Спарте флот?
— Спарте ни к чему. Но они понадобились царевичу Дориэю, который решил испытать счастья в западных морях. В то время когда он осаждал Самос, на царство был избран его брат. Одновременно аргосцы предложили нам убраться восвояси. Их надежды на разгром Поликрата и на добычу не оправдались.
— И куда же теперь?
— Мы решили на Крит. Есть там местность, носящая имя древнего народа кидонов. Вспомни Гомера: «Там находишь ахеян с первоплеменной природой воинственных критян, кидонов...» Конечно, ныне от кидонов и их города Кидонии не осталось и следа, а равнину, где он некогда находился, заняли закинфяне[51], и кноссцы, некогда соперничавшие с кидонами, обещали дать нам её на заселение, если мы поможем изгнать закинфян.
— Но закинфяне — превосходные воины, к тому же им на подмогу наверняка придёт Коринф.
— У нас нет другого выхода, брат.
— А если переселиться на дальний Запад, как это сделали фокейцы?
— Но мы же не можем похоронить надежду на возвращение. Поликрат ведь не вечен. Не будем больше об этом. Скажи лучше, каковы твои планы.
— Сначала на Сирое к Ферекиду, а оттуда — в Афины. Там я надеюсь пополнить свои знания. От афинянина, побывавшего у нас на Самосе, я узнал, что Писистрат собрал у себя лучшее из того, что написано эллинами. Ведь долгие годы, странствуя по Востоку, я был оторван от эллинской мудрости.
Братья помолчали.
— Мой Мнесарх очень огорчён расставанием с тобой.
— Да! — оживился Пифагор. — Я тоже к нему привязался за этот месяц. Мы с ним пешком обошли всю Арголиду. Мальчик не по возрасту умён. Хотелось бы, чтобы пребывание на Крите не прошло для него бесследно, ведь там столько интересного.
— Думаю, что на Крите мы задержимся ненадолго. Неудача со Спартой не обескуражила нашего Силосонта. Теперь он возлагает надежды на персов.
Пифагор крепко обнял Эвнома.
— Что бы ни случилось, знай, что у тебя есть любящий брат. Если понадобится, я отыщу вам безопасное место где-нибудь по соседству с Кротоном. Береги отца.
Палец судьбы
При виде самояны, входившей в бухту с уже подобранными парусами, люди на берегу мгновенно разбежались. У поликратовых сборщиков податей была на Сиросе дурная слава. Когда же вместо дюжих молодцев на мол сошёл один лишь босоногий муж, сиросцы успокоились и вышли из своих укрытий. Несколько человек обступили его.
— Радуйтесь, старые друзья, — приветствовал их Пифагор, — снова я ваш гость, правда, уже не с пушком на подбородке, а с сединой в бороде. Прошло столько лет...
— А как тебя зовут? — поинтересовался один из подошедших. — Откуда путь держишь?
— Из Навплии. Я — Пифагор.
— Такты кулачный боец! — раздался чей-то радостный голос.
— Да нет, тот, кого ты имеешь в виду, такой же самосец, как я, ничему не учился, я же — ученик самого Ферекида. Надеюсь, старец в добром здравии?
— Пока ещё дышит. Но плох. Никуда не выходит и никого к себе не пускает. Тело его в нарывах. Воду и пищу ему доставляют. Показать тебе дорогу к заброшенной мельнице? Там он поселился.
— Отыщу сам.
И тотчас память услужливо перенесла Пифагора через десятилетия в низкое полутёмное помещение, некогда заполненное скрежетом тяжёлых камней, запахом мочи и пота, облаком мучной пыли. Ферекид здесь объяснял ему принцип кругового движения: «Таким же образом вращаются небесные сферы и каждое из заполняющих эфир тел. По подобному кругу движется и человеческая жизнь. То, что нам кажется прямой линией, — бесконечно малый отрезок огромной, охватывающей весь мир вращающейся дуги. И хотя нам никогда не узнать, был ли первоначальный толчок, в отличие от ослов, мы можем не только вращаться и вращать, но и познать тайны этого скрытого от нас процесса».
За холмом показалась мельница. Последнее убежище человека, никогда не имевшего семьи. Первый из эллинов, познавший финикийскую мудрость, он обратился к тайнам природы. Называя её божественной, он под Зевсом разумел эфир, насыщенный огнём, под Хтонией — землю, под Кроносом — Хроноса[52].
Пифагор приложил ухо к покосившейся двери и через несколько мгновений с трепетом забарабанил в неё пальцем.
— Кто это? — услышал он.
— Пифагор, сын Мнесарха.
— А я уже тебя и не ждал.
— Открой же, учитель!
— Таким меня ты не увидишь. Ведь я уже одной ногой в Аиде. Расскажи о себе главное, времени у тебя немного: откуда ты, куда следуешь?
— Сейчас в Афины. А побывал я в Финикии, куда ты меня послал, затем в Вавилоне; в Индии я обратился к человеческой сущности. Я узнал, что...
— Короче, — перебил Ферекид. — Времени мало.
— Вернувшись на Самос, я учил в пещере, пока было возможно. Покинув вместе со многими другими остров, я после долгих странствий отыскал новую родину. Там я создал школу, какой ещё не знал мир. Мои ученики будут первыми в своих городах, и с их помощью я изгоню пороки и обращу глаза людей к свету.
— Глаза к свету? — повторил Ферекид. — Этого тебе не сделать, как не вернуть света моим глазам. Подожди. Сейчас поднимусь.
Послышалось тяжёлое дыхание и шаги. Через несколько мгновений из двери высунулся палец, изъязвлённый до кости.
— Такой я весь, — с трудом проговорил Ферекид. — Послушай меня. Не заносись. Людей не переделать. Следуй за собственной мыслью. Она превыше всего на земле. Божественная природа содержит ещё столько никем не раскрытых тайн. Люди же платят злом за добро. Они завистливы. Их алчности не удовлетворит и самая мудрая власть, они всё равно будут её ненавидеть. Вспомни судьбу Солона и не повтори его ошибки, мой мальчик.
Ферекид замолк.
Пифагор схватил палец учителя, словно пытаясь удержать уходящую жизнь. И это возвратило его в прошлое. На колено одобрительно легла ладонь учителя. Но палец выскользнул, вернув к реальности. Послышался звук падающих костей...
Похоронив учителя на ближайшем холме, Пифагор закатил на могилу лежащий неподалёку мельничный жёрнов. Срубив кипарис и очистив его от ветвей, он укрепил его в центре жернова камнями. Ствол колебался под порывами ветра. И это могильное сооружение островитяне назовут «пальцем судьбы», рассказывая, будто лежащий под ним мудрец понёс тяжелейшую из кар за то, что никому из богов не приносил жертв и похвалялся, что проживёт не хуже тех, кто жертвует гекатомбы[53].
Часть IV СВИТОК И МЕЧ
И вот они, как на дуэли,
Два мира, два материка,
И между ними, как ущелье,
Пролив, солёная река.
Земля разорвана на части
Перед решающим броском.
Но кто-то думает о счастье
И единении людском.
Но кто-то роет силой мысли
Тоннель через хребет веков,
Орбиты тел небесных числит
И ждёт своих учеников.
Семеро персов
Их было семеро, столько же, сколько в небесной сфере блуждающих звёзд, — Виндафарна, Отана, Гаубурава, Видарна, Багабухша, Ардиманиш и Дарайавуш (Дарий).
И когда пришла весть, что царь царей Камбиз был то ли убит, то ли убил себя сам в припадке падучей, все они присутствовали на коронации младшего брата Камбиза Бардии и были введены в состав его друзей, стали приближёнными и советниками. Каждый из них мечтал сам воссесть на золотой трон царя царей, но, по обычаям Востока, царю должен наследовать ближайший родственник, а не кто-либо другой, даже если у него семь пядей во лбу. Им было трудно с этим примириться. Собираясь по-дружески за закрытыми дверями, они нередко обсуждали, можно ли, сохраняя царскую власть, ввести вместо наследования избрание лучшего. Но эти обсуждения и споры были бесплодны, поскольку персы и мидяне, даже если и слышали об иных порядках занятия трона, считали их противными отеческим обычаям и воле Ахурамазды.
Выход, как будто случайно, предложил Отана, тесть Бардин, по возрасту старший из семи.
Во время очередного тайного обсуждения неразумных и гибельных для державы деяний Бардии, сына Кураша, он спросил, словно в шутку:
— А сын ли Кураша правит нами?
Поначалу никто из собравшихся не понял, к чему клонит Отана.
— Какие могут быть сомнения? — вздохнул Виндафарна.
— Он дурень! — воскликнул Багабухша. — Я слышал от отца, что Кураш в домашнем кругу иначе его и не называл. Надо же! При вступлении на престол объявить о сложении недоимок!
— И взять в царские друзья мидийцев! — добавил Дарайавуш. — Словно он не перс.
— А всё-таки, может быть, это не Бардия, а кто-то другой? — не унимался Отана. — Ведь не стал бы законный сын Кураша идти у черни на поводу.
— Не стал бы, — подтвердил Дарайавуш. — И поэтому его надо сместить.
— Давайте представим, — продолжил Отана, — что нами правит некто, принявший имя Бардии и похожий на него как две капли молока. Однако у него, допустим, на груди родинка или шрам на бедре, которые одному из нас удалось случайно обнаружить...
— Случайно?! О чём ты говоришь?! — возмутился Ардиманиш. — Как мы могли бы это заметить, если всем запрещено даже сидеть с царём за одним столом!
— Конечно же ты прав, — вновь вступил в разговор Виндафарна. — Надо придумать что-нибудь поправдоподобнее. Вот что! Будучи послан в Лидию, я слышал там басню о царе Мидасе, у которого отросли ослиные уши. Почему бы самозванцу не отличаться от законного наследника ушами, которые не всегда удаётся скрыть под шапкой или короной?
Все засмеялись. А Багабухша, когда смех стих, воскликнул:
— Слушайте! Я могу назвать имя того, кто занял трон Кураша. Гаумата!
Все повернулись к Багабухше.
— Да-да, Гаумата. Ему отрезали уши и потом отрубили и голову — но о последнем не обязательно распространяться.
— Га-у-ма-та, — произнёс Дарайавуш, растягивая слога. — Странно, что я впервые слышу такое имя.
— Тут нет ничего странного. Незадолго до отправления в Египет Камбиз приказал мне им заняться, а всё дело держать в строжайшей тайне. Этот маг и в Бактрии порочил Камбиза как служащего не Ахурамазде, а дэвам[54]. Подозревая заговор магов, Камбиз поручил мне выведать имена сообщников Гауматы. Но тот никого не назвал даже под пыткой. На том всё и кончилось. Как я говорил, Гаумате отрубили сначала уши, затем и голову.
— Подходит! — сказал Дарайавуш. — Ведь кроме тебя, Багабухша, был один лишь свидетель — палач. От него же нетрудно избавиться.
— Но мага могут знать на его родине, в Бактрии, — возразил Ардиманиш. — И если он скрывал свои планы, то, во всяком случае, не могло ускользнуть, что на Бардию он не похож.
— Но откуда в Бактрии знать, как выглядит царь? — заметил Дарий.
— Всё это так, — согласился Видарна, — но если вместо нашего Бардии правит Гаумата, возникает вопрос, куда же девался Бардия.
— Как куда?! Камбиз от него избавился перед отправлением в Египет, — неуверенно начал Видарна.
— Безупречно! — заключил Отана. — Недаром же говорят, что одна голова хорошо, а семь лучше. Теперь нам остаётся распределить обязанности: кому покончить с Бардией, кому — устранить палача, кому — объяснить, что Бардия — не Бардия, а Гаумата...
— Так не пойдёт! — перебил Дарайавуш. — Убивать Бардию надо всем вместе. Или, чтобы не переранить друг друга, присутствовать при этом. Ведь нельзя исключить и неудачи. Нехорошо будет, если одному придётся отвечать за всех.
— Верно! — воскликнул Виндафарна. — А объявить, что Бардия — не Бардия, лучше всего тебе, Отана: ведь жена Бардии Федима — не моя, а твоя дочь и именно от неё ты мог узнать, что царь без ушей.
— А палача возьму на себя я, — сказал Дарайавуш.
— И ещё, — вставил молчавший до того Гаубурава, — надо не забыть отрубить у мертвеца уши.
Мёртвое тело
Лучи Эос пробились сквозь щели каюты, и Пифагор задул светильник. Всю эту ночь, не смыкая глаз, он размышлял над найденным в заброшенной мельнице свитком. Он никогда не читал трудов Ферекида и даже не подозревал, что тот записывал свои откровения. И вот впервые интеллект учителя раскрылся во всей своей мощи. Зевс (Ферекид называл его Засом) — не сын Кроноса (Ферекид именовал его Хроносом), а такая же извечная стихия. Зас — это сила созидания и превращения. Творя космос, Зас превратился в Эроса и, соединив противоположности, привёл всё к тождественности и единению, согласию и любви. Таковы были главные идеи, рисовавшие Ферекида противником учения о поколениях богов, заимствованного Гесиодом где-то на Востоке.
Часть свитка от сырости невозможно было прочесть, и изложение космогонии обрывалось.
«К чему может относиться странное выражение «крылатый дуб»? — рассуждал Пифагор. — Не тот ли же это Зевс? Ведь пеласги считали дуб деревом Тина, бога дня и всякого сияния. Отсюда угодные Зевсу дубовые венки у эллинов. Или это из какого-то мифа, какими любил оживлять свои рассказы учитель, давая им аллегорическое толкование? А что такое «покров Заса, большой и красивый»? Не идёт ли речь о работе олимпийской мастерицы Афины?»
Отложив свиток, Пифагор поднялся на палубу. Корабль сильно качало. С трудом удерживая равновесие, Пифагор прошёл к корме.
Кормчий, поздоровавшись кивком, сказал:
— Добрый ветер. Домчал, как на крыльях.
Впереди вставал в розовом сиянии Пирей, а за ним виднелись жёлтые холмы Аттики, обжитые потомками Кекропа[55]. В юности Пифагор обошёл их вместе с Ферекидом, узнавая с его голоса о легендах этой суровой и удивительной земли, которую он называл «вратами Эллады». В памяти возникла пещера в горах Киферона. Учитель там впервые раскрыл перед ним аллегорический смысл Тартара, видя в нём не темницу для святотатцев, а великую бездну, в которой залегают все концы и все начала.
— Эй, на вёслах! — послышался зычный голос кормчего. — Что у вас, руки отсохли?!
Пифагор оглянулся. Сзади, на расстоянии полустадия, шла на полных парусах триера. Её высокий нос закрывал вид на палубу. Внезапно по лицу Пифагора проскользнула гримаса, словно от прикосновения чего-то отвратительного. Но этого кормчий заметить не мог.
— Вижу, ты торопишься попасть в Фалер[56], — обратился он к кормчему не сразу.
— Да, — отозвался кормчий. — Чего она нас обгоняет!
— Не торопись. Сверни в сторону и дай торопящемуся дорогу. Ведь на нём мёртвое тело.
Кормчий от удивления потерял дар речи. Конечно же он слышал от самосцев, что тот, кому он взялся служить, — необыкновенный человек. Но такое...
— Мёртвое тело?
— Ну да, покойник.
— Но паруса-то ведь не чёрные.
— Не чёрные, — согласился Пифагор. — Да и меняют паруса только в мифах. И ещё. Постарайся причалить как можно дальше от этого судна и сразу на берег не выходи.
По тону, каким это было сказано, кормчий понял, что больше не следует ни о чём спрашивать, решив, что после высадки он обязательно отыщет этот корабль и проверит, действительно ли он привёз мертвеца.
День рождения
Убийство царя было назначено на день его рождения, отмечавшийся со времени Кураша с особой пышностью. В столицу со всех концов огромной державы сходились царские чиновники, царьки и вожди, чтобы засвидетельствовать почтение царю царей и выразить ему свою преданность. Сузы в этот день превращались во второй Вавилон: пестрота одеяний, чужеземная речь, необыкновенное оживление. Гости поднимались по сорока ступеням гранитной лестницы к площадке перед монументальным входом, где стражи обыскивали их, чтобы никто не прошёл во дворец с оружием.
Взглянув на семерых, стража почтительно их пропустила, не обыскав.
К тому времени когда семеро вступили в Зал приёмов, первая часть праздника уже началась. Виновник торжества восседал на троне, и к нему выстроилась длинная очередь из дарителей. В руках у каждого было по золотому или серебряному блюду, диску, шкатулке из слоновой кости или благовонного дерева, диадеме, одеянию, затканному золотыми нитями, ожерелью, уздечке, богато украшенной золотом, или какому-либо другому предмету, который не стыдно было подарить царю царей.
Он сидел, прислонившись к спинке трона, отягощённый короной, утомлённый обилием лиц, пестротой одеяний, блеском драгоценностей, думая о том, когда это кончится и он окажется один или в тесном кругу друзей. Перед его мысленным взором проходили лица тех, кого он намеревался пригласить, а дарители всё подходили и подходили, и каждый падал перед троном плашмя, после чего проворно отползал в сторону, и его место занимал следующий. Из Зала приёмов каждый, кто выполнил свой долг, попадал в Зал пиршеств, где становился царским гостем.
Огромный прямоугольный стол был державой в миниатюре, с «территорией» для каждой области — Бактрии, Лидии, Каппадокии, Армении, Иудеи. После похода Камбиза появилось ещё три «участка» — для Египта, Эфиопии и Кирены. По левую и правую сторону от царского сиденья находились места для царских друзей, выделенные каждому из них в соответствии с его рангом. Места эти постоянно менялись: кто-то пододвигался ближе к царю, кто-то отодвигался. И это было неизменным источником зависти и вражды.
Все сидели молча перед накрытым, сверкающим драгоценной посудой столом. Но вот появился Бардия. Опустившись на своё место, он запахнул занавес и прикоснулся к чаше, украшенной гербом Ахеменидов. Пир начался.
На вопрос тестя, здоров ли он, Бардия ответил:
— Болит голова после ночного сновидения.
— Что же тебе снилось, царь? — участливо спросил Отана.
— Жеребец, — ответил Бардия. — Он скакал во весь опор, и я едва на нём удерживался. Внезапно он заржал, поднялся на дыбы, и я упал ему под копыта.
— Пустое, — проговорил Отана. — В ночь перед таким светлым праздником снам не верят. Мой отец рассказывал, что в ночь перед взятием Вавилона ему тоже снилось, что его сбросил конь, а наутро он на белом коне въехал в покорившийся нам великий город.
— Да, я тоже об этом слышал! — отозвался царь повеселевшим голосом.
Молчаливые слуги в длинных пёстрых одеяниях ходили вокруг стола, подливая вино. Развязывались языки. Присутствовавшие вспоминали о давних походах и приключениях, пирах и встречах. Чаще всего героем рассказов был Кураш. О Камбизе не вспоминали. Если бы среди гостей оказался какой-нибудь эллин из принадлежавшей персам Ионии, то написанная им впоследствии история Кураша ничем бы не отличалась от тех сказок, которые под теми или иными названиями испокон веков распространялись на Востоке, обрастая самыми невероятными подробностями.
Семеро были оживлённы и веселы, как и все. Они то и дело подносили к губам фиалы с вином, но никому не удавалось заметить, как они его выливали. Виновник же торжества жадно пил и ещё до наступления темноты был уведён телохранителями в свои покои. Отана его сопровождал до самой постели, где под балдахином царственного супруга ожидала испуганная Федима.
Что-то шепнув дочери, Отана возвратился в зал, где в отсутствие царя продолжался пир.
Было уже за полночь, когда по данному Отаной знаку заговорщики стали по одному покидать Зал пиршеств, чтобы встретиться в Зале совета.
Молча встав на колени, они прошептали слова молитвы и, поднявшись, направились к потайной двери, соединявшей зал с царской опочивальней.
Первым по ковру, скрадывавшему шаги, шёл Дарайавуш. В руке его поблескивал акинак.
Страшная весть
Проведя весь день и ночь на корабле и отдав распоряжение команде готовить судно к зимней стоянке и никому не сообщать о себе, Пифагор отправился в Афины.
Первым, кого он увидел, входя в город, был Метеох. Юноша бросился к нему.
— Ещё вчера в Афинах узнал, что ты был в Олимпии, — проговорил он. — И вот ты здесь! Какое везение!
— Ты прибыл вчера? — перебил Пифагор.
— Да, на рассвете.
— И я тоже. Соболезную твоему горю.
Метеох отступил на шаг.
— Но как ты узнал? Ведь я сейчас не думал об отце.
Пифагор отвёл глаза.
— Впрочем, я знаю, что тебе вопросов не задают... — продолжил Метеох. — Да, он завещал похоронить себя на родине, и я сейчас выполнил его волю.
— Не задают... Но тебе могу сказать, что есть вопросы, на которые я не в состоянии ответить и самому себе. Видя вчера плывущий в отдалении корабль, я понял, что на нём есть мёртвое тело. Почувствовал, и всё... А теперь расскажи, какие твои планы. Собираешься ли на Самос?
— На Самос? — удивился Метеох. — Разве ты не знаешь?
— Ты имеешь в виду его осаду спартанцами? Так она же кончилась!
— Да нет! Оройт заманил Поликрата к себе и зверски его казнил. Спутников же обратил в рабов. Среди них и кротонский врач Демокед.
Пифагор опустил голову.
— Какой ужас! — вырвалось у него. — По твоим губам я понял, что несчастье произошло в Магнезии. И как мог Поликрат принять приглашение, зная, в какой город его зовут?!
— При чём тут город? Он мог пригласить его и в Эфес, столицу своей сатрапии. Что бы это изменило? — пожал плечами Метеох.
— Тогда слушай. В космосе извечно действуют могущественные силы притяжения и отталкивания. Незримые, они во всём — в камнях, в деревьях, в водах. Но есть на земле места, где эти силы наиболее могущественны. Там происходят страшные бедствия, совершаются чудовищные преступления. Горе тому полководцу, который решится дать битву близ Магнезии. Ведь там даже камни притягивают камни!
— И ты мог бы предостеречь Поликрата? И он остался бы жив? — взволнованно спросил Метеох.
— Конечно. И удивляюсь, что этого не сделали Анакреонт, Демокед, наконец, Меандрий — пусть они не знали о гибельности Магнезии, но коварство Оройта им должно было быть очевидно!
— Анакреонт! Да его сама судьба спасла. Он бы обязательно отправился с Поликратом, не будь приглашён в те же дни Гиппием в Афины на торжество.
— Так Анакреонт в Афинах! — обрадовался Пифагор.
— Был в Афинах некоторое время, — ответил юноша. — Теперь он со своим новым другом поэтом Симонидом в Фессалии. И вообще... Не знаю, что он в нём нашёл. Говорят, он настоящий урод. Анакреонт больше мне не пишет. Что же касается Меандрия, которого ты вспомнил, в Афинах говорят, что он умышленно отправил Поликрата к Оройту на верную гибель.
— Мало ли что говорят, — возразил Пифагор. — Видимо, всё же на всех, в том числе и на Меандрия, нашло некое затмение. Ведь удалось отразить нападение спартанцев, и казалось, больше нечего бояться. Такие моменты наиболее опасны. Но довольно об этом. Ты ещё ничего не сказал о своих планах.
— Меня ждёт Херсонес. Помогаю дяде. Ему отец передал власть. Вновь нападают фракийцы.
— Что же ты молчишь о самом главном? — сказал Пифагор, обнимая юношу. — Ведь ты женился. Будь же счастлив. А если родится сын, дай ему имя твоего великого отца.
— Опять ты прочёл мои мысли! — воскликнул Метеох. — Да, я тороплюсь к жене. Она вот-вот должна родить.
— Мне вспомнилась наша первая встреча, — проговорил Пифагор. — Гимнасий, игра в мяч. Собираясь к отцу, ты обещал писать Анакреонту. Напиши мне. Кажется, тебя ждут большие перемены.
Оправдание
Семеро молча сидели в Зале совета перед пустым царским троном. День рождения сына Кураша стал днём его смерти. Но никто не знал, как развернутся события дальше. Конечно, Бардией недовольны многие знатные персы. Но не сочтут ли они убийство царя, каким бы он ни был, преступлением? Не воспользуются ли те, кто сам не решился поднять на Бардию руку, возможностью устранить их, семерых, как убийц, нарушивших клятву верности царю? Не выдадут ли они их народу, обожавшему Бардию, чтобы захватить с его помощью власть?
Первым нарушил молчание Отана.
— Мужи! Мы вместе устранили неугодного нам царя. Но на этот трон, если нам поможет Ахурамазда, сядет лишь один. Каждый из нас по суеверию или по иным побуждениям пока не выставляет своих претензий. Но уже сейчас мы должны обезопасить себя от бед, идущих от нас самих. Поклянёмся же на собственной крови, что надевший корону не предпримет ничего во вред шести другим и будет способствовать их благополучию.
— Верно, — отозвался Дарайавуш, вынимая из ножен акинак.
Отана подставил руку, и первая капля крови влилась в чашу с вином. То же сделали шестеро других, и чаша, припадая к губам, обошла круг.
Стало светать. И тотчас по ступеням дворца в город спустились гонцы с заблаговременно заготовленными одинаковыми посланиями. «Именем Ахурамазды! Дела государства требуют твоего срочного прибытия во дворец. Виндафарна, Отана, Гаубурава, Видарна, Багабухша, Ардиманиш, Дарайавуш». Гонцам было наказано передавать послания молча, не отвечая ни на какие вопросы, и сразу возвращаться.
Зал стал понемногу заполняться. Сон ещё не покинул измятых лиц, но в глазах у многих ощущалась тревога. Присутствие семи никого не удивило и никем не было связано с тем, что трон не занят. Все молча ожидали царя.
При появлении признаков нетерпения и беспокойства Отана встал и, повернувшись к залу, произнёс:
— Царь не придёт, ибо он оказался не царём.
По залу прошло движение. Зашелестели одеяния. Заскрипели под ступнями кедровые половицы. Послышались удивлённые возгласы: «Что ты такое говоришь?!»
— Царь не придёт, — повторил Отана. — А самозванца мы убили.
Он сделал движение рукой, и тотчас встали шестеро и повернулись лицами к испуганному и растерянному залу.
Тишина длилась несколько мгновений, а затем взорвалась всхлипами и возмущёнными голосами.
— Убили... — повторил Отана, дождавшись тишины, — и готовы за это отвечать по закону, данному Ахурамаздой.
Все повскакали с мест. Одни, охватив ладонями головы, запричитали, другие, вскинув кулаки, разразились проклятиями.
— Мужи, дайте мне сказать! — произнёс Отана и начал речь, в которой было заранее продумано каждое слово. — Не мне вам объяснять, что над Курашем, как над любым, достигшим величайшего счастья, тяготел рок. Над ним самим и над всем его домом. Он, одолевший великих царей, расширивший свою державу до пределов земли, поднявший нас, персов, из мрака безвестности к свету Ахурамазды, погиб от руки женщины и претерпел позорную смерть. О старшем его сыне Камбизе уместно промолчать. Ему бы лучше вообще не родиться на свет. Младший сын Кураша Бардия был украшением царского дома. И я, не ведая о предопределении судьбы, был счастлив выдать за него незадолго до отправления с войском в Египет свою единственную дочь Федиму. Прошло совсем немного времени, и лицо дочери стало зеркалом перемен. Померкли глаза. Под румянами были видны следы слёз. «Что с тобой, Федима?» — спросил я. Она же мне ответила: «Он — не тот». Я воспринял это в том смысле, что Бардия, объявленный после смерти Камбиза царём, изменился, как каждый достигший высшей власти. Но я не мог не обратить внимания на некоторые изменения в его поведении. Однажды на празднестве багаядиш[57] я шёл за ним и увидел, как он давит сапогом муравьёв. Раньше он этого никогда не делал. При разговоре у него стала подёргиваться правая бровь. Потом же... Потом появилось то, что пугало не меня одного. Я имею в виду изгнание двух знатных персов и замену их мидянами, сложение с народа недоимок. И вот совсем недавно ко мне ворвалась Федима и с ужасом рассказала, что во сне у царя сполз колпак, с которым он обычно не расставался, когда на нём не было короны, и она, поправляя его, обнаружила, что у супруга... нет ушей. «Такого не может быть, — сказал я ей, — проверь ещё раз, но только чтобы он не заметил». Через несколько дней она это подтвердила. И когда я поделился моими сомнениями и страхами с Багабухшей, которому Камбиз поручал расследование тайных дел, он вспомнил, что присутствовал на пытке некоего мага Гауматы, настолько похожего на Бардию, что он подумал, не сын ли Кураша перед ним. Но тот маг был низкого происхождения, а обвинялся он в том, что уверял, будто царь Камбиз поклоняется не Ахурамазде, а дэвам. Во время пыток этому Гаумате отрезали уши. Ждало его отсечение головы, но ему удалось сбежать, и мы с Багабухшей подумали, не правит ли вместо Бардии этот беглец.
— А куда делся настоящий Бардия?! — послышался выкрик.
— Конечно, этот вопрос возник и у нас. Я стал расспрашивать тех, кто служил во дворце при Камбизе, не замечали ли они вражды к Бардии со стороны царских друзей или кого-либо ещё. В один голос они отвечали, что Бардию любят все, кроме его родного брата Камбиза. Один из них вспомнил, что незадолго до отправления Камбиза в Египет видел выходящего из покоев Бардии царского палача. Я стал его разыскивать и узнал, что Камбиз взял его с собою в Египет. Однако из Египта он с войском не вернулся. И вот совсем недавно он появился в Пасаргадах. Возникла возможность раскрыть тайну. Но встретиться с палачом не удалось. Его нашли мёртвым. Таким образом, узнать, кто и по чьему поручению убил сына Кураша, я не смог, но подозреваю, что это дело рук Камбиза, человека, как вам известно, злобного и подозрительного. Вот что я имею вам сказать.
Тотчас поднялся Радмиак, один из недругов Отаны.
— Я, — начал он, — один из двух мидян, которые за семь месяцев правления младшего сына Кураша взяты в число царских друзей. Отана усмотрел в этом некую перемену, забыв, видимо, кто сменил перса, уличённого тем же Багабухшей в злоупотреблении властью. Но об этом достаточно. Перехожу к искусно сплетённой басне, которую мы только что услышали. Я хочу задать тебе, Отана, несколько вопросов.
— Задавай! — крикнул Отана.
— Скажи, когда ты узнал, что у Бардии нет ушей?
— В середине прошлого месяца.
— Почему же за это время об этом твоём открытии узнали только твои близкие друзья? И почему вы одни избрали себе роль судей и палачей?
— Отвечу коротко, — сказал Отана. — Если бы я поделился, например, с тобой, быть бы мне на колу.
Послышался смех. Видимо, ответ перса мидийцу пришёлся большинству царских друзей по душе.
— И ещё. Ты говоришь, что Бардия давил муравьёв, что, как известно, входит в обязанности магов. Но каким образом ты усмотрел, что он давит муравьёв, а не вытирает, например, сапог он налипшего навоза?
— Когда я подошёл к тому месту, то увидел неподалёку муравейник.
Мидийца Радмиака сменил другой недруг семи — перс. Но не успел он и слова произнести, как донёсся шум голосов.
Подбежав к окнам, вельможи увидели, что приближающаяся к дворцу толпа огромна и в руках у многих палки. Очевидно, в город просочился слух, что царь, благодетель народа, убит злоумышленниками. Царские друзья заметались. Некоторые выбежали из зала.
— Позвольте сказать мне, — послышался спокойный голос Дарайавуша. — Я вас не задержу.
Царедворцы остановились, и в наступившей тишине, прерываемой лишь криками снаружи, Дарайавуш проговорил:
— Сейчас не время нас судить. Надо выйти к толпе и объяснить, что решение о смещении самозванца принято всеми нами, что на этот год по случаю прихода к власти нового царя прекращается набор в войско, что из имущества самозванца, которое будет продано с торгов, каждый перс получит по сиклю серебра[58].
Между тем шум толпы усилился. Видимо, она уже достигла ступеней дворца. Стали слышны выкрики: «Где Бардия?», «Покажите царя!». В стену ударил первый камень.
И царские друзья впервые в истории державы приступили к голосованию. Предложение было принято почти единодушно. И тогда Багабухша предложил тело самозванца предать огню. Раздались возмущённые голоса: «Это противно воле Ахурамазды!», «Огонь священен!».
В окна влетело несколько камней.
И вновь поднялся Отана:
— Мужи! Пусть Дарайавуш пойдёт говорить с народом, а мы тем временем решим, как уничтожить труп.
Против этого никто не возразил, и Дарайавуш выбежал из зала.
Панафинеи
— Ты счастливец, — проговорил Клисфен, пропуская Пифагора вперёд. — Прибыть накануне Великих Панафиней — дар судьбы, доступный не всякому.
Пифагор коснулся ладонью плеча афинянина.
— И добавь к этому: отыскать такого, как ты, провожатого, если не сказать...
— Договорю за тебя: друга. Чтобы понять, кто твой истинный друг, не требуется долгих лет знакомства. Симпатия, как и любовь, рождается мгновенно. Мы с тобою вместе всего два дня. А сколько впечатлений! Словно бы побывал с тобою в Сидоне, в Вавилоне, Кархедоне, в Регии, в Кротоне, странствовал по горам, переправлялся через реки, любовался берегом Ливии и островом лотофагов.
— А я с тобою — в Сикелии взбирался на Этну, брёл через пески Ливии к оазису Аммона, и, право, в тех местах мне больше нечего делать. Друг — это второе «я». Но всё же — куда мы сейчас идём? Мне кажется, что наблюдать за процессией лучше со стороны.
— О нет! Праздник — это апогей жизни. Нужно находиться в самой гуще. Быстрее за мною! Вот уже юноши выкатывают из-за загородки корабль. Вглядись! Это уменьшенная копия нашей священной триеры. Видишь, они натягивают на мачту вместо паруса пеплос. Взгляни — он так блещет, словно бы соткан не на акрополе, а в ином мире, не руками наших непорочных дев, а самой Афиной. И как великолепно это изображение Афины, заносящей копьё над головой титана, мятежного сына земли.
— Да, удивительное зрелище, — проговорил Пифагор.
— Полюбуйся на наших дев, — восторженно продолжал Клисфен, — на их поступь лебединую, на сосуды на их головах, на сиденья, какие несут мальчики, — из слоновой кости для богов верхнего мира, из чёрного дерева для подземных богов.
— Эти дары достойны великой искусницы и труженицы Афины, — согласился Пифагор. — Но кто это несёт над дароносицами зонты? Кто обмахивает их веерами?
— Это дочери и жёны метеков, — пояснил Клисфен. — Но вот повели жертвенных быков и овец.
— Это зрелище мне неприятно. Зачем омрачать праздник кровью этих прекрасных животных? Во время моего плавания кормчий-финикиец возмущался тем, что Камбиз объявил войну кархедонцам за то, что они едят собак. Я тогда подумал, хорошо бы нашёлся какой-нибудь деспот, который бы объявил войну за поедание животных, наших меньших братьев. Ведь только страх в состоянии освободить нас от этой преступной и пагубной привычки.
— Ты, разумеется, шутишь. Мне кажется, деспотическая власть опаснее того, что вызывает у тебя возмущение. Деспотия — самое страшное из зол. Конечно, наши эллинские тираны принесли немало пользы. Они ослабили владычество евпатридов. Теперь же пора брать власть демосу.
— О нет! — воскликнул Пифагор. — Трижды нет! Демос завистлив и невежествен. Суждение одного знающего человека весит больше, чем болтовня мириад невежд...
— Прислушайся! — перебил Клисфен. — Стук копыт. Это приближается наша гордость — конница. И я не знаю, кто более породист — кони или наездники. Тебе ведь известно, что и я из породы этих гарцующих всадников-евпатридов, в имена которых так часто входит слово «конь».
— Ты имеешь в виду сыновей Писистрата Гиппия и Гиппарха?
— И их тоже. Пусть всадники служат украшением парадов, и не более того. Власть должна принадлежать тем, кто выращивает виноград и оливки, кто их продаёт, кто владеет рудниками и кораблями. Тираны всегда пользовались поддержкой этих людей, ибо они менее опасны им, чем евпатриды, но до власти не допускали. Тираны повсеместно устранили древние экклесии под предлогом того, что на них главенствовали у нас евпатриды, у тебя на Самосе — геоморы. Надо влить в старые мехи новое вино. Экклесия должна решать все главные вопросы в жизни полиса — выбирать должностных лиц, принимать законы и следить за их исполнением. И в суде евпатридам не место.
— И кого же ты собираешься посадить на сиденья гелиэи[59]?
— Выборных из демоса.
— Одним словом, ты хочешь заменить гесиодовского пестрошейного ястреба соловьями[60]. Бессмысленно! Соловьи очень скоро разучатся петь и превратятся в таких же хищников и мздоимцев. И вот тому пример. Повсюду на Востоке должность судьи передаётся от отца к сыну. Это наследственные взяточники. Борясь с этим злом, как мне говорили, царь Камбиз казнил нескольких наиболее наглых мздоимцев и обил их кожей судейские кресла, полагая, что урок пойдёт впрок их сыновьям, которым придётся на них сидеть.
— Какой ужас! — не удержался Клисфен. — Судить, сидя на останках отца! А я ведь слышал, что персы особенно чтут своих родителей.
— Ужас не только в этом, — добавил Пифагор. — Сыновья судей продолжают брать мзду, как и их отцы. Контроль же за ними может привести к появлению сословия доносчиков и к тирании народа, которая ничем не лучше тирании отдельных лиц.
— Но где же ты найдёшь столько умных и честных людей, чтобы достойно управлять государством?
— Должно быть изменено воспитание. В каждом городе хорошо иметь школу, готовящую образованных людей. Поверь мне, они не будут ни тиранами, ни мздоимцами. Строй, который спасёт Элладу, — это ноократия[61].
— Пока мы спорим, процессия миновала гору и движется к акрополю, — заметил Клисфен.
Акрополь снизу, с тёмной улицы, по которой шли Пифагор и Клисфен, виднелся сфрагидой с рельефными изображениями, сверкавшими мириадами огней. В центре белели колонны храма Афины Полиады[62].
— Да, Панафинеями Писистрат оставил о себе вечную память, — проговорил Пифагор. — Он превратил Афины в один из наиболее благоустроенных эллинских городов. Ныне, когда мы идём по этой замощённой улице, слышно, как под ногами течёт вода, словно бы охлаждая кипевшие против Писистрата страсти и делая его имя образцом достойного правителя.
— Это Эридан, текущий с Ликабета, — пояснил Клисфен. — Он перекрыт плитами, и разлив уже не грозит дворцу Писистрата.
— А нет ли угрозы его библиотеке?
Клисфен поднял голову.
— Библиотека на склоне холма. Видишь, вон там.
— Слава её создателю. Библиотека притянула меня в твой город, и я с нетерпением жду с нею встречи.
Ржание коня
И вновь собрались семеро. Слово взял Видарна.
— Мужи, — произнёс он, — я полагаю, что диадему должен надеть тот, кто первым спросил, сын ли Кураша правит нами, кто сумел убедить царских друзей, что Бардия — это не Бардия. С помощью Ахурамазды Отана наведёт в державе порядок.
Наступило молчание. Куда девалось то единодушие, с каким семеро устраняли сына Кураша и которое проявили на совете царских друзей!
— Тут был назван Ахурамазда, — первым нарушил молчание Дарайавуш. — Я припоминаю одну давнюю историю, которую услышал от своего отца, — да продлятся его годы. Вернувшись из земли массагетов после гибели Кураша — он узнал о ней в пути, — отец рассказал мне, что, перед тем как отправиться в свой последний поход, Кураш вызвал его к себе и поведал о своём сновидении. Царю снился я в виде парящей в воздухе птицы, осеняющей крыльями Азию и Европу. Заподозрив, будто я, тогда ещё мальчик, злоумышляю против него, Кураш приказал взять меня в оковы. Поэтому я полагаю, что Ахурамазда, ниспославший царю сон, хочет видеть царём меня.
Поднялся шум. Видно было, что многие Дарайавушу не поверили, считая его рассказ таким же вымыслом, как и тот, что они сообща сочинили о самозванце.
— А есть ли у тебя свидетели, что дело было именно так, как ты его изложил? — спросил Отана.
— Кураш беседовал с отцом без свидетелей, — отозвался Дарайавуш, — но я ещё тогда рассказал об этом разговоре моему другу Ардиманишу.
— Да, он об этом мне говорил, — подтвердил Ардиманиш.
— И ты можешь доказать, что это было рассказано десять лет назад, а, допустим, не вчера? — съязвил Видарна.
— Мужи, — сказал Виндафарна, — так мы ни о чём не договоримся. А тем временем народ, оставшись без пастуха, разбредётся, как стадо, и появится какой-нибудь самозванец, сотворённый не нами. В тех случаях, когда хотят узнать волю Ахурамазды, принято обращаться к жребию.
— Какому жребию? — спросил Гаубурава.
— К тому, который нам придётся по душе. Мне кажется, что лучше всего гадать по бессловесным животным. Я предлагаю так. Мы можем выехать все вместе на рассвете на конях за Вавилонские ворота. Чей жеребец первым заржёт, приветствуя Ахурамазду, тот и будет царём.
— Жеребец... — проговорил Отана.
Все заметили, что он побледнел.
— Что с тобой? — спросил Багабухша.
— Вспомните: «Жеребец внезапно заржал, и я попал ему под копыта», — с усилием выдавил из себя Отана. — Сон убитого нами Бардии.
Наступило молчание.
— Что вы, друзья, приуныли? — весело произнёс Дарайавуш. — Бардия был предупреждён о грозящей ему опасности вещим сном. Но предупредивший не спас его от смерти. Ведь наш замысел удался. Значит, высшая сила на нас не гневается.
— Половина замысла, — вставил Гаубурава. — Трон ещё не занят.
— Гаубурава прав, — сказал Отана. — Нам надо избежать всего того, что может разрушить наше единство. Давайте договоримся: если жеребец назовёт царём не меня, а кого-нибудь из вас, пусть он возьмёт в жёны мою Федиму.
— Постой, Отана, — перебил Дарайавуш. — Ведь дочери есть у всех нас. И ты, если станешь царём, возьмёшь в свой гарем наших дочерей. Это касается и всех остальных. Мы все будем зятьями того, кого жребий сделает царём.
— Это будет справедливо, — сказал Отана, вставая.
Вернувшись домой, Дарайавуш позвал своего конюха Ойбара и спросил, как сделать, чтобы жеребец заржал, если его вывести завтра за ворота.
— Проще простого, — ответил конюх. — Я приведу к своему коню одну из кобылиц и поставлю её в конюшне до полуночи. А перед самым рассветом проведу её по тому пути, где ты будешь скакать. Уверяю тебя, твой жеребец заржёт, как только почувствует её присутствие.
— Так и сделай, — распорядился Дарайавуш, — и тебя ждёт великая награда.
На заре все семеро выехали за Вавилонские ворота. Приблизившись к тому месту, где была проведена кобылица, жеребец Дарайавуша зафыркал, заржал и рванулся вперёд.
И признали шестеро жребий, представив Дарайавуша высокому собранию, которое этот выбор утвердило. И надел Дарайавуш, сын Виштаспы, муж нецарского рода, пурпурное одеяние и воссел на золотой трон Кураша. Шестеро же находились по обе стороны от него, могли видеть его лицо во время пиршеств и давать ему советы. Взял Дарайавуш в жёны Федиму, дочь Отаны, по одной дочери от каждого из остальных пятерых своих сообщников и двух дочерей Кураша — Атосу и Аристону, первая из которых была до него главной женою Камбиза и Бардии, а вторая ещё не всходила на мужское ложе, и потекла в жилах его сыновей, внуков и правнуков царская кровь Ахеменидов.
Библиотека
Отшумели Великие Панафинеи. На агоре и прилегающих к ней улицах улеглась пыль. В город вернулась тишина, и Пифагор отправился в библиотеку.
Вступив в лесху, он обвёл взглядом стены, уставленные полками, и навал свитков на полу. И сразу же за его спиной появился юный хранитель книжных сокровищ. Они обменялись приветствиями. Пифагор назвал своё имя. Юношу звали Филархом.
— Книг немного, — проговорил Пифагор.
— Как немного?! — воскликнул юноша. — Здесь почти всё, что написано эллинами.
— А труд Эвгеона Самосского у тебя есть?
— Книги ещё не все разобраны, — показал юноша на груду свитков в углу. — Может быть, и есть.
— Я имел в виду, что эллинами написано немного, — продолжал Пифагор. — Ещё не расписались. Ведь пишут всего два, от силы три века. И представь себе, Филарх, какое бы потребовалось помещение, если бы письмо стало нам доступным две тысячи лет назад. В Вавилоне, в храме Бела, книгам отведена лесха раз в десять больше этой. На гипсовых полках, поддерживаемых деревянными колоннами, стоят корзины с исписанными глиняными табличками. К каждой корзине прикреплён кожаный ярлык с указанием, что в ней хранится.
— Неужели столько написали одни вавилоняне?
— И они, и другие народы. И в этом отличие их библиотек от этой первой мне известной эллинской, ибо, если я не ошибаюсь, тут нет сочинений пеласгов.
— А они умели писать?
— Умели. На Самосе есть образчики их письма. Есть и в Аргосском Герайоне. Об их письменах знал Гомер, но тайну прочтения этих древних письмён герои унесли с собой в Элизий. А вот вавилоняне умеют читать письмена своих предшественников и даже обладают словарями их языка.
— И откуда тебе это всё известно?
— Я был в Вавилоне и читал труды, написанные восточными письменами, которые у нас принято называть ассирийскими, разумеется, не всё, а только касающиеся математики, астрономии и религии. Это меня интересует более всего. Но попадались мне также сочинения по медицине, сборники законов. Когда мне нужно было что-либо отыскать, мне предлагали каталог. А у тебя такой каталог есть?
— Пока нет. Я здесь недавно и даже не успел ещё книги разобрать.
— Тогда мне ничего не остаётся, как самому пуститься в путешествие по этим волнам. И у меня уже заранее гудит в голове.
— Гудит?
— Ещё как! Гудит уже, когда я вспоминаю хотя бы имена тех, кого читал или о ком слышал. Ведь у каждого свой голос, а его заглушают другие. И надо его выделить. Вот и гудит.
Царский гнев
Площадь перед царским дворцом, вчера ещё пустая, чернела мириадами голов. Те, кому не хватило места, устроились на платанах, посаженных, по преданию, древними властителями этих мест, царями Элама. Лица были обращены к помосту с воткнутым в него колом. Здесь ежедневно творилась расправа. Кого клеймили железом, кому рубили руку, кому — голову. Для населения этой ныне главной из царских столиц наказание было излюбленным публичным зрелищем. И наполненность площади зависела главным образом от того, чьи муки предстояло узреть. Ныне такую массу зрителей собрала объявленная ещё три дня назад весть, что будет посажен на кол сам Оройт.
Имя Оройта вот уже три года звучало на огромных просторах Персидской державы. Управлявшаяся им Азия была самой населённой и самой богатой из царских сатрапий. Неудивительно, что её правитель считался правой рукой царя царей. Оройт и был ею. Но и после убийства Камбиза (народу говорили, что он во время очередного припадка священной болезни наткнулся на собственный нож) Оройт продолжал править десятками народов Азии, хотя все другие сатрапы были смещены мидийскими магами, стоявшими за спиною Бардии. В народе судили-рядили, какова будет судьба Оройта при Дарайавуше. Одни считали, что Дарайавуш, ставший телохранителем Камбиза по рекомендации Оройта, оставит ему Азию, другие уверяли, что сместит его. Но кому могло прийти в голову, что Оройта ждёт такая судьба, а любителей зрелищ — столь редкое в последние годы удовольствие!
Головы пришли в движение.
— Ведут! — послышались голоса.
Силосонт, оказавшийся в Сузах как раз в этот день и приведённый на площадь царским толмачом самосцем Архиппом, вздрогнул. «Сейчас я увижу погубителя моего брата, обрёкшего его на не менее страшную казнь, — думал он. — Увижу искажённое ужасом лицо этого негодяя».
Но Оройта вели таким образом, что Силосонт не смог увидеть его лица — ему были видны лишь седая голова, обнажённая, располосованная бичом спина и красные шаровары.
Вот трое палачей втащили толстяка на помост, стянули с него шаровары и, подняв, насадили на кол. Раздался нечеловеческий вопль.
Силосонт отвернулся и закрыл ладонями рот, пытаясь удержать рвоту.
Проталкиваясь через густую толпу, наслаждавшуюся зрелищем казни, Силосонт и Архипп выбрались на пустую улицу. Немного успокоившись, Силосонт спросил:
— В чём же причина гнева царя царей?
— Царский гнев — как смерч в пустыне, — отозвался Архипп. — Кто знает, отчего он зарождается и на чью голову падёт? Ведь любое решение здесь возникает во мраке душ и царских покоев. Угоди царю чем-то особенным одна из сотни его жён, и он, расслабившись, скажет: «Проси любую награду», и летит с помоста голова вчерашнего царского любимца. И никто не спросит, в чём его вина, и может быть, даже и оплакивать его не будет из страха перед царским гневом. И всё же мне кажется, что Оройт погубил себя тем, что слишком много знал. Тебе ведь известно, как Дарий пришёл к власти.
— А как же! Семь персов, заподозрив, что царь — не Бардия, а похожий на него маг, ворвались во дворец и убили самозванца.
— Это так. Но царём стал Дарий, не самый знатный и влиятельный из этих семерых. В этом загвоздка и, кажется, причина гибели Оройта. Рассказывают, что семеро загадали: царём будет тот, чей конь первым заржёт на заре. Так вот, говорят, кто-то дал Дарию совет, как заставить коня заржать первым. Не был ли это Оройт?
— И как же?
— Очень просто. Его конюх вывел ночью за городские ворота кобылицу, которую дал покрыть жеребцу Дария в том месте, где, как договорились семеро, будут выведены кони. Утром, на какое было назначено испытание, конь Дария радостно заржал. И шестеро спешились, поклонившись ему как царю.
Эвгеон
По глазам Филарха Пифагор сразу понял, что юноша хочет его чем-то обрадовать.
— Кто-нибудь меня искал? — спросил он.
— На этот раз — нет. Но мои поиски увенчались успехом.
Юноша достал с полки и положил перед Пифагором свиток.
— Эвгеон Самосский.
— Из завала?
— Не совсем. В завале отыскался отрывок папируса, конец свитка со словами «Написал Эвгеон Самосец», и я за твоё отсутствие пересмотрел все свитки без футляров — а их, как ты знаешь, тут множество. По почерку, а затем по разрыву я определил, что вот это труд твоего земляка. Я ведь слышал, что Писистрат, считая себя наследником Тесея, с особенной тщательностью собирал всё, что относится к островам нашего моря.
— У меня было предчувствие интересной встречи. И вот он, этот незнакомец.
Пифагор погладил свиток.
— Ну так что ж, Эвгеон, раскрой мне свою душу.
Эвгеон оказался служителем храма Геры, ведшим погодную запись примечательных событий. Пифагора привлекло сообщение об открытии неиды — так Эвгеон называл размытый Имбрасом костяк поражённого Зевсом гиганта. На самом деле, судя по описанию челюсти с огромными зубами и позвоночника длиною в пять оргиев[63], переходящего в хвост, это был дракон, возможно, один из тех, победа над которым якобы прославила Аполлона. «Конечно же, — думал Пифагор, — неиды — существа того отдалённого времени, когда земля, освобождённая Гелиосом от излишней влаги, высыхала и сгущалась, и всё, что обитало на ней — огромные животные, растения, — погибая, превращалось в перегной, из которого вырастали теперешние животные, рыбы, растения, а быть может, и люди. Некоторые из них по форме напоминали тех, древних, ставших перегноем. Так, маленькие юркие ящерицы — это уменьшенные в мириады раз неиды, а летающие рыбки триглы — потомки огромных летающих рыб; а из растений в прежнем виде сохранились лишь крапива и бобы. Поэтому не следует есть крапивы, бобов и тригл как наших предков».
Гелиос уходил за Киферон. На акрополь спускались вечерние тени. Впервые Пифагор и Филарх покидали библиотеку вместе.
— И сколько бы испарилось нелепых басен, — начал Пифагор, — если бы такие книги, как та, которую ты отыскал, не отдавались на съедение жучкам, а хотя бы проглядывались. Ещё на Самосе, а затем здесь, в Афинах, я слышал о дружбе Креза и Солона, а из упоминания Эвгеоном о времени смерти афинянина Солона на острове Хиос я понял, что Солон умер до прихода Креза к власти. Наиболее интересным было то, что Эвгеон сообщает не только о Самосе, но и о совещаниях в Панионионе, в которых участвовали самосские послы. И вот мне стало известно, что задолго до захвата власти Поликратом, в те годы, когда все ионийцы, кроме самосцев, находились под властью Креза, персы попытались перетянуть их на свою сторону, но безуспешно, и будто бы после разгрома Креза и порабощения Ионии Кир на просьбу ионян об обещанном союзе ответил так: «Я предлагал вам союз, когда вы плавали, как рыбы в море, а теперь вы у меня на сковороде».
Филарх расхохотался:
— Ну и Кир.
— Нашему Самосу благодаря гибели Кира и распрям между его сыновьями пока удаётся избежать сковороды. Но надолго ли? Фокейцы оказались умнее всех, бросив в пучину железо и дав клятву не возвращаться, пока оно не всплывёт. Однако не возвращаться — не значит забывать. Поэтому у меня к тебе, Филарх, просьба.
— Ко мне? — удивился юноша.
— Ну да, к тебе. Подбери среди книг те, в которых хотя бы упоминается Иония. А я подумаю, как их переписать. Это уже моя забота.
Филарх ловил каждое слово Пифагора, и оно, подобно зерну, западало в не тронутую ещё никем почву души, ветвясь его собственными желаниями и мыслями, и юношу уже не тяготил разбор свитков, ибо он ощутил себя на службе у самой Истины, от имени которой говорил этот удивительный человек.
Благодетель
В то утро у главных ворот царского дворца появился необычный посетитель, судя по облику и одежде — эллин.
— Кажется, — проговорил один из стражей, — он из сатрапии, которой до недавнего времени правил Оройт. Но на кого же он пришёл жаловаться, если его обидчик уже казнён?
Второй пожал плечами.
Вёл себя эллин не как проситель — ни на кого не обращал внимания и не добивался, чтобы его пропустили в царские покои.
Начальник стражи, приведший новых часовых, подошёл к нему.
— Кто ты такой?
— Я благодетель царя царей, — гордо ответил эллин.
Этот ответ настолько поразил перса, что тот отошёл, решив, что лучше не иметь дела с безумцем.
На следующее утро эллин появился вновь на том же месте и так же горделиво взирал на окружающих.
И только тогда перс решил доложить царю, что у ворот сидит эллин, называющий себя его благодетелем.
— Что-то я не припомню, чтобы какой-то явана мне оказывал благодеяние, — усмехнулся царь. — Приведи-ка его сюда. Пусть объяснит, что ему надо.
Зная об обычаях персов отдавать царю земные поклоны, Силосонт за дни сидения у ворот нашёл выход, как его обойти. Входя, он как бы случайно обронил перстень и быстро нагнулся, чтобы его поднять.
— Подойди ко мне ближе, явана, — произнёс царь царей. — Говорят, ты считаешь себя моим благодетелем. Объясни, что это значит.
— В Египте, о царь, я отдал тебе мой плащ.
— Так это был ты! — воскликнул царь. — Как не помнить?! Ведь не взяв с меня денег за плащ, ты посодействовал получению этого.
Он коснулся пальцами диадемы.
— Так, во всяком случае, мне объяснил халдей, к которому я обратился по пути из Египта. «Дарованный пурпур к трону» — таковы были его слова. И чем я теперь могу вознаградить тебя за твой дар? Возьми без счета золота и серебра, коней, красавиц из гарема, попроси голову твоего недруга — и всё это получишь.
— О нет, царь, я не нуждаюсь ни в чём из того, что ты мне предлагаешь. Ведь я брат Поликрата Самосского, предательски заманенного Оройтом в Магнезию и там замученного.
— Оройт наказан и за это, — вставил царь.
— Отправляясь в Магнезию, — продолжал Силосонт, — мой брат оставил остров некоему лидийцу, человеку без рода и без племени...
— Понял, — перебил царь. — Я тотчас прикажу моему военачальнику прогнать этого негодяя и передать власть тебе как законному наследнику Поликрата.
— И молю тебя, царь, не наказывай никого из тех, кто поддерживал лидийца, — многие самосцы за эти годы покинули остров в страхе перед персами. Я хочу, чтобы мои подданные считали тебя милостивым владыкой, каким ты стал для меня.
Дельфы
Пифагор ждал, что это случится ночью. Так же внезапно, как видения, его посещали и напевы. Сначала он улавливал несколько опорных звуков, а затем, наплывая друг на друга, они складывались в мелодию. Пифагор давал им имена богов.
Однажды в Сардах во время священного сна в храме Мена[64] ему приснилась чарующая мелодия. Потом он попытался проиграть её на кифаре, но не смог. И в ту же ночь он, как рассказывают (сам он этого не помнит), забрался на кровлю храма и ходил по её краю, как акробат. В Индии для него впервые прозвучала мелодия Геры с глухими тонами, вовсе не похожая на ту, какую он услышал, возвратившись на Самос. Эта же, новая мелодия, отличалась необыкновенной мощью. От неё захватывало дыхание. Казалось, летишь на её крыльях над ледяным безмолвием гор.
Пифагор понял, что это зов Аполлона. Нет, не бога-младенца, родившегося на Делосе, не могучего победителя Пифона[65], обосновавшегося на Парнасе, а сына Силена, побеждённого и похороненного близ храма.
От главных ворот Дельф до святилища Аполлона по змеившейся дороге было не более семи стадиев. Но на этот путь Пифагору потребовалось полдня, ибо он не просто шёл, а осматривал весь священный участок, ища прямоугольную плиту, на которой ему нужно было бы написать: «Аполлон, сын Силена». Наконец он заметил такую плиту и вынул захваченный с собою резец.
Вдруг он услышал старческий женский голос:
— Что ты делаешь, сын Мармака?
— Какого Мармака? — яростно воскликнул Пифагор. — Мой отец — резчик камней Мнесарх. Я не знаю никакого Мармака.
Жрица пронизала Пифагора острым взглядом.
— А я знаю. Я ему служу. Это он дал тебе жизнь и имя.
— Ты бредишь, почтенная.
— Бредить истиной — моё призвание. Ведь я пифия, Фемистоклея, возгласившая твоё рождение.
— Ты-то мне и нужна! — воскликнул Пифагор. — Ведь меня призвал Аполлон. Я должен написать на плите: «Аполлон, сын Силена». Ты ведь это знаешь?
— Знаю. Но не всё, что известно нам с тобой, надлежит знать другим. Ведь люди привыкли к тому, что Аполлон — сын Зевса и Латоны, что он победил Пифона, а не пал от его ядовитого дыхания. Им нужен Аполлон-победитель, а не побеждённый. Если им раскрыть истину, они забудут дорогу в Дельфы и станут обращаться к другому оракулу. Ты меня понял, сын Мармака?
— Я сын Мнесарха... — безнадёжно возразил Пифагор.
— Ты им и останешься в веках, если бросишь резец и забудешь о том, что тебе нашептал Аполлон. Скажу по секрету: у богов, как и у смертных, настроения быстро меняются. Ну потянуло Аполлона раз-другой к правде, а потом опомнится и обрушит на того, кто раскрыл его тайну, всю свою ярость. Тебе ведь известно, какова она? Рассказчики мифов в этом не ошиблись.
— Будь по-твоему! — ответил Пифагор, бросая резец в траву. — И благодарю тебя за урок. Он мне скоро пригодится.
— Знаю, знаю. Ты ведь хочешь учить. Открывай одним четвёртую часть истины, другим — половину, самым доверенным — три четверти. Всё же целиком храни для богов. Это поднимет тебя над всеми, кто тянется к мудрости.
Голос постепенно стихал. Исчезла и старица, но каждое сказанное ею слово продолжало звучать, затрагивая неведомые струны души.
«Бредить истиной... Можно ли выразиться точнее? — думал он. — Таково озарение пифии. Но таков ведь и мой дар. Всё истинное открывается в бреду. Разве истинная поэзия — это не бред, не безумие?! Но чтобы бред стал истиной, надо много видеть, много знать. Слепец Гомер был этого лишён».
Но вот и святилище. Пифагор вспомнил легенду, будто первый храм Аполлона на этом месте был из пуха. И ведь это тоже образ, символ, дающий для понимания сути Аполлона больше, чем любой миф о нём. В нём лебеди, которые летят на благодатный юг, опустились на волны и семь раз оплыли остров, давший жизнь младенцу Аполлону, Леда и лёд, гиперборейская белизна ещё не заселённого людьми мира, познать который поможет золотая стрела Аполлона, эта лёгкая пляска ведомых Аполлоном муз, эти звуки из затронутых в космосе струн, гармония сфер. О, как же были далеки от её понимания милетские софосы, искавшие первоосновы бытия! Мир текуч. Он — постоянное кружение образов, изменение очертаний и форм. До камня был пух.
Перед колоннами сгрудились служители с жертвенными животными. «Овечку Аполлону! — подумал Пифагор. — Унизить величайшего из богов самым глупым животным! Ему ли, предводителю Муз, слышать предсмертное блеяние? Съесть её? Но ведь всем известно, что ягнятина достанется этой ораве удобно устроившихся служителей Аполлона, взявших на себя роль привратников. Они обгладывают и косточки. Взглянуть бы на огромную яму, куда эти бездельники сбрасывают остатки своей трапезы. Сколько овечек, козлят, коров и быков было съедено ими за полтысячелетия существования храма? Если уж и приносить в жертву живое, то Аполлону следовало бы жертвовать волков или львов, а не овец, которым достаётся и от волков, и от людей... О, эти условности... Я же принесу в жертву Аполлону человеческие слабости».
Золотые оковы
Уже седьмой день Дарайавуш, лёжа на высоком ложе, стонал. Охота на львов, вместо того чтобы возвеличить нового властителя, завершилась падением с коня и нестерпимой болью. И во всей державе, от Скифского моря до Южного океана, от земель яванов до Индии, не нашлось никого, кто бы мог облегчить его страдания.
Вокруг ложа, причитая, суетились жёны, телохранители же метались по столице в поисках любого, кто подскажет, как помочь упавшему с коня. От них разбегались, как трусливые зайцы от лисы, так как знали, что главный целитель дворца египтянин Птахотеп приговорён к казни за то, что после его лечения Дарайавушу не стало лучше.
И тогда один из последних дворцовых рабов, недавно привезённых из Лидии, вспомнил, что в столице исполняет рабскую службу прославленный эллинский врач Демокед, сопровождавший казнённого правителя Самоса Поликрата. Услышав это, главная из царских жён Атоса предстала перед супругом и сообщила ему, что найден тот, кто может помочь. И произнёс Дарайавуш между двумя стонами:
— Доставить!
И вскоре уже Демокед лежал у высокого ложа, не признаваясь в том, что он врач, и уверяя, что он повар Поликрата Самосского. Царь же царей, продолжая стонать, произнёс между двумя стонами:
— Палача!
И явился палач с плетьми и скорпионами. Сели телохранители на голову и ноги яваны, и тот признался, что он Демокед, сын Каллифонта, и что он прибыл к Поликрату на Самос по его приглашению и излечил своего гостеприимца от недомогания, но обещанных ему денег не получил, ибо эти деньги Поликрат рассчитывал взять у Оройта, но вместо денег обрёл позорную смерть.
Царь нетерпеливыми движениями прервал этот поток излияний и приказал:
— Приступай!
И приблизился Демокед к царскому ложу, приподнял покров над посиневшей ногой и в одно мгновение вправил лодыжку. Наутро синева с ноги начала сходить и опухоль спадать. И призвал к себе царь царей Демокеда, уже облечённого в шаровары, и сказал тому, кто облегчил его страдания:
— Поликрат обещал тебе два таланта, которых ты не получил. Я тебе их отдаю, и, кроме того, проси у меня всё, что пожелаешь, кроме возвращения на родину.
Упал Демокед к царским ногам, уже спущенным на ковёр, и попросил даровать жизнь египтянину, которого ждала казнь.
Удивился Дарайавуш незначительности этой просьбы и сказал:
— Пусть живёт и будет рабом твоим.
Потом, взглянув на лодыжку целителя с синими кольцами от оков, добавил:
— Эти следы скоро исчезнут с твоих ног, но память о перенесённом по вине негодяя Оройта долговечнее; чтобы она не мучила, жалую тебе пару золотых оков.
— С ними я стану вдвое несчастнее, чем был, о царь, — ответил Демокед.
— Ты мне нравишься, явана, — проговорил царь царей и щёлкнул пальцами.
И тотчас появились евнухи.
— Отведите этого человека к моим жёнам, — приказал Дарайавуш. — Скажите, что он спас мне жизнь, и пусть они его наградят из своих богатств и отведут в дом Великого Врача.
Корабль на колёсах
— Вот и я, — проговорил Клисфен, вступая в лесху. — Привет тебе от Меандрия.
Поднявшись, Пифагор двинулся навстречу афинянину.
— Ты, конечно, шутишь.
— О нет. Я побывал на твоём острове, забрал деньги из вашего Герайона и перевёз в храм нашей Афины Воительницы. Не могу же я оставить дочерей без приданого!
Пифагор рассмеялся:
— Это верно. У них уже появились женихи?
— О нет! Пока они играют в куклы. Готовятся к своему предназначению, а я — к своему. Опыт Меандрия поучителен.
— О каком опыте ты говоришь?
— Разумеется, о политическом. Как только пришла весть о гибели Поликрата, Меандрий, вместо того чтобы объявить траур, собрал народ на агоре. Он вышел перед людьми в белом хитоне, объявил, что отныне они свободны, и предложил принести жертву Зевсу Освободителю.
— Ну и ну! — воскликнул Пифагор. — А я его считал самым верным другом Поликрата.
— Тирания и дружба несовместимы, — продолжал Клисфен. — Каждый друг тирана — его тайный враг, ждущий случая нанести ему удар в спину и занять его место. Я не уверен в том, что Меандрий не догадывался, что ожидает Поликрата, и не отправил его на верную гибель. Но меня заинтересовало другое.
— Что же?
— Наберись терпения. Самосцы не пожелали изменения порядков и отдали Меандрию единоличную власть, которую он принял. Отсюда я заключаю, что переход от тирании к демократии непрост. Люди привыкли к приказам и разучились думать, а некоторые от вольности посходили с ума. Брат Меандрия задумал перерезать всех, кто служил Поликрату. Пришлось посадить его за решётку в Горгиру.
Они вышли с агоры. У невысокого каменного алтаря Пифагор остановился.
— Я видел в разных частях города, а за городской стеной — в роще Академа точно такие же алтари. Скажи, какому богу или богине на них приносят жертвы?
— Это алтари очищения, — не сразу ответил Клисфен. — Стараюсь их не замечать. Надеюсь, когда-нибудь развалятся.
Дорога огибала холм акрополя. Над крутыми, покрытыми порыжевшей травой склонами поднимались скалы из лиловатого мрамора, увенчанные мощными стенами. С этой стороны не было видно колонн храма Афины, а только его черепичная кровля.
— Ты, конечно, читал Эпименида? — внезапно спросил Клисфен.
— Разумеется, — ответил Пифагор. — Великий был чудотворец.
— Вот его и пригласили для очищения Афин сразу же после того, как кости моих предков выкинули из могил.
— Я сам проходил очищение не раз, — сказал Пифагор. — Во Фракии прыгал через костёр в праздник, который фракийцы называют купальским, в Вавилоне меня очищали кровью жертвенных животных, в Индии — песнопениями. Какой же способ очищения избрал критянин?
— Самый оригинальный. Он приказал пригнать к Ареопагу[66] овец и всех их отпустил. Они разбрелись по всему городу, а некоторые вышли за стену, и на том месте, где каждая прилегла, её приносили в жертву, белую — небесным богам, чёрную — подземным. А на местах заклания воздвигали алтари. На них приносят жертвы в день очищения. В один из таких дней нас с отцом изгнали из города.
Пифагор с сочувствием взглянул на Клисфена и, меняя тему разговора, спросил:
— Почему здесь так пусто?
— Люди уже прошли, — отозвался Клисфен. — Ведь сегодня день Диониса. Должны и мы отдать ему честь.
И вот показался Пникс. Всё пространство между ним и акрополем было заполнено праздничной толпой, казалось бы бесцельно топтавшейся на месте. Приглядевшись, Пифагор заметил в массе подвыпивших мужчин девушек в венках из виноградных листьев. Ближе к Пниксу, занимавшему лесистый холм, к деревьям были привязаны качели. Время от времени они высоко взлетали с постоянно менявшимися на них девичьими фигурками.
Толпа внезапно стала расступаться, давая дорогу колеснице. Она изображала корабль с кормой и высоким носом. Рядом с мачтой стоял Дионис в священном одеянии, с тирсом, опутанным виноградными лозами. Лицо под венком было черно, показывая, что это пришелец из Индии, страны палящего Гелиоса. Тут же рядом на осле ехал Силен, лысый, толстый, как пифос, старик, и вокруг него приплясывала дюжина сатиров в масках, с рожками, высовывавшимися из волос, с хвостами, привешенными сзади, и толстыми фаллосами, торчащими впереди. За ними двигались полуобнажённые женщины в венках из плюща, со звериными шкурами на плечах, люди в масках медведей, львов и тигров — воинство Диониса, бога плодоносящей природы.
У белой черты конюх остановил коней, и гудение трубы возвестило начало представления. Сатиры уселись на землю и уставились на Диониса. Флейты завели тягучий восточный мотив. Дионис отступил от мачты и, выкинув вперёд обе руки, запел:
Куда принесло меня? Неужто же к варварам, В штаны одетым, Поющим песни свои тарабарские?Один из сатиров, отделившись от собратьев, подбежал к кораблю и заголосил:
Ты под священной скалою Афины, сестрицы твоей, А мы — её пастыри. Готовые службу нести тебе.Дионис, вскинув голову, проговорил нараспев:
Так вот ты где, сестрица. Приди же мне на подмогу.Сатиры с трудом сняли с осла Силена, и тот повёл свою партию:
О Йакх, о Йакх, ревностью Геры погубленный, Из чрева спасённый Зевсом-родителем! Ты в Аттику прибыл, Освобождающий! Ты узнаешь ли меня, Силена старого, Тебя воспитавшего? Народ атгический Тебя приветствует.И тут к колеснице приблизились поселянин с девушкой, у ног которой тёрлась собака. Дионис вступил с ними в разговор.
— А это что за люди? — спросил Пифагор.
— Икарий и его дочь Эригона. Они, согласно нашему мифу, оказали гостеприимство Дионису, и он одарил их своим пьянящим напитком, жертвами которого они стали.
— Жертвами? — удивился Пифагор.
— Случайными жертвами. Икарий угостил пастухов. Выпив лишнего, те в беспамятстве попадали на землю, а придя в себя, решили, что Икарий их отравил, и в ярости его растерзали. Собака привела Эригону к телу несчастного отца, и девушка в горе повесилась. Верную же собаку, не пожелавшую оставить хозяйку и отчаянным воем не дававшую покоя богам, они перенесли на небо. Она и теперь находится там, появляясь в самые жаркие дни в созвездии Пса. Качели, на которых качаются девушки, — символ судьбы Эригоны, тоже превращённой в созвездие вместе со своим отцом. Этот день мы называем праздником качелей. Так Диониса не чествуют нигде.
— Какая прекрасная идея — представить миф о возвращении Диониса, принёсшего вместе с радостью и беду! Но кто придумал этот корабль на колёсах? Кто приодел Силена и сатиров и сочинил стихи? — заинтересовался Пифагор.
— Да вот спускается к нам Дионис. Спроси лучше у него.
Актёр уже снял священное одеяние и венок, освободился от лоз, но лицо его было по-прежнему черно. Но вот он тряхнул головой, соскрёб со щёк остатки сусла, и Пифагор узнал Феспида.
Пифагор и Феспид не могли наговориться. Клисфен лежал рядом, глядя на бегущие по небу осенние облака.
— Так ты побывал за Индом, где надлежало быть мне? — улыбнулся Феспид. — И как чтут меня индийцы?
— Как мне растолковал мой гуру (так индийцы называют учителя), с недавнего времени они считают тебя чужаком, на что указывает само имя, под которым тебя чтут. — Кришна, ибо Кришна — это «чёрный» или, точнее, тёмно-лиловый, каким ты и предстал сегодня афинянам. Сами же индийцы, с которыми я общался, вопреки тому, что о них думают эллины, — бледнолицые и голубоглазые. Чёрные индийцы находятся у них в рабстве. И представь себе, на одном из индийских праздников я узрел тебя на колеснице, правда не такой большой, с какой ты приветствовал афинян, но такой, на какой в старину выезжали на битву герои.
— И кто же меня сопровождал? — спросил Феспид.
— Как и здесь, лесные демоны и пастушки в звериных шкурах. На голове у тебя был венок, в руках — свирель. Стоило тебе поднести её к губам, как они, бросив мужей, сбегались к тебе гурьбой, и ты, бесстыдник, прямо на глазах у всех их покрывал, как нынче сатиры вакханок. А опьянённые пастухи на тебя не были в обиде. Кому не хочется иметь от Кришны, то бишь Диониса, сына или дочь?!
Клисфен присел.
— Поразительно! А я был уверен, что между индийцами и эллинами нет ничего общего.
— Пройдя от Милета до Паталипутры, — сказал Пифагор, — я понял, как много общего в обычаях Европы и Азии, этого необозримого континента. Гильгамеш — брат Геракла, Кришна — Диониса. Белые индийцы по своему языку и облику — скорее европейский, чем азиатский народ. И сами они считают, что пришли из страны гипербореев.
Положив ладонь на колено старца, Пифагор проговорил:
— Но я увёл тебя в такие дали, так и не узнав, как ты оказался в Афинах. Мой отец полагает, что ты обиделся на коз, изглодавших твои деревья.
Феспид рассмеялся:
— Наксосских коз приобрели потом. Сначала я отправился к Поликрату и предложил ему дать представление для самосцев. Он мне сказал: «Зрелище развращает демос». И это сказано им, приказавшим соединить свою спальню подземным ходом с кварталом гетер! После этой неудачи я направился в Афины и был принят Писистратом. Он-то знал цену игре. А теперь...
— А теперь, — подхватил Клисфен, — Феспид готовит представление по другим, более поучительным мифам. Я уже тебе говорил, Пифагор, что народ, переживший тиранию, нуждается в лечении, и театр должен стать лечебницей. Мы с Феспидом подобрали сюжеты, осуждающие тиранию. Их в наших преданиях предостаточно. Тиранов и деспотов нужно показать в действии, чтобы граждане увидели, что сама судьба готовит гибель тому, кто взял на себя право отнимать достояние и жизнь у смертных.
— Ты назвал театр лечебницей, — сказал Пифагор. — А на мой взгляд, естественней сравнить его со школой. Взгляни на детей: играя, они учатся; мальчики — играя в войну, девочки — в семью. Что касается сюжетов, стоит ли публично высмеивать власть? Безвластье хуже любой тирании.
— И какой бы ты предложил воспитательный миф? — спросил Феспид. — Кто твой герой?
— Паламед.
— Но ведь Гомер не счёл его достойным для своего повествования.
— Это понятно. Паламед был врагом Одиссея. Он разоблачил его мнимое сумасшествие и вместе с тем трусость и был за это им оклеветан под Троей.
— Как интересно! — воскликнул Феспид. — Великий мыслитель и клеветник. Я попытаюсь показать этот миф афинянам. Ведь Афина — покровительница разума, и меня здесь должны понять. И пусть мальчики подражают не бродяге морей, а учёному, создавшему меры и весы, усовершенствовавшему алфавит, вырвавшему у природы и многие другие тайны.
Клисфен кивнул:
— Может быть, ты прав. Ведь мы уже взяли у аргосцев Тесея. Возьмём и Паламеда.
Атоса
Атоса принимала Дарайавуша в своих покоях каждое полнолуние. По возрасту она годилась царю царей в матери, и никто не мог сказать, какой из дней месяца они проводили на супружеском ложе и был ли такой день вообще, но все знали, что каждое полнолуние Дарайавуш откладывает любые дела и встречается с дочерью Кураша, чтобы сообщить ей о том, что происходит в мире, и почтительно выслушать её мнение и советы.
Атоса сидела на низком сиденье из слоновой кости, устремив взгляд на стоящего перед нею царя царей. Две чернокожие служанки, находясь сзади, беспрестанно обмахивали царицу веерами. Они были глухи от рождения и не могли услышать ничего из того, что говорилось в покоях.
— Картхадаштцы, — начал царь, — отправили флот из тридцати судов на западное побережье Ливии, чтобы основать там города, совершать плавания и торговать с эфиопами и белолицыми обитателями Оловянных островов.
— Тебе следует послать к берегам Ливии хотя бы одно судно, чтобы они не задавались, — сказала Атоса.
— Да кто же согласится совершить такое плавание? — возразил Дарайавуш.
Губы Атосы скривились.
— В таких случаях, когда никто не соглашался, — проговорила царица, — мой отец приглашал к себе одного из осуждённых на казнь и предлагал ему возглавить предприятие. И не было ни одного, кто бы отказался от поручения.
— Твой отец был мудрый царь. Я подумаю, кому поручить это плавание. Но продолжу. Фракийцы воюют между собой.
— Это очень хорошо, — заметила Атоса. — Мой отец Кураш говорил: «Если бы этот второй по численности после индийцев народ не был ослаблен междоусобными войнами, он был бы непобедим».
— Сейчас, — продолжал Дарайавуш, — фракийское племя гетов, считающее себя бессмертным, ополчилось против других фракийцев. Во время грозы геты мечут в небо стрелы, чтобы истребить богов своих противников.
— Это очень глупые люди, — проговорила Атоса. — А что нового у индийцев?
— У них появился новый бог. Они его называют Буддой, что на их языке значит «просветлённый». И ему не приносят никаких жертв.
— Но ты же ничего не сказал о яванах, — нетерпеливо перебила Атоса. — Я хочу услышать и о них.
— Что мне о них сказать! Кончились состязания в Олимпии, начались состязания в Дельфах.
— Так что же? — удивилась Атоса. — Они состязаются со своими богами?
— Да нет, сами с собой.
— А почему тогда в Олимпии?
— Олимпия — это не Олимп, как ты, видимо, подумала. Там они бегают, прыгают, мечут копья, голыми борются в пыли. Победители же получают не золото и даже не серебро, а ветви растущей там же дикой оливы.
— Пусть себе забавляются, — промолвила Атоса. — Почему бы тебе не озлобить их друг против друга?
Абибал
— Абибал! Ты ли это? — закричал Пифагор, заходя со спины к человеку, закреплявшему на столбике канат.
— А кто же другой! — воскликнул финикиец, кидаясь другу в объятия. — И мог ли я надеяться встретить тебя в Пирее, зная, что ты где-то в Италии. Мисдес рассказал мне о твоих похождениях на морях, а Залмоксис — о деяниях на Самосе. Он слово в слово передавал твои речения. Юноша прожил у нас зиму, а теперь он в море.
— Как в море?!
— Точнее, в океане. К нам в Китион прибыл кариец Скилак, которого Дарий поставил во главе флота и отправил открывать морской путь в Индию. Залмоксис явился к карийцу, и тот с первого взгляда понял, что давно стало ясно и нам — перед ним человек необыкновенных способностей. Одним словом, Залмоксис взят в плавание. Мой Хирам до сих пор не может успокоиться. Залмоксис стал ему братом.
— О, Гера! — воскликнул Пифагор. — Мальчик, родившийся во фракийской глуши, плывёт в Индию! Его качают океанские валы... Как часто, бредя по горам и безводным пустыням, я мысленно следовал вдоль побережья Индии и Аравии. Но мог ли я подозревать, что такое свершится при моей жизни! И я готов многое простить этому Дарию за столь смелый замысел. Я уверен, что имя Скилака останется в истории рядом с именем нашего Колея. И ещё, мой друг, поведай, как тебе удалось найти картхадаштские корабли, которые спасли нас от египетского рабства? Загадка эта продолжает меня интересовать.
— Я зажёг на Трогиле пифос с земляным маслом[67]. Свет его виден даже на побережьях Киликии и Сирии. Рассказывают, будто впервые это сделал наш царь Пигмалион. Картхадаштцы таким же образом переговариваются со своими навархами, зажигая пифос на Бирсе.
— Переговариваются? — удивился Пифагор.
— Ну да. С помощью щита, закрывая время от времени пламя.
— Нечто подобное рассказывают и наши мифы о знаках, будто бы посылавшихся с помощью костров из Трои на скалу Паламеда, а оттуда в Микены. Но я уверен, что может быть найден иной способ общения на расстоянии. Может быть, мне удастся его открыть. Но пока приходится полагаться на случай или на предчувствие, если им обладаешь.
— Ты имеешь в виду сны? — спросил Абибал.
— И сны тоже. Но не будем об этом.
— Почему же? Это очень интересно.
— Потому что природа этого явления пока не изучена. Потребуются сложные опыты. Я надеюсь заняться этим в Кротоне.
— Ты уезжаешь в Кротон?
— Ближайшей весной. Там за городом строится то, что я назвал храмом Муз, где я буду учить и продолжать исследования, начатые на Самосе. И может быть, ты мне в этом сможешь помочь.
— Разумеется! С огромной радостью! — воскликнул Абибал. — Скажи только, что требуется.
— Живя в юности в Тире, я читал там сочинения древних мудрецов и многое из прочитанного старался удержать в памяти. Мне хотелось бы иметь эти свитки в Кротоне. Если бы ты мог приобрести сочинения Моха! Необязательно их доставлять в Кротон. На Крите, в Кидонии, сейчас живут самосцы, и среди них мой брат Эвном. Передай эти свитки ему. А если там окажется мой друг Никомах — он торгует лесом, — то Никомаху. Тогда они скорее будут у меня.
— Погоди, Пифагор, — перебил Абибал. — Ты говоришь, что будешь учить в Кротоне. А не взял ли бы ты на учение моего Хирама? Он ведь уже не ребёнок, а когда узнал от Залмоксиса о тебе, стал бредить тобой. Как ты к этому отнесёшься?
— Конечно же я приму его, и не только потому, что он твой сын. Я за ним наблюдал в месяцы его болезни и думаю, что из него удастся сделать второго Моха. Хочешь, привози Хирама в Афины, до весны ещё много времени.
Птахотеп
Демокед, омытый и умащённый рабынями, нежился на ковре, ещё не веря, что всё с ним случившееся — не сон. «Если мне приведётся рассказывать в Элладе о событиях этого дня, меня сочтут лгуном. После страшной темницы оказаться в доме, не уступающем дворцу Поликрата! И это всё теперь моё, моё... Надо будет написать отцу и его успокоить. Может быть, пригласить сюда? Нет, отцу с его властным характером здесь несдобровать».
Мысли были нарушены скрипом двери. В спальню ворвался бритоголовый старик и бросился к ногам Демокеда.
— Я твой раб Птахотеп, — лепетал египтянин, покрывая поцелуями ступни Демокеда.
— Не унижай себя, друг, — проговорил Демокед, вставая. — Ведь ты такой же врачеватель, как и я. Случившееся с тобой несчастье не дозволяет мне считать себя твоим господином. Я знаю, как ты страдаешь. Прости меня!
Лицо египтянина удивлённо вытянулось.
— За что?
Демокед очертил рукою неполный круг.
— Ведь я стал обладателем твоего дома и твоих сокровищ. Но, право же, я к этому не стремился.
— Не ты, так другой, — отозвался Птахотеп. — Но другой бы не попросил в награду сохранения моей жизни. Поэтому я и буду называть тебя своим господином и стану самым верным твоим рабом. Что же касается дома, то знай, господин, что он сооружён Киром для своего лекаря армянина Тиграна. После казни Тиграна дом был передан мне. В Сузах его называют лечебницей. Большая часть сокровищ и рабов — это дары Кира Тиграну, остальное — дары мне Камбиза и Бардии.
— Да, я слышал, что и до Дария ты был лекарем двух царей.
— Мне повезло. Бардия был добрейшим из владык, и, несмотря на вражду ко мне Оройта, он сохранил мне жизнь по просьбе Атосы.
— Ах, Атоса, дочь Кира.
— А также жена Камбиза, потом Бардии, а ныне — главная жена Дария. Здесь жёны, как и дома, переходят от одного владельца к другому. Меняют только наложниц. Тебе же предстоит лечить и тех и других. Но ты счастливец. Дарий — не сын Кира, и поэтому он не позволяет себе того, что делал Камбиз. Видел бы ты, какие кровоподтёки оставлял Камбиз на телах несчастных женщин. Его кнут ходил и по спинам телохранителей. Они называли между собой Камбиза Кнутом, сыном Кураша. Доставалось нередко и мне.
— Нет, не зря я отказывался признаться в том, что я врачеватель, — вздохнул Демокед. — Я вижу, здесь врач должен быть также хранителем царских тайн.
— Теперь все старые тайны, как этот дом и всё, что в нём, господин, принадлежат тебе. И они могут тебя уберечь от неверных шагов. Поэтому, перед тем как что-либо предпринять, советуйся со мною. Это станет нашей с тобою тайной. А тайны друзей я умею хранить.
— Я в этом убедился, — сказал Демокед.
Египтянин резко повернулся.
— Ты это знаешь? — прошептал он.
— Да. Поликрат раскрыл мне это уже в Магнезии, незадолго до казни, называя тебя другом. И именно поэтому я особенно настойчиво добивался твоего помилования.
Открытие
Пифагор уже сидел на своём обычном месте, ожидая, когда Филарх принесёт ему свиток. Подавая его, юноша сказал:
— Говорят, ты вскоре собираешься нас покинуть. В тебя вцепился Кротон[68]. Я уверен, что настанет время, когда люди, узнавшие о тебе, придут сюда и попросят какой-нибудь свиток Пифагора, а у нас нет ни одного из твоих сочинений. Не оставишь ли ты нам что-нибудь?
— Их нет и не будет. Ведь я ничего не пишу на папирусе, ничего на коже и камне, — я оставляю пометки на душах учеников, в надежде, что они развернутся, как свитки.
— Тогда вот моя душа, Пифагор. Пиши на ней.
— И ты готов последовать за мною в такую глушь, как Кротон?
— Даже в страну гипербореев.
— Я обратил на тебя внимание сразу и по форме твоей головы и блеску глаз решил, что ты должен быть математиком. Я ждал, когда ты обратишься ко мне и войдёшь в триаду, достойное число.
— Триаду?
Пифагор встал. Глаза его зажглись.
— Всё сущее складывается из трёх миров. В этом тайна космоса. В этом — великое нерушимое единство божества, человека и природы. Ощущая это с давних пор, люди, жившие родами, создавали общности — племена. В Тиррении, как я слышал, местные жители до сих пор их называют трибами. Богам приносят трёх жертвенных животных. Устраивают поминальные пиршества из трёх частей — фракийцы именуют их тризной. В эллинских храмах над входом высится священный треугольник — фронтон. Что ещё к этому можно добавить? У многих народов, отличающихся по языку и обычаям от эллинов, — у фригийцев, иллирийцев, мессапов, венетов и даже далёких индийцев — число три звучит одинаково. Триада объединяет людей как миры, так что если ты видишь эту фигуру, или в памяти представляешь её на чертеже, или говоришь «вот треугольник», то имей в виду не то, что начерчено перед глазами, а то, что стоит за начертанием.
Немного помолчав, он продолжил:
— Однажды после целого дня мучительных бесплодных размышлений, когда я уже отчаялся открыть что-либо новое, передо мною предстал треугольник, словно бы вырезанный из металла. Мне он показался дверью, скрывавшей какую-то тайну. И я потянулся к нему, чтобы заглянуть за его край. И тотчас этот край выпятился ещё одной гранью, став пирамидой. Я хотел заглянуть за неё — она превратилась в ещё более сложную фигуру. И мне стало понятно, что это будет продолжаться бесконечно. Мир безграничен, и в основе его лежит триада. Впрочем, об этом потом. Пока мы начнём с плоскостей. Начерти три квадрата таким образом, чтобы треугольник оказался в центре.
Послышалось скрипение мела.
— Прекрасно. Теперь...
Не закончив фразы, Пифагор рванулся к чертежу и стал лихорадочно измерять его двумя пальцами, как циркулем.
— Квадрат, построенный на гипотенузе, по площади равен квадратам, пристроенным к катетам...
— Да, это так. Но какая в этом польза?
— Пользу люди отыщут. Важно, что открыт закон, — не мною, а ещё теми, кто жил в Вавилоне до халдеев. Я об этом сейчас вспомнил, как часто бывает, случайно. Подумай, Филарх, всё, что нас окружает, и мы сами подчиняемся непреложным законам, называя их то судьбой, то богами. Повлиять на законы мы не можем, но в состоянии их познать. Вот, взгляни — небо уже покрывается звёздами, и они не движутся в беспорядке, а следуют предписанному им закону. Это позволяет нам находить страны света, определять время, исчислять расстояния в космосе. Нет ничего прекраснее познания законов природы. Каждый из них, даже такой простой, как открытый мною сегодня, вносит новое в картину мира, приближает к его творцам. Перед нами развернут свиток ночи с огненными знаками. Прочтение их сулит понимание нашего и других миров, разбросанных в бесконечном пространстве. Постигая законы геометрии, мы возносимся к звёздам, к их тайнам.
Радуйся, Пифагор!
«Ты предсказал мне большие перемены. И как всегда, не ошибся. Вскоре после моего возвращения в Херсонес пожаловал посол царя царей и сообщил, что мне подарен город Теос. Представь себе моё удивление. Незадолго до того Дарий облагодетельствовал Силосонта Самосом. Но он-то ведь подарил персу гиматий. А за что мне такая милость? И откуда вообще Дарий узнал о моём существовании? И почему дарован именно этот, а не какой-либо другой из ионийских городов? Посоветовавшись с дядей, я принял дар. И вот теперь у меня дворец, свита, подданные, ждущие моих распоряжений. Не сон ли это? Приезжай ко мне погостить, когда наскучат Афины.
Узнав о моём назначении, вернулись многие изгнанники теосцы, возобновилась торговля. Наша гавань, принимающая до восьмидесяти кораблей, стала тесна. Кстати, известно ли тебе, что Демокед, лечивший Поликрата, — я о нём тебе говорил, — стал приближённым Дария и его любимцем, и возможно, это изменило отношение царя к ионийцам. Рассказывали, что видели в Сузах Эвпалина и что ему царь поручил что-то строить. Не Эвпалин ли рассказал Дарию обо мне?
Да, у меня родился сын. Жаль, что моему отцу не пришлось стать дедом. Имя же его живёт. Если тебе нетрудно, узнай, возвратился ли из Фессалии Анакреонт. Сообщи ему о моих новостях. Мне кажется, они его могут обрадовать».
Пифагор отложил письмо и призадумался: «Не сон ли это? Конечно, Дарий узнал о Метеохе от Эвпалина. Но не будь Метеох сыном правителя Херсонеса Фракийского, чуду бы не произойти. Внимание царя приковано к проливам. Кто следующий? Скифы или эллины?»
Исчезновение
Афиняне, успевшие за несколько месяцев привыкнуть к неизменности, с какой в одно и то же время босоногий мудрец проходил по агоре, ни к чему не прицениваясь, а вечером возвращался через неё, сразу же заметили его исчезновение. И поскольку о самосце рассказывали всяческие чудеса, вспомнили басни и о других то исчезавших, то появлявшихся чудотворцах. Ведь и критянин Эпименид, сумевший много лет назад очистить Афины от Килоновой скверны, как-то раз заснул в пещере, а затем, пробудившись, вернулся к себе домой и застал там всё изменившимся до неузнаваемости и лишь после встречи с постаревшим младшим братом понял, что проспал пятьдесят семь лет. Также и во фракийском племени крестонеев появился какой-то маг, который постоянно исчезает. Досужие языки подтвердили, что видели прилетавшего на золотой стреле за Пифагором не то гиперборея, не то скифа Абариса, добавляя, что у самого Пифагора было золотое бедро, порой просвечивающее через хитон.
А между тем первый в мире корабль науки уходил в неведомое плавание. Он нёсся мимо скалистого берега Аттики от одного мыса к другому, не теряя из виду земли. Словно бы совершая пляску в волнах, острова, как танцовщицы, разворачивали свои берега, напоминавшие то изгиб бёдер, то загорелую обнажённую грудь. Обращённые к востоку пёстроколонные храмы сверкали капителями, напоминающими диадемы. Радуясь свежему ветру, гребцы налегали на вёсла, состязаясь между собою в силе и ловкости.
Самосцы подняли крик:
— Жмите же! Жмите! Давайте покинем эти воды! Скорее в Новую Элладу, где начнётся иная жизнь!
Пифагор стоял на носу. Волосы его разметались. Устремлённый вперёд взор горел священным блеском.
Часть V ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Войны колесница катилась ни валко ни шатко.
Дорога под нею была безупречно пряма.
Неволю почуяв, куда ты несёшься, лошадка?
Тебе ведь, дикарка, как нам, не уйти от ярма.
Бескрайняя даль размывалась в вечернем тумане,
И стебли роптали, подобные тысячам струн,
И степь отзывалась на звук этот гулом и ржаньем —
Свободные кони сбивались в могучий табун.
Обет молчания
Во дворе перед длинным деревянным строением с плоской черепичной кровлей в то утро толпилось десятка два юношей в льняных хитонах одного цвета и одинакового покроя. Среди них метался воин в короткой дорожной хламиде с копьём в правой руке и узелком в левой. Он поворачивал красное потное лицо то к одному, то к другому. Но юнцы при его приближении пугливо отворачивались или недоумённо пожимали плечами.
— Что же вы молчите, болваны! — возмущался пришелец. — Я ищу брата. Его зовут Тиларом. Разумеете?
Вдруг распахнулась дверь, выбросив юнца лет девятнадцати, одетого как все во дворе.
И вот они в объятиях друг друга.
— Вот ты где! — возликовал воин. — Писал, что храм Муз в Кротоне, а от него целых сорок стадиев. Хорошо хоть, добрые люди нашлись и на дорогу вывели. А эти, — он неодобрительно повернул голову, — вздумали надо мною потешаться. Ну выкладывай, как кормят, чему учат, когда домой вернёшься.
Тилар отвёл взгляд. Лицо его сделалось серьёзным.
— Ты что? — воскликнул воин. — Не хочешь со мной знаться? Может, потому что и хлеб, и вино добываю вот этим?!
Он угрожающе потряс копьём.
Тилар наклонил голову.
— Или среди молчунов говорить разучился?
Тилар приложил палец к губам.
Воин хлопнул себя по лбу.
— О! — клянусь паликами! — тебе отрезали язык!
Тилар яростно открыл рот и высунул язык, словно на приёме у медика, до предела. Язык был широкий и красный.
— Да и ты издеваешься надо мной! Я проделал такую дорогу по самой жаре. Может, видишь меня в последний раз — ведь я отправляюсь не в ближний край. Отец, уходя в море, уговорил посетить тебя. Вот от него гостинец, дурень, чтобы дома не забывал.
Воин протянул узелок. Юноша его подхватил и, ощупав, заулыбался. Потом, мотнув головою и, видимо, приняв какое-то решение, показал глазами в направлении видневшегося за белой каменной стеною округлого лесистого холма.
Прошло ещё немного времени, и братья, выбежав за ворота, уже топтали пожелтевшую траву. Младший обошёл возвышенность, заглянул за каждое дерево и под каждый куст и лишь тогда, подойдя к брату, произнёс шёпотом:
— Слушай меня, Адраний, и постарайся понять. Я дал обет молчания.
Лицо воина вытянулось, глаза округлились.
— Да ты что?! Ума лишился?!
— Не перебивай. В тот день там, где ты меня отыскал, нас было трое — я, метапонтец Гиппас и кротонец Килон. Первым вызвали Гиппаса, и пока с ним шла беседа, мы с Килоном поговорили о том о сём. Узнав, что я сикел и сын кормчего, он ко мне отнёсся свысока и начал трещать о своём богатом родителе, которому ничего не стоило купить с десяток таких школ. Гиппас так и не появился, а Килона вызвали. Ждать мне пришлось недолго. Килон вышел растерянный, если не напуганный. «Не взяли, — промямлил он, разводя короткими ручками. — Не подошёл». Меня это удивило. «Если отказали сыну такого богача, — подумал я, — на что же мне надеяться?»
— Да, — вставил Адраний. — От корабельного весла кроме мозолей ничего не наживёшь.
Оглянувшись, Тилар продолжил:
— И вот меня позвали. На глиняных ногах я вступил в храм Муз и устроился на скамье против двери, ведущей в библиотеку. Вскоре оттуда вышел человек лет пятидесяти. Белое одеяние, высокий лоб, пронизывающий взгляд.
— Неужто Пифагор? — спросил Адраний.
— Да. Сам. Потом от Гиппаса, которого приняли, я узнал, что ему завязывали глаза, и он отвечал Пифагору, его не видя. Мне же было оказано доверие.
— Вот ещё что придумали... В жмурки играть! — проворчал Адраний раздражённо.
Тилар словно не слышал брата.
— Он внимательно оглядел меня, оценивая, на что я способен. Подойдя ближе, приподнял прядь моих волос, свесившихся на лоб, ощупал его холодными и сухими пальцами. И только после этого он назвал меня по имени.
«Радуйся, Тилар, мой проводник, — проговорил он. — Ты принадлежишь к народу, не уступающему в древности эллинам, но ещё не давшему ни одного учёного. Среди сикелов ты будешь первым пифагорейцем. Ты усвоишь законы чисел и научишься вычислять движения светил. Ты осознаешь глубину пропасти, отделяющей знание от невежества, постигнешь превратность представлений смертных о себе, о мире и о богах. Но прежде чем я провозглашу тебя математиком, ты пройдёшь через длительное молчание». Я удивился. «Сейчас я тебе объясню, — продолжил учитель. — У меня нет ни от кого тайн. Но сама природа — это тайна, для проникновения в которую требуются необычайные и, как мне давно уже стало ясно, совместные усилия. Путь к знанию бесконечно долог. Чтобы как-то его сократить, надо высвободить память от всего наносного и внешнего. Тот, кто молчит и слушает, постигает основы мудрости втрое быстрее, чем тот, кто задаёт праздные вопросы и растрачивает ум на пустую болтовню. Через эту добровольную жертву музам проходят все мои ученики. Хочешь ли быть среди них?»
«Да!» — ответил я, не раздумывая.
— Ну и дурень! — буркнул Адраний. — Обречь себя на молчание ради каких-то муз. Тьфу на них! Брось этих мошенников. Давай махнём в Персию. Царь набирает наёмников и расплачивается золотыми монетами с собственным изображением. А сколько мы с тобой повидаем! Не хочешь в Персию — двинем к картхадаштцам. Сильные руки всюду в цене!
— Сильные руки! Но скажи, есть ли человек сильнее Милона?
— Кто же может быть сильнее Милона! — удивился Адраний. — Но почему ты вдруг вспомнил Милона?
— А потому, — торжествующе произнёс Тилар, — что Милон, как и я и все те, кого ты назвал молчунами, — пифагореец!
— Счастливец! Ты видел Милона?! — воскликнул Адраний.
— Как и все ученики Пифагора, — пожал плечами Тилар. — Милон каждый день с бычком на плечах обходит стену с внутренней стороны. Там тропинка протоптана и трава не растёт.
Адраний схватил брата за плечо:
— Идём же! Ты мне покажешь Милона. Хоть бы одним глазком на него посмотреть! Когда ещё в Олимпии я побываю...
— Ни в коем случае! — прошептал Тилар. — Если нас увидят вдвоём, поймут, что нарушен обет. Пифагор определил мне самый короткий срок — всего два года, а один год уже прошёл...
Адраний обиженно поджал губы:
— Я вижу, тебе учение дороже всего.
Тилар обнял брата:
— Вот что, Адраний, приходи будущим летом. Тогда мы сможем встретиться открыто, и я покажу тебе Милона и познакомлю тебя с ним. А теперь иди. Мне пора на занятия. Слышишь колокол? Сегодня у нас, брат, арифметика.
— А что это такое?
— Гармония чисел. Божественное знание природы, открывающее её суть. Мать всех наук, дисциплина ума. Иди, брат... Иди.
Явление
Небольшой конный отряд двигался ущельем. Внизу днём и ночью шумела река, и, когда, устав от дневного перехода, персы валились на землю, в грохоте потока слышались раздражённые голоса дэвов, недругов созидателя мира Ахурамазды. Стреноженные кони фыркали, трясли головами, видимо чуя близость зверей, которыми была полна эта страна, попавшая под власть царя царей Дарайавуша.
Юные воины сразу заснули, но начальник отряда Бубар ни на миг не мог сомкнуть глаз. За несколько месяцев перс обошёл десяток племён, известных как фракийцы. Более, чем горами, реками и непроходимыми чащами, они были разделены наследственной враждой, и только это позволяло навязать им условия мира и размер дани, которую они должны были приносить царю царей.
Но одно племя Бубару не удавалось отыскать. То ли соседи умышленно посылали по неверному пути, то ли крестонеи — так называлось это племя — в силу своей дикости постоянно меняли места обитания. Но и в этом случае должны же были оставаться хоть какие-то следы от шалашей и костров.
Поворочавшись на жёсткой земле, старый воин прошептал: «Я всё равно найду вас, неуловимые» — и захрапел.
Пробудившись на заре, Бубар пошарил возле себя и не нащупал шлема. Разбудив воинов, он приказал им построиться. Сразу же послышались крики о пропаже копья, лука, поножей.
— Кто-то хочет нас испугать, — сказал Бубар. — Значит, мы у цели. По коням!
К концу того же дня персы набрели на тропу, ведущую от реки в гору, и увидели с перевала шатры из звериных шкур, окружавшие священный холм с прямоугольником совета старейшин.
События разворачивались по опробованному плану. Воины занимали места, удобные для нападения на деревню. На переговоры выходили старейшины, и им через толмача предлагалось в знак покорности передать землю и воду.
На этот раз сразу же после обращения Бубара к старейшинам из-за скалы, расположенной неподалёку от места переговоров, показался муж в белом одеянии. На голове его что-то блестело, и Бубар узнал свой шлем. Приблизившись настолько, что можно было увидеть черты его лица, незнакомец снял шлем и положил его у своих ног.
Бубар занёс руку над воткнутым в землю копьём, но рука его бессильно повисла в воздухе.
— Не торопись, Бубар, — произнёс незнакомец на чистом персидском языке, — ты ведь на чужой земле и должен соблюдать её обычаи. Встань на колени и объясни этим людям, что ни твоему царю, ни тебе не нужна ни их земля, ни их вода.
Неожиданно для самого себя Бубар свалился на колени и что-то невнятно пробормотал.
— А вы, — обратился человек к воинам, — можете идти этой тропой, которая приведёт вас к реке, впадающей в Гебр.
Когда персы выполнили его приказ, юноша приблизился к Бубару и, подняв его пинком ноги, сказал:
— За ними!
Ещё через несколько мгновений он подошёл к старейшинам. Ветерок играл их белыми пушистыми бородами, но глаза были безразличны. «Не узнают!» — подумал Залмоксис и одним рывком обнажил грудь.
Увидев изображение медведя, старейшины закрыли лица руками. Когда же они опомнились, перед ними никого не было. На земле, как единственный свидетель происшедшего, валялся персидский шлем.
Таким было первое явление Залмоксиса своему племени. Старейшины, помнившие мальчика, рассказали соплеменникам о том, как он был найден, продан эллинам и исчез на многие годы, чтобы прийти теперь на помощь своему племени.
Путь Ахурамазды
Дарайавуш опустился на ложе перед Атосой, устроился поудобнее и нетерпеливо щёлкнул пальцами. По этому знаку слуги втащили золотой котёл с водой, поставили рядом с царицей и удалились. Она наклонилась, и в это время внутри котла что-то булькнуло, и брызги попали на белое от притираний старушечье лицо.
Царица вздрогнула.
— Что это такое?
— Рыба, — отозвался Дарайавуш невозмутимо. — Живая рыба.
— Зачем она здесь? Ведь эти твари противны божественному Огню!
— Эта рыба — путешественница. Она здесь, чтобы ты могла убедиться — теперь до яванов рукой подать. Она выловлена всего десять дней назад в водах Милета, которым от моего имени правит Гестиэй. А при твоём отце Кураше и первом супруге Камбизе путь до этого Милета отнимал три месяца. На моей дороге имеются заставы, где можно поменять коней, поэтому милетская рыба ещё бьёт хвостом, так же как пока ещё резвятся заморские и островные яваны, которым придётся плясать на моей сковороде.
— Пусть себе бьёт, — проговорила Атоса равнодушно. — Власти царя царей ни к чему такая спешка. Её украшает блеск Ахурамазды. Её поддерживает страх, заставляющий самые отдалённые народы падать перед владыками на живот и спину и приносить им землю и воду.
— Блеск при твоём отце не проникал далеко за стены дворца, — отозвался Дарайавуш. — Теперь же у меня тысячи золотых вестников, которым открыты ворота и двери в самых отдалённых городах.
Царь запустил руку за пазуху и, вытащив золотую монету, с гордостью протянул её царице.
Атоса брезгливо повертела монету между пальцами и швырнула её на пол.
— При моём отце Кураше золото не разбазаривали по всему свету, а хранили, чтобы награждать достойных, — проворчала она.
— Ахурамазда не только поддерживает старину, но и стремится к новому, — возразил царь. — Ему, правящему миром, угодны мои планы и деяния.
Атоса пожала плечами:
— Откуда тебе это известно?
— Мне был ниспослан сон. Я стоял на царской дороге, и передо мной, ослепляя, катилось множество колесниц с золотыми колёсами без спиц. Когда они вдруг остановились, я рассмотрел на колесе изображение стрелка с натянутым луком. Маги[69], к которым я обратился, истолковали этот сон так: «Отчекань золотые монеты. Пусть твои сокровища не лежат втуне, а катятся по всему созданному Ахурамаздой и подвластному тебе свету». И они уже катятся! Яваны, ослеплённые этими золотыми колёсиками, перебросили через пролив, который они называют морем Геллы, мост. Войско уже стоит у этого моста, ожидая моего прибытия, ибо я решил прославить Ахурамазду, склонив перед ним нечёсаные головы европейских скифов, назло называющих себя сколотами непобедимыми.
— Это достойное тебя деяние, супруг. Наконец-то ты встал на путь Ахурамазды.
В голосе Атосы прозвучало восхищение.
— Победив европейских скифов, — продолжала она, вставая, — ты отомстишь и азиатским, убийцам моего отца, и внушишь ужас всем, кто ещё не признал твоей власти над миром — ведь от отца мне известно, что скифов не покорил ещё никто, а сами они вторгались в Азию и опустошали её двадцать лет.
— Двадцать восемь, — поправил Дарайавуш. — Правда, это было ещё тогда, когда о персах мало кто слышал. Но всё равно, скифы должны ответить за разрушения, причинённые ими народам, ныне нам подвластным. Они должны принести мне землю и воду.
— Это будет справедливо, — проговорила Атоса. — Пусть тебя хранит Ахурамазда.
Едва царь удалился, как Атоса подобрала брошенную монету и молитвенно прижала её к губам.
Гиппас
Была ночь, и в лунном свете улица раздвинулась, а дома словно приподнялись. Но всё же это была Энна, и пустота не пугала Тилара. Сердце радостно колотилось. Вот за этим домом проулок, ведущий к калитке сада. Тилар нащупал щеколду, но стена отцовского дома, пялившаяся белыми ставнями, длилась и длилась. Наконец она оборвалась колоннадой. «Откуда тут храм? — удивился Тилар. — Сейчас я его обойду». Но к портику примыкала высокая глухая стена. Тилар заметался. Энна словно играла с ним в прятки. «Шалишь!» — закричал он... и проснулся.
Конечно, это был сон. На дощатом полу от окна к двери тянулась лунная дорожка. Раздавалось громкое сопение, но соседняя кровать была пуста. Гиппас сидел у его ног, почему-то одетый, и быстро шевелил пальцами, показывая, что надо выйти. За год дружеского общения они выработали свой условный язык и ни разу не нарушили обета молчания.
Тилар приложил ладонь к щеке, показывая, что хочет спать. Гиппас нервно повторил свою просьбу.
И вот они у стены перед воротами.
— Послушай, Тилар, — заговорил Гиппас торопливо. — Нас обманули. Нам заткнули рты, будто бы для укрепления памяти. Но у этого мудреца тайная цель. Он хочет превратить нас в образованных рабов, в безгласные орудия своей безумной фантазии. Он набирает учеников из разных племён и городов, чтобы с их помощью установить в эллинских полисах тиранию. Не скрывая этого, он называет её тиранией разума. Его система — настоящая сеть. Я решил вырваться из неё, пока не поздно. Голос как-то назвал нам имя Ксенофана Элейского. У мудрости ведь не один источник. Пойдёшь ли со мною в Элею, Тилар?
Тилар отрицательно покачал головой.
— Скажи мне, что тебя держит? — не унимался Гиппас. — Нас лишили всех радостей жизни. Оторвали от близких. Мы...
Тилар показал на пальцах, что останется здесь.
— Нет, нет! Ответь же по-человечески. Ведь с братом ты говорил. Не знаю о чём, но твои губы шевелились — я это видел. Всё равно ты уже нарушил обет. Я дружу с тобой почти год и ни разу не услышал твоего голоса. Сегодня ночью ты метался во сне, как никогда. Я понял, что тебя что-то мучает, и решил разбудить. Пойдём к Ксенофану — с ним, надеюсь, можно спорить. Остаток ночи и ещё три дня мы будем идти и говорить. Как же это прекрасно — раскрыть душу! Давай я сбегаю за твоим гиматием и педилами. А припасы на дорогу у меня уже собраны.
Тилар обнял Гиппаса, и тот ощутил на своих щеках влагу.
— Вот видишь! — проговорил Гиппас.
Тилар внезапно его отпустил и побежал по тропе Милона к общежитию, сверкая голыми пятками.
Гиппас мчался, натыкаясь на кусты и пни, падая и вновь вставая. Жёлтая Селена скрылась за облако, и стало совершенно темно. Неожиданно сзади послышался вой. Оглянувшись, Гиппас увидел рассыпавшихся по склону холма волков. До первого — видимо, вожака стаи — было меньше стадия. Не долго думая, Гиппас забрался на ближайшее дерево и, встав на сук, прижался спиною к коре. Над ним сверкало и переливалось звёздное небо, о котором совсем недавно вещал Голос.
Большеголовые волки, окружив дерево, выли, а человек беспрестанно что-то говорил, и даже если бы звери знали людскую речь, вряд ли бы они могли что-либо понять.
— Что я совершил, и в чём согрешил, и чего не исполнил... Некоторые уверяют, что планеты движутся с равномерной скоростью, с запада на восток, в направлении, противоположном движению прикреплённых к сфере и вращающихся вместе с нею неподвижных звёзд. Я же считаю, что планеты имеют собственное круговое движение вдоль зодиака, и вот эти пять планет, доступные каждому, отрывающему взгляд от земли, — Афродита, Гермес, Арей, Зевс и Кронос. Вечерней же и Утренней звезды, о которой так любят писать поэты, не существует. Эти звезды — вечерний и утренний лик той же Афродиты. Кронос описывает свою орбиту с меньшей скоростью, чем Зевс, а Зевс движется медленнее Гермеса. Гелиос и Селена, по движению которых мы определяем дни и месяцы, самые медленные из семи планет. Движение столь огромных небесных тел производит звук, несопоставимый ни с грохотом падающих гор, ни с рёвом океана. Может быть, это и так. Голос! Но я никогда тебе не поверю, что ты услышал гармонию сфер, если её не в состоянии услышать никто другой. Наверное, ты, учитывая различную скорость движения тел и их расстояние от земли, установил низкие и высокие тона и вычислил эту гармонию. О, как же отвратительно вы воете, звери! Взгляните — уже показался утренний лик Афродиты, и вам пора, поджав хвосты, убираться в свою чащу, а мне спускаться на землю и начинать новую жизнь. Благодарю тебя, Голос, что ты указал мне путь к ней и дал почву для сомнений в твоей непогрешимости.
Прошло немало времени, когда Гиппас, спустившись, увидел амфору, прислонённую к соседней сосне, и над нею глубокий надрез, из которого золотыми каплями стекала смола. «Смолокуры! — обрадовался он. — Я вас разыщу! И мне больше не придётся, подобно первым людям, спасаться от зверей на деревьях».
Перед дорогою
Эвримен, на которого было возложено управление храмом Муз, остановился у домика Пифагора. Кифара, с игры на которой начиналось каждое утро Учителя, молчала. Переступив порог, юноша остановился. Пифагор сидел на ложе в дорожной хламиде. У его босых ног лежала котомка.
Поздоровавшись, Эвримен подумал: «Наверное, в Кротон?»
— Сегодня я поднялся раньше, — проговорил Пифагор. — И вот беседую с ними.
Он пошевелил большими пальцами ног.
— О чём же? — спросил юноша, словно такая беседа не показалась ему чем-то необычным.
— Ты подумал — «в Кротон?». Да разве это дорога для моих ненасытных, жадных к странствиям ног? Вот уже восемь лет, как я их холю, словно бы заразился ленью от сибаритов. Они и загудели, как сдвоенный авлос, напоминая о давних моих посулах.
«О, как бы мне хотелось быть твоим спутником, — подумал Эвримен, — ибо, когда идёшь с тобою, не ощущаешь тяжести и словно бы летишь по воздуху».
— Не преувеличивай, Эвримен, — откликнулся Пифагор, прочитав его мысли. — Усталость — физическое явление. Её не обмануть. Тот, кто пишет, обкатывает свои мысли на папирусе. Мысль незаписываемая не должна ни на что натыкаться. Я выхаживал свои акусмы. Они рождались под завывание ветра пустыни. Выкрикивая их, я выплёвывал вместе со словами песок. Разве бы я мог утверждать, что нет звука без движения, если бы провёл жизнь в неподвижности, размышляя о движении при мягком мерцании светильника? Да нет же! Вся моя жизнь была странствием. Слух мой был открыт звукам, издаваемым не только земными, но и небесными телами. Из горных долин, где, сталкиваясь, гудели ветры, однажды я поднялся к снежному безмолвию и услышал гармонию сфер. Когда светили с неба все пять планет, я понял смысл пентады. Сферичность Земли я познал своими боками.
— Но... — проговорил Эвримен.
— Да, ты прав, — продолжил Пифагор, вновь прочитав его мысли. — Да, тогда я был моложе, но я не мог покинуть учеников ни на один день. Всё лежало на мне одном. Теперь же занятия с акусматиками можете вести ты, Филарх и Хирам. Я уверен, что вы продолжите исследования. Мне же надо не только обойти этот полуостров, но и отойти от дел, в одиночестве собраться с мыслями и обдумать всё, что нам предстоит сделать... К тому же об этом населённом многими народами полуострове я знаю меньше, чем об Индии.
Повернув голову к подоконнику с горшками цветов, Пифагор вспомнил:
— Не забудь о дорогих мне растениях. Они, как сибариты, любят тёплую воду. Да! Ещё напиши в Кархедон Ганнону, поблагодари его от моего имени за присланные дары и за приглашение посетить основанные им за Столпами Мелькарта поселения. Объясни, что я путешествую по Тиррении. Не забудь отправить письмо Анакреонту. Спроси, не надумал ли он побывать у своего друга Симонида в Сиракузах и не намерен ли попутно погостить у меня.
— Хорошо, Учитель. Всё сделаю, — произнёс Эвримен. — А что сказать акусматикам?
— Продолжайте занятия. Разъясни мои изречения. Проведите осенью очередной выпуск акусматиков. И дайте им выговориться. Не следует забывать, что за столько времени они не произнесли ни слова. Перемежайте их занятия трудом. Пусть обрезают ветки деревьев, вскапывают огород, рубят на зиму дрова. Усталость — лучшее средство от Эроса, торжество над которым равносильно победе в состязании. Но если кто, потерпев поражение, вознамерится посетить гетер, не препятствуй. Это лучше, чем портить друг друга. Но женщина да не вступит к нам, как в Олимпию!
— Прослежу, — сказал Эвримен.
— Отмечайте, как обычно, день ойкиста[70]. Пусть в этот день будут отомкнуты ворота нашего храма Муз. Но проследи, чтобы дальше ограды стадиона никто не заходил. Членов Совета пятисот можешь провести по библиотеке.
— А как праздновать?
— Как всегда, атлетический агон, а вопросы должны касаться богов и героев, особенно почитаемых эллинами, а также основателей Кротона и олимпиоников, и, конечно, Демокеда. Называя имена победителей, не указывай их родины. Отечество у всех одно — философия.
— Кстати, — вставил Эвримен, — Каллифонт получил послание Демокеда: оказывается, царь царей отправился в поход на скифов, а его оставил в Сузах.
— Каллифонта навести, — продолжал Пифагор после паузы. — Пусть напишет Демокеду, что полученные от него вавилонские таблички о чётных и нечётных числах мы используем в занятиях. И пусть спросит, нельзя ли отыскать в Сузах записей откровений Зороастра Спитамида, чтущего число семь.
— Хорошо. Сделаю.
«Зимой в созвездии Льва появится хвостатая звезда. Весна будет неровная, с частыми заморозками», — подумал Пифагор, устремив на юношу взгляд.
Эвримен сжал ладони и медленно поднёс их к груди.
— О боги! — горячо воскликнул он. — Впервые тебе удалось передать мне свою мысль! Я увидел лежащих на траве зябнувших птенцов и явственно услышал произнесённые тобою слова: «Подбери и выпусти в наш цветник!»
— Да. Именно это я хотел тебе сказать. Во время заморозков надо спасать птиц.
Пифагор задумался.
— Да, вот ещё. Я буду давать о себе знать. И не только видениями. Записывайте свои сны, если они того заслуживают. Если задержусь, распространите слух, будто меня видели одновременно в двух городах — допустим, в Таранте и Регии, — а Филарх пусть проведёт несколько занятий моим голосом. Это он умеет. И ещё. Всё, что касается отчислений акусматиков, решайте на совете семи. В любом случае возвращайте уходящим их взносы, благодарите за время общения от моего имени, ибо недоброжелателей у нас предостаточно.
Что есть Пифагор?
Филарх вбежал в лесху и остановился в нескольких шагах от Эвримена.
— Что случилось? Почему закрыт подземный ход?
— Он не понадобится. Пифагор ушёл.
— Ушёл?.. Куда?
Эвримен пожал плечами:
— Разве об этом спросишь? Просто ушёл, как уходил в юности. Помнишь рассказ Никомаха о его встрече с Мнесархом? Даже отцу он ничего не объяснил и, исчезнув на двадцать лет, ни разу не давал о себе вестей.
— А не огорчило ли его бегство Гиппаса?
— Не знаю. Но мне кажется, надо по очереди охранять ворота.
— А как быть с занятиями?
— Он оставил распоряжения. Вспоминал и о твоём умении говорить его голосом. О том, что Сам удалился, акусматики не должны догадываться.
— Понимаю. О чём же ещё он распорядился?
— Расскажу вечером. Пора звонить в колокол. Сегодня и до конца декады занятия буду вести я.
Через несколько мгновений Эвримен уже был в аудитории. При его появлении слушатели встали и опустились на свои места.
— Существует множество определений, что есть Пифагор, — начал Эвримен. — Вам уже известно геометрическое: Пифагор — не плоскость, а пирамида, складывающаяся из прошлых существований, как из сходящихся вверху треугольников. Ныне он их вершина. Сегодня мы разберём мифологическое определение: Пифагор есть Аполлон Гиперборейский. Нетрудно понять, что смертному, носящему имя Пифагор, ближе всех других богов Аполлон. Но подумайте, почему именно Гиперборейский? Гипербореи самый счастливый народ на земле, и не только потому, что они ближе всех к полюсу. Счастье их в том, что среди них пребывает Аполлон, любуясь чистотой их снегов и скачками белых оленей. Только в стране гипербореев Аполлон оставляет следы на снегу, и они, привязав к сандалиям доски, скользят вдоль них до места, где следы обрываются. Так же и мы счастливы тем, что среди нас находится Пифагор, и, слыша его голос, ощущаем себя гипербореями. Белы наши одежды и чисты наши обращённые к знаниям помыслы. Что касается самого имени Пифагор, то оно было дано ему пифией ещё до рождения. Когда его родители прибыли в Дельфы, чтобы вопросить оракул, пифия Фемистоклея сказала, что у них родится сын в облике Аполлона и его надо назвать Пифагором. И когда Пифагор родился в Сидоне, там видели лебедей, которых послал его приветствовать Аполлон. Иногда Аполлон посылает к нему из страны гипербореев вестников. Одного из них зовут Залмоксисом, и он почитается гетами как бог, другого — Абарисом, на данной ему Аполлоном золотой стреле он облетает мир.
Оглядев слушателей, Эвримен продолжил вполголоса:
— Слова «Что есть Пифагор?» служат знаком, отличающим нас от непосвящённых. С него мы начнём рассмотрение учения о проходимом душами круге судьбы. Отделяясь от тела, душа не уходит в Аид, а вселяется в другое тело. Как вам известно, душа Эвфорба, покинув сражённое Менелаем тело, через двести шестнадцать лет вошла в гетеру, ещё через какое-то время — в рыбака Пирра, а затем в Пифагора. Подобный путь проходит любая душа, но лишь немногие помнят о своих превращениях. Души способны вселяться в растения или насекомых, поэтому придерживающиеся этого умения индийцы ходят без обуви, чтобы ненароком не причинить вреда какой-либо душе. Именно поэтому мы с вами не употребляем в пищу мясо живых существ. Этим мы обеспечиваем себе и окружающим нас душам прохождение всего круга судеб и блаженное существование. Поэты рассказывают об Островах Блаженных за Столпами Геракла. Будучи в Кархедоне, Сам расспросил об этих островах и узнал, что из-за них соперничают кархедоняне и тиррены. Элизий находится не на земле, а где-то в небесных сферах. Там рождается гармония, постижению которой нас учит Пифагор.
Эвримен неожиданно остановился и, словно случайно припомнив, произнёс:
— Теперь вот ещё что. Несколько дней назад от нас самовольно ушёл Гиппас. Мы об этом сожалеем. Сам сказал, что каждый из вас волен покинуть школу и что он не питает к ушедшим неприязни и благодарит их за то, что они были его акусматиками. Каждый, желающий покинуть школу, может получить внесённые деньги. Сам надеется, что не выдержавшие обета молчания ни в коем случае не станут разглашать непосвящённым того, чему они научились здесь.
Силла
Берёзовый лесок со множеством пустивших свежие побеги пней остался позади. Сменившая его сразу за Тёплыми Водами Силла навеяла мысли о мифических временах, когда ни здесь, ни в других местах не было ни железного топора, ни эллинских городов, когда одетые в звериные шкуры люди не рубили деревьев и жили ещё в ладу с нимфами и дриадами.
Поднимаясь по склону холма, Пифагор остановился под сосной с коралловой в солнечном свете корой. Изогнутые ветви указывали путь к громоздившемуся впереди хребту. В его разрыве, заросшем более тёмным лесом, угадывался перевал.
Последний раз Пифагор бродил по лесу на Кипре. Но там хвоя была голубой, а сосны дружески чередовались с кедрами. Здесь же, в Силле, с соснами и их сёстрами пихтами братался красавец можжевельник. Пифагор сорвал веточку и вдохнул всей грудью острый и сильный аромат. «Почему это дерево вечнозелёное, — подумал он, — а многие другие замерзают и теряют листья? Наверное, этому можно отыскать объяснение? Не родились ли пихта и её сёстры теплокровными, подобно людям и другим животным? Или, может быть, в их корнях и стволе избыток влаги?»
Пифагор никогда всерьёз не занимался жизнью растений, хотя всегда к ним тянулся. В Вавилонии, где прошли годы учения, не было лесов, а для его выросших в низинах учителей, жрецов храма Бела, лес был грозной стихией, населённой чудовищами, местом, где сын бога или богини мог в схватке с ними показать удаль. Он вспомнил завораживающую поэму о Гильгамеше, которую сразу оценил как высшее из проявлений человеческого духа. Строки не приходили на память, язык забывался, но оставалось ощущение чуда. «Победа Гильгамеша над владыкой кедрового леса обернулась для него гибелью. Геракл чем-то похож на Гильгамеша, ибо он тоже борец с враждебной природой, но рядом с ним не было дикаря Энкиду, этого человека природы. Он один — так же как я. Моим Энкиду мог бы стать Залмоксис, молодой вождь. Но между нами леса — и эта Силла, пронизанная солнечным светом, и ждущий меня впереди страшный лес тирренских Апеннин, который именуют Циминским, и чащи в безвестных далях за Альпами, названия которых не ведает ни один из эллинов. К Залмоксису, в страну гипербореев, где хлопьями падает снег и весною пляшут олени, стремится моя мысль. Почему ты не даёшь о себе знать, мой мальчик? Ведь ты слышал меня, когда я плыл на корабле! Восприми же мой голос и теперь, когда к нему не примешивается ни один посторонний звук! Я в лесу близ Кротона. Я на время оставил школу, которую там создал, и свободен от дел. И мысленно я с тобой».
Переселение
В это лето послы царя царей Дарайавуша двигались по Фракии от племени к племени, призывая посылать молодых воинов в персидское войско и угрожая разорением тем, кто этого не сделает. В страхе перед персами, скорыми на расправу, свои отряды к назначенному месту сбора послали даже могущественные пеоны. Только крестонеи осмелились не выполнить приказа чужеземцев. На собрании старейшин слепой певец, перебирая струны кифары, пропел о Залмоксисе, крестонее, взятом в плен эллинами и овладевшем их знаниями, о знаке медведя на его груди, о глазах, сверкающих, как звезды, о том, как Залмоксис уже однажды спас свой народ от беды, спасёт его и сейчас, если призвать его всем народом.
И были принесены кровавые жертвы. На копья подняты трое юношей. И Залмоксис вновь явился к своему племени. На его груди ярился медведь с зияющей пастью. И, видя дальше не только людей, но и орлов, он приказал мужам вместе с жёнами и детьми сняться с места, чтобы поселиться там, где не будут угрожать ни эллины, ни персы. И не было в племени ни одного, кто усомнился бы в правильности такого решения.
Переправившись через Данастрий, крестонеи выпрягли коней и стали лагерем. Приказав поставить охрану, Залмоксис уединился в крытой повозке и прилёг. От многих суток непрерывного движения голова гудела как котёл, и он сразу погрузился в сон.
Пробудившись среди ночи, Залмоксис откинул полог. Луна гляделась в реку, и её отражение дробилось в ряби волн, обтекающих вбитые в дно сваи. Это было всё, что осталось от разрушенного моста.
Внезапно Залмоксис вспомнил стишок Пифагора:
Не допускай ленивого сна на взор утомлённый, Доколе не дашь ты ответа на три вопроса — Сделал я что, чего не свершил и что остаётся, —и задумался: «Этот день стал для меня и моего народа переломным. Там, за мостом, осталась земля, столетия возделывавшаяся крестонеями, могилы отцов и дедов, а здесь заселённая кочевниками, не знающая плуга степь, но ведь иного выхода не было. А как примут нас эти кочевники, не раз вторгавшиеся через Данувий и опустошавшие наши поля? Конечно, сейчас им не до нас. Огромное персидское войско уже, должно быть, перешло Данастрий и находится где-то близ Ольвии. А что, если нам двинуться к порогам Данаприя, где скифы хоронят своих царей, и предложить им помощь в войне с Дарайавушем? Выше порогов обитают данники скифов, чуждые им по языку и обычаям племена. Неужели среди их лесов не отыщется места для наших женщин, детей и стариков? А мы, воины, оплатим эту землю своею кровью, а если понадобится — и жизнью».
И вновь память возвратила пещеру на Самосе, и Залмоксис явственно услышал голос Пифагора и его рассказ о гиперборейской белизне. «Мог ли я думать, что судьба забросит меня в места, где никто не слышал даже звука эллинской речи, куда откровения эллинских софосов смогут дойти, как эхо, через сотни, если не через тысячи лет...»
Монолог
— Меня зовут... — начал Гиппас. — Нет, Ксенофан, я не раскрою своего имени. Ещё недавно я был рабом Пифагора. Однажды его голос рассказал о встрече с тобою в Регии и завязавшемся тогда споре. Воспроизведя его в нашем присутствии, он рассчитывал на одобрение. Но я принял твою сторону, конечно, отведя взгляд, ибо знал, что Пифагор читает мысли. Наедине с собой я находил всё новые и новые доводы в твою пользу. И вот я пришёл к единственному софосу, которого знаю по описанию. Ты и впрямь оказался таким, каким тебя представил Голос. А что стоит за Голосом, мне неведомо — ведь перед испытанием нам завязали глаза, да и потом, ведя занятия, он не открывал лица. Может быть, там, в небесных сферах, звучит голос бога, но на земле гармония не может быть безликой. Прости меня за сбивчивую речь. Однажды мне показалось, что голосом Пифагора вещает какое-то чудовище, вознамерившееся подчинить нас себе. Я потерял сон. И вот, когда к моему другу прибыл его брат, я вспомнил, что есть иная жизнь, и мне стало ясно, что нужно уйти. Нет, я не предатель. Я буду всю жизнь благодарить Учителя за то, что мне было дано проникнуть в тайны природы и сознания. Но я должен видеть лицо говорящего, обмениваться с ним взглядом, призраку я не могу доверять. И если кто-то видит меня, даже если он не уступает разумом богу, я должен видеть его. Я читаю в твоих глазах осуждение: «Нельзя менять учителей!» Но я ничего не прошу. Мне хочется, чтобы ты только выслушал меня.
Ксенофан втянул ноздрями воздух.
— Я жил со смолокурами, — продолжил юноша. — Силла возвысила меня в моих мнениях, укрепила в решении объединить тех, кто хочет быть философами, а не безгласными рабами Пифагора. Ты ещё услышишь о нас, Ксенофан!
Другим голосом
— Из прошлого моего объяснения, — послышалось из-за занавеса, — вы узнали о форме и свойствах тетрактиды, протяжённой в трёх измерениях, и о её принадлежности Гермесу. Сегодня мы обратимся к пентаде и к её удвоению — декаде. Отложите в сторону счётные палочки — они вам не понадобятся. Пентада перед вами, в пальцах правой и левой руки во всей наглядности геометрического построения. Сжав пальцы одной из рук, вы создаёте единство — кулак. Разжав, ощущаете подвижность каждого из пальцев. Этого нет ни у одного из животных, кроме наиболее близкой к человеку обезьяны. Пеласги, исчезнувшие как отдельный народ, понимая близость человека и обезьяны, называли их одним и тем же словом.
Тетрактида — соединение двух родственных чётных чисел — доад. Пентада — чётного и нечётного, доады и триады. Она — сложное число, содружество чета и нечета, а также их свойств. Именно поэтому божество, создавая высших животных, дало им пять когтей и пять пальцев. Они и сила, и счёт.
Всё больше входя в образ Учителя, Филарх почти ощутил себя им. Страх, охвативший его вначале, полностью исчез.
— Гармонически сопряжённая и бесконечно расширяющаяся вселенная, — продолжил он, — которую я называю космосом, состоит из пяти первоэлементов: земли, огня, воздуха, воды и небесного эфира, которым соответствуют пять многогранников — куб, пирамида, октоэдр, икосаэдр, додекаэдр — и пять планет, описывающих наклонные орбиты над неподвижным, расположенным в центре очагом, заложенным в основании вселенной, как киль при сооружении корабля.
«Учителю понравилось бы такое сравнение!» — с радостью подумал Филарх, заглядывая в щель занавеса. Обращённые в его сторону лица были внимательны и сосредоточенны.
— Вы уже знаете, что две пентады образуют декаду, два нечётных — чётное. И мы, эллины, как некоторые другие народы, отнюдь не случайно обращаемся при любом исчислении к декаде. Декада обладает многими свойствами, которых нет у других чисел, и именно поэтому она — совершенное число. Прежде всего заметим, что декада — чётное число, и что чётных и нечётных в нём поровну, без перевеса в ту или другую сторону. Декада — это совершеннейший образец, содержащий все мыслимые пропорции чисел. Она — восприемница бесконечного.
Декадами считают народы Европы, а из народов Азии — индийцы. Большинство народов Азии считают дюжинами. Счёт декадами индийцев, в землях которых я побывал, — свидетельство того, что их предки были переселенцами из тех мест, которые ныне заселяют скифы, воюющие с царём царей Дарием.
Таковы числа, являющиеся сущностью и выражением вещей, обладающих пределом. Всё познаваемое передаётся числом. Занимаясь арифметикой, мы познаем мир. Она отвращает умеющих считать от неправды. Этого на сегодня достаточно. Постарайтесь запомнить сказанное, ибо иначе вам не разобраться ни в геометрии, ни в астрономии.
У подземного хода Филарха ожидал Эвримен.
— Удивительно! — воскликнул он. — Словно бы я слышал Самого. Но я бы добавил его изречение: «Что есть справедливость? Четвёрка, ибо она воздаёт равным за равное».
— Зачем я буду отнимать хлеб у тех, кто говорит только своим голосом, и к тому же пойми моё волнение — голос мог сорваться.
Эвримен обнял друга.
Посидония
Остались позади сосны и пихты Силлы. Отступили каменные осыпи лежащих за нею гор, и взору Пифагора открылась плоская, как ладонь, равнина, напоминавшая ему месопотамскую степь перед Вавилоном. Хлеб был уже скошен и сжат. Обнажённый пахарь вёл борозду, обходя скирды соломы. На иссиня-чёрных отвалах земли копошились тучи птиц.
Оживив в памяти рассказ Ксенофана, Пифагор мысленно воспроизвёл треугольник, образованный местом, где он стоял, и двумя точками Тирренского побережья — Элеей и Посидонией.
«Ксенофана навещу на обратном пути, — решил Пифагор. — Надо начать с горестного».
Стражи городских ворот, бросая на каменный порог игральные кости, не обратили на пришельца внимания. Дорога с глубоко врезанными колеями вывела Пифагора к квадрату агоры. Массивная колоннада из жёлтого камня словно бы вырастала из земли. «Святилища Геры и Посейдона», — подумал Пифагор, вспомнив рассказ Никомаха. В полустадии от храмов на пустыре, заставленном отёсанными глыбами и брёвнами, сновали люди. Видимо, там сооружали ещё один храм. Ему сразу указали дом, выделявшийся среди соседних приземистых строений не только высотой, но и голубоватым цветом стен. Раб проводил Пифагора до массивной двери, отделанной медью.
— Хозяин внутри, — сказал раб.
Никомах сильно постарел. Глубокая морщина прорезала его лоб, побелели густые брови. Но говорок и быстрота движений — прежние.
— Я вижу, торговля лесом приносит доход, — проговорил Пифагор, оглядывая лесху, не уступающую размерами той, в которой принимал гостей Поликрат.
— Лесом уже не занимаюсь, — отозвался Никомах. — Вот уже год, как я компаньон эгинца Сострата.
— Эгинца? — удивился Пифагор.
— Ну да. Это очень богатый судовладелец. Он ведёт торговлю с Иберией. Вот, взгляни!
Никомах снял со стены украшавший её лекиф и повернул донышком к Пифагору.
Пифагор прочитал вдавленные в глину три буквы: «СОС»
— Это наша торговая марка, — с гордостью произнёс Никомах. — Её знают повсюду. Мастерские же у нас в Пиргах и Грависках.
— Но ведь это тирренские города! — заметил Пифагор.
— Тирренские. Тиррены у нас в доле. В Пиргах и Грависках живёт много эллинов и кархедонцев. И никто на тирренов не в обиде.
Никомах повесил лекиф на место.
— Я получил твоё послание, — продолжил Пифагор. — Слишком краткое. Я хочу всё знать. Ты ведь в Тиррении, кажется, единственный очевидец...
— Я старался избегать подробностей. Они печальны.
— Всё равно от них никуда не деться, — вздохнул Пифагор.
Покачав головой, Никомах начал:
— Ты уже знаешь, что Дарий не торопился выполнить своё обещание о передаче в управление Силосонту Самоса. Когда же ему был сообщён день его торжества, он направился на Крит, чтобы перевезти тех, кто решил вернуться на родину. Их оказалось немного, но всё же керкур, на котором приплыл Силосонт, был для них мал. И я, конечно, согласился предоставить для этого один из моих кораблей, только что освободившийся от груза, и сам поплыл на нём вместе с Эвномом. Отца же он решил пока оставить в Кидонии. Керкур нас обогнал, но мы на своём корабле всё же поспели к началу церемонии. Для прибывших вместе с Отаной знатных персов под Астипалеей были поставлены высокие сиденья, и они на них расположились. Заняли свои места и нанятые Силосонтом флейтисты, которым было поручено услаждать слух знатных гостей. И вдруг переполох. На них неожиданно обрушился вырвавшийся из Горгиры полоумный брат Меандрия с дюжиной наёмников и перебил ничего не подозревавших персов. Отана, в ярости презрев распоряжение Дария отдать остров Силосонту неразорённым, тотчас же приказал закалывать всех, кто попадётся, — и взрослых, и детей. Заметив опасность, мы поспешили в гавань к моему кораблю. Персидские воины бросились в погоню. Вот тогда и был ранен копьём в спину Эвном. Нам удалось перенести его на корабль и отплыть. Тогда же к нам присоединился и Меандрий, воспользовавшись неизвестным персам подземным ходом. Твой брат умер на моих руках. Через несколько дней после этого, не пережив утраты, скончался твой отец.
Вспомнив что-то, Никомах удалился и, вернувшись, молча протянул Пифагору перстень с камнем из смарагда. Всю его поверхность занимала пентаграмма с отходящими в сторону концами, наподобие морского животного, доставаемого со дна ловцами губок. Пифагор молча надел перстень на палец и сжал ладонь в кулак.
— Уже после того, как я отправил тебе письмо, — продолжил Никомах, — мне стало известно, что Силосонт процарствовал на Самосе всего три месяца и после его кончины власть перешла к его сыну Эаку. Отане, чтобы Эаку было над кем властвовать, пришлось переселить на Самос тысяч пять милетян. Меандрий же был принят спартанцами и до сих пор надеется, что они помогут ему вернуться на остров.
Пифагор, напряжённо внимавший Никомаху, поднял голову.
— Так оборвалась история Самоса. И всего через два года после гибели того, кто считал себя вторым Миносом.
— Я бы не стал его так называть! — горячо возразил Никомах. — Ведь Поликрат был не просто владыкой морей, но и создателем великой торговой державы. Он захватил острова Эгеиды не для того, чтобы обложить их данью, подобно Миносу. Плывёшь с лесом с Понта или из Италии на Самос — есть место бурю переждать и пополнить запас воды. Самосская керамика. Самосские ткани. Самосские тёсаные камни. Всё это дало Поликрату такую власть, какой не обладал до него ни один из владык. А Герайон? Ведь это не просто самый большой и красивый храм эллинской ойкумены, но и центр деловой жизни. Многие торговцы, и не только самосские, пользовались его займами, и долю от процентов получала не одна богиня, а весь остров. К тому же это было самое надёжное место, где хранили вклады эллины из многих городов.
— Да! Да! — подхватил Пифагор. — В своё время я встречал на Священной дороге афинянина Клисфена...
— Афинянина! — возмутился Никомах. — Слышать о них не хочу! Это они, воспользовавшись гибелью нашего Поликрата, прибрали к своим рукам все острова. Они захватили несколько моих судов с лесом. Вот кто главные недруги Самоса.
Пифагор нагнулся к котомке, поднял ношу на плечо.
— Да куда же ты?.. — растерянно проговорил Никомах. — А как же обед? Хоть кикеона выпей.
— Мой обед сегодня — беда, — проговорил Пифагор. — Дай мне выходить её одному. Тебя же попрошу сообщить в Кротон, что я возвращусь весной.
Видение, предчувствие которого заставило Пифагора так неожиданно расстаться с Никомахом, было словно продолжением его рассказа.
Корабль нёсся к плоскому берегу, и Пифагор силился размотать канат. Он скользил между ладонями, сдирая кожу, оплетал мачту. Когда же связка кончилась, на конце каната вместо якоря оказалась голова Поликрата с вывернутыми веками и вывалившимся наружу языком.
Очнувшись на мгновение, Пифагор увидел себя на берегу. Пытаясь сбросить с себя охвативший его ужас, он рванулся и ощутил тяжесть, словно бы успел выйти из земли лишь наполовину, а нижняя часть тела была засыпана песком.
Потеряв сознание, он вновь проснулся. Волны набегали на берег, окаймляя его бахромою пены. Вдали показался юноша. Во всей фигуре отражалась переполняющая его радость. Насвистывая, он размахивал котомкой и приплясывал, насколько это позволял ему песок. Когда он приблизился, Пифагор с удивлением узнал Гиппаса. Подумав, что юноша может с ним заговорить, Пифагор подвинул петас на лоб и притворился спящим.
Судя по шороху песка, Гиппас остановился рядом, словно ожидая, не проснётся ли незнакомец. Прошло достаточно времени, и вновь послышались шаги, а затем всё стихло. Пифагор открыл глаза. Берег был пуст. Взгляд его упал на большие пальцы ног с потрескавшейся кожей. «Навёл на вас напраслину, — подумал он. — И вовсе вы не жаждете новых странствий, скорее вспоминаете о женской ласке. Я в своих безумных мечтаниях отверг её для себя и для других. И кто мне дал право распоряжаться судьбами этих юношей, лишать их эроса? Может быть, пора сознаться в своей слабости и распустить их?»
Мост
Мост, причудливо выгнувшись над Геллеспонтом, напоминал спину готовящейся к прыжку пантеры. Он был прекрасен в своей неправдоподобности, лёгкости и красоте. Дарайавуш, впервые его узрев, замер с полуоткрытым ртом. И только через несколько мгновений, опомнившись, он оглянулся и, отыскав в свите милетянина Гестиэя, подозвал его к себе.
— Скажи, — спросил он, — я буду первым, перешедшим из Азии в Европу посуху?
— Первым из царей, — отозвался милетянин, — ибо первыми по этому мосту прошли строители — мегарец Эвпалин и его помощник самосец Мандрокл.
— Пусть они ко мне подойдут! — распорядился Дарайавуш.
Гестиэй почтительно склонил голову:
— Этой чести может удостоиться только Мандрокл. Месяц назад Эвпалин был злодейски убит одним из тех, кто не хотел видеть тебя в Европе.
— Убийцу нашли?
— Нет, он скрылся.
— Тогда передай казначею, чтобы он выдал самосцу Мандроклу столько золота, сколько он сумеет унести.
— Мандрокл просит разрешения заказать картину с изображением твоего перехода по мосту и передать её в храм богине своего острова на всеобщее обозрение.
— Мне это угодно. Пусть закажет лучшему из художников.
С этими словами Дарайавуш дал знак возничему колесницы Ахурамазды. Тот дёрнул вожжи, и восемь белых как молоко нисейских коней двинулись по мосту, высоко поднимая копыта. Затем понесли царский стяг — золотого орла с широко распростёртыми крыльями. Царя перенесли в Европу на золотом троне и поставили таким образом, чтобы его могли видеть проходящие по мосту и сам он мог наблюдать за движением войска.
Первой двинулась царская гвардия бессмертных, цвет армии — ростом как на подбор, с копьями, украшенными золотыми шарами, с луками и колчанами из листового золота. Впереди гвардейцев шёл Мегабаз. Перейдя мост, он остановился рядом с царским троном.
Персов вёл Отана. Они были вооружены большими луками с камышовыми стрелами и защищены плетёными щитами. На правом боку у каждого висел акинак в серебряных ножнах. Мидийцев, имевших то же вооружение, вёл Гаубурава.
За ними шли ассирийцы в панцирных и остроконечных шлемах, сплетённых из полосок меди, — кто с деревянными палицами, снабжёнными железными шишечками, кто со щитами и копьями. У киликийцев были круглые кожаные щиты и короткие кривые сабли. Ликийцы и карийцы помахивали серпами на длинных рукоятках. Белолицых бактрийцев отличали высокие барашковые шапки, украшенные орлиными перьями, и боевые секиры, выступавших за ними саков — островерхие тюрбаны. Каспии были в козлиных шкурах, стройные темнолицые арабы, восседавшие на верблюдах, выделялись длинными белыми бурнусами. Голубоглазые ливийцы были в кожаных одеяниях с короткими дротиками. Чубатые фракийцы, дети лесов, вскидывали щиты, выделанные лисьими шкурами. От поясов свисали лисьи хвосты. Лица и грудь были покрыты устрашающими росписями. Мрачные как ночь эфиопы в барсовых и львиных шкурах несли луки из пальмовых веток, их выставленные вперёд щиты были выделены из шкур носорогов. Индийцы шли в белых одеяниях из хлопка, с луками в руках. Слонов через мост повести не решились.
Далее взгляд царя упал на фалангу ионийских гоплитов, шагавших в затылок друг другу. Копья, древки которых держали задние, поднимаясь над плечами, блестели грозной сталью наконечников.
Дарайавуш взглянул на Гестиэя. Щёки тирана зарделись от гордости.
Последней шла кучка людей в медвежьих шкурах, помахивая длинными, обожжёнными на концах деревянными копьями.
Дарайавуш подозвал Мегабаза.
— А это кто? — спросил он.
— Геты.
Царь удивлённо вскинул брови.
— Я слышал, что геты после индийцев самая многочисленная народность земли.
— Это те, кого удалось задержать. Большую часть народа крестонеев с жёнами и детьми внезапно возвратившийся бог Залмоксис переправил через Истр[71], наверное, сейчас они уже за Данастрием.
Дарайавуш грозно сверкнул глазами:
— Объяви за поимку этого бога награду в сто талантов.
Мегабаз поклонился.
— И ещё. Пусть здесь будут врыты два столба из белого блестящего камня, и пусть на одном ассирийскими, на другом эллинскими письменами будут высечены имена всех народов, которых я повёл против скифов. Укажи численность пеших и конных воинов, а также год, месяц и день, когда я волею Ахурамазды перешёл из Азии в Европу.
Затем, подозвав Гестиэя, царь царей приказал ему плыть с ионийцами по Понту до Истра и, поднявшись на два дня плавания от моря, наводить переправу.
Парфенопа
Без страха плыви
На острые скалы,
На зовы любви.
Я дева морская.
Я в белом дыму,
Я соткана пеной.
Тебя обниму
И вырву из плена.
Три дня и три ночи Пифагор шёл и шёл, внимая шуму волн. Кипящее море, казалось, было выше берега, прямого и низкого. И словно бы какая-то сила удерживала водную массу в огромной наклонной чаше.
Утром четвёртого дня прямизна перешла в огромную дугу, и взгляду открылась зелёная пирамида горы. В изнеможении Пифагор свалился на траву и погрузился в сон.
Послышался хор далёких девичьих голосов. Слова не различались, но Пифагор ощутил, что это мелодия первой его жизни. Впервые он её услышал, подплывая к Кипарисии, к острову Анкея.
Очертания берега напоминали мыс Ампел, место их первой встречи. По за мысом вместо скалистой громады Керкетия виднелась зелень горы. Да и она, любившая всё яркое, была в чём-то пышном и белом. Голос и мелодия были теми же, а слова, которые он уже стал воспринимать, — другими.
Желанный ты мой, Не волн это ропот, Не ветра то вой — Я снова с тобой, Твоя Парфенона.Корабль, нёсшийся на скалы, вдруг замер, и Пифагор увидел голову той, которую всегда хранил в сердце. Уже не на берегу, а рядом. Она держалась за накренившийся борт и больше не пела, а смотрела на него совсем так, как тогда в последний раз в Трое.
Поправив сбившийся венок из водорослей, морская дева сказала:
— Мы, троянки, пленницы Диомеда, стали белыми птицами, но на этом море мы принимаем облик морских дев.
— Ты сирена?! — в ужасе воскликнул Пифагор.
— Я царица морских дев. Я облегчаю смертный час, когда он неизбежен. Когда можно спасти — подаю руку. Иди вдоль этого берега. За зелёной горой, чьё имя Везувий, тебя ждёт мой город. Я спасла во время бури людей с острова Гелиоса, и они меня чтут как богиню. Они не приносят кровавых жертв на мой алтарь. С венками на головах они поют мои песни. Слышишь, одна из них звучит и сейчас — мелодия нашей любви.
Голова Парфенопы исчезла.
Пифагор открыл глаза. Впереди маячила остроконечная зелёная гора. Мелодия продолжала звучать. В её такт рыбаки тянули на берег сеть.
«Приснится же такое, — подумал Пифагор. — Но как странно. Мелодия та же, что во сне. Слов не понять. Наверное, это опики, о которых говорил Никомах».
Когда Пифагор поднялся, песня оборвалась. Один из рыбаков, глубокий старец, спросил на ломаном дорийском говоре:
— Тебя выбросило море?
— Я из Посидонии, — отозвался Пифагор.
— Куда держишь путь?
— В Парфенопу.
Старец расхохотался.
— Сколько же ты времени проспал? Ныне нет города с таким названием. Но он был в годы моей юности. Теперь пуны называют Парфенопу Картхадаштом, а эллины — Неаполем. Иди прямо берегом. Неаполь за тою горой.
Адраний
В то время когда Адраний в отряде царских наёмников переходил мост, Дарий всё ещё сидел на своём троне, но лица его он не мог разглядеть — золото в лучах солнца слепило глаза.
Впервые оказавшись в Азии, юный сикел был поражён богатством её городов и могуществом царя царей, владевшего половиной мира. Конечно же наёмникам объявили, что придётся воевать со скифами. Побывав однажды вместе с отцом в Картхадаште, Адраний представлял себе их в облике народа, который в Сицилии, как и в Италии, искажая греческое слово «номады», называли нумидами, то есть кочевниками. «И куда кочевникам против такой махины!» — думал он и уже подсчитывал, сколько ему достанется золотых стрелков[72] за прогулку по скифским степям.
В отряде, которым командовал правитель Херсонеса Мильтиад, были кельты, лигуры, латины. Все они начинали понимать команды эллина, но между собою говорили на своих языках. В отряде не было ни одного сикела, и Адраний не смог бы ни с кем перекинуться словцом, не понимай он языка латинов, племени, о котором он ранее не слышал. Один из латинов, по имени Тит, который оказался его соседом, был разговорчивее других. Общий язык соединил Тита с Адранием, и сикел не чувствовал себя в отряде чужаком.
Тит находился под началом Мильтиада всего год, а до этого был в подчинении каппадокийца и вместе с его отрядом был переправлен на корабле в Скифию, чтобы взять там в плен нескольких скифов и разузнать об их обычаях и верованиях. Теперь Тит делился воспоминаниями о суровой стране, населённой жестокими людьми, рождавшимися в кибитках и проводившими всю жизнь на конях. Холодок пробегал по коже при рассказе о том, что скифы ослепляли военнопленных и заставляли их доить кобылиц, о том, что они вытирались выделанной человеческой кожей, а вместо чаш пользовались черепами врагов.
Покрытые лесом горы, через которые двигалось войско, были населены фракийцами, по словам Тита, народом в высшей степени воинственным, однако предпочитавшим власть царя господству жадных эллинских торгашей, считавших всех, не говоривших на их языке, своими рабами. И конечно же Адраний поведал Титу, до какого унижения эллины довели сикелов, говоря, что их единственная надежда на рознь между эллинами и картхадаштцами.
Однажды Адраний, к своему удивлению, увидел толпу чубатых мужей и жён с повязанными головами. Они шли той же дорогой, что и войско, но в обратном направлении. Это зрелище удивило и Тита, и он перебросился несколькими фразами с одним из персов, гнавших несчастных.
— Мужчины, наверное, не хотят воевать со скифами? — предположил Адраний. — А женщин-то за что?
— Да нет, — отозвался латин. — Царь царей увидел на поле работающих пеониек — ведь пеоны, в отличие от остальных разбойников-фракийцев, занимаются земледелием — и, восхитившись их трудолюбием, приказал переселить всю деревню в Азию. «Пусть видят ленивцы, как надо работать» — таковы его подлинные слова.
Адраний покачал головой:
— Да этот Дарий не лучше наших сикелийских тиранов. А все болтают о справедливости персов. Нас ведь тоже эллины переселили в глубь страны, отобрав прибрежные земли.
Так они дошли до могучей реки, которую одни называли Петром, а другие Данувием. Здесь царь царей, приказав Мильтиаду охранять мост силами херсонесцев, а наёмников передать под командование сатрапу Мегабазу, двинулся в земли сколотое, которых эллины называют скифами.
Живая земля
Дорога змеилась по песчаному побережью, поросшему колючим кустарником, который обычно называют «куриным лесом». Он сменился могучими дубовыми рощами, подступавшими к самому морю. Огромные деревья нависали прямо над волнами, бившими в острых скалах. Берег образовывал дугу в форме кратера, и чтобы достигнуть Кимы, следовало всю её обойти до горловины.
Так, во всяком случае, объяснил Пифагору молодой охотник, тащивший на плече окровавленную голову кабана. В заключение он предложил путнику принять участие в жертвоприношении Артемиде, а затем провести ночь у костра за трапезой. Но Пифагор, поблагодарив юношу, поспешил удалиться. Запах крови и вид обезображенной смертью морды животного вызывал тошноту. Спустившись к скалам, Пифагор провёл там остаток дня и ночь, освежившись дыханием моря и утолив жажду утренней росой.
На заре Пифагор двинулся той же дорогой на север и к полудню достиг реки, пробившей через каменистую долину выход к морю. Рыбак, тянувший сеть, назвал поток, стекающий с горы, Сарном. В верхней части гора была пепельного цвета. В нагромождении скал чёрного как сажа цвета виднелись пористые углубления.
— Это Везувий, — пояснил рыбак, указывая на гору. — А город на её склонах — Помпеи, основанный тирренами.
— А как, — спросил Пифагор, — называются эти острова? Они напоминают обломки ручки амфоры.
— Левый, что поменьше, — Капреи, правый называют Инаримой, что на нашем языке означает Пифекуссы[73].
— Неужели там водятся обезьяны? — удивился Пифагор.
— Говорят, когда-то водились, — отозвался рыбак, — но Посейдон однажды так потряс своим трезубцем, что на острове не осталось ни людей, ни животных.
Пифагору пришлось вскоре вспомнить эти объяснения. Дыхание перехватило от запаха серы. Справа от дороги виднелся дымящийся провал. «Земля напоминает море, — думал Пифагор. — Она вздымается и опускается. Она живёт. Но если таково её состояние здесь и в некоторых других местах, колебание должно быть всеобщим. В мире нет ничего неподвижного. Если прав Мох, учивший, что всё состоит из мельчайших частиц, они должны ходить такими же волнами, и в каждой из них, скорее всего, происходит то, что совершается в видимом нами мире. Там такие же носители энергии, связанные притяжением и отталкиванием. Посейдон, потрясающий своим трезубцем, Гея, породившая гигантов, борьба их с богами — это образы, порождённые конвульсиями Земли.
Тефарий Велиана
Сострата Пифагор отыскал в гавани Пирг. Этот муж, лет сорока, невысокий, с уже наметившимся брюшком, чем-то неуловимо напоминавший Поликрата, перебегал от корабля к кораблю, давая какие-то распоряжения то на одном, то на другом языке.
Наконец его взгляд упал на Пифагора.
— Тебе куда плыть? — спросил он, подходя ближе.
— Я уже на месте, — отозвался Пифагор.
— Значит, по торговым делам?
— Нет, не по торговым, Сострат.
— Откуда тебе известно моё имя?
— От Никомаха. Просто хочу познакомиться с тирренами и их обычаями.
— Тогда ты пришёл вовремя. Идём со мной. Увидишь тирренскую церемонию освящения храма Уни — так тиррены называют Геру. Из Цер прибудет Тефарий Велиана, мой покровитель. Тиррены называют своих правителей лукумонами.
Здание с колоннами на высоком основании было окружено толпой. Церемония ещё не началась, и люди вели между собой беседу. Пифагор уловил финикийскую речь.
— Этот храм построен местными кархедонцами, — пояснил Сострат.
— Но ты же сказал, что это храм Уни.
— Кархедонцы называют Уни Астартой. Храм, как видишь, не каменный, как наш, а из дерева, облицованный терракотовыми плитами.
Из храма послышалась музыка. И тотчас появилось двое. В одном из них по высокому головному убору Пифагор определил жреца. На другом было ярко-красное одеяние со множеством складок, придававших фигуре величественность, — тиррены, как Пифагор слышал ещё в Кротоне, называли его тогой.
— Тефарий Велиана! — шепнул Сострат.
Служители поднесли к дверям храма лестницу. Лукумон поднялся по её ступенькам и стал вбивать над дверью какую-то пластинку, судя по блеску — золотую. В тишине слышались удары. Гвозди входили с одного раза — видимо, в металле были заранее проделаны отверстия. Пифагор насчитал двенадцать ударов. Гаруспик подал вторую пластину, и она была вбита рядом. Затем наступила очередь третьей. Наконец лукумон спустился и, обернувшись к присутствующим, произнёс несколько фраз.
— Что он сказал? — спросил Пифагор шёпотом.
Сострат ничего не ответил. Отозвался Тефарий Велиана:
— Приветствую тебя, Пифагор!
Поняв по выражению лица Сострата, что тот удивлён не менее его, Пифагор двинулся к колоннаде.
— Не удивляйся, — продолжил лукумон, когда Пифагор приблизился. — Мы не знакомы, но я командовал флотилией в тот год, когда ты плыл из Картхадашта, и видел тебя издалека, а позднее слышал о тебе от Ганнона. И знаешь ли где? В океане! Ведь я плавал на одном из его кораблей и достиг той части Ливии, которую называют Южным Рогом. Теперь ты мой гость.
— Гостю не следует засыпать хозяина вопросами, — отозвался Пифагор, — но удовлетвори моё любопытство. Ты прибивал над дверью пластинки. Что на них написано?
— На этих пластинках на этрусском и финикийском языках сообщается, что и это посвящение, и эти храмовые дары пожертвованы Уни-Астарте мною, правителем Тефарием Велианой, во время обряда вбивания гвоздя по божественному определению. Тебя, конечно, интересует, что это за праздник вбивания гвоздя, ведь вы, граики[74], такого не знаете.
— Конечно!
— Каждый год мы вбиваем в стену внутренней части храма близ статуи богини Уни, владычицы всякого роста, в том числе и возрастания времени, золотой гвоздь. Другие гвозди, с более крупной шляпкой, обозначают века жизни нашего, как и любого другого, города, где почитают Уни.
— Я понимаю, что у каждого города, как и у нас, своё летосчисление. Но ведь века-то одинаковы, по сотне лет!
— О нет! — снисходительно улыбнулся лукумон. — Века нам, расенам[75], посылают боги, давая знамение, когда кончается один век и наступает другой. Последний наш век длился сто двадцать три года. Последний годичный гвоздь этого века — пока сороковой, и никому не ведомо, когда гвоздь его завершит. Однако известно, что нашему городу определено девять веков. Я вижу, тебя это удивляет, Пифагор.
— Я не нахожу слов, лукумон. Того, что ты сейчас раскрыл, хватит мне на многие дни раздумий. Разреши, я буду в дальнейшем, подобно моим кротонским ученикам, давшим обет молчания, просто слушать.
— Молчания? — повторил лукумон удивлённо.
— И неразглашения. Ибо сказанное тобою, как мне кажется, принадлежит к тайному знанию, ради которого я и прибыл в твою удивительную страну.
Сколоты
Весть о строительстве моста через Истр не застигла царя сколотое Иденфирса врасплох. Он знал через лазутчиков о планах Дария, когда ещё не были закончены работы на Геллеспонте. Один из них сразил акинаком эллина, главного строителя деревянной дороги — так сколоты называли мост. Иденфирс тотчас послал гонцов к царям тавров, агафирсов, гелонов, будинов, савраматов, андрофагов. Гонцам было приказано передать следующее: «Люди! Можете держаться в стороне, если хотите стать рабами персов. Покорив нас, персидский царь не успокоится и не даст вам пощады. Объединитесь со мной, и мы победим».
Возвратившиеся гонцы сообщили, что цари гелонов, будинов и савраматов обещали оказать помощь, цари же остальных племён под разными предлогами отказались, заявив, что примкнут к сколотам, если персы вступят в их пределы.
И призвал к себе Иденфирс сына своего Скопасиса, и сказал ему:
— Отступай, засыпая колодцы и источники, сжигая траву, держась на расстоянии дневного перехода от персов. Заманивай их в земли тех, кто отказался нам помочь, чтобы заставить их, глупцов, воевать против собственного желания. Пусть то же самое делает и брат твой Таксакис. Кибитки с женщинами и детьми, а также весь скот, кроме необходимого для пропитания, пригони ко мне сюда. Я должен остаться здесь, ибо чувствую, что меня вскоре призовёт к себе Таргетай.
И упал Скопасис в ноги отцу, и пообещал ему пролить на его тризне кровь сотен пленников, и положить с ним на ложе трёх его младших жён, и насыпать юрту из земли, какой не было ни у кого из сколотских владык.
Мы, расены
На всю жизнь запомнил Пифагор дверь храма Уни с золотыми пластинками над притолокой. Через нёс он вступил в тирренский мир, который поразил его своей самобытностью и возбудил прежнюю яростную жажду познания.
Во дворце Тефария Велианы его удивил мегарон — нет, не своими размерами или убранством, а тем, что он получал свет через квадратное отверстие в потолке, а в дождливые дни и влагу, собиравшуюся в расположенный внизу бассейн. Тиррены понимали, что нельзя отгораживаться от того, что посылает людям небо. Сквозное отверстие в потолке и кровле было «окном к богам», так назвал его лукумон, приводя примеры того, как и когда было необходимо удалять требующие очищения предметы через это окно. В том же мегароне рядом с алтарём находился шкаф, как показалось Пифагору, с идолами. Но выяснилось, что это восковые маски предков. Подойдя к ним, лукумон показал своего прадеда, одержавшего победу над лигустинами у истоков реки Тиферин, что прибавило к его имени прозвище Тефарий.
Пифагор обратил внимание на то, что тиррены не произносили звонкого «б», — потом он узнал, что и в тирренском алфавите, (Имеющем, как и эллинский, финикийское происхождение, нет «беты», поэтому вместо «Тибр», «Тиберии» они говорят «Тифр», «Тиферин». Дед Тефария Велианы — лукумон его хорошо помнил — прославился сооружением дороги, соединявшей Церы с Ромой, отец — заключением союза с Картхадаштом и совместной с картхадаштцами победой над фокейцами близ Алалии.
— Отец мой, — пояснил лукумон, — защитил наши островные владения от этих скитальцев, которых персы лишили отечества, но не стремился их уничтожить, а разрешил побеждённым увезти своих жён и детей в Гиелу, где они живут по сию пору. Он ценил ум и энергию эллинов и приставил ко мне эллинского учителя. В портах нашего города много эллинов. Я видел тебя рядом с Состратом. Отец открыл этому эгинцу дорогу в Тартесс под условием держать свои корабли в Пиргах и Грависках и вести торговлю только с нашими друзьями.
— То есть картхадаштцами? — спросил Пифагор.
— Не с ними одними. Мы поддерживаем дружбу с Сибарисом и его колониями, а через них и с Милетом, процветающим даже при персах. Для защиты торговли от сиракузян и разбойников-липарцев мы держим флот то в Регии, то в Занкле и, как тебе известно, не пользуемся своим военным превосходством для устранения врагов Сибариса.
— И это все корабли Цер? — спросил Пифагор.
— Говоря «наши корабли», я имел в виду корабли всех двенадцати расенских полисов, которыми командует назначенный союзным советом наварх. Заслуги моего отца в своё время обеспечили эту должность мне, хотя тогда мне было всего двадцать лет. Сейчас же кораблями командует ромей.
— Разве Рома — тирренский город?
— Конечно, потому что там у власти расен Тархна. Ромеи называют его Тарквинием. Но править ему труднее, чем мне, — его предкам не удалось сломить своеволия знатных ромеев, как это сделал мой дед по матери Мезенций, установивший в Церах единоличную власть и передавший её по наследству моему отцу. В других же тирренских городах правят советы лукумонов, как в Картхадаште и твоём Кротоне.
— Единоличную власть мы называем тиранией, от лидийского слова, имеющего значение «властвовать», — заметил Пифагор.
— Оно сохранилось и в нашем языке, — отозвался Тефарий. — Та богиня, которую эллины называют Афродитой, носит у нас имя Туран, то есть владычица. Вот тебе доказательство того, что мы потомки лидийцев. Кажется, ты в этом сомневаешься?
— О нет. Но я полагаю, что не голод побудил твоих предков покинуть Азию, а мощное движение народов, снёсшее их с места, как переполнившийся водный поток, и выбросившее на этот благословенный берег.
— Благословенным сделали его мы, расены, — гордо произнёс Тефарий. — До нас здесь были сплошные болота и царство комаров и лягушек, певших нескончаемый гимн зловреднейшей из богинь — Лихорадке. Мы прорыли каналы и вывели излишние воды в озера. Мы очистили эту землю и перебросили через водные потоки деревянные и каменные мосты. Мы построили на холмах укреплённые стенами города и соединили их дорогами. Мы дали обитавшим здесь дикарям законы и установили у них, поклонявшихся лесным и речным демонам, веру в эзаров, могущественных богов. Мы дали им ремесла и искусства. Мы обучили их финикийскому письму. И если ты в этом сомневаешься, побывай в Роме и напиши мне потом, найдёшь ли ты в этом или ином городе, населённом латинами и сабинами, вольсками или эквами, что-либо достойное упоминания, не связанное с нами, расенами.
Волки
Милон шёл Силлой. Глаза его блуждали по колыхавшимся от утреннего ветра ветвям.
С тех пор как он вернулся из Олимпии без победной ветви, прошёл уже месяц. Но он никак не мог успокоиться и уходил в лес, чтобы остаться наедине с собой. Напрасно! Сцена нестерпимого позора преследовала всюду.
Жребий соединил Милона с кротонцем, перебежавшим в Сибарис и ставшим там зятем тирана Телиса. Наблюдая за ним на тренировках, Милон понял, что тот сильнее его и от его могучей юной хватки ему не уйти. И это случилось. Он оказался на спине и услышал многотысячный вздох стадиона, ждавшего от него победы.
«А ведь Пифагор, видимо, чувствовал, что меня ожидает, — думал Милон. — Он мне дал математическую задачу, чтобы я поломал над нею голову, и старался занять другими делами. Но я был ослеплён привычкой побеждать. Я рассчитывал только на мощь своих рук».
Впереди показалась высохшая сосна. Видимо, кто-то хотел воспользоваться ею для топлива и вбил в расщеп клин. «Нет, я ещё силён», — подумал Милон. Ударом кулака он выбил глубоко загнанный клин и всунул в расщеп руки, чтобы разорвать ствол. Но высохшее дерево оказалось сильнее его. Он стал его невольником.
Он набрал воздуха и крикнул во всю мощь груди. Силла отозвалась эхом. Крикнул ещё и ещё раз. И замолк.
Вслед за последним отголоском наступила пугающая тишина. Где-то послышались тихие размеренные удары. Повернув голову, Милон увидел дятла, деловито бьющего клювом по стволу. Он вспомнил, что италийские варвары считают дятла покровителем молодёжи. Те, кого изгоняют из общин, идут за птицей, пока она их не выведет на место нового поселения. Этих молодых людей называют мамертинцами, ибо Арес на языке здешних варваров — Мамерс. Может быть, кто-нибудь услышит стук клюва и придёт сюда, чтобы вырвать его из плена?
На Силлу опустился мрак. На опрокинутой чаше неба затрепетали звезды. «Кажется, это созвездие Лебедя, — подумал Милон. — Под ним рождаются наглецы, мнящие себя спасителями людей. За ним — Кассиопея, моё созвездие». Млечный Путь развёртывался в безмолвном течении. Пифагор воспроизводил его порывистыми звуками авлоса.
Мелодия возникла в сознании Милона, и он запел, пытаясь заглушить растущую тревогу. Одна из звёзд внезапно сорвалась и, прочертив по небу дугу, словно бы рассыпалась по лесу маленькими звёздочками. Они приближались, горя жадным блеском. В гармонию сфер ворвались воющие звуки.
Поющий гаруспик
Из Кротона Пифагор завернул в Церы, чтобы проститься с Тефарием Велианой. Месяц странствий по тирренским городам ввёл его в мир, который прежде являлся ему в сновидениях. То, что ему приходилось склеивать из обломков, как разбитую чашу, здесь представало как нечто цельное, продолжающее жить так, как жили в древности, хотя и воспринявшее черты нового пейзажа и климата.
Задаваясь мыслью, что в тирренах главное, Пифагор пришёл к выводу, что это чувство ритма. Оно пронизывало всё их бытие, проявляясь и в устройстве их жилищ, и в общественных празднествах, и в отношении к рождению и смерти. Знатоками и хранителями этого ритма были жрецы, мало чем напоминавшие служителей эллинских полисных богов. Писистрат, чтобы возвысить себя в глазах афинян, издевательски взял на колесницу и посадил рядом с собой жрицу в одеянии богини. На Самосе жрицы Геры пользовались почётом, но Поликрат не постеснялся отнять у Геры часть её земель. Он никогда не обращался к жрецам за советами, как поступить в том или ином случае. Здесь же без заключения жреца не могло быть принято ни одно сколько-нибудь значительное решение. Только жрецам предлагалось определить, как относятся боги к тому или иному замыслу полиса и его выборных должностных лиц. И это осуществлялось с помощью гаданий, без которых вообще не брались ни за какое дело. Как и вавилоняне, тиррены предпочитали гадать по овечьей печени и, кажется, достигли в этом не меньшего искусства. Жизнь считалась пиршеством, а смерть мыслилась бездной мучений. Этрусский Аид был страшнее эллинского. В нём не было Элизия, где душам за какие-либо заслуги давалось послабление.
Прощаясь, тиран протянул Пифагору изящную бронзовую статуэтку: юношеская головка в петасе, лукавая ионийская улыбка, в руках посох, крылышки на лодыжках.
— Гермес? — удивился Пифагор. — Вы почитаете Гермеса?
— Мы его называем Турмсом, — отозвался Тефарий. — Пусть он будет твоим проводником.
— Но ведь Гермес проводник мёртвых!
— Он бог тайного знания и поможет тебе выбрать жизнь или смерть.
Медленно приподнялась и зашла в пазы железная задвижка ворот. Проход заполнился светом. Друзья вышли. Тефарий положил руку на плечо Пифагора, намереваясь что-то ему сказать, когда прямо над их головами послышалась песня.
— Это гаруспик, — пояснил Тефарий. — Он пророчествует.
Седоголовый старец, совершая телодвижения, напоминающие пляску, простирал в сторону друзей руки и пел:
Когда падёт великий город у моря, Когда он будет покрыт водами рек И скроется под ними, Соединится с небом душа, Открывшая пути звёзд.Тефарий приблизился к Пифагору:
— Это он о тебе. Возвратимся. Останешься у меня. К нам из разных городов приходят учиться письму. Будут обучаться философии.
— Почему ты решил, что пророчество обо мне? Ведь ты не хуже меня знаешь движение звёзд.
Тефарий обхватил Пифагора обеими руками.
— Это внук Танаквиль. Он великий прорицатель. Когда у нас был царь ромеев, он также пророчествовал со стены. И царь был изгнан со всей семьёй из Ромы.
Пифагор мягко, но решительно освободился от объятий.
— Пусть исполнится неизбежное, — проговорил он. — Могу ли я, познавший столько смертей, отступить перед этой последней? Меня ждут ученики. Я слышу их голоса. Они осуждают меня за то, что я заставил их слишком долго себя ожидать. И всё равно я с ними навсегда. Я знаю, что они совершат такое, что мне никогда не снилось, и припишут это мне. Ведь это я вывел их на дорогу. И я буду всегда с ними и впереди них, освещая им путь.
Поняв, что эллин непреклонен, Тефарий удалился. Пифагор провожал его взглядом. Как только он вошёл в проход, задвижка стала медленно опускаться, и взору Пифагора открылась широкая голова Медузы Горгоны с пылающими глазами и высунутым до предела языком.
Очищение
Крестонеи двигались по берегу Данаприя, становившемуся с каждым днём всё уже и уже. Впереди была теснина, которую называли Герра, — граница скифских кочевий. За нею начинались владения гелонов, скифских данников, не кочевников, а земледельцев, сжигающих леса и бросающих зерно в ещё тёплую золу.
Правый берег был крутым, и с него виделись неоглядные степи, которые называли Киммерийскими, по имени предшественников скифов — киммерийцев. Залмоксис вспомнил, как однажды в пещере Пифагор вступил из-за этих киммерийцев в спор с Анакреонтом, приводя в доказательство невежества Гомера то, что для него киммерийцы — это народ мрака, между тем как уже во времена Гомера киммерийцы владели Кавказом, а вскоре после Гомера вторглись в Азию и её опустошили.
Ведя своё племя к новым местам и постоянно испытывая тревогу о его будущем, Залмоксис старался держаться особняком от людей, считавших его богом. Ему было неприятно слышать обращаемые к нему молитвы, доносившиеся из шатров. Гул голосов рождал головную боль, и он уходил на несколько стадиев выше становья, где всё заглушалось криками ночных птиц и всплесками крупных рыб. Иногда он переправлялся на зелёные островки, разделявшие Данаприй на протоки. Здесь менее досаждали комары. Порой по реке проплывали выдолбленные из цельного дерева челны, и Залмоксис вслушивался в беседу тех, кто их вёл, узнавая о становьях, куда они доставляли товары из эллинского торжища в Ольвии. Язык этих людей, называвших себя гелонами, был Залмоксису понятен, — он почти не отличался от языка крестонеев. И это его не удивляло, ибо в Индии, прислушиваясь к речи белокожих индийцев, называвших себя ариями, он открывал много слов, имевших то же звучание и значение, что фракийские и эллинские.
Однажды ночью до слуха Залмоксиса донеслись удары врезавшихся в землю лопат, шум шагов и грохот бьющейся о камни воды. Дав своим знать, чтобы они его дожидались, он двинулся навстречу непонятным звукам и оказался у порогов Данаприя. На этой же стороне реки, у оврага, он увидел множество скифов. Одни из них рыли землю и насыпали её в мешки, другие тащили эти мешки на спинах. Иногда носильщики перебрасывались межу собой короткими фразами. Просеивая незнакомые ему слова скифского языка, Залмоксис уловил эллинские и поспешил на их звук.
Однако, сколько он ни всматривался, все были в скифских кожаных штанах и остроконечных шапках. Эллинские же слова звучали всё громче и громче. И он наконец отыскал двоих, переговаривавшихся по-эллински.
Его вопрос: «Почему вы говорите по-эллински?» — настолько удивил носильщиков, что мешки выпали у них из рук.
— У нас матери эллинки, и мы говорим на их языке, чтобы его не забыть, — ответил один из них. — Только не проговорись никому об этом, да и сам лучше забудь, что знаешь этот язык.
— Вы возводите укрепления для защиты от персов? — спросил Залмоксис.
— Какие укрепления? — удивился носильщик. — Старый царь Агафирс ушёл к предкам. Теперь царствует его сын. Видишь, там его шатёр. А мы насыпаем холм над царской могилой. Выше его не будет в степи.
Решение пришло мгновенно.
— Отдохни, — сказал одному из носильщиков Залмоксис и поднял на плечи его мешок.
На третьем круге к Залмоксису подошли скифские воины и знаками приказали ему следовать за собой. Пока его вели, Залмоксис мучительно вспоминал имя того скифа, который был рабом у эллинов, а затем стал одним из семи эллинских мудрецов. Звуки его вертелись в голове, а имя никак не складывалось, как не сложилась и судьба этого человека, вернувшегося на родину знаменитым и убитого за то, что он носил эллинский гиматий.
Царь восседал на ковре, подобрав под себя ноги в кожаных штанах. Кроме него в шатре находился безбородый скиф с вывернутыми ноздрями. Его одеяние, покрывавшее расплывшееся тело, было увешано амулетами.
— Поднимись, — приказал царь опустившемуся к его ногам Залмоксису. — Кто ты, почтивший память моего родителя?
— Я вождь крестонеев Залмоксис, — проговорил Залмоксис по-гетски. — Со мною те, кто не захотел служить персам и воевать против своих братьев.
— Я слышал о тебе. Ты был у эллинов рабом, а у гетов стал богом. Чего ты хочешь?
— Пропусти мой народ в земли твоих подданных — гелонов. Мы, крестонеи, так же как и вы, пашем землю и кормимся хлебом. Если же нужно, ты можешь рассчитывать на нас в войне с твоими недругами.
— Не нужно, — проговорил сколот. — Дарайавуш не уйдёт от наших стрел. Я пропущу твой народ в земли гелонов. Ты же останешься у меня. Но в тебе злые духи наших врагов — эллинов, среди которых ты жил, и ты должен быть от них очищен моим энареем.
При этих словах женоподобный встал и, звеня амулетами, двинулся к пологу.
— Иди за ним, — приказан царь. — По возвращении получишь моё первое поручение.
Энарей — Залмоксис догадался, что так называют здесь жрецов, — двинулся по протоптанной дорожке за становье. Ещё издали был виден кожаный шатёр в форме женской груди. Из отверстия поднимался дымок.
— Раздевайся, — произнёс энарей тонким голосом.
Запмоксис сбросил с себя всё, кроме набедренной повязки.
Увидев татуировку на груди у Залмоксиса, скиф подошёл ближе и, ткнув пальцем в медвежью пасть, почему-то захихикал.
— Снимай всё, медведь! — проговорил он, распахивая полог.
Стены шатра были в стеблях высушенных растений. На полу в самом центре торчали камни, обложенные едва мерцавшими углями. Встав на колени, жрец стал их раздувать.
«Что всё это значит? — напряжённо думал Залмоксис. — У нас в таких шатрах моются, поливая раскалённые камни водой. Но воды ни здесь, ни снаружи не видно».
Когда угли покраснели, жрец стал срывать со стены стебли и, осыпая с них семена и обходя камни по кругу, начал напевать. Пение вскоре перешло в завывание. Жрец то дёргался, как в священной болезни, то приплясывал. На губах его показалась пена. И вот уже Залмоксис стал приплясывать, подражая энарею. На мгновение ему показалось, что он взлетел в воздух и парит на расстоянии локтя от земли, как в сновидениях детства. В глазах, вытесняя друг друга, побежали радужные круги. Ширясь, они вобрали в себя город, не похожий ни на эллинский, ни на персидский, ни на индийский. Плоские кровли его храмов были расписаны изображениями, словно бы для того, чтобы усладить взоры богов. На скрещениях прямых улиц дымились алтари. Их окружали коренастые мужи в одеяниях невиданного покроя. И вдруг взор Залмоксиса упал на идущего по стене старца. Его ноги .поднимались в такт тревожно звучащей мелодии. Судя по покачиванию головы, он ей подпевал. Стена в нескольких шагах от него обрывалась, но, кажется, он этого не замечал. Увлечённый, он двигался к гибели. Лицо его приблизилось, и Залмоксис с ужасом узнал Пифагора. «Измени путь, — закричал он, — впереди пропасть!»
Разноцветные круги внезапно лопнули, как бычий пузырь. Залмоксис пробудился от собственного крика. Но чувство тревоги его не покидало, ибо виденное им не было похоже на сон. Ему казалось, что и впрямь он только что увидел Пифагора, возвышающегося над каменным кругом.
Залмоксис медленно побрёл к шатру вождя. Он прошёл мимо пасшихся коней, и они его не испугались, а один протянул к нему голову и доверчиво двинулся вслед.
Мия
В то утро — Тилар запомнит его навсегда — ничто не предвещало события, о котором долго будут говорить обитатели Ограды.
Пели свой утренний гимн Гелиосу птицы, а Тилар, охранявший ворота, мысленно затверживал усвоенные накануне истины, чтобы они, влетев в одно ухо, не вылетали из другого. Поэтому он не заметил, как к воротам подошла девочка, а только услышал её голосок, дополнивший доносившееся с деревьев щебетание:
— Мальчик, пропусти меня к Пифагору. Я его дочь Мия.
Странным было появление этой девочки. Удивительной была и её речь: откуда бы у Пифагора взяться дочери, когда у него не было жены и никто никогда не вспоминал, чтобы он имел семью в прошлом? Но поразительнее всего была она сама, стройная, гибкая, с глазами серны.
Тилар смотрел на неё, не отводя глаз. Он не только не мог ответить ей, но даже, хотя двигаться не запрещалось, застыл как вкопанный.
Свидетелем этой сцены оказался проходивший с колокольчиком Эвримен. Подойдя, к воротам, он проговорил:
— Сюда нельзя.
— Но я же дочь Пифагора! — с обидой воскликнула гостья. — Я из Дельф.
Эвримен ухмыльнулся:
— Тут уже побывали многие. И из разных городов. Одни называли себя сёстрами, другие — невестами. Правда, из дочерей ты первая. Пифагором же сказано: да не будет сюда доступа женщине, как в Олимпию.
— Тогда пусть он сам выйдет ко мне — ведь я его ещё вблизи никогда не видела, а столько о нём слышала от матери! И он обрадуется, когда увидит вот это.
Она распахнула хитон и показала золотой амулет.
— Такого нет ни у кого другого, и Пифагор, как говорила мать, его хорошо знает.
— Амулета никто не приносил, — равнодушно заметил Эвримен. — Но всё равно Учитель не выйдет. У него есть дела поважнее.
— А я всё равно не уйду! — вспыхнула девочка. — Я добиралась сюда с таким трудом. И буду ждать.
— Не дождёшься! — оборвал Эвримен. — Только знай, что здесь появилась стая волков, и было бы обидно, если бы они разорвали такую красавицу.
Мия повернулась и, всхлипывая, побрела в сторону Кротона.
Тилар рванулся было ей вслед, впервые за всё это время пожалев, что не ушёл с Гиппасом. Но раздавшийся звон колокольчика отрезвил его.
Нашествие
Где ты, Истр, с берегами зелёными?
Синь сливается с желтизной.
По степи ковыльными волнами
Перекатывается зной.
Где победа, что мнилась близкою?
Где противник? Парят орлы.
О бескрайняя степь Киммерийская,
Чую — будешь черней ты золы.
На заре персидское войско, перейдя через Данастрий, двинулось навстречу восходящему солнцу. Оно катилось над степью неправдоподобно огромным золотым колесом, казалось бы, воспламеняя колеблемый ветром ковыль.
Войско двигалось медленно. Впереди, в густой высокой траве, то возникали, то исчезали головки каких-то ушастых зверьков, и в этой пляске ощущалось волнение самой степи, немало повидавшей на своём веку, но ещё ни разу не принимавшей такой массы людей. Если прислушаться, можно было уловить ропот перекатывавшихся волнами трав, перераставший при сильном порыве ветра в некую угрозу. Тревожно фыркали кони, ревели верблюды. Беспокойство животных стало передаваться и всадникам. И тогда скакавший рядом с Дарием Мегабаз заметил, что солнце вступило в длинную серую тучу и словно бы выпустило полупрозрачные крылья.
— Смотри, повелитель! — воскликнул царедворец. — Эта туча превратила светило в герб Ахеменидов! Видишь — орлиные крылья! Ахурамазда ниспослал тебе доброе знамение.
Царь поднёс ладонь к бровям, и улыбка на миг согнала с лица испуганно-сосредоточенное выражение.
— Слава Ахурамазде! — проговорил он.
— И да обратит он вспять Таргитая! — подхватил Мегабаз.
— А это ещё кто такой? — заинтересовался Дарайавуш.
— Родоначальник скифов, — отозвался царедворец. — В этой стране, лежащей между морем и горами, достигающими небес, от брака бога-отца — скифы называют его Папаем — с полузмеёй-полуженщиной родился Таргитай. У него было трое сыновей: Липоксай, Арпоксай и Колаксай. Будто бы в их царствование с неба свалились на траву плуг, секира и чаша. Всё из чистого золота. Первым увидел эти дары старший из братьев. Но едва он приблизился, чтобы их поднять, как они запылали огнём. То же случилось и при приближении среднего брата. Золотые дары дались в руки младшему, Колаксаю. И братья поклонились ему как царю. Он же разделил Скифию между своими сыновьями на три царства, и в каждом из них хранится священное золото, которому цари всенародно приносят жертвы.
— А когда это было? — спросил Дарайавуш.
— Ровно за тысячу лет до того, как ты надел диадему. Тогда Колаксай получил предсказание, что царствование его потомков продлится тысячу лет. А потом прибудет могучий царь с войском и отберёт эти золотые дары, рассеяв их обладателей, как зайцев.
На самом деле никто ничего подобного о прибытии могучего царя Мегабазу не говорил, но Мегабаз видел в мифах будущих подданных такую же царскую собственность, как их скот и коней.
Как и рассчитывал Мегабаз, басня подняла дух Дарайавуша, тем более что повсюду на пути можно было видеть следы поспешного бегства — сожжённые поселения, засыпанные колодцы, ещё не успевшие разложиться трупы животных.
Так персы достигли восточной границы владений скифов, ни разу не встретившись с ними в бою, хотя их близкое присутствие ощущалось во всём.
— Они показали тебе спину! — деланно радовался Мегабаз. — Они боятся взглянуть тебе в лицо, зная, что взгляд твой испепеляет.
— Но они могут уходить от меня целый год, — вздохнул Дарайавуш. — Отправь к скифскому царю гонца — пусть он передаст: «Сражайся или покорись».
Через несколько дней после этого разговора появились скифские послы. Спешившись, они молча поставили перед царём четыре сплетённые из ивовых прутьев корзины.
— Свершилось! — воскликнул Мегабаз. — Они принесли тебе дары.
Каково же было разочарование, когда сквозь сетки, какими были накрыты корзины, в одной увидели мечущуюся мышь, в другой — прыгающую лягушку, в третьей бьющую крыльями птицу, а в четвёртой — пять связанных стрел с бронзовыми наконечниками.
— Это посылает тебе наш царь Агафирс, — проговорил один из послов.
Когда скифские послы ускакали так же внезапно, как появились, первым нашёлся Мегабаз:
— Скифы не решились принести тебе небесные дары, опасаясь гнева тех, кто им их дал. Но вместо этого они вручают тебе и землю, и воду, и воздух, ибо мышь обитает в земле, лягушка — в воде, а птица — над степью.
— А что означают стрелы? — спросил Дарайавуш.
— Наверное, сдают своё оружие, — не долго думая, ответил Мегабаз.
— Не похоже, — вздохнул Дарайавуш.
Встреча
Гиппас шёл к гавани, стараясь оставаться незамеченным. Денег на дорогу у него не было, но он надеялся убедить какого-нибудь корабельщика довезти его до Метапонта, чтобы расплатиться с ним там.
Уже показалось море, когда он заметил толпу людей, образовавшую плотный круг. «Наверное, очередной фокусник или гадатель», — подумал он и уже собирался пройти, как вдруг его привлёк нежный девичий голосок. Приблизившись, он увидел девочку ослепительной красоты, кружившуюся в танце под собственный напев.
Танец подошёл к концу, и люди, расходясь, уже бросали оболы. Девочка ещё не успела подобрать монетки, как к ней приблизилась отвратительная старуха с хищным выражением лица.
— Дитя! — услышал Гиппас вкрадчивый голос. — Этим многого не заработаешь. Идём со мною. У тебя будет крыша над головой и постоянный заработок.
Девочка испуганно попятилась, и старуха, пытаясь её удержать, вцепилась в хитон.
Забыв о том, что ему не надо обращать на себя внимания, Гиппас рванулся на помощь.
— Прочь отсюда! — закричал он. — Оставь в покое мою сестру, страшилище!
С этими словами он схватил девочку за руку и увлёк за собой.
— Бежим!
Когда гавань с кораблями скрылась из виду, они остановились.
— Кто ты, братец? — спросила Мия, с интересом оглядывая своего спасителя.
— Я Гиппас, сын Теогена.
— А я Мия, дочь Родопеи. Как хорошо, что ты прогнал эту страшную женщину. Так, наверное, выглядели сёстры Грайи.
— О нет! — возразил Гиппас. — Грайи были добрыми старицами — ведь они делились друг с другом единственным глазом, а эта скорее напоминает Горгону, которую изображают на городских воротах, чтобы отгонять неприятеля.
— А куда мы идём?
— Разве это важно? Главное, что ты меня не гонишь. Я же готов за тобой хоть в страну гипербореев.
— Но откуда ты? Ты кротонец?
— Я из Метапонта. Слышала о таком городе?
— Немного. Из Метапонта Эпей, построивший троянского коня.
— Да. Мои сограждане этим гордятся, но должен тебе сказать, что это выдумка. Моему городу не более двухсот лет, а Троянская война древнее на три столетия времени сочинителя басен о Трое.
— Ты имеешь в виду Гомера?
— Да. Мой учитель ценит Гомера как поэта, но полагает, что лучше бы ему старины не касаться. Довольно об этом. Лучше скажи, как ты здесь оказалась?
По выражению лица девушки Гиппас понял, что его вопрос привёл её в смятение.
— Я жила с матерью в Дельфах, — начала она. — Нет, не в святилище, а ниже, в ущелье, где Кастальский ключ. Однажды, когда я была ещё ребёнком, мать показала мне издали моего отца. Он стоял у порога храма, беседуя с Фемистоклеей.
— Кто это? — спросил Гиппас.
— Великая пифия, уста для откровений Аполлона и хранительница его тайн. Она покровительствовала матери, почему-то называя её египтянкой. Любила меня. Её высохшие ладони пахли мёдом. Когда мне исполнилось двенадцать, мать захотела посвятить меня Аполлону. Сейчас я могла бы сидеть на треножнике, но Фемистоклея воспротивилась и сказала: «Пусть не заглохнет корень Астрея». Так она по-своему называла моего отца. Я уверена, что на смертном ложе она взяла у матери обещание отправить меня сюда, к Пифагору...
— Так ты дочь Пифагора?! — вскрикнул Гиппас.
Девушка с удивлением подняла глаза, не понимая, что могло так взволновать её спасителя.
— Мать послала меня с кормилицей и двумя рабами. Но на наш корабль напали пираты, и я бросилась в море — ведь я хорошо плаваю. Так я оказалась одна на чужбине. Надеялась заработать на дорогу пляской.
— Мой учитель ценит пляску и музыку, — вставил Гиппас. — Если бы ты слышала, как он божественно играет на кифаре.
— Я вижу, ты им гордишься. Кто он?
— О нет, я не произнесу этого имени. Ибо какой смысл в имени того, кого я никогда не видел. Незадолго до встречи с тобой я шёл по берегу и увидел дремлющего старца, наверное рыбака. Как прекрасно было его лицо с высоким лбом! И я подумал: «Был бы мой учитель похож на него...»
— Я тебя не понимаю. Учитель — и не видел?
— Да, учитель не открывает своего лица.
— А мне Пифагор не открыл дверей своего дома, — с горечью проговорила Мия. — Теперь я одна.
— Нет, не одна, — возразил Гиппас неуверенно. — Видимо, твоего отца не было в городке, и потому двери не открылись. Идём со мною в Метапонт. Ты там успокоишься.
«Дочь Пифагора... — думал Гиппас. — Какую же шутку со мною сыграла судьба».
Решение
Уже на следующую за уходом скифских гонцов ночь на персидский лагерь был совершён первый стремительный набег. Забросав вал тучей стрел, скифы удалились на своих быстрых рыжих лошадках.
— Вот тебе и скифские дары, — сказал Дарайавуш Мегабазу.
На этот раз сатрап не нашёлся что ответить.
Набеги повторялись едва ли не каждую ночь. Число убитых и раненых множилось. Одним из первых пал Тит. Осторожный и храбрый, он попал в засаду. Скифы пытались отрубить голову — ведь только принёсший голову убитого получает у скифов свою долю добычи, — но Адраний, бросившийся на врага с бешеной отвагой, вытащил тело друга из скифского аркана и, унеся из лагеря, закопал его и накатил на могилу огромный валун.
Подходили к концу запасы продовольствия. Воины начали поедать сусликов и мышей. Тела покрывались красными пятнами. Начались повальные болезни.
Как-то ночью из находившегося неподалёку стана скифов раздался крик. Дарайавуш попросил Гаубураву выяснить причину переполоха. Оказалось, что через скифские посты пробежал заяц и за ним была устроена шумная погоня, в которой участвовал весь скифский лагерь, словно это было происшествие мирного времени. В другой раз скифы учинили какое-то игрище и метались на конях перед своим лагерем, вырывая друг у друга козла.
Выслушав Гаубураву, Дарайавуш покачал головой:
— Не иначе как эти дикари хотят вывести нас из терпения. Они над нами издеваются, понимая, что мы бессильны им помешать.
— Позволь дать тебе совет, Дарайавуш, — произнёс Гаубурава. — Дождись следующей ночи и, как обычно запалив огни, оставь лагерь вместе с больными, ранеными и ослами на привязи, чтобы те ревели. Этим людям объяви, что, пока ты будешь совершать нападение на скифов, им надлежит охранять лагерь. Тем временем с теми, кто сохранил силы, иди к Истру, пока ещё не разрушен мост и путь туда не преградили враги.
Царь тяжело вздохнул.
— Да будет так, — произнёс он и призвал к себе начальников отрядов, чтобы отдать распоряжение.
«Сам сказал...»
В лесхе сидели двадцать акусматиков, занимавших первые три скамьи. Эвримен, общаясь с ними ежедневно, знал каждого в лицо, но ни разу не слышал их голосов.
Нс услышал он их и сейчас, ибо, когда он сел на кафедру, все голоса слились в один выдох разочарования. И он вспомнил слова Пифагора: «Теперь о самом тяжком».
— Друзья мои, — начал Эвримен, — мне ли не понять ваших чувств. Весь год каждый из трёхсот шестидесяти четырёх дней слышать голос Учителя и через него познавать сокрытую от смертных гармонию сфер, ждать, когда же настанет триста шестьдесят пятый день, когда можно будет узреть божественный лик... И вот — вместо него я, кого вы видите каждый день. Но знайте же: Учитель среди вас. «Я буду с ними» — это его подлинные слова, последние, которые он произнёс, прощаясь. И я передаю их вам, сидящим здесь. Я вспоминаю ваш первый день, когда в этой лесхе не было ни одного пустого места и занавес скрывал от ваших глаз эту кафедру. Не всем оказалось под силу то, что преодолели вы. Двенадцать из выдержавших первое испытание, сделавшее вас учениками, покинули нас по собственной воле. С тремя пришлось расстаться за несоблюдение правил. Поэтому вам, дождавшимся этого дня, есть чем гордиться.
По рядам прокатилось разноголосое жужжание, которого в дни обычных занятий не услыхать.
— Этот день, — продолжал Эвримен, — возвращает вам речь, которая могла бы помешать сосредоточению мыслей и стать преградой на первом из трёх отрезков вашего пути к Истине. После осеннего отдыха вы возобновите обучение и теперь, твёрдо познавшие основы, сможете двигаться вперёд уже не безмолвно — вы будете общаться с Учителем, задавать вопросы и высказывать свои мысли, вы будете спорить друг с другом и предлагать собственные задачи, вам будут разрешены отлучки — в общем, начнётся новая жизнь. А через два года мы вновь встретимся в этой лесхе. Мы простимся с вами, и вы, обогащённые мудростью и умеющие хранить её от посторонних ушей, разойдётесь по домам, вернётесь в свои города к родителям и друзьям, с нетерпением вас ожидающим. И в этот день вы услышите имя лучшего из вас, кому будет дано право остаться здесь навсегда, чтобы называться математиком. А теперь — слово вам. Я знаю по себе, сколько за время молчания появилось мыслей и вопросов. Сейчас вы можете задать первые из них. Я попытаюсь на них ответить.
Эвримен оглядел лесху и, заметив слегка приподнявшегося с места юношу, сказал:
— Я вижу, Керкоп, хочешь начать ты?
— Учитель говорил, что луна оказывает влияние на прибой. А почему в океане прибой больше, чем в нашем Внутреннем море?
— Твой вопрос, Керкоп, принадлежит к числу тех, ответ на которые не может быть дан тотчас. Требуются исследования, и они могут занять многие годы. Пока же прими сказанное за данность.
— Братин! — обратился Эвримен к юноше, нерешительно поднявшему голову и сразу же опустившему глаза. — Я вижу, ты не решаешься задать свой вопрос. Смелей. Сейчас можно задавать любые вопросы. Спрашивай, — подбодрил его Эвримен.
Юноши начали перешёптываться.
Эвримен поднял руку, призывая к тишине.
— Учитель говорил, — смущённо произнёс Братин, — что каждый из бессмертных богов олицетворяет определённую фигуру. Как это понять? Чем Афина напоминает треугольник или Зевс — квадрат?
Лесха замерла в ожидании. Видимо, этот вопрос мучил не одного Братина. Эвримен задумался, но через мгновение твёрдо произнёс, отчеканивая каждое слово:
— Не обязательно всё понимать. Главное — запомнить сказанное. Ведь так сказал Сам.
До позднего вечера лесха гудела, как растревоженный улей. Юноши торопились задать накопленные за время молчания вопросы, подчас начинали спорить друг с другом, и, если бы Эвримен не напомнил, что приблизилось время сна, разговоры продолжались бы до рассвета. Но и утром, когда Эвримен направлялся к воротам, чтобы проследить за передачей караула, из общежития акусматиков доносился гул голосов.
Наваждение
И вот уже весна, сбросив на помолодевшие луга своё украшенное алыми маками покрывало, воспарила в горы и скрылась из виду, давая о себе знать издалека грохотом снежных обвалов и бешенством разлившихся ручьёв. Квадратное потолочное отверстие атрия, заголубев, призвало Пифагора в путь. Тефарий Велиана посоветовал Пифагору посетить Кортону, назвав её древнейшим городом пеласгов.
Кортона, как и все другие тирренские города, расположилась на холме, возвышавшемся над идущей под уклон равниной, напоминавшей фессалийскую, но там не было холмов, разбросанных таким образом, словно какое-то божество предназначило их для полисов с примерно равной по размерам округой. Кортона захватила холм более крутой, чем другие. Пока Пифагор поднимался к видневшимся в тумане стенам, хлынул дождь, какого ему никогда ещё не приходилось принимать на себя поздней осенью, — тёплый, ласковый. Он прекратился так же внезапно, как начался, и Гелиос, пробившись сквозь тучи, поставил прямо перед глазами голубую чашу озера, о котором Пифагор слышал от Тефария, но не подозревал, что оно находится так близко от Кортоны. Казалось, стоит протянуть руку — и можно будет коснуться пальцами его поверхности.
И снова Пифагор, как тогда по пути в Посидонию, был охвачен ликованием, словно бы ему удалось разгадать одну из давно мучивших его загадок природы.
«А что, если когда-нибудь, — думал он, — удастся перенести образ на мрамор и получить отпечаток этого изумительного зрелища с помощью глаза Гелиоса и художником станет свет, охватывающий нас своими невидимыми волнами? Свет может проникнуть и через твёрдые предметы и выявить структуру материи».
Пифагор оглянулся. Озеро скрылось за скалами. Из ущелья стал подниматься туман. И вдруг в его струях мелькнуло лицо Родопеи, словно бы обращённое к нему с мольбой.
«Ведь я никогда не вспоминал о тебе, — думал Пифагор. — Тебя вымыло время. Случайное ли это явление, или какое-либо страстное желание может преодолевать пространство? Так что же ты мне хочешь сказать?»
Спасение
Адраний, раненный скифской стрелой в предплечье, пришёл в себя ночью от крика ослов. Перебросившись несколькими словами с наёмником, ослабевшим от болезни, Адраний понял, что их бросили. Напрягая силы, он пополз по траве, стараясь как можно дальше удалиться от лагеря, ибо был уверен, что скифы, узнав о бегстве царя, ворвутся и перережут всех. Древко стрелы он сумел обломать и надеялся при свете дня вытащить наконечник. «Этот оказался без яда», — подумал он и мысленно возблагодарил паликов.
На расстоянии полустадия от вала трава была столь же высокой, как на лугу под Энной, где, по поверьям эллинов, бог смерти похитил дочь земли Персефону. Когда рассвело, Адраний позволил себе отдохнуть. Вопли ослов стали глуше. «Видимо, скифы ещё не обнаружили хитрости», — подумал он.
Продвигаясь, Адраний машинально вспоминал названия приминаемых телом растений. «Вот это ползучая ароматная трава — тимьян. Это шалфей. Если выпить его с вином, возбуждает эрос. Это змеевик. Если потереть его корнем руки, змея не укусит. Это василёк. Если подмешать его сок к дурману, можно свести с ума. Это диктамин. Его охотно едят козы. Вот бы им здесь было раздолье...»
Адраний прополз ещё несколько шагов. «Это лебеда. А вот цветок Адрана. Эллины называют его маком. Им лечат священную болезнь. А это мята. Овцы, наевшись её цветов, начинают блеять. А вот и таксия».
Адраний надломил стебель и смазал его белым соком рану. Рука уже посинела. Адраний приложил таксию к ране и привязал её оторванным от хитона лоскутом. Взгляд уловил повисшего на былинке зелёного кузнечика. Человек и насекомое смотрели друг на друга, не шевелясь. То ли от неподвижности, то ли опьянённый запахами степи, Адраний задремал.
Пробудился он от конского топота и прижался к земле, чтобы с нею слиться. Но примятые травы выдавали его. Всадник спешился и, приблизившись, приложил ладонь к лопатке.
— Да ты ещё дышишь! — услышал он эллинский возглас.
Сильные руки перевернули его. Адраний открыл глаза.
На воине был короткий хитон и кожаные скифские штаны. Но облик у него был не скифский.
— Кто ты? — спросил скиф.
— Адраний.
— Странное имя.
— Я сикел. Отца моего зовут Дукетием, а брата Тиларом. Ты меня убьёшь?
— Нет.
— Но всё равно мне не выжить. У меня посинела рука. Если бы ты смог передать брату в Кротон...
— Ты из Кротона?! — обрадованно воскликнул спаситель.
— Нет, из Энны. В Кротоне мой брат. Он учится у Пифагора. Наш отец был кормчим на кораблях Пифагора, когда они покидали Ливию. Пока Тилар молчит и изучает арифметику.
Всадник покачал головой:
— Да ты бредишь.
Он поднял Адрания и перекинул его обмякшее тело на круп коня.
И вот Адраний уже покоится на спине коня, обняв его голову и уткнувшись лицом в жёсткую гриву.
Сзади зашумело, и он уловил гудение рогов, ликующий вопль «а-ля-ля!» и стоны добиваемых. Скифы ворвались в лагерь.
— Им теперь не до нас, — донёсся до него голос. — Надо ведь не только собрать добычу, но и отрубить головы, связать их, чтобы доставить царю. Кто притащит больше голов, получит большую долю добычи.
Поручение
Они полулежали у костра. Залмоксис время от времени подбрасывал в огонь еловые ветки. Вспыхивая, они бросали алые блики на похудевшее, обросшее волосами лицо Адрания.
— Вот ты и встал на ноги, — весело проговорил Залмоксис. — Хоть снова в бой. Но твой наниматель давно у себя в Сузах. Еле ноги унёс. Вряд ли ему сейчас потребуется чья-либо помощь. Мне же пора к моему блуждающему племени.
Залмоксис пошевелил палкой не желавшее загораться поленце.
— А из какого ты племени?
— Из крестонеев. Увёл я их от персов в эти лесные просторы, недоступные даже скифам. Будем жить среди гелонов.
— Подходящее имя для живущих в стране холодов[76], — вставил Адраний.
— Морозы для жизни не помеха, — возразил Залмоксис. — Они превращают реки в ледяные дороги, по которым передвигаются пешком и на конях, доходя до земли гипербореев. В реках тьма рыбы, а в лесах — зверья. Гелоны сеют хлеб и разводят пчёл в дубовых колодах. У них всё из дерева — дома, храмы и городские стены. Там я буду жить. Тебе же пора возвращаться на свой остров. Путь, скажу тебе, неблизкий. Но раз тебя смерть не взяла, ты и эту дорогу осилишь. Пройдёшь через леса и долы к высоким снежным горам. Их называют Альпами. Перемахнув через них, окажешься на огромном полуострове, населённом множеством племён. Тебе его весь пройти или вдоль побережья проплыть надо, чтобы попасть к проливу, отделяющему материк от Сикелии. Кротон будет рядом — повидаешься с братом...
— У него как раз срок немоты кончится. Вот наговоримся всласть! — мечтательно проговорил Адраний.
Залмоксис выкатил из костра почерневшее поленце, и Адраний по вырезу шеи и щели для рта понял, что это идол.
— У скифов научились, — усмехнулся Залмоксис. — Но камня здесь не найти. Сотворили мой образ из дерева и обмазывают кровью жертвенных животных.
Залмоксис толкнул брёвнышко в огонь.
— Сначала, если я надолго исчезал, юношей убивали как гонцов ко мне, а теперь некоторые задумали меня съесть. Так что не завидуй богам, Адраний. Ох, как тяжко быть богом даже маленького племени, а представь себе, каково там Пифагору.
— А он бог? — спросил Адраний.
— Бог, спустившийся к людям, чтобы раскрыть им глаза на мир и на самих себя. Он и внешне похож на олимпийца. Но знал бы ты, сколько мук и страданий спрятано за видимым спокойствием. И я это вижу, несмотря на разделяющее нас расстояние. Передай это Пифагору, оставшись с ним наедине, и скажи ему, что он должен покинуть Кротон.
— А он мне поверит?
Залмоксис потянулся к мешку и достал оттуда бронзовую пирамидку стрелы.
— Вот что я извлёк из тебя. Скифский дар. Ударившись об кость, наконечник изменил форму и стал походить на пентаграмму. Покажешь Пифагору этот знак.
Адраний упал на колени. Лицо его покрылось слезами.
— Ты и впрямь бог, Залмоксис. Разве человек мог бы сделать для человека такое! А я, дурень, нанялся людей убивать ради золота. И вот уношу эту бронзу. Клянусь паликами, никогда я больше не возьму оружия и не позволю этого сделать моим будущим детям. Своего первенца я назову Залмоксисом и лишь второго — в честь отца Дукетием. В моём роду больше не будет имени Адраний, ибо Адран — бог войны. А твоё поручение я выполню во что бы то ни стало.
Часть VI ЗАТМЕНИЕ
Горизонт стал чернее, чем уголь,
Наступила последняя мгла,
Чужаки нас задвинули в угол.
Кто сказал, что Земля кругла?
Кто живёт по своим законам?
Кто посеял мрак на Луне?
Это те, что в доме Милона, —
Пусть сгорают они в огне.
Элея
Пифагор оказался в гавани Элеи на заре и с головой погрузился в стихию трижды прекрасной ионийской речи. Судя по сливавшимся в хор возгласам купцов, принимавших с кораблей товары, фокейцы, ради свободы обрёкшие себя на скитания, наконец нашли в этой ограждённой невысокими горами бухте надёжное убежище.
С кормы готовившегося к отплытию корабля свисал якорь невиданной формы из трёх изогнутых когтей, наподобие лапы хищной птицы.
— Откуда судно? — крикнул Пифагор кормчему.
— Из Грависок, — ответил тот.
Вглядевшись, Пифагор различил на деревянном стержне три знакомые буквы: «СОС». Заметив любопытство Пифагора, кормчий добавил:
— Железная хватка. Никакая буря не сорвёт.
На другом корабле внимание Пифагора привлекла обезьянка, совершавшая головокружительные прыжки от реи к рее. Матрос на палубе позвал: «Арима», и животное прыгнуло ему на плечо. Пифагор, знавший, что «арима» по-тирренски «обезьяна», к удивлению кормчего, заговорил на его родном языке.
Разговорившись с отдыхавшими на берегу людьми, судя по облику — фракийцами, Пифагор узнал, что в Элее требуются каменщики и плотники и сколько платят за день. Ему было лестно, что его приняли за своего.
Когда Пифагор покидал гавань, солнце стояло уже высоко, и он достал из котомки петас. Он не стал спрашивать, где агора, а двинулся вслед за такими же босоногими, как он, рыбаками, нёсшими на плечах корзины с рыбами, лениво бившими хвостами. У рыбного ряда он от них отделился и направился к недостроенному зданию, по внешнему виду городского совета. Но, пройдя десятка два шагов, он услышал голос и потянулся на него, как судно на маяк. Незнакомец рассуждал о строении космоса. «Конечно же это Ксенофан!» — подумал Пифагор и прислушался.
— Солнце вытягивает из солёного моря пресную влагу, которая превращается в туман и скучивается в облака, проливающие дожди. Море — источник воды. Когда-то оно покрывало всю Европу. Вам нужны доказательства? Близ Сиракуз имеется скала с отпечатком тюленя, в горах во многих местах находят морские раковины. Всё живое непрерывно гибнет, подобно тому как земля, погрузившись в море, становится илом, чтобы потом из него возродиться. И так бывает во всех мирах.
Дождавшись, когда Ксенофан закончит свою речь, Пифагор приблизился к нему.
— Пифагор! — обрадовался колофонец. — Наконец-то мы сможем продолжить прерванную беседу!
— Тогда пойдём на берег, здесь слишком шумно.
Ветер освежал лицо. Прибрежная галька и мелкие раковины скрипели под их ногами.
— Ты с корабля? — поинтересовался Ксенофан.
Пифагор поднял голову и обвёл взглядом край неба.
— Дожди, порождаемые облаками, смыли с моих губ привкус морской соли. Я пешком обошёл эту неведомую мне страну и прямо от тебя возвращаюсь в свой храм Муз.
— А я его посетил, — усмехнулся Ксенофан. — Мне он напомнил крепость. У ворот страж. Спрашиваю: «Можно войти?» Мотает головой. «Здесь ли Пифагор?» Опять мотает.
Лицо Пифагора растерянно вытянулось.
— Не может быть!
— В Метапонте, — продолжил Ксенофан, — я встретил одного из твоих учеников, очень общительного юношу. С обожанием он говорил о тебе. Но когда я попытался выяснить, чему ты учишь, он мгновенно замкнулся, словно бы невидимой стеной.
— Чему я учу? — повторил Пифагор. — По сути дела, тому же, что и ты. Но пути учения у нас разные. Иная система. В Индии, где я был, учитель, чтобы знание не достигло слуха непосвящённых, удалялся со своим учеником в лесную глушь. Только так можно нащупать следы знания, сохранённого душой в её вечных странствиях.
— Так вот где истоки твоей мудрости! — воскликнул Ксенофан. — Её породила Азия. И в Египте, который я обошёл, знание — достояние одних жрецов, которые, пользуясь этим, творят что хотят. Но мы, Пифагор, европейцы. Знания у нас на кончике языка. Выпустив их наружу, мы обогащаем окружающих и становимся сильнее сами.
— О нет, Ксенофан, я так не думаю. Неразумно распыляя знание, мы открываем его иссушающим ветрам. А добываемые с такими усилиями истины оказываются захватанными равнодушными руками, как выставленный на агоре товар. Разуму нужен свой акрополь, с крепкими стенами и зданиями, построенными по законам геометрии. Кого может воспитать сумбур агоры?!
— Но ведь стены — путь Поликрата, Пифагор! Надо ли тебе напоминать, к чему это привело?!
Пифагор бросил на собеседника иронический взгляд:
— Можно спорить о том, как лучше обучать юношей — на агоре или за стеной, но согласись со мною, что прежде всего нужно понять, на что направить силы их ума.
— С этим я не спорю. Если мы поймём, что наши представления о богах ложны, мы откроем себе глаза на то, каков мир на самом деле.
— Это не так, Ксенофан. Представь себе, что ты находишься в помещении, закрытом непроницаемым занавесом, и тебе говорят, что за этим занавесом боги. Ты занят тем, чтобы сорвать его и показать, что за ним — пустота. Но ведь ты прекрасно знаешь, что, живя в изначальной темноте, мы вообще ничего не могли бы узнать ни о том, что находится за занавесом, ни о самих себе. А такие знания существуют в нас самих. Значит, они даны нам кем-то из-за занавеса...
Ксенофан резко повернулся:
— Не потому ли у себя в школе ты учишь из-за занавеса?
— И если существует внутренний, независимый от богов источник знаний, — продолжал Пифагор, словно не услышав вопроса, — то следует признать, что есть нечто в нас самих такое, чему пришлось побывать на свету до того, как оказаться в темноте.
— Но ведь это очевидно.
— Очевидность также требует доказательств, — возразил Пифагор. — Вспомни доказательство Фалесом того, что диаметр делит круг на две части. Так вот. Темнота — это наше тело, которое не в состоянии ничего узнать ни о себе, ни о том, что в небесах, ни о том, что под землёй, ни о том, что было в прошлом. Знанием обладает наш разум или наша душа — назови как угодно. Это нечто, чего мы не в состоянии взять в руки и понять, что это. Но оно существует. И главная задача того, что я называю философией, давно уже определена: познай самого себя, но не в смысле постижения своего тела, а в смысле познания возможностей, какими обладает душа, и их расширения путём углубления в прошлое. Вот этим я и занимаюсь, Ксенофан. Не призываю сорвать занавес, чтобы узреть пустоту, а пытаюсь понять, что было до мрака и как мы в нём оказались.
Помолчав, Пифагор продолжил:
— Теперь о занавесе в моей школе. Ещё до того, как ты напомнил о нём, я узнал из твоих мыслей о юноше, бывшем моём ученике, с которым ты встретился. Занавес мешает моим ученикам видеть моё лицо. И я в эти мгновения не вижу их лиц, но я улавливаю их дыхание и знаю о каждом из них больше, чем они знают о себе сами. Вот и всё, Ксенофан. Мы объяснились.
Двенадцатилетие
Было уже далеко за полночь, но старшим ученикам не спалось. Они уединились на холмике близ огромной кучи камней, откуда открывался вид на храм Муз, общежитие и приютившийся в саду домик Пифагора. Из общежития доносился храп.
В общежитии не горел ни один светильник. Выполнив дневные задания, молчальники, которым запрещалось покидать помещение после захода солнца, спали или лежали с закрытыми глазами, погруженные каждый в свои мысли.
Эвримен бросил взгляд на почти полную луну.
— А ведь через три дня полнолуние. Ровно двенадцать лет назад мы пришли сюда с Пифагором.
— Так это же юбилей! — воскликнул Филарх.
— Но Пифагор любит больше всех чисел десятку! — вмешался Хирам.
— Можно было бы назвать и девятку, — возразил Эвримен, — в его первой жизни отдавалось предпочтение девяти. Об этом было известно Гомеру. Вспомни его слова о Миносе: «В девятилетие раз общаясь с великим Зевесом...» Но и девятилетие, и десятилетие прошли. Давай думать не о прошедшем, а о настоящем.
— Ты прав, — согласился Филарх. — И какой же подарок мы приготовим Учителю?
Порыв ветра вырвал из рук Хирама свиток.
— Придумал! — закричал юноша, бросаясь к рукописи. — Мы решим какую-нибудь трудную задачу к его воз вращению.
— Ну, это мы делаем всегда, — возразил Эвримен. — А что, если написать хронику нашей школы, начиная с первого её дня?
— Пожалуй, это неплохая мысль, — проговорил Филарх, — но тогда придётся писать эту хронику тебе, Эвримен, — ведь только ты помнишь самые первые дни.
— Да, здесь, в Кротоне, я первый из учеников, но до меня ещё на Самосе у него учился Метеох. Там не было школы, и занятия проходили в настоящей пещере.
— И ещё Залмоксис, — вставил Хирам.
— Да нет! — перебил Эвримен. — Залмоксис был рабом Учителя. Но это не помешало Самому любить его, как сына. Я не раз слышал, как во сне из уст Учителя вырывалось это имя.
— И каким же всё-таки был первый день нашей школы? — спросил Филарх.
Эвримен на мгновение задумался.
— Пришли мы, — начал он, — на этот склон и обмерли. Весь он был покрыт камнями, большими и малыми. В лунном свете они казались головами выходящих из земли гигантов. Только одно дерево, и под ним небольшой источник. Принялись мы вдвоём камни вытаскивать и переносить вот в эту кучу. Трудились до вечера, а камней вроде бы не убавилось. Послали за Милоном, потому что многие камни мы и вдвоём сдвинуть с места не смогли. Видели бы вы, с какой лёгкостью он их вытаскивал и бросал — словно диски в палестре. И выросла эта герма. Ведь в той жизни, когда Учитель был Эвфорбом, гермой называли не столбик с головой Гермеса, а кучу придорожных камней, которая росла по мере того, как мимо проходили путники. Всё это я могу записать, дойдя до гибели Милона. А кто меня сменит? Ты, Тилар?
— Да нет. У меня не получится. Но я подумал — у нас храм Муз. Почему бы нам не иметь их изображений? Это должно обрадовать Учителя.
— Прекрасная мысль! — воскликнул Филарх. — Но как ты себе их мыслишь? Не такими же, как описал Гесиод?! Ведь наши Музы вдохновляют нас на серьёзные занятия. И я не знаю, где ты отыщешь ваятеля, который мог бы воплотить идею в камень или в бронзу.
— Или в дерево, — вставил Тилар.
— Допустим, в дерево. Где ты отыщешь Дедала?
— Я хочу попробовать сам, — сказал Тилар не сразу. — В детстве я вырезал фигурку нашего древнего царя Кокала, гостеприимца Дедала. Я вырежу только одну Музу. Я уже вижу, какой она будет. И если моя работа вам понравится, мы её поставим в библиотеку.
— Работай, — проговорил Эвримен. — Но тогда кто же продолжит хронику?
— Мы все, — предложил Хирам. — Пусть каждый вспомнит по годам и, если удастся, по дням открытия, которые за это время совершил Пифагор и все мы. Это будет хроника открытий, а не воспоминания. А потом мы соберёмся и сведём всё воедино.
— А помнишь, как, глядя через отверстие занавеса на приведённого к нам мальчика, он сказал: «У него священная болезнь», и не понадобилось зажигать гагата.
— Да, это удивительный человек, — сказал Эвримен. — Во время зимовки в Кротоне мы обсуждали, на каком расстоянии поместить городок, чтобы ученикам не приходилось далеко ходить в храмы. Тогда я подумал: «Какое это имеет значение, если он сам храм, хранилище божественной силы». И он, прочитав мои мысли, сказал: «Нет, Эвримен, в самом городке должно быть священное место, чтобы никто не мог нас, как Ксенофана, назвать безбожниками».
— Он поразил меня ещё в Афинах, — вставил Филарх. — Ведь он не излагает чужих мыслей, а разворачивает собственные суждения и доводы с такой убедительностью, что ты ощущаешь себя частью его воинства и готов, не рассуждая, следовать по указанному им пути.
— А что мы скажем ему о новом наборе? — спросил Хирам.
Наступила тишина.
— Не будем говорить, — отозвался Эвримен. — Ведь ему и так тяжело.
— Тяжело? — удивился Хирам.
— А как ты думаешь? Ведь он живёт не только в этой жизни, но и во многих прошлых, а может быть, и будущих. Сколько же у него волнений и беспокойств не только за таких, как мы, но и за тех, кто остался там, и за тех, кто ещё не родился. Я думаю, он нас потому и оставил, чтобы хоть немного облегчить свою ношу.
— Но ведь о наборе он всё равно узнает, — возразил Тилар.
— Пусть не от нас.
Раскол
Этот день надолго запомнился не только метапонтийцам, но и многим жителям Южной Италии, которую через некоторое время назовут Великой Элладой. В Пританее собрались те, кто начал учиться у Пифагора, но покинул его школу по тем или иным причинам. Всех их, разбросанных по разным городам, собрал Гиппас при содействии городского совета Метапонта.
— Друзья мои, — обратился Гиппас к собравшимся, — помните, как Пифагор убеждал нас в противоположности создающих природу начал, одновременно исключая что-либо противоречащее его взглядам? У нас не было возможности не только спорить с Пифагором, но даже обсуждать сказанное им. Мы должны были подчиняться всем его акусмам — обуваться с правой ноги, а мыть сперва левую, уходя — не оглядываться. Ныне мы от всего этого свободны и открыты для истинного знания. Мы будем строить собственный храм Муз, без общности имущества, без обета молчания, без деления на математиков и акусматиков, но сохраняя пифагорейскую сплочённость и дружбу, пифагорейскую страсть к знанию.
Слово взял Килон.
— Я не умею отрываться от земли, проходить сквозь стены, — начал Килон при глухом ропоте лесхи. — Но, не обладая способностью читать чужие мысли, я догадываюсь, что вы думаете обо мне. Вы считаете меня недругом вашего учителя и полагаете, будто я пришёл, чтобы добавить ожесточения к вашим сомнениям и вашему недовольству, заставившему вас здесь собраться. Нет. Я пришёл, чтобы объяснить вам, какой опасности подвергаетесь вы и ваши друзья. Я скажу только о Кротоне, городе, где исполняю обязанности архонта. Я напомню, как был вначале принят кротонцами Пифагор, выставлявший себя сторонником наших обычаев и законов, обещавший воспитывать юношество в верности им. Ему даже вручили ключ от города, сделав его почётным гражданином, многие кротонцы помогали строить вашу школу, многие состоятельные граждане, в том числе и мой отец, дали немало денег на постройку стен. И что же?
Послышались выкрики, то ли одобрительные, то ли враждебные. Овладев вниманием слушателей, Килон продолжил:
— Вопреки собственным обещаниям, он поставил свои правила, свой образ жизни выше обычаев полиса. Моим согражданам трудно понять премудрости, каким учит Пифагор. Но они знают, что в Тёплых Водах живут по установленным им законам, что учеников лишают возможности общаться с родителями и в течение долгого времени они вынуждены молчать. Им известно, что у Пифагора в Кротоне и других городах имеется множество сторонников, с которыми он общается с помощью тайных знаков. А ведь любой эллин знает, что открытость — основа жизни каждого полиса, если только им не правит тиран. Именно поэтому всё тайное порождает слухи. Так, многие уверены, что Пифагор колдовством лишил Милона силы, ибо до того, как тот познакомился с ним и стал его учеником, он не знал поражений. И хотя дом Милона уже при его жизни стал местом сборищ пифагорейцев, болтают, будто Пифагор захватил дом вопреки воле Милона, оставив без приданого его дочь. Старики вспоминают Демокеда и уверяют, будто самосец с помощью того же колдовства освободился от соперника и даже погубил своего покровителя Поликрата.
И снова взял слово Гиппас:
— Друзья мои! Вспомним, чему нас учили: через весы не шагай, то есть не допускай чрезмерности. Создавая собственный свободный храм Муз, мы хотим распространять мудрость, а не ненависть к нашему Учителю. Давайте же займёмся делом. Совет Метапонта выделил для храма Муз участок за городом близ священной рощи Аполлона, а владельцы кораблей собрали три таланта серебра — ведь они понимают, что сыновей надо учить, но посылать в Кротон, к Пифагору, не хотят. Ксенофан обещал побеседовать с первым набором. Мы будем выслушивать и другие мнения, но никогда не забудем, что мы пифагорейцы.
Вплавь
Уже во время посадки на судно, следовавшее из Посидонии в Сибарис, Адраний обратил внимание на трёх державшихся вместе юношей. Устроившись под мачтой, они завязали беседу. По их вещам, далёким от торговли, и часто повторяющемуся имени «Пифагор» Адраний понял, что это его попутчики. Один из них, судя по тоге, был тирреном или ромеем, двое других по виду показались ему самнитами. «Хорошо, что не одни эллины будут рядом с братом», — подумал он с удовлетворением.
Дождавшись, когда они наговорятся, Адраний подошёл к мачте.
— Что же вы замолкли, друзья? — сказал он. — Ведь скоро, как мне кажется, вам придётся посадить языки на привязь.
Обернувшись, юноши удивлённо взглянули на незнакомца и его варварское одеяние.
— Это нас не пугает, — наконец отозвался один из самнитов.
— Лишь бы не возвратиться ни с чем. А ты сам кто? Откуда знаешь об обете молчания?
— Ветер поднимает не одну пыль. Слухами ойкумена полнится, — ответил сикел. — Зовут меня Адраний. Я из Скифии, где был воином царя царей Дария.
Самнит, что постарше, недоверчиво улыбнулся:
— Неужто и в Скифии о Пифагоре знают?!
— Кое-кто знает. Повстречался мне там удивительный человек. Ему я обязан жизнью. Так вот. Верьте мне или не верьте, он на таком огромном расстоянии обменивается с Пифагором мыслями.
— Конечно, верим! — подхватил младший из юношей. — Пифагору доступно всё.
— Мой брат учится у него, — продолжил Адраний. — Его приняли в школу без испытаний. Я собираюсь к нему.
Разговор о Пифагоре не иссякал до самого Регия, и почти не осталось времени для рассказа о великом походе Дария и его провале. Адраний успел лишь рассказать о переходе через Данувий, когда судно вошло в бухту Кротона.
Уже издали стало видно, что мол заполнен толпой.
— Не нас ли собираются приветствовать эти люди? — предположил тиррен. — Я слышал, кротонцы кичатся тем, что в их городе живёт Пифагор.
Адраний, сдвинув край паруса, впился глазами в приближающийся берег.
— Не похоже, — сказал он. — Да и откуда бы им знать, что на корабле желающие учиться?
— Да ведь набор в школу происходит в одно и то же время! — перебил тиррен. — Я слышал, что это девятый набор.
— Смотрите! — неожиданно воскликнул другой юноша. — В руках у некоторых палки. Они ими грозят. Наверное, нас приняли за пиратов.
Враждебность толпы не осталась не замеченной и кормчим. Он повернул судно так, чтобы оно шло к молу под острым углом. Вскоре стали слышны выкрики:
— Убирайтесь вон, пифагорейские щенки!
Брошенный кем-то камень едва не долетел до борта.
Кормчий, оставив весло помощнику, подошёл к юношам.
— Взбесились... — проговорил он, кинув взгляд на берег. — Кроме вас, в Кротоне никто не сходит. Я не стану рисковать.
Когда судно достигло горловины бухты, Адраний подошёл к борту, протянул руки к воде и воскликнул:
— Помоги мне, Нестис!
С этими словами он бросился в море.
— Куда же ты, безумец? — закричал кормчий. — Я бы высадил тебя в Сирисе, откуда за полдня добрался бы до своего Пифагора!
Обратившись к юношам, он добавил:
— Вы-то, надеюсь, не попрыгаете в волны?! К вечеру будем в Сирисе.
Юноши, не отводя взгляда от пловца, молчали.
Наконец один из них удручённо проговорил:
— Что касается меня, я лучше вернусь обратно.
Муза
К вечеру того же дня Адраний был уже в объятиях брата.
— Где твои педилы? Почему ты мокрый? — удивился Тилар.
— Дай же во что-нибудь переодеться!
Увидев в углу полотно, накрывавшее какой-то предмет, Адраний решительно направился к нему. Но Тилар преградил дорогу. Сорвав с себя хитон, он кинул его брату.
— Оденься. И скажи, что стряслось?
— К вам иначе чем вплавь не доберёшься. Но веди же меня скорее к Пифагору. У меня для него новости.
Тилар бросил на брата снисходительный взгляд:
— У тебя?! Не из страны ли гипербореев?
— До этой страны я не дошёл, — ответил Адраний, не замечая иронии. — А о моих новостях дано узнать только ему самому. Что же стряслось, ответь лучше ты. В прошлый раз кротонцы долго растолковывали мне, как сюда пройти, расспрашивали, кого я собираюсь навестить, показали мне дорогу, а теперь забросали камнями. Трое юношей, бывших со мной на корабле, видимо, отказались стать учениками Пифагора. А где он сам?
Тилар прошёлся по комнате.
— Хорошо. Попытаюсь тебе объяснить. Отбирая способных учеников и заселяя ими этот городок, Пифагор продумал всё, что может скорейшим путём привести к вершинам знания, и прежде всего установил строгую дисциплину. Он полагал, что таким образом создаст полис единомышленников. Но талант и повиновение — свойства, не всегда совместимые. Некоторым захотелось прийти к цели своими путями, другим трудно было отказаться от потребностей тела и выработанных с детства привычек. Элементы распада не ускользнули от кротонцев. Укрепившись благодаря советам Пифагора, они стали тяготиться его вмешательством в полисные дела. Кто-то начал уверять, что он хочет распространить порядки живущих за этими стенами на Кротон и другие города. В нас стали видеть не учёных, а тайных заговорщиков. К тому же гибель Милона...
— Что я слышу! — воскликнул Адраний. — Милон погиб! Я его никогда не увижу!
— Не увидишь. Да не перебивай, а постарайся понять, что и гибель Милона при всей своей нелепой случайности объясняется тем же, что и другие обрушившиеся на нас бедствия. Пифагор не принял во внимание человеческую природу. Милон же засунул руку в расщеплённое дерево и, скованный им, стал добычей волков.
— Какой ужас! — вырвалось у Адрания.
— Вот и нам приходится иметь дело с волчьей злобой, брат. То, что я от тебя узнал, меня пугает. Но знай, что я никогда не покину Пифагора. Тебе же лучше навестить отца. Он у нас один.
— Но я же тебе сказал, что должен встретиться с Пифагором. Отправляйся в Энну ты. Тебе сейчас нечего делать, и вас тут много.
— Нечего делать?! — возмутился Тилар. — А это?
Он сорвал с удлинённого предмета полотно.
— Так ты снова взялся за своё, — проговорил Адраний, увидев статую. — Раньше ты вырезал старцев, а теперь... Не твоя ли это невеста? Какая серьёзная... И почему с палкой?
Тилар выпрямился и произнёс, выделяя каждый слог:
— Со свитком, а не с палкой. Это Муза, покровительница знаний.
— Ах да. У вас храм Муз... А что им приносят в жертву?
— Всего себя.
Разведчик поневоле
Прошло десять лет с тех пор, как Демокед был назначен Великим Врачом. Царь доверил ему главное из своих достояний — здоровье. Слава Демокеда распространилась не только по всей Персии, но и за её пределами. Не раз направляли цари самых отдалённых земель Дарию послов с просьбой прислать «кудесника» — так называли повсюду Демокеда, — чтобы оказать помощь. Но Дарий, не утруждая себя выбором выражений, отвечал всем одинаково: «Брат мой, проси у меня золота, проси войско — и ты это получишь. Но мой лекарь не имеет цены и всегда останется при мне».
Птахотеп, каждодневно общавшийся с Демокедом, видел, что господина не радует ни почёт, ни богатство, что он пребывает в постоянном беспокойстве и плачет по ночам. И пришёл он к Демокеду и, упав ему в ноги, проговорил:
— Господин мой и благодетель! Ты болен, и заболевание твоё опаснее того, от которого ты излечил когда-то царя царей. От него, как от любви, нет иного средства, чем удовлетворение желаний. Разреши дать тебе совет. Обратись к Атосе и скажи ей, что тебя одолела тоска от пребывания на одном месте и ты хотел бы быть царским лазутчиком в земле эллинов. Она же, как женщина, найдёт способ тебе помочь.
Как раз в это время у Атосы на груди появилась опухоль. Из стыда она это скрывала и обратилась к Демокеду, когда опухоль уже сильно разрослась. Демокед взялся излечить дочь Кира, взяв с неё клятву, что она выполнит и его просьбу.
— Если она не будет постыдной, — сказала Атоса.
— Конечно, — ответил Демокед, принимаясь за лечение.
Ему и раньше приходилось сталкиваться с таким заболеванием, и он знал травы, способствующие рассасыванию нарыва. Собрав и приготовив отвар, он вскоре добился исцеления. И только после этого он поведал царице о гложущей тоске по родным местам и о готовности сделать всё, чтобы их увидеть и уговорить отца переехать к нему. И Атоса обещала переговорить с супругом.
В обычный день посещения царя она обратилась к нему с такими словами:
— Уже десять лет ты сидишь на золотом троне, который занимал мой отец, а после него мой первый муж Камбиз, но ещё не успел показать себя, как настоящий мужчина. Пора тебе явить мужество, пока ты не стар, ибо с возрастом не только ослабевает тело, но и ум становится непригодным для великих свершений.
Дарайавуш с удивлением посмотрел на Атосу:
— Что ты имеешь в виду?
— Войну с яванами, не признающими твоей власти.
— Над этим надо подумать, — ответил царь. — Всё как следует разузнать, найти искусных лазутчиков, которые смогут объехать яванские города и собрать сведения о тамошних настроениях и силах. Я знаю, что некоторые сами готовы мне покориться, другие же, называющие себя афинянами и спартанцами, злоумышляют против меня...
— А чего тут думать? — перебила Атоса. — Есть у тебя человек, который лучше всякого другого мог бы добыть сведения о яванах и в случае войны стать твоим проводником. Это наш Великий Врач, в преданности которого ты смог за эти годы убедиться.
Дарайавуш неодобрительно вскинул брови.
— Что ты такое говоришь?! Как же можно посылать того, без кого я не могу обойтись даже дня?! К тому же на него могут напасть и убить, как это сделали с прославленным яваном, соединившим Азию и Европу мостом.
— А ты пошли с Великим Врачом надёжную охрану и во главе поставь человека, который сможет разобраться во всём том, что пригодится для неизбежной войны с яванами. Ведь твои неудачи в Скифии объясняются тем, что ты плохо представлял себе скифов и их степи.
— Может быть, ты и права, — согласился Дарайавуш. — С Демокедом я, пожалуй, отправлю Мардония. Он хочет стать нашим зятем. Испытаем его на деле.
— Мудрое решение, — молвила Атоса. — Мардоний энергичен и хитёр, как змей. Он будет твоими глазами и ушами.
Наутро Дарий призвал к себе Демокеда и, указав на сиденье рядом с собой, обратился к нему с ласковыми словами:
— Исцелив меня, друг мой, ты не попросил ни золота, ни земли. Я тебе ничего не предложил, кроме золотых оков и покоев Великого Врача. Теперь в ознаменование твоих заслуг перед моим домом я хочу, чтобы ты побывал у себя на родине, повидал родных и друзей, о которых ты мне много рассказывал. Передашь подарок твоему отцу Каллифонту. Я правильно произношу это имя?
— Да, царь.
— Я дарю Каллифонту грузовой двухпалубный корабль финикийской работы, а ты можешь принести ему в дар всё, что захочешь, из своего имущества. По твоём возвращении я всё верну тебе сторицей.
Решив, что царь его испытывает, Демокед ответил:
— В этом нет необходимости. Мой отец стар. И ему хватит корабля, а мне — того, чем я уже обладаю благодаря твоей милости. К тому же, о царь, я не теряю надежды, что отец, особенно увидев почёт, каким я окружён, и корабль, который ты ему даришь, согласится покинуть вместе со мной Кротон навсегда.
— Тогда готовься к плаванию. Я не отправляю к эллинам послов. Сопровождать тебя будут мои слуги. Возглавит их мой племянник Мардоний. С ними ты оплывёшь всё побережье, не спеша осмотришь по пути в Кротон города, гавани и всё другое, что покажется им интересным. Если же спросят о спутниках, ответишь: «Это рабы, которыми меня одарил царь царей».
Демокед низко поклонился царю, и тот не смог заметить вспыхнувшего в его взгляде ликования.
Выпрямившись, он ответил буднично:
— Я сделаю всё, что в моих силах, ибо ты — мой господин. В стране эллинов есть много удивительного и заслуживающего внимания.
Праздник
Пифагор появился на заре в день, свободный от занятий, но застал математиков за рабочим столом. Увидев его, они просияли.
— Ну, что тут у вас? — спросил он, вглядываясь в лица. — Сознавайтесь.
— Мы решили отметить двенадцатилетие школы, — отозвался Хирам.
Подвижное лицо юноши отразило охватившее его волнение.
— Это неплохо, — сказал Пифагор. — Будни должны перемежаться праздниками. Но я вижу, что стол занят не фиалами с вином, а папирусными свитками.
— Но ведь это особый праздник, — возбуждённо заговорил Филарх. — Вот!
Он поднял со стола один из свитков и протянул его Пифагору.
Пифагор взял свиток и взвесил его на ладони.
— Имеет вес. А что внутри?
— Хроника двенадцатилетия.
— Так-так, — проговорил Пифагор, погружаясь в чтение. — Вот тут... написано, что я открыл свойство взрывной смеси. Но это же изобретение мегарца Эвпалина.
— Но он же унёс свой секрет в могилу и смесь была открыта заново благодаря твоему рассказу, — вмешался Хирам.
— Да, но открыта не мною...
— А если бы не твой рассказ о возможности такого вещества, его бы не открыть, — дружно зашумели ученики.
— Оставим это. Вот уже двенадцать лет мы вместе работаем, исследуя природу и распространяя знания. Но мы не приблизились к главной нашей цели — созданию полиса разума. Люди продолжают жить по дедовским неразумным законам, а у алтарей льётся кровь существ, имеющих душу. Пора приступить к делу, а не праздновать юбилей. В окружающем мире у нас много врагов, которые готовы использовать каждый промах. Не должно оставаться ничего того, что могло бы быть обращено против нас. Хронику сожгите. И впредь пользуйтесь для сообщений только словом. Знаком, отличающим вас, будет пентаграмма с треугольником в центре.
Наступила мёртвая тишина.
— Не надо вешать носа! — весело проговорил Пифагор. — Давайте я расскажу вам, что случилось со мной в Давнии.
— Да там же волки! — воскликнул Эвримен.
— Они мне не были страшны, — продолжал Пифагор. — Мне предречена иная кончина. Так слушайте же. Однажды, задремав в тени дерева, я проснулся от жаркого дыхания. Надо мной склонилась огромная медведица с шерстью необычной, желтоватой окраски, как у фракийских медведей. Вглядевшись в зверя, я почувствовал, что мне не надо притворяться мёртвым, чтобы спасать свою жизнь. Я осуждающе посмотрел на медведицу, и она, бросившись к моим ногам, стала лизать пальцы. Я до сих пор ощущаю шершавость её языка.
На лице Филарха отразился ужас.
— Ты же мог погибнуть!
— О нет. Опасность угрожала скорее ей, чем мне. Я долго думал, какую на неё наложить кару, и наконец сказал: «Слушай меня, преступница. С этого часа и дня я запрещаю тебе есть что-либо живое. Ты не коснёшься ни зайца, ни оленя, ни даже мыши. Твоей пищей будут мёд и травы. Ты будешь защищать стада от волков». В ответ она, виновато заскулив, побрела не оглядываясь, а я отправился своей дорогой.
Юноши заворожённо смотрели на учителя.
«О, будь он в тот день вместе с Милоном, — подумал Тилар, — беды можно было бы избежать».
— Да. Можно было бы, — отозвался на его мысль Пифагор. — Вы не захотели меня огорчать, а я узнал об этом ещё в Тиррении. Ведь нашего Милона чтят даже те, кого мы считаем варварами.
Реся
Первый раз после долгих лет вступив на палубу судна, Демокед был охвачен необыкновенным волнением. Словно бы подувший в лицо ветер возвратил его в юность, — её картины наплывали одна за другой. Персы не замечали его, он был пока им не нужен, ибо их не интересовали ни Финикия, ни Сирия, ни Кипр, а только берега, заселённые эллинами.
На седьмой день пути по правому борту мелькнул знакомый выгиб берега. Демокед рванулся к перилам. «Самос... — вспыхнуло в мозгу. — Мол Эвпалина. Вот и Астипалея. Но в каком она состоянии! Блеск ушёл вместе с Поликратом. Наверное, здесь будем набирать воду. Ведь это последнее из царских владений. Далее острова, принадлежащие Афинам. Вот и причал. Да! Именно здесь толпа провожающих желала Поликрату скорого возвращения. Вот Священная дорога, где я прогуливался с оправившимся после болезни Поликратом. В последний раз моим спутником был Анакреонт, и я вспоминал о своей встрече с Пифагором. Каким я был тогда глупцом, полагая, что и он болен! Но в том, что такие люди, как он, раздвигают горизонт не только знаний, но и несут бедствия, я был прав. Отец в последнем письме сообщает о ненависти кротонцев к тому, кому они в своё время вручили ключи от своих ворот и кого почитали как бога...»
В гавани стало куда меньше кораблей. Гетеры тогда были помоложе. Увидев сбегающего по сходням эллина, они бросились к нему. Накрашенные опухшие лица. «Сохранился ли подземный ход в Астипалею? — мелькнула мысль. — Персам ведь он ни к чему...»
Гелиотропий у входа на агору показывал полдень. «Наверное, простоим здесь до вечера и в это же время завтра будем в Афинах», — подумал Демокед.
На торжище толпилось не меньше людей, чем при Поликрате. Но никто не узнал Демокеда, никто не подошёл к нему, не поклонился.
«Конечно же, — с грустью думал Демокед, — новые люди... Уцелевшие от Отанова побоища расселились по другим островам».
Демокед оглянулся.
«Моя свита, — усмехнулся он, бросив взгляд на четырёх не отстававших от него персов, — или, точнее, телохранители»
Вдоль забора брела стая бродячих собак. «Вот это новое, — подумал он. — Раньше агораномы такого бы не допустили. Да и я бы настоял, чтобы истребили этих распространителей заразы. А теперь кто посмеет их тронуть. Священные твари Ахурамазды».
Неожиданно одна из собак с почти квадратной, оброс шей торчащими отдельно волосками мордой, отделившись от стаи, повизгивая, поползла к нему на брюхе. «Что ей надо?»
И вдруг Демокед не узнал, а скорее почувствовал, что это Реся, пережившая своего хозяина.
Слёзы хлынули из глаз Демокеда.
— Реся, Реся! — повторял он, и слёзы капали на облезлую шерсть. — Как он тебя любил! Что я могу для тебя сделать, Реся?!
Персы с удивлением наблюдали за этой сценой. Им было приказано докладывать Мардонию обо всех, с кем встречался или даже здоровался царский врач. Но ведь это собака... бродячая собака.
Демокед вслед за персами возвращался к молу. Реся двигалась на некотором отдалении. Когда персы стали подниматься по сходням, она тявкнула. Старец с канатом в руке оглянулся. Увидев Демокеда, глядевшего на Ресю, он спросил:
— Твоя?
— Не моя.
— А я решил, что твоя. Обычно она ни к кому не подходит и никому не даётся в руки. Обегает остров с высунутым языком. У мыса Трогилия останавливается и, обернувшись к Азии, воет, да так, что в жилах стынет кровь. Рыбаки хотели было её прикончить, да персов боятся — вдруг им станет известно.
Корабль отделился от мола. Демокед следил за Ресей. Она бежала в сторону Герайона обочиной Священной дороги и, кажется, уже забыла о встрече. «Дорогой солнца, — подумал Демокед. — На заре должна быть у Трогилия».
Предвидение
Пифагор сдавливал пальцами наконечник скифской стрелы, словно бы стараясь пробиться сквозь шелуху слов Адрания. К тому, что скрывалось за ними. Когда Адраний дошёл до последней встречи с Залмоксисом, он спросил:
— А у идола не было глаз?
Юноша оцепенел.
— Но ведь я... — вырвалось у него.
— О костре, — проговорил Пифагор, — я узнал по огонькам, вспыхнувшим в твоих зрачках, об идоле — по движению головы. Конечно же фракийцы боятся сглаза, и даже у кукол, в которые играют их девочки, — только отверстие рта. Картхадаштцы, как тебе известно, также не рисуют на корабельном носу глаз. По правде сказать, и у меня глаза вызывают какое-то опасение. Что же передаёт мне Залмоксис?
— Он умоляет тебя покинуть Кротон. Видел бы ты его волнение.
— Мне уже был дан такой совет, и, кажется, в то же самое время. Но это невозможно. Могу ли я бросить дело всей моей жизни?! Расскажи лучше, как ты добрался до берега. Течение здесь сильное?
— Это ещё одно чудо. Не знаю, как его объяснить. Когда кормчий повернул корабль, я увидел совсем рядом Залмоксиса. Колеблясь в воздухе, он приказал: «Плыви! Нестис тебе в помощь!»
— Нестис?! — воскликнул Пифагор. — Сикелы тоже почитают Нестис?!
— Да, мы ей молимся, и она встаёт на пути у стаи огненных волков, которых выпускает из своих недр Этна.
— Как ты сказал? Волков?
— Конечно. Ведь Этна — это великий огненный волк. Поэтому мы называем её Вулка[77]. Раз в году мы топчем голыми ступнями раскалённые угли и славим Нестис.
Адраний подошёл к цветам у окна и, ткнув пальцем в землю одного из горшков, проговорил:
— Пора пересаживать.
— Ты прав. Растения жили без меня год и соскучились. Вот я к ним и вернулся. А ты, я вижу, любишь цветы?
— Люблю всё живое, — ответил Адраний. — В прошлый раз, когда я приходил к брату Тилару, во дворе ничего не росло. Теперь появились молоденькие деревья.
— Так ты у меня был, воин!
— Я уже не воин, — перебил Адраний. — Я дал Залмоксису клятву не брать в руки оружия и назвать своего первенца его именем.
— Залмоксис прав, — проговорил Пифагор после паузы, отвечая на невысказанную мысль Адрания. — Богом трудно быть. Ох как трудно. Так же, как отцом. Запомни это, Адраний, чтобы не огорчаться, если твой первенец Залмоксис, которого ты попытаешься сделать похожим на того, кто открыл тебе глаза на жизнь, станет, допустим... Нет, я не знаю, кем он станет. А второй твой сын, Дукетий...
— Откуда ты знаешь, что я так решил его назвать?! — воскликнул Адраний.
— Я же бог, — усмехнулся Пифагор. — Так вот, твой второй сын, которого ты захочешь сделать садовником, станет вождём сикелов. Отец твой водит корабли. Сын твой поведёт народ в бой против эллинов. Ну иди, Адраний, иди. Передай мой поклон отцу. Он вывел в жизнь прекрасных сыновей.
«Зачем нам Афины?..»
На третий день плавания от острова к острову показалась крайняя оконечность Аттики. На верхушке мыса[78] белела колоннада храма.
— Посейдон! — услышал позади себя финикиец-кормчий и оглянулся.
Великий Врач протягивал к капищу руки и что-то напевал.
Финикиец разобрал повторяющееся слово «талатта»[79]. Оно ему ничего не говорило.
С этого момента Демокед заметался по палубе, подбегая то к Мардонию, то к кормчему.
— Нельзя ли прибавить парусов? Мы тащимся как черепахи!
— Присядь, — предложил Мардоний, показывая на канаты.
Демокед сел.
— Я понимаю твою радость, — заговорил перс. — Но не будем забывать о деле. Мы плывём вдоль сильно изрезанного берега. Я вижу массу бухточек, рыбачьи судёнышки, деревни на холмах. Что это за земля?
— Побережье Аттики. Его обитателей называют паралиями — прибрежными. Это мореходы, рыболовы, ремесленники — люди, живущие не возделыванием земли, а морем. С ними приходится считаться правителям Афин, ибо они строят корабли, составляют их команду. Первая крупная бухта на этом побережье — Фалер, которую афиняне, живущие в парасанге от моря, сделали своей гаванью.
Демокед сидел на канатах, погруженный в угрюмое раздумье. «Каким счастьем казалось мне в Сузах посещение этих мест, помнящих меня молодым! А теперь мне кажется, лучше бы вовсе не видеть этой бухты, этого берега и окаймляющих долину зелёных гор. И как я покажусь в городе с такой свитой?»
Послышались мягкие шаги Мардония.
— Это какой-то праздник? — спросил он.
Демокед кинулся к борту. На берегу царило оживление. Люди плясали, обнимались, что-то выкрикивали. И никто не обращал внимания на приближающиеся к молу корабли.
— Так эллины не празднуют, — сказал Демокед. — Да здесь и не место для праздника. Это Фалер, порт Афин. Пожалуй, мне лучше сойти сначала одному, а ты прикажи подвести корабли вон за ту кучу пифосов.
«Что бы там ни было, — думал Демокед, спускаясь по сходням, — лучше, когда люди заняты собой и не приглядываются к чужеземцам».
Некоторое время он стоял в нерешительности, не зная, стоит ли подходить к неведомо чем возбуждённым людям.
И вдруг из-за пифосов к нему кто-то кинулся, и он узнал Анакреонта. Появление его было столь неожиданным, что Демокед на мгновение остолбенел.
— Ну и ну! — воскликнул он наконец, обнимая поэта. — После твоего письма я рассчитывал повидаться с тобой на агоре, во дворце твоего покровителя, а ты... встречаешь меня здесь. Не чудо ли это? Не стал ли ты провидцем, как Пифагор?!
Поэт глубоко вздохнул.
— О, если бы я им был... Тогда бы мне не пришлось прятаться, как беглому рабу, и дрожать за близкого мне человека.
— Объясни же, что произошло.
Анакреонт безнадёжно махнул рукой.
— Толпа ворвалась во дворец, оказавший мне гостеприимство после того, как случилось несчастье с Поликратом. Всё разнесено. Видишь, они празднуют победу, я же сопровождаю побеждённого.
— Ты о Гиппии?
— Да. Я надеялся найти здесь корабль. Жизнь Гиппия в опасности. Ведь четыре года назад кинжал, поразивший Гиппарха, был направлен против него. Но кто возьмёт на борт человека, ныне преданного проклятию?!
— Погоди! Мне кажется, есть выход. Ведь я прибыл на персидском корабле.
— Да, — с грустью проговорил поэт. — Наверное, царь направил к Гиппию послов. А он вынужден скрываться в одном из пифосов.
— Да нет. Дарий приказал мне объехать Элладу в сопровождении стражей, с тем чтобы потом я смог побывать на родине. Стражей я должен выдавать за своих слуг. Среди них царский племянник. Сейчас я выясню, возьмёт ли он на борт тебя и твоего покровителя.
— Нет, только его. Меня ждут в Фессалии.
Вскоре Демокед вернулся:
— Решено. Гиппий может сесть на судно с наступлением темноты, и мы сразу же отплывём в Мегару. Там твой покровитель будет в безопасности.
— Как! Ты не побываешь в Афинах?! Не увидишь только что отстроенного театра Диониса? Не услышишь моих новых песен?
Демокед развёл руками:
— Решаю не я. Мне запрещено далеко уходить от провожатых. А им теперь Афины не нужны. Так и было сказано: «Зачем теперь Афины, если у нас будет Гиппий».
Удар судьбы
В то утро математики внесли в домик Пифагора статую Музы и поставили её у окна, дожидаясь, когда Учитель вернётся с обычной утренней прогулки. Послышались его шаги. Юноши замерли: неужто и этот их дар не будет принят?
Но вот раскрылась дверь. И сразу же послышался тихий возглас. В нём прозвучало огорчение, чувство, которое, как им казалось, чуждо Учителю. Но вскоре они увидели его лицо, как всегда спокойное и благожелательное.
— Скажи, мальчик, — обратился он к Тилару, — почему разгневана твоя Муза? Во время странствий она мне явилась в видении, и лицо её скорее выражало просьбу, и она очень похожа на одну женщину, которую ни ты, никто из вас не мог знать. Нет, я не пронёс её через все мои жизни, но в этой она была последней. Долгие годы я о ней ничего не слышал. И теперь она передо мною. Родопея... Слепок из дерева. А я и не знал, Тилар, что ты художник.
Тилар поднял голову, и то, что Пифагор прочитал в его взгляде, ещё более его потрясло: «Девушку звали Мией. С такими глазами не обманывают. Я не мог нарушить обета молчания и ей помочь».
Услышав тяжёлое дыхание Эвримена, Пифагор повернулся к нему и, захваченный смятением его мыслей, проговорил:
— Так ты не пустил мою дочь... Ты ей не поверил? Но не огорчайся, Эвримен, ты ни в чём не виноват. Ты выполнял моё распоряжение. Я и сам не знал о её существовании. Для меня это дар судьбы, как всегда нежданный. Её замыслы не ведомы никому. И где ты теперь, Мия? Найдёшь ли ко мне дорогу или исчезнешь бесследно, как твоя мать?
Юноши молча покинули лесху. Вскоре оттуда донеслись звуки кифары, и такие пленительные, что можно было подумать, будто вместе с гармонией по миру растекается потрясённая душа.
Пифагор не вышел из дому ни в этот, ни в следующий день. Видимо, происшедшее было для него не даром, а ударом судьбы.
Сибариты
Это был осенний месяц, который тиррены называли хуру, ромеи — октобером или восьмым, а эллины — боэдромионом. Полетели на юг журавли. Был собран виноград, и начались праздники Диониса. Повеяли бурные ветры, загоняя суда в гавань. В прошлые годы в эти дни можно было видеть юношей в сопровождении отцов или старших братьев, направляющихся в Кротон, чтобы испытать судьбу. Только немногим из них посчастливилось остаться в храме Муз. Большинство из них возвращались домой с обидой на самих себя. Но были и такие, которые надолго затаили ненависть к тому, кто не сумел оценить их способностей. Некоторые из них со временем достигнут в своих полисах высокого положения и поставят целью отомстить обидчику.
Таков был кротонец Килон, в своё время отвергнутый Пифагором из-за отсутствия способностей к научным занятиям. Он носил то же имя, что и афинянин, впервые попытавшийся силой захватить власть и убитый у алтаря Алкмеонидами. От афинского Килона пошло выражение «Килонова скверна». Кротонский Килон сам был носителем скверны и остался безнаказанным.
Пифагор завершил чтение глиняных табличек с ассирийскими письменами, присланных Демокедом. Находясь в Вавилонии, Пифагор знал, что наблюдением за небесными светилами до вавилонян занимались ассирийцы, и слышал об ассирийском царе Ашшурбанипале, собравшем в своей библиотеке результаты наблюдений за много сотен лет. Но мог ли он думать, что в его руках окажутся именно эти таблички? Их привёз Демокеду один из пленённых вавилонянами иудеев, не последовавших за своим народом, отпущенным персами на свободу. Он набрёл на развалины разрушенной ассирийской столицы и набрал целую корзину табличек. Оказалось, что задолго до ассирийцев какой-то населявший Месопотамию народ установил периодичность небесных явлений и, осуществив за ними наблюдения, расположил их результаты в арифметические ряды. Применение к этим рядам геометрических правил позволяло вычислить орбиты движения планет.
За спиной послышались шаги Эвримена.
— К тебе сибариты, Пифагор.
Их было пятеро. Одного из них Пифагор знал в лицо и по имени: Менестор, ботаник, лучший из учеников Демокеда. Говорили невпопад, перебивая друг друга.
— Чернь распоясалась, — начал Менестор. — Негодяи во главе с Телисом стали врываться в дома. У меня разбросали свитки и уничтожили коллекцию растений. Искали золото, ибо распространился нелепый слух, будто я выпариваю его из трав. В других домах изнасиловали жён и дочерей.
— Они разбили трубы, по которым текло вино! — подхватил другой сибарит. — Пьяных ничто не могло остановить. Нам удалось спастись на лодке. Но Килон не захотел нас даже принять.
— А мы хотим помочь Кротону! — выкрикнул третий. — Мы готовы служить в вашем войске. Нашему примеру последуют многие порядочные люди.
Пифагор понял главное: Сибарис захвачен начальником наёмников италийцем Телисом. У Килона появился предлог для военных действий против Сибариса, и он отказывается от помощи беглецов, чтобы не связывать себе руки.
«Удивительно, как перемена власти на ничтожной части земной поверхности может приостановить исследования», — подумал Пифагор, но вслух произнёс:
— Я попытаюсь вам помочь. Оставайтесь пока здесь. Я отправлюсь в Кротон.
К Мегарам
Давно уже на Демокеда не обрушивался такой словесный поток. И он не только его не прерывал, но делал вид, что увлечён рассказом, понимая, что Гиппию, пережившему такое потрясение, надо выговориться. Он не вникал в детали, пропуская сквозь слух, как через решето, ничего не значащие для него имена — Гармодий, Аристогитон, Критий, Клисфен...
— Жалуется? — спросил вполголоса сидевший рядом Мардоний.
Демокед кивнул.
— Расскажи ему, как милостив царь царей по отношению к тем, кто служит ему верой и правдой. Это его успокоит.
И пришлось Демокеду поведать гостю всю свою историю, начиная с излечения Дария. И она, кажется, не только удивила, но обрадовала изгнанника. Во всяком случае, глаза его оживились, а когда Демокед начал описывать пожалованный ему дворец, он перебил:
— В юности ты исцелил моё тело, а ныне дух. Мне кажется, я смогу начать в Персии новую жизнь.
Персидские корабли медленно входили в пролив. Мардоний подошёл к борту, наблюдая, как сближаются противоположные берега.
— В этом месте не более трёх стадиев, — проговорил Мардоний.
— Два с половиной, — поправил Демокед, подходя к нему. — Хороший стрелок с того или другого берега может поразить корабль, идущий по центру.
— Ну нет, — возразил перс. — Для этого пролив должен быть вдвое уже, но я не позавидую наварху, который осмелился бы ввести сюда тяжёлые корабли. А что за холмистый берег слева?
— Прославленный остров Саламин.
— Чем прославленный?
— Соперничеством между Афинами и Мегарами. Всего полвека назад Саламин принадлежал Мегарам, к которым мы сейчас плывём. Представь себе, что ощущали афиняне, зная, что их отделяет от враждебного им города эта узкая полоска воды.
— Представляю. Но почему эти города враждуют?
— О, это длинная история. Если я её начну, то едва успею закончить до высадки, если ты, конечно, не прикажешь убавить паруса.
— Ну всё же, если коротко.
— Прежде всего Афины и Мегары — соседи, и этого одного бывает достаточно для вражды. К тому же мегарцы — дорийцы, а афиняне — ионийцы, родственные тем городам Азии, над которыми властвует твой и мой повелитель. Мегары, меньшие по размеру, чем Афины, имеют множество колоний. Поэтому, глядя с материка на остров, афиняне вспоминали о том, как мегарцы мешают им в Сикелии — там их колония Мегара Гиблейская — и на Понте, где их колония Гераклея, сама имеющая колонии.
— На Таврике Херсонес, — оживился Мардоний.
— И это всё, — продолжил Демокед, — разожгло неприязнь. Одно время она достигла такого накала, что афиняне постановили казнить каждого, кто упомянет вслух Саламин. И тогда поэт Солон, притворившись безумным, прочитал о Саламине стихи:
Все горожане, сюда! Я торговый гость саламинский, Но не товары привёз, — нет, я привёз вам стихи. На Саламин! Как один человек за остров желанный Все ополчимся! С Афин смоем проклятья позор!Это было подобно разряду молнии.
— Прочитал стихи! — расхохотался Мардоний. — И зачем тогда ему было притворяться безумным? Разве афинянам не известно, что тот, кто говорит стихами, безумец?
— Твоим замечанием, Мардоний, ты лишил себя возможности услышать стихи Солона до конца и понять, что Солон высказал с необыкновенной проникновенностью истину, лежащую на поверхности и доступную пониманию каждого, разумеется, афинянина. Живя на Самосе, я там познакомился с мегарцем Эвпалином, и он, изъясняясь прозой, высказал суждение, противоположное тому, что вещал Солон.
— Я где-то слышал имя Эвпалин.
— Ещё бы не слышал! — воскликнул Демокед. — Ведь это он обещал Дарайавушу перебросить через пролив мост, но сам не успел осуществить свой замысел.
— Так вот оно что... — протянул Мардоний. — Дарайавуш рассказывал об этом человеке, удивляясь тому, что за такой труд он не потребовал от него ни города во владение, ни корабля, нагруженного золотом. Теперь я понял — им руководила ненависть к афинянам, и я расскажу об этом нашему повелителю и объясню ему, что знать об отношениях яванов между собой не менее важно, чем о расположении проливов, направлении ветров и устройстве гаваней.
— А вот и показались Мегары, и тебе уже поздно убавлять паруса.
Мардоний улыбнулся:
— Ты прав. Уже пора готовить якорные камни.
В Метапонте
Сухопарый, остролицый, Ксенофан стоял перед кафедрой, словно бы что-то припоминая. Ученики пожирали глазами странствующего софоса — так его называли многие. Со слов Гиппаса, находившегося тут же в лесхе, они знали, что его гость также и поэт, высмеивающий в элегиях косность и невежество эллинов и варваров.
С элегии Ксенофан и начал:
Если бы руки имели быки, или львы, или кони, Чтобы творить изваянья, как люди, Кони б тогда на коней, а быки — на быков бы похожих Образы рисовали богов и тела их ваяли Точно такими, каков у каждого собственный облик.Сделав паузу, он продолжил:
— Вот что я написал после многих странствий, заметив, что у эфиопов боги чёрные, с приплюснутыми носами, а у фракийцев — рыжие, голубоглазые. И этих-то, с позволения сказать, богов люди считают могущественными и, добиваясь их милости, приносят им лучшее, что у них есть. Само их множество, что бы мне ни возразили, не согласуется с могущественностью: ведь если бы даже богов было всего лишь двое, они не были бы могущественными, ибо один должен был бы подчиниться другому. Бог не только могуществен, но и безупречен. А вспомните, какими изобразил богов иониец Гомер. Какими только пороками он их не наделил, уподобив людям! Но даже если принять его россказни за клевету на богов, нам для рассмотрения достаточно и повсеместно господствующего мнения, что одни боги рождают других. Утверждающий это, на мой взгляд, — нечестивец. И такой же нечестивец тот, кто уверяет, будто мир, подобно камню, не имеет сознания, не видит, не слышит, не чувствует. Вот из другой элегии:
Есть один только бог, меж богов и людей величайший, Не похожий на смертных ни обликом, ни сознаньем.Этот бог — беспредельный мир, который некоторые называют космосом. По своей форме он шарообразен. У него есть центр и периферия, все точки которой отделены от центра одинаковым расстоянием. Часть бога-мира — и Земля, которую населяем мы, наделённые сознанием. Откуда бы оно взялось у нас, если бы его был лишён окружающий нас мир?! Бог не просто видит и слышит, он обладает вернейшим слухом и зрением, позволяющим ему управлять миром наилучшим образом...
Проводив Ксенофана к кораблю, Гиппас вернулся в храм Муз.
— Друзья! — обратился он к ученикам. — Дав вам возможность выслушать Ксенофана, я преследовал цель сопоставить два учения. Вы, должно быть, заметили их общие черты — обращённость к космосу, неприятие эллинских представлений о богах, навеянных мифами. Сильная сторона Ксенофана — это критика мифов. Их неприятие привело его к идее о космосе, наделённом божественным сознанием, и это противоречит всему тому, чего достиг в своих изысканиях и прозрениях Пифагор. Ведь если космос — божество, совершенно отличное от человека по облику и сознанию, несовершенному человеческому уму незачем заниматься науками. Пифагор, в отличие от Ксенофана, не считает нужным опровергать рассказы о богах. Он своими опытами и своими исследованиями выбивает из-под них почву. Для нас, акусматиков, Пифагор — не бог, не чудотворец, а величайший наблюдатель природы, ведь так он называет сам себя, уверяя, что пришёл в мир ради наблюдения и приобретения знаний.
Помолчав немного, Гиппас подошёл к сфере и повернул её так, что она обратилась к ученикам тремя материками.
— Сегодня у нас земная география, преобразованная Пифагором в науку, так же как арифметика, гармоника и астрономия.
Дориэй
Мог ли думать Килон, что вестником удачи станет для него сторож в гавани, известный всему городу под именем Пиявка? Он попался ему на пути к Сирису, где был разбит лагерь кротонцев.
Растопырив руки, старик лепетал:
— Самояны! Самояны, как тогда. Два паруса... Свинки на высоком носу...
Взглянув в тёмное, сморщенное, словно ссохшееся от солнца лицо с заплывшим глазом, Килон проговорил брезгливо:
— Иди проспись. Привиделось тебе. Не поднимутся самояны со дна, а новых не строят — некому и незачем.
— Они самые! — не унимался старик. — В тот год, когда Демокед нас покинул, я снадобьями торговал. Самояны гавань заполняли. Зимой же их на сушу вытаскивали. А теперь их только три.
Утомлённый старческой болтовнёй, Килон повернулся и, схватившись за голову, почти бегом бросился к гавани.
Корабли со снятыми парусами уже покачивались у мола, и по сходням спускались люди в шлемах с перьями.
Прошло ещё немного времени, и Килон стоял уже рядом со спартанским вождём, пытаясь выяснить, что привело его в город.
— Плыву в Сикелию, — сказал спартанец.
— А самояны откуда у тебя?
— С той поры, как Самос осаждал.
Поняв, что перед ним Дориэй, Килон оживился.
Мгновенно в памяти всплыла вчерашняя стычка в совете, когда вновь Пифагору удалось настоять на своём. «Хорошо же, — со злорадством подумал Килон, — ты воображаешь, Пифагор, что одержал надо мной победу, добившись включения в наше войско жалкой кучки беглецов. Посмотрим, как ты запоёшь, узнав, что на моей стороне будут сражаться непобедимые спартанцы».
— А что ты потерял в Сикелии? — спросил он Дориэя.
— Там есть гора, где мой предок Геракл победил Эрика и предупредил, что Гераклиды вернутся за наградой. Вот я и возвращаюсь.
— А у нас в Кротоне нет храма Геракла, — пояснил на всякий случай Килон. — Мы — ахейские поселенцы. А Эрик — место славное, и вид с него открывается дивный. Но ведь там крепость кархедонцев.
В глазах спартанца что-то сверкнуло, и его словно бы высеченное из камня лицо утратило неподвижность.
— Там храм Афродиты, — сказал он.
— Танит, — поправил кротонец. — И городок элимов. Его кархедонцы в крепость превратили года два назад. А ты откуда путь держишь?
— Из Ливии. Там близ Кирены наша колония была. Кархедонцы натравили на нас чернокожих. Пришлось уходить.
— Осада — дело долгое, — продолжил Килон. — А места на Эрике безлюдные, без припасов не обойтись. И мог бы ты от нас не с одной водой уйти.
— А что требуется?
— На нас напали сибариты.
— Слышал я о них. Они тёплой водой моются и щеголяют в гиматиях, расшитых золотом.
— Вот-вот! — подхватил Килон. — У них агора замощена серебряными плитами, и вино в дома из гавани по трубам подают. Воины они никчёмные. Давай договоримся о цене.
Пляшущие кони
Всю ночь спартанцы и кротонцы двигались двумя колоннами к Сирису. Ночь была безлунной. Дориэй, как и тогда на Самосе, надеялся скрытно подойти к стенам. И если враг прячется где-нибудь по пути, напасть и гнать к воротам и ворваться по его стопам в город. Осада Дориэя не устраивала. Ведь его ждала Сикелия и гора Эрик, которую ему, как потомку Геракла, обещали его будущие подданные элимы.
К рассвету перешли Сирис вброд.
На пограничной реке, которая когда-то, как рассказал согражданам покойный Милон, приветствовала Пифагора, сибариты столкнулись с железной фалангой спартанцев.
Сразу по тому, как фаланга двигалась к реке, Телис, командовавший пехотой, понял, что перед ним не кротонцы, и приказал повернуть назад.
Видя, что врага нет, Дориэй разрешил воинам омыть разгорячённые ходьбою лица. И в это время послышался топот копыт. Из-за леса выскочил первый конный отряд сибаритов, за ним — второй, третий.
«Сколько же их!» — с ужасом думал Дориэй, давая воинам команду отступать.
Находившиеся слева от него кротонцы дрогнули. Стало слышно бульканье воды. На правом берегу оставалась небольшая кучка людей, двое из них — с флейтами. Это были беглецы из Сибариса, принятые в кротонское ополчение.
«Слабаки, — подумал Дориэй. — И стоило из-за таких в дело ввязываться!»
Всадники между тем развернулись в два длинных ряда. Кони как на подбор. Первый ряд — из белых коней, второй — из вороных. Сверкало оружие и доспехи. По данной кем-то команде всадники вскинули пики. Сейчас они сомнут всё на своём пути и втопчут в землю...
И в это время послышались напевные звуки. Храбрецы бесстрашно дули во флейты, словно их не пугала стремительно несущаяся лавина копыт, конских грудей, голов и занесённых для броска пик.
«Безумцы! — подумал Дориэй. — Кому дают команду эти люди? Ведь кротонцы едва их уже слышат».
Но что это?! Кони сменили галоп на шаг, и не на простой. Они картинно поднимали ноги и медленно их опускали на землю, не обращая внимания на всадников, пытавшихся ударами пик прекратить пляску. Животные, подчиняясь одной музыке, словно сами были увлечены тем, что им так хорошо удаётся то, чему их учили. Несколько коней поднялись на дыбы и скинули на землю своих лишённых слуха седоков.
И тут Дориэй крикнул:
— В ногу!
Грозный спартанский строй двинулся вперёд. Спартанцы запели:
Так как потомки мы все необорного в битвах Геракла...Флейты, уловив новую мелодию, её подхватили.
Дориэй повернул голову.
«Да кротонцы ли это? — подумал он, глядя на флейтистов. — Не братья ли это Диоскуры, пришедшие нам на помощь и не давшие бесславно погибнуть на чужбине?!»
Противостояние
Килон поднялся на возвышение. Низкорослый и щуплый, он казался рядом с рослыми воинами пигмеем. Доспехи же придавали ему ещё большее сходство с жабой.
— Граждане! Члены совета! — выкрикнул он, брызжа слюной. — Мы победили! Те, кого мы боялись столько лет, разбиты, и нам предстоит решить их судьбу. Мы можем наложить на сибаритов дань. Но даже если мы заберём у них всё и оставим голыми, они поднимутся и разбогатеют вновь с помощью своих могущественных друзей — тирренов и милетян. Такая победа, которой мы добились, даётся только раз, и надо ею воспользоваться, чтобы уничтожить врага раз и навсегда. Вы спросите — как это сделать. Ведь разрушение такого города потребовало бы много времени и сил. И я вам отвечу. Вспомните, как Геракл выполнил задание Эврисфея по расчищению авгиевых конюшен. Он пустил на них реку. Дадим же работу Сирису и Кратису. Направим их на Сибарис. Пусть они его разнесут, как навоз, и покроют своим песком, чтобы, если и останется имя Сибариса, никто бы не мог отыскать его места.
Восторженный рёв заглушил последние слова.
Когда всё стихло, Килона сменил Пифагор. Никогда он ещё не был так красив, как в тот запомнившийся всем день. Если бы не седая шапка волос, его можно было бы принять за юношу. Лицо светилось благородством, глаза — умом.
— Только что, кротонцы, — начал Пифагор, — проходя по агоре, мимо статуи Милона, я ощутил на себе его неподвижный взгляд и остановился. Я вспомнил тот далёкий день, когда, возвращаясь из Сибариса, мы с ним отдыхали на берегу Сириса перед тем, как его перейти и услышать «Хайре, Пифагор». Хочу вам сказать, что я был удивлён не менее Милона, и не тем, что меня приветствовала река. Я терялся в догадках, почему она приветствовала именно меня, чужеземца, не успевшего ещё ничего сделать для этих мест, а не того, кто их прославил. И только теперь я понял, отчего удостоился этой чести, и буду пока говорить не в защиту Сибариса, а в защиту реки, которую вы хотите сделать убийцей города.
Нестройные крики прервали и заглушили речь.
— Я вижу по всему, — продолжил он, — что вас удивляют мои слова, что в вашей нетерпеливой мстительности вы забыли, что каждая река — могущественное божество, подчинённое собственной, а не чьей-либо воле. Это хорошо понимают ромеи, в землях которых я недавно побывал. Для них величайшее преступление не только сдвинуть ручей с его места, но даже проложить через него сбитый гвоздями мост. Через могучую реку Тиберис они, зная нелюбовь её божества к новшествам, соорудили деревянный мост, не осквернив его воды железом. За безопасностью рек там наблюдают особые жрецы, которых они называют понтификами, что в переводе на наш язык означает «мостоделатели», и под их властью состоят все остальные священнослужители.
Но оставим ромеев с их обычаями. Милон был не только самым сильным человеком на земле, но и мудрецом. Однажды я его спросил, в чём причина его побед, и вы знаете, что он ответил? «В моих противниках. В соперничестве с ними я стал первым». И он мне перечислил каждого из тех, с кем состязался в Олимпии, Немее, на Истме и в Дельфах. Вам же, кротонцы, мало того, что вы одержали победу. Вы хотите уничтожить своего противника, да так, чтобы потом никто не мог отыскать даже места, где когда-то стоял город. И вы думаете, что этим обеспечите себе безопасность? Да нет! Вспомните, что стало с Микенами после гибели Трои. К тому же сибариты — такие же эллины, как и вы, и так же, как вы, они живут на чужой земле. Вашему общему счастью и богатству завидуют те, кого вы называете варварами.
Вздохнув полной грудью, он закончил:
— Я призываю вас, кротонцы, остановитесь, пока не поздно! Дайте рекам течь там, где они хотят, а сибаритам жить там, где жили их предки.
Произнося речь, он, казалось, не слышал враждебного шёпота, а оказавшись на полупустой улице, не заметил, что за ним на некотором расстоянии крадётся какой-то человек в чёрном гиматии с капюшоном.
В закатных лучах показавшийся в отдалении дом Милона утратил обыденность и словно бы вырос. «Так меняются люди перед кончиной», — почему-то подумалось Пифагору.
Вдруг послышался какой-то звук. «Что он мне напоминает? Резец отца, проводящий по камню борозду? Гомон кузнечиков? Рыдания уносимой Аполлоном Окирои? Бормотание волн? Шум разрезающих пространство светил? Или что-то звучит во мне, предупреждая о мраке?»
Резко повернувшись, Пифагор зашагал к городским воротам, но звук не прекращался. Он изменил направление, уже исходя не от дома, а от чего-то стоящего на пути. Впереди был проулок. Пифагор зашёл за угол и замер. Звук приближался. Пифагор поднял два кулака и, едва человек в чёрном стал виден, обрушил их на голову незнакомца. Злоумышленник свалился замертво. В едва слышный звук мягкого падения тела вошёл звон ударившегося о камни клинка.
Признание
Не шевелясь, с закрытыми газами, Мия ощущала беспокойство лежавшего рядом Гиппаса. Она чувствовала, что он тоже не спит. Он явился поздно и, не спросив, против обыкновения, как прошёл день, ни к чему не прикоснулся за столом. Таким далёким она его ещё не знала.
— Сегодня, — неожиданно произнёс он, поворачиваясь к ней, — я встретил Никомаха. Это посейдонец, проделавший с самосскими кораблями весь путь до Кротона. Оказывается, в тот месяц и день, когда я находился в Посидонии, через неё проходил и мой учитель. И это его я видел в гавани, приняв за рыбака. Я тебе не решался сказать, что моим учителем был Пифагор.
Мия нежно прикоснулась к плечу мужа.
— Я об этом догадывалась.
— Ведь я самовольно покинул храм Муз, — вновь заговорил Гиппас, захлёбываясь от волнения. — Прошёл слух, что Учитель проклял меня и распорядился поставить кенотаф[80]. Это оказалось ложью. Теперь мне стыдно, что я скрывал от тебя правду. Со слов Никомаха мне стало известно, что Пифагор знает о твоём посещении храма Муз...
Странная история. Кто-то из учеников вырезал статую Музы, и Учитель понял, что это ты, по сходству с твоей матерью. Но никто ещё, кроме Никомаха, не знает, что ты со мною. Я просил его держать это в тайне.
— Хочешь, отправимся к нему? Ведь ты спас меня, и он должен понять...
— Нет! Нет! — застонал Гиппас. — Однажды он уже закрыл глаза, не желая меня видеть... Не знаю, что делать... Конечно, я мог бы отпустить тебя с Никомахом, но боюсь. Сейчас там война.
— Как?! На Кротон осмелились напасть варвары?
— Да нет. Это кротонцы напали на Сибарис, а в самом городе смута.
— Смута?! Но тогда нельзя медлить! — вспыхнула Мия. — Отцу нужна помощь! Всё остальное не имеет значения. Вставай же скорее! Мы должны отправиться в Кротон.
Гиппас прижал Мию к себе.
— Не волнуйся. Нам незачем торопиться. Я же ещё не сказал тебе, что мы уже всё обсудили с Никомахом. Он направляется в Кротон и не оставит друга в беде.
Мия заплакала.
— Тогда тем более я должна быть с отцом. А ты, если хочешь, оставайся! Между прочим, если ты боишься встречи, необязательно показываться на глаза, но не прийти на помощь...
Гиппас решительно спустил ноги на пол.
— Конечно же ты права. Как я сам не подумал! Бежим же! Мы ещё успеем к утру добраться до Таранта на лошадях. Прости, я промолчал о том, что Никомах уговаривал меня присоединиться к нему и сказал, что не будет спешить с отправлением.
Тарант
— Какое великолепное зрелище! — воскликнул Мардоний, когда корабли, обогнув мыс, приблизились к молу. — И как хорошо, что город стоит прямо у моря!
— Как все молодые эллинские города, — проговорил Демокед. — Некогда старались строить на расстоянии от берега. Вспомни Афины, Мегары и так поразивший тебя Коринф.
— Да. Пришлось добираться по жаре пешком. И чем ты объяснишь, что в старину держались подальше от моря?
Великий Врач пожал плечами:
— С медицинской точки зрения это оправдано. Излишняя влажность и возможность занесения повальных болезней с кораблей. Что касается военной стороны, выгод или неудобств, судить не мне.
— Ты назвал этот город молодым, но он занимает весь полуостров, — проговорил Мардоний, не отрывая взгляда от берега.
— Приморские города растут быстро. К тому же и первыми обитателями Таранта были рабы, а их всегда больше, чем свободных.
— Так это город рабов?! — воскликнул Мардоний.
— Полуилотов, — пояснил Демокед. — Когда спартанцы вели войну с мессенянами — а война была нелёгкой, — они надолго покинули своих жён. Должен тебе сказать, что по своей природе женщины страдают от отсутствия эроса больше мужчин. Мне приходилось не раз сталкиваться с женскими заболеваниями, возникшими на этой почве. Одним словом, когда спартанцы вернулись на родину с победой, почти у каждого в доме было по младенцу мужского или женского пола. Следует иметь также в виду, что спартанцы живут по законам своего древнего царя Ликурга и не совершают ничего, что бы им противоречило. Законы Ликурга предписывают убивать слабых или увечных младенцев, что спартанцы и делают. Дети же, рождённые от илотов, были, как назло, здоровыми и сильными и приветствовали входивших в дома спартанцев лепетанием «па-па».
Мардоний расхохотался:
— Вот тебе и победители!
— На сборище, — продолжил Демокед, — было решено младенцев — их стали называть парфениями — не убивать, а выкормить и вырастить, не давая им спартанского воспитания. Это было выполнено. И тогда отправили в Дельфы послов посоветоваться, куда отправить полукровок. Оракул ответил:
Сатирион тебе дал и тучные нивы Таранта, Чтобы, поселившись, стать грозою япигов.— А кто такие япиги? — спросил перс.
— Это местное, управляемое царями племя, — ответил Великий Врач. — В его земли была выведена колония. Так возник Тарант. Теперь слушай и запоминай: Тарант, когда я жил в Кротоне, обладал флотом в тридцать триер, выставлял тридцать тысяч пехотинцев и три тысячи всадников. Тогда здесь была демократия. Теперь же, как я слышал, чернь поставила у власти Аристофилида, судя по имени, знатного человека, как, впрочем, повсюду. В Кумах тираном стал Аристодем, сын Аристократа, в Афинах долгое время правил Писистрат из рода Алкмеонидов, на Самосе — Поликрат, все из высшей знати.
Сообщая об Аристофилиде, словно бы о чуждом ему человеке, Демокед одновременно оживлял в памяти облик юноши, которому он вправил вывих, а затем зрелого мужа, которого лечил от боли в желудке. Сложившиеся между ними отношения допускали откровенность, и ещё в Мегарах Демокед думал о Таранте как о городе, где удобней всего освободиться от стражей-соглядатаев. Теперь, кажется, настало время для выполнения задуманного.
Сойдя на берег и отделившись от персов, занятых осмотром великолепной внутренней гавани, Демокед нырнул в знакомый ему проулок и вскоре оказался у дворца, как раз в тот момент, когда Аристофилид в сопровождении телохранителей выходил на улицу.
— Ты ли это, Демокед?! — воскликнул тиран, бросаясь в объятия к врачу.
— Я самый! — отозвался Демокед. — Подробнее потом. Сейчас главное — мне требуется твоя помощь. Дарий, которому я вынужденно служу, отпустил меня навестить родину в сопровождении охраны, которую я должен выдавать за своих слуг. Сейчас они в Западной гавани. Они в персидских одеяниях. Пошли их схватить, а через несколько дней, когда я буду в безопасности, отпусти.
— И только-то? — отозвался тиран и обратился к одному из телохранителей: — Задержи этих людей и сними с их судов кормовые вёсла.
Отдав это распоряжение, он взял ладонь Демокеда и поднёс к своей груди:
— Слышишь, как бьётся? Радуется встрече. О тебе у нас помнят, и часто можно услышать: «Это было во времена Демокеда и его друга Милона». Теперь же здесь всё изменилось. Люди вовсе обезумели. Ты слышал, что стало с Сибарисом?
— Да нет, — проговорил Демокед. — Из писем ученика мне, правда, известно, что власть в городе захватил демос во главе с Телисом.
— Так ты не знаешь, что кротонцы захватили Сибарис?
— Но ведь у Сибариса могущественный союзник! — воскликнул Демокед. — Как тиррены это допустили?!
— У тирренов свои трудности. Восстала Рома, кротонцам же помог скиталец Дориэй.
— Надо же! Ведь именно осада Дориэем Самоса задержала меня у Поликрата, и я оказался в персидском плену... Как же судьба сводит одних и тех же людей! Что же касается твоего сердца, друг, то должен тебя огорчить. Прошу пожаловать ко мне в Кротон, чтобы я мог за тобой понаблюдать и назначить лечение.
Аристофилид опустил глаза.
— Конечно же. Но когда там успокоится.
— Успокоится? — повторил Демокед. — Что ты имеешь в виду?
— Смуту. Кротонцы ополчились против пифагорейцев. Дело может дойти до кровопролития.
Морщина прорезала лоб Демокеда.
— Мне кажется, моё присутствие там необходимо. Не оставить ли триеру персам и воспользоваться подаренным моему отцу судном? Нет, лучше я доберусь по суше.
— Разреши дать тебе совет, — сказал Аристофилид. — В гавани стоит быстроходный корабль Никомаха.
— Кто это?
— Посидонец и друг Пифагора. Можешь взять на его корабль что-нибудь из царских даров.
— Нет! Я вернусь в Кротон с пустыми руками и с чистой совестью. Впрочем, можно захватить оковы.
— Оковы?! — удивился Аристофилид.
— Золотые оковы, — объяснил Демокед. — И подобно тому как дева, вступая в брак, приносит в дар Гере свои детские туфельки и игрушки, я пожертвую их богине в память о годах, проведённых в Персии, о дворце, в котором я был пленником, о золотом моём рабстве.
— Дай я обниму тебя, друг, — проговорил Аристофилид. — Ты побеждал многие болезни, и, может быть, тебе удастся утихомирить разбушевавшуюся Ату[81], внести успокоение в смятенные умы.
Всё было тихо. Лишь изредка до слуха доносился плеск бивших о борт волн. Вечерний туман, окутывая бухту, полз по полуострову, смывая, словно губкой, дом за домом. Стал накрапывать дождь, и под ладонью заскользили, словно натёртые маслом, перила.
«Это судно шире финикийского, — подумал Демокед, — и, кажется, рассчитано на перевозку леса. Его владелец не похож на обычного торговца. Недаром это друг Пифагора. Но почему он не даёт команду поднимать якоря? Что-то его волнует, и он тоже вглядывается в берег».
Внезапно в шорох капель ворвался дробный стук. Сквозь туман проступили человеческие фигуры. Юноша и совсем молоденькая девушка, схватившись за руки, бежали к кораблю. Они выглядели так, словно уходили от погони.
— Не на Кротон ли корабль? — крикнул юноша, подбегая.
— На Кротон, — отозвался Демокед. — Но будет лучше, если ты возвратишь похищенную отцу.
— Я к отцу её и везу, — ответил юноша.
И тотчас с кормы прозвучал радостный возглас Никомаха:
— Это ты, Гиппас?! Наконец-то ты решился и снял с меня обет. И теперь я не буду бояться смотреть в глаза, пронизывающие насквозь.
Сказка без конца
«Скакал я сегодня полночи
И ржание слышал во сне.
И словно бы кто-то хохочет
Иль, может быть, плачет по мне.
Должно быть, белая ласка
Спугнула в конюшне коня?»
Ответил гаруспик с опаской:
«Окончилась сказка твоя».
Город ликовал. Поток Сириса прорвал невидимую сагрскую плотину, перекрывавшую в душах кротонцев поры, и наружу вырвалась радость. С венками на головах они высыпали на улицы и, обнимаясь, пели забытые гимны. В хмелю первой за многие десятилетия победы Совет пятисот принял решение воздвигнуть алтарь Гераклу, предку Дориэя, и наградить его самого званием почётного гражданина. На мраморной доске у пританея имя Дориэя появилось сразу же за именем Пифагора.
Ночью на агоре зажглись костры, и на весь город распространился запах поджариваемого бараньего сала и тмина.
Зная любовь спартанцев к агонам, кто-то предложил состязаться на прожорливость. И конечно же всех одолел Дориэй, прямой потомок Геракла, по преданию съевшего по пути в Микены в один присест целого быка Гериона. Так же, как кротонец Милон был самым сильным из смертных, Дориэй был самым прожорливым. Толпа подхватила Дориэя на руки, чтобы понести его в гавань, но не сумела удержать. Падая, он своей тушей переломил нескольким кротонцам руки и ноги.
И в это время на полную луну легла тень. Наступил мрак. Ликование сменилось воплями отчаяния.
— Это колдуны! Они в доме Милона!
— Туда! Туда! Это они, звездочёты!
С каждым мгновением толпа увеличивалась. Крики подняли на ноги и тех, кто отсыпался у себя в домах. Среди них были люди спокойные, неспособные на преступления, но неистовая энергия разъярённой толпы заразила и их, и они понеслись, что-то выкрикивая, неведомо кому угрожая.
День первой олимпийской победы Милона решено было отпраздновать в его кротонском доме. Туда отправились все математики, кроме Хирама, оставленного для наблюдения за затмением.
— Друзья, — начал Пифагор, когда все уселись, — статуя Милона на агоре, а дух этого удивительного человека с нами. Не будь его, не было бы нашего храма Муз. Ведь это он добился для него участка и постоянно поддерживал его всем, чем только мог. Не было ещё ни одного мужа, одержавшего в состязаниях с сильнейшими столько побед, и ни одного атлета, который одновременно был бы учёным.
За стенами послышался шум. Подбежав к двери, Эвримен сообщил, что движется откуда-то взявшаяся толпа с кольями и во главе её — Килон.
— Не будем отвлекаться. Эти люди, уничтожившие великий город, достойны лишь презрения. Я уверен: если бы был жив Милон, Сибарис остался бы цел. Сядем к столу и вспомним за чашей вина нашего друга.
Едва было разлито вино, как донёсся запах гари.
— Они поджигают дом! — воскликнул Эвримен.
— Успокойтесь, — проговорил Пифагор. — Если выхода нет, встретим смерть достойно. Есть в Тиррении город Церы. Там я увидел на стене поющего гаруспика. Он пел по-тирренски, и я не смог полностью понять ритмическую речь. Когда же он опустился на землю, я попросил его пересказать песню. Оказалось, что это история, сочинённая каким-то тирренским Эзопом. Он назвал имя, но я его не запомнил. Однажды весною после перелёта птицы вернулись в свой лес, к своим деревьям и дуплам. И соловей увидел, что его дупло занято старым вороном. Некоторые перья его от возраста побелели. «Это моё дупло, — пролепетал соловей. — Здесь я пел много лет, пока рождались мои дети, здесь скрывался от непогоды. Ты же птица городская. Зачем тебе этот лес и моё дупло?» — «Было твоё, а теперь моё, — ответил ворон, — но если хочешь, можем помериться силами».
Пифагор поднялся.
— Дым мешает мне продолжить. Но я успею вам сказать: моя последняя жизнь подходит к концу. У вас же впереди ещё много жизней... Мужайтесь, души.
Полнолуние
Дул попутный ветер. Корабль резво бежал по волнам, разрезая лунные дорожки. В небе стояла полная луна, и паруса отсвечивали синевой.
Утомившаяся после бурного дня Мия дремала на канатах рядом с Никомахом. Демокед и Гиппас, уединившись, тихо роняли слова.
— Вот после такой же ясной ночи я покинул Самос на корабле Поликрата, — проговорил Демокед. — Он обещал высадить меня в гавани Милета, связанного с Сибарисом великой дружбой. Я рассчитывал отыскать там идущий в Сибарис корабль, а оттуда добираться в Кротон, хотя бы пешком. Но едва мы сошли на берег, как нас схватили. В оковах отправили в Магнезию. Двенадцать лет я был оторван от родины. Теперь, казалось бы, всё позади. Но что-то давит душу.
— Это от полнолуния. Пифагор связал этот феномен со своей теорией колебаний.
— И к тому же мне неприятно, — продолжил Демокед, — что Мардоний и остальные персы в оковах. И что об этом подумает Дарий?
— Но что тебе до его мыслей?! — возмутился Гиппас. — Ведь он тебя насильно удерживал столько лет! Ты возвращаешь себе свободу.
Демокед покачал головой:
— Тебе это трудно понять. Прежде всего, Дарий извлёк меня из пучины рабства и поставил выше многих. Он доверял мне свои личные тайны. И я ему раскрылся как другу. Он знает всю мою жизнь. Мы с ним часто встречались и говорили о Милоне и Пифагоре.
— О Пифагоре?! — удивился Гиппас. — Но ведь ты с ним едва знаком.
— Я с ним переписывался, и каждое из посланий, написанное рукою Эвримена, становилось известным Дарию. Он просил меня с ними знакомить. Узнав о том, что Пифагор провёл много лет в Вавилоне, Дарий захотел посетить храм Бела. Это было сразу же после восстания вавилонян, жестоко подавленного Гобрием. Надо сказать, что персы, поклоняющиеся Ахурамазде, считают вавилонских жрецов служителями злых дэвов, и само восстание Дарий полагал делом рук жрецов. Так вот, узнав мнение Пифагора о жрецах храма Бела, Дарий оказал им милость и освободил от оков. Его очень растрогало, когда Пифагор просил меня прислать ему гаты Заратуштры, или Зороастра, как его называют эллины.
— Учитель как-то раз упомянул Зороастра, но о гатах ничего не говорил.
— Дарий достал для меня гаты, и я их по его просьбе перевёл для Пифагора. Гаты — это гимны в виде диалога между Заратуштрой и Ахурамаздой. Заратуштра спрашивает, Ахурамазда отвечает. Это великое творение. Вот послушай...
— Демокед! — перебил Гиппас. — Я всё время следил за берегом. Уже скоро должен быть Кротон. А где же огни Сибариса?
— Может быть, сибариты перестали пировать по ночам? — предположил Демокед.
— Даже если это так, зачем они погасили маяк, указывающий путь в гавань? Да и огни города, когда мы с Мией плыли в Метапонт, были хорошо видны.
— Горит! — послышался голос Мии.
Демокед и Гиппас бросились к корме. Никакого пожара не было. По выражению лица Мии стало ясно, что она кричала со сна, да, кажется, и продолжала ещё спать. Протягивая руку, она повторяла:
— Горит! Горит!
Гиппас положил ладонь на мокрый от испарины лоб жены.
— Успокойся. Тебе померещилось. Обычный кошмар. Волнение последних дней.
И в это мгновение показалось зарево.
Эпилог
Демокед безмолвно стоял у пожарища. Это были остатки дома, в котором до отплытия к Поликрату он принимал больных. Затем, до постройки школы, как писал отец, здесь жил Милон, и дом стали называть домом Милона.
Неподалёку толпилась стайка подростков, и Демокед невольно прислушался к их разговору.
— Так я его и не увидел... — почти простонал один из них. — Хотел бы его увидеть хотя бы мёртвого.
— Но ты хоть слышал его, — проговорил другой. — Мне же не пришлось.
— Куда же он мог исчезнуть?! Вот загадка! — воскликнул третий. — Обнаружили тридцать девять полуобгоревших трупов, а в доме он был сороковым, и по росту и кольцу со смарагдом его легко можно было бы опознать — ведь он никогда его не снимал, а золото и смарагд не могли сгореть.
— Может быть, он ушёл подземным ходом, — проговорил мальчик, до этого молчавший. — Говорят, из дома Милона есть ход в гавань, там стоял корабль из Акраганта, он исчез и, наверное, взял Пифагора.
— Это враки, — возразил первый. — Он никогда бы не бросил учеников, и никакого подземного хода нет. По дороге сюда я встретил Хирама. Он не был с математиками, ибо наблюдал небо. Так вот, он уверяет, что в созвездии Лебедя появилась новая звезда.
— Да и вообще как мог сгореть Астрей? Это невероятно! — заключил третий мальчик.
— Астрей? — удивился первый.
— Ну да, Астрей. Летом я был в Дикеархии. Там есть один старец, лет, наверное, ста. Зовут его Андроклом. Так вот, Андрокл рассказывает, будто резчик камней Мнесарх нашёл под красивым белым тополем грудного младенца, который лежал, глядя прямо в небо. И не мигал, хотя солнце стояло в зените. Во рту у него была маленькая тоненькая тростинка, и он всасывал через неё падавшую с тополя росу. Андрокл это точно знает, потому что Мнесарх поручил ему воспитание мальчика, когда тот немного подрос.
— Это я слышал, — проговорил четвёртый. — Только был не один младенец, а два. И второго звали Залмоксисом. И не Мнесарх их нашёл, а медведица.
И в это время к пожарищу приблизились четверо — двое пожилых мужчин, юноша лет двадцати пяти и тоненькая хрупкая девушка. Внезапно она вырвалась вперёд и рухнула лицом в золу.
— Не надо, Мия! Не надо! — вскричал юноша как безумный.
Демокед перевёл взгляд на мальчишеские лица, и из них, излучавших свет, по каким-то неуловимым чёрточкам собрался кристально ясный образ того, с кем он виделся лишь раз, а думал — все годы.
— Мальчики! — неожиданно вырвалось у него. — Пойдёмте на наш корабль. Здесь больше нечего делать. В старой Элладе мы создадим новый храм Муз.
АПОФЕОЗ
Как Феникс, в вечном пламени сгорая,
Среди небесных он пронёсся тел
К вратам геометрического рая,
Который первым вычислить сумел.
Для разума отныне нет преграды,
Когда он так осмелился начать
И, под своё крыло собрав монады,
Гармонией вселенской прозвучать.
Пирамидкой пламени Пифагор влетел во мрак трубы, наподобие той, какую мегарец Эвпалин проложил в толще Ампела, и, мгновенно пронизав её, оказался в неоглядном пространстве. О быстроте движения можно было судить лишь по мельканию сфер и смене мрака светом. Пифагор помнил всю свою последнюю жизнь до крайнего её мгновения и мог бы повторить каждое произнесённое им слово и слова, обращённые к нему. Места, где он побывал, мелькая, сменяли друг друга: озарённая закатом Астипалея, обложенные глазурованными плитками ворота Вавилона, храм Танит на зелёном Эрике, указующий перст Ферекида, нависшая над волнами скала Паламеда, праздничная афинская агора, торжественное открытие храма Муз, пророчествующий тирренский гаруспик на стене Цер, статуя Музы с лицом Родопеи... Но если прежде он мог видеть себя, то теперь уже не представлял, каков он, — небесное ли тело или едва видимая точка. Помня об определении формы Земли по отбрасываемой во время затмения тени, Пифагор попытался применить тот же метод к себе, но безуспешно — то ли потому, что он слитком мал, то ли оттого, что пропускал свет.
Сохранился слух. Пифагор слышал звуки сталкивающихся друг с другом осколков планет или звёзд, но огромные небесные тела летели совершенно беззвучно. Через какое-то время — определить его даже приблизительно он не мог — послышались звуки, наподобие тех, что издавали земные инструменты, только более мощные и гармоничные, словно бы извлекаемые не из тростника или рога, а из серебряных труб.
И вот он среди огромных разноцветных треугольников, квадратов, полукружий, совершавших какой-то упоительный танец. Монады плавно соединялись друг с другом прямыми или округлыми боками, образуя более сложные формы. Пифагор отыскал и ту, законы которой открыл в последней из жизней: квадраты, обступившие треугольник, и возликовал.
Некоторые монады приблизились и стали кружить вокруг него, словно бы его узнавая или пытаясь вовлечь в свою игру. Отсюда Пифагор заключил, что он тоже имеет геометрическую форму, и подумал: «Наверное, они тоже не видят себя, как и я, но видят других».
Более всего к нему тяготели круги. Когда один из них, замедлив движение, прошёл совсем рядом, Пифагор каким-то неведомым ему ранее чувством догадался, что это индийский мудрец Гаутама, которого он видел обходящим священное дерево. Другой круг ему был незнаком, но Пифагор по каким-то признакам понял, что это Зороастр, или Заратуштра, как его называли персы.
Промелькнувший полукруг оказался финикийцем Мохом. Сцепившийся с ним треугольник — Моисеем. В двух пытающихся слиться полукружиях он вычислил Алкея и Сапфо и подумал: «Не отразился ли в доказательстве Фалесом деления круга диаметром на две равные части эротический опыт?» Ему страстно хотелось увидеть Гомера, но это ему не удалось, и он понял, что Гомер — собирательный образ.
Не сразу осознал Пифагор, откуда происходит наполняющее всю сферу звучание. Но так как он сам был безгласен, то, следуя логике, решил, что беззвучны все монады. Да если бы они и звучали невпопад, возникла бы невообразимая какофония. Так он пришёл к мысли, что монады стремятся друг к другу не из любопытства, не от одиночества или каких-либо ещё знакомых ему в последней жизни побуждений, а исключительно в неодолимом стремлении соединиться и создать звучащий хор. И когда это удаётся, прежние хоры распадаются, умолкая, и монады, разлетаясь, жаждут вновь объединиться для звучания, не похожего ни на одно другое. И в этом беспредельном разнообразии гармоний есть то, что на земле люди называют богами. «Прав был Ксенофан, — думал Пифагор, — когда насмехался над смертными, мыслящими богов подобными самим себе. Но как он ошибался, считая божество шарообразным, единственным и неизменным. Шарообразны небесные тела, боги же — это симфонии, сочетания фигур, звучащие в бесконечном разнообразии. Конечно, я на Олимпе, на Олимпе, лишённом господства и подчинения. Разве они допустимы в сочетании монад? Здесь нет ни вожделения, ни зависти, здесь властвует не Зевс, не Ахурамазда, не Яхве, а лишь стремление к гармоническому, к совершенству».
Пифагор вошёл в ритм движения и, подчиняясь ему, плавно парил, то взлетая, то опускаясь, не забывая при этом подсчитывать тона и интервалы неожиданно им узнанной мелодии. Да-да, это она, впервые услышанная в юности и пронизывавшая всю его жизнь. И его озарило: видимо, каждый перелом в жизни земных поколений связан с изменением небесной гармонии, и, наверное, ещё продолжается звучание сообщества семи мудрецов, и оно столь могуче, что никому пока не удаётся его вытеснить.
Далеко внизу он увидел мяч размером с тот, каким перебрасывались Анакреонт с Метеохом, но пёстрый, словно сшитый из кусков кожи — в одном месте пурпурной, в другом — золотой, в третьем — голубой. «Да это же Земля! А где же мои воспитанники, мои духовные братья?»
Эта мысль обожгла Пифагора, и он стремительно рванулся, оставив позади Гаутаму и Зороастра. «О, какую же великую фигуру могли бы мы составить, зазвучав всей школой! Где же вы?!» — восклицал он, ощущая, что его волнение вливалось в заполнявшую пространство мелодию, придавая ей некий горестный оттенок.
И вдруг всё на миг стихло. «Какой же я глупец, — подумал Пифагор. — Разве можно составить хор из погруженных в земной сон или обречённых в него вернуться? Барахтаясь во мраке, я пытался воссоздать на земле тени этого мира. Но как они бледны перед открывшимся моему взору зрелищем истины — геометрической, не отягощённой желаниями жизни. Рано или поздно и вы, услышав гармонию сфер, пронесётесь и преодолеете мрак тоннеля. Мужайтесь, души!»
КОММЕНТАРИИ
Хотя обычно не принято раскрывать авторский принцип использования той или иной версии источника, мы всё же сочли необходимым дать, кроме облегчающих чтение постраничных справок, научный комментарий, которым читатель может воспользоваться как своего рода путеводителем в пучине связанных с Пифагором проблем.
Комментирование такого рода, помимо всего прочего, имеет целью объяснить историческую основу романа и отделить авторский вымысел от авторских же гипотез. Из комментариев исключены достаточно известные термины, понятия и имена, объяснённые в постраничных сносках.
А
Абарис, сын Сефта, имевший два прозвища: Небоход и Очиститель — мудрец и ясновидец первой половины VI в. до н.э., выходец с севера (скиф, гиперборей). Согласно роману, написанному в III в. до н.э. Гекатеем из Абдеры, Абарис облетал землю на подаренной ему Аполлоном золотой стреле, обходясь без пищи. Абарис считался автором прозаических сочинений «Свадьба реки Гебра», «Очищение», «Теогония» и поэмы «Путешествие Аполлона к гипербореям». Некоторые авторы считали его учеником Пифагора, Ямблих же видел в нём учителя Пифагора и его союзника в войне за освобождение Акраганта от тирании Фалариса. Порфирий полагал, что именно Абарису Пифагор продемонстрировал своё золотое бедро, после чего и стал именоваться Аполлоном Гиперборейским. Согласно Ямблиху, Пифагор, отняв у Абариса золотую стрелу, без которой тот терял ориентировку, заставил его признать себя богом.
Авлос — музыкальный инструмент типа гобоя из тростника, рога, самшита, костей животных или птиц. Введение авлоса (ок. 700 г. до н.э.) произвело переворот в греческой музыке, сделав возможным появление инструментальной музыки с участием нескольких инструментов. В отличие от флейты, авлос не применялся в оргиях и поэтому мог использоваться во время священнодействий.
Агора — в первоначальном значении — народное собрание, в более позднее время — место общественных дел, особенно торговых. В городе Самосе, как и в других приморских центрах, агора находилась близ гавани. Некоторые города имели две агоры.
Агораном — блюститель агоры, выборное должностное лицо. На агоре Самоса найден почётный декрет в честь агоранома, установившего там фонтан. В надписи упомянуты агораномейон (служебное помещение для агоранома) и стоя (портик). В ходе раскопок обнаружены основания колонн и мраморный дельфинчик, часть этого фонтана.
Акрагант (лат. Агригент) — греческий город на южном побережье Сицилии, основанный в VII в. до н.э. жителями Гелы и Родоса, родина считавшегося учеником Пифагора философа Эмпедокла.
Акусма (букв.: услышанное) — заповеди, изречения и правила жизни, регламентирующие поведение общины ближневосточного типа, которую, по преданию, создал в Кротоне Пифагор. Однако трудно сказать, действительно ли Пифагору принадлежали приписываемые ему акусмы, или они возникли в пифагорейских общинах уже после его смерти. Неясно также, соблюдались ли акусмы в реальной жизни. Одни из акусм отвечали на вопрос: «Что есть...?» (напр., вопрос: «Что есть планеты?» — и ответ: «Псы Персефоны»; или: «Что есть Пифагор?» — «Аполлон Гиперборейский»). Другие: «Что самое ...?» (напр.: «Что самое священное?» — «Лист мальвы»). Третьи акусмы были предписаниями (напр.: «Не купайся в общественных банях», «Не веди разговоров в темноте», «Не поднимай упавшего», «Нс смотрись в зеркало при светильнике», «Не вороши золу ножом», «Держи свою постель свёрнутой», «Придерживай язык», «Не подавай руки без разбора», «Ласточек в доме не держи»). В акусмах последнего типа в древности пытались выявить скрытый аллегорический смысл, полагая, что он разъяснялся во время занятий в пифагорейской школе. Сам термин «акусма» впервые появился у Ямблиха, более ранние авторы говорят о символах, придавая этому слову то же значение.
Алкистен — сибарит, на гиматии которого, согласно свидетельству древних авторов, были вытканы изображения двух персидских городов — Суз и Персеполя.
Алкмеон, сын Пейрифоя — кротонец, ученик Пифагора, автор книги, посвящённой пифагореизму. Занимался медициной и филологией. Сохранилось его утверждение: «О вещах невидимых, равно как и о земных, лишь боги обладают ясным знанием, людям же дано судить на основании свидетельств».
Амазонки — в греческой мифологии женщины-воительницы. Согласно самосскому преданию, амазонок на остров пригнал во время возвращения из Индии Дионис. Местом их гибели в сражении с самосцами считались Красные холмы. Находимые при этом огромные кости (неиды) также приписывались амазонкам.
Амасис (Яхмос) — военачальник египетского фараона Априя, узурпировавший власть и ставший фараоном Египта (570 — 526 гг. до н.э.). Овладев населённым финикийцами и греками островом Кипр, Амасис оказывал влияние на судьбы греческих полисов, опираясь как на собственное богатство, так и на морское могущество своего союзника Поликрата. В самосском Герайоне, по свидетельству Геродота, хранились две раскрашенные деревянные статуи Амасиса.
Аморгос — один из островов Кикладского архипелага к юго-западу от Наксоса, населённый, так же как Самос, ионийцами. Порт Аморгоса Миноя (ныне Катапола) был стоянкой на пути, соединявшем Самос с Критом (Самос — Икария — Аморгос — Фора — Крит). В VII в. до н.э. в Миною пришли самосские колонисты во главе с поэтом Семонидом, и с тех пор её обитателей стали называть самосцами.
Ампел — горы центральной части Самоса, давшие название также и мысу на северном побережье острова.
Анакреонт — знаменитый греческий лирик из ионийского города Теоса. Покинув родину в 545 г. до н.э., после захвата Теоса персами, он вместе с согражданами отправился в теосскую колонию Абдеру во Фракию, где сражался с фракийцами. Через какое-то время прибыл к Поликрату на Самос. В сохранившихся стихах Анакреонта Поликрат не упоминается, но, по сообщению греческого географа Страбона, ему были посвящены многие стихотворения. После гибели Поликрата Анакреонт переезжает в Афины по приглашению тирана Гиппарха на посланном за ним корабле. В Афинах жил в доме богача Крития, боготворившего его.
Анакреонт пользовался уважением и других граждан, и ему была воздвигнута на акрополе статуя. После убийства Гиппарха (514 г. до н.э.) поэт отправляется к фессалийскому тирану в Лариссу, после чего его следы теряются.
Анаксимандр, сын Праксиада (610 — 547 гг. до н.э.) — наряду с Фалесом виднейший представитель милетской философской школы. Он сделал своей целью научное объяснение природы и её принципа (архе), которому следуют все вещи в своём возникновении, развитии и уничтожении. Этим принципом Анаксимандр счёл беспредельное, некую неопределённую субстанцию (апейрон), а не конкретную материальную основу в виде воды или воздуха. Изучая развитие органического мира, Анаксимандр исходил из представлений об эволюции от низших форм к высшим, полагая, что люди произошли от рыб, изменивших свою природу в условиях обитания на суше. Анаксимандру приписывают создание карты Земли и небесного глобуса, введение по вавилонскому образцу солнечных часов и астрономического инструментария для наблюдения за небесными светилами.
Анаксимен, сын Эвристрата (588 — 522 гг. до н.э.) — милетянин, ученик Анаксимандра, исходивший из учения о бесчисленности миров и образовании всех вещей от сгущения воздуха. Поздний исторический роман о Поликрате делает Анаксимена собеседником на пиру самосского тирана. Космогония Пифагора, согласно которой мир образован путём вдыхания извне «беспредельного воздуха», обнаруживает явную связь с космогонией Анаксимена. Согласно преданиям, Анаксимен писал Пифагору письма, одобряя его отъезд в Кротон.
Анкей — по самосским мифам, сын Посейдона и Астипалеи, предводитель лелегов, сыновьями которого от реки Самии (дочери Меандра) считались Перилай, Энуд, Самос и Алиферс, а дочерью — Парфенопа. С именем этого лелегского героя связывали также происхождение Пифагора. Согласно позднему биографу Пифагора Ямблиху, Анкей был родом из Итаки или Кефаллении. Сохранилась самосская монета с легендой «Анкей» над его изображением.
Апис — священный бык древних египтян, которого жрецы храма Пта в древней столице Египта Мемфисе отбирали более чем по трёмстам признакам, из которых на первом месте — чёрная масть и белое треугольное пятно на лбу. Он считался воплощением Амона — самого почитаемого из богов. Сообщение греков об убийстве Аписа Камбизом не подтверждается египетскими источниками.
Аполлон — архаическое малоазийское божество, введённое в греческий пантеон в качестве сына Зевса и Латоны. На Самосе, как свидетельствует одна из надписей, почитался Аполлон Нимфагет (Предводитель нимф). Согласно местной легенде, бог похитил одну из островных нимф — Окирою и перенёс се в Милет. Сохранившийся рассказ о начертанном Пифагором на могиле Аполлона в Дельфах стихотворении, согласно которому Аполлон был сыном Силена, убитым Пифоном (а не его победителем), доносит древнейшие представления об Аполлоне как умирающем и воскресающем боге.
Аполлон Ясновидящий — бог, дарующий предвидение. На Самосе основание храма Аполлона Ясновидящего приписывалось Мнесарху, отцу Пифагора.
Априй — египетский фараон ливийской династии (588 — 570 гг. до н.э.), считавшийся греками любимцем богов, так же как Крез и Поликрат. Прославился победой над Сидоном и войной на море с Тиром. После поражения в войне с Киреной был свергнут изменившим ему военачальником Амасисом (Яхмосом), занявшим египетский престол.
Аргос — главный город Арголиды (Пелопоннес), в древности называвшийся Асписом («щитом»), связанный в мифологической традиции с мифом о бегстве Даная в Египет и возвращении Данаид, родина гомеровского героя Диомеда. После падения микенской цивилизации Аргос был завоёван дорийцами. С 770 г. до н.э. находился под властью Федона, овладевшего также Коринфом, Эгиной, Трезенами. После смерти Федона часть из этих полисов отпала. Знаменитый храм Геры находился в 40 стадиях от Аргоса и в 20 стадиях от Микен. В 519 г. Аргос был разграблен спартанским царём Клеоменом III.
Ареопаг («холм Ареса») — возвышенность к северо-западу от афинского акрополя, место заседаний древнего судилища, которое также называли ареопагом. Основан, согласно преданию, самой богиней Афиной на вечные времена. В годы Солона, сохраняя судебные функции, ареопаг превратился во влиятельный аристократический совет из бывших архонтов.
Аристодем, сын Аристократа, по прозвищу Малак — военачальник, спасший в 524 г. до н. э. италийский полис Кумы, осаждённый этрусками и их союзниками умбрами и давниями и вскоре после этого провозглашённый своим войском и народом Кум правителем полиса. Укрепив своё положение преобразованиями (конфискацией земель знати, раздачей участков неимущим, отменой долгов, наделением части рабов гражданскими правами), Аристодем стал осуществлять активную внешнюю политику, используя в качестве союзников в конфликте с этрусскими полисами правителя Рима Тарквиния Гордого. Изгнанный в 509 г. до н.э. из Рима, Тарквиний нашёл убежище в Кумах.
Аристофилид — тиран Таранта в конце VI в. до н.э.
Артемида — в греческой мифологии богиня малоазийского происхождения, введённая в греческий пантеон как дочь Зевса и сестра Аполлона. На Самосе храм Артемиды находился на горе Хесион, в центральной части острова. Отсюда её эпитет Хесийская. Ещё и во времена Геродота храм самосской Артемиды оставался центром особого праздника с хороводами юношей и девушек, во время которого богине подносили в жертву лепёшки из сезама с мёдом, поедавшиеся участниками празднества. Самосские надписи свидетельствуют также об обычных посвящениях Артемиде части своей добычи охотниками.
Архелай, сын Аполлодора, родом из Милета (первая половина V в. до н.э.) — первый из философов, перенёсший учение Фалеса и его учеников о природе в Аттику, учитель Сократа. По свидетельству одного из древних авторов, Архелай побывал вместе с юношей Сократом на Самосе.
Архонты — выборные должностные лица в греческих городах-государствах.
Асий, сын Амфиптолема — самосский поэт, автор написанных гекзаметром эпических поэм о ранней истории острова, начиная со времени господства там лелегов. Судя по фрагментам недошедших поэм Асия, он был подражателем Гесиода и, скорее всего, жил в VII в. до н.э. Один из тридцати дошедших фрагментов его произведения описывает роскошь одеяний участников священной процессии в честь божественной покровительницы острова Геры.
Ассирийские письмена — обозначение греками письма, известного нам как клинопись без выделения её видов (вавилонского, персидского, арамейского). Неоднократно сообщая об ассирийских письменах персидских царей, греческие авторы ни разу не указывают на своеобразный характер этих письмён и их отличие от греческого.
Астипалея — акрополь города Самоса в южной части острова. Большая часть его была занята дворцом Поликрата. От Астипалеи сохранился низкий куполообразный холм без каких-либо укреплений восточнее городской стены древнего Самоса. В этом месте выходил источник, свидетельствующий об автономном водоснабжении царского дворца.
Астрей (греч. звёздный) — согласно Порфирию, найденный Мнесархом под белым тополем грудной младенец, питавшийся капавшей с ветвей росой. Переданный некоему Андроклу, он был затем подарен Пифагору, который признал божественную природу мальчика и воспитал его как своего раба.
Астрономия — одна из четырёх пифагорейских научных дисциплин, развитых на основе достижений в этой области вавилонян. До пифагорейцев греки не знали названий пяти планет и считали Вечернюю и Утреннюю звезды разными небесными телами. Названия планет Зевса, Афродиты, Кроноса, Гермеса, Ареса (дошедшие до нас в латинском переводе Юпитер, Венера, Сатурн, Меркурий, Марс) восходят к вавилонским названиям планет по именам восточных богов. Нет оснований сомневаться в том, что пифагорейцы использовали результаты многовековых наблюдений вавилонян за изменением в расположении небесных тел и сами осуществляли подобные наблюдения, позволившие им прийти к выводу о шарообразности земли, круговых (или наклонных) орбитах движения планет, их величине и порядке расположения. Оригинальной была пифагорейская гипотеза, согласно которой движение светил рождает гармонию сфер, которая, как правило, не слышна людям (так же, как они не ощущают и движения обитаемой ими земли), но может быть услышана теми, кто обладает особо тонким восприятием. Все основные выводы пифагорейской философии были приняты и изложены Платоном.
Атоса (в персидском звучании — Хутауса) — дочь основателя Персидской державы Кира, бывшая замужем сначала за Камбизом, затем за Бардией и, наконец, за Дарием Гистаспом и оказавшая, как старшая из его жён, значительное влияние на царя царей и его политику.
Афамант — мифический царь Ликии; лишённый Герой рассудка, он убил своего сына Леарха. Его супруга Ио, спасаясь со своим вторым сыном Мелекертом, бросилась в море, где они превратились в морских божеств.
Ахейцы — во времена действия романа народность в северо-западной части Пелопоннеса, населявшая двенадцать городов с их округой, территория которой ранее была занята ионийцами. Ахейскими колониями в Италии были Кротон и Сибарис. После того как в Кротоне были разгромлены пифагорейцы и «греческие полисы преисполнились убийств, междоусобиц и всяческой смуты» (Полибий), ахейцы в качестве представителей метрополии добились умиротворения.
Б
Бардия (или Смердис, как его называет Геродот) — сын основателя Персидской державы Кира, согласно Геродоту, тайно убитый вступившим на престол братом Камбизом, что дало возможность появлению самозванца, правившего семь месяцев под его именем. Не исключено, однако, что версия о самозванце исходила от заговорщиков («семи персов»), свергнувших законного царя, объявив его магом Гауматой, имеющим внешнее сходство с Бардией.
Бел — греческое обозначение вавилонского божества Баала.
Бессмертные — десять тысяч отборных воинов в персидском войске, число которых оставалось неизменным, т.к. место погибших или же умерших занимали другие.
Биант, сын Тевтама из Приены (ок. 590 — 530) — один из семи мудрецов, политический деятель Ионии, пытавшийся в 546 г. до н.э. убедить ионийцев переселиться на далёкую Ихнуссу (Сардинию). Согласно античной традиции, стоял во главе посольства, отправленного на Самос.
Бубар — знатный перс, действовавший во Фракии по поручению сатрапа Мегабаза.
В
Вавилон — греческое название семитского города Бэбилима (Божьи Врата), с 539 г. до н.э. находившегося под властью персов.
Согласно одной из версий биографии Пифагора, философ был захвачен в плен войсками Камбиза и доставлен в Вавилон, где провёл двенадцать лет, занимаясь музыкой, а также арифметикой и другими математическими науками, знакомясь с культом богов, общаясь с магами.
Великая Эллада — обозначение южноиталийских (а некоторыми древнейшими авторами также и сицилийских) полисов, подчёркивающее их преимущество по сравнению с метрополиями. Согласно Ямблиху, это обозначение связано с деятельностью Пифагора и пифагорейцев. Этого мнения придерживаются и некоторые современные исследователи.
Великий Врач — титул главного царского лекаря, засвидетельствованный в египетской надписи Уджагорресента, которого Камбиз назначил своим Великим Врачом, Другом, Управляющим дворцами и Составителем титулатуры.
Г
Ганнон — мореход, выведший карфагенские колонии на север океанского побережья Ливии и осуществивший оттуда научно-познавательную экспедицию в южном направлении. Время плаваний Ганнона в современной науке принято датировать между 520 и 470 гг. до н.э.
Гармоника — учение о гармоническом строении космоса, входящее в четыре пифагорейские научные дисциплины. Пифагор и его ученики пытались определить числовую (математическую) основу всех тогда известных отраслей знания — астрономии, географии, медицины. Пифагором были установлены соответствия гармонических интервалов длине струн. Октава выражалась отношением 2:1, кварта — 4:3, квинта — 3:2. В поздней античности уверяли, что Пифагор, проходя мимо кузницы, услышал удары молотков о наковальню и выделил в них октаву, кварту и квинту, после чего в серии опытов с молотками установил, что различие звуков связано не с материалом молотков, а с их весом. Сообщаются и другие версии опытов, но при этом древние авторы единодушны в том, что Пифагор опирался на математическую теорию пропорций.
Гебр — горный поток Фракии (ныне — Маритца), берущий начало в Родопах и впадающий в Эгейское морс в землях киконов.
Геката — доолимпийская богиня малоазийского происхождения, близкая Селене и Артемиде, покровительница охотников, пастухов и рыбаков, а также родовспомогательница и покровительница влюблённых, обитательница подземного мира и охранительница ворот. Изображалась трёхликой с факелами в руках и змеями в волосах.
Гекатей — первый из греческих историков, автор «Оплыва земли».
Геоморы — применительно к Самосу знатные землевладельцы, обитавшие в городе и сдававшие землю в аренду крестьянам (агроикам) или использовавшие труд покупных рабов. Согласно сообщению историка Фукидида, геоморы заключали браки лишь между собою.
Гера — греческая богиня, считавшаяся, согласно олимпийской мифологической системе, дочерью бога Крона и богини Реи, сестра и супруга Зевса. Главными местами её почитания были Пелопоннес и о. Самос. Пелопоннесцы и самосцы спорили, на чьей земле родилась Гера, и каждая из сторон отстаивала собственную версию.
Согласно самосским мифам, Гера родилась на их острове под священной ивой, которая считалась древнейшим деревом (на втором месте стоял дуб Зевса в Додоне, на третьем — олива Афины на афинском акрополе). Археологические раскопки на Самосе выявили материальные следы почитания женского божества с III тысячелетия до н.э. Древнейший ксоан (деревянная статуя) Геры приписывали Смилиду, современнику знаменитого Дедала. Подражая этому идолу, последующие каменные статуи VII — VI вв. до н.э. воспроизводили в одеянии Геры древесную кору. Гера Самосская — божество растительности, покровительница любви (не брака); девушки на Самосе вступали в половые отношения до свадьбы и восстанавливали «девственность» в реке Имбрас, в устье которой находилось древнейшее святилище Геры. Само имя Гера не греческое, а скорее всего происходит от пеласгийского слова в значении «корень».
Герайон — храм Геры. На о. Самос Герайон находился в 37 стадиях (ок. 7 км) от города, на островке в устье р. Имбрас. Здесь, как показали раскопки, святилище женской богини функционировало ещё в III тысячелетии до н.э. Согласно самосским мифам, это было место рождения Геры, впоследствии осмысленной в качестве супруги Зевса. Каменный алтарь и стоколонный храм Геры здесь появился в VIII в. до н.э. Он был перестроен ок. 560 г. до н.э. архитекторами Ройком и Феодором, став самым крупным святилищем Греции. Вскоре после этого храм был уничтожен огнём и с приходом к власти Поликрата начал восстанавливаться, но не был закончен в связи с гибелью тирана. Памятники Герайона, сосредоточенные в недавно открытом музее (1987 г.), не только дают представление об искусстве разных эпох истории острова, но и подтверждают некоторые упоминаемые древними события, в том числе плавание самосца Колея в Испанию.
Гермес — одно из древнейших греческих божеств, сын Зевса и Майи, покровитель красноречия и мудрости, бог дорог и торговли, проводник душ мёртвых. На Самосе почитался Гермес Харидот (Податель радости). Как сообщает Плутарх, во время самосского праздника Гермеса на Самосе часть культа составлял особый ритуал типа римских сатурналий с переодеванием в чужую одежду, ошибочно толкуемый Плутархом как имитация воровства. В поздней Греции Гермес был отождествлён с египетским богом письма и мудрости Тотом и стал считаться носителем божественного откровения. Именно поэтому в поздних биографиях Пифагора Гермес — предок философа-чудотворца.
Геродот из Галикарнаса (ок. 484 — 425 гг. до н. э.) — автор первого из дошедших до нас исторических трудов, создающего широкое полотно жизни средиземноморского и ближневосточного миров во всех её проявлениях. Самосу эпохи Поликрата, а следовательно и Пифагора, уделено в «Истории» Геродота не меньшее, если не большее, внимание, чем Афинам того же времени. Обещая в начале своего труда сохранить сведения о «достойных удивления сооружениях эллинов и варваров», среди эллинских достопримечательностей он практически говорит только о самосских. Благодаря Геродоту мы знаем не только о греческих, персидских, египетских правителях второй половины VI в. до н. э., но и о строителе Эвпалине, враче Демокеде, гетере Родопее и многих других реальных персонажах, ставших героями нашего романа.
Гесиод — эолийский эпический поэт, живший на грани VIII — VII вв. до н.э., столетие спустя после смерти Гомера, автор уцелевших поэм «Теогония» («Происхождение богов»), «Труды и дни» и, возможно, небольшой поэмы «Щит Геракла». Гесиод, бесспорно, один из тех авторов, которых хорошо знал Пифагор, и, строя свою научную космологию, он вступал в полемику с концепцией Гесиода, основанной на мифах восточного и греческого происхождения.
Гетеры — в греческом мире незамужние женщины, сексуальные связи с которыми давали грекам то, чего они не имели в законном браке — общение на почве литературы, философии, искусства. С VII в. до н.э. гетеры засвидетельствованы в Балканской Греции, Ионии, на островах. Имена гетер мы узнаем из стихов лирических поэтов. Из гетер более позднего времени наиболее знамениты Аспасия, Фрина, Тайс. Согласно одной из легенд, в каком-то из своих существований гетерой был и Пифагор.
Геты — обитатели северной части Балканского полуострова, между реками Данувием и Данастрием (Дунаем и Днестром).
Гимнасий — место гимнастических занятий взрослого (начиная с возраста эфебов) населения греческого города. В ряде надписей Самоса упоминаются гимнасиархи — выборные лица, почётной обязанностью которых было обеспечение атлетов всем необходимым для подготовки к состязаниям и организации самих состязаний. Место самосского гимнасия не установлено. Можно думать, что оно находилось там, где впоследствии был построен театр.
Гипербореи (дословно: «живущие за северным ветром») — мифический народ Крайнего Севера, возлюбленный Аполлоном, проводившим там время. Пифагор почитался своими последователями как Аполлон Гиперборейский.
Гиппарх — младший сын Писистрата, правивший в Афинах вместе с братом Гиппием после смерти отца. Он покровительствовал культуре: пригласил в Афины поэтов Симонида и Анакреонта, упорядочил греческий эпос. Погиб в 514 г. до н.э. в результате заговора Гармодия и Аристогитона.
Гиппас — согласно одним авторам, родом из Сибариса, согласно другим — из Метапонта, ученик Пифагора, математик, которому приписывают построение додекаэдра, вписанного в шар, и открытие иррациональных чисел. Согласно легенде, он выдал непосвящённым пифагорейское знание и по воле разгневанного божества погиб в море как нечестивец. По другой версии, им было присвоено открытое Пифагором построение в шаре додекаэдра. По ещё одной версии, Гиппаса изгнали из школы и при жизни воздвигли ему погребальное сооружение как покойнику.
Гиппий — старший из сыновей Писистрата, взявший власть после гибели Гиппарха в 514 г. до н.э. Изгнанный из Афин, он нашёл убежище у персидского царя и впоследствии принял участие в походе персов на Элладу.
Гистиэй, сын Лисагора — правитель захваченного персами Милета в годы царствования Дария, участник его скифского похода.
Главк Хиосский или Самосский (середина VII в. до н.э.) — изобретатель способа закалки железа и спайки железных изделий.
Гобрий (Гаубурава) — персидский военачальник, один из участников «заговора» семи против Бардии. Жестоко подавил антиперсидское восстание в Вавилоне, воевал в армии Дария со скифами.
Гомер — предполагаемый создатель греческого героического эпоса, судя по всему, живший в Ионии на грани IX — VIII вв. до н.э. Запись приписываемых Гомеру произведений, в том числе «Илиады», «Одиссеи» и части так называемых «гомеровских гимнов», была осуществлена в середине VI в. до н.э. в Афинах по распоряжению Писистрата. В ряде полисов в VI в. до н.э. к произведениям Гомера относились отрицательно — как по политическим мотивам (восхваление предков аристократов, с которыми боролся демос), так и этическим соображениям (изображение богов в порочащем их свете).
Горгира — подземная тюрьма на Самосе, находившаяся по соседству с храмом Гермеса Горгирия. В ней был заточен полоумный брат Меандрия, зачинщик истребления персидского отряда, ставшего причиной самосской резни, учинённой воинами Отаны. Название тюрьмы, так же как и эпитет Гермеса, скорее всего, произошло от одноимённого района города Самоса.
Д
Дарий (в персидском звучании — Дарайавуш) — знатный перс из младшей ветви рода Ахеменидов, телохранитель Камбиза, участник завоевания Египта в 525 г. до н.э., ставший царём Персии после свержения Бардии (или Лже-Бардии) в 521 г. до н.э.
Дедал — легендарный скульптор, связанный мифами с древними Афинами времени древних царей и Критом эпохи царя Миноса. Поскольку дедалами называли все древнейшие статуи и идолы, можно думать, что отсюда было произведено само имя Дедала.
Делос — центральный остров Кикладского архипелага, считавшийся местом рождения Аполлона и Артемиды. Был первоначально заселён карийцами и лишь около 1000 г. до н.э. греками. До рождения божественных близнецов, согласно легенде, остров носило по морю ветрами.
Дельфы — священный город Фокиды на склоне горы Парнас, в двух километрах от Коринфского залива, знаменитый своим храмом Аполлона, основанным, по преданию, на месте, где богом был убит чудовищный Пифон, преследовавший его мать. Дельфийский оракул считался наиболее авторитетным, и ни одно сколько-нибудь значительное из предприятий греческих городов-государств не обходилось без получения совета дельфийской пифии. С Дельфами связаны рассказы о посещении святилища Аполлона как самим Пифагором, так и его родителями, получившими оракул о предстоящем рождении необыкновенного сына и предписание дать ему имя Пифагор — возвещённый пифией (или Пифийским богом). Одна из пифий (Фемистоклея) считалась вдохновительницей учения Пифагора.
Демокед, сын Каллифонта — автор не дошедшей до нас врачебной книги, создатель кротонской медицинской школы, подготовившей почву для развития пифагорейской науки. Видимо, учениками Демокеда были Алкмеон, автор медицинского труда, ставший учеником Пифагора, Менестор из Сибариса, Акрон из Акраганта, Гиппон из Метапонта. Деятельность самосца Пифагора в Кротоне относится ко времени пребывания Демокеда на Самосе при дворе Поликрата и его многолетнего плена и нахождения при дворе Дария в качестве Великого Врача. По возвращении в Кротон, скорее всего после разгрома пифагорейцев, Демокед начал новую жизнь, взял в жёны дочь пифагорейца Милона и, очевидно, возобновил деятельность своей медицинской школы. Однако существует и другая версия, согласно которой Демокед после расправы над пифагорейцами бежал с эфебами в Платсю (Беотия), где пал в битве с преследующими его в самой Греции сторонниками Килона. Теоретические положения и медицинская практика Демокеда, возможно, оказали влияние на пифагорейскую медицину, для которой характерны стремление распространить принципы симметрии на режим больных и здоровых, на их питание, а также гармонизация человеческого быта введением музыки.
Дидимейон — святилище в окрестностях Милета, славившееся оракулом жреческого рода Бранхиадов. Было разрушено персами в 494 г. до н.э.
Дикеархия — колония, основанная самосцами на северном берегу Неаполитанского залива между 531 и 524 гг. до н.э. Бьющий поблизости со дна моря тёплый источник позднее дал городу название Путеолы. Будучи первоначально гаванью Кум, в римское время Диксархия-Путеолы превратилась в главный римский порт. Уже во второй половине II в. до н.э. по товарообороту она занимала второе место после Делоса.
Диктина — верховная богиня пантеона древних критян, получившая имя по месту её почитания — горному хребту Дикте. Она считалась кормилицей Зевса, спрятанного от гнева Кроноса в одной из пещер этого хребта. В годы создания «гомеровских гимнов» (VI — III вв. до н.э.) Диктина как покровительница рыбаков и охотников особенно почиталась на островах Эгеиды.
Диоген Лаэртский (III в. н.э.) — греческий писатель, автор популярного жизнеописания философов в десяти книгах. Для него философия имеет двух основателей: на востоке греческого мира это Анаксимандр, на западе — Пифагор. В очерке, посвящённом Пифагору, Диоген придерживается такого же плана, по какому им написаны и жизнеописания других философов: I. Происхождение. 2. Воспитание, философское образование, странствия. 3. Основание школы. 4. Характер и привычки. 5. Главные события жизни. 6. Свидетельства о смерти, хронология жизни. 7. Труды. 8. Учение. 9. Документы (завещание, письма). 10. Тёзки Пифагора. Так же как Порфирий, Диоген указывает источники своей информации о Пифагоре и приводит из них цитаты, в то время как Ямблих, наряду с прямыми указаниями, даёт многочисленные косвенные ссылки. В нашем комментарии цитаты из Диогена Лаэртского и Порфирия даются по переводу М.Л. Гаспарова (Диоген Лаэртский. О жизни, учении и изречениях знаменитых философов. М., 1979).
Дионис — бог фригийского или фракийского происхождения, покровитель вина и виноделия, с именем которого связано множество греческих мифов — о рождении и воспитании бога, о его дальних странствиях и возвращении в Элладу, которой он дал вино. Эмоциональный культ Диониса, соответствующий мифу о нём, стал истоком театрализованных представлений — трагедии и комедии. О похождениях Диониса могла повествовать несохранившаяся поэма самосского поэта VII в. до н.э. Асия в семи книгах. На Самосе почитался Дионис Горгирий (очевидно, от городского района Горгира).
Драконт — законодатель, записавший в 621 г. до н.э. действующие законы в Афинах и тем самым ограничивший произвол эвпатридов, обладавших судебной властью.
Дориэй (550 — 508 гг. до н.э.) — сын Анаксандрида от его первой жены, долго остававшейся бесплодной, сводный брат Клеомена, получившего трон в Спарте. Ища счастья на Западе, он побывал в Ливии, Сицилии и, по одной из версий, участвовал в войне с Сибарисом на стороне Кротона.
Дукетий — вождь порабощённых греками сикелов, создавший по греческому образцу федерацию сикелских поселений и городов (460 г. до н.э.).
Дэвы — в мифологии персов со времени торжества зороастризма злые духи, противоборствующие Ахурамазде и всем, кто ему поклоняется. Легендарные и исторические цари персов мыслились дэвоборцами.
3
Залмоксис — обожествлённый герой северного племени гетов, которого древние авторы, начиная с Геродота, считали рабом Пифагора. Согласно Порфирию, Пифагор «любил Залмоксиса и научил его наблюдению небес, священнодействиям и иному почитанию богов». Порфирий ссылается на одного из авторов, сообщающего, что, «когда Пифагор из-за гражданских смут находился в изгнании, Залмоксис попал в плен к разбойникам и был заклеймён выжженными на лбу знаками». Имя Залмоксис в древности истолковывали от фракийского слова в значении «медведь», «медвежья шкура» и «чужеземец».
3анкла — колония эгейского полиса Халкиды на сицилийском берегу пролива, отделяющего остров от Италии. Основана в 755 г. до н.э. В конце VI в. до н.э. здесь поселились самосские беглецы. После их изгнания город был заселён выходцами из пелопоннесской Мессаны и стал называться Мессаной (с 488 г. до н.э.).
Зороастр (Заратуштра) — основатель распространённой в Персии религии, получившей название зороастризма. Главная идея этой дуалистической религии — борьба света и добра, воплощённого в единственном боге Ахурамазде, с воплощением зла и мрака, олицетворённого его антиподом Ариманом (Агри-Манью), окружённым злыми духами — дэвами. Согласно одной из легенд, Пифагор, находясь в Вавилоне, посетил Зороастра (в тексте имя искажено — «Забрата»), от которого «принял очищение от прошлой скверны и узнал, от чего должен воздерживаться взыскующий муж, в чём состоят законы природы и начала основания всего» (Порфирий).
И
Ивик, сын Филия — греческий поэт родом из Регия (Южная Италия), расцвет творчества которого приходится на 61-ю олимпиаду (536 — 533 гг. до н.э.). Оксиринхский папирус сохранил одну из песен Ивика, в которой воспевалась красота Поликрата, видимо, юного сына самосского тирана, о котором молчат другие источники. Имеются сведения о том, что Ивик был похоронен у себя на родине, но это не даёт основания отвергать исторической основы легенды об Ивиковых журавлях.
Икарийское море — акватория между островам и Икарией, Самосом и Косом, известная Гомеру. Получило название по острову Икария, который превращён мифом в место падения Икара для объяснения притязаний Афин на острова Икарийского моря, прежде всего на остров Самос. Основанием для такого притязания послужило наличие в Аттике дема Икария (название карийского происхождения).
Илисс — высохшая ныне река в Аттике, протекавшая южнее Афин и в древности впадавшая либо в реку Кефис, либо в Фалерскую бухту.
Имбрас — главная река в центральной части Самоса, стекающая с возвышенности Хесион, также название одного из островов близ Херсонеса Фракийского. В мифе об Окирое Имбрас — супруг горы Хесион и отец этой нимфы.
Ионийское море (или Ионийский залив) — часть Средиземного моря между Балканским и Апеннинским полуостровами. Название это в V в. до н.э. иногда связывалось со странствиями мифической Ио, возлюбленной Зевса.
Ионийцы — одна из эллинских народностей, почти полностью вытесненная в XI в. до н.э. во время дорийского переселения из материковой Греции (Пелопоннеса) на эгейское побережье Малой Азии и некоторые прилегающие к нему острова. Здесь образовался союз двенадцати городов, названный Ионийским. В него входили Фокея, Эритры, Клазомены, Теос, Лебед, Колофон, Эфес, Милет, Миунт, Приена, а также Самос и Хиос (на одноимённых островах). Впоследствии к союзу присоединилась Смирна. Центром Ионийского союза была священная роща на северном склоне мыса Микале, против которого находился остров Самос. Ионийцами были поэты Гомер и Анакреонт, мудрецы Биант, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Ксенофан, историк Гекатей и др. Ионийский диалект несколько отличался от родственного ему аттического.
Иония — центральная часть эгейского побережья Малой Азии и острова Самос и Хиос, заселённые ионийцами. После возвышения лидийских царей материковая Иония попала в зависимость от них, а после победы персов над лидийским царём Крезом стала частью Персидской державы. Заселённые ионийцами острова Самос и Хиос сохраняли независимость до прихода к власти персидского царя Камбиза. Иония — колыбель греческого искусства и науки.
Исида — египетское божество материнства, сестра и супруга Осириса, изображалась с коронообразным венцом на голове, позднее с коровьими рогами и лунным диском.
И с т м — перешеек между Коринфским и Сардоническим заливами, соединяющий Пелопоннес со Средней Грецией. С начала VI в. до н.э. место проведения Истмийских игр в честь Зевса.
К
Камбиз (Камбузия) — сын Кира, царь царей (530 — 522 гг. до н.э.), присоединил в 525 г. до н.э. к Персидской державе Египет. Согласно греческой традиции, не подтверждаемой египетскими письменными памятниками, он отличался жестокостью и своеволием, граничащим с безумием.
Карийцы — народ в западной части Малой Азии, обладавший в доантичную эпоху властью на морях. В VI в. до н.э., после захвата Карии персами, карийцы наряду с фракийцами были главной силой персидского военного флота.
Картхадашт (греч. Кархсдон, лат. Карфаген) — колония финикийского города Тира, создавшая в VII — V вв. до н.э. могущественную державу, охватывающую побережье Ливии, часть Иберии и крупные острова Западного Средиземноморья. Сведений о пребывании Пифагора в этом городе нет. В приведённом Ямблихом списке пифагорейцев присутствуют четыре карфагенянина: Мильтиад, Анфен, Годий, Леокрит.
Керкетий — покрытый лесом горный массив, захвативший всю западную часть Самоса, наивысшая точка — 1443 м.
Кетеи (хетты, хати) — народ центральной части Малой Азии, создавший могущественное государство. В середине II тысячелетия до н.э. кетейские цари были главными соперниками египетских фараонов за обладание Сирией и Финикией. Несколько позднее они вступили в контакт с обитателями эгейского побережья Малой Азии. В хеттских источниках Илион известен под именем Вилуша, а государство ахейцев, соперничающее с Вилушей, как Ахиява. Кетейские цари обладали монополией на торговлю железом, в других районах Передней Азии уже очень ценимого, но ещё не вытеснившего бронзу.
Кидония — город на северо-западном побережье Крита, ставший в VI в. до н. э. колонией Закинфа, а затем Самоса.
Кикеон — напиток из вина, воды и ячменной крупы с добавлением мёда и тёртого сыра.
Килон — 1. Афинский аристократ, победитель в Олимпийских играх, пытавшийся установить тиранию (632 г. до н.э.). 2. Кротонец, отличавшийся, согласно сообщениям древних авторов, неистовостью и склонностью ктирании. Будучи не принят в пифагорейскую общину, он вместе со своими сторонниками организовал заговор против пифагорейцев и поджёг дом Милона, служивший местом их собраний. Ямблих называет Килона экзархом (правителем) Сибариса, что даёт основание современным учёным видеть политическую, а не личную основу конфликта между кротонскими властями и пифагорейцами. К числу спасшихся одни относят младших по возрасту тарентца Архиппа и некоего Ликида, которым удалось силой пробиться через окружение, другие — Филолая. В отношении самого Пифагора у древних авторов нет единства. Одни считают, что заговор произошёл во время отъезда Пифагора, другие говорят о его чудесном спасении из огня, но гибели на поле, засеянном бобами, третьи — о переселении в Метапонт и смерти там в глубокой старости.
Кипр (в III — II тысячелетии до н.э. Алашия) — остров в восточной части Средиземноморья, заселённый в античную эпоху финикийцами и эллинами, важнейший ремесленный и культурно-религиозный центр, место почитания Астарты-Афродиты, с 569 по 526 г. до н.э. находился под властью Египта, позднее — Персии.
Кипсел (620 — 590 гг. до н.э.) — коринфский тиран, предшественник Периандра.
Кир (в персидском звучании — Кураш) — внук Астиага, царь персидских племён в 558 — 530 гг. до н.э., разрушивший Мидийское царство и создавший могущественную передневосточную державу, включившую при его жизни также Среднюю Азию и Кавказ. Попытка сломить сопротивление кочевников Средней Азии — скифов, саков, массагетов — кончилась его гибелью.
Кирена — греческий город в Северной Африке, восточнее Карфагена, основанный в 631 г. до н.э. гражданами островного государства Фера по указанию Дельфийского оракула. Вместе с четырьмя расположенными поблизости колониями Кирена составила пятиградье. Ойкист Кирены Аристотель принял имя Батт, которое стали носить многие правители созданной им династии. Правитель Кирены Аркесилай III признал в 525 г. до н.э. верховную власть Персии. Главным божеством города был Аполлон, храм которого находился у источника Киры, давшего название городу и области (Киренаика).
Китион — один из важнейших городов Крита, колонизованный в древности (с 800 г. до н.э.) ахейцами. Первоначальное его финикийское название — Картхадашт. Управлялся и во время персидского владычества собственными царями. Китионцы имели в Афинах святилище Афродиты Урании.
Кифара — музыкальный инструмент, в годы жизни Пифагора имевший семь струн, звуки из которых извлекались с помощью плектра. В V в. до н.э. количество струн было увеличено до десяти — двенадцати.
Клерухи (от греч. клер — надел) — военные поселенцы, в отличие от колонистов апойкий сохранявшие прежнее гражданство. Клерухи Самоса были выведены на отделённый от Самоса проливом полуостров Микале (ок. 700 г. до н.э.), где заселили местность Перрайю, а также на острова Аморгос (под предводительством поэта Семонида, VII в. до н.э.) и Самофракию (VI в. до н.э.).
Клисфен — тиран Сикиона (города-государства Северного Пелопоннеса), проведший в первой четверти VI в. до н.э. антиаристократические реформы и заменивший родовые филы территориальными. Играл важную роль в войнах своего времени (Священная война 580 г. до н.э.). О нём известно также, что он запретил публичное чтение Гомера.
Клисфен, сын Мегакла и по матери внук Клисфена Сикионского — афинский аристократ, возглавивший в 509 — 507 гг. до н.э. афинский демос и осуществивший сходные с преобразованиями своего деда реформы, положившие конец политическому владычеству эвпатридов и их экономической мощи.
Книд — греческий город на юго-западе Малой Азии, прославившийся своей медицинской школой. В 540 г. до н.э. был захвачен персами. Поддерживал тесные отношения с Навкратисом и Италией.
Колей — мореплаватель с острова Самос, ок. 638 г. до н.э. проложивший путь через Столпы Геракла в Океан и установивший связи с Тартессом. Однако торговля с этим центром юго-западной Испании оказалась в руках не Самоса, а Фокеи.
Колофон — один из могущественных ионийских городов, славившийся до завоевания персов изнеженностью его обитателей. Родина философа Ксенофана. Название города значит «вершина», «венец».
Коринф — город на Пелопоннесе, известный также под более древним названием Эфира. Обладавший двумя портами на Сароническом и Коринфском заливах, Коринф обеспечил себе контроль над Истмом, используемым для переправы судов из Эгейского в Ионийское море и захвата наиболее выгодных опорных пунктов на колонизуемых территориях (Керкира, Сиракузы, Аполлония и др.). Коринф достиг наивысшего прогресса в ремесленном производстве и судостроении — коринфская керамика, коринфская бронза, сооружение на Самосе по коринфскому проекту первой триеры. B IX — середине VIII в. Коринф управлялся царями, позднее выборными правителями, избиравшимися, однако, из одного аристократического рода Бакхиадов. На годы их правления падает творчество поэта Эвмела, автора «Титаномахии» и «Коринфиаки» (мифической истории Коринфа).
Крез — царь Лидии в 557 — 546 гг. до н.э., включивший материковые ионийские города в орбиту своей державы, но не вмешивавшийся в их внутренние дела, а с обитателями островов заключивший выгодный для них союз. Согласно преданию, Крез приглашал к себе в столицу Сарды эллинских мудрецов и художников, поражая их великолепием своего дворца и щедро награждая. Поликрат и другие греческие тираны старались подражать Крезу в роскоши и в покровительстве талантам. Исходя из печального опыта Креза, разбитого и пленённого персидским царём Киром, они не вступали в конфликт с могущественной Персидской державой. Однако Поликрату не удалось избежать судьбы Креза.
Крестонеи — фракийское племя, обитавшее в нижнем течении рек Аксия и Стримона. Согласно свидетельству историка Фукидида, имели пеласгийское происхождение и говорили на двух языках.
Кротон — колония ахейцев и спартанцев, основанная на юге Италии (Бруггий) в 710 г. до н.э. Наивысшего расцвета город достиг в VI в. до н.э., когда он стал центром медицинской школы Демокеда и философской — Пифагора. В 510 г. до н.э. кротонцы победили соседний могущественный город Сибарис, разрушили его и затопили водами направленных на него рек. Согласно легенде, название города связано с местным героем, убитым нечаянно Гераклом.
Ксенофан, сын Дексия (или Ортомена) из Колофона (ок. 570 — 480 гг. до н.э.) — философ и поэт, живший и действовавший в том же регионе (Занкла, Катана, Элея) и в то же время, что и Пифагор, критик гомеровской и гесиодовской картины мира как дискредитирующей разум. Он оставил эпические поэмы об основании Колофона и Элеи, элегии и ямбы, которые сам же публично исполнял. Из сохранившихся отрывков и изложения его учения античными авторами видно, что Ксенофан занимался изучением универсума, отождествляемого с разлитым в нём и имеющим ту же форму, обладающим чувством и разумом неподвижным божеством, высказывая сомнение в возможности правильного восприятия человеком окружающего мира. На этом основании он постулировал существование многих солнц и лун, рождающихся из сгущения пара, бесконечность земли, не окружённой ни воздухом, ни небом. О личном знакомстве Пифагора с Ксенофаном и о критике последним Пифагоровой теории метемпсихоза свидетельствуют строки его элегии о защите избиваемого щенка:
Стой! Прекрати его бить! Визгу бедняги внимая, Друга умершего дух в нём я сумел распознать.Курос (греч. юноша) — в скульптуре эпохи архаики — изображение мужской фигуры, нередко трактуемое как статуи Аполлона. Согласно Геродоту, даром самосского мореплавателя Колея в Герайоне были три куроса, поддерживавших своими головами серебряную чашу. В ходе недавних раскопок самосского Герайона был обнаружен курос высотою в три человеческих роста.
Л
Латины — заселявшее Лаций италийское племя с первоначальным центром в Альба-Лонге, в VI в. до н.э. подчинённое Римом, городом со смешанным латино-сабинским населением, находившимся под властью этрусских царей.
Левканы (луканы) — местное население Южной Италии, побережье которой с VII в. до н.э. было колонизовано греками. Независимые луканские общины управлялись племенной знатью во главе с вождями (медиксами). Согласно Порфирию, левканы, так же как мессапы, певкеты и римляне, посещали Пифагора, чтобы набраться от него мудрости.
Лелеги — древнейшая, скорее всего карийская, народность, обитавшая во II тысячелетии до н.э. на берегах Малой Азии, на островах Эгейского моря и на Балканах. Впоследствии лелеги Самоса смешались с появившимися на острове переселенцами из Эпидавра, которых, по преданию, возглавлял Прокл.
Лемнос — остров Эгейского моря, широко представленный греческой мифологической традицией (миф об аргонавтах, убежище Филоктета, родина Гефеста — бога малоазийского происхождения, введённого в число олимпийских богов). На посвящённой Гефесту горе Мосихле, потухшем в античную эпоху вулкане, были залежи так называемой лемнийской земли, наделявшейся священной силой. Черепки вылепленных из неё сосудов с печатью служили амулетами. В 511 г. до н.э. остров был завоёван одним из семи персов — Отаной. Древним населением острова считались синтии (фракийское племя), пеласги, тиррены. Найденные на острове надписи свидетельствуют, что ещё в VI в. до н. э. население говорило на языке, родственном этрусскому.
Лесбос — крупный остров Эгеиды, известный уже во II тысячелетии до н.э. хеттам под именем Лесба. Согласно Гомеру, был частью державы Приама. В тёмные века был заселён эолийцами, Родина поэтов Сапфо, Алкея и Ариона.
Лигустины (лигуры) — народ, во времена Пифагора населявший тирренское побережье Северной Италии и средиземноморское побережье Кельтики.
Лидийцы — народ Малой Азии, населявший плодородную долину реки Герм. В древности они назывались меонийцами.
Локры Эпизефирские — колония Локр, основанная между 680 — 570 гг. до н.э. близ мыса Зефирион на юге Италии. Согласно преданию, локрийцы жили по законам древнейшего из греческих законодателей Залевка. Одержав победу над Кротоном в битве при Сагре, локрийцы вывели собственные колонии на тирренском побережье Италии. О конфликте между Локрами и Кротоном можно судить не только по сведениям античных авторов, но и по найденной в Олимпии надписи, оставленной Локрами и её колониями: «Граждане Гиппония, Медмы и Локр за победу над Кротоном». Полтора столетия спустя после смерти Пифагора Платон описал италийские Локры как великолепный и богатый город, в котором процветала философия.
Лотофаги (дословно: пожиратели лотоса) — мифический народ, упоминаемый Гомером в рассказе о странствиях Одиссея по западным морям, локализуемый античными комментаторами у северного побережья Ливии, чаще всего на островке Никинга между Большими и Малыми Сиртами. Считалось, что плод предлагаемого ими лотоса заставлял вкусивших его мореплавателей забыть отечество и остаться на острове лотофагов навсегда.
М
Маги — в понимании греков жрецы мидийско-персидской зороастрийской религии. Жрецов более древней вавилонской религии греки называли халдеями.
Магнезия — название двух городов Малой Азии: одного на реке Меандр, другого — на реке Герм, называемая также Магнезией у Сипила (по находящейся рядом горе). Явления магнетизма связаны с последней.
Мандрокл — самосский строитель, воздвигнувший мост через Боспор и пожелавший увековечить себя на картине перехода через мост персидского войска. Самосское происхождение Мандрокла предполагает его связь с созданной на Самосе инженерной школой во главе с Эвпалином.
Мардоний, сын Гобрия (Гаубуравы), внук Мардония — став мужем дочери Дария Арразостры, занял за девять лет до разрушения Сибариса, должность командующего персидской армией и флотом. Был смещён в 492 г. до н.э. за неудачу первого похода против Греции. Его преемниками стали лидиец Артафрен, сын Артафрена, и мидиец Датис.
Массилия (ныне Марсель) — колония фокейцев, основанная в 600 г. до н.э., ещё до захвата персами их метрополии (Фокси).
Меандрий, сын Меандрия — правитель Самоса после отъезда Поликрата в Магнезию, сохранивший власть до захвата острова персами и передачи ими власти Силосонту.
Мегабаз — полководец Дария, сатрап, стоящий по главе Малой Азии, Херсонеса и завоёванной при Дарии Фракии.
Мегара — родина инженера Эвпалина и поэта Феогнида (VI в. до н.э.), греческий город в узкой долине между Истмийским перешейком и Аттикой, с 1000 г. до н.э. находился под влиянием дорийского Аргоса. В VIII — VII вв. до н.э. важнейший торгово-ремесленный центр, метрополия Византия, Гераклеи Понтийской, Астака, Мегары Гиблейской, давний соперник Афин и Коринфа. Около 600 г. до н.э. Мегара попала под власть тиранов и вступила в длительные войны с Афинами за остров Саламин, завершившиеся победой Афин. В городе было два акрополя.
Мезенций — судя по этрусской надписи VI в. до н.э. на керамике из Цер («Я принадлежу Мезенцию, сыну Лауса»), реальное историческое лицо, превращённое впоследствии римскими легендами в противника Энея и троянцев.
Менелай — младший сын Атрея, брат Агамемнона, царствовавший в Спарте.
Менестор из Сибариса — ученик Демокеда, автор труда по ботанике, впоследствии цитировавшегося учеником и преемником Аристотеля Феофрастом. Согласно Ямблиху, Мснестор был учеником Пифагора.
Мессапы — обитатели Южной Италии, близкие по языку иллирийцам, но греками ошибочно считавшиеся критскими переселенцами. Во времена действия романа они ещё не имели письменности.
Метапонт — город на побережье Тарентийского залива, основанный в VII в. до н.э. Гомеру известна на этом месте стоянка Одиссея Алибант. О тесной связи Метапонта с пифагореизмом свидетельствует пифагорейская легенда, по которой Пифагор не погиб вместе со своими учениками в Кротоне, а спасся бегством в Метапонт, где умер своей смертью в глубокой старости.
Метемпсихоз — учение о переселении душ, у эллинов впервые принятое орфиками и пифагорейцами. Поздние биографы Пифагора возводят это учение к египетской мудрости, не зная, что подобная идея была чужда Египту, противореча египетским представлениям о загробной жизни, которые нам известны по древнейшим египетским текстам и иконографии. С идеей метемпсихоза, скорее всего, Пифагор мог познакомиться в Вавилоне, имевшем давние связи с Индией, но не исключено и пребывание Пифагора непосредственно в Индии, где идея переселения душ лежала в основе практически всех философско-религиозных систем. За пределами античного мира метемпсихоз был засвидетельствован также в учении кельтских жрецов друидов.
Метеох — старший сын афинянина Мильтиада, основавшего в середине VI в. до н.э. афинскую колонию на Херсонесе Фракийском. В труде греческого историка Геродота Метеох — герой новеллы времени персидского царя Дария, но в дошедшем до нас в обрывках папирусных свитков романе эпохи эллинизма юный Метеох — гость Поликрата Самосского, устраивавшего в его честь пир, на котором присутствуют Парфенона и милетский философ Анаксимен.
Микале — гористый мыс в Малой Азии напротив острова Самоса. Находившийся здесь храм Посейдона (Паниониум) был священным местом всех ионийцев.
Микены — один из древнейших городов-крепостей Арголиды, расположенный, согласно Гомеру, в «углу конелюбивого Аргоса». Во времена Пифагора древние Микены лежали в руинах и рядом с ними существовало небольшое поселение.
Милет — один из ионийских городов, основанный, по преданию, афинским царевичем Пелеем. И в самом деле город существовал уже во II тысячелетии до н.э. под названием Милованда. В годы жизни Пифагора, несмотря на зависимость от персидского царя, Милет был центром колониальной и торговой экспансии, преимущественно в северном направлении. Включение в сферу Персидской державы давало милетянам возможность выхода и на восточные рынки. Милет был местом скрещения вавилонского и египетского влияния. Как подданные персидского царя, милетяне могли принимать у себя восточных учёных и сами посещать подвластные персам страны.
Мильтиад, сын Кипсела — афинянин, победитель на Олимпийских играх (ок. 560 г. до н.э.), основатель афинской колонии на населённом фракийцами полуострове Херсонес, отец Метеоха.
Мильтиад Младший — видимо, младший брат первого из Мильтиадов, принимавший участие в походе Дария на скифов, в дальнейшем герой греко-персидских войн.
Мия — в одной из версий дочь Пифагора, «первая в Кротоне в хороводе девиц и в замужестве — первая в хороводе замужних» (Порфирий). Ей приписывались философские труды. Её дом был посвящён Деметре, а улица, на которой он находился, Музам.
Мнесарх (или Мнемарх) — отец Пифагора. Большинство древних авторов считают его коренным самосцем, потомком ионийских завоевателей острова. По одной версии, Мнесарх был резчиком драгоценных камней, по другой — торговцем (иногда с уточнением: торговцем зерном). Но существовало также и мнение, что Мнесарх — сириец из финикийского города Тира, прибывший на Самос по торговым делам, устроивший раздачу хлеба голодавшим тогда самосцам и за это удостоенный самосского гражданства. Мнесарха называли также и тирреном, то есть потомком древнейших обитателей островов Лемноса, Имброса и Сироса. По одной из версий, прибыв в Дельфы с беременной женой, он получил от пифии совет отправиться в Сидон, где у него родится выдающийся сын, которому следует дать имя Пифагор.
Молосские псы — свирепые пастушеские собаки, названные по племени молосов в Эпире. По свидетельству самосского историка Алексиса, эти псы были перевезены на остров Самос вместе с козами с островов Скироса и Наксоса и овцами из Милета и Аттики.
Мох — финикийский мудрец из Силона, жизнь которого относили ко времени Троянской войны, создатель учения об атомах, по одной из версий — старший современник и учитель Пифагора.
Музы — в греческой мифологии дочери Зевса и Мнемозины (Воспоминания). Имя их матери и функции дочерей делают наиболее вероятной трактовку самого термина как Мыслящие, Помнящие. Они почитались первоначально на горных высотах, в рощах, пещерах, места их культа с алтарём для жертвоприношений в древности назывались мусейонами. Упоминание о мусейонах в связи с Пифагором заслуживает особого внимания, поскольку это согласуется с ролью метемпсихоза в учении самосского философа и значимостью развития памяти в системе пифагорейского обучения. Видимо, практика Пифагора способствовала новому пониманию Муз как покровительниц научного знания. Школа Пифагора, мусейон, стала прототипом как афинской школы последователя Пифагора Платона, так и знаменитого александрийского мусейона, научного учреждения универсального профиля.
Н
Навкратис — греческая колония у восточного устья Нила, основанная несколькими ионийскими городами в VI в. до н.э. при фараоне Псамметихе. Через Навкратис шла торговля Египта с греческим миром.
Навплия — гавань Аргоса, согласно легенде названная так по имени Навплиона, сына Посейдона. Название дано сыном Навплиона Паламедом, считавшимся великим изобретателем наравне с Кадмом, Дедалом, Орфеем.
Наксос — самый крупный из островов Кикладского архипелага, связанный мифами с богом Дионисом, похищением Ариадны. В острой борьбе с аристократией демос при поддержке Писистрата изгнал своих противников и передал единоличную власть аристократу Лигдомиду (538 г. до н.э.), в годы правления которого Наксос переживал величайший расцвет. Ликдомид оказал поддержку Поликрату в момент его прихода к власти. В 524 г. до н.э. Лигдомид был изгнан спартанцами.
Наос (дословно: корабль) — внутренняя часть храма, где стояло культовое изображение божества.
Нехо — египетский фараон (610 — 595 гг. до н.э.), известный своим незавершённым каналом от Нила к Красному морю и плаваниями находившихся на его службе финикийских мореходов, совершивших оплыв Африки.
Никомах — владелец гончарной мастерской водной из греческих колоний юга Италии, живший в конце VI в. до н.э. До нас дошла оставленная им стихотворная надпись с посвящением Гераклу в благодарность за обеспеченную богом хорошую репутацию в обществе. Этот персонаж стал прототипом одноимённого героя романа — дельца Никомаха.
Ниневия — столица Ассирийской империи, находившаяся к югу от Вавилона, самый большой город Древнего Востока (длина его стен — 12 км), разрушена в 612 г. до н.э., более чем за полстолетия до выдвижения Персии на политическую арену соединёнными силами вавилонян и мидян.
О
Оптика — учение о свете. Согласно Пифагору, первым разработавшему теорию зрения, изображение в глазу создавал касавшийся предмета луч, испускаемый глазом; теория, долгое время отвергавшаяся и нашедшая подтверждение значительно позже.
Оройт — персидский военачальник, при Кире — гиппарх Сард, при Камбизе и Бардии — наместник Лидии, Фригии и Ионии. Отказался помочь Дарию I в усмирении мятежей, был им убит в 519 г. до н.э.
Орфей — полулегендарный певец, родиной которого считалась Фракия, точнее — город у подножия Пиерии. О времени жизни Орфея в древности спорили: одни считали, что он родился за одиннадцать поколений до Троянской войны и прожил девять поколений, другие — что жил после Гомера. Последователи Орфея (орфики), так же как и последователи Пифагора (пифагорейцы), утопили Орфея как творческую личность в море легенд, самыми знаменитыми из которых были сошествие Орфея в подземный мир за возлюбленной Эвридикой и смерть от рук вакханок. Орфизм как мистико-религиозное учение развивался параллельно с пифагореизмом в городах Южной Италии, и его документы проливают свет на пифагорейское учение о метемпсихозе.
Отана, сын Тухры — один из «семи персов». После прихода к власти Дария стал его правой рукой. Ему было поручено водворить на Самосе Силосонта, что завершилось самосской резнёй.
П
Паламед (дословно: умелец) — в греческой мифологии сын Навплия и Климены, внук Посейдона, герой-учёный, которому приписывали упорядочение алфавита, введение чисел и календаря, искусство вождения кораблей по звёздам. Столкновение с юным Одиссеем, притворившимся безумным, чтобы не принимать участия в походе на Трою, стало впоследствии причиной гибели Паламеда по ложному обвинению в предательстве.
Палестра — площадка для гимнастических занятий мальчиков до восемнадцати лет (возраста эфебов). На Самосе до Поликрата старая палестра примыкала к юго-западному углу городской стены. На её месте при Поликрате был возведён квартал для гетер. Место новой палестры не обнаружено.
Палики — пользовавшиеся особым почитанием сикелов сицилийские божества, мыслившиеся в виде близнецов-фонтанов.
Пан — в греческой мифологии лесной демон, бог-защитник пастухов и мелкого рогатого скота.
Панафинеи — праздник богини Афины в городе её имени, отмечавшийся ежегодно. Панафинеи каждого четвёртого года считались великими и праздновались с особой торжественностью.
Панионион (современное название Профитив Илиус) — место для собраний представителей двенадцати ионийских городов на полуострове Микале, на границе между малоазийскими владениями Самоса и округой Приены. Споры из-за этого места между Самосом и Присной длились три столетия и были решены лишь в 189 г. до н.э. римским сенатом по представлению консула Гнея Манилия в пользу Приены.
Паралии (греч. «прибрежные») — ремесленники и торговцы, составлявшие основное население прибрежной полосы Аттики, одна из трёх политических группировок, на которые разделилось афинское общество в VI в. до н.э. Видимо, в то же время возник культ аттического героя Парала, покровителя паралиев.
Папай — один из богов скифского пантеона, отец первочеловека Таргетая. Греческие авторы отождествляли Папая с Зевсом, и в скифской легенде о дарах первочеловеку он небесный бог.
Пар фения — эпитет богини Геры на острове Самос и в Аргосе. Согласно самосской легенде, Парфения была дочерью Самоса, давшей острову одно из названий — Парфения.
Парфенопа — дочь прародителя лелегов Анкея и Самии; по варианту этой легенды, женихом или супругом этой Парфенопы был некий Анаксилай, в поисках которого она много странствовала, пока не прибыла в Италию, где ей стали поклоняться в Неаполе.
Парфенопа, дочь Эвмела — одна из мифических сирен. Согласно мифу, превратившись в птицу, она показала колонистам из Халкиды путь в Италию. Ей ежегодно приносили жертвы обитатели основанной халкидянами колонии Парфенопы (после вторичного основания — Неаполя). По поздней легенде, Парфенопа влюбилась в юношу Метсоха и, срезав свои прекрасные волосы, бежала из Фригии в Кампанию. Очевидно, это не дочь Эвмела, а дочь самосского героя Анкея.
Парфенопа — город, основанный родосцами в землях опиков (осков) около 776 г. до н.э., получил название по имени морской нимфы (сирены) Парфенопы, спасшей плывших по Тирренскому морю колонистов и приведшей их к месту будущего города. Культ Парфенопы поддерживался и после того, как город, заселённый халкидянами, питекусцами и афинянами, стал называться Неаполем. В Неаполе чеканилась монета с изображением Парфенопы с распущенными волосами в окружении дельфинов.
Пегас — в греческой мифологии крылатый конь, выбивший копытом ключ Гипокрены. Согласно преданию, выпивший из этого источника становился поэтом.
Пентаграмма — пятиконечная звезда, фигура древней магии, трактуемая как пять человеческих чувств и пять элементов природы.
Пеоны — фракийская народность, занимавшая плодородные земли в долине реки Стримон. После завоевания Фракии персами часть пеонов была переселена в Малую Азию, согласно преданию, самим Дарисм, восхитившимся трудолюбием пеонийских женщин.
Периандр, сын Кипсела — тиран Коринфа (590 — 550 гг. до н.э.). При нём Коринф достиг величайшего процветания и могущества: был захвачен Эпидавр, подчинён остров Керкира. Периандр считался одним из семи мудрецов Греции.
Персей — герой мифов Арголиды. Получив от Гермеса крылатые сандалии, а от нимф шапку-невидимку и одолев с их помощью Медузу, одну из сестёр Горгон, обращавшую своим взглядом всех смотревших на неё в камень, спас царскую дочь Андромеду, отданную на съедение морскому чудовищу.
Писистрат, сын Гиппократа (600 — 528 гг. до н.э.) — афинский тиран с 560 по 527 г. до н.э., много сделавший для укрепления могущества Афин и превращения их в центр культурной жизни Эллады (начало строительства храма Зевса, древнейший водопровод, первая запись поэм Гомера, первый театр).
Пифагорейки — ученицы Пифагора, а также приверженки пифагореизма. Ямблих приводит семнадцать женских имён с указанием их родины — Кротон, Тарант, Метапонт, Лукания, Аркадия, Лаконика, Спарта, Флионт.
Пифаида (первое имя — Парфения) — жена Мнесарха, мать Пифагора, имевшая ещё двух сыновей, старших его по возрасту. Пифаида вела происхождение от древнего лелегского рода Анкея, основателя города Самоса. Стремление объяснить имя Пифаиды (как и самого Пифагора — «возвещённый пифией»), видимо, было источником легенды о посещении Мнесархом и его женой Дельфийского оракула.
Платон (427 — 347 гг. до н.э.) — ученик Сократа, знаменитый афинский философ, испытавший могучее влияние идей пифагореизма. Современник Платона философ Тимон полагал, что Платон во время своего пребывания в Великой Греции приобрёл за большие деньги сочинение пифагорейца Филолая с изложением учения Пифагора и скроил из него свой знаменитый диалог «Тимей».
Порфирий (ок. 232 — ок. 301 гг. н.э.) — ученик философа Плотина, записавший его мысли и наставления входе многолетних бесед (записи, из которых и составлены сочинения Плотина). Близость к Плотину объясняет интерес Порфирия к Пифагору, считавшемуся святым в философском календаре последнего. «Жизнь Пифагора» Порфирия, так же как одноимённая книга Ямблиха, открывала его пространную «Историю философии», имея следующий план: 1. Происхождение и семья. 2. Образование в годы странствий. 3. Эффект, произведённый Пифагором на Юге Италии. 4. Преподавание. 5. Творимые им чудеса. 6. Образ жизни и питание. 7. Учение. 8. Разрушение школы. 9. Значение дружбы у пифагорейцев. Цитаты из Порфирия в комментарии даются по переводу Порфирия М.Л. Гаспарова в приложении к книге «Диоген Лаэртский. О жизни, учении и изречениях знаменитых философов».
Посидония (впоследствии Пестум) — колония Сибариса на тирренском побережье Италии, основанная в VII в. до н.э. на месте поселения италийского племени луканов. В 550 г. до н.э. в Посидонии появился монументальный храм Геры. В списке пифагорейцев присутствуют семеро посидонцев: Афамас, Сим, Прокен, Кранай, Миес, Бафилаус, Федон. Своим необыкновенным долголетием Посидония, казалось бы, призвана компенсировать краткость жизни своей метрополии. От других великолепных эллинских колоний тирренского побережья Италии мало что сохранилось. А Посидония побеждает своим великолепием само время.
Пронойя («Предвидение») — эпитет Афины (Афина Пронойя).
Псамметих — племянник и преемник тирана Коринфа Периандра, последний из Кипселидов (после 560 г. до н. э.), носивший по невыясненной причине египетское имя.
Псамметих III — сын и преемник фараона Амасиса, правивший после его смерти с 526 г. до н.э., оказавший сопротивление персидскому вторжению и захваченный в плен Камбизом.
Р
Регий — колония халкидян, основанная в 717 г. до н.э. на крайней оконечности Апеннинского полуострова, у Мессинского (Сицилийского) пролива по инициативе Занклы. О последующей вражде двух родственных городов свидетельствует найденная в Олимпии посвятительная надпись занклийцев «За победу над Регием». Регий был родиной великого греческого лирика Ивика. Современник Ивика региец Феоген был первым исследователем Гомера, защищавшим его от обвинений в аморальности и предложивший толковать гомеровские описания богов как аллегорию. Первым историком греческого Запада был региец Главк (V в. до н.э.).
Ренея — примыкавший к Делосу, несколько больший по размеру островок, ставший после «очищения Делоса» Писистратом около 543 г. до н.э. местом перезахоронения выкопанных там останков. Обитателями острова были рыбаки, платившие подать делосскому храму Аполлона. Поликрат, захвативший Ренею вместе с другими Кикладскими островами, посвятил её Аполлону и в знак этого приковал к Делосу цепью.
Рипара (совр. Самиопула) — островок близ южного побережья Самоса.
Родопея (или, как называет се Геродот, Родопида) — красавица фракиянка, бывшая рабыней самосца Иадмона. Став в Навкратисе гетерой, она приобрела известность, не уступающую славе Эзопа, другого раба Иадмона, и стала столь состоятельна, что смогла построить себе в Египте монументальную гробницу и обогатить своими дарами дельфийский храм.
Рома (Рим) — в греческой литературе VI — V вв. до н.э. город с этим названием неизвестен, однако трудно сомневаться в том, что греческие колонисты Италии знали о его существовании. И римляне были настолько наслышаны о пифагорейцах, что сочли своего царя Нуму Помпилия человеком учёным, пифагорейцем и поставили в своём городе статую Пифагора, единственного из греков, удостоенного этой чести у народа, не только лишённого в тот период образованности, но и с презрением к ней относившегося.
С
Сагра — пограничная река между Кротоном и Локрами Эпизефирскими, место разгрома армии Кротона. Предположительная дата битвы — 540 г. до н. э.
Сарды — столица Лидийского царства, основанная в VII в. до н.э. После её захвата персами (546 г.) — резиденция сатрапа Малой Азии.
Самикон (Самос) — гора в Элиде, к югу от Олимпии на пути к морю. На вершине этой горы в годы жизни Пифагора можно было видеть стену, сложенную в форме равнобедренного треугольника.
Самос — остров Южной Эгеиды площадью 491 кв. км, отделённый от малоазийского полуострова Микале (ныне Самсун-Даги) проливом в 1,3 км. Первые поселения городского типа появились на Самосе в начале бронзового века, около 2500 г. до н.э. Присутствие на острове микенцев засвидетельствовано находкой камерной гробницы к северо-западу от Герайона. Древнейшими обитателями острова были лелеги. Около 1000 г. до н.э. остров был заселён ионийскими переселенцами из Аргоса, приведёнными, согласно преданию, Проклом. В VIII в. до н.э. Самос вошёл в Ионийское двенадцатиградье, получив часть территории на Микале. Первоначально остров управлялся царём, в VII в. до н.э. царская власть сменилась господством местной аристократии (геоморов, ведших происхождение от лелегов и ионийских первопоселенцев). Наивысшего политического и культурного расцвета Самос достиг во времена Поликрата. Геродот считает постройки Самоса (прорезающий гору тоннель, волнолом и Герайон), никогда не включавшиеся в число семи чудес света, самыми выдающимися из эллинских творений.
Самос — город на юго-восточном побережье одноимённого острова, в низине, поднимающейся уступами к горам, так что море было видно из любой части города. Выбор места для него был связан не только с наличием бухты, находившейся на уровне низины, но и с тем, что оно было удобно для торговли с Кипром, Критом и Египтом. Общая протяжённость городской стены — 34 стадия (6,7 км), всего на шесть стадий меньше афинской; площадь города — 103 гектара. Сохранившиеся стены в некоторых местах имели пятиметровую высоту и ширину в 4,6 м. Стены имели башни. Геродот сообщает об обращённой к морю Большой башне. Ров находился близ западного отрезка стены и, согласно Геродоту, был выкопан лесбосскими военнопленными.
Самофракия — остров близ побережья Фракии, в древности называвшийся Дарданией. По свидетельству автора II в. н.э. Павсания, перемена названия связана с переселением на остров части самосцев.
Самояна — тип строившихся на Самосе при Поликрате судов с рылообразным носом и широким корпусом, позволяющим использование корабля для перевозки грузов, в том числе для транспортировки лошадей. По свидетельству историка Алексида Самосского, название это дал сам Поликрат.
Сапфо (Сафо) — великая лирическая поэтесса второй половины VII — начала VI в. до н.э., в родном городе Митилене (о. Лесбос) стояла во главе посвящённого Афродите религиозного объединения знатных девушек, обучая их танцам, музыке, поэзии.
Священная дорога — мощёная дорога по болотистой низине, соединявшая в древности город Самос с расположенным в 7 км от него Герайоном. Ныне большая часть низины занята аэродромом.
Семонид — живший в VII в. до н.э. греческий поэт с острова Самоса, известный рядом элегических стихотворений, в том числе большой элегии, посвящённой женским характерам, в которых усматривает лишь отрицательные черты, единственное исключение делая для редко, по его мнению, встречающегося типа женщин, сходных по трудолюбию с пчелой.
Сибарис — ахейская колония греков в Южной Италии, основанная в 709 г. до н.э., могущественный город, подчинивший себе более двух десятков окрестных поселений, сначала союзник Кротона в его борьбе с соседями, затем его противник, потерпевший сокрушительное поражение и уничтоженный в 510 г. до н.э. Жители Сибариса, согласно греческой традиции, отличались особенной изнеженностью и любовью к роскоши — купание в общественных банях, пиршества, дорогие одеяния, изысканная пища и пр. Античные биографии Пифагора сообщают о враждебности философа к Сибарису как к воплощению непомерных излишеств, однако в списке учеников Пифагора имеются и ученики-сибариты. Можно думать, что отношение Пифагора к Сибарису менялось по мере перемены отношения к нему самому кротонцев.
Сикелия — название времени греческой колонизации самого крупного из островов Средиземноморья, по имени наиболее многочисленного местного населения сикулов, в латинском звучании — Сицилия.
Сикелы (сикулы) — родственное по языку латинам догреческое население Сицилии (Сикелии), переселившееся из Италии около XIII в. до н.э. и давшее название острову.
Силосонт, сын Эака — брат Поликрата и до 431 г. до н.э. его соправитель. Находясь в изгнании в Египте, он познакомился с телохранителем царя Камбиза Дарием, будущим царём. После гибели Поликрата и кратковременного правления Меандрия Силосонт был поставлен правителем Самоса. При Силосонте остров настолько обезлюдел, что сложилась поговорка — «Простор земли по Силосонта милости».
Симонид, сын Леопрепа (ок. 556 — 468 гг. до н.э.) — греческий поэт, проявивший себя впервые при дворе афинского тирана Гиппарха.
Сирены — в греческой мифологии женские демонические существа, рождённые от одной из капель крови убитого речного бога Ахелоя и унаследовавшие от отца яростную мстительность, а от матери — божественный голос. Гомер, впервые изложивший миф о сиренах, поместил их в сицилийском проливе, по соседству со Скиллой и Харибдой, но местом почитания сирен было колонизованное эвбейцами тирренское побережье Италии, где одна из сирен, Парфенопа, дала название одноимённому городу, будущему Неаполю. Согласно пифагорейской акусме, песни сирен отождествлялись с тетрактидой, звучащим священным числом, символом божества в четырёх его ипостасях. Развивая пифагорейский образ, Платон рисует космос в виде восьми концентрических кругов, вращающихся вокруг веретена, где находятся восемь (удвоенная четвёрка) сирен, каждая из которых издаёт свой особый тон.
Сирты, Большой и Малый — два залива у северного берега Ливии, одного из наиболее опасных для мореплавания мест.
Скилак (ок. 550 — 448 гг. до н.э.) — карийский мореплаватель, исследовавший по поручению царя Дария Индийский океан и совершивший оплыв Аравии. Его считают прототипом знаменитого Синдбада-морехода.
Скилла (лат. Сцилла) и Харибда — мифические чудовища, локализуемые греческим эпосом в скалах Сицилийского пролива, скорее всего воплощение представлений о трудностях преодоления этого пролива.
Скиллус — древнее поселение к югу от Олимпии на речке, впадающей в Алфей, место отдыха посетителей Олимпийских игр.
Смилид — ваятель, создавший культовое изображение Геры для её храма на Самосе, древнейший из известных нам по имени греческих скульпторов. Его считали современником Дедала.
Сократ (469 — 399 гг. до н.э.) — афинский философ, которого по степени влияния на последующие поколения и оригинальности мышления можно назвать афинским Пифагором. Так же как и Пифагор, Сократ получил художественное воспитание; будучи сыном художника, он не записывал своих мыслей, передавая их ученикам устно. Но, в отличие от Пифагора, Сократ, критикуя недостатки полиса, был далёк от мысли о его преобразовании. Ученик Сократа Платон пошёл по пути Пифагора и активно проповедовал идею создания государства философов.
Солон, сын Эксестида (ок. 630 — 559 гг. до н.э.) — афинский поэт и законодатель, старший современник Пифагора. Большая часть его жизни прошла в путешествиях. Бесспорно его посещение Ионии, но встречи с Крезом, о чём пишет Геродот, невозможны хронологически.
Сострат, сын Лаодаманта, согласно Геродоту, выходец с острова Эгина, нажившийся на торговле с Тартессом, самый богатый человек своего времени. В этрусском порту Грависках в греческом святилище найден якорный камень Сострата из Эгины с посвящением Аполлону. Следы деятельности Сострата в Западном Средиземноморье — керамика с клеймом «СОС».
Суний — крайняя оконечность Аттики, круто обрывающаяся в Эгейское море. На этом мысе, считавшемся священным, в VI в. до н.э. находился храм Посейдона, разрушенный в годы греко-персидских войн и восстановленный на том же фундаменте в конце V в. до н. э. Каждые четыре года здесь происходили морские игры, посвящённые Посейдону. В ходе раскопок древнейшего храма обнаружено много предметов египетского происхождения.
Сфрагида — камень, обычно твёрдой породы, с врезанным в него изображением, использовавшийся в качестве перстня или печати. Техника резки камня, достигшая расцвета на острове Крит в III — II тысячелетиях, была забыта в тёмные века. В IX — VIII вв. до н.э. в глиптике, как и в керамике, господствует геометрический стиль. В VII в. до н.э. он сменяется так называемым ориентализирующим, в изображениях преобладают мифологические сцены, боги, демоны, фантастические животные. В последней трети VI в. до н.э. появляется изображение человека, в том числе портретное. Наивысшие достижения в этом стиле относятся к V в. до н.э. Из мастеров известен по личной печати на четырёх камнях Дексамен с острова Хиос; по описанию Геродота известен смарагд Поликрата, но что он собой представлял — неясно. Резчики камней в это время пользовались колесом с приводным ремнём, вращавшим резец, и абразивами — наксосским камнем, порошком корунда, алмазной пылью. Известно также имя Мнесарха, но работы его не сохранились. Пифагор, как сообщают, выступал против изображения на камне богов.
Т
Тарант — город Южной Италии на перешейке между лагуной и открытым морем. Выгодность местоположения была оценена ещё микенцами, обосновавшимися здесь в середине II тысячелетия до н. э. В 708 г. до н. э. на место микенского поселения была выведена колония Спарты, превратившаяся в могущественный город, ставший после упадка Кротона в V в. до н. э. главным городом юга Италии и соперником Рима.
Тархна (лат. Тарквиния) — один из древнейших полисов этрусского двенадцатиградья, неподалёку от Рима. Обладал портами на Тирренском море.
Телис — тиран Сибариса, вступивший в конфликт с Кротоном, виновник войны, результатом которой стало уничтожение Сибариса, сожжённого победителями и залитого водами протекавших по нему рек. Разыскивавшийся археологами на протяжении по крайней мере двух веков, город был обнаружен лишь в конце 60-х годов нашего столетия на значительной глубине под мощным слоем речных наносов.
Теос — один из двенадцати ионийских полисов, географически занимавший центральное положение среди них и поэтому предназначенный стать политическим центром ионийского двенадцатиградья. Этому помешало персидское завоевание, вынудившее теосцев покинуть свой город.
Тир — город Финикии, метрополия Гадеса, Утики, Карфагена, после освобождения от власти ассирийцев переживал экономический расцвет. С ионийцами был связан торговыми отношениями более, чем с остальными эллинами. Финикийское название ионийцев — «явана» стало на всём Востоке, от Палестины до Индии, обозначением всех эллинов.
Тиран (греч. tyranos) — правитель в греческих полисах. Слово имеет лидийское (анатолийское) происхождение, и первым тираном греки считали лидийца Гига. Первоначально в слово «тиран» не вкладывалось негативного смысла.Тираны захватывали власть с помощью военных отрядов при поддержке низов, ненавидевших правителей-аристократов. Тирания как форма правления в VII — VI вв. до н.э. была переходной ступенью от аристократии к демократии. Тираны сокрушили господство земельной аристократии, поддерживая в своих полисах средние слои населения — землевладельцев, связанных с рыночными отношениями, торговцев, ремесленников.
Тиррения — в VI — V вв. до н.э. обозначение греками Апеннинского полуострова (по господству на большей его части тирренов).
Тиррены (у римлян — этруски или туски) — греческое обозначение народа, называвшего себя расенами. В Италии тиррены были соседями греческих колоний Великой Греции и союзниками Сибариса. Согласно господствовавшей в античности версии, тиррены были выходцами из Лидии, у побережья которой находился остров Самос. В некоторых из античных текстов Пифагор назван потомком тирренов. Это может быть объяснено как близостью Самоса к Лидии, так и тем, что Пифагор вёл своё происхождение от лелегов (пеласгов), которых часто путали с тирренами.
Триера — военное быстроходное судно с тремя рядами гребцов, созданное на Самосе около 700 г. до н.э. Строителем первых четырёх самосских триер назван коринфянин Аминокл. Появление триер произвело революцию как в мореплавании, так и в технике морского боя. Загадка триеры (способ размещения гребцов) была разрешена лишь в недавнее время.
Тринакия — гомеровское название Сицилии (от греч. «тринакос» — трезубец), впоследствии переосмысленное как Трехмысная (Тринакрия).
Трисмегист (трижды величайший) — эпитет Гермеса.
Трогил — мыс на крайней оконечности полуострова Микале, против острова Самоса.
Уджагорресент — начальник египетского флота, перешедший на сторону Камбиза, назначившего его на должность Великого Врача, в обязанности которого входило также управление дворцом и составление царской титулатуры. От него сохранился погребальный текст, относящийся ко времени завоевания Камбизом Египта. Из текста предстаёт картина завоевания Египта, противоположная той, какая рисуется Геродотом и другими греческими авторами.
Ф
Фаларис — тиран Акраганта (VI в. до н.э.), по преданию отличавшийся изощрённой жестокостью. Согласно Ямблиху, Пифагор будто бы освободил от Фалариса Акрагант, что невозможно с точки зрения хронологии.
Фанес из Галикарнаса, сын Главка — предводитель отряда ионийских и карийских наёмников в войске египетского фараона Амасиса. Рассказ о его предательстве сохранил Геродот. В Навкратисе найдена статуя, посвящённая им в храм Аполлона.
Фасос — остров Северной Эгеиды в шести километрах от фракийского побережья, у впадения в море реки Нестос. Колонизован выходцами с острова Парос в начале VII в. до н.э. Богатство Фасоса в древности вошло в поговорку.
Феспид, сын Фемона — поэт с острова Икария, создатель жанра трагедии. Икария имела театр уже в начале VI в. до н.э. В Афинах первые выступления Феспида относятся ко времени 61-й Олимпиады (536 — 533 гг. до н.э.).
Фивы Египетские — во времена Пифагора бывшая столица, знаменитая храмом Амона, главного бога Египта, отождествлявшегося греками с Зевсом. Ямблих сообщает, что Пифагор посетил жрецов из города Зевса и из Мемфиса, которые признали его «самым божественным и самым мудрым из людей». Согласно Порфирию, попав в Египет по рекомендательному письму Поликрата, Пифагор «жил у жрецов, овладел всей их мудростью, выучил египетский язык с его тремя азбуками — письменной, священной и символической... и узнал многое о богах». Сведения о связях Пифагора с Египтом — проявление египтомании, особенно присущей литературе поздней античности (для поздних биографов Пифагора, изображавшегося властителем дум и величайшим знатоком не только философии, но и религии, было совершенно необходимо подчеркнуть признание его египтянами как носителями древнейшей мудрости; к тому же для Порфирия как автора, враждебного христианству, имело значение то, что его кумир добился успеха в той древней стране, которая отвергла и Моисея, и Иисуса).
Фила — первоначально род, затем территориальное и культовое объединение в греческих полисах. В ионийских городах чаще всего было четыре филы.
Филолай из Кротона — ученик фиванца Лисида и затем Пифагора. Спасаясь от гонений на пифагорейцев, он направился в Фивы, чтобы совершить возлияние на могиле своего первого учителя. Труды Филолая для Платона и его учеников — главный источник суждений о Пифагоре и пифагореизме.
Фокея — один из ионийских городов, прославленный предприятиями в отдалённых морях и географическими открытиями. Одновременно с самосцами фокейцы уже в VII в. до н.э. достигли Иберии и вступили в сношения с расположенным на океанском побережье городом Тартессом. Около 600 г. до н.э. фокейцы основали в землях лигуров колонию Массилия (ныне Марсель). При завоевании ионийского побережья персами (543 г. до н.э.) фокейцы оставили свой город, поклявшись не возвращаться туда, пока не всплывёт брошенное ими в море железо.
X
Хаос (от греч. глагола в значении «зиять») — согласно Гесиоду, пустота, существовавшая до возникновения богов, в греческой философии — беспорядочное, бесформенное состояние мира.
Xаронд — законодатель VI в. до н.э., давший, согласно преданию, законы своему родному городу Катане (Сицилия). По мнению Порфирия и Ямблиха, это были законы его учителя Пифагора, обеспечившие городу процветание. В ученики Пифагора поздними биографами отдан и другой древний законодатель западного греческого мира — Залевк. Дошедшие до нас фрагменты законов Харонда и Залевка носили характер моральных наставлений.
Xилон — спартанский эфор середины VI в. до н.э., с именем которого была связана политическая реформа, поставившая эфоров выше царей. Он считался одним из семи мудрецов древности.
Э
Эвбея — обширный остров, лежащий напротив Аттики и Беотии, города которого, Халкида и Эретрея, были значительными культурными центрами уже в догомеровскую эпоху, что связано не только с выгодным географическим положением острова, но и наличием месторождений меди и железа. Колонии эвбейцев как на побережье Сирии, так и в Италии и Сицилии были древнейшими из греческих колоний. Возможно, легенда о переселении мифических героев Навплия и Паламеда на побережье Арголиды отражала попытку эвбейцев обосноваться на Пелопоннесе.
Эвгеон Самосский — древнейший из ионийских историков, судя по месту, которое он занимает в их перечне у авторитетного автора Дионисия Галикарнасского: Эвгеон Самосский, Дейок Проконесский, Эвдем Паросский, Демокл Фигалейский, Гекатей Милетский и др. Исходя из этого, можно считать, что Эвгеон Самосский был современником Кира. К нему относится общая характеристика Дионисием Галикарнасским первых историков: «Они преследовали цель обнародовать для всеобщего сведения предания, сохранившиеся у местных жителей среди разных народов и городов, хранившиеся как в храмах, так и в прочих местах, ничего не прибавляя и не убавляя».
Эвпалин, сын Навстрофа — мегарец, строитель сквозного тоннеля в горе на острове Самос, длиною в 7 стадиев (почти 1,5 км), высотою и шириною в 8 футов (ок. 2,5 м). Под этим тоннелем находился канал глубиной в 2 локтя (почти метр) и шириною в 3 фута (около метра), по которому шла в город вода. Как выяснили археологи, канал пробивался с обеих сторон так же, как задолго до этого в Иерусалиме, но обе части тоннеля полностью не сошлись, и эта ошибка была исправлена незначительным изгибом в центре.
Эвпатриды (дословно: имеющие хороших отцов) — крупные землевладельцы, знать, до конца VI в. до н.э. привилегированное сословие в Афинах, соответствующее геоморам Самоса.
Эвримен — самосский атлет, ученик Пифагора.
Эвфорб, сын Пафна — упоминающийся Гомером троянский воин, раненный в схватке с царём Спарты Менелаем. Согласно древним авторам, Пифагор считал себя в одной из первых своих жизней Эвфорбом.
Эзар — река, на которой стоял Кротон. Такое же название имели и другие реки Италии и Сардинии (на языке этрусков «эзар» — бог).
Эзоп — согласно сохранившемуся сообщению Геродота, баснописец, живший до 560 г. до н.э. на Самосе и бывший рабом некоего Иадмона. По мере роста популярности басен Эзопа и тех, которые были ему приписаны, его биография обрастала многочисленными подробностями, и в конце концов он стал главным героем фантастического романа с прозрачной социальной подоплёкой, фригийцем, уродом и горбуном, мудрецом и предсказателем, мятежным острословом, гостем Креза и египетского фараона. Посетив храм Аполлона в Дельфах и там обвинённый своими конкурентами — дельфийскими жрецами — в краже, он был сброшен со скалы.
Элам — древнее царство (111 тысячелетие — середина VI в. до н.э.) к востоку от нижнего течения Тигра и Евфрата со столицей в Сузах.
Элегия — стихотворная форма, возникшая в ионийских городах Малой Азии в результате развития гекзаметра: в чередовании строк первая сохраняет шестистопное строение, вторая же, потеряв одну из стоп, становится пентаметром. В VI в. до н.э. в форме элегии излагались размышления о мире, государственной жизни, мифы, а также и военные песни. Элегиями писали Ксенофан, Солон, Фсогнид, Тиртей.
Элея (Велия, Гиела) — греческий город к югу от Посидонии, первоначально поселение местного племени энотров, затем (с 540 г. до н.э.) колония переселенцев из захваченной персами Фокеи, крупный культурный центр, где учили философы Ксенофан, Парменид и Зенон. В ходе археологических раскопок XX в. были выявлены акрополь, храмы, мощёные дороги, фортификационные сооружения Элеи.
Энна — город в центральной части Сицилии, заселённой в годы действия романа ещё не подвергшимися эллинизации сикулами, место действия мифа о похищении Персефоны.
Эолийцы — одно из четырёх первоначальных греческих племён, наряду с ахейцами, ионийцами и переселившимися позднее дорийцами. Эолийцами была заселена часть эгейского побережья Малой Азии с прилегающими к нему островами Лесбосом и Тенедосом.
Эпименид Кносский — полулегендарный жрец и пророк, родившийся на Крите около 600 г. до н.э. и переселившийся в Афины, автор несохранившихся поэм «Родословная корибантов», «Плавание Ясона в Колхиду» и прозаических трудов «О жертвоприношениях», «О критском государственном устройстве». Ему приписывалось очищение Афин от Килоновой скверны, по другой версии — от чумы. Биография Эпименида соткана из легенд (сон длиною в человеческую жизнь с последующим пробуждением, существование без пищи, использование в качестве материала для письма собственной кожи, общение с богами и т.п.). Некоторые поздние авторы, очевидно исходившие из того, что Эпименид, как и Пифагор, был провидцем и чудотворцем, считали его слушателем Пифагора.
Эрик — изолированный горный массив на западной оконечности Сицилии, занятый племенем элимов и союзниками элимов карфагенянами. Согласно легенде, Эрик, герой, давший название горе, был сыном Афродиты (в финикийских преданиях — Танит), бросившим вызов Гераклу и побеждённым им в поединке.
Эфебы — в ионийских полисах юноши восемнадцати — двадцати лет, составлявшие корпорацию. Упражняясь в военном деле на городских плацах и прилегающей к городу местности, эфебы не находились на казарменном положении и использовали свободное от службы время по своему усмотрению. Чаще всего их можно было встретить в гимнасиях, в обществе популярных философов.
Эфоры — должностные лица Спарты, выбиравшиеся в количестве пяти на один год, обладавшие огромными властными и судебными полномочиями.
Я
Ямблих (ок. 240 — 325 гг. н.э.) — греческий философ родом из города Халкиды в Келесирии, выходец из царского рода города Эмесы, организатор философской школы в Апамее (Сирия), автор философского труда, вводной частью которого была дошедшая до нас книга «Жизнь Пифагора», самого пространного изложения мифа о Пифагоре. План книги: 1. Происхождение Пифагора. 2. Обучение, занятия, странствия. 3. Деятельность и изречения. 4. Характер (мудрость, справедливость, самообладание, мужество, отношение к друзьям и др.). 5. Конец школы. 6. Список учеников. В освещении жизни Пифагора Ямблих следовал биографической традиции эллинистической эпохи, дополняя се сомнительными сведениями о Пифагоре как религиозном деятеле, посвящённом едва ли не во все восточные и эллинские тайные учения.
Сочинение Ямблиха, написанное в годы торжества христианства, создавало привлекательный образ учёного, вдохновлённого любовью ко всему живому, обращённого не к тёмным суевериям, а к научной истине. Гонение на пифагорейцев в описании Ямблиха навеяно современным автору преследованием языческих философов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Жизнь и учение Пифагора являлись на протяжении тысячелетий античной истории предметом изучения и восхищения. К Пифагору обращались не только философы, физики, математики, историки, но и поэты. Так, Пифагор стал героем великого поэта Публия Овидия Назона.
Интерес к философии не был чужд римской поэзии. За полвека до Овидия Лукреций Кар обратился к Эпикуру и в огромной поэме «О природе вещей» сделал сложное философское учение доступным не только своим современникам, но и нам, поскольку труды самого Эпикура почти не сохранились. Овидий, в отличие от Лукреция, не был популяризатором философии. О Пифагоре идёт речь в поэме «Метаморфозы», излагающей мифы о чудесных превращениях. Каким же образом в эту поэму с подчас легкомысленным содержанием вошёл величайший учёный древности? не нарушил ли поэт законов жанра? Не сделал ли он Пифагора случайной фигурой в чуждом ему мире?
Отвечая на этот вопрос, нужно вспомнить, что Кротон, ставший второй родиной Пифагора и местом его гибели, находился в Италии и что для римлян Пифагор не был чужаком. Недаром первая из известных нам статуй Пифагора была поставлена в Риме. Не случайно и существование легенды о том, что второй из римских царей, Нума Помпилий, заложивший основы римской религиозной и государственной организации, был учеником кротонского мудреца. Видоизменяя эту легенду, Овидий направил Нуму в Кротон, где тот услышал о Пифагоре от старого кротонца (как девятнадцать столетий спустя Алеко, лирический герой Александра Пушкина, узнает об Овидии от старого цыгана). И всё же как удалось Овидию вписать Пифагора в свою поэму? Оказывается, самым естественным образом. Учение Пифагора о метемпсихозе, изложенное великолепными стихами в заключительной 15-й книге поэмы, стало как бы научным обоснованием превращений, пронизывающих как природу, так и человеческое бытие.
ОВИДИЙ Метаморфозы
Из книги XV
Был здесь самосец, муж добровольно избравший Долю изгоя и бросивший родину в рабстве тирана. Мир небожителей в дальних пределах небесных Мыслью своею высокой, внутренним оком узрел он. Всё, что усилием духа добыл величайшим стараньем, Общим он достоянием сделал, и восхищенные толпы Молча в реченьях его постигали первоначала, Первопричины вещей и богов бессмертных природу — Как образуется снег и молнии блеск, гремит ли Юпитер, Ветры ли в тучах грохочут, земли колебанья откуда, Как и другие загадки. Он назвал преступленьем Употребление в пищу животных, этот запрет подкрепляя Множеством доводов тонких, но, увы, бесполезных: «Этой едой непотребной вы тел своих не оскверняйте. Есть ведь в достатке и хлеб, и фрукты, ветви клонящие долу, Отяжелевшие гроздья на лозах, сладкие травы, растенья, Мягкость которым пламя сумеет придать. И разве мало вам, люди, Влаги молочной и мёда, что голову кружит тимьяном? Матерь-земля накрыла обильною кроткою пищей Стол ваш и яства дала, лишённые крови. Звери, конечно, мясной насыщаются пищей, Живы травою одною табун и молочное стадо, Пища кровавая манит однако тигров армянских, Вспыльчивых львов, волков и медведей. В этом, увы, кровавый инстинкт и кровавая дикость — Будучи чрева рабом и чревом чужим насыщаться, Жир нагонять в телеса, жир поглощая другого, Душу имея, — о, ужас! — одушевлённым питаться. Значит, нам всем суждена одна лишь жестокая радость — Средь изобилья живя, зубом жестоким впиваться В плоть, терзать её, рвать подобно циклопам. Значит, без жизни чужой тебе не заполнить зиянья Жадной утробы своей, о, смертный. Однако Был ведь век в старину, золотым его как-то назвали. Люди, живя среди трав и плодов земли изобильной, Счастливы были и жизни мирную черпали радость, Крови не проливая и ею не оскверняясь. Птица тогда безбоязненно крыльями резала воздух, Заяц, не озираясь, бесстрашно скитался по полю, Рыба, страдая за жадность, тогда на крючке не висела, Сети тогда и засады ещё человек не придумал, Мир тогда в мире царил. Кто ж тогда, мне скажите, Первым обычаи века отверг и древнюю мирную пишу? Кто, окровавленным мясом жадное чрево заполнив, Путь к преступленью открыл? Конечно, и прежде железо Кровью диких животных порой согревалось. Однако Их не для пищи искало. Нет благочестью урона, Коли убьёшь ты того, кто жизни твоей угрожает, А не чреву служа своему, и первою жертвой Церере, Как полагают, стала свинья, подрывавшая рылом Пашню, людей на грядущее время лишая надежды. Жертвой второй стал козел, лозы портивший Вакха, И за вину пред богами жизнью они поплатились. Чем же, прошу вас, ответьте, чем провинилась овечка Кроткая, та, что нектар несёт своим выменем полным И на собственном теле растит для смертных одежду, Та, что больше полезна жизнью своей, а не смертью? Чем виноваты волы, беззлобные мирные твари? Ведь безвредны они, просты и полезны в работе. Каждый, это забывший, даров земли не достоин. Как же он руку поднимет на пахаря нив и кормильца? Как от ярма оторвёт он трудами натёртую шею? Как вонзит он секиру в того, кто тяжёлую почву Лемехом режет кривым, зерном наполняя амбары? Но преступленье творится, и даже этого мало — В грех богов вовлекли, придумав, будто им мило Трудолюбивых быков предсмертных страданий не видеть, Будто угодны им жертвы без пятнышка и без изъяна. К смерти ведёт красота. И вот, весь в лентах пунцовых Бык, не ведая страха, жрецов внимает моленьям, Чувствуя, как меж рогов ему укрепляют колосья, Те, что взрастил он. Видно ему, как поилку подносят. Нож, что на дне её, может заметить. И сразу Хлынет из тела кровь его. Люди ж стоят, наблюдая, В токе её пытаясь проникнуть в замыслы бога. Жажда откуда взялась к этой пище запретной? Этому кто научил вас, о люди?! Оставьте, молю вас, Этот обычай жестокий. Совету, что дам вам, внемлите: С частью животного вместе в чрево вступает людское, Пахарь полей ваших, тот, что был вами заколот. Богом открыты уста мои. Следуя бога обряду, В Дельфы веду вас свои, небесный эфир вам открою. В гимне, что слышите вы, божественный дух. Буду петь я То, что не ведал никто — великую тайну Вселенной. Косную эту оставив обитель, пройдя через тучи, К звёздам я выйду, несущимся в вечном пространстве, Стану стопой на могучие плечи Атланта, Издалека я увижу сонмы мятущихся душ одиноких, В страхе дрожащих. Им, неразумным, я открываю Судеб скрижали. О, род людской, повергнутый в ужас Обликом смерти обледенелым, Стиксом и мраком, Знай же — название это мнимого мира — тема поэтов. Ваши тела, обратятся ли пламенем в пепел, Время ль гниением их истребит, не потерпят страданий. Души от смерти уйдут и тела другие отыщут. Помнится мне самому, что в века отдалённые Трои Был я Эвфорбом, сыном Памфая, пока не застряло В теле моём копьё, что брошено младшим Атридом. В аргосском храме Юноны свой щит я увидел недавно, Бывший моею защитой. Всё изменяется, не погибает, Дух наш бродячий от тела к телу блуждает — Зверем побыв, становится вновь человеком, как и обратно, Из человека в зверя войдёт, но никогда не исчезнет. Ведь податливый воск легко изменяет обличья, Вид и форму свою, но всегда сохраняет природу, Так и душа, как учу я, всегда остаётся собою, Внешний свой облик меняя. Так усмирите же, люди, Жадную плоть, берегитесь чьи-либо души живые Вновь из тел изгонять. Пусть кровь не питается кровью. Так, как мой парус надут и опять несёт моё судно В море открытое, речь я продолжу. В текучем Мир состояньи, и каждый образ вплетается в образ. Время подобно реке, природа которой движенье, Остановиться не может. Миг за мигом несётся, Волны за волнами мчатся, и их нагоняют другие, Друг за другом бегут и вновь исчезают в минувшем.Пёр. А. И. Немировского
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
566 — предполагаемая дата рождения Пифагора.
565 — победа афинского войска под командованием Писистрата над Мегарами.
561 — 527 — тирания Писистрата в Афинах.
559 — смерть Солона.
558 — объединение персидских племён под властью Кира.
553 — захват Киром Мидии.
550 — смерть коринфского тирана Периандра.
547 — смерть Фалеса Милетского.
546 — завоевание персами Лидии. Начало наступления на греческие города побережья Малой Азии.
546 — 526 — странствования Пифагора на Востоке.
540 — 60-е Олимпийские игры. Победа Милона в состязании мальчиков.
540 — основание фокейцами Алалии на Корсике.
ок. 540 — смерть Анаксимандра.
540 — битва при Сагре.
539 — основание вытесненными с Корсики фокейцами Элеи в Южной Италии.
29 октября 539 — вступление армии Кира в Вавилон.
538 — 532 — расцвет творчества Ивика.
538 — 531 — тирания Поликрата и Силосонта на Самосе.
536 — 533 — первые выступления Феспида в Афинах на празднестве Диониса.
534 — 509 — правление в Риме Тарквиния Надменного.
534 — организация Писистратом празднества Великих Дионисий в Афинах с первыми в мире театральными представлениями на агоре.
532 — 62-е Олимпийские игры. Первая победа Милона в состязании мужчин.
531 — начало единоличного правления Поликрата на Самосе.
530 — создание Эвпалином на Самосе водопровода с тоннелем в толще скалы.
530 — гибель Кира в войне с массагетами. Вступление на престол Камбиза (август).
527 — смерть Писистрата.
527 — 510 — тирания Писистратидов (Гиппия и Гиппарха) в Афинах.
526 — возвращение Пифагора на Самос 526 — смерть египетского фараона Амасиса.
525 — вторжение Камбиза в Египет. Победа в битве при Пелусии; включение Египта в состав Персидской державы.
Лето 525 — объявление Камбизом войны Карфагену. Требование флота от Поликрата.
525 — 522 — пребывание Камбиза в Египет, подготовка к походу в Эфиопию.
525 — смерть философа Анаксимена.
524 — посещение Пифагором 64-х Олимпийских игр.
524 — осада Самоса самосскими изгнанниками в союзе со Спартой.
522 — гибель Поликрата в Магнезии.
522 — 520 — Самос под властью Мсандрия.
11 марта 522 — захват власти в Персидской державе Бардией (Лже-Бардией).
Март 522 — получение Камбизом вести о перевороте, гибель во время возвращения в Персию.
Июнь 522 — отмена Бардией на три года всех налогов и воинской повинности.
29 сентября 522 — свержение Бардии (Лже-Бардии) в результате заговора семи знатных персов. Переход власти к Дарию.
521 — смерть Оройта.
521 — начало занятий в кротонской школе Пифагора.
520 — 500 — расцвет творчества этрусского скульптора Булки.
520 — разгром Отаной Самоса. Тирания Силосонта.
516 — 66-е Олимпийские игры. Последняя из шести олимпийских побед Милона.
515 — исследование Пифагором орбиты планеты Афродиты (Венеры). Установление тождества Вечерней и Утренней звезды.
514 — заговор Гармодия и Аристогитона в Афинах: убийство тирана Гиппарха.
513 — строительство моста через Геллеспонт.
512 — поход Дария на скифов.
512 — 67-е Олимпийские игры. Поражение Милона.
510 — война Кротона и Сибариса. Уничтожение Сибариса.
510 — персидская разведывательная экспедиция в Элладу при участии Демокеда.
510 — изгнание Гиппия из Афин. Бегство его в Персию.
509 — демократические реформы Клисфена в Афинах.
509 — изгнание из Рима царей. Установление республики.
509 — предполагаемая дата гибели пифагорейцев в Кротоне.
Середина V в. до н. э. — разгром пифагорейских общин в Италии.
Предлагаемая хронологическая канва жизни Пифагора — такая же авторская реконструкция, как и посвящённый Пифагору роман. Ведь в хронологическом отношении указания античных «биографов» Пифагора — полнейший сумбур. Так, Ямблих датирует переезд Пифагора в Кротон 62-й Олимпиадой (532 — 529 гг. до н. э.), что не мешает ему сообщать о пленении Пифагора в Египте войсками Камбиза с последующим пребыванием в Вавилоне, а затем о руководстве им кротонской школой в течение тридцати девяти лет и смерти в более чем столетнем возрасте. У Диогена Лаэртского Пифагор такой же долгожитель, но к числу прожитых им лет отнесены двадцать семь лет, проведённых в царстве мёртвых.
Мы исходили из того, что восточная эпопея Пифагора (его двадцатилетние скитания) завершилась с возвращением на Самос на сороковом году жизни философа, и эту узловую дату мы определили как 3-й год 63-й Олимпиады, т. е. 526 г. до н. э. Как это уже ясно внимательному читателю, даты жизни нашего Пифагора обусловливаются датами реальных исторических событий и не могут рассматриваться в отрыве от них. В этом смысле мы считаем нашу реконструкцию историческим романом.
ОБ АВТОРЕ
НЕМИРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ, историк-антиковед, писатель и поэт, автор таких известных повестей и романов, как «За столбами Мелькарта», «Пурпур и яд», «Слоны Ганнибала», «Полибий», «Тиберий Гракх». Кроме того, им опубликованы книги по античной мифологии, несколько сборников рассказов.
Многие его произведения знакомы уже трём поколениям юных читателей.
Роман «Пифагор» — на русском языке первое научно-художественное произведение, посвящённое этому великому учёному.
Примечания
1
Роща Академа находилась за городской стеной, у подножия господствовавшего над древними Афинами холма Ликабет. От Академа впоследствии получила название основанная Платоном философская школа (Академия)
(обратно)2
Эридан — ручей, и ныне текущий с Ликабета в сторону акрополя и прорезающий руины агоры.
(обратно)3
Каламос — тростниковая палочка для письма.
(обратно)4
Остров феаков — в греческой мифологии счастливый остров.
(обратно)5
Талант — самая крупная (26,2 кг) весовая денежная единица, заимствованная греками из Передней Азии.
(обратно)6
Кикладские (дословно — «круговые») острова — архипелаг островов Эгейского моря, расположенных вокруг Делоса наподобие круга.
(обратно)7
Пеплос — греческая женская одежда без рукавов, сколотая на плечах пряжкой.
(обратно)8
Электр — сплав золота и серебра, известный уже в глубокой древности.
(обратно)9
Астрагал — игральная кость, обычно четырёхгранная, бросаемая игроками поочерёдно.
(обратно)10
Пеан — гимн, чаще в честь Аполлона, но также и других богов.
(обратно)11
Скейские ворота — ворота Трои, обращённые к морю, с видом на лагерь ахейцев.
(обратно)12
Микос — легендарный царь Крита, при котором остров достиг небывалого могущества на морях.
(обратно)13
Геоморы (дословно — «землевладельцы») — на Самосе так называли знать, поскольку основой её могущества были земельные владения.
(обратно)14
Филы — родовые деления в Греции, вплоть до замены их территориальными филами составлявшие основу общества. В ионийских городах чаще всего было четыре филы.
(обратно)15
Ио — юная жрица, дочь Аргоса, возлюбленная Зевса.
(обратно)16
Эвпатриды — афинская знать.
(обратно)17
Гоплиты — греческие тяжеловооружённые воины.
(обратно)18
Ройк, сын Фидея — самосский литейщик и архитектор.
(обратно)19
Ксоан — деревянная статуя. Поскольку во времена Пифагора статуи высекали из камня, ксоаны были признаком глубокой древности и пользовались особым почитанием.
(обратно)20
Мегарон — в греческом эпосе главное помещение дворца и дома культового назначения.
(обратно)21
Гелиотропий — солнечные часы.
(обратно)22
Пропилеи — предворотное сооружение в виде колоннады.
(обратно)23
Триерарх — начальник триеры.
(обратно)24
Ихнусса — древнее название Сардинии.
(обратно)25
Тирс — жезл, атрибут бога вина Диониса.
(обратно)26
Бендис — фракийская богиня, которую отождествляли с греческими богинями Артемидой, Гекатой и Персефоной. Видимо, покровительство охоте было одной из её главных функций.
(обратно)27
Симпосиарх — руководитель застолья, избираемый пирующими.
(обратно)28
Метемпсихоз — учение о переселении душ.
(обратно)29
Теменос — священный участок.
(обратно)30
Гамма — третья буква греческого алфавита, обозначала не только звук «г», но и число «три».
(обратно)31
Кенотаф — ложная могила. В древности было принято сооружать кенотафы людям, чьё тело не найдено.
(обратно)32
Эфоры — должностные лица в Спарте, которым принадлежал контроль за нравами и деятельностью любого спартанского гражданина, включая царей и членов совета.
(обратно)33
Наварх — командующий флотом.
(обратно)34
Нестор — в греческой мифологии царь древнего Пилоса, герой нескольких человеческих поколений, воплощение мудрости и долголетия.
(обратно)35
Несс — река Фракии, а также имя кентавра, пытавшегося при переправе через эту реку похитить жену Геракла Деяниру и убитого им отравленной стрелой.
(обратно)36
Посидония — греческая колония на тирренском побережье Италии.
(обратно)37
Герион — в греческой мифологии трёхглавый великан, местом обитания которого считался остров Эрифейя на крайнем западе у выхода в океан.
(обратно)38
Экклесия — народное собрание, обладающее правом выбора должностных лиц.
(обратно)39
Ойкист — в греческих государствах лицо, избиравшееся для организации колоний.
(обратно)40
Олимпионик — победитель о Олимпийских играх.
(обратно)41
Булевтерий — здание городского совета.
(обратно)42
Элизий — в греческой мифологии страна блаженных на краю света.
(обратно)43
Эврот — главная река Лаконики.
(обратно)44
Алфей — главная из рек Пелопоннеса, почитавшаяся в Олимпии и других местах как божество.
(обратно)45
Сотер — спаситель, обычно употребляется по отношению к богам (греч.).
(обратно)46
Агон — состязание (греч.).
(обратно)47
Мы употребляем латинское слово для обозначения более раннего греческого термина.
(обратно)48
Бустрофедон — дословно: «как ходят быки по пашне» — древнейшая форма греческого письма.
(обратно)49
Полемос — война (греч.).
(обратно)50
Периэки — свободное, но, подобно метекам других полисов, негражданское население Спарты.
(обратно)51
3акинф - остров в Адриатическом море к северу от Итаки.
(обратно)52
Xронос — время (греч).
(обратно)53
Гекатомба — жертва из сотни быков.
(обратно)54
Дэвы — первоначально просто персидские божества, после религиозных преобразований Заратуштры — слуги Аримана, носителя зла.
(обратно)55
Кекроп — по преданию, первый царь Аттики, автохтон (рождённый землёй).
(обратно)56
Фалер — древний порт Афин.
(обратно)57
Багаядиш — дословно: «поедание бога» (перс.).
(обратно)58
Сикль (или шекель) — денежная весовая единица, распространённая в Передней Азии.
(обратно)59
Гелиэя — суд.
(обратно)60
Речь идёт о широко известной в древности басне Гесиода о ястребе и попавшем в его когти соловье, выражающей бесперспективность борьбы с власть имущими.
(обратно)61
Ноократия — власть разума (греч.).
(обратно)62
Полиада — покровительница города (полиса).
(обратно)63
Оргий — персидская мера длины — сажень.
(обратно)64
Мен — бог луны у лидийцев и ряда других народов Передней Азии.
(обратно)65
Пифон — в греческой мифологии чудовищный дракон, рождённый Геей (землёй).
(обратно)66
Ареопаг — холм Ареса в Афинах рядом с акрополем, с незапамятных времён место судилищ и заседаний.
(обратно)67
Земляное масло — древнее название нефти.
(обратно)68
Игра слов: кротон — по-гречески «клещ».
(обратно)69
Маги — индийские жрецы, составлявшие в Персии особую касту.
(обратно)70
Ойкист — основатель колонии (греч.).
(обратно)71
Истр — древнее название Дуная.
(обратно)72
Стрелки — персидская монета с изображением лучника.
(обратно)73
Пифекуссы — Обезьяний остров.
(обратно)74
Этруски называли эллинов гранками, отсюда римское название греки, которым пользуемся и мы.
(обратно)75
Расены — самоназвание этрусков.
(обратно)76
Сикел произвёл название племени от сикелского и латинского глагола, имеющего значение «замерзать».
(обратно)77
На языке древнейших народов Италии, говоривших на индоевропейских языках, горы, извергающие лаву, назывались вулканами по слову «вулка» (волк). В европейские языки слово «вулкан» пришло из латинского, хотя для обозначения волка римляне использовали слово совершенно иного корня — люпус.
(обратно)78
Имеется в виду мыс Суний с расположенным в верхней его части храмом Посейдона.
(обратно)79
Талатта — море (греч.).
(обратно)80
Кенотаф — ложная могила с памятником, которую ставили тем из умерших, чьё тело было захоронено в другом месте или не найдено.
(обратно)81
Ата — богиня умопомрачения и раздора.
(обратно)



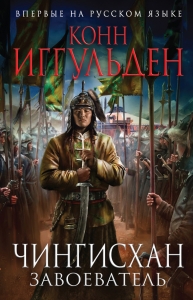

Комментарии к книге «Пифагор», Александр Иосифович Немировский
Всего 0 комментариев