Эдуард Шюрэ Жрица Изиды (Помпейская легенда) перевод с французского К. Жихаревой
Моей дорогой Матильде, блюстительнице домашнего очага, посвящаю эту книгу.
Психея потеряла крылья И плакала в ночи. Но крылья развернув свои, Амур сказал ей: «Посмотри!» Одним прыжком в лазури Он исчез, Взмахнув крылом. За ним умчалась и Психея.Сомнение в ценности жизни и любви обусловливает упадок цивилизованных народов.
Книга первая ЗАВЕСА
Любовь есть высшая степень ясновидения
I Гименей! Гименей!
— Гименей! Гименей!
Невидимый хор девических голосов звенел вдали под звуки систр, флейт и кимвалов. Доносимый легким ветерком и прерываемый смутным гулом толпы, гимн парил над узкими улицами. Волны его растекались по крытым навесам, террасам, висячим садам. Юный и влюбленный, он трепетал в знойном воздухе и терялся в ясной лазури неба, как взмах легких крыльев. На площади, где собралась празднично настроенная толпа, уже яснее слышались отдельные звонкие голоса, отчетливые слова.
— Гименей! Гименей! — И пестрая толпа гладиаторов, вольноотпущенников и рабов, женщин и детей, сгрудившихся на ступеньках базилики, увидя двигающуюся по улице Изобилия свадебную процессию, вторила долгими возгласами: Гименей! Гименей!
Чтобы видеть веселое зрелище, подонки и сливки общества собрались на обширном форуме, сердце и вершине нарядного греко-латинского города, в Акрополе Помпеи.
Площадь представляла длинный прямоугольник. На южную сторону ее выходили три судилища с тенистыми портиками, в которых виднелись курульные кресла из белого мрамора. Налево — храм Аполлона; направо — аркады Курии и храм Августа. Повсюду портики, алтари, статуи. На противоположном, северном конце, на террасе из шестнадцати ступеней возвышался храм Юпитера. Отстроенное заново из окаменелой лавы и покрытое гипсовой штукатуркой после последнего землетрясения, величественное здание это господствовало над площадью, городом и его окрестностями. Коринфские колонны его, пурпуровые у основания и изрезанные во всю длину свою черными и красными желобками, расширялись вверху разноцветными капителями, похожими на листья и плоды. Щиты архитрава сверкали на солнце между триглифами. На лицевом фасаде группа цветных богов сверкала на лазурном фоне. Два орла с распростертыми крыльями сидели на подножиях. Бронзовая статуя Победы венчала здание.
Одинокий и величественный, этот храм с кровавым подножием и сияющим металлическим венцом, царил над городом наслаждений. В нем сияли пышность и могущество Рима императоров, украсившегося остатками порабощенного греческого гения. В нем торжествовала сила, непреклонная, как лик Цезаря или сама Судьба.
Под портиком храма, вверху террасы, беседовали три человека, смотря на кишащую на площади толпу.
Один, в розовой тунике и голубом паллиуме, в миртовом венке на блестящих от масла белокурых волосах, оживленно жестикулировал, обращаясь к своему соседу, худощавому человеку в черном плаще, с бритой головой и изможденным лицом. Третий держался в стороне, на краю террасы, небрежно прислонившись плечом к угловой колонне перистиля. Лицо юного военного трибуна с гордым изяществом выделялось на красном фоне массивного столба. Он был одет в широкую белую тогу с широкой пурпуровой каймой, и на черных волосах его лежал легкий бронзовый венок из дубовых бронзовых листьев. В толпе угодливых сенаторов, скучающих священнослужителей и циничных магистратов его лицо одно отражало душу римлянина. Широкий и упрямый лоб, глубоко сидящие, пристальные глаза под нахмуренными бровями, энергичный рот и выдающийся подбородок напоминали лицо Брута. Но тонкий, резко очерченный профиль, властный нос и сжатые губы делали его похожим на молодого тридцатилетнего Тиберия. Что таилось в этих жгучих глазах, смотрящих из-под упорного, как таран, лба: любовь к свободе или стремление к тирании? Ни один из его друзей не мог бы ответить на этот вопрос, и сам он, пожалуй, еще меньше других.
— Ну, что же, Омбриций Руф, знаменитый наш трибун, вот ты вернулся с Востока, покрытый славой, увенчанный Титом, и находишься под особым покровительством Веспасиана, — скажи, о чем ты думаешь? Получив наследство после твоего дяди, старого ветерана, ты сделался одним из наших. Так что же доблестнейший из римских всадников думает о нашем городе, жемчужине Кампании?
— Ты смеешься надо мной, Симмий, — с горечью ответил Омбриций. — Ни моя доблесть, ни моя слава не могут возбуждать зависти. Я получил венок, это правда, но нахожусь в немилости, а наследство моего дяди — жалкая хижина в пустом поле, не стоящая простой таверны на Субурре. Что же касается до вашего города, то он показался мне совсем небольшим.
— Каковы же твои непомерные желания?
— Не знаю, но честолюбие мое слишком велико, чтобы удовольствоваться столь малым. Да, я стремился к славе. Она изменила мне и стала мне противна. Неужели же я проведу всю жизнь, смотря на недостижимый Капитолий?
— Попробуй предаться удовольствиям.
— Я был бы рад. Но нужно, чтобы это удовольствие было достаточно ярким и сильным, чтобы влить в мою душу забвение. Где найду я нектар, которому удастся погасить огонь, пожирающий мой мозг?
— Взгляни на этот город, распростертый у твоих ног, — сказал толстый и словоохотливый грек с жестом оратора, говорящего с высоты трибуны. — Взгляни на Помпею с ее дворцами, банями и театрами. По сравнению с нею, Рим не более, как старая матрона, сморщившаяся от пороков, а Афины — уличная куртизанка. Помпея же — греческая гетера, играющая на кифаре и поющая, как Музы, и танцующая, как Грация. Ей знакомы наслаждения, науки и искусства. Она предлагает тебе, как в корзинке, своих мимов, музыкантов и своих женщин. Ветви, цветы и плоды — все будет принадлежать тебе, если ты захочешь. Смотри и выбирай!
— Ну что же, хорошо! — сказал Омбриций, отходя, наконец, от своей колонны. И, хлопнув Симмия по плечу, он воскликнул:
— Сегодня я сделаю выбор между славой и удовольствием.
— Как Геркулес между пороком и добродетелью? — смеясь, заметил Симмий.
— Не совсем. Порок предлагал Геркулесу лишь заурядные наслаждения. Мне нужно больше. Я хочу такого ощущения, которое стерло бы прошлое, удовольствия, которое убило бы мое честолюбие. Я хочу полной и безоблачной радости. По правде сказать, я не думаю, чтобы она существовала. Но если когда-нибудь она мне встретится, я узнаю ее по одному признаку.
— По какому же?
— По улыбке истинного счастья на человеческом лице.
— Ты увидишь их сегодня не одну, а сотни.
— Сомневаюсь. Я всматривался уже во много взглядов и во много лиц. Но никогда еще не приходилось мне видеть истинной радости, без примеси, бесконечной радости, бросающей вызов всему. Если я увижу ее сегодня, я прощусь с легионами, форумом и цезарем и примкну к религии Эпикура. Но, — с презрительной улыбкой закончил Омбриций, — я убежден, что не встречу этой богини.
— Шутка софиста, — прервал стоик Кальвий. — Вы говорите о славе и удовольствии, а забываете о философии, единственном пути к настоящему счастью.
— Шутка ритора! — возразил Омбриций. — Я тоже верил в добродетель и в высшее добро. Юношей я любил, как родного отца, моего учителя Афрания, тоже стоика, как и ты. Я внимал его поучениям, как божественным словам. Он перерезал себе жилы по приказанию Нерона. Какой же это имело результат?
— Великий пример! — сказал Кальвий, вытащив из-под черного плаща голую руку и воздевая к небу сухой указательный палец.
— Как бы нам не пропустить самого красивого момента в сегодняшнем дне, — прервал Симмий. — Вон едет невеста. Сойдем на площадь.
Три друга поспешно покинули перистиль храма, и голубой паллий грека, черный плащ философа и белая латиклава римского всадника смешались с толпой, стремившейся на противоположную сторону форума.
* * *
Вся Помпея желала видеть, как претор Гельконий введет дочь свою, Юлию Гельконию, в храм Юпитера, чтобы принести жертву сожжения, а затем проводит ее в дом ее супруга Гельвидия.
Предшествуемая хором музыкантов и танцовщиц, колесница невесты, запряженная двумя белыми конями, в гирляндах из зелени, показалась у въезда на площадь. Взгляды всех были устремлены на нее. В белом шерстяном пеплуне, в оранжевом покрывале, накинутом на голову и совершенно скрывающем ее черты, невеста царила, как безмолвный идол над шумной толпой и веселым кортежем. По обеим сторонам колесницы, юноши в хламидах махали смоляными факелами. Позади колесницы дети патрициев несли в ивовых корзинах прялку, веретена и челнок из слоновой кости — эмблемы женского труда, которые девушка брала с собой из родительского дома в дом мужа. За ними следовали подруги невесты, образуя хор девушек. Потом шли должностные лица города с угловатыми и тяжелыми чертами лица, в волочащихся по земле тогах, старые матроны, закутанные, как весталки, в свои плащи, прекрасные патрицианки с искусно воздвигнутыми прическами, юноши с умащенными благовониями волосами и с повязками на лбу.
Кортеж остановился посреди площади. Народ отступал перед жезлами ликторов и образовал большой круг. Тотчас же зазвучали флейты и кимвалы, и хор девушек снова запел строфы гимна. В то же время танцовщицы в венках из плюща и аканта, шедшие впереди колесницы невесты, как Горы предшествуют колеснице Авроры, под ритмы пения сплелись в хоровод. Легкие ноги и переплетающиеся фигуры под прозрачным газом представляли как бы другую, дополнительную музыку. И торжествующий гимн, звуками и движениями чаруя неподвижную толпу, казалось, парил над городом:
Гименей! Гименей! Супруга стремится к супругу, Как Юнона стремилась к Юпитеру, Когда боги Эрос и Гименей Привели белоснежную и голубоокую В венке из гиацинтов и роз, Алеющую, как Аврора, Под тучу, где сверкает золотая молния. Эрос! О, прекрасный Эрос! Ты царил задолго до рождения мира. Будем петь: Гименей! Гименей!Гимн колебался под вздохи флейт, под трепетанье систр. Сомкнутые руки Гор поднимались и опускались извилистыми линиями. Разноцветные шарфы взлетали над хитонами, спадавшими грациозными складками. С высоты своей колесницы невеста, сосредоточенная, как богиня, бросала в воздух лоскутки красного шарфа, порхавшие, как огненные искры. И толпа бросалась за этими кусочками ткани, видя в них залог счастья.
Очарованная толпа безмолвствовала.
Невеста сошла с колесницы, и весь кортеж направился к храму. Омбриций в мрачной задумчивости еще прислушивался к словам гимна, звучавшим в его душе. Он поддался очарованию его, не вникая в смысл, такой далекий и чуждый ему!.. Так пловец ощущает хлынувшую на него волну, не видя беспредельности океана:
Эрос! О, прекрасный Эрос! Ты царил задолго до рождения мира! Будем петь: Гименей! Гименей!Откуда же исходит это трепетание радости, этот крик желания, этот страстный призыв счастья, издаваемый в глубине времен младенческими народами и украшенный искусством поэтов и жрецов? К какой цели стремится сквозь мрачные века этот крик, из которого ключом бьет жизнь и вырываются бесконечные поколения?
Омбриций издали смотрел на невесту, во главе процессии и вместе с отцом поднимавшуюся по ступеням храма. Он видел сквозь высокую дверь, как мрак храма поглотил огненное покрывало, приковывавшее к себе тысячи взглядов, и сказал себе:
— Неужели это пурпурово-оранжевое покрывало есть цель всех человеческих усилий, венец могущества, плод жизни? Зачем обоготворять эту деву, которая завтра будет похожа на всех остальных женщин? И за этим покрывалом скрывается ли улыбка счастья?
Потом недоверчиво прибавил:
— О, обманчивый светоч любви, окутанный красным покрывалом желания! Люди бросаются на тебя, как неразумные насекомые на пламя факела, но только обжигают себе кожу и иссушают мозг. Убожество и горе, разочарование и отвращение, преступление и безумие — вот, что они находят в твоем светоче. О, обманчивый светильник! О, огненное покрывало, непроницаемое и жестокое!
Поглощенный своими мыслями, Омбриций затерялся в толпе. Между тем семья новобрачной, принеся жертву, вышла из храма. Геликония снова поднялась в колесницу, и процессия направилась к дому супруга. Горы, разделившись по три, двинулись вперед, а девушки, идущие за ними, запели вторую строфу:
Гименей! Гименей! О, девы, сестры, сплетайте гирлянды, Гирлянды из гиацинтов и роз, Тките пляску, сплетаясь ногами, Боги улыбаются, Горы танцуют… Лоза цветет, роза благоухает, Весь мир расцветает, Когда супруга стремится к супругу. Эрос! О, прекрасный Эрос! Посланец богов летит с облаков. Будем петь: Гименей! Гименей!С угла площади Омбриций следил взглядом за белым потоком тог магистратов, за движущейся пурпуровой фатой невесты и развевающимися шарфами пестроцветных Гор. Неведомое волнение охватило его. Эта толпа была ему чужда, чужды эти магистраты, чужда невеста. Но великолепие обряда, достоинство форм, грация движений свидетельствовали о священном порядке, о вечном ритме вещей. Не лучше ли, вместо того чтобы искать невозможного, смиренно подчиниться общему закону и быть звеном великой цепи, послушной нотой в гармонии вселенной?
В эту минуту навстречу процессии показались носилки, пересекавшие площадь. Шесть ливийских невольников, со зверскими лицами, гордо несли на плечах богатый паланкин. Из-за полураскрытых занавесок виднелась фигура женщины в лиловой одежде. Небрежно раскинувшись на пурпуровых подушках, она лениво обмахивалась широким опахалом из павлиньих перьев с ручкой из слоновой кости. Золотой гребень в форме диадемы возвышался над ее иссиня-черными волосами, завитыми в три ряда локонов. Раздувая ноздри, она вдыхала ароматы, струившиеся в воздухе. Большие глаза, вращаясь в орбитах, окидывали толпу взглядом отдыхающей пантеры. Гордая осанка и спокойный взгляд выражали полнейшее равнодушие.
Омбриций не мог оторвать глаз от этой гордой и роскошной красавицы. Носильщики громкими криками разгоняли толпу и толкнули трибуна. В эту минуту молодая женщина, повернув гибкую шею, склонила к Омбрицию свою царственную голову и пышную грудь. Глаза ее, черные и спокойные, как у дикой антилопы, метнули в него огненную стрелу, и на губах мелькнула легкая усмешка.
И сейчас же вслед за этим алая роза, брошенная невидимой рукой, скользнула по щеке Омбриция и упала за ворот его тоги.
— Ты знаешь эту женщину? — спросил Омбриций Симмия, когда носилки исчезли в улице Меркурия.
Глаза богатого грека вспыхнули, и чувственные губы его округлились в плотоядной улыбке.
— Гедония Метелла, богатая римлянка, вдова претора, ищущая мужа, самая развратная и самая честолюбивая женщина в Помпее. Она достойна тебя, хитрый Омбриций. Потому что, по-видимому, у обоих вас ненасытная душа скрывается под бесстрастной маской.
Омбриций улыбнулся презрительной улыбкой, но душа его была взволнована. Только что, при виде процессии и невесты под покрывалом, он вспомнил прекрасные порывы своей юности к долгу и добродетели. Но под вызывающим взглядом роскошной патрицианки из глубины существа его поднялся какой-то пламенный пар, затуманивший его мозг. Наслаждение и честолюбие, между которыми он собирался сделать выбор, вдруг предстали перед ним объединенными в этом властном взгляде, казалось, влекущем его к неведомому блаженству. И он преисполнился таким жгучим желанием, какого не испытывал до тех пор.
— Если хочешь, мы можем пойти к ней? — сказал Симмий. — Я знаком с нею.
— Нет! — испуганно ответил Омбриций. И прибавил с грустью, изумившей легкомысленного грека: — Я хотел бы видеть новобрачную в ту минуту, когда супруг откинет ее покрывало. Быть может, на ее лице я увижу улыбку счастья, которую тщетно ищу!
— Ты увидишь гораздо больше, — сказал стоик Кальвий, только что нагнавший друзей. И, взяв мускулистую руку трибуна своей дряблой рукой, он прибавил вполголоса, таинственным тоном: — Когда фламин Юпитера совершит бракосочетание, у новобрачных состоится интимный праздник. На него приглашены только близкие друзья Гельвидия. Он знает тебя по имени. Ты будешь с нами, потому что достоин этого. Я говорил ему о тебе.
— Что же я должен сделать?
— Когда гости начнут расходиться, не отставай от меня. Мы останемся вместе с самыми близкими у очага предков.
— И что же я там увижу?
— Бракосочетание по ритуалу Изиды.
— По ритуалу Изиды? Что же это такое?
— Таинство. Мы увидим все.
— Кто же будет совершать его?
— Новый египетский иерофант, призванный декурионами в Помпею для обновления культа Изиды. Его зовут Мемнон. Говорят, это мудрец и аскет. Он приехал в Помпею три месяца тому назад вместе со своей приемной дочерью Альционой. Никто еще не видел лица иерофантиды, потому что она выходит, всегда закутанная в покрывало. Нынче вечером ее увидят в первый раз.
— Отлично, — сказал Омбриций, — сама судьба толкает меня. Две избранные девы, невеста и пророчица, покажут мне сегодня свое лицо и душу без покрывала. Если я не увижу в них ни счастья, ни истины, то Юпитер и Изида не более, как праздные слова. Пойдемте!..
— Предоставляю вас вашим тайнам, — сказал Симмий. — Нынче вечером мы выпьем за твое счастье, Омбриций, и ты расскажешь нам, кого выберешь в присутствии мимистки Миррины и двух флейтисток. До вечера, у меня!
II Избранная чета
Служители, стоявшие перед домом Гельвидия, ввели Кальвия и его спутника в вестибюль, в котором стояли только статуя Минервы и бронзовый светильник. Оба друга прошли в атриум, находящийся под открытым небом. Промежутки между его ионическими колоннами были переполнены гостями. Под левым портиком выстроились молодые люди; под правым — девушки, которые должны были петь эпиталаму. Семья и гости теснились во второй зале, похожей на первую и называемой перистилем. Прибывшие не без труда пробрались, в сопровождении родственника Гельвидия, между широкими латиклавами магистров, шелковистыми хитонами женщин и тяжелыми шерстяными плащами матрон до полукруглого покоя со сводчатым потолком. Это было домашнее святилище, и здесь только что началась церемония бракосочетания.
Посередине, на маленьком мраморном алтаре, украшенном гирляндами цветов, горел яркий огонь. За ним, на колоннообразных подставках полукругом были расположены статуэтки предков из слоновой кости и глиняные фигурки Лар. Позади алтаря фламин Юпитера, старик в пурпурной мантии, поддерживал огонь, бросая в него из золотого дискоса крупинки фимиама. Невеста слегка приоткрыла на лице покрывало и жених подал ей священный хлеб, фарреум, который они разломили на две части и съели, смотря на огонь, в то время как жрец бормотал непонятные слова на древнелатинском языке. Потом они по очереди отпили из чаши вина, смешанного с медом, и сделали возлияние на огонь. Дважды с треском взвивался огонь длинным ярким пламенем. После этого супруги протянули друг другу руки, пристально глядя один другому в глаза. Фламин произнес громким голосом:
— Во имя Юпитера, богов Лар и пламени очага, соединяю вас. Преломлением хлеба, вкушением вина и возжжением огня, отныне вы супруги. Юлия Гелькония, ты жена Марка Гельвидия. Его боги — твои боги, его дом — твой дом, его родители — твои родители, его друзья — твои друзья. Вы соединены по законам человеческим и по закону божественному.
Тогда супруг бережным движением снял покрывало с чела новобрачной и взял ее за обе руки. Они стояли неподвижно, смотря друг другу в глаза. Священнослужитель бросил на супругов несколько искр и окропил их очистительной водою со следующими словами:
— Юпитер, бог домашнего очага и клятв, один может разлучить тех, кого он сочетал.
Благоговейное молчание царило среди присутствующих. Все сосредоточенно следили за исполнением священного обряда, как будто каждое слово жреца обладало силой магического очарования. В эту минуту казалось, будто души предков присутствуют в этих статуях из слоновой кости, расположенных полукругом вокруг домашнего алтаря, и что через посредство горящего на нем огня они передают свои законы, добродетель и силы юной чете, которой предстоит продолжить их существование в бесконечной цепи земных поколений.
Между тем Гельвидий подвел свою молодую жену к боковой нише, расположенной между перистилем и храмом Лар. Здесь, на возвышении, к которому вели три ступеньки, стояли два седалища, покрытых бараньей шкурой. Он посадил ее рядом с собой на этот домашний трон. Юлия Гелькония была уже без покрывала. Волосы ее были причесаны наверх, в форме башни, как причесываются весталки. На ней был венок из вербены, символ девственной чистоты. Густую волну ее волос пронизывала золотая стрела, символ мужской силы. Неуловимая улыбка смягчала ее строгие и благородные черты. Гельвидий своими курчавыми волосами и бородой, ясным взглядом и широким открытым лбом напоминал дадуха или факелоносца, приветствующего богиню на элевзинских празднествах.
При виде этой прекрасной пары Омбриций не мог удержаться от чувства зависти. Он страдал от того, что лишен такого счастья, и еще больше от сознания, что оно недостижимо для него.
Жрец Юпитера удалился. После поздравлений и прощальных приветствий семья перешла в атриум, где беззвучно двигающиеся рабы наполняли вином кубки приглашенных. Около двенадцати человек друзей осталось в перистиле для того, чтобы присутствовать при бракосочетании по обряду Изиды. Дверь в атриум затворили. Уже стемнело, и домашний храм освещала только лампада, на медной цепочке спускавшаяся с потолка.
По знаку хозяина дома раб отпер маленькую дверку в святилище пенатов, выходящее в ксилос или тайный сад.
Тогда из двери этой вышел пожилой человек с суровым лицом. За руку он держал девушку, одетую, как и он, в жреческое одеяние египетских священнослужителей.
Это были Мемнон и его приемная дочь Альциона.
Мемнон был одет в льняную хламиду жрецов Изиды; с правого плеча его спускалась шкура леопарда. Иерофант был высокого роста и чрезвычайно худ, с выпуклым лбом и впалыми висками, бритой седой головой, прямым носом, плотно сжатым ртом и острым подбородком. Пламенная мысль, сдерживаемая холодной волей, вычеканила это энергичное лицо и частыми молниями сверкала из его глаз, глубоко сидящих под нависшими бровями. В правой руке он держал жезл с крестом, отличительный признак служителей Изиды и Озириса. Символ посвященности, этот ключ от великих тайн, был сделан из сплава золота и серебра, который у александрийских греков назывался аргирокрузеон.
Молодая девушка, которую он вел за руку, представляла прелестнейший контраст своему учителю.
На ней было одеяние Изиды. Бледно-желтая туника, с длинными прямыми складками, целомудренно обрисовывала ее стройную фигуру. Голубой головной убор покрывал ее голову. Лопасти его, похожие на сложенные птичьи крылья, совершенно закрывали ее волосы. На лбу извивалась змея из чеканного золота. На перламутрово-белой шее покачивалась фигурка из черного базальта, прикрепленная цепочкой к ожерелью из опалов. Лицо с нежными неопределенными чертами, походило на лицо любопытной и пугливой Психеи. Глаза сияли кротким светом и, казалось, искали чего-то вдали, за пределами этой залы, наполненной людьми. В руках она держала сноп цветов лотоса.
Мемнон посадил Альциону на стул, напротив новобрачных, с левой стороны от брачной комнаты, в глубине которой сквозь отворенную теперь дверь виднелось ложе из слоновой кости, увитое розами.
Фигура жрицы поразила Омбриция своей неясной прелестью и чистотой. Он рассматривал ее с напряженным вниманием. Спокойно сидя на стуле, со сложенными на коленях руками, прислонившись откинутой головой к стене, она пристально смотрела на избранную чету. Взгляд ее струился сквозь веки с длинными ресницами. Только легкое трепетание ноздрей и несколько ускоренное дыхание под туникой выдавали ее душевное волнение. Со своей откинутой головой, причудливым профилем, чуть приподнятым кончиком носа, она напоминала девушку, заблудившуюся в священной роще, под густой листвой деревьев ощущающую гнетущее присутствие неведомого бога.
Вдруг веки ее вздрогнули и закрылись. Альциона спала глубоким сном.
Тогда Мемнон, встав перед домашним алтарем и держа в руке крест, заговорил медленно, торжественным тоном.
— По просьбе твоей, Гельвидий, я приношу привет тебе и твоей подруге, привет Изиды, привет мира и света. Высшая истина обитает на недоступных высотах, но лучи ее озаряют землю. Подобно нетронутой девственнице, целомудренная и лучезарная истина сияет из глубины веков. Она спит в храме, но просыпается при звуке голоса пророков и говорит только со своими избранниками. Вам шлет она луч своего величия и радости, вам приношу я послание Изиды. Только что вас соединили по земному обряду и для земли. Я же сочетаю вас божественным образом и для неба, по вашему желанию. Это для вас день испытания, решительный час. Действительно ли вы избранная чета, предназначенная свыше друг для друга? Их насчитывается лишь немного среди миллионов супругов и любовников. Или мечта ваша не более, как мираж земного желания, дым ваших взволнованных чувств, подобный тому, что охватывает бесчисленные пары, сливающиеся лишь во временном объятии? Если вы созрели для вечного брака, если вы готовы не только к плотским деяниям, но и к божественному творчеству, голос с неба будет вещать вам, и ваше сердце должно ответить ему. Голос с неба будет вещать вам, если пожелает, устами пророчицы. Тогда внимайте — и выбирайте. Ибо душа посвященного свободна — свободна, как огонь и воздух. Но выслушайте сначала послание.
«Души суть дочери Озириса, божественного духа, и Изиды, небесного света. Блестящие искры, они были зачаты несозданным светом и оплодотворены зиждительным огнем. Пожираемые жаждой жизни, они спускаются на землю и воплощаются в тысячи форм, потом, легкие, как пар, поднимаются на родное небо, чтобы затем снова спуститься, подобно каплям дождя, выпиваемым океаном и вновь притягиваемым солнцем. Но наслаждаются они или страдают, поклоняются ли они божеству или кощунствуют, поют ли они или кричат — все жаждут вернуться лучезарными к первоначальному источнику, в величественную и священную ночь, где уже нет более преграды желанию, нет более границы знанию, туда, где Изида и Озирис сливаются в неизмеримый океан звучного и живого света.
Пути душ в мирах разнообразнее полета ласточек. Мириады их носятся, нерешительные и ленивые, в тусклом лимбе, вечном полумраке. Тысячи питаются злом, их поглощает мрак, и они возвращаются в элементы. Небольшое число душ укрепляет свою силу в борьбе, и слабый свет их сгущается у края мрачной бездны. Эти души, переходя от усилия к усилию и от жизни к жизни, поднимаются вновь к чистому источнику вечной Зари и погружаются в родной свет, пронизываемый непрестанными молниями созидающего Огня. И с этого момента они делаются участницами божественного могущества и приобщаются к управлению миром.
Подобно телам, души имеют пол. Они бывают мужскими и женскими сообразно с тем, заимствовали ли они свои свойства больше от отца, творческого Духа, или от матери, живого и пластического Света. Им определено дополнять друг друга и жить парами, для того чтобы отражать совершенное существо, и каждая ищет свою неразлучную подругу, но увы… среди скольких заблуждений!.. скольких терзаний! скольких неудачных попыток и мучительных жизней!
На земле немного совершенных пар! Счастливы мужчина и женщина, которых при встрече объял священный трепет, как от божественного воспоминания. Счастлив супруг, узнавший и приветствовавший бессмертную супругу! Объятие их священно. Ничто не может их разлучить, ничто не может сломить их. Ибо они носят в себе светильник мудрости, науку любви, созидающий огонь, способность чувствовать, понимать и давать счастье.
Принадлежите ли вы к ним, ты, гордый Гельвидий, и ты, смелая Гелькония? Чувствуете ли вы в себе мужество принести великую клятву? Хватит ли у вас смелости пренебречь всеми возможностями и силами во имя силы души, не бояться ни змей зависти, ни Гемонских ступеней, посвятить вашу любовь божественному делу, быть уже и здесь избранной, чудесной четой?
Если да, то придите соединить ваши руки над крестным кольцом, над знаком бессмертной жизни, не боясь, что вас испепелит небесный огонь, к которому мы взываем!»
Гельвидий и Гелькония встали, держась за руки, бледные от волнения. Они, видимо, решились совершить это торжественное деяние, но в глазах их еще замечалось некоторое колебание, как будто бы то, что им предстояло сделать, должно было свергнуть их с берегов времени в провал вечности.
В эту минуту взгляд Омбриция привлекло движение Альционы.
Юная пророчица, спавшая на стуле, прислонясь головой к стене, не шевелилась до этого момента. Но вдруг она сильно вздрогнула и порывисто поднесла к вискам обе руки. Глаза ее по-прежнему были закрыты, лицо выражало мучительное страдание и тревогу. Губы ее шевелились, как будто она шептала бессвязные слова. Заметив это, Мемнон подошел к ней и дотронулся пальцем до ее лба с властностью учителя, чтобы отогнать ужасное видение. Но она оттолкнула его резким жестом, поднялась на ноги и повелительно воскликнула:
— Оставьте меня все!
При этом порывистом движении шапочка, покрывавшая ее голову, упала. Пряди волос, свернутых в узел, рассыпались по ее плечам рыжеватыми волнами и засверкали на плечах золотистыми кольцами. Обнаженные руки ее распростерлись, как бы обнимая пространство. Глаза, теперь открытые, расширились, потемнели и выражали смертельный ужас. Другая душа вселилась в молодую девушку. Это была уже не робкая дева, а пифия, находящаяся во власти своего бога.
Мемнон отступил назад.
Тогда прерывистым, но ритмичным и музыкальным голосом, похожим на звон струн теорбы, вздрагивающей в такт под пальцами служительниц Паллады, когда жрец поет священный гимн, Альциона заговорила, прерывая свою речь частыми вздохами и стонами.
— О, злосчастный город! Помпея!.. Помпея!.. Город мягких лож и прекрасной живописи, город удовольствий и забвения… где веселится Рим… где преступление и сладострастие опять вместе на покрытых пурпуром ложах… замышляя новые злодеяния… какова твоя судьба? Какой огненный бич угрожает тебе? Какой мрак обволакивает тебя своим плащом?.. Ах, ты смеешься, пляшешь и торжествуешь… как вакханка, украшенная виноградными листьями, с повязкой на глазах… Но ничто, о нет, ничто не может спасти тебя от твоей судьбы… Я вижу море огня… потом ночь, непроглядная ночь и земля сотрясается в своих недрах… гром наверху… и гром под землей, еще страшнее первого!.. Все бегут! О, сколько мертвецов!.. И пепел падает на руки… на голову… наполняет рот… Я задыхаюсь!..
Пророчица пошатнулась, едва не лишившись чувств. Мемнон подхватил ее на руки. Голова ее склонилась, как колос под порывом ветра. Он коснулся крестом ее лба. При ощущении холодного металла она вдруг успокоилась и, постепенно выпрямляясь, продолжала, держась за плечо учителя:
— Зачем, о зачем, отец мой, ты привел меня сюда… в этот вертеп разврата? Так далеко от священного Нила с мирными излучинами? Зачем ты приносишь меня в жертву своей науке, ненасытный учитель… и бросаешь меня на сожжение этому проклятому городу?.. Видишь, там, за городскими воротами, на пути к гробницам… дымится мое брачное ложе, высокое, как пирамида… и я лежу на нем… ожидая моего супруга… А фимиам горит у подножия ложа… и голубой змейкой поднимается к небу… и смешивается с черным дымом вулкана…
При этих загадочных словах Альциона высвободилась из объятий Мемнона. Светлая радость залила ее лицо, преображенное экстазом. Она подняла руки, как птица, готовая улететь, поднимает крылья. И, как бы следя глазами за далеким и чудесным видением, скорее запела, чем заговорила:
— Барка… Барка Изиды!.. Она плывет по необозримому небу… Она спускается к нам!.. Как она прекрасна и лучезарна… легкая воздушная барка… Богиня сидит на корме… и правит рулем… А на носу стоит… кто этот прекрасный гребец?.. Это ты, мой Гений, мой возлюбленный… Антерос?.. Он делает мне знак… Да, я иду!
Альциона опять чуть не лишилась чувств от волнения. Мемнон и на этот раз удержал ее. Тогда, в порыве внезапной энергии, она обернулась к новобрачным. И громко, властным голосом произнесла:
— Вы — избранная чета… Соедините ваши руки над крестом Изиды… Принесите великую клятву… и вы войдете в барку… на миллионы лет… Придите сюда!
Гельвидий и жена его приблизились, как притягиваемые магнитом.
Руки их соединились на крестном кольце. Поверх них горел крест, и серебристое золото его, освещенное сверху огнем лампады, казалось метало бледные молнии вокруг этих рук, заключающих брачный союз.
Мужественным голосом Гельвидий произнес клятву:
— Тебе принадлежу навеки!
Гелькония тихим, но твердым голосом прибавила:
— Где ты, Гельвидий, там и я, Гелькония.
Альциона, судорожно сжав их руки своей хрупкой, но ставшей крепкой, как тиски, рукой, продолжала торжественно:
— Вам — Любовь, Свет и Радость… мне — Страдание… Мрак… Смерть!..
Потом, закинув назад лицо, в отчаянии воздев руки к потолку, воскликнула:
— Барка поднимается… она исчезает… Антерос прощается со мною… Он покидает меня!.. Меня вновь берет земля…
Раздирающее рыдание сопровождало этот последний крик. Поддерживаемая Мемноном, Альциона, безжизненная и холодная, упала на стул. Глаза ее снова закрылись. Глубокая летаргия сменила экстаз. Гельвидий, его жена и их друзья столпились кругом нее, желая помочь ей. Но Мемнон отстранил их:
— Не тревожьтесь, — сказал он. — Принесите очистительной воды. Я окроплю ее, и через несколько минут она проснется спокойная и не сохранит никакого воспоминания о том, что она говорила и что произошло.
Омбриций следил за странной церемонией мистического брака и за еще более странными порывами Альционы, обуреваемый вихрем противоречивых чувств. Изумление и любопытство, ирония и недоумение сменялись в нем. Но, вопреки глухому возмущению, он все-таки не мог не поддаться непобедимому очарованию. Он не верил ни в богов, ни в бессмертную душу. Он не любил жрецов, считая их всех обманщиками или глупцами. Но как усомниться в этой иерофантиде и в неподдельности ее экстаза? Прежде всего его поразило внезапное преображение всего ее существа. Затем чудесная красота ее движений, порывистая стремительность ее крылатых слов увлекли его в неведомые области. Смысл ее предсказаний и ее видений ускользал от него, но разве он не видел на ее сияющем лице отблеска иного мира? Да, сверхчеловеческая радость, которую он искал так тщательно, улыбка божественного счастья на минуту блеснула на лице этой девушки, превратившейся в волшебницу, потом погасла как луч солнца в океане туч, гонимых ураганом. Ах, как проникнуть в это святилище? Как переступить порог этой души? Как похитить этот луч? О, чего ни отдал бы он в эту минуту за один взгляд Альционы!
Терзаемый этими мыслями, Омбриций вошел в атриум, куда только что вновь растворили дверь. Настала уже ночь. Звезды мигали над лишенным кровли атриумом. Музыканты и факельщики бродили вокруг девушек, которые должны были петь эпиталаму. Рабы разносили гостям замороженные фруктовые щербеты. Кубки с вином переходили из рук в руки среди шумных разговоров и веселого смеха. Омбриций быстро прошел сквозь эту толпу, вышел в вестибюль, где толпились вольноотпущенники и клиенты, и стал позади светильника. Он был уверен, что здесь ему удастся еще раз увидеть жрицу, когда она будет выходить из дома Гельвидия.
Действительно, она вскоре показалась вместе с Мемноном. Альциона снова приняла прежний вид испуганной Психеи. Голова ее была обнажена, волосы подобраны в узел. Факелы, которые присутствующие придвигали, чтобы лучше рассмотреть ее, зажигали огоньки в торсадах ее рыжих волос. При свете их яснее выступала ее алебастровая бледность. Молодые девушки с суеверным чувством прикасались к ее платью и целовали ее руки. Печальная и безмолвная, она улыбалась какой-то далекой улыбкой.
Спрятавшись за высоким светильником, Омбриций смотрел на нее со страстным желанием проникнуть в тайну этой души и погрузиться в нее взглядом. Очутившись в трех шагах от молодого человека, жрица встретилась с его пламенным и пристальным взглядом. Она остановилась и задрожала, и в глазах ее отразился страх. Тогда глаза Омбриция, как бы испугавшегося своей смелости, приняли страдальческое выражение, и невольным жестом он умоляюще сложил руки. Тотчас же взор Альционы смягчился, и упрямый рот ее, с тонкими и извилистыми губами, сложился в сострадательную улыбку. Улыбаясь, она выронила из рук лотосы. Одним прыжком Омбриций очутился возле нее, поднял цветы и передал их ей, низко склонив голову и опустив глаза.
Когда он поднял их, отступив на шаг, он увидел, что Альциона покраснела и опустила глаза. Покровительственным жестом Мемнон надел на голову своей питомицы синюю шапочку и заботливо закутал ее в серый плащ. В то же время он пронзительным взглядом окинул Омбриция. Потом жрец Изиды и его прорицательница медленной поступью вышли из дома новобрачных, мимо коленопреклоненных рабов.
В это время, в перистиле, девушки пели эпиталаму под торжественные звуки лир дорического напева:
Гименей! Гименей! Сидя на ложе, подобно алтарю, Украшенном цветами, Супругу улыбается супруга, опустив глаза. Взмахнем факелами, рассыплем розы; Загораются очи, потушим светильники. В безмолвьи лобзаний Обнажились сердца. Эрос! О, прекрасный Эрос! На ложе любви воздвигни свой яркий светильник. Будем петь: Гименей! Гименей!Прозрачная ночь сияла над Помпеей, когда Омбриций, выйдя из дома Гельвидия, направился к себе. Он был слишком взволнован, чтобы идти к Симмию и смотреть на танцы знаменитой мимы. Лавки были заперты, с террас сняты велумы. Редкие прохожие, закутанные в плащи, шли по пустынным улицам с бледными фонарями. Временами из таверн вырывались вакхические крики, и над темными садами там и сям реяли смутные голоса и замирающие звуки струнных инструментов или флейт. Усталый от наслаждений и отяжелевший от дремоты город засыпал, в то время как миллионы звезд снопами искр прорезывали беспредельный свод небес.
Охваченный каким-то необычайным, почти сверхчеловеческим волнением, которого он никогда дотоле не испытывал, Омбриций думал: «Что же такое случилось со мною? Неужели моя жизнь и течение моих мыслей отныне изменятся? Неужели вселенная сразу увеличилась? И за этим видимым миром существует другой? Ах, суждено ли узнать это когда-либо? Плотная черная завеса прикрывает тайну жизни. Но вот неизвестная мне девушка хрупкой рукой своей отодвинула край этой завесы… и из отверстия сверкнул ослепительный луч!.. Где найти снова этот свет, если не в глазах Альционы? Но увижу ли я ее когда-нибудь еще?»
Он перешел безлюдный форум, населенный в ночном безмолвии лишь неподвижными статуями консулов и императоров. Дойдя до главной аркады, он бросил взгляд на горы, море и небо, как бы ища у них утоления своей душевной тревоги. Сероватый конус Везувия, над которым забился красноватый свет, слабо дымился. Широкий залив простирал в беспредельность свои берега, похожие на две призрачные руки. Звезды мерцали обманчивым светом. Величественный и непроницаемый мир дразнил пытливый ум, скрывая под волшебной красотой чудесную и страшную тайну вещей.
Завеса снова опустилась.
III Омбриций
Дом Омбриция, полученный им в наследство от дяди-ветерана, находился вне Помпеи, недалеко от Сарнских ворот, среди поля, засаженного виноградом и оливками. Развалившаяся хижина служила жилищем управителю и рабам, обрабатывавшим землю. К дому хозяина вел портик из окаменевшей лавы, построенный без всякого стиля. Обстановка дома была бедна и уныла. На ветхих стенах, на расшатанных колоннах висели ржавые сабли, продырявленные щиты — воспоминания давних войн. В глубине стояла маленькая статуя Августа, которой старый ветеран воздавал культ. Налево находилась узенькая спальня с походной кроватью. Направо — комната, несколько побольше, со столом, несколькими деревянными сиденьями и очагом, служившая одновременно и кухней, и столовой.
В этой-то комнате и расположился Омбриций, вернувшись домой. Разведя огонь из сухих виноградных лоз, он зажег глиняную лампу и поставил ее на стол, рядом с блюдом чечевицы, до которого не дотронулся утром. Этот день и эта ночь возмутили в нем все его прошлое, уже покрывшееся пеплом. Первым его чувством было раздражение против своей бедности, дикое возмущение против несправедливости судьбы. Но жгучие мысли, возникшие в его мятежной душе, заставляли его замкнуться в своей берлоге, чтобы пересмотреть всю свою жизнь и постараться провидеть будущее.
О, как беспокойна, бурна и непостоянна была эта жизнь! Он был сыном вольноотпущенницы и ветерана, служившего в легионах Тиберия и произведенного в римские всадники. Отец его владел поместьем в Тускуле. Печальное детство его совпало с кровавым царствованием Нерона. Ранняя юность Омбриция была омрачена атмосферой диких оргий и чудовищных преступлений, исходивших в то время от трона цезарей и тяготевших над миром, как отравленная туча. И все же этот период был самым чистым в его жизни, только он один был озарен лучом света. Желая посвятить себя ораторскому искусству, он посещал уроки римских риторов. Но настоящим его учителем был Афраний, старый философ-стоик, живший в уединенном домике на горе Тускула и обучавший там нескольких учеников. Этот бедный человек, почти нищий, высланный Нероном из Рима, питавшийся луком и черствым хлебом и живший в жалкой крестьянской хижине, заставил его пережить самые возвышенные волнения юности, пробудил в еще незапятнанной душе его чистые порывы к добродетели. В тот день, когда Афраний развил перед ним и несколькими молодыми людьми основную мысль философии Зенона о том, что единственное благо души заключается в ее собственном свободном суждении, что высшее добро заключается в ее власти над самой собою, в уме его зародилось новое представление о человеке и о жизни. Впоследствии, когда Омбрицию было уже шестнадцать лет, Афраний, обращаясь к нему непосредственно, воскликнул: «Омбриций Руф, если ты хочешь быть счастливым, если хочешь быть свободным, если хочешь иметь великую душу — откажись от всего. Тогда ты сможешь гордо держать голову, потому что будешь свободен от всякого порабощения. Осмелься поднять глаза к Богу и сказать ему: „Делай со мной, что хочешь!“» При этих словах Омбриций затрепетал мужественной гордостью. На следующий день он спросил учителя, не жалеет ли он о Риме, откуда его изгнал Нерон. Тогда Афраний показал ему на горизонте семь холмов Вечного Города, казавшиеся с высоты Тускула ниже маленьких бугорков, и сказал: «Если ты понимаешь мысль Того, Кто управляет вселенной, если ты повсюду носишь ее в себе самом, то можешь ли ты сожалеть о нескольких булыжниках и о красоте камней?» Юный ученик пришел в восторг от твердости учителя, и душа его показалась ему, действительно, величественнее этого Рима, откуда его изгнал Нерон, которого он умел так хорошо презирать. Но в особенности восхищало ученика мужество учителя, равное его учению. Гораздо ярче, чем картины сражений, героических битв, в которых впоследствии он и сам принимал участие, в памяти его запечатлелась одна сцена, как высшая степень трогательного человеческого благородства.
Однажды испуганные крестьяне прибежали в жилище философа с криками: «Спасайся! Беги! Центурион Цезаря с двумя ликторами ищет тебя!» Это была почти верная смерть. Афраний спокойно ответил: «Покажите им дорогу». В сопровождении учеников он встретил центуриона у двери своего жилища и обратился к нему с вопросом: «Зачем ты пришел ко мне?» — «Цезарь узнал, что ты его не боишься, и спрашивает тебя, что ты считаешь своей лучшей защитой?» — «Вот это», — ответил Афраний, вынимая из-под тоги кинжал, который всегда носил при себе. «Ты обратишь его против Цезаря?» — «Нет, только против себя, если он поставит преграду моему слову или моей свободе». — «Тогда, дай его сюда!» — со свирепым видом сказал центурион, выхватывая кинжал у стоика. Ученики побледнели, думая, что посланный Нерона сейчас убьет их учителя. Афраний не двинулся и спокойно сказал: «Поблагодари Цезаря, благодаря ему, я обрету, наконец, свободу!» Но преторианец возвратил оружие философу с двусмысленной улыбкой: «Возьми его, — сказал он, — он скоро тебе понадобится. Цезарь хотел только испытать тебя, но если ты увидишь меня еще раз, не надейся более ни на что». Посланный Нерона исчез, ученики бросились на колени перед учителем, целуя края его потертого плаща. Он кротко поднял их и запретил говорить что-либо об этом случае. Потом сел на краю маленькой террасы, лепившейся у выступа Апеннинской горы, с которой глаз обнимает простор Лациума до моря и безбрежность пространства, которое уже заполнял темный свиток сумерек. И в течение части ночи, под далекими светилами небесного свода, Афраний говорил своим ученикам о Высшем Добре, о Провидении и о Душе Мира, в которую с блаженством после смерти погружается человеческая душа, если она жила согласно с божественным законом.
В эту ночь Омбриций обещал себе сделаться достойным своего учителя. Но это решение удержалось в нем недолго. Уже вскоре, живя в Риме, молодой человек узнал, что его учитель был обезглавлен наемными убийцами Нерона, приказавшего доставить ему голову философа. Тирану захотелось иметь эту беседу с мудрецом, в которой последнее слово оставалось за ним, и он мог таким образом быть уверенным, что победил своего противника. В то же время все философы были изгнаны из Рима. Подавленный этим несчастьем, Омбриций спрашивал себя, какая польза во всем их мужестве. И в возмущении своем против человеческой судьбы он проникся сожалением к своему учителю и усомнился в философии. Отвлеченная мысль, не могущая преобразовать мира, показалась ему праздным и суетным трудом. Он захотел приобрести власть, чтобы самому располагать жизнью и смертью и судить по своему усмотрению. Тогда, с какой-то яростью, он устремился в военную карьеру.
Он поступил в армию Веспасиана, потом в армию его сына, Тита, командовавшего войсками на востоке. Он познал суровые труды военной жизни, ее мужественные радости и мучения, суровые переходы, бессонные ночи накануне битв, бесконечную усталость и неприятность повиновения беспощадным начальникам, но познал также и удовольствие от ощущения самодовлеющей силы, возбуждение опасности, волнение битв и упоение победы. И особенно познал радость от сознания своей власти, когда бросал в бой или удерживал свою когорту. И так как стремление к господству составляло основную черту его характера, в нем развилось ненасытное честолюбие.
Надо приобрести, думал он, большую власть, чтобы стать могущественнее Афрания и отомстить за него, раздавив в то же время своих собственных врагов. Он легко добился степени военного трибуна в легионе Тита при осаде Иерусалима. Он считал уже, что ему остался всего один шаг до высших отличий, как вдруг одна неосторожность сразу разрушила все его смелые надежды.
В одном сражении в Сирии был убит военоначальник, командовавший легионом. Омбриций вскочил на его коня, принял на себя командование и одержал победу. Тотчас же солдаты провозгласили его начальником легиона. В то время каждый легион желал иметь своего цезаря, и один из его легионеров крикнул: «Да здравствует Император!» Вместо того чтобы наказать солдата, Омбриций наградил его. Об этом было донесено Титу, ревниво оберегавшему империю для своего отца. Вместо того чтобы назначить Омбриция начальником легиона, Тит исключил его со службы, наградив почетным венком и крупной суммой денег.
Тогда Омбриций Руф, в то время уже осиротевший, поехал в Помпею, чтобы вступить во владение наследством, оставшимся после дяди. Преисполненный горечи и ожесточения, обманутый в своих честолюбивых мечтах, пылкий юноша уже готов был вернуться к философии, ища в ней забвения своих неудач, когда встреча с Гедонией Метеллой вновь пробудила в нем прежние желания перспективой новых возможностей. Одного взгляда патрицианки, раскинувшейся в носилках, было достаточно для того, чтобы перед глазами его вновь восстали все недоступные наслаждения, связанные с консульским достоинством и императорским пурпуром. И как будто этот образ был недостаточно властен, чтобы смутить его, его сменил другой, проникший до неведомых глубин его существа. Жрица Изиды после патрицианки… Альциона после Гедонии Метеллы!.. Разве она не была уголком глубокого и ясного неба после мрачного блеска императорского ада? Неожиданное зрелище! И какой простой и чудесной явилась эта детская и ясновидящая душа. Она скользнула по его душе, как дуновение райского мира. Она сразу перенесла его далеко от кровавой арены, от гнусной оргии, какую представлял свет. Как назвать женщин, которых он знал до сих пор? Низкими орудиями наслаждения или опасными животными. А мужчины? Звери в касках и кирасах, вооруженные хитростью и умом, или несчастные загнанные животные, жертвы своих палачей, или презренные царедворцы, плетущиеся за стаей хищных зверей. Даже сам Афраний, благородный стоик и его учитель, представлял ли он что-либо иное, кроме бессильного разума в жалком теле? Альциона же была душа. Небесная и трепетная душа в перламутровой белизне прекрасного девственного тела. Она сверкала, эта душа, в ее нездешних глазах, струилась в ее золотых волосах, как огненная вода. Он видел и слышал эту человеческую лиру, тонких струн которой касался какой-то невидимый гений, и колебания их были дыханием из другого мира, дыханием неосязаемым, но сладким, пробуждающим рой смутных мыслей и далеких воспоминаний. А позади Альционы, наивной и бессознательной прорицательницы, таился целый мир, невидимый мир, о котором говорят поэты и которого никто не видел, — быть может, единственно истинный мир… Ах, если бы он действительно существовал, какое предстояло бы завоевание, какая радость и какая власть, несравнимая с радостью и властью обладания империей! Омбриций дрожал всем телом, загораясь этим новым желанием. Любил ли он уже эту девушку, ответившую на его повелительный взгляд кротким и печальным взором? И любит ли его Альциона? При этой мысли у Омбриция закружилась голова, как при виде разверстой бездны, залитой светом.
Он лихорадочно мешал огонь обломком сухой лозы. Огонь погас. Масло в лампе все выгорело и пламя светильни бросало лишь красноватый отблеск в глубокий мрак. Омбриций встал, глубоко вздохнул, и из груди его вырвался хриплый стон. Потом вышел на двор. Пройдя несколько шагов, он очутился у границы своего владения, глубокой канавы, по которой протекала Сарно. Маленькая речка молчаливо разъедала крутую скалу, поросшую по обоим склонам оливками и виноградниками. За цепью Апеннин белела заря, залив оставался тусклым и темным. Помпея виднелась темной массой, над которой возвышались башни, храм Юпитера и триумфальная арка. При виде этой картины в воображении Омбриция снова восстала фигура Гедонии Метеллы, лежащей на носилках.
Но ее сейчас же сменило восторженное лицо Альционы. Затем трибун мысленно увидел своего учителя Афрания, который строго смотрел на него, и ему показалось, что он слышит его торжественный голос, говорящий: «Иди в храм Изиды, чтобы быть в числе посвященных».
Тогда, при мерцании звезд, в виду спящего города и все еще дымящегося Везувия, Омбриций громко сказал, обращаясь к безмолвию и ночи:
— Хорошо, я пойду.
Успокоившись на этом решении, утомленный трибун лег спать на ложе ветерана.
IV Мемнон
В эту ночь Мемнон тоже не спал и был взволнован и встревожен не менее, чем Омбриций. Поспешно вернувшись домой со своей приемной дочерью, он нашел старую нубийку у входа в храм. Альциона погрузилась в состояние оцепенения, обычно следующего за лихорадочным возбуждением экстазов. Мемнон поручил ее верной служанке, которая повела ее через обнесенный стеной портик в курию Изиды, нечто вроде внутреннего двора, окруженного несколькими комнатами, совершенно закрытого от посторонних и недоступного ни для кого, за исключением иерофанта. Иерофантида шла усталая, покачиваясь и опираясь на плечо старухи. Тем временем жрец по внутренней лестнице вышел на террасу, расположенную на крыше храма, — обычное место его ночных размышлений.
Храм Изиды задним фасадом был прислонен к театру и находился в южной части города, неподалеку от ворот Стабии. Терраса приходилась на уровне крыш домов. Позади нее высился огромный амфитеатр, казалось, готовый раздавить ее своей каменной громадой. Маленький храм прилепился к величественному зданию, как гнездо ласточки. Поднявшись на крышу храма, Мемнон долго вдыхал прохладный ночной воздух, вглядываясь в звездное небо. Но вместо успокоения, какое обычно проливали в его душу созвездия, вид их только увеличивал его беспокойство.
Он думал о странном экстазе Альционы, о ее мрачных пророчествах и о том, какой сильный толчок испытало все его существо при встрече с дерзким незнакомцем. Эти неожиданные события, подобные сверканию непрерывных молний, принимали в его глазах страшное значение сверхъестественных символов и грозных предупреждений. Они не только освещали все его прошлое, перемешав все самые глубокие и самые темные слои его души, но бросали устрашающий свет и на будущее. Он переживал один из тех часов, когда под грубыми ударами жизни судорожно сжавшаяся душа собирается с силами у очага загоревшегося сознания. Для того чтобы понять события, ему необходимо было сосредоточиться.
Он вздохнул еще один раз и огляделся вокруг. Перед ним нагроможденные дома закрывали вид; сзади — его давила окружность амфитеатра. Чтобы не задохнуться, ему нужно было больше воздуха, больше простора, больше неба. Тогда он вспомнил, что декурион Гельвидий, поселяя его несколько недель тому назад в храм Изиды, показал ему в толстой стене в конце террасы ржавую бронзовую дверь, ведущую в прилегающее здание. Дверь эта выходила в коридор, через который можно было проникнуть внутрь театра и подняться в идущую вдоль стен его галерею, откуда открывался вид на море и часть залива Неаполиса. Ключ висел у его пояса, и он отпер дверь. Пройдя бесстрашно по темным переходам, он быстро достиг амфитеатра и поднялся в крытую колоннаду, венчавшую здание.
Огромный амфитеатр и сцена были пусты. В эту безлунную ночь театр казался впадиной, похожей на кратер вулкана. Вдали, под беловатым светом звезд, простирался залив, окутанный легкой дымкой. Крайняя оконечность капреи сливалась с мысом Соррентума. На противоположной стороне он видел маяки Неаполиса, древнюю Парфенопею, маяки Путэоли и Мицены и, совсем вблизи, пирамидальный остров Пифекузы, похожий на призрак, скорчившийся в открытом море. Мемнон сел под открытой колоннадой. Некоторое время он смотрел на раскрывшийся перед ним вид с заливом, морем и небом, колыхавшийся в его глазах, как колеблемый ветром занавес. Он опустил голову и заглянул в темную воронку с круглыми ступенями, зиявшую у его ног. В эту минуту бездна его души показалась ему не менее мрачной, чем этот огромный амфитеатр, сооруженный людьми для того, чтобы вызывать в душах своих ближних возвышенные химеры поэзии. Вскоре под его упорным взглядом образы прошлого выступили из бездны. Перед ним предстали главные сцены его жизни, сначала разрозненные, потом объединенные в группы и, наконец, связанные в живую цепь. И трагический хор торжественными движениями направлял нити его судьбы, запутывая и перевивая их по своему усмотрению.
Он был сыном малоазийского грека. Обладая большой жаждой знания, он поступил в школу александрийских философов. Страстное стремление к трансцендентальной истине пронзало всю его юность и всецело подчинило себе его зрелый возраст. Вначале он был ослеплен красноречием учителей и блестящим нагромождением систем, которые они строили, разрушали и воздвигали вновь наподобие искусных зодчих. Но, в конце концов, он одинаково разочаровался и в рассуждениях стоиков и эпикурийцев, учеников Платона и Аристотеля, и в праздных хитросплетениях риторов и софистов. Ему преподносили слова и абстракции, тогда как ум его жаждал глагола, который открыл бы ему мир и наполнил бы душу бессмертной жизнью. Однажды, когда он прогуливался с одним старым египтянином по берегу Мареотидского озера, человек этот сказал ему, что учение Гермеса, в том виде, в каком оно некогда преподавалось в храмах, и которого современная египетская религия является лишь грубым искажением, одно способно дать удовлетворение уму, подобному его.
«Ибо, — говорил старик, — это учение не только просвещает разум величием и обоснованностью своих построений, но еще присоединяет практику к теории и опыт к мысли, постепенно заставляя проникать ученика к источнику вещей, в невидимый мир, где находится ключ всего». — «Где же найти это учение и этих учителей?» — спросил Мемнон. «Увы, — ответил египтянин, — учение существует по-прежнему в книгах Гермеса, хранящихся в некоторых храмах в Фивах, Мемфисе и Нижнем Египте. Но оно остается мертвой буквой, потому что жрецы, умевшие оживотворять его, исчезли. Вот уже много веков как наука о тайнах мироздания утратилась, оттого что находилась в руках недостойного духовенства. Гнусный Камбиз приказал убить величайших пророков этой религии и сжечь их книги. Птолемеи относились довольно терпимо к оставшимся в живых последователям этого учения, но римские цезари истребили их, угадывая в них тайных врагов своего могущества. И теперь настоятели храмов, хотя и носят громкое название „пророков“, в сущности, не более, как алчные владельцы огромных богатств и невежественные хранители непонятной науки. Они строго соблюдают древние обряды и вместе с тем являются презренными сообщниками цезарей и их проконсулов». — «Неужели не осталось ни одного, которому было бы ведомо предание и который обладал бы истинным знанием?» — спросил Мемнон. «Да, есть один — это старый Саваккий, изгнанный Тиберием; он живет в древней гробнице в Ливийских горах на краю пустыни, неподалеку от одной из тех пирамид, что тянутся в море песка позади пирамиды Мемфиса». — «Нельзя ли мне повидать его?» — «Сходи к нему и скажи, что это я направил тебя. Он даст тебе совет».
Среди желтых обрывков Ливийских гор Мемнон нашел Саваккия на пороге пещеры и рассказал ему о своем намерении. Суровый, почти дикий на вид пустынник взглянул на пришельца пронзительным взглядом и сказал: «Ты ищешь истины, молодой человек? Знаешь ли ты, чего стоит в наше время любить ее? Так вот, взгляни на меня. Я был богат, могущественен. У меня был собственный храм, стада и поля, у ног моих был целый город. И видишь, кем я сделался, потому что любил истину ради нее самой и превыше всего. Нравится ли тебе мой путь и представляется ли тебе завидной моя цель?» — «Да, — воскликнул Мемнон с юношеским воодушевлением. — Бог мне свидетель, я согласен на все, лишь бы добиться света!» — «Хорошо, — сказал Саваккий, после того как долго всматривался в его лицо проницательным взглядом. — Ты отправишься в храм Изиды Севинитской с этой таблицей, на которой я напишу несколько знаков. Первосвященник Смердис примет тебя в качестве иерограммата. Он даст тебе книги Гермеса, так как он один владеет подлинными, и научит тебя священному языку. Это все, что он может для тебя сделать. Если ты захочешь идти дальше, то должен будешь искать один. Ибо ты должен знать, что всякий человек становится посвященным лишь благодаря самому себе. Истина имеет только один храм, но в него ведут тысячи тропинок, и каждый должен найти свою». Мемнон взял таблицу, испещренную иероглифами, старик схватил его за руку и, сильно сжимая ее, заглянул ему в глаза: «Я вижу, — сказал он, — душа твоя чиста, чувства твои целомудренны, ты победил сладострастие. Это очень много, но это не все. У тебя страстная душа и слишком нежное сердце. Я боюсь, как бы ты не поддался слабости… Тот, кто хочет завоевать истину, должен любить ее твердым сердцем и непоколебимой волей!» И Мемнон почувствовал, как пальцы старика стиснули его руку, словно огненным кольцом, а горящий взор его впивался ему в глаза, как острый меч. «Еще одно, — прибавил старик, — когда ты достигнешь порога третьей сферы, приходи ко мне, потому что дальше ты не сможешь проникнуть». — «Что такое третья сфера?» — робко спросил Мемнон. — «Узнаешь, когда минуешь две первых». С этими словами Саваккий поднялся со своего места. Он положил свою худую, почти бесплотную руку на голову Мемнону, и молодой человек почувствовал, как мозг его залила теплая волна, проникшая дальше во все тело. Глубокое волнение, безмолвная жалость отразилась на минуту во властном взоре старика. Но, как бы боясь поддаться нежности, он встряхнул своими лохмотьями и воскликнул с повелительным жестом:
— А теперь ступай!
Мемнон спустился, не оглядываясь, по каменистой горной тропинке. Он прошел полосу белого, гладкого песка, отделяющего в этом месте цепь Ливийских гор от зеленой ленты Нила. Вскоре он увидел женщин и детей, копошившихся на клеверном поле среди коз и овец. Шумными и радостными криками они приветствовали незнакомца, побывавшего у отшельника, святого исцелителя. Он сам испытывал какую-то радость, смешанную со страхом. Он свободно избрал свою участь, и мысль о ней преисполняла его необычайным воодушевлением. Но в то же время он чувствовал, что в жизни его отныне будет нечто роковое, неизбежное. Судьба железным кольцом сковала его руку с рукой учителя.
Храм Изиды Севенитской возвышался в открытом поле, в обширной равнине дельты, на правом берегу Нила, в двадцати милях от его устья. Входом к нему служил большой пилон; он был окружен низкими домами, в которых жили священники со своими семьями, и представлял большой прямоугольник, обнесенный высокой стеной. Храм господствовал над всей местностью. Из перистиля его с тяжелыми колоннами, увенчанными капителями наподобие папирусов, на необозримое пространство раскрывался плоский горизонт, с каналами, маисовыми полями и пастбищами. Посреди этих возделанных участков Нил катил свои воды длинными излучинами между поросшими тростником берегами. Покрытые пальмами островки там и сям пестрили его гладкую, как у озера поверхность. При приближении к морю, величественная река, отец Египта, сама расширяется, как море, и, по-видимому, заботится только о том, чтобы отражать небо со всеми его дневными и ночными красками.
Здесь протекли лучшие годы Мемнона. Первосвященник Смердис, осторожный и робкий человек, принял его благосклонно по рекомендации Саваккия. Александрийский грек сумел завоевать его доверие. В короткое время он изучил язык иероглифов и сделался первым писцом храма. Смердис разрешил ему изучать книги Гермеса, написанные на свитках папируса, хранившихся в потайной комнате храма. Он проникся ими, переводя их на греческий язык. Знакомство с этим учением явилось для него своего рода откровением. Ему казалось, что он присутствует при рождении и постепенном развитии мира на протяжении тысячелетий. Периоды мира медленно раскрывались перед ним, как белые, розовые и голубые лотосы, закрытые венчики которых каждое утро всплывают на поверхность Нила и распускаются один за другим под лучами солнца. И так же, лепесток за лепестком, раскрывалась и его душа на поверхности великой реки жизни. В течение нескольких лет это страстное изучение удовлетворяло его ум. Потом снова наступило утомление. Видеть возможную истину — значит ли это обладать великой тайной, или это лишь игра его ослепленного ума? Нет, это не значило знать, это значило лишь отдаваться более пламенной и более прекрасной мечте. И это не значило приподнять плотную завесу, прикрывающую то, что таится по ту сторону видимого предела, не значило шагнуть за завесу и войти в великую лабораторию душ, существ, жизни!
Нет, он еще не пил из источника вещей, и жажда его оставалась по-прежнему неутоленной.
V Альциона
Через некоторое время после этого в жизни Мемнона произошло великое событие, послужившее источником его безмерного блаженства и бесконечных мучений.
Однажды ночью, гуляя по берегу Нила, он увидел большую барку, стоявшую на якоре в бухте. По форме ее он признал в ней финикийскую галеру, на которых привозят в Египет пурпур, сирийские ароматы и персидские ткани. Две тонкие реи, изогнутые как крылья, делали ее похожей на ястреба, опустившегося в тростники. Движимый любопытством и точно привлекаемый какой-то непобедимой силой, Мемнон подошел ближе. С берега на галеру были проложены мостики. Жрец Изиды поднялся по ним. На палубе не было никого. Гребцы веселились в соседней деревушке, а пьяный шкипер спал на пустом винном бурдюке. Тогда, при свете луны, заливавшем барку, Мемнон увидел у кормы ребенка, спавшего на подстилке из сухих водорослей. Это была девочка лет двенадцати, одетая в рваное платье, почти в лохмотья, кое-как накинутые на ее худенькое тельце. Золотистые волосы ее перемешались с водорослями, и вся она походила на птичку с перешибленным крылом. Вдруг она застонала во сне. И стон этот был так жалобен, выражал такое страдание, что Мемнон громко спросил: «Что с тобою, дитя мое?»
Низкий голос священника имел металлический звук тех щитов, что висят в храмах и, при ударе в них, заставляют вибрировать все лиры и треножники святилища. Каким-то волшебством прозвучал он в лунном сиянии этой дивной ночи, при котором Нил, озаренный розовым светом, его серебристые острова и далекие берега походили на берега райских морей. Наступило продолжительное молчание. Неуловимый ветерок пробежал по тростникам, как долгий вздох… и девочка встала. Обеими руками она отвела от лица пряди золотых волос. Широко раскрыв глаза, она подошла к священнику и потрогала его руку, как бы для того, чтобы убедиться, что перед нею живое существо. «О, это ты, это ты!» — прошептала она глухим голосом. Потом упала на колени и с мольбой, простирая к нему руки, воскликнула: «Спаси меня, спаси меня от этих людей! Они хотят продать меня!» Глубоко взволнованный, Мемнон поднял девочку и, прижимая ее к себе, сказал: «Не бойся ничего, пойдем со мною!»
Жрец Изиды и маленькая гречанка, уцепившаяся за его руку, поспешно отправились к храму. Дорогой девочка часто оборачивалась назад, посмотреть, не бегут ли за ней злые гребцы, чтобы отнять ее у ее спасителя. Она успокоилась только тогда, когда они прошли большой пилон и когда дверь ограды захлопнулась за ними. Тогда она рассказала свою историю. Она была родом из Самофракии. Во время кораблекрушения ее родителей выбросило вместе с нею на риф в Эгейском море. Их убили пираты, а девочку отдали купцам из Тира, чтобы они продали ее в невольницы в Верхнем Египте. Грубые моряки обижали и били девочку. Однажды ночью, обезумев от их угроз, она хотела броситься в море. Но на носу барки к ней подошел незнакомый человек и остановил ее, подняв руку, потом исчез, как тень. Неделю спустя, когда перед нею явился жрец Изиды, она узнала в Мемноне видение, которое ей явилось на барке. «Тогда я поняла, — сказала она, — что ты мой спаситель, новый отец, которого мне посылают боги!»
Мемнон, в свою очередь, убедил себя, что этот ребенок, наделенный двойным зрением, послан ему в награду за его усилия, дочь, подаренная его сердцу, лишенному нежности, — живой светильник, который ему даруют верховные силы для того, чтобы повести его, быть может, в таинственные области потустороннего мира. Это был слабый, еще колеблющийся свет, но он мог разгореться и окрепнуть в его руках. Он также, увидев спящего в барке ребенка, увидев, как девочка встала и, точно во сне, пошла к нему, содрогнулся до глубины души, и ему показалось, будто он узнал ее. Ах, в какой иной жизни встречал он эту душу? Вечная тайна для его настоящей жизни! Но это глубокое, мгновенное сходство было несомненно. И существовала эта надземная связь, более сильная, чем все иные. Ибо никакое предыдущее волнение не могло сравниться с тем, которое он испытал, заключив в свои объятия это дитя. Ведь Платон говорит: «Узнать — значит вспомнить»; а неизвестный мудрец прибавляет: «Нет ничего священнее тайны воспоминания, ибо любовь двух душ есть воспоминание о жизни их в Боге». Перебирая свое прошлое, Мемнон снова вздрогнул от изумления и радости. Он вспомнил, что, когда он обратился однажды к дельфийской прорицательнице и спросил ее: проникает ли он при жизни своей в тайну другого мира, оракул ответил: «В стране Изиды морская чайка принесет тебе ключ от души». А разве он не нашел эту дочь Греции в барке похитителей, как чайку в плавучем гнезде? И он назвал ее Альционой.
Вначале Мемнон без рассуждений отдавался счастью иметь дочь. Крупной суммой денег он успокоил тирских купцов, с криками явившихся требовать у него свою добычу. Затем он без труда добился у своего начальника позволения поселить свою питомицу вместе с женами и дочерьми египетских священников, прислуживающими в храмах. Женщины эти принимали участие в церемониях культа, в жертвоприношениях, в священной музыке, а если они обладали редким даром ясновидения, ими пользовались для целей тайной науки. Альциона была отдана на попечение старой нубийке, по имени Нургал, которая должна была выучить ее играть на теорбе. Мемнон взял на себя преподавание священных гимнов, поэзии и истории богов. С первых же дней маленькая гречанка проявила странный характер. Обычно робкая и пугливая, по временам она впадала в почти безумную веселость. Тогда глаза ее из голубых становились фиолетовыми и приобретали странный блеск. Движения ее, ее непроизвольные жесты всегда исходили из глубины ее существа. Они выражали ее душевное настроение и чувства и прорывались иногда, как молнии. Она переходила резкими скачками от одной мысли к другой. В ней уже ясно намечались две отдельных личности. Гуляя в полях со своей нубийкой, она резвилась среди молодых колосьев и козлят, как маленькая вакханка. Но в храме, с Мемноном, лицо ее становилось строгим, манеры сдержанными. Уже с первого дня она чувствовала себя в храме, как дома. Бесстрашно осматривала статуи богов. Жадный взгляд ее взбегал вверх по огромным колоннам, покрытым раскрашенными фигурами и иероглифами до самых разноцветных капителей, поддерживающих крышу храма своими связанными в сноп пальмовыми ветвями, похожими на колоссальных размеров цветочный венчик. Взгляд ее подолгу останавливался на потолке, где царят, как на новом небесном своде, символические знаки зодиака. Безмолвная, восхищенная, но не удивленная, Альциона, по-видимому, признавала эту область своей родной. Она не могла долго следить за какой-нибудь идеей или распределять по своим местам все части огромного целого, но иногда сразу схватывала самую сущность предмета. Угадывания ее были внезапны, мгновенны и непредвиденны. Однажды она сказала про статую Озириса: «Он никогда не смеется, потому что пришел из страны мертвых». В другой раз, стоя перед статуей Изиды, она заметила: «Она улыбается, потому что сошла с неба».
Мемнон проводил с нею чудесные часы в прохладе полутемного храма. Она слушала его, внимательная и покорная, в различных позах, то лежа у его ног, опершись головой о его колени, то стоя перед ним, то расхаживая крупными шагами, как будто ей необходимо было выразить в движениях ощущения и волнение, которые вызывали в ней слова священника. Легенда об Озирисе и Изиде обладала свойством погружать ее в состояние грезы. Иногда она прислонялась к какой-нибудь из гигантских колонн, скрестив над головой руки, закругленные, как ручки амфоры. Поглощенная своими мыслями, она, казалось, старалась припомнить иной мир. Если в храм прорывался косой луч солнца через какое-нибудь отверстие архитрава и озарял юную девственницу в этой позе, она казалась тогда ионической лирой, с ручками из слоновой кости и золотыми струнами, — живой лирой, ожидающей руки артиста. Иногда, после таких периодов мечтательности, молодая девушка резким скачком возвращалась на землю. Случалось, что она обнимала рукой руку Мемнона и, улыбаясь своими тонко изогнутыми губами, говорила: «Ах, отец, ведь мы уедем когда-нибудь в барке с красными парусами и отправимся на голубые острова великого моря?» И Мемнон, в порыве счастья, прижимал к себе голову сиротки, приглаживал ее волосы и отвечал: «Да, да, моя Альциона, моя беленькая чайка, когда-нибудь, когда-нибудь мы уедем вместе!»
Время от времени приходилось давать чайке полетать. Изредка Мемнон позволял Альционе покататься в барке по Нилу под охраной старой нубийки. Окрашенный голубой краской челнок, в форме гондолы, был совершенным подобием священной барки, употребляемой при религиозных церемониях. Тонкий остов ее оканчивался на носу чашечкой лотоса. На корме кусок полотна, перегнутый в форме раковины, покрывал своей тенью катающихся. Два гребца и надежный рулевой управляли этим челноком. Все нильские лодочники знали привязанную у храма барку и относились к ней с благоговением, как будто в ней каталась сама богиня. Они считали святотатством не только дотронуться до нее, но даже и подъехать к ней чересчур близко. Поэтому Альциона и старая нубийка мирно разъезжали, как две царицы, по огромной реке. Часто они приставали к противоположному берегу, где вереницей проходили верблюды и ручные страусы. Или высаживались на тенистых островках, где дикие газели резвились между пальмами.
Так прошло несколько лет. В расцветшей девушке зарождалась женщина. Альционе было семнадцать лет. Зимой, когда солнце умаляет зной своих лучей и покрывает Египет зеленью ранней весны, во время убыли вод, возобновлялись прогулки по Нилу. Среди речных островов был один, который особенно нравился Альционе. Она постоянно ездила туда. Остров Камышей был больше других. Густая заросль папируса опоясывала его плотной лентой. Внутри на нем был пальмовый лес и обширные луга, куда дети бедуинов пригоняли пастись своих коз. Паромщик, переправлявший путников с одного берега реки на другой, приставал и к этому острову. Барка Альционы подплывала к нему со стороны тихой бухты. На берегу великолепная сикомора венчала дерновый холм, отбрасывая на большое пространство свежую тень своих жестких листьев. Тростники папируса окаймляли холм и бухту с виду непроницаемой оградой вдвое выше человеческого роста. Но сквозь чащу их влажные тропинки, известные одним только пастухам, вели к пальмовому лесу и на пастбища острова. В этом-то зеленом приюте, открытом небу и всем ветрам, но защищенном от солнца, Альциона любила отдыхать в то время, как нубийка и кормчий дремали в привязанной к берегу лодке. В первый же день водяные птицы, белые ибисы и розовые фламинго кольцом уставились на песчаном берегу бухты, с любопытством глядя на молодую девушку, как будто она была птицей другой породы, но, несомненно, птицей. Она стала привозить с собой хлеба и зерен маиса и бросала их птицам. Тогда крылатое племя начало слетаться целыми стаями — аисты и журавли, окрестные голуби и даже морские чайки, залетевшие в дельту. Она разговаривала с ними, звала их, отгоняла, как будто эти воздушные существа были ей более близки, чем люди — и они, по-видимому, понимали ее, потому что слушались очаровательницу. Стоя на краю бухты, она мановением своего шарфа привлекала стаи ласточек, которые прилетали покружиться с минуту над ее головой, затем стремглав уносились и таяли в сверкающей лазури.
Заинтересовавшись этими тучами пернатых, постоянно спускавшимися все в одном и том же месте, маленькие бедуинские пастушки, десяти-двенадцатилетние мальчики, пробрались сквозь тростники к бухте, едва осмеливаясь просунуть свои смуглые головенки из зарослей папируса.
Почти с религиозным страхом они смотрели, как «дочь Изиды» — как они ее называли — кормила птиц. Но так как она смеялась над их смущенными жестами и над их варварской речью, они мало-помалу осмелели и стали приносить ей соты меда, фиги, завернутые в длинные листья, и маленькие дудочки собственного изделия. Они останавливались на почтительном расстоянии и, преклонив колена, клали эти дары на дерн. Взамен она привозила им амулеты из храма, скарабеев из сиенского камня или маленькие изображения Озириса из черного базальта. Тогда ребятишки бросались ниц с радостными криками и странными возгласами.
Несколько раз, во время этих сцен, Альциона слышала как бы шорох человеческих шагов в чаще камышей. Метелки папируса наклонялись и поднимались от легкого прикосновения. Однажды густая завеса их раздвинулась и дочь Греции увидела молодого человека необычайной красоты. Поверх туники на нем была накинута баранья шкура, а в руке он держал пастушеский посох. Но вьющиеся волосы и лицо чистого греческого типа указывали на то, что он не бедуин. Большие влажные и задумчивые глаза блестели под густыми бровями, как звезды в темной ночи. У него было мужественное выражение лица, и он напоминал переодетого пастухом Эрота, из мальчика ставшего мужем. Едва Альциона заметила его, он исчез в камышах. Но она увидела его еще раз при следующих обстоятельствах. Среди бедуинских мальчиков был один шалун с головой сатира. Он один исподтишка посмеивался над «дочерью Изиды». Однажды он поймал за крыло любимую голубку Альционы, клевавшую корм из ее руки. Альциона вскрикнула от страха, но мальчик убежал в камыши, унося с собой свою добычу.
Альциона залилась слезами, но вдруг, к великому изумлению своему, увидела, как из камышей вышел незнакомый пастух, ведя за ухо маленького воришку. Он заставил его стать на колени перед Альционой и отдать ей голубку. В то время как она с восторгом прижимала к своей груди перепуганную и дрожащую птицу, незнакомец сказал серьезным голосом на чистом ионическом наречии:
— Счастлива ли теперь Альциона?
— Да, но кто ты, чудесный пастух, ты так хорошо знаешь меня, но я тебя не знаю.
— Я изгнанник.
— Из какой страны?
— Из твоей.
— Почему ты сделался пастухом?
— Пастухи живут одни. Никто не обращает на них внимания.
— Значит, ты хочешь всегда оставаться один?
— Да.
— Зачем?
— Я не могу сказать.
— Вернешься ты сюда?
— Да, если кто-нибудь будет угрожать тебе.
— Как тебя зовут?
— Здесь меня зовут Гором Бедуинов. Я чужеземец, не имеющий ни семьи, ни состояния, ни имени.
— Ты не покинешь этого острова?
— Не знаю, но если бы я исчез… знай, что Гор всегда оберегает Альциону…
С этими словами чужеземец грустно улыбнулся. Потом его большие, темные и мечтательные глаза вспыхнули мгновенным огнем, как погасший факел, раздутый порывом ветра. Альциона сделала умоляющее движение, как бы говоря: «Не уезжай!» Но незнакомец ответил, протянув руку, как бы указывая, что их разделяет непреодолимая преграда. Потом поспешно исчез в камышах.
Несколько дней спустя Альциона попросила у Мемнона позволения снова совершить прогулку по Нилу. Священник позволил, но странный блеск в глазах его питомицы внушил ему подозрения. Он видел с берега, как гондола пристала к Острову Камышей. Он тотчас же кликнул паромщика и приказал отвезти себя туда же, но причалить с противоположной стороны. Сквозь чащу камышей он пробрался к бухте. Все было спокойно и безмолвно. Нубийка, сидя в барке, дремала над своим опахалом. Кормчий и гребцы вдалеке ловили рыбу, стоя по колено в воде. Альциона спала под сикоморой. Мемнон долго стоял неподвижно. Устыдившись своей подозрительности, он уже решил уходить, как вдруг услышал шорох в чаще камышей. Метелки папирусов раздвинулись, и из заросли вышел незнакомый пастух. Он оглянулся по сторонам и, убедившись, что в бухте никого нет, опустился на колени возле Альционы. Спала ли она действительно или только делала вид, что спит? Она не двигалась. Пастух осторожно приподнял легкую ткань, покрывавшую лицо девушки, и, склонившись над нею, долго смотрел на нее. Незаметно губы его приблизились к лицу Альционы. Мемнон, задыхаясь и с вытянутой шеей, готов был ринуться на него, чтобы помешать роковому поцелую. Но тайная сила удержала его, приковав на месте. Однако губы незнакомца не дотронулись до лба девушки, обвеваемой его дыханием. Он поднял голову, взял несколько цветов из принесенной корзины и положил их на грудь спящей, потом бережно прикрыл ее газом, предохраняющим от москитов. После этого он удалился, несколько раз оглядываясь дорогой, и, наконец, исчез. Альциона спала по-прежнему. Но вскоре она проснулась, глубоко вздохнула и стала звать свою нубийку. «Нургал! Нургал! — крикнула она. — Откуда эти розы?» — «Они упали с неба; это дар Изиды», — запинаясь, проговорила прибежавшая старуха. — «Нет! Они от него!..» — прошептала Альциона, глядя в камыши. Мемнон бросился бежать. Он знал то, что хотел.
Вечером этого дня жрец Изиды повел свою приемную дочь в храм и спросил ее, кого она видела на Острове Камышей. Она рассказала сначала о маленьких бедуинах, потом, по настоянию Мемнона, рассказала, не покраснев, эпизод с голубкой, о появлении Гора и свой единственный разговор с ним.
— Ты не видела его больше с тех пор?
— Нет.
— И не хочешь увидеть вновь?
Помолчав с минуту, Альциона, ответила просто:
— Ах, нет, хочу!.. Я люблю изгнанников.
С этими словами голубые глаза ее, в которых блестели слезинки, устремились к расписанному потолку храма, где темная фигура Нефтис, богини ночи, с грозным видом обнимала небесный свод своими черными руками, распростертыми среди знаков зодиака. Слеза, повисшая на длинных ресницах Альционы, не скатилась по ее бледной щеке, но глаза ее стали фиолетовыми, как ручей, когда его рябит ветерок, или когда туча закроет солнце. Ах! Эта легкая дымка на небесном взоре! Мемнон испугался ее, как моряк, который среди безмятежной лазури видит маленькое облачко, предвещающее бурю!
Стрела пронзила сердце жреца. Альциона принадлежала уже не ему одному! Неведомая сила завладела ею. Кто же этот несчастный смельчак, осмеливающийся оспаривать у него его сокровище? Он не сделал никакого упрека своей приемной дочери, ни одного слова не было сказано об этом происшествии, но молчание легло между ними легкой дымкой.
В следующие дни Мемнон посылал живущих при храме пастофров к бедуинам, на тот берег реки, навести справки о незнакомце. Он узнал, что юноша приехал из Александрии и попросил принять его в пастухи. Начальник племени бедуинов принял его хорошо в виду благородства его осанки, а особенно потому, что он обладал способностью врачевать больных. Он сам сказал, что имя его Гор, и его стали звать Гором Бедуинов. Некоторые говорили, что он совершил страшное преступление и потому должен был покинуть город и скрываться. Он жил в черной палатке из верблюжьей шерсти; единственным его развлечением было чтение свитков папируса, которые он привез с собой в шкатулке, а по вечерам, на закате, прислонившись спиной к стволу пальмы, он слушал слабые трели бедуинских мальчиков, игравших на свирели в полях зеленой пшеницы, над которыми вились парами голуби. Должно быть, думал Мемнон, преступление этого молодого человека очень велико, если он вынужден согласиться служить бедуинам.
Прошла неделя. Однажды утром Мемнон до восхода солнца гулял по аллее сфинксов, ведущей от храма к пилону, когда сторож пришел сказать ему, что у калитки ограды стоит какой-то чужеземец и желает поговорить с ним. Мемнон пошел туда. Велико было его изумление, когда он увидел таинственного гостя бедуинов. Лицо его похудело и было серьезно, но фигура в пастушеском одеянии имела гордую военную осанку. Мемнон почувствовал какой-то толчок в сердце. Он сказал себе: «Вот враг, который хочет похитить у тебя твое сокровище. Берегись!» Опершись на посох, чужеземец смотрел на жреца испытующим и мрачным взглядом. Между ними произошел следующий разговор:
— Что привело тебя сюда?
— Я чужеземец, беден и гоним. Быть может, эти три причины дают мне право на совет жреца Изиды?
— Говори, чего ты хочешь?
— Я прошу, чтобы меня приняли служителем храма, а впоследствии, если ты признаешь меня достойным, я желал бы, чтобы ты посвятил меня в тайны твоей науки.
— Прежде чем ответить, я должен знать твое имя.
— Меня зовут Гор Бедуинов. Другого имени у меня нет. Я изгнанник, ищущий гавани.
— Но откуда ты родом? Какова твоя история? Причина твоего изгнания?
— Я не могу сказать больше ничего.
— Тебя обвиняют в крупных злодеяниях. Говорят, что ты преступник, скрывающийся под чужим именем?
— Если ты веришь этому, я не скажу больше ничего.
— Нельзя принять в храм чужеземца, не имеющего имени, ни семьи, ни поручителя.
Глаза незнакомца сверкнули мрачным огнем.
— Кто же ты, — сказал он, — если не умеешь верным взглядом читать в душах? Значит, ты не принадлежишь к посвященным.
Повелительным движением Гор указывал на голову жреца. Рассерженный, тот ответил таким же жестом, говорившим: «Ступай прочь!» Они смотрели друг на друга с вызовом. Но Мемнон овладел собою и заговорил спокойным тоном:
— Знай, неосторожный и дерзкий молодой человек, что я священник, живущий ради истины.
— Что ты называешь истиной? — спросил незнакомец, скрестив руки, с улыбкой горького презрения. — Неужели эта истина учит тебя отказывать мне в пристанище? Если так, то наука твоя бедна и ложна. Ну, что же, пусть так, прощай. Живи для своей истины… за мою… я сумею умереть.
И, повернувшись спиной к жрецу, он удалился быстрыми шагами. Не размышляя о смысле этих странных слов, Мемнон вздохнул, как человек, избавившийся от огромной тяжести. Чтобы лучше насладиться своей победой, он поднялся по внутренней лестнице на высокую террасу пилона, откуда глаз на далекое пространство обнимал поверхность дельты. Солнце поднималось над обширной долиной Нила, и серебристые каналы и красноватая — потому что было время поднятия воды — река сияли металлическим блеском. Гор Бедуинов решительными шагами направлялся к Нилу. Мемнон с удовлетворением смотрел на его удалявшуюся фигуру. Единственный противник, грозивший его чудесному счастью, уходил. Теперь жрец чувствовал себя безусловно властителем Альционы. Никто не отнимет у него жемчужины Самофракии. Какое блаженство сознавать, что он избавился от коварного и смелого похитителя, бродившего вокруг нее, и видеть, как он убегает — навсегда! Он видел, как юноша сел в лодку перевозчика, и успокоился совершенно, когда он исчез на противоположном берегу. Только тогда Мемнон вспомнил о необычайной красоте юноши, о его благородной и величавой осанке и спросил себя, не оттолкнул ли он одного из тех богов, переодетых пастухами, о которых говорит Гомер. Но это угрызение совести продолжалось не долго и совершенно исчезло, когда он увидел, что Альциона — слава Богу, не знавшая ничего об утреннем приключении — встретила его с ясной улыбкой.
VI Иерофантида
Несколько недель спустя Мемнон узнал, что незнакомец, скрывавшийся под именем Гора, покинул страну. Бедуины не знали, что сталось с ним. Между Мемноном и Альционой больше не было речи об Острове Камышей. Она никогда не заговаривала об нем. По-видимому, она даже позабыла о своих катаньях по Нилу, о своих ручных птицах и о грезах под сикоморой. Всякая опасность, казалось, была устранена. Альциона вступала в новый фазис своей таинственной душевной жизни. Она забросила теорбу и сделалась невнимательна к урокам приемного отца. Поглощенная собственными переживаниями, она бежала от людей и забиралась в самые глухие уголки храма, как будто испытывая потребность сосредоточиться во мраке, вдали от всех видимых предметов.
Однажды она исчезла. Нубийка видела, как она вошла в храм, но никто из служителей храма ее не видел. Утомившись от поисков, Мемнон спустился в подземелье, дверь которого, по случайности, оказалась отворенной. Некогда жрецы Изиды приводили сюда неофитов, которых посвящали здесь в тайны своей науки, Место это стояло заброшенным с тех пор, как утратилось искусство посвящения. К великому своему изумлению, Мемнон нашел свою приемную дочь в глубоком сне у подножия центральной колонны склепа, освещенного сверху узкой отдушиной. Колонна эта представляла колоссальную статую Озириса, высеченную из цельной глыбы серого гранита и поддерживающую свод подземелья высокой тиарой, венчающей голову изваяния. Бог, повелевающий своим последователям молчание, прижимал к губам своим палец. Альциона лежала на пьедестале статуи и спала глубоким сном. Мемнон склонился над нею. Очень бледная, с полураскрытыми губами, она едва дышала. Черты ее лица, ставшего совершенно прозрачными, казались преображенными и как бы освещенными внутренним огнем. Мемнон вздрогнул. Неужели оракул сказал правду? И Альциона, наконец, проявит перед ним свой пророческий дар? Жрец почувствовал трепетное дыхание Невидимого.
В эту минуту раздались торжественные звуки теорбы. Они доносились сверху, сквозь отдушину. То был гимн богу солнца, Аммону-Ра, пастофор играл его на священной арфе в перистиле храма. При этих звуках Альциона постепенно поднялась, не выходя из своего волшебного сна, и встала перед Мемноном в торжественной позе. Глаза ее раскрылись, но ясно было, что их расширенные зрачки не видят реального мира, и взгляд их погружен в беспредельную светозарную атмосферу. Мемнон не шевелился. Он чувствовал, что стоит перед высшим существом. Наконец, подобно лотосу, при первых лучах солнца всплывающему на поверхность Нила, сама Душа, светлая, не запятнанная землей Дева, божественная Психея, предстала перед ним во всей своей красе. После долгого молчания он сказал:
— Это ты, дочь моя, Альциона?
Тогда Альциона заговорила тихим, но более низким, чем ее обычный, голосом. Слова вылетали из ее уст нараспев и в определенном ритме, напоминая мелодию сопровождавшей их вдали теорбы. Она говорила:
— Да, я Альциона, твоя дочь, твоя иерофантида… По молитве твоей боги послали меня тебе, чтобы ввести тебя в страну душ… в священную ночь великого Озириса… Ты будешь видеть через мое посредство, очи моей души будут твоими глазами… Ты же должен направлять и охранять меня…
— Каким образом?
— Воля твоя будет баркой Изиды. Будь верным кормчим… Неси душу мою в своих руках… и мы войдем, сквозь страну мертвых, в страну воскресших!..
— Я готов. Вот ключ. Вот жезл с крестом.
— Ах, берегись!.. Нам угрожают страшные опасности… Надо начертить вокруг меня заповедный круг и защитить меня от демонов… Мы должны миновать океан теней.
— Видишь ли ты, куда мы пойдем?
— Мы минуем кольцо теней.
— А потом?
— Мы поднимемся в кольцо света.
— Пойдем ли мы дальше? В солнечное кольцо, в кольцо героев и полубогов, дарующих силы и могущество?
— Да… если позволит мой Гений.
— Кто же твой Гений?
— Я не знаю его имени. Я не вижу его лица. Оно закрыто покрывалом. Но на лбу его блестит звезда, и в руке он держит жезл Меркурия.
— Спроси, как его зовут!
— Ах, он очень далеко и так высоко!.. Я вижу только его звезду и его жезл… Он зовет нас… Поддержи меня, я слабею, я упаду.
Звуки теорбы умолкли. Поддерживаемая Мемноном, Альциона снова лежала на каменном ложе, скованная летаргией. Он нежно согревал ее пальцы и положил руку на ее холодный, как мрамор, лоб. Мало-помалу он согревался. По прошествии часа она проснулась.
Она чувствовала себя несколько утомленной, но к ней снова вернулась девическая улыбка, и лицо ее приняло прежнее детское выражение. Она нисколько не удивилась, увидев возле себя Мемнона.
— Помнишь ли ты, о чем грезила во сне? — спросил он.
— Я не помню ничего, кроме того, что была далеко, очень далеко, — ответила она.
— Тебе нравится спать в подземелье?
— Да, когда ты со мною. Не оставляй меня там одну.
С этого часа начался светлый период в жизни Мемнона. Каждый день, когда солнце исчезало за цепью Ливийских гор, бледная Альциона спускалась вместе с учителем в мрачное подземелье, освещенное спускавшимся со свода нефтяным светильником. Жрец приносил с собой теорбу, и ему достаточно было взять несколько аккордов, чтобы иерофантида заснула. Вскоре она спала глубоким сном, но не переставала отвечать на вопросы учителя и говорила ему все, что видела. Во время волшебного сна Альционы Мемнон испытывал чистое и высокое наслаждение, гораздо более яркое, чем чувственные наслаждения. Это было чувство тайного и полного душевного слияния с его приемной дочерью. Вступив в первую фазу сна, в фазу легкой дремоты, Альциона становилась для него прозрачной и пластичной. Мысль его переливалась в ней без слов и без движений, как незримая влага. Он чувствовал эту душу в своих руках, мягкую, как воск, из которого можно слепить любую форму. Она же, в свою очередь, читала в его душе, как в раскрытой книге, и улавливала даже самые мимолетные оттенки его чувств. Когда же затем Альциона впадала в глубокий сон, в ней развивалась новая способность, и она видела вокруг себя целый мир неведомых существ. Тогда приходилось защищать ее от них, отстранять их словами и жестами. Духи или видения, души или призраки — эти существа, невидимые Мемнону, грозили заполнить и погубить ее. Но когда она поднималась в высшую сферу и приближалась к состоянию экстаза, отношения между ясновидящей и ее руководителем изменялись. В ее лице и в ее движениях вдруг обнаруживалась более сильная и более светлая душа. С уст ее сходили более высокие мысли, властные приказания. Теперь уже она приказывала учителю. Вдохновенная прорицательница повелевала иерофантом. В эти редкие мгновения Мемнон слушал Альциону, неподвижный и безмолвный. Он слушал ее стоя, но с коленопреклоненной душой. Он чувствовал тогда, что находится перед лицом изумительнейшего откровения. Мог ли он допустить, что видения Альционы лишь бредовые грезы чрезмерно возбужденного мозга? Ибо каким образом могла она знать об этих чудесах, и как объяснить их логическую последовательность, их великолепную совокупность и возрастающее величие. Ум Мемнона не мог допустить, чтобы видения Альционы были исключительно созданием наивной девственницы. Быть может, эти видения переводили в формах, доступных нашему воображению, реальности, превышающие силы ума. Но их последовательный порядок соответствовал ряду поразительных и высоких идей. В них можно было видеть нечто вроде восходящей панорамы всемирной жизни. Нижняя часть ее была окутана мраком, середина представляла переход от тени к свету, а верх тонул в ослепительном сиянии. По мере того как развертывалась эта панорама, земной мир приобретал новый смысл. Видимое нашими физическими чувствами представляло лишь звено в цепи миров, самую грубую форму материи и жизни среди бесконечных форм, в которых развивается мировая душа. Вокруг этой земли мир, невидимый телесным очам, но видимый очам духовным, распростирался увеличивающимися кругами, все более воздушными, все более лучезарными поясами. Быть может, он доходит до центрального солнца чистого духа — источника всех вещей? Ах, если бы проникнуть в эту сферу и жадно упиться знанием и могуществом, — думал Мемнон. — Какое блестящее завоевание! Перед этой возможностью, в конце которой сверкала яркая цель всех его желаний, жрец Изиды преисполнялся беспредельной гордостью и беспредельной радостью и забывал обо всем — не исключая и души своей дорогой Альционы! Она была для него не более, как чудесный челн, на котором он переплыл бы бурные волны неведомого и совершил бы великое путешествие в бесконечность. Начало этих опытов было трудно, тревожно, иногда даже страшно. В первые разы, когда Альциона погружалась в магнетический сон, она не могла выйти из темного круга, из мрачного хаоса, где двигались смутные и странные формы, которые она описывала Мемнону бессвязными, но яркими словами. Тщетно жрец Изиды чертил вокруг нее в воздухе подземелья круг своим священным крестом, произнося формулы заклинания, заключающиеся в Книге мертвых Гермеса, — спящая чувствовала, что к ней прикасаются, ее гнетут и на нее нападают вихри призраков, ларв и теней, из коих некоторые называли себя проклятыми душами и изрыгали на нее свою ненависть и свое отчаяние. Вся дрожа, в поту, Альциона громко стонала, извивалась и с испуганными жестами умоляла прогнать неистовствующую армию. Тогда Мемнон властным движением руки и громким голосом отметал тучу теней. Ему казалось, что этот темный круг, обволакивающий землю, — обширная лаборатория, заключающая единовременно останки ее извечного прошлого и зародыши ее будущего, клокочущий резервуар жизни, отдельные части которой открываются иногда ясновидящим и пророкам, совокупность же которой доступно обнять только Богу. Это была область мрака, называемая у греков Эребом, у египтян — Аментесом. Альциона называла ее черным кругом. Иногда иерофантида испытывала такое ощущение, как будто она стремглав погружается вместе с этими тенями в бездну, наполненную холодным и серым туманом. «Я падаю, я падаю, — говорила она, — я разобьюсь…» — Потом прибавляла: «Там, наверху, далеко, далеко — я вижу скипетр моего Гения… Я вижу Свет… Я поднимаюсь, поднимаюсь!» Потом все исчезало, она снова впадала в летаргию или просыпалась усталая и изнеможденная. После месяца смелых скитаний по царству теней черная завеса рассеялась, и путники, уносимые на ладье мечты, подобной барке Изиды, изображение которой можно видеть в храмах, на всех парусах вступили в светлую и мирную область. Альциона называла ее розовым кругом. Мемнон признал в нем область счастливых духов. Здесь царили гармония и свет. Очистившиеся, лучезарные души, встречающиеся здесь, создают себе обители, страны, горизонты по своему желанию. Вырвавшись из холодного мрака, Альциона чувствовала, как ее заливает горячая, воздушная волна, наполненная сладкими ароматами; улыбаясь и трепеща от чистого счастья, она желала бы навсегда остаться здесь. Но ничто уже не удовлетворяло Мемнона. Жажда знания росла в нем по мере того, как он все больше проникал в тайны науки, честолюбие его увеличивалось вместе с возможностями. Чем больше ввысь уносила его ясновидящая, тем больше хотелось ему подняться еще выше. Разве он не держал в руке магическую цепь, мировую цепь духов, идущую от земли к небу и теряющуюся в бесконечности? Поднимаясь со ступени на ступень по этой лестнице душ, разве он не может достигнуть тех горных высот, где дух человека отождествляется с душой мира и пьет у источника вещей, называемого в священных книгах солнцем Озириса? Для этого нужно было сначала проникнуть в сферу героев и богов, ту, которую старый Саваккий называл третьей сферой и в которую ему не суждено было проникнуть. Альциона уже видела отдельные преломленные лучи ее света. Она называла ее золотым кругом.
Но тут Мемнон наткнулся на непреодолимое препятствие. Едва он приказал прорицательнице вступить в эту область, она задрожала и начала стонать. «Свет слишком силен, мне больно, — говорила она. — И потом что-то запрещает мне это». Мемнон упорствовал и не оставлял своих попыток. Он поклялся себе, что уничтожит это препятствие, победит таинственного противника и по собственной воле войдет в круг героев и богов. И каждый вечер окольными путями или дерзкими внушениями возобновлял свою смелую попытку. Однажды вечером, когда жрец Изиды был настойчивее обыкновенного, Альциона проявила полное неповиновение и резко сказала: «Я не могу идти дальше».
— Почему?
— Меня ослепляет страшный свет. Наш руководитель, тот, за которым мы поднимались, закутанный Гений, стоит у золотой двери, из-за которой вырываются молниеносные бичи. Ты разгневаешь его. Он стоит с огненным мечом… и запрещает тебе входить!
— А! Этот неведомый Гений, опять этот бог, скрывающийся под маской! Я узнаю кто он, и я хочу сам видеть его!
— Умоляю тебя! Остановись!
— Никто не может остановить меня в завоевании божественной истины. Если твой Гений преграждает нам путь, мы пойдем вопреки ему. Иди, поднимись выше, войди в дверь. Я так хочу!
С этими словами жрец дотронулся рукой до лба иерофантиды. Она громко вскрикнула, и тело ее передернулось страшной судорогой. Испуганный Мемнон успокоил ее несколькими жестами. И вдруг она встала, величественная и суровая, как в первый день, когда в ней обнаружился дар ясновидения и способность экстаза. Она сделалась как бы другим лицом. Она встала перед ним в вызывающей позе. Взглянув в ее лицо, Мемнон в ужасе отступил на несколько шагов. Черты лица ее изменились. Они приняли презрительное и гордое выражение юноши-героя. Мемнон видел перед собой не Альциону, а пастуха с Острова Камышей, загадочного возлюбленного прорицательницы, высказавшего ему свое презрение у двери храма. Как тогда он скрестил руки и жег священника пламенным взором. Мемнон содрогнулся всем существом, услыша мужской голос — подлинный голос Гора, говорящий устами прорицательницы.
— Мемнон, ты не таков, каким себя считаешь. Ты обладаешь щитом силы, шлемом веры, но ты не имеешь меча света, окропленного кровью твоего сердца, необходимого для того, чтобы проникнуть в круг героев, которым дано зреть солнце Озириса!..
Кровь застыла в жилах Мемнона. Он едва имел силы пробормотать:
— От имени кого говоришь ты? Ты, желающий завладеть Альционой? Я властелин этой души!
— Ты не властелин этой души и ошибаешься, думая, что она принадлежит тебе.
— Чья же она?
— Она моя, в силу божественной любви и великой жертвы. Без меня ты не можешь ничего. Без меня ты снова упадешь во мрак. В сердце твоем еще горит мрачный пламень честолюбия и желания. Перестань терзать свою дочь; ты не пойдешь дальше… Смирись и повинуйся!
— Кто же ты?
— Гений Альционы.
— Твое имя?
— Меня зовут Антерос!..
Прорицательница произнесла это имя торжественным голосом и несколько секунд еще стояла неподвижно, подняв руку, с сияющим лицом, в позе глашатая, возвещающего волю богов. Потом черты лица ее вдруг сразу изменились. Тело ее, преображенное присутствием неземного существа, пошатнулось и безжизненной массой рухнуло к подножию гранитного колосса Озириса. Мемнон в ужасе склонился над своей дочерью. Он думал, что она умерла. В холодной груди сердце перестало биться, но она еще дышала. Медленно, с трудом освобождалась она от глубокой летаргии. Очнувшись, она была мрачна, молчалива, подавлена и не отвечала ни на один из его вопросов.
VII Антерос
Между тем Мемнон получил приглашение из Помпеи. Марк Гельвидий, от имени декурионов города, просил прислать египетского жреца для преобразования культа Изиды в городе Кампании. Смердис, духовный начальник Мемнона, предложил ему отправиться туда в качестве иерофанта.
При других условиях иерограммат храма Изиды не согласился бы покинуть Египет. Ибо все его существование было поглощено тайной наукой и его дочерью Альционой. Но обе эти страсти слились в одну с тех пор, как, благодаря своим чудесным способностям, пророчица сделалась орудием, посредством которого он совершал свои открытия. Однако последняя ночь, проведенная в подземелье, разрушила его планы и взволновала его душу, внеся в нее глубокое смятение. Что означало это изумительное, необъяснимое появление Гора Бедуинов под другим именем через посредство прорицательницы? Откуда происходит эта высшая и страшная власть, внезапно останавливающая его поступательное движение и запрещающая ему доступ к высшим истинам? Перед этим неведомым гостем он оставался в недоумении, униженный и бессильный. Невидимая стрела разбила его крылья, его снедали глухие угрызения. Поэтому, когда Смердис сообщил ему о приглашении из Помпеи, он колебался дать ответ и попросил три дня на размышление. В это время он вспомнил о Саваккии, и это воспоминание пролило некоторый луч света. Ведь аскет, живущий возле пирамид, сказал ему: «Ты достигнешь третьей сферы. Когда ты дойдешь до нее, приходи ко мне». Тогда Мемнон решил отправиться в пустыню около Мемфиса.
Он не нашел Саваккия у его пещеры. Мальчик из соседней деревушки сказал ему, что пустынник живет недалеко оттуда, в Ливийских горах, вблизи гробниц пророков. После часа ходьбы, в скалах красного порфира, опаляемых солнцем, жрец Изиды увидел оборванного отшельника у входа в усыпальницу с бронзовой дверью.
— А, наконец-то ты пришел, — сказал старец, смотря на него пронзительным и недоверчивым взглядом. — Удалось ли тебе переступить за порог третьего круга?
— Нет.
— Я так и сказал тебе. Что же тебе нужно от меня?
— Меня зовут в Помпею иерофантом при храме Изиды. Принять ли мне это предложение?
— А, так ты хочешь быть иерофантом! Ты? — проговорил пустынник, смерив его орлиным взглядом. — Рука его впилась в плечо жреца, как железные клещи. — Сначала пойдем со мной! — прибавил он.
Костлявой, как у скелета, но еще сильной рукой, отшельник открыл дверь в усыпальницу. Они вошли в квадратный покой, потолок которого поддерживали четыре колонны, сложенные из неотесанного камня. В стенах этой усыпальницы, вырытой в горе, виднелось несколько гробниц. В глубине стоял гроб, замурованный в скале, имеющий форму усеченной пирамиды. На нем не было никаких религиозных символов, за исключением гигантских размеров глаза, нарисованного на верхней его части. Под ним виднелась надпись греческими буквами, высеченными в камне. Саваккий указал на нее своему спутнику и сказал:
— Смотри… читай!
Подойдя к гробнице, Мемнон в полумраке склепа не без труда прочел следующую надпись:
ГОР АНТЕРОС
отдал свою жизнь
за Справедливость и за Истину.
Тело его было брошено в море,
Голова его покоится здесь,
Во мраке горной пещеры.
Облеченная величием и блеском богов,
Душа его подобна солнцу.
Имя Гора, в соединении с именем Антероса, произвело на мозг и сердце Мемнона впечатление молнии, сопровождаемой ударом грома.
— Кто покоится здесь? — спросил он дрожащим голосом.
— Ты знал этого гордого юношу, — сказал Саваккий тоном упрека и положил свою руку, похожую на когтистую лапу ястреба, на гранитную глыбу. — Он был предназначен для высокой жизни. Он просил тебя посвятить его. Почему ты отказал ему?
— Потому что он не захотел доверить мне тайны своей жизни.
— Он сделал это, чтобы не выдать своих друзей. Если бы ты был истинным жрецом, если бы свет Изиды действительно сиял в тебе, ты сумел бы прочесть сущность этой души и угадал бы ее по его голосу. Ты обязан был дать ему приют в храме и поделиться с ним наукой, которую приобрел сам.
Мучимый угрызениями совести, Мемнон попытался оправдаться:
— Он хотел похитить у меня мою прорицательницу, дочь мою Альциону. Он любил ее, я знаю это. Он бродил вокруг нее, он подкарауливал ее, когда она спала. Я имел право защищать ее от него!
— Ты не имел права изгонять во мрак того, кто просил у тебя света. И затем… как знать, не был ли он более достоин Альционы, чем ты?
— Более достоин, чем я?
— Живой он был равен тебе; мертвый — он превосходит тебя, — сказал бывший пророк Озириса, сжимая свою руку на граните. — Жертва его возвела его в сан героя. Он уже не Гор, он — Антерос, — отныне и вовеки!
— Каким образом он умер?
— Он участвовал в заговоре против Цезаря вместе со своими друзьями. Один он был открыт. Чтобы спасти свою жизнь, он поступил пастухом к бедуинам. В это-то время он просил у тебя убежища в храме. Отвергнутый, не имея приюта, он вернулся в Александрию и явился к претору с целью пожертвовать жизнью ради своего дела. Он был обезглавлен и брошен в море. Один рыбак выловил голову, а один из верных принес ее сюда. Истинно посвященные в таинства богов воздвигли гробницу тому, кто сумел отдать себя всего своей истине.
Мемнон опустил голову. Божественная Истина, скрывающаяся под завесой природы, начинала сиять перед его глазами, но свет ее падал в бесплодную бездну его сердца. И, угнетенный, он спросил сурового старца:
— А теперь что же мне делать?
— Старайся искупить свою вину… Ступай в Помпею со своей прорицательницей. Работай, страдай и борись. Ищи таинственного всеисцеляющего напитка посвященных. Для того чтобы найти его, нужно много пережить. Высшую Истину можно обрести лишь в высшем страдании!
Так, среди ночного безмолвия, в пустом амфитеатре Помпеи, под мерцанием далеких звезд, перед мысленными очами Мемнона прошла его жизнь. Невозможно было не признать в ней следов таинственного Провидения. Скрытые предупреждения возбуждали его внимание, яркие указания направляли его поступки и отмечали шествие его по направлению к желанной цели. Верховные Силы откликались на крики его души, на страстные призывы его воли. Первое свидание с Саваккием, принятие его в храм, встреча с Альционой, откровения прорицательницы — вся эта цепь согласных влияний была их делом. Наконец, разве то, что Антерос проявил себя в лице и голосе Альционы, не было непреложным доказательством реального существования другого мира? Но — такова была трагическая судьба его — Верховные Силы, доказав ему несомненность существования этого потустороннего мира, сказали ему: «Ты не пойдешь дальше!» Теперь Альциона, единственный его светоч в этих темных областях, уже не находилась больше в его власти. Душа ее принадлежала тому, кого она называла своим Гением, и который оспаривал ее у него в ином мире. И вот другой противник, более опасный, грозил отнять ее у него и в этом мире. Что будет с ним, как перенесет он столкновение с этими двумя врагами?
Мемнон вышел из амфитеатра и снова поднялся на террасу храма. Здесь он простер руки по направлению к курии Изиды, где прорицательница спала под охраной нубийки.
— Сердце отца, — проговорил он, — сильнее мертвеца и сильнее живого!
Но в то время, как жрец Изиды спускался во мраке по спиральной лестнице и пробирался во мраке до ложа в своей узкой келье, ему показалось, что плотная завеса тяжестью своей придавила божественную мечту его жизни. Мысль о том, что он был причиной смерти Гора, терзала его неотступной болью. Из всего смутного и тревожного прошлого в душе его сохранились только два образа: голова молодого человека, уносимая волнами Нила к морю, и глаз Антероса, смотревший на него из глубины гробницы.
Книга вторая ЛУЧ
Любовь — истолкователь и посредник между богами и людьми.
ПлатонVIII Страж Предела
Строго замкнутая между глухими стенами среди шумной Помпеи, курия храма Изиды опиралась на узкий край треугольного форума в одном из самых населенных кварталов города, неподалеку от обоих театров, школы гладиаторов и ворот Стабии. Это был прямоугольный двор, с портиками и боковыми келейками. Несмотря на то, что иногда сюда доносились голоса из внешнего мира, обитель эта была не менее замкнута и недоступна, чем индийский монастырь в Гималаях или персидский гинекей в царской цитадели. Курия имела только один выход — коридор, ведущий в храм Изиды. Некогда здесь жили священники. Теперь ее занимали только две женщины: приемная дочь Мемнона и ее старая рабыня.
Яркое солнце летнего утра проникало в этот мирный приют. Две колоннады портика сверкали ослепительной белизной под его зыбким светом; две другие дремали в голубоватой тени. Сумрачный двор, преобразованный в садик, дышал сладким ароматом томящегося от зноя розового куста и опьяняющей мимозы. Маленький сфинкс из серого мрамора бросал изо рта кристальную струйку в круглый водоем фонтана. Между двумя столбами портика, почти у самой зелени, висел гамак. Молодая девушка, закутанная в белые утренние одежды, лежала в нем, опутанная, как птичка, этой голубой сеткой, обрисовывавшей изящные формы ее тела. Она не спала, а думала, широко раскрыв глаза и опершись головой на руку. Ионические колонны, заключавшие ее фигуру в рамку своих капителей с голубыми завитками, казались растениями, порожденными ее мечтой. Девушка эта была иерофантида Альциона.
Возле нее, на каменных плитах пола, сидела старая нубийка в желтом переднике, с курчавыми волосами, блестящим, как зеркало из темной меди, лицом и огромными детскими глазами, в которых иногда мелькали хищные огоньки. Мемфисские жрецы купили Нургал, когда она была еще почти девочкой, и сделали из нее прислужницу в храме. Ее выучили играть на теорбе во время священных церемоний. Способности у нее оказались только для пения, танцев и музыки. Мемнон определил ее для услужения Альционе, и нубийка обожала ее со всей страстью стареющей женщины и охраняла ее, как верный пес. Видя, что ее хозяйка уже три дня задумчива и не спит, она старалась развлечь ее. На персидском ковре, на котором сидела нубийка, стояли принесенные ею три шкатулки, одна из слоновой кости, другая серебряная, третья из сандалового дерева. Поглядывая по очереди на них и на неподвижную Альциону, по-прежнему погруженную в задумчивость, она смеялась и болтала на странном языке, смеси греческого и эфиопского, похожего на пение тропических птиц. Должно быть она уверяла, что в этих шкатулках заключаются всякого рода верные средства, способные прогнать заботы ее повелительницы. Сначала она открыла шкатулку из черного дерева и достала из нее египетские амулеты, маленьких Озирисов, высеченных из черного базальта, и кокетливых Изид из сиенского мрамора, источенных и посиневших от времени. Она протянула этих маленьких идолов Альционе, которая, по-видимому, не заметила этого. Тогда Нургал взяла серебряную шкатулку и лукаво улыбнулась. В ней хранились греческие божества, вырезанные из оникса, порфира и слоновой кости: Минервы, Дианы, Аполлоны и камеи из сердолика. Нубийка показала их Альционе, но та не шевельнулась. Нургал покачала головой и раскрыла индийскую шкатулку из сандалового дерева. В ней заключались ароматные подушечки и пузырьки с благовониями из отливающего опалом стекла. Старуха хотела дать их понюхать своей больной, но та оттолкнула их рукой. Тогда Нургал прибегла к самому сильному средству. Она открыла расписной сундучок. Здесь лежали вперемешку разные странные вещи: опахала из павлиньих и страусовых перьев, чучела райских птиц, перламутровые безделушки для какой-то индийской игры, металлические талисманы с астрологическими фигурами, стеклянные вещицы, ожерелья из жемчуга, бусы и браслеты с колокольчиками, которые нубийки надевают на щиколотки для танцев. С торжеством вытащила она из этого сундука свиток папируса, на котором было написано: Одиссея Гомера. Она не умела читать, но знала этот свиток и помнила, что в Египте Альциона проводила целые ночи возле зажженной лампады, склонившись над длинной его полосой, вместо того чтобы спать. Молодая девушка взяла свиток, посмотрела на него с нежностью, потом уронила на каменные плиты, как будто не имела силы удержать его в руках. Разочарованная и раздраженная старуха жестом озлобленной мартышки выхватила из сундука медное зеркало и поднесла его к лицу Альционы. «Посмотри, какие у тебя черные круги под глазами!» — крикнула она. Но, едва увидев в блестящем металле отражение своего лица, Альциона повернулась спиной к своей служанке и сжалась в гамаке, как голубка, прячущая голову под крыло.
Крупные слезы выступили на глазах бедной Нургал. Что же случилось, что ее госпожа так сердится? На нее напал бесконечный страх, что она не угодила чудесному и непонятному существу, которому преклонялась, как божеству. Она готова была рвать на себе волосы, как вдруг внезапная мысль заставила вздрогнуть ее черное лицо. Она подбежала к мимозе, отломила от нее ветку, подошла к гамаку, слабо покачивавшемуся от резкого движения Альционы, и начала обмахивать цветущей веткой затылок молодой девушки, увенчанный желтым пламенем ее пышных волос. Медленно обернулась девушка. Увидев нежные и трепетные листья, вздрагивающие и сжимающиеся от прикосновения, она страстно прижала ветку к губам и прошептала: «Ах… Египет… Нил… Остров Камышей… как все это далеко!» Потом стала медленно вдыхать аромат легких цветочных кистей, с которых пыльца осыпалась золотыми брызгами.
Нургал захохотала с выражением наивной радости, от которой белые зубы ее блеснули, как молния, на ее медном лице. Уверенная, что ее любимица получила игрушку, которой ей недоставало, она стала на ковер и закрыла глаза. Вскоре она затянула тонким голосом эфиопскую песенку, которую выучила еще в детстве. Слова вызывали в ее глазах зыбкий мираж морей цвета темного индиго, сказочную растительность и чудесных птиц, наивный рай ее жалкой рабской души, который ей так хотелось бы разделить со своей госпожой. Она прибавила к этой песенке только имя дочери Греции, чтобы придать больше силы своей волшебной колыбельной песне.
Прелестная чайка, моя белая Альциона, Приди ко мне в барку, моя дорогая, Приди в мою барку с золотыми парусами. Мы поплывем по зачарованному морю, Что грезит о пальмах Киннора. Там плоды висят на высоких ветвях Рядом с гнездами голубых птиц… Все поет и летает… Приди, моя белоснежная, Там живут огненные птицы… Приди ко мне в барку, моя дорогая, Прелестная чайка, моя белая Альциона!Звон гулкого, как кимвалы, щита, оборвал последние слова песни. Альциона выпрыгнула из гамака, как газель, и воскликнула:
— Я знаю этот сигнал сторожа. В храм вошел посторонний… Я хочу знать, кто он!
— Останься здесь, — воскликнула старуха. — Ты знаешь, что господин не позволяет выходить тебе со двора без его позволения.
Но Альциона уже исчезла и бежала под портиком. Отсюда она проникла в узкую галерею, опоясывавшую храм и проходившую позади бронзовой статуи Изиды, стоявшей в стенной нише. Неподалеку от этого места находилось окошечко, из которого жрецы могли заглядывать в святилище, не будучи видимы сами.
Альциона увидела Мемнона. Он сидел, держа перед собою папирус, и читал. У входа в святилище показались два человека, поднявшихся по лестнице. Первый был стоик Кальвий. Альциона едва не лишилась чувств в своем убежище, увидев, что за ним идет Омбриций Руф.
Философ положил руку на плечо жреца, поглощенного чтением.
— Привет иерофанту, — сказал он. — Вот новый друг, который хочет поговорить с тобою.
Мемнон вздрогнул, увидев трибуна.
— Я узнаю его, — сказа он. — Что я могу сделать для него?
— Он присутствовал при бракосочетании Гельвидия. Растроганный твоими словами и взволнованный новыми обрядами он просит, чтобы ты просвятил его.
— Правда ли это? — спросил Мемнон, пронизывая трибуна тем же острым взглядом, каким смотрел на него уже в доме Гельвидия.
— Да, это правда, — ответил Омбриций со всем смирением, какое допускала его природная гордость.
Мемнон опустил голову, как человек, пораженный ударом в самое сердце, потом, овладев собой, предложил посетителям сесть.
— Как тебя зовут? — спросил жрец, устремив внимательный и пристальный взор на своего собеседника.
— Я — Омбриций Руф, сын ветерана, трибун армии Тита. Учителем моим был Афраний, и в молодости я изучал доктрину стоиков. Ныне я хотел бы узнать учение Гермеса, которое, говорят, дарует полное знание. Я готов принять его, если ты согласен просветить меня.
— Это хорошо, — сказал Мемнон. — Мы с радостью принимаем истинных учеников. Но известны ли тебе условия преподавания, о котором ты просишь с таким жаром?
— Нет.
— Закон Гермеса разрешает посвященным своим носить оружие только в некоторых определенных случаях. Мы, служители Озириса и Изиды, освящаем их мечи. Готов ли ты, Омбриций Руф, ради обладания божественной наукой отказаться от твоего звания военного трибуна, от твоего могущества и от военной славы?
— Равны ли знание и могущество, которые ты обещаешь мне, тем, от которых ты повелеваешь мне отречься?
— Знание и могущество, которые ты приобретешь у нас, будут зависеть от твоих усилий и от чистоты твоей души.
— Как могу я отказаться от того, что знаю, ради того, чего не знаю. Познакомь меня сначала с твоей наукой. Тогда я сделаю выбор между нею и моим прошлым.
— Следовательно, ты отвергаешь первое условие. Это очень важно. Вот второе. Готов ли ты принять без обсуждений и споров наше преподавание в течение времени искуса? Истинность его ты познаешь после. Но пока ты должен будешь беспрекословно подчиниться воле учителя.
— Отдать другому то, что мне дороже всего, мою волю! Возможно ли это? Я не буду больше Омбрицием Руфом, свободным человеком, римским гражданином?
— Ты видишь сам, молодой человек, что еще не созрел для посвящения. Вернись к своим легионам. Жизнь даст тебе нужную зрелость. Когда она сделает тебя более сговорчивым, ты снова придешь ко мне.
— Хорошо, — сказал Омбриций, — значит, ты отказываешь мне в своей науке. Сохрани ее для себя, если я еще не достоин ее. Но, как жрец Изиды, как иерофант, ты обязан дать гражданину этого города, трибуну, удостоенному почетного венка, надлежащий совет, луч света.
— Говори, я посмотрю, смогу ли дать тебе такой совет.
— Твою науку, которой ты так гордишься и на которую ты так скуп, ты получаешь ее не только из книг и не только благодаря своему труду. Я имел этому доказательство три дня тому назад. Наука твоя исходит от твоей прорицательницы, от твоей приемной дочери. Не она ли, в состоянии волшебного экстаза, освятила союз Гельвидия и Гельвидии? Не она ли произнесла чудесное пророчество? И вот, как просят предсказания у дельфийского оракула, так я прошу предсказания Альционы.
Мемнон встал. Одной рукой он сжимал свиток папируса, другой опирался на коринфскую колонну маленького храма Изиды. От изумления глаза его расширились, и он некоторое время не мог проговорить ни слова. Потом презрительная усмешка скривила его губы. И, наконец, он сказал:
— Просьба твоя смела и необычна, Омбриций Руф. Итак, то, что я приобрел двадцатью годами моей жизни, упорным изучением, бессонными ночами и лишениями, ты получишь в один день благодаря случайной встрече и по юношескому капризу? Но известно ли тебе, что даже я не во всякое время могу получить предсказание Альционы и что ее пророческий голос является для посвященных венцом и наградой целой жизни, посвященной сокровенной науке и подчинению ее дисциплине.
Омбриций встал в свою очередь и, глядя в лицо жрецу, решительно проговорил:
— Взгляд ее обещал мне предсказание, когда я подал ей цветы лотоса.
— Ты полагаешь?
— Я уверен в этом.
— И с этой-то коварной задней мыслью ты явился просить у меня, чтобы я посвятил тебя в науку Гермеса. Так знай же, что храм Изиды закрыт для насильников и развратителей. Ты не увидишь прорицательницы!
Омбриций побелел, как полотно, губы его дрожали.
— Я пришел сюда в тревоге сердца, с жаждой истины… И вот все, что смогла ответить мне твоя мудрость?
— Истина, — ответил Мемнон, — создана для тех, кто отдается ей безусловно, а не для тех, кто желает пользоваться ею для своих целей и страстей.
— Прощай, — сказал трибун, закутываясь в тогу, и поспешно направился к выходу. Но прежде чем спуститься с лестницы, он обернулся к жрецу и с горечью воскликнул:
— Вот каков свет Изиды!
Альциона взволнованно следила за этим разговором. Наружность гордого трибуна воспламенила ее воображение. Ее девственное сердце страстно стремилось к молодому человеку, обратившемуся с призывом к ее пророческой душе. Но отношение и ответы Мемнона показали ей пропасть, разделявшую двоих людей, которых она любила больше всего. Она предчувствовала, что всю жизнь душа ее будет разделена между этими двумя людьми, и мысль о предстоящих страданиях исторгла у нее глухой стон. От этой невольной жалобы зазвенела бронзовая статуя, за которой она пряталась. Испугавшись ответа этого полого внутри идола, могущего выдать ее, она поспешно бросилась бежать по галерее.
— Статуя, кажется, застонала, — сказал Кальвий с иронической усмешкой, но все же несколько смущенный.
Мемнон, тоже пораженный, на минуту растерялся, но потом, собравшись с духом, воскликнул:
— Где Альциона?
Быстрыми шагами он вышел из храма и отправился в курию. Он нашел свою приемную дочь лежащей в гамаке, спрятавшись лицом в сложенную руку.
— Она больна… она больна… — жалобно заговорила старуха, — и не хочет спать. Все утро она не двигается.
Мемнон долго и внимательно смотрел на нее. Потом сказал:
— Взгляни на меня, Альциона.
Она повернула к нему детское личико с покрасневшими от слез глазами.
— Ты плакала?
— Да, я думала об Египте.
— Ты все еще жалеешь о том, что мы покинули его?
— Да.
— Почем знать, — сказал Мемнон, — может быть, мы скоро опять уедем туда.
Альциона взглянула на своего приемного отца широко раскрытыми от изумления глазами. Тогда он заметил, что в левой руке она крепко зажимает восковую дощечку и стальное острие.
— Зачем у тебя эта дощечка? — спросил жрец.
Альциона покраснела и опустила голову на руку, потом, подняв ее, взглянула на него с улыбкой, прикрывающей ложь, которой любовь так быстро выучивает даже самые чистые души.
— Зачем у тебя эта дощечка? — повторил Мемнон.
— Я хочу перевести на греческий язык песенку, которую поет Нургал.
— Ты слишком волнуешься, дитя мое, — сказал Мемнон, успокаиваясь. — Постарайся лучше заснуть.
Затем он поцеловал ее в лоб и удалился в глубокой задумчивости. Нургал, раскачиваясь на ковре, опять затянула свою песню:
Прелестная чайка, моя белая Альциона, Приди ко мне в барку…Между тем молодая девушка, с лихорадочно блестящими глазами, выводила металлическим острием латинские буквы по мягкому воску. Особенно тщательно она начертала первые слова: «Омбрицию Руфу, военному трибуну». А Нургал бормотала нараспев:
Там плоды висят на высоких ветках Рядом с гнездами голубых птиц…Но она не докончила песни. Убаюканная собственным пением, она заснула, склонившись над ящичками с талисманами.
IX Сад Изиды
Омбриций с злобным видом шагал под разрушенным портиком своего пустынного дома на берегах Сарно. Он только что сказал своему управителю: «Завтра я уезжаю в Рим», — как вдруг увидел поспешно направляющегося к нему Кальвия.
— Что привело тебя к моему проклятому очагу в этот убийственный зной? — с недовольным видом спросил трибун, которого раздражала безмятежная ясность стоика.
— Декурион Гельвидий и его благородная жена Гельвидия поручили мне пригласить тебя на торжество в честь Изиды, которое празднуется сегодня за городом, в саду, посвященном богине.
— Мемнон будет там?
— Конечно.
— Тогда я не пойду. Ты знаешь, что этот гордый и ревнивый жрец отказал мне в посвящении, которого я просил у него. Я не желаю больше встречаться с ним.
— Прочти во всяком случае это послание. Содержание его мне неизвестно. Оно от Гельвидии.
— Что может им понадобиться от меня? — пожав плечами, сказал трибун, со времени разговора с Мемноном возненавидевший всех поклонников Изиды.
— Я ничего не знаю, — сказал Кальвий. — Из письма ты, наверное, увидишь, в чем дело.
Омбриций сломал печать, развернул таблички и прочел следующие слова:
Омбрицию Руфу, военному трибуну, привет!
Если ты придешь на праздник Изиды, я сообщу тебе послание богини, у фонтана лотосов…
Альциона.Глаза трибуна вспыхнули. Волна крови залила его смуглое лицо. Итак, Альциона узнала об отказе Мемнона и помимо жреца готова дать ему желанное предсказание! Каким образом угадала она его самое сокровенное желание и склонила на его сторону жену Декуриона? Нежность ли, или вдохновение свыше продиктовали ей это девически смелое письмо? На этот раз тайна души, соединенная с могуществом любви, влекла его к прорицательнице. Она ждет его! Он преисполнился такой радостью и таким страхом, что совсем растерялся.
— Ну, что же, ты пойдешь? — спросил Кальвий.
— Пойдем! — пробормотал трибун, занятый своими мыслями.
На волнистой равнине, тянущейся позади Помпеи, между одиноким конусом Везувия и цепью Апеннинских гор возвышались в то время развалины древнего храма Цереры, окруженные великолепным, запущенным садом. Гельвидий приобрел этот участок земли, назвал его садом Изиды и предназначил его для тайных собраний поклонников Изиды, для этих интимных праздников, на которые приглашались только самые верные друзья. Издали, поверх полей, засаженных виноградниками, виднелся холм, поросший сикоморами и кипарисами, из которых выступал фронтон маленького храма. То было капище Персефоны. Это капище, вместе с портиком храма Цереры, одно сохранилось от древних сооружений, разрушенных землетрясением. Неровная стена, поросшая кактусами и колючим кустарником, окружала этот участок. Заместитель жреца охранял единственные ворота. Омбриций и Кальвий вошли в них.
Трибун и стоик миновали сначала часть сада, совершенно разрушенную землетрясением. Могучая природа уже одела эту вулканическую почву роскошной и буйной растительностью. Смешение развалин и зеленой листвы напоминало то райские поля, то вход в ад. Повсюду виднелись обломки рухнувших зданий, канавы, наполненные кусками разбитых колонн, обломками капителей, грудями искалеченных богинь, вперемежку с головами богов. Искривленные оливковые деревья склоняли свою бледную листву над этими божественными гекатомбами. Дикий виноград гирляндами и фестонами цеплялся за отдельные колонны; как будто вакханки, воскресшие под дыханием Диониса, желали утешить своими вечными объятиями обиженную вулканом землю. Узенькие ручейки, протекающие под мастиковыми деревьями и камнями, питали растительность этой зеленой пустыни. Направо дорога шла по холму, покрытому лесом пробковых дубов, и приводила к храму Персефоны. Здесь находилась темная и священная часть сада. Жалобный напев доносился из глубины рощи.
— Где это поют? — спросил Омбриций.
— Под портиком Цереры. Там сегодня играют часть священной драмы: Смерть Озириса. Это поет хор женщин.
— Кто играет Изиду?
— Гельвидия.
— Ступай туда, — сказал трибун. — Я скоро догоню тебя. Но сначала скажи мне, где находится фонтан лотосов? Я должен выполнить один обряд, прежде чем явиться на зрелище.
Кальвий указал ему каменистую тропинку, окаймленную ирисами и розами и терявшуюся в чаще мирт, и удалился. По выходе из этого лабиринта Омбриций очутился перед источником с неподвижной зеркальной поверхностью. Среди широколистных водяных растений плавали голубые кувшинки и несколько розовых лотосов. Вода источника просачивалась из темного грота, зиявшего позади него в вулканической скале. Великолепная мимоза затеняла кристальную поверхность своими ниспадающими ветвями и цветами, похожими на золотые кудри. Вдали возвышалась коническая громада Везувия. Перед этим гротом стояла на коленях девушка, наклонившаяся над источником. Рука ее осторожно ощупывала водяные растения и искала что-то под водой. Омбриций остановился. Нимфа этого места была одета в голубой пеплум трагических хоров. Склоненная голова не позволяла видеть лица, но по рыжему цвету волос и по венку из нарциссов трибун узнал жрицу Изиды. При шуме приближающихся шагов Альциона выпрямилась и инстинктивным движением прислонилась к мраморной колонне, стоявшей на краю источника и увенчанной небольшой статуей Изиды.
Омбриций некоторое время молча смотрел на нее, потом сказал:
— Не бойся меня, благородная иерофантида. Я пришел по твоему зову, отвечающему самой драгоценной моей надежде. Каков бы ни был бог, внушивший тебе это дивное мужество, — хвала ему. От тебя, и ни от кого больше, я желаю услышать приговор моей грядущей судьбы!
Все еще дрожа, Альциона ответила вначале робким, потом более уверенным голосом, но не глядя на трибуна:
— Смелость моя необычна, Омбриций, и ты должен счесть меня безрассудной. Но я не такова. В прошлый раз, на свадьбе Гельвидия, я уронила цветок Изиды, который держала в руке, и ты поднял мне его. Взгляды наши встретились. При свете факелов я увидела в глазах твоих такую странную тревогу, что она пронзила мое сердце, как стрела. Но что могла я сделать для тебя? Три дня спустя ты пришел в храм. Случайно я находилась за бронзовой статуей, когда ты разговаривал с Мемноном, и все слышала.
Омбриций вздрогнул от радости.
— Неужели, — воскликнул он, — и что же?
— Тогда, видя, как ты жаждешь истины, я не захотела, чтобы ты был лишен ее света…
— Так дай же мне его! Я могу получить его только от тебя!
— Увы, — ответила она, склонив голову и смотря на хрустальную воду источника, — сегодня с тобой будет говорить не прорицательница, как я бы хотела. Сегодня с тобой будет говорить бедная Альциона, некогда найденная Мемноном, как умирающая птица, в финикийской барке на берегах Нила. Но, быть может, устами ее страдающего сердца с тобой будет говорить в эту минуту и сама Изида.
— Что же я должен сделать?
— Довериться Мемнону, повиноваться ему во всем, добиться, чтобы он стал твоим учителем. Если ты согласишься на это, он не сможет отказать тебе в своем преподавании. Гельвидий окажет тебе покровительство… жена его обещала мне это. Будь верным учеником того, кто был мне больше нежели отцом, потому что он был моим спасителем. Тогда, когда-нибудь, я уверена в этом… прорицательница озарит тебя лучом Изиды.
— Когда-нибудь?.. — прошептал Омбриций, нагнув голову. Но вдруг резким движением он выпрямился, как бы желая разбить ярмо, которое желали надеть на него, и страстным тоном прибавил: — А если я соглашусь, дашь ли ты мне другое обещание? Я хочу твоей любви. Что мне истина без нее? Альциона, любишь ли ты меня?
В первый раз Альциона повернулась к нему и посмотрела ему в лицо.
— Я люблю твою душу, Омбриций, — сказала она с улыбкой, невинность которой обезоружила бы и Нерона, — настолько слова ее были выше всякой боязни.
Потемневшие глаза ее мерцали в экстазе. Внезапным движением она преклонила колени и погрузила руку в источник.
— Посмотри, — продолжала она, — стебель лотоса, который я держала в руках в день свадьбы Гельвидии, прячется в этой воде. Новый цветок еще не раскрылся, но он скоро появится.
Она поднялась с колен и показала ему широкий лист, который несколько раз обернула вокруг пальца, смотря на него. Потом устремила на трибуна влажный взгляд, в котором горело чистое пламя, и прибавила вполголоса:
— Как я лелею эти цветы, Омбриций, так я буду лелеять твою душу. В тот день, когда она окончательно распустится, я принесу тебе расцветший лотос.
Омбриций мало-помалу поддавался очарованию этих коротких и торжественных слов, которые во всех других устах показались бы смешной претензией или ребяческим капризом, Но он тотчас же спросил умоляющим голосом:
— Тогда Альциона будет моей женой?
— Да… — сказала прорицательница, немного отвернувшись, — тогда… Изида разрешит мне…
И веки ее с длинными, золотистыми ресницами бросили тень на ее зардевшиеся щеки.
— Изида — это ты! — воскликнул трибун в порыве ликующей страсти, схватив руку жрицы.
При этом внезапном прикосновении, от которого дыхание его губ коснулось ее волос и точно опалило нарциссы ее венка, Альциона, охваченная боязнью, снова обняла левой рукой мраморный столб и прислонилась головой к статуе богини, как бы ища у нее защиты, но правая рука ее осталась в руках Омбриция, который покрывал ее пламенными поцелуями.
В эту минуту с противоположной стороны источника донесся страшный голос. Он произнес имя Альционы как крик отчаяния, как возглас мстительного божества, и эхо разнесло его по всему саду.
— Альциона!
Сопровождаемый Гельвидием, Мемнон стоял неподалеку от возлюбленных. Прорицательница упала на колени, прижавшись головой к столбу, который обняла, как бы защищаясь от смертельного удара. Омбриций скрестил руки и смотрел на жреца с легкой торжествующей улыбкой.
— Альциона! Зачем ты здесь с этим человеком, когда твое место там, во главе священного хора, воспевающего богиню?
Строгий голос иерофанта гулко ударился о поверхность источника. Но ему ответили только отдаленные голоса женщин, которые пели: «Бог Озирис умер! Где рассеяны его члены? О, богиня! Мы ищем вместе с тобой, мы оплакиваем Озириса! Озирис!..» Обрывки слов жалобного песнопения проносились над источником с лотосами, как бы подчеркивая вопрос жреца. Вместо ответа Альциона еще ниже опустила голову и крепче обняла подножие статуи.
Тогда Мемнон обратился к трибуну:
— Кто позволил тебе переступить священную ограду? По какому праву явился ты в это место, предназначенное для одних посвященных?
Омбриций хотел ответить, но его прервал Гельвидий:
— Это я пригласил его на наш праздник, — сказал он. — Я сделал это по просьбе Альционы и Гельвидии.
— Тогда я уже больше не начальник храма и она не прорицательница?
— Выслушай, Мемнон, и прости, — продолжал декурион. — Если трибун откажется подчиниться нашим правилам, я первый изгоню его из нашего братства, но если он согласен принять наш закон, то мы не можем оттолкнуть его. Альциона обещает, что он будет повиноваться тебе. Ответь, Омбриций, согласен ли ты признать Мемнона своим учителем?
— Да, — ответил трибун, — если он пожелает принять меня в свои ученики.
— Ты видишь, он согласен. При таких условиях можешь ли ты запретить ему доступ в храм? Должно отказывать в истине недостойным, но не тем, кто искренно просит ее. Что касается до иерофантиды, то она будет его женою только в том случае, если он окажется достойным ее, после того как принесет клятву Изиде, согласно нашему установлению. Пока же он должен быть допущен к испытанию. Если он выйдет из него победителем, он будет самым славным защитником нашего учения. Наша истина кладет на челоборцов печать героев… и так как Альциона любит Омбриция, быть может, любовь ее будет для него лучом Изиды.
— Если только, — сказал Мемнон, — любовь Омбриция не принесет гибель прорицательнице и смерть Альционе. Кто мне поручится за верность этого ученика?
Альциона поднялась с колен и сильным голосам, в котором снова проявилась прорицательница, воскликнула:
— Я… жизнью своею!
— Так значит, ты его любишь? — спросил Мемнон в отчаянии.
Альциона не слышала. Мысль ее парила в иной сфере. Она продолжала торжественным голосом, как бы желая запечатлеть пламенные слова в прозрачном эфире, сохраняющем клятвы:
— Для того чтобы он сделался сыном Изиды и чтобы мощь его засияла над городом Помпея, я предлагаю себя в жертву…
Мемнон спросил:
— Следовательно, если он выдержит искус?
— Я буду его женой.
— А если он изменит тебе?
— Я буду смотреть, как сгорит одинокое пламя моего чистого желания, и умру как весталка, обнимая жертвенник, на котором горит неугасимое пламя…
И, дополняя жестом свою мысль, она снова прижалась к колонне, которую обнимала. Трое мужчин смотрели на нее с внутренним трепетом, проникнутые решительностью и религиозной торжественностью ее слов. Гельвидий, взяв за руку Омбриция, сказал:
— Я тоже ручаюсь за этого юношу, он римский всадник. А теперь вернемся на праздник и оставим дочь с отцом.
Когда Гельвидий и трибун исчезли в чаще диких мирт, иерофант и прорицательница некоторое время оставались неподвижны: он стоял, скрестив руки, она — на коленях у мраморной колонны. То, что произошло между ними, было так необычно и так неожиданно, что они не понимали этого; как будто поразившая их молния оставила им жизнь, но испепелила души. Он испытывал такое чувство, как будто потерял свою приемную дочь и свою ясновидящую, сокровище своего сердца и око своего духа в невидимом мире. У него отняли его венец. Она тоже понимала, что, повинуясь непреодолимому инстинкту своего сердца, потеряла доверие своего спасителя. Это терзало ее, но она повиновалась приказанию своей души, которое было сильнее всех колебаний. И потому оба эти человека, связанные самыми нежными и самыми тонкими узами, стояли друг перед другом, как два чуждых существа, изумляющихся тому, что они вместе. Наконец Альциона подняла голову, но, все еще стоя на коленях, прошептала, простирая с мольбой руки к Мемнону:
— Прости меня, отец. Я не могла поступить иначе. Мне повелевал бог.
— Какой бог?
— Я не знаю, но он говорил здесь, — сказала Альциона, приложив ладонь своей хрупкой руки к левой стороне груди.
— Кто бы он ни был — это не мой бог.
— Прости твою дочь, твою прорицательницу.
— Ты мне больше не дочь, — сурово ответил Мемнон, — ты больше не прорицательница. Морская чайка, которую я спас, улетела. Ты просто дитя из Самофракии, украденное пиратами, легкая добыча, идущая к своей судьбе!
Иерофантида поднялась с колен. Глаза ее наполнились слезами.
— Как, отец мой, разве я не твоя Альциона?
— Я не знаю, будешь ли ты ею когда-нибудь вновь, — ответил жрец. — Иди теперь, вернись в хор и оплакивай своего утраченного бога.
Альциона жестами умоляла, чтобы отец обнял и поцеловал ее, но вытянутая рука Мемнона приказывала ей идти вперед. Она пошла медленными шагами, склонив голову, закрыв лицо руками. В глубине рощи Персефоны, к которой они приближались, мелодичные голоса плакали: «Изида, Изида, что сделала ты со своим богом?»
X В храме
Марк Гельвидий принадлежал к той редкой категории людей, у которых преклонение перед высшими истинами соединяется со стойкой потребностью действия и которые удовлетворяются своею мыслью только тогда, когда она озаряет своими лучами их среду, объединяя единомышленников их для общего усилия. Происхождение и природные склонности привлекали его к древней школе пифагорейцев, почтенной родоначальнице самых благородных философских учений Греции. Однако, несмотря на это, весь античный мир подверг ее некоторого рода остракизму, основанному на боязни и презрении. Уроженец Кротона, где учитель преподавал шесть веков тому назад, Гельвидий принадлежал к редким пифагорейцам, сохранившим в неприкосновенной целости доктрину учителя. В политике он превозносил аристократическое правление с передачей власти в руки группы избранников. Группа эта, по его мнению, должна была представлять подбор действительно посвященных лиц. Они должны были обладать высоким умом и благородным характером и, следовательно, должны были оказаться способными обучать и воспитывать народ. Иерархию душ, присущую человечеству и устройству вселенной, он желал применить к государству, распределив людей сообразно с их свойствами в общей эволюции, где все призваны к прогрессу, но где редкие поднимаются на одну или несколько ступеней в течение одной жизни. Особое учреждение, определяющее степень посвященностью последователей великого философа, должно было служить школой правителей, и политическая организация городов слагалась по образу философского идеала и религиозной истины, хранимых как неприкосновенная святыня группой избранников и передаваемых толпе в той лишь мере, в какой они могут быть ей доступны под покровом искусства и символов.
Это учение о преобладании аристократии, одинаково враждебной и тирании, и демагогии, во все времена обладало свойством вселять одинаковую ненависть и тиранам, и завистливым демагогам. Поэтому-то Пифагор, учредивший этот образ правления в Кротоне, был изгнан из родного города и погиб в Метапонте во время пожара при народном восстании, вызванном демагогом Килоном, которому он отказал в принятии его в число посвященных. Поэтому же изгнанные пифагорейцы, пережившие крушение своего учения, встречали плохой прием в греческих демократиях, и редкие приверженцы и продолжатели этой школы всегда находились под подозрением у римских цезарей.
Гельвидию было тридцать лет. Великодушный, благородный, слепо верящий в могущество идей, он легко предполагал те же свойства и в других. Пламя чистого воодушевления и ясной совести горело в его глазах. Голубая повязка, сдерживающая волосы, венчала его лоб, а темные кудри гармоничной рамкой окружали благородные черты его лица. Разочарования не могли убить в нем веры в конечное торжество добра. Не имея никакого личного честолюбия и полагая свое единственное счастье в отыскании истины, он смеялся над коварством своих соперников и презирал поношения черни.
Жена его Гелькония, пожелавшая называться Гельвидией, по имени своего мужа, обладала сильным характером и любящей душой. Еще до брака она прониклась мыслями своего будущего мужа, как прозрачная алебастровая ваза, наполненная драгоценным вином, придает ему изящество своих форм, окрашиваясь сама золотистым пурпуром его влаги.
До женитьбы своей Гельвидий побывал в Греции, Египте, на Востоке, потом поселился на жительство в Помпее. Этот город отдохновения, искусства и наслаждений, корзина роз, красующаяся на берегу волшебного залива, под тенью огнедышащей горы, со странной силой привлекал поэтов, ораторов и философов. Все поддавались его очарованию. Роскошная рамка его берегов, с мягкими и грандиозными очертаниями, побуждала к глубоким размышлениям, к смелому творчеству. Гельвидий надеялся создать здесь центр пифагорейских идей и ввести их мало-помалу в самый организм города, чтобы распространить их отсюда в полугреческих еще городах Тарентского залива, а затем в Греции и на Востоке благодаря сношениям с Александрией. В качестве декуриона, то есть сенатора, принимающего участие в городской администрации, он выписал из Египта Мемнона, чтобы поднять выродившийся культ Изиды до высоты, на которую его вознесли некогда истинные ученики Гермеса. Узнав от своей жены о любви Альционы к Омбрицию Руфу, он отнесся сочувственно к браку между ними, надеясь приобрести в лице трибуна влиятельного адепта доктрины и защитника ее перед Веспасианом и Титом. Поэтому Гельвидий употребил все силы, чтобы заставить разделить то же убеждение и Мемнона. Доводы его, наконец, заставили последнего принять Омбриция в число учеников и допустить его к испытаниям. Иерофант должен был преподавать свою науку в доме Гельвидия и Гельвидии, в присутствии избранной четы. Слова жреца Изиды, излагающие учения Гермеса и Пифагора, должны были сопровождаться иногда пением и танцами, так как священное искусство одно может облечь плотью божественные истины и превратить абстрактное слово в живой глагол. Юноши и девушки, избранные из числа учеников, будут исполнять гимны богам, согласно пифагорейскому ритуалу. Наконец, в виде иллюстрации к сокровенным положениям науки, недоступным никакому анализу и могущим представляться уму лишь в состоянии религиозного или поэтического экстаза, Альциона будет декламировать прекраснейшие из орфических гимнов, сохраненных тайным преданием, касающиеся небесных странствований Психеи. Тогда выяснится, можно ли вызвать в сердце трибуна чистое воодушевление, таящееся почти всегда, подобно кристальной капле, в тайниках человеческой души. Временно от Омбриция требовалась только клятва в молчании обо всем, что он увидит или услышит. Если он выйдет победителем из испытания, он будет торжественно принят в среду посвященных и принесет клятву Изиды, заключающуюся в обещании повиновения учителям и быть безусловно преданным истине. После этого все вместе должны отправиться в Грецию и в Египет на судне Гельвидия. Пифагорейцы, живущие на берегах Роны, в римской провинции, неподалеку от Массилии[1], подарили ему эту великолепную трирему в надежде, что он приедет навестить их, а может быть, и поселится среди них. В настоящее время помпейский декурион распорядился перевести ее в порт Стабии, где ее отделывали и украшали опытные мастера и художники. На этой триреме Омбриций и Альциона, Гельвидий и Гельвидия должны будут отправиться в Афины в сопровождении Мемнона, чтобы присутствовать на элевсинских таинствах. Там же будет совершено бракосочетание Омбриция и Альционы, и затем все вместе вернутся продолжать начатое дело в Италии.
С отчаянием в душе подчинился Мемнон решению судьбы. Он думал, что ему грозит неизбежная потеря и науки, и счастья. Но он вспомнил слова Саваккия, сказанные ему в пустыне, под пирамидами: «Ты обретешь высшую истину лишь в высшем страдании». И он старался не думать больше о себе, а только о своей обязанности сделать из Омбриция истинно посвященного, а из Альционы счастливую супругу, не без тайной надежды, впрочем, что старания его не увенчаются успехом. Но он отталкивал эту недостойную мысль, желая быть только учителем, то есть человеком, не имеющим земных желаний, и даже более нежели человеком — живым Глаголом Вечного.
Уроки начались в ларариуме Гельвидия. Здесь находился только маленький алтарь, всегда украшенный цветами, и две мраморных музы, Мельпомена и Полигимния.
Около двенадцати женщин и девушек вместе с Гельвидией расположились по стенам полукруглого покоя. Мемнон стоял перед алтарем. Напротив, под перистилем, сидели Гельвидий, стоик Кальвий, Омбриций Руф и несколько юношей. Все усердно посещали ежедневные уроки учителя и слушали его с глубоким вниманием.
Альциона не появлялась на первых собраниях. Омбриций не видел ее в течение двух месяцев. Хотя это испытание показалось ему жестоким, он подчинился ему беспрекословно. Он верил обещанию иерофантиды; самолюбие его было удовлетворено; наконец, благодаря урокам Мемнона, ум его вернулся к прежним юношеским порывам. Но вместо того чтобы наталкиваться на узкие и нагие стены стоицизма, он мог свободно носиться по широким аллеям и упиваться беспредельными горизонтами, раскрывающимися перед ним. Набросав в общих чертах основные положения науки о Числах, этого ключа герметической доктрины, значение которой можно постигнуть только по многочисленным приложениям ее ко всем наукам и к конечному синтезу вселенной, Мемнон быстро перешел к истории человеческих рас, в которой отмечается постоянное нисхождение и видимое воплощение Духа в материю. Он говорил об исчезнувших материках, воспоминание о которых уже утратилось среди невежественных масс. Рассказывал о жизни первых человеческих племен, более похожих на животных, чем на людей, о племенах, внешний образ и действия которых сохранены египетскими жрецами в иероглифах, начертанных на стенах древних усыпальниц и храмов. Он описал лемуров, пещерных людей, населявших некогда гиперборейский материк, на которых, по-видимому, намекает Эсхил, вкладывая в уста Прометея слова: «Они видели, но плохо, они слышали, но не понимали. Подобные призракам, возникающим в сновидениях, они жили в течение многих веков, сливая все в одно и не различая отдельных предметов». Он рассказал историю Атлантиды, огромного материка, возвышавшегося некогда посреди Великого океана, далеко за Геркулесовыми столбами. О нем говорит в своих сочинениях Платон, посвященный египетскими жрецами. После целого ряда катаклизмов последний остров его, называемый Платоном Островом Посейдона, опустился на дно океана за девять тысяч лет до основания Рима. Этот огромный, ныне исчезнувший материк был ареной грандиозной цивилизации, просуществовавшей многие тысячелетия; о ней свидетельствовали огромные храмы, златовратые города. Целый ряд островов, поглощенных с тех пор последовательными затоплениями, связывал в то время Атлантиду с Африкой и Европой и облегчал сообщение с этим материком. Науки и искусства, магия и культ Солнца родились среди жителей Атлантиды. Они положили начало избранным расам, населившим впоследствии Европу, Африку и Азию. Но сокровенная наука во всей полноте своей образовалась только в Египте, трудами Гермеса, унаследовавшего предание Атлантов, и благодаря посвященным, повелевавшим во имя его. Наука о числах и светилах, письмо и прорицания, религия, переводящая тайные влияния и космические силы в выразительные символы, и искусство управлять людьми, вытекающее из знания души, достигли в Египте высшей степени расцвета.
— Таким образом, — заключил Мемнон, — в подавляющей громадности человеческой истории, из века в век, от тысячелетия к тысячелетию, сквозь все расы и все мировые перевороты, священное предание является путеводной нитью, непрерывной цепью, светильником, часто тускнеющим, но никогда не угасающим. Если слепая толпа движется медленно вперед, то это совершается лишь благодаря пророкам, посланникам Предвечного, воплощающимся на земле. Вокруг них собираются избранники, увлекающие толпу. Благодаря посвященным, передающим из рук в руки светильник жизни, священный огонь не угасает, ничто существенное не утрачивается, и сокровищница знания постоянно обогащается. Каждому пророку — свое послание, каждой расе — свой труд.
— С дорической расы и пророка ее Орфея, — продолжал иерофант, — начинается эра, в которой мы живем. Божественный Орфей, вышедший из святилищ Египта, пожелал передать эллинам божественную науку в жизни и красоте, в городах и храмах, в мраморе и живом теле. В этом заключается волшебство его чарующей лиры. До него мир знал только Жреца и Царя. В темный лес людей Орфей бросил, как яркие светочи, Героя и Поэта, Влюбленную и Пифию, живые факелы Прометея. Мы, ученики Гермеса, Орфея, Пифагора, жаждем зажечь еще более прекрасные огни… Но надо верить в божественную науку, чтобы совершать божественные завоевания.
Эти смелые речи восхищали Омбриция. Они заставляли трепетать неведомые источники в твердой скале его сердца. Быть может, он не стал бы прислушиваться к этим новым словам, если бы мощная гармоничность их не льстила его гордости. Он уже видел себя посвященным, пророком, магом, могущественнее всех императоров мира. Он устрашал толпу своим обаянием, воля его венчала и развенчивала цезарей. Но мысли Омбриция приняли иное течение, отношение его совершенно изменилось, когда Мемнон приступил ко второй части тайной науки. Человек и род человеческий имеют не только земную историю, они имеют историю космическую, охватывающую периоды их существования до и после этой жизни. Каким образом произошла душа человеческая от божества? Путем какого ряда падений и восхождений достигла она своего теперешнего состояния? Каковы ее скитания в мире после каждой смерти? По какому неизбежному закону принуждена она воплощаться вновь после каждого пребывания возле домашних иниев и созидающих богов? Каковы условия ее конечного освобождения, ее возвращения, в полном озарении и могуществе, в свое божественное отечество? Мемнон дал только несколько кратких намеков на эту грозную и величественную Одиссею человеческой Психеи, тоскующей по Психее божественной, стараясь лишь найти нить, связывающую эти различные существования, и общий закон, управляющий ими. Он прибавил, впрочем, что по этому поводу Омбриций получит более подробные сведения в Элевсине и что для того чтобы составить себе приблизительное представление о необъятных тайнах преджизненного и послежизненного существования, необходимо мало-помалу учиться проникать в них самому. Но это достигается на последних ступенях посвящения.
При первых же шагах учителя в небесной истории Психеи Омбриций испытал чувство беспокойства и головокружения. Несмотря на то, что это учение о многообразном и постепенном бессмертии выходило из вершин сознания и из божественного центра вселенной, оно внушало трибуну скрытое отвращение. Слушая Мемнона, он испытывал ощущение, какое переживает континентальный житель, увлеченный против воли смелыми моряками в бурное безбрежное море. Внутренние ли очи его не хотели раскрыться или же его удерживала инстинктивная боязнь перед неизвестным? Вскоре смущение сменилось бунтом. Узость его ума, трусливость его души облеклись в шлем гордости, чтобы скрыть свою истинную сущность от его омраченного сознания. Разум его отказывался принять эти дерзкие гипотезы, которые ему выдавали за непреложные истины, не представляя никаких осязательных доказательств. Гордость его возмущалась при мысли о том, что он существовал под иными формами и еще много раз должен изменить свое тело и сознание. Что представляет собою это учение, отрывающее человека от твердой земли чувств, чтобы бросить его в бездну неизвестностей? По какому праву этот надменный жрец грозит исторгнуть душу трибуна из его здорового тела, чтобы бросить ее в пространство? И стоит ли это мнимое небо осязаемых радостей земли? Лучше, говорил он себе, прожить одну жизнь со всей напряженной страстностью и не найти в конце ее ничего, быть совершенно уничтоженным, нежели скитаться призрачной тенью сквозь столько существований, будучи гонимым какою-то неведомой силой!
Присутствие Альционы, появившейся, наконец, в полукруглом покое, только усилило его раздражение. Она не отходила от женщин и девушек, окружавших ее стеной нежности и благоговения. Заключенная в их кругу, она казалась ему чужою. Трибун и иерофантида обменивались лишь беглыми взглядами. Порой она обращала к нему влажный и мерцающий взор. Но чаще глаза ее заволакивались какою-то холодностью, и душа Альционы уносилась вдаль. Тайна этой души, в которую он не мог проникнуть, тревожила его еще больше тайны вещей. Поведение Альционы на последних уроках Мемнона только углубило разделявшую их пропасть. В то время как Омбриций все более и более восставал против высказываемых иерофантом идей, иерофантида с наслаждением возносилась на эти недоступные высоты. Она парила там как птица, носимая ветром. Голоса юношей и девушек, предшествуя и сопровождая слова учителя, раздавались под сводами ларария вместе с звуками теорбы и лиры. Это были старинные гимны, заклинания богов, сохранившиеся из орфических времен. Доверчивые души певцов устремлялись к невидимым силам, их выразительные жесты, вибрирующие голоса и сияющие лица, казалось, черпали новые силы в мировой душе, но сердце Омбриция ожесточалось и закрывалось все больше и больше. Его возмущали эти восторги, эти радости, которых он не разделял, вызывали в нем гнев. И в довершение унижения, Альциона, казалось, забыла о нем. Сидя на цоколе Музы, колена которой она обнимала, бледная, как мрамор, к которому прислонялась ее голова, она была близка к экстазу.
В такой позе Альциона присутствовала на последнем уроке иерофанта. Мемнон описывал счастье души, достигшей конца своих странствований и превращений и из божественной обители своей одним взглядом обнимающей свое космическое странствование. В этот день в полукруглом покое находились только трое. Посредине Мемнон, налево Альциона, направо Гельвидия, держащая на коленях лиру из слоновой кости. Жрец Изиды закончил свою речь следующими словами: «Слова человеческие не могут описать картины, развертывающейся перед преображенной душой в этой обители, о которой я говорил вам. Но сокровенное искусство неоднократно пыталось изобразить их. В пояснение Слова Гермеса, прорицательница прочтет нам Песнь божественной Психеи». С этими словами Мемнон отошел от алтаря и сел в перистиле, рядом с Гельвидием.
Альциона как бы очнулась от сна, приковавшего ее к статуе Полигимнии, и медленно отделилась от ее холодного мрамора. Как бы в забытьи, она подошла к алтарю и бросила несколько крупинок ладана на тлеющий под пеплом огонь. Ярко взвилось оживленное пламя. Тогда иерофантида подняла голову в венке из нарциссов и глубоким голосом, под аккорды лиры, на которой играла Гельвидия, прочитала таинственный гимн.
Я дочь богов и сестра гениев. С вершины моего светила Я видела, как хор их Поднимался и опускался в мирах От надира до зенита, От зенита до надира Свет! Гармония! Наука и любовь переполняют мое сердце. Трепетно и лучезарно, Как звезда, во мне Блещет дивное воспоминание… Никто не может отнять у меня бессмертного венца! Темные силы, призраки ада, Мрачные бездны, бесчисленные века, Что грозили поглотить меня, Отныне вы надо мной бессильны! Вы проходите, я остаюсь Вы падаете, я возникаю… Я — вечное желание, Я — вечное воспоминание, Я — божественная Психея!Последние аккорды лиры еще звучали, сопровождая широкий жест иерофантиды… Все следили в душе за продолжением ее слов, как за кристальными кругами, оставляемыми лебедем на лазурной волне, но вдруг волнение, охватившее юные души присутствующих, прорвалось в страстных возгласах: «Слава Мемнону! Слава нашей Альционе!»
— Честь и слава обоим! — сказал Гельвидий, поднося жрице букет цветов.
Она взяла их, улыбаясь, склонилась над Гельвидией и поцеловала ее, как бы стыдясь своей дерзости и чувствуя себя снова слабой женщиной после того, как изображала божественную Психею. Вместо ответа Гельвидия пригладила золотистые волосы девушки и нежно прижала ее пылающую голову к своей пышной груди, покрыв поцелуями ее лоб, по которому струились капли испарины, вызванной вдохновением.
* * *
Все с шумом поднялись со своих мест. Омбриций, безмолвный и неподвижный, продолжал сидеть. Мозг его кипел, сердце сковало ледяным кольцом. Он напоминал охотничью собаку, видящую, как жаворонок поднимается с борозды и взвивается ввысь, куда она за ним не может последовать. Преисполненный глухого раздражения против этих восторгов, которых он не мог понять и находил нелепыми, он сердился на всех и на все: на Мемнона, на его учение, на его учеников и даже на иерофантиду. И все же, сверхъестественная красота Альционы возбуждала до высшей степени все скрытые желания его существа своим непреодолимым очарованием. Но он находил, что только он один имеет права на нее и что у него отнимают с трудом приобретенное сокровище. Самозабвение есть сущность великой любви и воодушевления. Эти два высоких свойства, самые могущественные из всех, всегда будут казаться безумием тем, кто не способен погрузиться в чужую душу или раствориться в Боге.
Альциона осталась одна возле статуи Полигимнии, перебирая пальцами сплетенную из лавров гирлянду, висевшую на ее цоколе. Казалось, что она ждет Омбриция. Он подошел к ней.
— Вот уже три месяца, — сказал он, — как я не говорил с тобой, Альциона! Я почти не видал тебя, и только твой далекий взгляд изредка говорил мне, что ты еще не забыла меня. Ты блуждала в иных мирах, далеко от меня, в каких-то недоступных небесах… Сегодня твоя дивная песнь привела меня в отчаяние… Я теряю почву в этих беспредельных пространствах. У меня нет крыльев, чтобы следовать за божественной Психеей. Венок из нарциссов, красующийся на твоей голове, язвит и оскорбляет меня… Эти цветы, Альциона, неприкосновенны, как звезды!
Альциона во время этой речи стояла с опущенными глазами. Теперь она подняла веки и с изумлением взглянула на трибуна, как будто не узнавая его. Потом на тонких губах ее появилась бесконечно нежная улыбка. Она сняла венок из нарциссов и сказала, протягивая его Омбрицию:
— Я сорвала эти нарциссы, покрытые свежей росой раннего утра. Я хотела бы так же сорвать твою душу, чтобы поднести ее в дар Изиде. Вдохни аромат их венчиков… Что он говорит твоей душе?
Омбриций взял в руки венок и стал влюбленно вдыхать опьяняющий аромат его перламутровых звезд с желтыми сердцевинками. Он смотрел то на нарциссы, то на улыбающуюся иерофантиду. Но вдруг отдал ей венок.
— Что говорит мне этот аромат?.. — воскликнул он. — Что я люблю тебя, как безумный, ты же не любишь меня!
Она обняла его нежным и бесконечно сострадательным взглядом:
— Я не люблю тебя? Разве ты забыл мою клятву у фонтана с лотосами?
— Если бы ты любила меня, — сказал Омбриций, — ты постаралась бы снизойти до меня, иначе я не смогу достигнуть тебя… Я никогда не смогу подняться так высоко!.. Ах, если бы ты меня любила, если бы ты меня любила, ты отдала бы мне твой венок сейчас… сейчас!
Альциона вздрогнула от испуга. Она прижала обе руки к груди, как бы пытаясь удержать нахлынувшее на нее волнение. Затем с выражением бесконечной нежности прижала к губам венок нарциссов и, как бы почерпнув в этом прикосновении внезапное вдохновение, сказала более спокойным голосом:
— Эти цветы будут принадлежать тебе, Омбриций, потому что я вся принадлежу тебе… — Потом, сияющая, гордым движением она возложила венок на мраморное чело Полигимнии и прибавила: — Мы поднимемся вместе!
В эту минуту к Альционе, как вихрь, устремилась группа девушек. Они обвили ее гирляндой роз, восклицая; «Как она прекрасна! Она преобразилась, она сама — божественная Психея!» «Тебе даю я лиру, чарующую души», — сказала Гельвидия, подавая ей лиру из слоновой кости. «Тебе венец бессмертия» — сказал Гельвидий, снимая венок нарциссов с головы Полигимнии и возлагая его на голову Альционы, щеки которой вспыхнули. Стоя в нескольких шагах от своей приемной дочери, Мемнон торжествующим оком созерцал свое дело. Альциона принимала эти знаки почтения без гордости. Ее тревожил мрачный вид Омбриция. Она снова заглянула в его душу и в первый раз заметила в ней грубое желание и глубокий эгоизм.
Омбриций, удалившийся под колонну перистиля, издали смотрел на эту группу. Он с горечью говорил себе: «Вот она стоит среди равных, но меня нет с ними. Все эти последователи Изиды составляют одну семью. Они владеют ею, для меня же она недоступна». В сердце его поднимались скрытая зависть, глухая злоба. Чтобы успокоиться, он прибавил: «Она любит меня. Ну, что же, я буду тверд!» И он вышел, не простившись ни с кем.
XI Гедония Метелла
На следующий день Омбриций взволнованно шагал под большим портиком форума, куда богатые помпейцы и прелестные помпеянки приходили подышать вечерней прохладой, волоча по мозаичным полам свои тоги и столы и, стараясь заглянуть в закутанные покрывалами лица, завязывали легкие интрижки, уступающие в сложности их хитросплетенным прическам. Вдруг Симмий ударил его по плечу и схватил за обе руки.
— Какой счастливый бог привел тебя, — воскликнул грек. — Я только что вышел от самой необыкновенной женщины в Помпее. Нынче вечером она дает ужин. Прелестная Миррина, которая, правда, иногда изменяет мне, но все же всегда ко мне возвращается, обещала мне, что будет танцевать у этой знаменитой матроны. И вот что мне сказала царица Помпеи: «Так как ты приведешь мне первую танцовщицу Помпеи, то почему бы тебе не привести и самого доблестного трибуна из армии Тита, который, говорят, сделался мудрейшим философом? Я хотела бы видеть этого римского всадника в числе своих гостей. Вот уже три месяца, как ты обещал мне привести Омбриция Руфа и до сих пор не сдержал своего слова». Я ответил царице: «Если я его найду, клянусь всеми богами, что приведу его к тебе сегодня вечером». Хорошо ли я сделал?
— Кто эта женщина?
— Гедония Метелла.
Омбриций тщетно напрягал память.
— Неужели же ты забыл патрицианку, которую мы видели в носилках в день свадьбы Гельвидия, и красную розу, как бы нечаянно упавшую за складку твоей тоги?
— Теперь припоминаю, — сказал Омбриций, который, поддавшись очарованию Альционы, перестал думать об этом приключении.
— Я не хочу застать тебя врасплох, мой милый трибун, — продолжал эпикуреец. — Надо, чтобы ты знал, куда я поведу тебя. Храм Изиды имеет свои тайны, которые скрыты от меня; но дом Гедонии Метеллы тоже имеет свои тайны, обычаи, обряды и законы. Я буду твоим проводником в этом лабиринте. Это странный дом, полный привлекательности и коварных ловушек. Одни находят в нем свое счастье и карьеру, другие — гибель. Но я должен предупредить тебя относительно одной особенности этой опасной женщины. Всякий, кто хоть раз попал к ней, неизбежно становится или ее другом, или ее врагом. И горе последнему! Ибо, если она великодушна по отношению к тем, кто подчиняется ее капризам, она опасна для тех, кто ей противится. Итак, подумай прежде, чем принять ее приглашение, а если пойдешь, будь настороже.
— Ах, Симмий, — воскликнул Омбриций, сразу повеселев, — ты — великий оратор. Ты сумел задеть мою слабую струнку. Ты говоришь, что есть опасность? Тогда я, конечно, пойду. К тому же мне необходимо развлечься.
— Чудесно, — сказал грек, хлопнув в ладоши. — Так приходи поужинать вместе со мной и Мирриной. А потом отправимся втроем к царице Помпеи.
Час спустя оба друга и мима Миррина, небрежно раскинувшись на роскошных ложах, весело ужинали в нарядном триклинии Симмия. По стенам, выкрашенным красной краской, вились гирлянды зелени, переплетаясь с розовыми телами: плавающие нереиды, летающие амуры, сфинксы и крылатые кони, стройные женские фигуры, тонкими колонками выделяющиеся на фоне воздушной архитектуры из арабесок и листвы. Легкие замечания гостей, как стая вороватых воробьев, летали над блюдами рыбы и дичи, среди ваз и цветов. Когда рабы подали кубки с вином, Симмий заговорил серьезным тоном:
— Ты должен знать, друг мой, что Гедония Метелла — дочь патриция Метеллия и нумидийской принцессы. Она соединяет в себе непреклонную и величественную гордость римлянки с огненной страстностью африканских рас. Она покоряет мужчин, но сама до сих пор оставалась непокоренной никем, потому что умела владеть собой. В ней живет вакханка и Агриппина, но и та, и другая скрываются под обаятельной внешней беспечностью. У нее мужская воля, и она выдрессировала свои женские страсти, как стаю пантер, направляя их на преследование своих глубоких и сокровенных замыслов. Если бы я был философом, я определил бы ее характер так: глубокое сладострастие на службе у непомерного честолюбия.
— Но каковы же цели этого честолюбия? — спросил Омбриций.
— Это никому неизвестно, до такой степени своеобразны ее поведение и образ жизни.
— Ах, пожалуйста, без философии, — воскликнула Миррина, закинув хорошенькую головку и отправляя в рот устрицу. — Расскажи поскорее ее историю! Ее историю!
— Я знаю о ней очень немного, — продолжал Симмий. — Говорят, что в детстве она была любимицей Поппеи. Супруга Нерона любила сажать к себе на колени маленькую патрицианку. Став преждевременно женщиной, Гедония, быть может, уже тогда сумела извлечь из взоров и речей белокурой еврейки, возлюбленной чудовища, неуловимою сущность ее коварной прелести и искусных приемов? Сумела ли она проникнуть и усвоить ее искусство управлять цезарем при помощи улыбок, слез и угроз, возбуждать его отказами, удерживать ласками, преследовать его своими взглядами? Я не знаю. Но, во всяком случае, известно, что восемнадцати лет она вышла за самого могущественного проконсула империи, бесчисленными взятками нажившего огромное состояние, и что этот снисходительный муж умер через несколько лет, оставив ей все свое огромное богатство: дом в Риме, земли в Эпирии и Кампании, виллу в Байях, музеи, статуи, бесчисленные сокровища, множество преданных клиентов и целую армию рабов.
— Как бы я хотела быть этой женщиной! — со вздохом проговорила Миррина, раскрывая одну из морских раковин, называемых frutti di mare, белая пульпа которой тянулась своим еще живым телом к чувственным губам актрисы.
Симмий понизил голос, чтобы его не услышали рабы, двигавшиеся вокруг стола с серебряными блюдами.
— Между нами: говорят, будто Гедония отравила своего старого мужа ядом, спрятанным в ее волосах.
— Каким образом? — спросила Миррина, дрожа от волнения и любопытства.
— О! самым великолепным образом, — улыбаясь ответил эпикуреец. — Старик любил после пира распускать черные волосы своей жены и долго вдыхать их аромат. Маленький эмалевый флакон был прикреплен к локонам, как украшение. В то время, как проконсул прижимался губами к обнаженному плечу Гедонии, она держала в одной руке кубок, а другой осторожно вылила содержимое флакончика в вино и предложила смертельный напиток супругу, опьяненному ароматом ее тела и роскошных волос. Верен ли этот факт, или это просто клевета какого-нибудь раба? Но история эта обошла весь Рим и многие провинции. В конце концов… я желал бы умереть так. Что ты скажешь, Миррина? Согласилась ли бы ты умертвить меня таким образом?
— Ах, какой ты злой! — воскликнула актриса с загоревшимися от негодования глазами. — Ужасная женщина!.. Но какая прекрасная сцена для театра.
— Ну, а потом? — спросил трибун, оставив еду и питье.
— С тех пор Гедония наслаждалась своей роскошью и состоянием и не вышла вторично замуж. В Риме у нее было множество любовников. О ней можно сказать, как и о Поппее, что она никогда не отличала любовника от мужа. Самым знаменитым из ее любовников был старик Цецина, военоначальник Вителлия, выдающийся полководец, человек страстный и честолюбивый. Они разошлись внезапно, и неизвестно почему. По-видимому, она сердится на него, потому что никогда не говорит о нем. Цецина достиг огромного положения. Во время кровопролитной войны между армиями Вителлия и Веспасиана Гедония Метелла сыграла большую роль в судьбе Тита, сына нашего императора. Она имеет на него большое влияние через его жену. Год тому назад она приехала в Помпею и поселилась в своем доме. Но что она замышляет? Я думаю, что в ожидании своей судьбы, она просто развлекается.
— Каким же образом?
— Очень искусным и утонченным образом. Она образовала братство гедонианцев.
— Что это такое?
— Братство это состоит, разумеется, из поклонников Гедонии. Я не принадлежу к нему, но изредка посещаю ее праздники в качестве устроителя танцев и музыкальных развлечений. Благодаря этому я знаю почти все, что там происходит. Чтобы принадлежать к кружку Гедонии, нужно принести клятву подчинения, которая обязывает членов повиноваться всем ее капризам. Она вознаграждает их по своему усмотрению, но не одинаково, каждого по заслугам. Нужно отдать ей справедливость, до сих пор она умела поддерживать среди них образцовый порядок. Когда она выбирает любовника, он считается на все время, что длится ее благосклонность, принцем братства. Этому предшествует особая церемония посвящения. Все обязаны относиться к нему с почтением. Ревнивцы, забияки, ворчуны безжалостно изгоняются. Остальные повинуются, ждут и надеются на то, что придет и их черед. Часто они надеются тщетно, но все же счастливы своей принадлежностью к братству, которая позволяет им находиться в обществе царицы Помпеи и принимать участие в ее празднествах. Эта привилегия дает большие преимущества. Многие из ее поклонников, даже те, которые не добились особой ее благосклонности, сделались префектами, военачальниками, преторами. Она их не забывает, защищает их в случае надобности, если они продолжают повиноваться ей. Вот почему, вероятно, члены братства гордятся своим положением, а те, кто к нему не принадлежит, злословят и завидуют им. Короче, все порицают пороки царицы Помпеи, но все за ней ухаживают. Ею гнушаются, но ее обожают; ее желают, но боятся, потому что она обладает очарованием и могуществом. Я чуть было не забыл сказать тебе, любезный Омбриций, чтобы дать тебе возможно полные сведения, что Гедония Метелла не верит ни в чудодейственных богов жрецов, ни в инертного и абстрактного Бога философов. Это явное безбожие могло бы очень повредить ей в высших сферах, если бы она не подчеркивала публично своего культа божественности цезаря, что освобождает ее от всякого подозрения в безбожии. Говорят также, что она втайне поклоняется Гекате в маленьком храме, расположенном в ее саду в Байях. Но никто не проникал в этот храм, и она запрещает говорить о нем. Это тайна. Вот, счастливый трибун, все, что я знаю.
— Этого достаточно, чтобы обещать мне интересный вечер, — сказал трибун, вставая с надменной улыбкой, которой он улыбался всегда, когда при нем говорили о роскошных женщинах или о богатствах, но в которой всегда сквозила нотка зависти и желания.
— Я боюсь танцевать у этой колдуньи, — сказала Миррина. — Она меня заворожит.
— Что ты! — сказал Омбриций. — Она сделает тебе роскошный подарок, который принесет тебе счастье на всю остальную твою жизнь.
Трибун надел тогу. Симмий застегнул на плечах танцовщицы плащ, совершенно скрывший ее фигуру, и все трое вышли из дому.
* * *
Дом Гедонии был весь освещен лампадами. В сопровождении номенклатора Симмий, Миррина и Омбриций прошли через целую анфиладу атрумов, перистилей, галерей и залитых светом лабиринтов. Колонны из яшмы и порфира сменяли одна другую. Мифологические сцены пестрили выкрашенные красной краской стены гирляндами прекрасных тел, цветником белых, розовых и коричневых форм. Стройные эфебы и нежные богини улыбались в нишах. Терракотовые амуры резвились в клумбах цветов. Они застали хозяйку дома окруженной дюжиной молодых людей в патрицианских хламидах, застегнутых аграфами, фибулами и камеями. Группа эта находилась в нимфеуме. В глубине полукруглой залы, в куще тонкой листвы и водяных растений, полулежала мраморная нимфа. Из склоненной урны богиня тихонько лила струйку воды в бассейн, скрытый кустами водорослей. Вдоль стен комнаты тянулись каменные скамьи. Впереди нимфы, у затененного фонтана находились три кресла. На среднем, покрытом подушками из виссона, восседала Гедония Метелла в пурпуровом пеплуме с золотым поясом. Волосы ее были причесаны наверх и сдерживались сзади сеткой из драгоценных камней; на лбу ее сверкала диадема. Индийский шарф из вышитого цветами розового шелка был накинут на ее шею и обвивал обнаженные руки. Локон черных блестящих волос нежно спадал на шею, как змея, усыпленная сильным запахом.
Омбриций видел эту женщину только один раз, в день свадьбы Гельвидия, на форуме, в носилках. Надменные черты ее запечатлелись в его глазах. Теперь он был поражен нежной прелестью, струившейся в этой красоте. Над пышной грудью возвышалась шея, стройная, как горлышко амфоры. Властный, широкий лоб, овал лица, гордость линий выдавали в ней знатную римлянку. Но подвижная гибкость шеи, широкие вздрагивающие ноздри выдавали африканку. Трудно было представить себе что-либо изменчивее прихотливого изгиба ее рта, с уголками, приподнятыми с кошачьей нежностью или опущенными с тонкой иронией. Большие черные глаза царили надо всем, непроницаемые и пристальные глаза, как у диких зверей пустыни, бесстрастные зеркала, беспокойная глубина которых с одинаковым равнодушием отражает багряное небо и песчаные вихри.
Увидев Омбриция, Гедония смягчила огонь своих глаз, прищурила веки и приветствовала нового гостя грациозным жестом.
— Добро пожаловать в мой избранный кружок, благородный Омбриций. Мне давно знакомо твое славное имя по репутации, которой ты пользуешься в этом городе, но еще больше по твоим подвигам в Палестине. Я знаю, что ты — лучший солдат в армии Тита.
— Многие лета и слава Гедонии Метелле, — сказал Омбриций, склоняя голову. — Справедливо называют тебя царицей Помпеи. Но ты забываешь, что я в немилости…
— Ты так думаешь, любезный трибун? Какое заблуждение! Я знаю обратное и докажу тебе это, когда ты захочешь.
Омбриций подошел ближе. Они поговорили некоторое время вполголоса. Любопытные и подозрительные взгляды впивались в трибуна, но патрицианка тотчас же сказала:
— Мой новый гость, ты скоро познакомишься с членами моего братства. Я назову тебе пока только троих: они познакомят тебя с остальными… Вот, для начала, благородный Лентул, помпейский сенатор, мой старинный друг, мудрец и красноречивый оратор.
Омбриций увидел степенного магистрата, уже пожилого, с седыми волосами, который протянул ему руку, строгим взглядом окинув его с головы до ног.
— А вот, — улыбаясь продолжала Гедония, — восхитительный Флавул, поэт, воскрешающий для нас прекрасные времена Катулла — моего поэта!
Плешивый человек, раньше времени состарившийся, с дряблым и одутловатым лицом, изрезанным зеленоватыми от порочной жизни морщинами, поклонился Омбрицию. Мясистые губы его улыбались бесстыдной и тщеславной улыбкой.
— А это, — продолжала царица кружка, — благородный Крисп, римский всадник, юный годами, но уже великий надеждами, которые он подает.
Трибун ответил на церемонный поклон молодого человека, едва вышедшего из отроческого возраста. Тонкое лицо и фигура его представляли образец изящества и очарования. Все в нем было четко и тонко: нос, подбородок, руки, ноги. Взор его сверкал умом. В руке он держал кубок с грацией эфеба.
— Это новый владетельный принц, — шепнул Симмий на ухо Омбрицию.
— А теперь, — сказала Гедония, — продолжай, мой милый Лентул, и расскажи нам последние новости.
— Вот уже целая неделя, — сказал сенатор, — как в городе только и разговору, что о триреме декуриона Марка Гельвидия. Говорят, что он строил ее в Лигурии. Она называется «Изида» и представляет, будто бы, чудо из чудес. Ни одно из судов миценского флота не имеет такого мощного корпуса и таких роскошных парусов. С недавних пор ее отделывают в порте Стабии, но она тщательно охраняется свирепыми лигурийцами. Никто не смеет приближаться к ней. Вдали от наших обычных увеселительных барок, гордая трирема покоится на якоре и точно бросает вызов миру.
— Для чего же предназначается эта диковинка? — спросила Гедония.
— Говорят, что Гельвидий замышляет поездку во все крупные портовые города южной Италии. Говорят даже, что он намерен проехать в Грецию и в Египет, чтобы распространить там свои идеи об аристократическом правлении и образовать лигу вольных городов против римской империи и против цезаря. Несмотря на свое скромное и приветливое обращение, Гельвидий опасный человек. Он никогда не желал воздавать культа цезарю. А теперь со своей триремой он может прямо показаться царем или полубогом. Эти новые поклонники Изиды, пожалуй, опаснее секты христиан. Те бедны и невежественны и обращают в свою веру только рабов. Поклонники Изиды богаты и образованны и обращаются к избранному обществу. Они называют себя друзьями человечества, но такие же враги цезарю и римскому народу, как и христиане. Следовало бы принять суровые меры и против них.
— Что вы говорите про Гельвидия? — сказал поэт Флавул. — Он, по крайней мере, хоть красив и приятен. Но что такое этот жрец Изиды, которого он выписал из Египта! Видал ли кто-нибудь более мрачного и несговорчивого человека? Сумрачный и надменный, с пристальным и зловещим взглядом, он проходит по улицам, ни с кем не заговаривая, погруженный в свои мысли. Это плохо одетый призрак. Шкура пантеры, которую он носит на своих тощих плечах, оскорбление Вакху. Почему не устроят народного бунта, чтобы изгнать его из Помпеи?
— Вы говорите о жреце, любезный Флавул, но забываете о жрице, — сказал Крисп с тонкой усмешкой, становясь посредине комнаты, напротив Гедонии. — Говорят, что этот Мемнон отобрал ее где-то у разбойников Цикладских островов. Но эта девушка — уроженка Самофракии и далеко не низкого происхождения.
— Она хороша собой? — спросила Гедония, вытянув вперед голову.
— Она не красива, но своеобразна и прелестна. На улице ее можно видеть только под покрывалом, когда она отправляется к жене Гельвидия со своей старой нубийкой. Но я видел ее в храме Изиды во время жертвоприношения огня и благовоний, единственном, которое допускает культ Изиды. У нее чудесные золотые волосы и глаза цвета гиацинта. Говорят, что, когда она засыпает, в присутствии жреца, ей является Изида, и он совещается относительно того, как ему поступать со своими учениками. Изида же является ей иногда с ключом, иногда с зеркалом, иногда с бичом.
— Это верно, — серьезно сказала Гедония, — она изображена в египетских храмах с этими тремя эмблемами. Я заметила это, когда была в Египте.
— Но что обозначают эти три предмета? — спросили молодые люди, столпившиеся вокруг Криспа.
— Вот что. Когда Изида является с ключом, ученика принимают сейчас же с большим торжеством. Когда она является с зеркалом, его подвергают долгому испытанию, которое продолжается иногда много лет. Когда же она приходит с бичом, его изгоняют.
— Ударами бича! Символ ясен, — со смехом заметили молодые люди.
Трибун держался в стороне, вне кружка. Он чувствовал, что на него смотрят, и покраснел. Он горел желанием ответить резкими словами всем этим молодым фатам, но не мог этого сделать, не выдав себя. Он не двинулся и молчал.
— Вы говорите как профаны и по слухам, — сказала Гедония Метелла, возвысив голос. — Но, если я не ошибаюсь, среди нас есть действительно посвященный в культ Изиды, наш гордый трибун. Ведь это правда, Омбриций Руф?
— Посвященный — нет; я только ученик. Мой искус еще не окончился, — ответил Омбриций с некоторым замешательством, приближаясь к кружку.
— Не все ли это равно? — вполголоса проговорила Гедония вкрадчивым тоном и с самой обворожительной улыбкой. — В большом обществе я вполне понимаю твою скромность, но в частном разговоре… Приди, сядь возле меня, славный трибун. Ты мне расскажешь кое-что на ушко обо всех этих тайнах, хотя бы о волосах и глазах жрицы… Или ты поклялся не говорить и об этом?
Омбриций, в котором кровь кипела от тысячи противоречивых ощущений, сел рядом с патрицианкой. Гедония наклонилась к нему, снова окутав розовым шарфом обнаженные плечи. Они стали разговаривать шепотом. Это неожиданное внимание Гедонии вызвало сильное волнение в кружке юных гедонианцев. Сенатор принял еще более величественную осанку, морщины поэта Флавула позеленели, а красавец Крисп вздрогнул и выпрямился. Но он быстро успокоился. Как бы угадав тревогу своего любимца, Гедония воскликнула:
— Сядь здесь, Крисп. Довольно разговоров. Окончим этот прекрасный день танцами. Среди нас присутствует само олицетворение танца и Грации… Приди сюда, бесподобная Муза, отрада глаз, воздушное сладострастие, поэзия наслаждения… Приди сюда, Миррина!
— Слава танцам и танцовщице! — в один голос воскликнули юноши.
Все разместились в полукруглой комнате.
Миррина вышла из галереи, где она переодевалась перед медным зеркалом, и показалась, озаренная светом бесчисленных лампад.
На ней была только прозрачная, как облако, голубоватая туника, под которой стройные формы ее тела колебались как водоросль под зыбкой водой. Крылатое насекомое из берилла сверкало в ее черных волосах. Глаза ее, искрящиеся радостью, сверкали тем же блеском. Она низко поклонилась царице Помпеи, сложив обе руки. Две девушки, с флейтой и тамбурином, сидевшие в противоположных концах комнаты, заиграли, и Миррина начала танец пчелы под звуки музыки, напоминающей жужжание шмеля. Сначала она увидела пчелу вдали и делала движения рукой, как бы следя за линией ее прихотливого полета. Постепенно пчела приближалась к ней, она стала делать умоляющие жесты, склоняла голову и корпус то вперед, то назад. Но невидимая пчелка как будто спускавшаяся все ниже на глазах присутствующих, по-прежнему подлетала, к отчаянию Миррины. Наконец, она внезапно опустилась на танцовщицу, кружась с такой быстротой, что та была почти ослеплена. Пчела садилась ей то на грудь, то на руку, то на лицо. Но тщетно пыталась девушка поймать ее. Она улетала и возвращалась все с большей настойчивостью. И вдруг Миррина вскрикнула и сделала резкий пируэт, как будто злое насекомое ужалило ее. Тогда танцовщица, в безумном страхе, тяжело дыша, принялась кружиться с такой быстротой, что враги, казалось, то и дело вырывались и настигали друг друга. Миррина превратилась в крылатое существо, в женщину-пчелу. Вдруг она остановилась, неподвижная, прямая, как стрела. Торжественно, жестом греческой корзиноносицы, она сняла со своих волос запутавшуюся в них пчелу. Смиренно преклонив колена перед хозяйкой дома, она поднесла ей на раскрытой ладони берилловую пчелку.
Крик восторга вырвался из двенадцати грудей, и царица Помпеи воскликнула: «О, несравненная из танцовщиц, отныне я буду называть тебя не иначе, как божественной Мирриной!» И, отколов с тонкой пурпуровой ткани, облекавшей ее грудь, великолепную камею, она протянула ее любовнице грека, потом притянула к себе ее голову и крепко поцеловала в губы сияющую и почти обезумевшую от радости артистку.
Во время танца Гедония Метелла переводила то влажный, то пламенный взор с Омбриция на Криспа, так что и тот, и другой испытывали большое смущение. Между тем кружок молодых людей теснился вокруг Миррины, осыпая ее поздравлениями и похвалами: «Божественная Миррина, — говорил один из них, — твоих губ коснулись уста Гедонии Метеллы… Они обладают теперь волшебной властью… Подари мне один поцелуй… только один… Это принесет мне счастье у нашей царицы!» — «Нет, мне!» — говорил другой. «Мне, мне!» — «Всем!» — кричали они хором. Еще запыхавшаяся от танца, с влажной, разгоряченной шеей, Миррина смеялась, бросала отдельные слова, вскрикивала и фыркала среди группы мужчин, как взмыленная лошадь после быстрого бега. Она уже готова была уступить настояниям молодых безумцев, но строгий взгляд Симмия остановил ее, и, вся сияя, она подошла к нему.
Между тем три друга Гедонии, сенатор Лентул, поэт Флавул и пылкий Крисп, расположились перед своей богиней, все еще сидевшей посреди нимфеума, под купами зелени, возле тихо журчащего фонтана.
— Чтобы достойным образом завершить этот чудесный праздник, — сказал Флавул, — мы просим нашу волшебницу предсказать нам будущее.
— По глазам или по руке?
— И по глазам и по руке.
— Хорошо. Я начну с тебя, Лентул.
Взяв руку сенатора, она устремила свои большие глаза на печальные глаза магистрата.
— Радуйся, Лентул, — сказала она через минуту, — ты скоро будешь дуумвиром Помпеи.
Слова эти только омрачили седого магистрата. Он высвободил свою руку из рук гадальщицы и сказал:
— Вместо того, чтобы быть дуумвиром этого города весь остаток своей жизни, я предпочел бы быть один только день принцем братства Гедонии.
— Да ведь ты же был им в течение трех месяцев, — сказала она веселым тоном, — а ты знаешь, что я не люблю дважды награждать этим титулом одного и того же друга, каковы бы ни были его заслуги и достоинства. Но все равно… надейся… Гедония ничего не обещает, но дает все в один день… если этого захочет быстроногая Гора.
Подошел Флавул с умоляющим взглядом и горькой усмешкой, как будто бы он сам смеялся над собой и в сотый раз обращался с просьбой, не имея никакой надежды на ее исполнение. Гедония небрежно взяла его руку и искоса взглянула в беспокойные глаза плешивого кутилы.
— Что же мне предсказать тебе, злополучный поэт? Музы сердятся на тебя, потому что ты приносил слишком обильные жертвы Венере. Ну, хорошо, я открою тебе то, что читаю в твоих глазах. За прекрасные стихи, которые ты написал мне, ты получишь венок от Тита и бюст твой будет поставлен в его библиотеке.
Флавул смиренно поцеловал руку Гедонии и проговорил:
— Благодарю тебя, о Киприда! — потом прибавил жалобным тоном с трагикомическим выражением: — Бюст! Бюст! Как это холодно и печально! В один прекрасный день этот бюст будет выброшен в Тибр, и через две тысячи лет, когда я буду представлять собою лишь прах и грязь, какой-нибудь германский или галльский ученый напишет о нем комментарии. Бюст, который издевается над своим оригиналом, потому что он остается молодым, а тот старится. Бюст, который говорит вам: «Я бессмертен, а ты нет!» Ах я отдал бы все бюсты в мире за то, чтобы провести, живым, одну ночь в Байях с Гедонией Метеллой в храме Гекаты!
При этих словах Гедония вздрогнула, глаза ее вспыхнули и властная голова выпрямилась на гибкой шее, как головка змеи.
— Замолчи! — кратко сказала она. — Ты не знаешь сам, что говоришь.
— Но ведь это твоя богиня!
— Культ ее, если и существует, касается только меня одной. Никто никогда не входил в ее храм со мною… и никто не смеет никогда говорить об этом! Ты нарушил самый строгий закон моего братства. Я приговариваю тебя к месяцу молчания.
— Для поэта это жестокое наказание, — сказал сенатор, усмехаясь над поражением товарища.
Огорченный Флавул опустил голову. Молодые люди переглядывались, трепеща перед хозяйкой дома и ее демонической богиней. Гедония плотнее натянула шарф на плечи и побледнела. Глаза ее стали остры, как два стальных клинка. Огненная атмосфера, исходившая от ее тела, вдруг стала холодна как лед. Стесненный этим внезапным ощущением холода, Омбриций встал и перешел в галерею, чтобы невозбранно наблюдать оттуда за происходящим.
Красавец Крисп подошел к Гедонии и проговорил уверенным тоном:
— Я буду скромнее. Я не претендую на угадывание будущего и не желаю ничего знать о нем. Я слишком счастлив настоящим. О, если бы оно продолжалось подольше! И так как в настоящее время я — принц братства Гедонии, то я прошу разрешить мне облобызать божественную ногу ее в знак верного моего подданства нашей царице. Это моя привилегия, и я горжусь ею.
— Это твое право, — шепнула Гедония, снова повеселев.
— Смотри хорошенько, — сказал Симмий на ухо трибуну, — сейчас состоится церемония посвящения.
Раб принес табурет из слоновой кости, покрытый виссоном, и поставил его перед своей госпожой. Она положила на него обнаженную ногу, обутую только в тирскую сандалию. И эта нога, прекрасная, как бледный янтарь и прозрачная, как алебастр, озаренная светом лампад, приковала взоры всех. Преклонив колена, Крисп благоговейно поцеловал ее, потом прижался лицом к подушке. Тогда Гедония поставила ногу на его шею, и розовые ноготки ее впились в нее, оставив на ней красные следы. Он встал, сияя от восторга. Молодые люди окружили его с поздравлениями, а два отвергнутых претендента остались в стороне, печальные, но покорные.
— Ну, что же, любезный Омбриций, как тебе понравился мой церемониал? — спросила патрицианка, подозвав трибуна.
— Я скажу, что эта ножка — восьмое чудо мира и что у азиатских цариц не найти подобной. Несомненно, что у жены Дария, которую Александр не захотел видеть, чтобы не поддаться ее чарам, не было такой прекрасной ножки. На месте Александра я взял бы жену Дария, но не потерпел бы ее ноги на своей шее. Никогда ни одна женщина не заставит меня примириться с этим.
— Так ли ты в этом уверен?.. — с иронической кротостью прошептала дочь Метеллия, склоняя к нему голову.
— Безусловно уверен.
— Тогда ты не сможешь быть членом нашего братства.
— Честь, которую ты мне предлагаешь, велика, — сказал трибун. — Я очень тронут твоим вниманием, но боюсь, что недостоин его. Благодарю тебя за твою благосклонность, и прощай. Приветствую в твоем лице самую прекраснейшую и могущественнейшую из римлянок!
— До свидания, Омбриций Руф! — звонким голосом проговорила Гедония.
В знак прощального приветствия он протянул обе руки и нагнул голову. Потом вышел, не простившись ни с кем из молодых людей. Пройдя шагов десять по галерее, он услышал голос Гедонии, крикнувшей ему вслед: «Берегись бича Изиды!» Он не обернулся и не ответил, но все собрание гомерическим хохотом отозвалось на это восклицание. Оно освобождало всех от гнета оскорбительной надменности, с которой отнесся к ним трибун. Презрительные возгласы придали его уходу видимость поражения.
Тотчас по выходе из залитых светом покоев Гедонии грек и танцовщица погрузились в мрак узких улиц города. Омбриций простился с Симмием, намереваясь отправиться в свой загородный дом.
— Как тебе понравилась царица Помпеи? — спросил эпикуреец.
Трибун, пришедший в мрачное настроение духа, помолчал с минуту, потом ответил сухим тоном:
— Она сильна, но я сильнее ее.
— Почем знать? Это написано там, наверху, — сказал грек, воздев руку к небу.
Падучая звезда прорезала августовское небо, как золотая змея с огненной головкой. Все трое видели, как она блеснула и погасла.
— Так, значит, ты веришь в богов? Обыкновенно ты говоришь, что их не существует, — сказала Миррина своему возлюбленному.
— Я верю в твою красоту! — ответил Симмий, закутывая зябкую подругу в теплый плащ.
И звонкий смех танцовщицы вдруг брызнул, как струя фонтана, и серебристым каскадом рассыпался в ночном безмолвии помпейских улиц.
XII Учитель и ученик
Омбриций провел тревожную ночь на жестком ложе своего дяди, покойного ветерана. Ловкая патрицианка влила в его вены рой ощущений, в которых он не мог разобраться сразу и которые причиняли ему теперь острое страдание. Если он испытывал к раболепной компании гедонианцев одно презрение, сама Гедония внушала ему совершенно иные чувства. Ее красота, богатство, могущество вызывали в нем прежние, казалось, забытые желания. С необычайным физическим очарованием, с широтой ее ума в ней соединялось своеобразное очарование, тайна зла, жившего в ней. Роскошное ее тело казалось беспокойным храмом; наукой его владел ее ум, религией — ее душа. Умышленно, жестоко, она возбудила чувственность трибуна, чтобы потом пронзить его беспощадной иронией. Он с трудом переносил злые и рассчитанные насмешки Криспа, но последние слова патрицианки: «Берегись бича Изиды!» впились ему в тело как парфянская стрела. Отравленная стрела!
«В конце концов, — говорил он себе, — она, может быть, права. Быть может, этот культ Изиды, это странное учение, лишь обширный заговор, замышляемый честолюбием Гельвидия и Мемнона? Они ищут учеников, чтобы сделать их послушными орудиями своих планов. Иерофантида служит им приманкой. Уж не обманывают ли они меня?» Нет, он не мог допустить, чтобы Альциона была их сообщницей. Но почему же он подчиняется всем их желаниям, их обрядам, соглашается на их коварные отсрочки? Сомнения эти, вначале едва ощутимые, стали разрастаться в нем с неимоверной силой, и вскоре за ними последовал ряд соблазнительных мыслей. Опасная волшебница, легкой рукой своей управлявшая буйной сворой честолюбивых притязаний и вожделений, уже завладела его умом. Разве Гедония Метелла не управляет обширнейшей из империй мира? Только от него зависит проникнуть в управление через нее? И для чего отказываться от этой великолепной карьеры? Разве его вознаградят за это сомнительные обещания жреца Изиды? Вознаградить его могла одна Альциона, но искренна ли она? Как все активные люди, Омбриций не выносил неизвестности. Чтобы разрешить эти отвратительные сомнения, он решил потребовать у Мемнона, чтобы брак его с иерофантидой был совершен немедленно, не дожидаясь путешествия в Элевсин. Для этого ему надо было получить сначала согласие Альционы. Перебрав в уме несколько предлогов, под которыми он мог бы получить тайное свидание с иерофантидой через посредство Гельвидии, Омбриций остановился на мысли сделать ей свадебный подарок.
Теплое осеннее утро жемчужной дымкой окутывало поля. Омбриций вошел в город через Сарнские ворота и отправился в торговые улицы, чтобы купить свой подарок. Под грубыми полотняными навесами, протянутыми над улицами для защиты от солнца, кишела пестрая толпа рабов. Перед открытыми ставнями лавок теснились деревенские пастухи с козами и баранами вперемешку со сварливыми вольноотпущенниками и болтливыми служанками. Все говорило о богатстве и изнеженности. Прохожие спотыкались о груды тыкв, апельсинов и дынь. Запах молодого вина, бродившего в широких глиняных амфорах, смешивался с чадом жаркого, вынимаемого из железных передвижных печей. Повсюду на навесах красовались ветки лавров, зеленого дуба и гирлянды цветов. Отсюда трибун перешел в менее людный, но столь же шумный квартал, рабочий. Здесь слышался стук вальков сукновалов, визг жерновов каменотесов и скрип резцов скульпторов. К звону монет в сундуках менял примешивался отчаянный стук молотков мастеров бронзовых изделий. Наконец, Омбриций остановился у одной лавки, в окне которой было выставлено множество статуэток из слоновой кости. У входа стоял мальчик.
— Где хозяин? — спросил Омбриций.
Мальчик отворил дверь и ввел посетителя в заднюю комнату. Здесь курносый грек распиливал надвое слоновый бивень.
— Покажи мне самую лучшую из твоих шкатулок.
— Для свадебного подарка? — спросил резчик, хитро подмигнув трибуну.
— Да.
— Я покажу тебе чудесную вещицу.
Из вделанного в стене шкафа грек вынул прелестный ящичек из слоновой кости. Рельефные группы маленьких амуров опоясывали четыре стороны его резвой толпой. На крышке полулежащая Венера смотрелась в зеркало. Поторговавшись о цене, Омбриций расплатился золотыми сестерциями, принесенными в кожаном кошельке. Потом он пошел к ювелиру и купил ожерелье из бледно-розовых кораллов, серебряные застежки и несколько ониксовых камей и положил все это в ящичек. Забрав свои сокровища, он отправился в более богатые кварталы. Здесь можно было увидеть только щеголеватых вольноотпущенников и разноцветных рабов с блестящей кожей и гибкими бедрами. Здесь также были лавки, но более нарядные, выставки новых тканей, прозрачных газов, оружия и ковров, перед которыми останавливались мужчины в тогах и женщины в столах с длинными шлейфами. На углах улиц журчали маленькие фонтаны, и чистая вода их весело бежала по канавкам между тротуарами из красного кирпича и белыми голышами мостовых. Сквозь бронзовые решетки виднелось богатое убранство домов, расписные колонны, белые статуи, тенистые сады. И всюду на мраморных порогах можно было прочесть выложенный из мозаики гостеприимный привет: «Salve», приглашающий прохожего зайти в дом.
Омбриций решил пойти к Гельвидии, каждый день видевшейся с иерофантидой, чтобы сообщить ей о своем плане. Обойдя с задней стороны дом Гельвидия, он увидел, что калитка в ксилос полурастворена. Вероятно, служанка гинекея забыла ее затворить. Трибун толкнул дверцу и вошел в частный сад декуриона, но вдруг вздрогнул и остановился, заметив Альциону в беседке из виноградных лоз. Она стояла перед ткацким станком, укрепленным на двух столбиках из лимонного дерева. На подвижной раме были протянуты сверху вниз нитки. Молодая девушка держала в руке челнок из слоновой кости и готовилась пропустить его сквозь основу, положив его на горизонтальную дощечку пяльцев. Трибун видел Альциону сзади, но он узнал ее по стройной фигуре, обрисованной складками пеплума, по перламутровой белизне шеи и по темно-золотистым волосам, свернутым в греческий узел. Тонкий луч солнца, пробивающийся сквозь зелень лоз, зажигал огоньки в этих чудесных волосах. Тихонько ступая по мелкому песку, он обошел кругом беседки и вдруг очутился перед Альционой.
Она уронила челнок, отступила на шаг и вскрикнула:
— Ты, здесь?..
Омбриций умоляюще протянул руки:
— Прости меня! Я искал Гельвидию, как вдруг увидел тебя. Тогда я решился подойти к тебе, потому что мне нужно поговорить с тобой, и потом… я принес тебе свадебный подарок…
— Свадебный подарок? — переспросила иерофантида, взглянув на трибуна мечтательными глазами, в которых затеплилось слабое любопытство.
— Вот он, — сказал Омбриций, поставив шкатулку на круглый столик из зеленой яшмы с тремя ножками в виде лап грифона, стоявший тут же, возле мраморной скамьи.
Прелестная шкатулочка с фризом из маленьких амуров и лежащей на крышке Венерой казалась живой группой миниатюрных богов. Она производила впечатление шаловливой толпы домашних гениев, расположившихся в каком-нибудь любовном приюте и играющих на полированной яшме стола, отражавшей их как в зеркале. Альциона села перед ящичком и восторженно рассматривала его. Она еще колебалась.
— Открой его! — шепнул Омбриций.
Альциона открыла ящичек, увидела камеи, застежки и вынула своей тонкой рукой коралловое ожерелье, застегивающееся маленькой розовой голубкой с распростертыми крыльями.
— Как это красиво! — сказала она, на минуту приложив ожерелье к шее, — но разве мне можно его носить? День обручения еще не настал. Срок твоего испытания еще не прошел.
— Не все ли равно? — воскликнул трибун с горькой усмешкой и пристально глядя на нее. — Если нам суждено расстаться, ты сохранишь это на память обо мне.
Альциона вздрогнула и проговорила прерывающимся голосом:
— Ты хочешь нас покинуть?
— Нет, но у меня есть подозрения относительно Мемнона… Он мой враг. Я боюсь, что он меня обманывает. Может быть, в конце, когда я все перенесу ради тебя, он все-таки откажет мне в награде, ради которой я готов был подчиниться всему. Альциона, эти испытания, ожидания, отсрочки убивают меня… Я не могу жить без тебя.
Альциона встала, сильно встревоженная. Она чувствовала, что сердце ее сильно бьется и в голове вихрем крутятся мысли.
— Друг мой, ты забыл о своем обещании и о том, что ты должен целый год пробыть учеником Мемнона.
— Как будто это так важно! От меня требуют слишком многого! Я не могу больше переносить это мучение. Во мне живет демон, который вырвется на свободу… я чувствую это… если ты не закуешь его в свои объятия… если ты не укротишь его, чтобы сделать из него бога, царя земли. Разве ты не обещала мне принести мне жертву. Ну, вот, час настал. Альциона, любишь ли ты меня?
В отчаянии Альциона закрыла лицо обеими руками.
— Так значит, ты меня больше не любишь? — сказал трибун.
— Я не люблю тебя!.. — воскликнула иерофантида, задыхаясь, и голова ее бессильно склонилась на плечо обнявшего ее молодого человека. Омбриций устремил пылающий, как факел, взгляд в фиолетовые глаза, в которых восторг зажег золотые искры. Опьяненный победой, трибун схватил голову иерофантиды обеими руками, как добычу, и впился в ее губы бешеным поцелуем. Ошеломленная необычным ощущением, Альциона едва не лишилась чувств. Она покачнулась в объятиях Омбриция, голова ее запрокинулась назад, лицо стало бело, как мрамор, губы полураскрылись, испуганные глаза побелели. Она упала на мраморную скамью, оперлась локтями о стол и, закрыв лицо руками, прошептала:
— Что ты сделал, несчастный?.. Изида, Изида… быть может, я уже больше не твоя иерофантида?
— Больше, чем когда-либо, — воскликнул Омбриций с уверенностью победителя, — ты моя иерофантида! Завтра я пойду к Мемнону и потребую, чтобы он немедленно разрешил нам повенчаться.
Альциона подняла на него полные муки глаза.
— И ты думаешь, что он согласится?
Трибун закинул тогу на плечо, потом, простирая руку с победоносным жестом, проговорил:
— Я уверен! Отныне я один твой властелин… и он должен считаться с моим желанием.
Позади беседки послышались шаги. Альциона вздрогнула.
— Уходи, умоляю тебя! — прошептала она. — Это Мемнон!
— Прощай, и до завтра, — шепнул Омбриций, едва успев выбежать в калитку ксилоса.
Это был не Мемнон, а Гельвидия. Она увидела волнение молодой девушки, увидела на столе шкатулку из слоновой кости и коралловое ожерелье.
— Откуда у тебя эта прелесть? — спросила жена декуриона.
— Это свадебный подарок Омбриция, — с печальным вздохом ответила Альциона.
— Уже? — Гельвидия улыбнулась и покачала головой.
Альциона с рыданием упала в объятия своей покровительницы, которая, догадываясь о происходящей в душе буре, утешала ее нежными словами и долгими ласками.
Сильный своей победой и горя нетерпением поскорее стряхнуть свое иго, Омбриций на другой день вошел в храм Изиды. Он застал у Мемнона Гельвидия. Оба, казалось, ожидали его, так как не выразили никакого изумления при его появлении.
— Я бы хотел поговорить только с тобой, Мемнон, — сказал трибун.
— Мы с ним составляем одно, — ответил Мемнон. — Мы соединены узами братства, при котором не существует тайн и доверие беспредельно. Я хочу, чтобы Гельвидий присутствовал при нашем разговоре.
— Тем лучше, — сказал Омбриций с притворной уверенностью, плохо скрывающей его замешательство. — Ибо я надеюсь найти в благородном декурионе поддержку для моей просьбы.
— Говори свободно, — сказал Гельвидий.
— Вот уж три месяца, — начал трибун взволнованным голосом, выдававшим глухое раздражение, — я аккуратно посещаю твои уроки, Мемнон. Я восхищаюсь твоим красноречием и твоей мудростью. Чтобы внимать словам Гермеса, обильным неожиданностями и тревожным светом, я бросил свою прежнюю жизнь, я забыл все. Но сегодня меня охватывают сомнения, неизвестность, беспокойство. Я хочу знать, куда меня ведут, хочу знать цель всей этой сокровенной науки, награду стольких усилий… Я люблю Альциону… Она любит меня… Она сказала мне это три месяца тому назад, в саду Изиды. Теперь она любит меня еще сильнее. Я знаю это, у меня есть доказательства. Ни она, ни я, мы не можем больше ждать. Прежде чем продолжать мой искус, я требую… да, я требую, чтобы Альциона была немедленно повенчана со мной.
— Ты просишь невозможного, — спокойно ответил Гельвидий, желавший смягчить отказ Мемнона. — Одумайся и вспомни о твоем торжественном обещании. Ты не можешь нарушить его и требовать этого священного союза до возвращения из Элевсина раньше, чем выйдешь победителем из всех испытаний. Усилия, которые ты делал до сих пор, ничто по сравнению с теми, которые предстоят тебе для того, чтобы заслужить жену, подобную Альционе, человеческую лиру, звенящую от дыхания божества. Будь же терпелив и жди. Награда твоя превзойдет твои надежды настолько же, насколько сегодняшнее твое желание стоит ниже истинной любви.
— Какая награда? — взволнованно спросил Омбриций.
— Позволь мне сказать тебе, трибун Тита, чего мы ждем от тебя и какие цели мы преследуем. Мы хотим восстановить в этом развратном и подкупном мире благородную иерархию героических времен, создание истинно посвященных умов, венец человеческой семьи, через чье посредство истина проявляется среди людей. Эти посвященные, из коих многие остались неизвестными толпе и вечную работу коих мы продолжаем, суть мистические цари человечества, цари могущественные, отрешающиеся от власти и всегда готовые к самопожертвованию. Мы хотим установить в городах и народах святую иерархию души и ума, образующих в невидимом небе живую империю, образ которой должен отражать истинный народ. Мы каждому отводим надлежащее место. Свобода должна завоевываться постепенно восхождением по лестнице совершенства. Мы почитаем богов, космические силы и божественные души, мы призываем их имена, создаем их символы. Но превыше всего мы почитаем державного и неисповедимого Бога, от которого исходят творческие Гении и вся Природа. Каждый бог соответствует бесконечной силе, каждая душа — ступени сознания. Мы располагаем души по их божественным свойствам и образуем их цепь. Мы с одинаковым упорством боремся против единоличной тирании, основанной на гордости, и против тирании масс, основанной на зависти. Мы сражаемся с оружием в руках, когда это нужно, но мы сражаемся только для того, чтобы освобождать, а не для того, чтобы подавлять. Чтобы дать свободу нашим ученикам, мы требуем полного подчинения, обучения и выдержки. Мы берем учеников для того, чтобы создавать учителей.
— Что же делают эти ученики в жизни? Как применяется ваше учение?
— Учение есть не более, как трепетная оболочка истины, солнца, мечущего миллионы стрел, но очаг его находится в центре — это живой огонь и называется он — Любовь. Чтобы поднять народы, погрязшие в изнеженности и преступлении, нет более сильного рычага, чем избранные пары. Любовь их излучает истину, а дети их несут в мир чистую и сильную жизнь. Ты, Омбриций, будешь обладать величайшей силой, если подчинишься нашим правилам. Иерофантида будет твоим светильником. Случалось, в героические времена дорийской расы, что жрица Аполлона проникалась любовью к герою и отказывалась от объятий бога, сообщающего божественность, чтобы стать супругой героя. И тогда оба они посвящали себя героической жизни. Они вели одинаковую жизнь и принимали одинаковую смерть на военной колеснице или на костре. Вместе они принадлежали солнечному богу во всех своих действиях, они сами и их дети. Ты нашел такую супругу, Омбриций, и Мемнон откажется от своей любимой дочери, от своей иерофантиды, при условии, чтобы ты был верен нам!
— Да, — сказал иерофант торжественным и твердым голосом, — я откажусь от своей Альционы, если ты сделаешься достойным ее.
— Что же необходимо для этого? — спросил трибун.
— Ты должен принести клятву Изиды.
— Какую клятву?
Мемнон устремил на своего ученика острый, как иголка, взгляд; потом, после некоторого молчания, продолжал:
— Прежде всего ты должен отказаться от земной славы, затем посвятить себя служению Истине. Наконец, должен беспрекословно повиноваться учителю до окончательного посвящения.
Искренние слова Гельвидия несколько поколебали трибуна, но при суровых требованиях жреца он снова почувствовал раздражение и сказал, пожав плечами:
— Истина, говоришь ты? Как ее узнать? И где она?
— В тебе самом. До тех пор, пока ты не поклонишься царственному богу, исходящему из сосредоточенной души, до тех пор ты не узнаешь, что такое Истина и не созреешь для посвящения, дарующего высшую свободу.
— Повиноваться учителю, не значит быть свободным.
— Если бы твой учитель приказал тебе что-нибудь противное твоей совести, ты будешь прав, если не исполнишь его приказания, но мы никогда не делаем этого, потому что у нас самих есть невидимые и более могущественные учителя, которые следят за нами и вдохновляют, удерживают нас и, в случае надобности, наказывают. Мы никогда не требуем ничего от своих учеников ради нас самих. Если бы мы сделали это хотя бы один раз, мы сейчас же лишились бы всех своих сил, приобретенных столь дорогою ценой. Мы требуем временного подчинения ради совершенного освобождения. Свобода приобретается только через победу над самим собою и через преданное служение высшей Совокупности, Единому. Гельвидий и я, мы оба будем твоими охранителями и руководителями. Готов ли ты принести эту клятву?
— Готов ли ты? — повторил Гельвидий, беря за руку трибуна.
Минута была торжественная, потому что клятва связывает бесповоротно. Возвышенные мысли Гельвидия пленили Омбриция, и он почти склонился к тому, чтобы принести требуемую клятву, но при словах Мемнона ему показалось, будто бич Изиды уже хлестнул его по спине. Рука декуриона, сжимавшая его плечо, представилась ему звеном огромной цепи, поднимающейся в бесконечное пространство и приковывающей его навеки. Охваченный снова подозрениями, униженный тем, что ему не удалось исполнить свою волю, он испытывал только одно стремление: избавиться от гнета. Он отвернулся и проговорил глухим голосом:
— Я дам ответ через неделю. Мне надо обдумать ваши слова.
Затем порывисто протянул руку декуриону и жрецу и вышел, не взглянув на них.
— Я надеюсь на благополучный исход, — сказал Гельвидий, когда Омбриций исчез.
— Не знаю, — ответил Мемнон, — у него опять был его прежний взгляд неукрощенного зверя.
XIII Клятва Гекаты
Омбриций злобно шагал по полю. Так велика была тревога его души и такой хаос царил в его мыслях, что ему казалось, будто он снова находится при осаде Иерусалима, под стрелами иудеев, и реки расплавленного золота текут с крыш горящих храмов. У дверей своего дома он увидел пожилого человека в коричневом плаще, с бегающим взглядом и точно вынюхивающим что-то носом.
— Не ты ли военный трибун Омбриций Руф? — спросил незнакомец.
— Да, это я.
Несмотря на пустынность места, человек тревожно оглянулся по сторонам и понизил голос:
— Я вольноотпущенник из дома Гедонии Метеллы. Госпожа моя приглашает тебя приехать к ней завтра в Байи на ее виллу. Она должна передать тебе важные известия.
— Кто мне поручится, что ты говоришь правду и что ты послан ею? — спросил Омбриций, всматриваясь в старика.
— Вот знак, — сказал вольноотпущенник, вынимая из-под плаща ониксовую камею, изображающую голову Медузы, которой Омбриций любовался в тот памятный вечер, увидев ее на поясе Гедонии Метеллы.
Это был знак ее царского достоинства в братстве гедонианцев.
— Ты можешь оставить его у себя. Госпожа приказала мне передать его тебе, — сказал слуга, загадочно улыбнувшись беззубым ртом, похотливыми, но пустыми от низости и угодливости глазами.
Трибун взял камею и подозрительно осмотрел ее.
— Я не знаю Байи, — сказал он. — Как я найду дорогу к этой отдаленной вилле?
— Завтра, в двенадцатом часу после солнечного восхода, тебя будет ждать барка у ворот Стабии.
— Где же мы пристанем?
— У храма Гекаты. Госпожа моя ждет тебя там.
— В храме Гекаты?! — воскликнул трибун, невольно вздрогнув.
Слова эти поразили его. Как! Гордая патрицианка, не позволявшая ни одному из своих друзей, даже пользующемуся особыми преимуществами, временному возлюбленному, принцу братства гедонианцев, приближаться к этому таинственному убежищу или даже произносить название его в ее присутствии!.. Как! Эта женщина, видевшая его только один раз у себя, хочет принять его в этом сокровенном святилище! Значит, она ставит впавшего в немилость трибуна выше всех остальных! Но какую же государственную тайну или какое мрачное волшебство откроет она ему? В какое чудесное приключение или в какую смелую интригу хочет она вовлечь его? Все эти мысли в несколько секунд пронизали мозг Омбриция. Его терзали страшные сомнения относительно его будущего. Сначала он хотел избавиться от них, потом решил позабыть о них на время. Гордость, любопытство и какая-то ненасытная жажда победили все его колебания.
— Хорошо, — проговорил он наконец, — скажи твоей госпоже, что я приду.
— До завтра, — сказал вольноотпущенник и удалился, прихрамывая.
* * *
Солнце склонялось к морю между Капреей и Миценским мысом, когда барка трибуна наискось перерезывала бухту Неаполиса. Могучее светило ласкало зачарованный залив своими огненными лучами. Города, виллы, берега и острова — все горело, все трепетало под легкой дымкой прозрачного пурпура. Окруженный кольцом гор, дивный Парфенопейский залив походил на золотой кубок вакханки. Дикий виноград гирляндами обвивал его чеканные края, и в волшебной влаге своей он поглощал и усиливал темную лазурь неба. Но когда барка приблизилась к Байи, солнце уже погрузилось в море. За мысом Соррентума остров Карпеи выделялся порфировым сфинксом на раскаленном оранжевом горизонте. Вместе с сумерками на землю и на неподвижную поверхность залива упала тяжелая истома. Омбриций заметил, что барка направляется к маленькому, лесистому мыску, отвесно падающему в море. Наверху этой крутой и недоступной скалы из какого-то здания шел слабый свет. «Это храм Гекаты», — сказал вольноотпущенник трибуну. Была уже глубокая ночь, когда они пристали к берегу за этой скалой, в маленькой бухточке, охраняемой ливийцами. Сад поместья тянулся по вулканической и сернистой почве, составлявшей особенность путеолийской бухты. Здесь почва постоянно подвергается работе подземного огня. Всюду пепел, пемза, булыжник, покрытый кристаллизовавшимся металлом, желтой или голубоватой серой. Иногда в один день из земли появляются маленькие горы, остроконечные вершины из раскаленного пепла, опустошающие поля и леса. Но зыбкая почва эта покрыта роскошной растительностью. Там и сям дымятся трещины, и горячая вода журчит и бурлит под каменными глыбами. Гедония выстроила свою виллу в бухте, скрытой от всех взглядов. Омбриций пошел за своим проводником. Он заметил рабов, несших факелы. Вольноотпущенник привел его к воротам рощи Гекаты, занимавшей заднюю часть мыса, отделенную стеною от сада. Здесь они нашли ливийца, вооруженного как центурион, в кирасе и с мечом. Он подозрительно оглядел трибуна, по-видимому, узнал его и, впустив его в ворота, тотчас же запер их опять.
Оставшись один и как бы в плену, несколько смущенный гость патрицианки пошел по узенькой дорожке, поднимавшейся в гору между пробковыми дубами. Изредка он замечал в нишах из листвы гигантские мраморные урны, статуи императоров или величественных матрон. Дойдя до перекрестка, Омбриций увидел двух женщин в длинных серых покрывалах. По-видимому, они ждали его. Он с любопытством осмотрел их. Одна, высокая и худая, протянула руку по направлению к крутой тропинке, уходившей в густую чащу, потом приложила палец к губам. Вторая, показавшаяся ему моложе, дотронулась до его руки и прошептала: «Это там!» Он прошел, пробираясь в глубоком мраке сквозь деревья. Наконец он очутился на маленькой площадке, откуда открывался дивный вид на потемневший залив. В Путеолийской бухте блестели огоньки многочисленных увеселительных судов. Омбриций наклонился над обрывом. В эту минуту мимо мыса прошла освещенная барка. Украшенная яркими светильниками и факелами, она скользила по темным волнам как корзина цветов. Она была переполнена молодыми людьми и женщинами, которые сидели, стояли или лежали парами на носу и на корме. Полная неги песнь, звучавшая в такт ритмическому движению весел, донеслась до него.
«О блуждающий Вакх, нежный и неукротимый бог, вернулся ли ты к нам? Обманутый девственницами, вспомнил ли ты о смеющихся вакханках? Их армия приветствует тебя. Ищи, ищи свою супругу. Вакханок тысячи, и только одна — Ариадна!.. Мы расцветаем под ласками, мы задыхаемся от лобзаний. Ариадна же тоскует, Ариадна умирает. О, Вакх, Вакх, вернись к своей богине!»
Барка удалялась, глядясь красными огоньками в темную воду. Песнь замерла, уносимая порывом ветерка. У Омбриция закружилась голова, и он испуганно отступил от обрыва. Обернувшись, он увидел, что находится перед портиком из четырех колонн, ведущим в темный грот, в глубине которого мерцал свет. Бесстрастный, как изваяние, ливиец еще более свирепого вида, чем первый, стоял у входа. Волнуемый противоречивыми чувствами, трибун спрашивал себя, не убьют ли его здесь по повелению цезаря за заговор с поклонниками Изиды. Он крепко сжал кинжал, спрятанный под тогой, готовясь защищаться не на жизнь, а на смерть. Потом решительно вошел в пещеру. Велико было его изумление, когда, пройдя темное пространство, он проник в небольшой грот, украшенный ветками и цветами и ярко освещенный эмалевыми лампадами с крылатыми купидонами. В глубине, на пурпуровом ложе, покрытом шкурой пантеры, полулежала Гедония. На ней было одеяние Ариадны, царицы Вакханок, — перекинутая на груди и боках небрида[2] и поверх нее розовая туника из легкого прозрачного и волнистого газа.
Она смотрела на него молча, продолжая держать его руку, словно желая вполне овладеть им. В этом роскошном одеянии полунагой богини, с широко раскрытыми неподвижными глазами, похожими на темные и пламенные цветы, Гедония показалась ему совершенно новой женщиной. От ее взгляда и теплой руки в тело трибуна переливались такие могучие и властные флюиды, что он упал на колени, как бы подкошенный слишком крепким напитком.
— Я уже давно жду тебя… Омбриций Руф… с того дня, как бросила тебе розу… Ты помнишь? Почему ты так долго не приходил?..
— Должно быть, я боялся тебя… но теперь… взгляд мой обнимает тебя в первый раз!
Обеими руками он сжал обнаженные руки патрицианки и хотел обнять ее за шею, чтобы приблизить ее уста к своим. Но она остановила его повелительным жестом:
— Что ты делаешь? Ты еще не имеешь права коснуться уст Ариадны… — И с внезапной серьезностью прибавила: — Не забывай, что ты в храме Гекаты. Надо сначала, чтобы моя богиня разрешила тебе это… и я тоже.
Омбриций хотел встать. Но она заставила его вновь опуститься на колени, положив ему на плечо руку.
— Понюхай эту розу, чтобы успокоиться, — сказала она. — Ну, не противься же, дитя!
С этими словами Гедония поднесла к лицу молодого человека большую розу, которую сняла с своей груди из-за края оленьей кожи, и заставила его долго вдыхать ее аромат. При прикосновении цветка, при ощущении его свежей, почти телесной влажности и восхитительного запаха Омбриций едва не лишился чувств и закрыл глаза. Она продолжала нежным голосом:
— Они мучали тебя, там… в храме Изиды, не правда ли? Я догадываюсь о многом.
— Да, — резко ответил Омбриций.
Она тотчас же прибавила с жадным взглядом:
— Расскажи мне все.
— Я не могу теперь, — сказал он. — Сегодня… Я хочу забыть.
И от отвел взгляд от пытливых глаз, горевших страстным огнем. Еще раз он сделал движение, чтобы подняться с колен, но, изогнувшись как пантера, Гедония схватила голову трибуна обеими руками и пристально заглянула ему в глаза:
— Тот ли ты, кого я жду? — воскликнула она. — Тот ли ты, кого я желаю? Кого хочу… Отвечай?!
— Кто же, кто? — спросил испуганный Омбриций.
— Ты скоро это узнаешь.
— Но ты, кто же ты сама? Я тебя не знаю.
— Это правда. Так слушай же.
Омбриций сел на бронзовое кресло, и Гедония, снова принявшая свою гордую и спокойную позу на ложе Ариадны, заговорила:
— Я вышла, как Афродита, из океана, кишащего чудовищами. Меня спасла от их щупальцев и хищных зевов перламутровая раковина, ибо всегда, подобно пене морей, вокруг меня кипели празднества и наслаждения. В детстве своем я видела Нерона, любовавшегося тем, как львы пожирали девственниц, сжегшего Рим и постоянно изобретавшего новые казни. Да, я видела этого страшного безумца среди его презренных сообщников и царедворцев, его гистрионов, и сам он был гистрионом, считавшим, что мир создан для его забавы. Я видела, как это чудовище слепо повиновалось загадочной улыбке белокурой и развратной Поппеи. Потом я видела скупого и мрачного Гальбу, достойного, самое большее, быть сборщиком податей и убитого, как и следовало, его легионами. Я видела, как слабый Оттон лишил себя жизни после проигранного сражения и как глупого лакомку Виттелия повлекли к Гемонским ступеням с связанными за спиной руками, приставив к подбородку его острие меча. Я вышла замуж за проконсула Карната. Когда умер этот достойный человек, которого я любила… (здесь Гедония улыбнулась такой вкрадчивой и предательской улыбкой, что Омбриций невольно подумал, не отравила ли она действительно этого богатого старика, как предполагали в Риме), я осталась одна в целом мире, еще молодая, обладающая тем женским обаянием, которому и простые смертные, и выдающиеся умы подчиняются без зависти, потому что они извлекают из него пользу и потому что оно скрашивает их жизнь. Но вокруг себя, в этой толпе рабов, трусливых всадников, угодливых и тупоумных сенаторов, я искала человека достойного этого имени. Сначала я думала, что нашла его в лице Цецины. Презренный!.. Он обманул меня. Он неблагодарный трус. Но когда-нибудь он еще раскается в этом…
Здесь Гедония опустила уголки своих хищных губ, принявших очертание натянутого лука, с которого готова сорваться стрела. Но, быстро изменив это горькое выражение, они снова приподнялись извилистой линией, полной неги и желания.
— Я привязалась к Титу и его жене. После измены Цецины я поняла… я почти увидела того, кто предназначен мне судьбою. Я хотела бы, чтобы он был красив, как Адонис, порывист, как Ахилл, силен, как Брут, как девственный цезарь. И я разделила бы с ним свое могущество. Я говорила себе, что с ним у меня будет сила, чтобы завоевать мир, покорить целую империю. Я буду непобедима, как Амазонка, вооруженная копьем! Я тщетно искала его… и, наконец, увидела на форуме Помпеи из-за занавесок моих носилок в тот день, когда я встретила тебя!..
— Меня? — в замешательстве спросил Омбриций. — И что же… что же ты хочешь сделать из меня?
— Великого человека. Не надо говорить об этом, ты узнаешь это впоследствии, а пока доверься мне.
С этими словами Гедония ударила в бронзовый шар, укрепленный на треножнике. Две служанки, которых Омбриций видел в роще, вошли из двери, скрытой в выступе пещеры, и накинули на Гедонию серый плащ. Ариадна превратилась в строгую весталку.
— Следуй за мною, — сказала она.
Они миновали темную часть пещеры и вышли на маленькую террасу, откуда открывался вид на Байи с их огнями и на весь залив Неаполиса. Вершина Везувия сияла красноватым заревом, отражавшимся в море как огненный султан.
— Видишь ли ты этот залив? — сказала Гедония. — Это зеркало моего могущества. Я чувствую себя его царицей и черпаю из него свою силу, но власть моя простирается гораздо дальше. Хочешь ли ты разделить ее со мною?
— Разделить ее… с этими призрачными, сменяющимися принцами твоего дома… с этими игрушками твоего каприза… с этими ничтожествами, которых я видел ползающими у твоих ног?
— Нет, ты Единственный, Избранный. Завтра, если ты захочешь, они будут ничем — ты же будешь всем!
При этом обещании Омбриций тихонько обнял одной рукой женщину, как будто сделавшуюся неосязаемой под одеянием жрицы, и сказал:
— Будь же для меня Ариадной.
Она не уклонилась от его нервной руки, сжимавшей ее все сильнее, и продолжала с тою же вкрадчивой нежностью:
— Хорошо, но с условием, что в объятиях моих ты сдержишь клятву Гекаты.
— Мне говорили, что Гедония Метелла не верит в богов.
— Это правда. Боги — призраки, при помощи которых управляют людьми.
— Однако же ты поклоняешься божеству?
— Да, только одному, и без него я не могла бы жить, потому что таинственная моя сила исходит от него. Я не знаю, я ли его создала, или оно создало меня такой, какова я есть. Но оно существует в тени… вокруг меня. Оно посещает меня и то повинуется мне, то само повелевает мною. Оно и я — мы составляем одно. Сейчас я покажу тебе свою богиню.
Охваченный против воли необъяснимым страхом, Омбриций колебался. Но Гедония решительно взяла его за руку и привела обратно в большой грот, где горело теперь несколько факелов у подножия стоящей в нише статуи. Освещенный подвижным светом факелов, сталактитовый грот казался залой адского дворца, где пламя струилось со свода и змеиными изгибами извивалось вдоль стен. Но Омбриций видел только величественную статую и стоял безмолвно, пораженный ее грозной красотой. Закутанная в плащ из черного, блестящего мрамора, с белым, как воск, лицом и красноватыми глазами, статуя эта походила на Гедонию Метеллу, но это была Гедония тоньше и выше ростом, зловеще бледная и со страшным выражением лица. В правой руке она держала окровавленный меч, вертикально упирающийся в землю, в левой — маленькую крылатую Победу. Омбриций чувствовал, что леденеет от ужаса. Воля его словно съежилась, ушла куда-то в глубь его существа, и он не знал, останется ли она там навсегда или воспрянет от внезапного нервного напряжения. Медленно, торжественно Гедония развернула темное покрывало, окутывавшее ее, и накинула его на Гекату, потом возложила на голову богине диадему в виде полумесяца, сверкавшую в ее волосах, и упала на колени перед статуей.
— Геката, — проговорила она вполголоса. — Единая богиня! Тебе приношу я эти дары. Могущественная властительница, мое второе я, помощница и мстительница, я обещаю тебе посвятить себя этому человеку, если он посвятит себя тебе ради общего дела… если он сдержит клятву.
Она зачерпнула рукой воды из горячего источника, бурлившего в мраморном бассейне, и окропила ею Омбриция со словами: «Да будет он освящен для нашего дела». Поднявшись с колен, она предстала перед ним царственно прекрасная, в розовой и прозрачной тунике Ариадны, с сверкающими торжеством глазами. Потом осторожно вынула из складок воздушной ткани спрятанный на ее груди кинжал и подала его Омбрицию, приложившись к нему губами.
— Поклянись Гекатой, — проговорила она глубоким и почти мужским голосом, — поклянись, что будешь моим на жизнь и смерть. Поклянись на этом священном оружии, что будешь действовать, как это холодное лезвие в моей горячей руке, — и я сделаю тебя сильным из сильных, великим среди великих. Поклянись, что будешь повиноваться мне так, как я повинуюсь Гекате.
— И ты будешь моею?
— Сейчас же и навеки.
Омбриций впивал упоительную влагу этих слов вместе с дыханием ее уст. Он видел под розовым газом янтарное плечо царицы вакханок, выступавшее из-под пятнистой шкуры небриды. Он чувствовал, как лучи этих пристальных глаз проникают в его мозг, подобно тонкому лезвию кинжала, который Гедония протягивала ему на нежной ладони своей руки… и трепетал… потому что чувствовал, что поклянется помимо своей воли. Она следила за ним в полном самообладании, уверенная в победе, все больше и больше приближаясь к нему. Вдруг она положила руку на плечо трибуна и сказала с едва уловимой усмешкой:
— Поклянись мне прежде всего, что не вернешься более к жрецу и к жрице Изиды.
— Альциона! — Омбриций отвернулся со стоном, как будто внезапно поднявшись из бездны океана в трепетный звездный свет.
— Да, — продолжала Гедония, приближая стальное острие к губам трибуна, — она мой враг. Нужно сделать выбор между Альционой и мною!
При этом нежном имени, произнесенном с оттенком ненависти, Омбриций, как при блеске молнии, увидел восторженную иерофантиду и лучезарные пути, открываемые в бесконечности глаголом Гермеса. Лицо и взгляд патрицианки превратились в лицо и взгляд Гекаты. И он решительно воскликнул:
— Нет!.. Никогда!
— Тогда прощай! Ты такой же трус, как и остальные… — сказала она шипящим голосом, потом прибавила надменно: — Но горе тебе, Омбриций Руф, приверженец секты Изиды и враг Империи! Горе твоему учителю и твоей жрице!
При этой угрозе, соединенной с оскорблением, трибун почувствовал, как вся кровь его сердца прилила к его мозгу волной необузданного гнева и желания.
— Зачем ты заманила меня сюда, — воскликнул он, — если я тебе не нужен? Ты раздражала меня, как гладиаторы раздражают в цирке львов. Но трепещи же и ты, Гедония Метелла! Ты насмеялась над римским всадником, но я отплачу тебе. Знай, что я не раб твой… а твой господин!
С этими словами Омбриций резким движением разорвал газ, окутывавший Ариадну. В первый раз испугавшись, Гедония стремительно ринулась в глубину пещеры. Здесь она обернулась и, защищаясь от трибуна, все еще старавшегося схватить ее, сильно ранила его в руку кинжалом. Но Омбриций вырвал его у нее, чуть не вывернув ей кисть руки. Во время борьбы он нечаянно нанес ей легкую рану в шею, над небридой. Гедония вскрикнула и опустилась на ложе, запрокинув голову на изголовье. Глаза ее закатились, и из-под век виднелись только белки. Испуганный Омбриций, думая, что она умерла, наклонился над прекрасным телом своей гордой жертвы и невольно приник губами к янтарной шее, на которой виднелась капля крови. И в страстной тревоге выпил эту каплю. Она глубоко вздохнула, он отстранился. Тогда она медленно поднялась. Большие глаза ее заволокла влажная дымка. Она казалась растроганной и таинственно прошептала:
— Ты выпил мою кровь… Теперь ты принадлежишь мне!.. и безвозвратно…
Трибун стоял, пораженный, словно молнией, этими властными словами, которыми искусная волшебница снова овладела своей непокорной добычей.
Слова эти проникли до самых сокровенных глубин его существа. Мятежное и обезоруженное, сердце его поняло это торжество побежденной, на самом деле готовой связать своего победителя. Страх сжал его горло, и он пролепетал:
— Что ты хочешь сказать?
Она встала и продолжала:
— Гордое дитя, безрассудный атлет! Так ты ничего не понимаешь? Ты не знаешь, значит, что случилось? А, ты не хотел принести клятвы! Я больше не требую ее у тебя! Ибо ты выполнил обряд Гекаты и более верным и бесповоротным образом, чем сделал бы это словами. Ты омочил уста свои в крови, нанесенной мне тобою раны! Хочешь ты или нет, но ты уже любишь меня… несмотря ни на что.
Она продолжала глубоким голосом:
— И я тоже люблю тебя, хотя ты и хотел убить меня… в ярости своего желания… Ты один осмелился на это… — и, взяв его за руку и крепко сжав его, она сказала: — Ну, признайся же, что ты меня боишься… и что любишь меня…
Перед этой странной любовью, смешанной из сладострастья и ненависти, обещаний и угроз, трибун, раздираемый желанием и боязнью, почувствовал, что гордость его возмущается. Он собрал свои силы, как центурион, готовившийся броситься во главе своей когорты на неприятеля, и проговорил металлическим голосом:
— Нет! Я свободный человек!
Она выпустила его руку с горьким и почти диким смехом:
— Свободный? Радуйся, что ты жив! Знай, что достаточно одного слова моих уст и ты будешь убит моими телохранителями. Я еще могу это сделать… но мне жаль тебя. Свободный? Ну, что же, хорошо, будь свободным! Но знай, что никогда призрак Гедонии не исчезнет из твоих глаз, из твоего сердца, из всего твоего тела. Если бы даже ты сделался цезарем, призрак ее будет шептать тебе на ухо: «Я теку в твоих жилах, я шествую перед тобою!» Ты будешь сжимать в объятиях твою жрицу, а я буду пить твое дыхание, я живу в твоих мыслях, царю в твоей душе! Ты уходишь к твоему Мемнону и к своей Альционе, не правда ли? Но я прочитала в твоем взгляде… ты вернешься ко мне… ты вернешься!.. А теперь ступай… Уходи же…
Вне себя от страха, Омбриций вышел быстрыми шагами. Он достиг террасы и спустился по аллее во мраке, не видя ничего вокруг себя. Глубокими вдыханиями он впивал острый запах пробковых дубов, разлитый в ночной прохладе. Закутанные в покрывала служанки отворили ворота у входа в рощу. Он миновал пустынный сад и нашел в бухте привязанную у берега барку со спящим гребцом, которого он разбудил. Барка беззвучно скользила по волнам. Ущербленный серп луны вынырнул из полосы черных туч и погрузился в еще более черное море. Когда они очутились на середине залива, Омбриций встал в барке и хотел громко повторить перед лицом грозного неба, покрытого тучами как косматыми демонами и чудовищными змеями, последние слова, сказанные им Гедонии: «Я свободный человек!» Но почему же они не хотели сойти с его уст? Он снова сел, подавленный. В голове его, в сердце, во всех членах, как тонкий, неуловимый яд, переливался легкий, гнетущий пар.
Быть может, это было властное и смертоносное дыхание Гедонии?
Ах, как слаб остаток его свободы!.. Надо было связать себя здесь или там. Надо было выбирать между клятвой Изиды и клятвой Гекаты!
Но неужели Геката уже завладела им?
XIV Поцелуй Антероса
После встречи с Омбрицием в ксилосе Гельвидии Альциона заперлась в курии Изиды со своей старой нубийкой. Смелый поступок трибуна взволновал ее девические чувства и внезапно низвел ее душу с высот, на которых она парила, в смутную и тревожную область. Она замкнулась в робком и упорном молчании. Днем она размышляла о своем неведомом и грозном будущем, потому что не могла уже отделить себя от Омбриция. По ночам ее терзали страшные сновидения. То ее дразнили хороводы фавнов и вакханок. То видела она роскошную женщину в императорской диадеме, которая устремляла на нее глаза хищной птицы. Когда эта женщина простирала руки, они развертывались как перепончатые крылья громадной летучей мыши и грозили задушить свою жертву. Каждую ночь Альционе снился Омбриций. Она видела его уже не в латиклаве, но в вооружении военного трибуна, и женщина-гарпия уносила его на кровавом облаке. Под ними толпа кентавров носилась дикими скачками и трубила в военные трубы. После таких кошмаров она просыпалась, бледная, в испарине, полумертвая от ужаса. Предчувствуя несчастье, Мемнон старался успокоить ее. На вопросы его она отвечала безмолвием. Он насильно увлек ее в храм и усыпил ее против ее воли. В момент перехода во вторую фазу сна, она крикнула: «Я не хочу видеть! Я не хочу знать! Меня окутывает черное кольцо, сфера бурь и чудовищ!.. Разбуди меня!» «Поднимись! Поднимись выше!» — приказал Мемнон. «Я не могу!» И она впала в летаргию. Иерофант, видя, что утратил над нею власть, решил предоставить прорицательницу самой себе и наблюдать за нею. Проснувшись, она нежно, но настойчиво попросила, чтобы он позволил ей провести неделю с Гельвидией в саду Изиды, где возле храма Персефоны имелся маленький деревенский домик. Мемнон охотно согласился на эту просьбу, так как рассчитывал, что деревенский воздух и покой исцелят его приемную дочь и что это отдаление воспрепятствует всяким сношениям между нею и трибуном до того дня, когда он принесет клятву Изиды.
В назначенный день Мемнон и Гельвидий тщетно ожидали Омбриция в храме. Под вечер, оставшись один, жрец увидел входящего трибуна. Глаза его блуждали, черты лица были искажены, лицо бледно, движения лихорадочны. Весь вид его говорил о жестокой душевной борьбе. Омбриций проговорил прерывающимся голосом:
— Я не могу принести клятву Изиды, не увидев еще раз Альциону. Я хочу услышать из ее уст, что она еще любит меня… что она будет любить меня, несмотря ни на что…
Иерофант пристально взглянул на своего ученика и проникся глубоким состраданием к его терзаниям. В мгновение ока он взвесил положение и сказал после некоторого молчания:
— Ты страдаешь, мой бедный друг, я вижу это и угадываю все. Ты дошел до того пункта, на котором нужно выбирать между путем мрака и путем света. Мрак чарует тебя, он заполнил тебя, почти овладел тобою… Еще есть время вырваться из него; завтра будет уже поздно. Я покажу тебе свет… и ты сделаешь выбор. Пойдем! Мы увидим Альциону.
В беспокойных глазах Омбриция вспыхнул луч лихорадочной радости. Не обменявшись ни словом, трибун и жрец прошли город и окружавшие Помпею поля и достигли сада Изиды. Вольноотпущенник Гельвидия отворил им ворота. Они сделали несколько шагов в запущенном саду, где травы и деревья росли свободно вокруг развалин древнего храма Цереры. Омбриций издали увидел фонтан лотосов, где некогда жрица обещала ему свою любовь, не страшась гнева Мемнона. Фонтан казался заброшенным и заросшим сорной травой. Они подошли к аллее, поднимавшейся к храму Персефоны. Четыре кариатиды украшали ее фасад и поддерживали фриз. Густые сикоморы защищали покинутый храм. Листья плакучих ветвей, колеблемые ветром, шуршали на его потемневшем фронтоне.
— Здесь она проводит дни с женою Гельвидия, — сказал Мемнон. — Вот уже неделя, как она нездорова. Быть может, она спит сейчас. Войдем тихонько, и не разговаривай с нею, если она в пророческом состоянии.
Сквозь открытую дверь они вошли в святилище. Внутри его было так темно, что в первую минуту трибун не видел ничего, кроме мрака. Мало-помалу выступили отдельные части здания. Колонн в нем не было. Голые стены с пустыми нишами, а в промежутках между нишами высокие светильники без огня. В глубине святилища на квадратном пьедестале возвышалась двуцветная статуя Персефоны. Голова и руки белого мрамора выступали из черного мраморного пеплума. Венок из маков украшал ее волосы. В правой руке богиня держала скипетр царицы мертвых, а в левой — зажженный светильник, слабое пламя которого озаряло ее строгие черты и прорезывало мрак, как звезда с туманным сиянием. «Какой контраст, — подумал трибун, — между благородством этой статуи и зловещей красотой Гекаты в святилище Гедонии Метеллы!» И вдруг Омбриций испытал в глубине своего существа странное потрясение, взрыв желания, боли и страха. Он увидел на пьедестале статуи Персефоны спящую Альциону. Она лежала в изящной позе, опершись головой на подушку из виссона. Слева от жрицы в бронзовом треножнике тлел огонь. На нем курились ароматы, распространяя целомудренный, но сильный запах, от остроты которого тело как будто стремилось отделиться от души. Справа от жрицы на бронзовом кресле сидела Гельвидия, держа в руках теорбу. Альциона была бледна, прозрачна, как алебастр; свет лампады, пробиваясь сквозь полумрак, окутывал ее полураспущенные красноватые волосы туманным ореолом. На лице ее мерцало выражение сладкого блаженства. Трибун почувствовал, что это счастье исходит не от него, и, кроме того, этот волшебный сон воздвигал непреодолимую преграду между ним и иерофантидой. Он захотел переступить ее.
— Можно ли мне заговорить с нею? — спросил Омбриций Мемнона.
— Попробуй, — ответил жрец.
Трибун приблизился к спящей. Но едва он дотронулся до влажной руки Альционы, как она вскрикнула, вскочила и бросилась в объятия Гельвидии, которая подбежала, чтобы поддержать ее.
— Ах! — кричала она. — Я не хочу его! Я не хочу его теперь! Он делает мне больно… он меня убивает!.. Оставьте меня спать!
Глаза ее все время оставались закрытыми. Она извивалась на руках Гельвидии с выражением мучительного страдания.
— Ты видишь сам, — сказал Мемнон трибуну. — Ты не можешь принуждать ее волю. Оставим ее в высокой сфере, где она сейчас парит и откуда она, может быть, принесет тебе послание. Выполним необходимые обряды, чтобы помочь ей подняться до высшей степени экстаза.
Мемнон дотронулся пальцем до лба жрицы, чтобы заставить ее вновь погрузиться в глубокий сон. Она упала на подушки в прежнем положении. Потом он бросил в огонь несколько крупинок фимиама. Поднявшиеся клубы дыма заволокли храм. Тогда иерофант громким голосом произнес молитву и заклинание:
— Царственный дух, господствующий над мирами через посредство Души Природы и составлявший с нею одно целое, Озирис — Изида, мы призываем тебя, чтобы чистый гений, парящий над этой девственницей, проявился в ней и говорил бы ее устами, как он говорил мне в былые времена, дабы он сказал правду этому человеку и показал ему луч твоего света, спасающего и очищающего душу!
В то время как Мемнон произносил эти слова, Гельвидия, стоявшая возле теорбы, ударила сильно по ее струнам. Они издали низкий и торжественный звук. Гельвидия играла дорический гимн солнцу. Казалось, будто звуковые волны подействовали пластическим образом на облака курений, описывавших спиральные круги над головою иерофантиды. Яркие вспышки прорезывали их время от времени. На минуту совсем вверху, под сводом мелькнула звезда. В эту секунду Альциона села на своем ложе и прошептала, простирая руки и подняв голову:
— Настал день обручения… Приди… О, приди, мой Антерос!
— Что это значит? — в испуге спросил Омбриций.
— Не бойся ничего, — сказал Мемнон, — она живет в этот момент иной жизнью. Одни только боги имеют сейчас власть над нею. Подождем.
Но иерофант сам начал тревожиться, потому что никогда приближение гения не выражалось в таких формах. Густое облако фимиама носилось вокруг Альционы. Порыв ветра, ворвавшийся в отворенную дверь храма, погасил лампаду и пронесся быстрым дуновением по струнам арфы, издавшим слабый мелодический звук. В следующую секунду Гельвидия вскрикнула, а жрец и трибун замерли на месте, как пригвожденные к полу. Альциона снова упала на ложе с закрытыми глазами и полураскрытыми губами. Светлая, коленопреклоненная фигура склонялась над нею. Она походила на юного пастуха, но была прекрасна, как Аполлон, и блестяща, как Эрот. Кудри юноши блестели, как расплавленное золото. Баранья шкура, наброшенная на его плечи, сверкала, как серебряный панцирь. Мемнон узнал Гора. Глаз его не было видно, потому что он склонялся над иерофантидой. Лицо его озаряло ее лицо ослепительной белизной. Он приблизил уста к губам Альционы и запечатлел на них брачный поцелуй, и лица их засверкали, как бы залитые одним и тем же потоком огненного света. Потом все вдруг побледнело. Жрец и трибун на минуту снова погрузились в мрак. Но вслед затем они увидели на половинной высоте храма, среди дыма, бюст человека. Это был Гор-Антерос. Ясно видны были его глаза — блестящие и страстные глаза Эрота, лучи которых падали на Альциону. Рукой своей он как бы срывал в облаках фимиама белые розы, и они падали на его спящую невесту.
Омбриций следил за этим видением с изумлением, не оставлявшим места никаким размышлениям, никакой мысли о себе, как бывает во сне. Теперь к нему возвращалось сознание бодрствующего человека, и, не отдавая себе отчета в том, что он видел, не пытаясь даже объяснить этого, он испытывал только злобное разочарование и сосредоточенную ярость. Не сознавая почти, что говорит, он воскликнул:
— Я смеюсь над вашими духами, и не верю в них, я хочу знать, любит ли меня Альциона. Наперекор всем вам, я узнаю это!
И с этими словами он сделал движение, чтобы броситься к Альционе. Мемнон пытался удержать его, потому что потрясение могло быть смертельным для его дочери.
Трибун вырвался от него порывисто, как зверь, стремящийся ринуться на свою добычу. Но вдруг остановился от внезапной, невыносимой боли в глазах и во всем теле. Позади спящей перед дымящимся треножником, он увидел ту же фигуру, которая за несколько минут до того склонялась над иерофантидой. Но на этот раз юноша стоял, гордо выпрямившись; грозные глаза его метали молнии, в руке он держал зажженный факел. Ослепительный свет обжег глаза Омбриция. В то же время он почувствовал, как будто мозг его сверлит острый нож. Явление это, подействовавшее на него с молниеносной силой, продолжалось всего несколько секунд, но трибун чувствовал, что все члены его поражены как бы параличом. Как тигр, цепляющийся за решетку своей клетки при виде соломенного факела циркового служителя, Омбриций задрожал, и на губах его выступила пена ярости. И, однако, в храме Персефоны уже не было заметно ничего необычного. Альциона спала по-прежнему. Гельвидия, стоя возле нее на коленях, согревала ее ледяные руки в своих. В открытую дверь храма видно было, как солнце садится за группой кипарисов. Но пламенное видение явилось слишком непосредственным ответом на кощунственный поступок его и могло быть только действием невидимой силы, на которую он наталкивался. И в сокровенной части души, где складываются непреложные убеждения, трибун почувствовал, что после поцелуя Антероса он, Омбриций, не имеет уже никакой власти над Альционой. Злоба его возрастала от сознания его бессилия. Неуловимый враг, отнимавший у него добычу, раздражал его более всякого живого противника, любовника, обладающего плотью и кровью, которого он мог бы повергнуть ударом или пронзить мечом. Но гордость его, превышающая в нем все остальные чувства, не позволяла ему признать реальность этой страшной силы, убивавшей и унижавшей его. И с внезапным возмущением всего своего существа, он стал отрицать в душе реальность того, что видел, приписывая все ухищрениям жреца или его умению морочить учеников силой своего внушения. Вся власть, которую приобрел над ним Мемнон, сразу рушилась. Наука, которую Омбриций временно согласился признать, улетучилась в одну секунду, и в сердце ученика осталась только горечь досады, выразившаяся в иронии и кощунстве:
— Негодный маг! — крикнул он. — Предатель, ты обманул меня! Эта девушка была предназначена мне. Ты отнял ее у меня ядом твоих зловредных чар и думал, что сделаешь из меня своего раба, обманывая меня призраками. Но я презираю и твое учение, и твоих духов, и твои слова, и твою иерофантиду!
Мемнон слушал его, скрестив руки, погруженный в свои мысли. Он ответил с грустью:
— Я не заманивал тебя. Ты сам искал тропинки света и сам избираешь сегодня путь мрака. Ты безумствуешь от гордости и честолюбия, и вина твоя была бы невелика, если бы ты покидал только влюбленную девушку и отрекался от учителя. Это пустое. Твоя вина, твое непростительное преступление заключается в том, что ты отравляешь свою душу в самом источнике ее. Величайшего твоего наказания люди не увидят; оно будет в том, что ты утратишь самое чувство истины. Ты выколол глаза своего духа, изгнав из сердца свою последнюю каплю нежности. Твои кровожадные стремления сделали тебя лицемером. Ты желал принять от меня мою науку только для того, чтобы, благодаря ей, господствовать над другими и надо мною. Ты будешь наказан за это мраком, который окутает тебя среди роскоши и почета. Жестокое сердце, ты будешь подвигаться вперед только в зле. Предоставляю тебя отныне твоей неизбежной судьбе. Иди своей дорогой. В последний час свой, может быть, ты вспомнишь обо мне. Что касается до иерофантиды, то ты не имеешь более власти над нею.
— Ты думаешь? — сказал Омбриций, горьким и холодным тоном. — Может быть. Но если цезарь узнает когда-нибудь ваши происки, — трепещите! Что до меня, я верю только в волю, живущую в моем мозгу, в кровь, бьющуюся в моих жилах, и в меч, который я держу в руке. С ними и ими одними я сумею завоевать свою истину и свое могущество. Прощай!
Он выхватил короткий меч, который всегда носил на поясе туники после ночи, проведенной в Байе, и, размахивая им, как бы бросая вызов невидимым противникам, вышел из храма.
Мемнон скорбным взглядом следил за учеником, убегающим навсегда от дружеского объятия учителя, чтобы идти навстречу своей роковой судьбе. Сколько страшных событий совершилось в этот трагический час! Да, луч света прорвал завесу. Невидимый предстал видимым, исполняя желание посвященного, венчая его науку. Бессмертный дух вмешался в судьбы людей, разрешив их одним ударом, но, хотя молниеносный блеск его спас иерофантиду и изгнал святотатца, сам иерофант был опален им, как дерево, в которое ударила молния. Он терял сразу и ученика, и дочь. Альциона любила в этом мире Омбриция, в том — Антероса! Лучшие стороны ее души принадлежали ее Гению. Он владел ею… владел в Вечности! Трибун неотразимо стремился к катастрофе, но он мог забыться под опьянением страстей. Он же, Мемнон, видящий все, страдающий, оставался один перед лицом небес, где теряются многообразные пути душ, с мукой Бесконечности в груди!
Иерофантида проснулась. Она встала бледная, серьезная, сосредоточенная и как бы озаренная внутренним светом.
— Ты не страдаешь? — спросил Мемнон.
— Нет, — ответила она, касаясь распростертой рукой своей груди, — сердце мое успокоилось, мне дан алмазный панцирь.
— Знаешь ли ты, что Омбриций ушел?
— Да, — сказала она, — его уносит ураган.
— Надо забыть его.
— Нет, — с спокойной кротостью, не допускающей возражений, сказала Альциона, — надо спасти его!
Мемнон убедился, таким образом, в неизменности двух родов любви Альционы — земной и небесной. Обе эти любви были неискоренимы, и каждая как бы занимала отдельную область в ее душе и связывалась с отдельной жизненной сферой. Но между этими двумя областями установилась связь; в ее ясновидении замечался некоторый шаг вперед. Раньше, проснувшись, она не сохраняла никакого воспоминания о событиях, произошедших во время ее сна. Теперь же она, видимо, помнила все, но не желала говорить.
Альциона, Мемнон и Гельвидия вышли из храма Персефоны и остановились в перистиле. Спускались сумерки. Отдаленные горы вздымались, как пламенные алтари, вокруг бледного залива. Несколько звезд, как светящиеся цветы, дрожали на небесной завесе. Иерофантида смотрела на них и, выпустив руки друзей, послала им привет.
— Что говорят тебе звезды? — спросил Мемнон.
— Мне кажется, что они все во мне, — сказала Альциона, прижимая руки к сердцу. — Между мною и миром более нет преграды. Я свободна… свободна!
Тогда Гельвидия взяла лавровый венок, висевший на одной из кариатид перистиля, и возложила его на голову иерофантиды. Они спустились со ступенек храма и молча прошли через сад. Безмолвная слеза скатилась по щекам Мемнона. Кроткая и проникнутая покорной решимостью, увенчанная лаврами жрица показалась ему жертвой, идущей к месту казни.
Книга третья МРАК
Любовь и Ненависть — в этом заключается вся магия.
ПлотинXV В тепидарии
Теплое осеннее утро заливало своим горячим светом площади, вымощенные лавой, мозаичные дворы, бесчисленные колоннады Помпеи. Он проникал в сады, запрятанные в глубине домов, как в свежих цветочных чашечках, и группы зелени, украшавшие террасы, четко вырисовывались на ярком солнце. Маленькие ручейки, протекавшие по канавкам улиц, вымощенных белыми и серыми голышами, блестели серебряными нитями. В глубине атриумов беспечные женщины одевались при помощи суетливых рабынь; дети играли с собаками; патроны, держа в руках таблички, беседовали с клиентами. Вольноотпущенники странствовали по городу, совершая покупки и выполняя деловые поручения. В храмах жрецы читали молитвы или готовились к жертвоприношениям. Город просыпался, как и во все дни, для беспечной и веселой жизни. Для апеннинского орла, парящего над Помпеей, на высоте Везувия, дивный город, расположенный на берегу залива, казался раковиной или коралловой веткой, брошенной на дубовый венок. Но прохожий, смотрящий с улицы на этого парящего в лазури орла, видел его лишь сквозь легкое розовое сияние, разлитое в пространстве между небом и землею.
Дверь дома Гедонии Метеллы была широко раскрыта. Привратник, смуглый гигант в голубом тюрбане, стоял возле нее, с презрением поглядывая на проходящих. Быть может, он думал о вольной жизни в пустыне, о скачущих по пыльной земле конях, несущихся к показавшемуся на горизонте оазису. Вдруг перед ним предстал молодой человек в латиклаве, с лихорадочно блестевшими глазами и взволнованным лицом.
— Дома ли славная патрицианка Гедония Метелла? Я должен немедленно видеть ее.
— Она дома, но ее нельзя видеть.
— Это необходимо; когда она узнает, кто я, она меня примет.
— Если бы ты был сам цезарь, все равно, я не пропущу тебя. Госпожу мою нельзя видеть по утрам.
Упрямый молодой человек, с энергичными чертами лица и жгучими глазами, наклонил голову и попытался пройти мимо привратника. Но африканец удержал его за руку и чуть было не раздавил ему пальцы. Между ними уже готова была завязаться борьба, но в эту минуту из вестибюля кошачьей походкой вышел номенклатор.
— Я знаю этого человека, — сказал он, — это римский всадник.
— А мне какое дело? — сказал привратник. — Я знаю, что мне приказано.
— Я все-таки доложу о нем госпоже.
Номенклатор протянул посетителю табличку слоновой кости и красный грифель, и тот начертал на ней несколько слов. Через несколько минут номенклатор возвратился и сказал:
— Мне приказано провести трибуна в тепидарий.
— Пусть идет, — сумрачно проворчал нумидиец.
Предшествуемый номенклатором, молодой человек прошел по анфиладе перистилей и галерей. В конце одной из них слуга отворил дверь, пропустил гостя и запер за ним дверь. Пройдя темный коридор, посетитель вошел в комнату со сводчатым потолком, наполненную теплым паром. Стены были голы. Вдоль фриза из ветвей и листьев раскрашенные глиняные амуры играли как толпа живых детей. Вверху несколько окон из толстого стекла пропускали голубоватый свет. В средине комнаты, в медном бассейне тлели угли. В глубине сидела Гедония в фиолетовой тунике с золотой бахромой. Она только что вышла из ванны. Рабыня заплетала ее роскошные волосы, сооружая сложное здание прически. Оробевший и смущенный трибун остановился в некотором отдалении.
— Знаменитый трибун!.. — сказала Гедония с чуть заметным оттенком иронии, похожим на ласку. Говоря это, она спокойно застегивала на плече мягкую ткань шелковистой туники, оставлявшей на виду ее дивную шею и руки. — Как? Это ты, Омбриций Руф? В самом деле, ты удивляешь меня, славный философ. Я думала, что ты заперся в храме Изиды, в своей послушнической келье, и навеки потерян для нас, простых смертных. И вот ты возвращаешься. Я не верю своим глазам!
— Я не достоин взгляда твоих глаз, — промолвил трибун, опуская голову. — Благородная Гедония Метелла, со мной случилось несчастье. Я прихожу просить у тебя милости… и помощи.
— Скажи мне сначала, что привело тебя к нам?
— Я могу сказать это тебе только наедине.
— Ступай прочь, Галла! — сказала Гедония. — Я позову тебя потом.
Рабыня опустила тяжелые волосы своей госпожи, в беспорядке рассыпавшиеся по ее плечам.
— Вслед за славой рухнули и мои надежды, — начал трибун. — Ты была права, благородная дочь Метелия, слава Рима и Помпеи. Они обманули меня, надсмеялись надо мною. Честно, искренно я искал истины у этого лживого жреца и у этой коварной жрицы. Изида надсмеялась надо мною! Я считал его учителем, а ее прорицательницей, вдохновляемой богами… И вот, этот Мемнон оказался низким обманщиком. А что касается его Альционы…
— Ну?
— Эта девственница, эта иерофантида… имеет любовника!
— Неужели?! — воскликнула Гедония, от изумления уронив стеклянный флакон с духами.
Флакон разбился, ударившись о мозаичный пол, а в больших черных глазах патрицианки зажглось дикое любопытство, почти недалекое от восхищения. Помолчав с минуту, она прибавила:
— Ты видел его?
— Да, в саду Изиды, в храме Персефоны. Это чудный юноша, прекрасный, как бог. Я видел его сквозь облако фимиама, на коленях возле спящей Альционы. Я видел, как он склонялся над нею, касался губами ее уст… пил ее дыхание…
— А что же в это время делал ты?
— Я хотел ударить его, схватить. Невозможно! Он парализовал меня молнией, ударом грома… потом все исчезло. Но нет, это не было обманом моих чувств! Или это была призрачная форма, привидение, созданное волшебством Мемнона? А может быть… это был дух?
При последних словах тепидарий огласился язвительным смехом Гедонии, упавшим от свода на каменный пол жемчужным дождем. Потом она сделалась вдруг задумчива.
— А все-таки, — проговорила она, — все это очень странно…
Пристальные глаза ее приняли беспокойное выражение, словно их притягивала какая-то неведомая сила.
Наконец, она заговорила серьезным тоном:
— Но ты ее все еще любишь, эту Альциону?
Омбриций воскликнул с выражением мрачной энергии:
— Ах! Ты не знаешь, до какой степени я ненавижу ее теперь, ее и всех ее близких!
— Что же ты думаешь делать?
— Покинуть этот город, принесший мне одно несчастье, вернуться в армию. Уехать, действовать, сражаться, чтобы забыть этих утонченных палачей до дня отмщения!
— Вот это делает тебе честь, мой гордый трибун. Пользуешься ли ты благосклонностью Тита?
— Нет. Без нее я не могу ничего сделать. Но удастся ли мне когда-нибудь добиться ее?
— Подожди минуту. Пока ты увлекался своей жрицей, я заботилась о тебе, дорогой мой Омбриций!
Она хлопнула в ладоши. Вошла рабыня.
— Галла, — сказала Гедония, — принеси мне золотую шкатулку, которая стоит в шкафу из черного дерева в моей спальне.
Рабыня вернулась со шкатулкой, и Гедония вынула из нее свиток папируса, обвязанный золотой нитью, на которой висела красная сургучная печать с изображением императора. Она развернула его и передала трибуну. Омбриций прочел:
«Тит Цезарь, сын Цезаря Августа Веспасиана, Гедонии Метелле, привет! Так как ты ручаешься мне своей головой и кровью за верность Омбриция Руфа, то да будет он прощен. По возвращении его в Рим, я обещаю вручить ему командование легионом».
Пораженный этим письмом, Омбриций уронил папирус.
— Ты сделала это? — пролепетал он.
— А почему же мне было не сделать этого, ведь я люблю тебя! — сказала Гедония, небрежно закручивая на голове роскошную и тяжелую массу волос.
— О, божественная!.. — воскликнул Омбриций вне себя от волнения. — Ты отдала в залог свою жизнь за того, кто оскорбил тебя! Я желал бы быть твоим рабом!
Он бросился к ее ногам, обнимая и целуя ее колени.
— Берегись, гордый трибун, — насмешливо проговорила Гедония Метелла, — ты перестаешь быть свободным человеком, каким называл себя неделю тому назад… А я ведь тоже ревниво отношусь к твоей свободе!
— Моя свобода?! — с яростью воскликнул трибун. — Это ты возвращаешь мне ее, избавляя меня от моих врагов, давая мне возможность отмстить им! Пусть они трепещут теперь! Быть свободным? Я могу быть теперь свободным только через тебя и с тобою! Я буду полагать свою гордость в том, чтобы повиноваться тебе. Приказывай, повелевай, мучай, терзай меня, если хочешь. Я все приму с наслаждением. Я готов выполнить клятву Гекаты.
Она склонилась над ним и пронизала его взглядом, полным властного сладострастия, бывшим единственной формой ее нежности.
— В этом уже нет надобности. Я знаю, что ты принадлежишь мне с тех пор, как выпил каплю моей крови.
— Так позволь мне, по крайней мере, облобызать твою ногу!
— Ты хочешь? — спросила Гедония с улыбкой, зажегшей золотые блестки в ее черных глазах.
— Хочу… и умоляю!
Дочь Метеллия слегка приподняла край хламиды и обнажила ногу, алебастровую ногу, которой фиолетовая ткань одежды и синий свет, разлитый в тепидарии, придавали оттенок слоновой кости. Омбриций порывисто прижался к ней губами, и патрицианка тихонько поставила свою ногу на голову коленопреклоненного молодого человека. Он с упоением почувствовал на своем затылке ногти этой женщины-пантеры. Ярость раболепства казалась ему самым ярким отмщением того, что он называл изменой Альционы. Во внезапном и полном перевороте своей души он предполагал обрести свою утраченную силу.
— Теперь говори, я повинуюсь… — сказал он, поднимаясь. — Нужно ли мне ехать в Рим?
Порывистым движением она схватила его за плечи.
— Уехать? Теперь? Ты не уедешь из этого дома до истечения месяца… и будешь моим царем!
От счастья трибун едва не пошатнулся. Дрожащие руки его бродили по хламиде и обнаженным рукам патрицианки. Он закрыл глаза от теплого аромата, исходящего от этого царственного тела, потом вдруг обнял ее и прижал к себе с глухим возгласом:
— Моя! Моя!
Но она остановила его повелительным жестом и, укрощая его властным огненным взором, проговорила:
— Будь осторожен, нас могут застать рабы, а мы должны остаться их повелителями. Надень свою тогу римского всадника и следуй за мною!
Омбриций покорно повиновался. Он подобрал тогу и накинул ее на плечи. Гедония тоже встала, величественная и улыбающаяся.
— Теперь пойдем! — сказала она.
Она пошла впереди. Хламида спустилась немного с одной стороны и обнажила стройное плечо и волнистую линию посреди спины.
Синие стекла тепидария ласкали оливково-зеленоватым тоном прекрасное тело римлянки, в жилах которой текло немало нумидийской крови. Они прошли под портиками, где среди цветочных клумб журчали в водоемах фонтаны. Вольноотпущенники с несмелым взглядом и безмолвные рабы склонялись при их проходе. Совсем в глубине, в полутемном покое, под пальмами и пышными тканями, восточное ложе возвышалось как трон.
XVI Волшебство
Прошел год. Омбриций Руф, произведенный Титом в легаты пропреторы легиона Бретани, одержал три победы и оттеснил врага далеко в горы. Возвратившись в Рим, он поселился в доме Гедонии Метеллы. Сенат постановил почтить его триумфальными знаками, статуей и золотым венком — словом, всем, что дается вместо триумфа. Тит, слишком великий, чтобы завидовать подчиненному, разрешил все эти знаки отличия. Но эти высокие почести не удовлетворяли покровительницу трибуна, сделавшегося начальником легиона. Гедонии хотелось, чтобы он занял вакантное место консула. При этой просьбе дочери Метеллия Тит нахмурил брови и не ответил ничего. Омбриций хотел уклониться, боясь потерять все свое благополучие вследствие чрезмерной дерзости. Но при виде его колебаний гордая его возлюбленная пожала плечами, и у рта ее с опущенными уголками губ появилась злая складка. «То, что кажется невозможным, — сказала она, — перестает быть таким, если умеют выбирать средства». Но о средствах этих она хранила загадочное молчание. Во всяком случае Омбриций чувствовал, что она не отступилась от своего упорного намерения, не отступаясь ни от одного решения своей таинственной и непреклонной воли.
Римский дом Гедонии Метеллы четко выделялся на склоне холма Целия, прижавшись, как орлиное гнездо, между храмом Клавдия и банями Нерона. Путь к нему вел по узкой улице, карабкавшейся вверх между высокими стенами. Сверху террасы, как из обсерватории, видна была центральная часть Рима. Напротив высился Палатинский холм со своими контрафорсами в виде аркад и дворцом цезарей, сверкающим мрамором, порфиром и бронзой. Налево рисовался Авентинский холм с темными лачугами, обиталищем бедняков. В широкой долине между этими двумя холмами сады Нерона простирали свои рощи, пруды, легкие мосты и увеселительные павильоны. Позади них огромный цирк выделялся своей усыпанной песком ареной и красноватыми ступенями, уставленными мачтами с разноцветными перевязями. Бесчисленные вомитории, прорезывавшие темными дырами его внутреннюю окружность, делали его похожим на огромную мышеловку, поставленную для гладиаторов и хищных зверей.
Омбриций сидел один на кровле дома Гедонии на краю террасы, опершись рукой на балюстраду. На груди его красовались большие медные бляхи с рельефными орлиными и львиными головами — знаки его побед. Красная туника была отделана желтой бахромой, напоминавшей металлические полоски, которые носят в бою центурионы. Золотой венок лежал на его коротко остриженных волосах. В этом одеянии победоносные вожди обыкновенно показывались народу в цирке, в театре и на пирах. В тот вечер легат пропретор должен был отправиться на пир к Титу. Но сейчас он смотрел на Рим, простиравшийся перед его взорами, и думал о своей прошлой, настоящей и будущей судьбе.
После месяца полного забвения, проведенного с Гедонией в Байях, трибун получил от Тита в командование легион и возвратился к прежнему военному образу жизни в суровом климате, среди варваров. Но чувства его, его душа, ум до такой степени были пропитаны дыханием честолюбивой патрицианки, что она не покидала его нигде. Она преследовала его в бурных морях, среди подводных рифов, в столкновениях дисциплинированных когорт с дикими племенами. Сладострастный призрак, почти облеченный плотью, осаждал его в часы отдыха, обещая ему самые острые наслаждения после его возвращения. Властный взгляд ее побуждал его произносить беспощадные приговоры побежденным к поголовным избиениям, лишь бы ускорить его окончательное завоевание. Правда, иногда, в то время как он лежал глубокой ночью в походной палатке на медвежьей шкуре и кругом слышалась только перекличка часовых, образ Альционы снова восставал в его памяти. Перед ним снова являлась ясновидящая иерофантида, сладкозвучная вестница божественной Психеи; он видел торжественного Мемнона, оживляющее слово которого, казалось, прорывало завесу природы и развертывало перед его глазами беспредельные горизонты. Тогда горестная мысль пронизывала его мозг: не там ли находился источник счастья и света? И он навсегда закрыл себе доступ к этому источнику! Но как только он вспоминал об Антеросе, ярость прогоняла его сожаления. А затем воспоминание о Гедонии заливало его горячей и опьяняющей волной. Ариадна, царица вакханок, приводила его в безумие своей легкой туникой и стройным гибким телом. И жрица Гекаты указывала ему пристальным и кровавым глазом на отдаленную цель. Но на какую? На какую?
Теперь, когда он вернулся победителем и был осыпан почестями, тревога и мучения его удвоились. После первых восторгов свидания Гедония сделалась лихорадочно озабоченной, мрачной и волновалась. Днем она принимала каких-то незнакомых людей и вела с ними таинственные беседы. По ночам предавалась долгим размышлениям перед маленькой статуей Гекаты, точной копией большой статуи в Байях, украшавшей, в качестве домашнего божества, ларарий ее римского дома. Уже несколько дней холодная и суровая Гедония отклоняла ласки возлюбленного под предлогом серьезных забот. Какая же опасность угрожала ей или какое ужасное дело обдумывала она?
Омбриций смотрел на Палатинский холм, на цирк, на сады. Несмотря на всю приобретенную славу, этот город императоров замыкал его как в тюрьме, давил его как слишком тяжелый панцирь.
Вдруг он увидел перед собою Гедонию. Он не слышал, как она подошла из спальни пропретора, выходившей на террасу. Закутанная в длинную столу матроны, она смотрела строго и держала в руке свиток папируса.
— Прочти, — сказала она.
Омбриций с изумлением прочел зажигательное воззвание к итальянским легионам, призыв к возмущению против Веспасиана и Тита и избранию нового цезаря.
— Что обозначает это воззвание? — спросил Омбриций.
— Оно написано рукою Цецины.
— Что же это значит?
— Что он замышляет заговор против Тита и Веспасиана. Восстание назначено через три дня, в праздник в честь Августа. Тит должен быть убит в Капитолии.
— Кто дал тебе этот папирус?
— Вольноотпущенник Цецины, подкупленный мною.
— Что же ты хочешь с ним сделать?
— Показать Титу. Но надо, чтобы до этого Цецина был убит. Только тогда известие это будет приятно цезарю. Он не сможет ни в чем отказать тому, кто принесет его. Я знаю, кроме того, что цезарь ненавидит Цецину, как своего самого смертельного врага, хотя и пригласил его на пир, на который приглашены и мы.
— Так кто же отважится на это?
— Ты!.. — промолвила Гедония, протягивая ему кинжал, освященный Гекатой.
Омбриций вскочил:
— Я? Чтобы я совершил это убийство?
— Если ты не убьешь Цецину, ты не будешь консулом.
— Я предпочитаю не быть консулом, чем сделаться им таким образом. Я не запятнаю своих побед кровью римского военоначальника.
— Тогда ты останешься рабом… а я хочу, чтобы супруг мой был повелителем. Подняться на Капитолий можно только по кровавой лестнице. А раз ты очутишься наверху, очистительная вода триумфа смоет и унесет пролитую кровь.
— Эта обязанность палача — не для меня.
— Так ты не знаешь, что человек этот заслужил стократную смерть? — проговорила Гедония шипящим голосом. — Это мой злейший враг. Он изменил мне, оскорбил, обесчестил меня. Убив его, я отомщу ему!
— Твоя месть ниже моей славы.
— Твоей славы? — с презрением произнесла Гедония, выпрямляясь. — Она дело моих рук… Значит, ты не хочешь?
— Заставь меня лучше бороться с дикими зверями на арене перед праздной римской толпой.
Жестом Омбриций указал на гладиаторов в шлемах, масках и сетках, упражнявшихся в лежащем у их ног цирке.
— Хорошо, — проговорила Гедония Метелла, — я поищу истинного римлянина, у которого будет больше мужества, чем у тебя. Пойдем на пир к Титу.
Час спустя пропретор Омбриций Руф и патрицианка Гедония Метелла отправлялись в носилках на Палатинский холм. Ни одного слова не было произнесено между ними в течение всего времени перехода.
Стол для императорского пира был накрыт в обширной зале, окруженной порфировыми колоннами. Пламя высоких светильников, яшма и мрамор ваз, драгоценные камни на обнаженных шеях и руках сверкали и переливались тысячами разноцветных огней. Тридцать человек гостей возлежали на роскошных пурпуровых ложах. Пятьдесят рабов, разносивших серебряные и золотые блюда, чаши с вином и курильницы с благовониями, вились вокруг этих привилегированных лиц Империи, как рой пчел. Величественный и сдержанный Тит, в пурпуровой тунике, мало говорил, наблюдал за всеми, и вид его свидетельствовал о самодовлеющей силе, более опасной в спокойствии, чем в гневе.
Направо от него возлежала его жена, налево Гедония. Рядом с нею широкоплечий гигант с грубыми чертами лица и пронзительным взглядом опирался локтем на свое ложе; это был Цецина. Омбриций помещался напротив них, по другую сторону стола, и до него долетали только бессвязные слова их разговора, но вызывающее отношение его возлюбленной к ее бывшему любовнику привело его в ужас. Она, видимо, старалась вновь завоевать этого человека, которого беспощадная ненависть ее приговорила уже к смерти, и говорила ему об их прежней жизни беспечными словами, сопровождаемыми серьезными взглядами. Цецина сначала оставался нечувствительным к этой коварной игре, но по мере того как взгляды Гедонии все чаще устремлялись на него, при виде ее груди, трепетавшей от искристого смеха, ее руки, круглившейся над кубком, в который она наливала ему вино, мрачный гигант постепенно оживлялся и, наконец, обратил на свою соседку взволнованный и очарованный взор. Несколько раз они обменялись словами, сказанными почти на ухо друг другу. Когда Тит встал, чтобы перейти в другую залу, где его гостей ожидало театральное представление, Гедония простилась с императорской четой и направилась к выходу из Палатинского дворца, не сделав никакого знака Омбрицию, видимо, переставшему существовать для нее. Цецина следовал за нею. Омбриций, чувствуя, что злоба сжимает ему горло, спускался за ними по ступеням лестницы в некотором отдалении. В узком переулке, образующем выход из Палатинского дворца на форум и похожем, со своими бойницами и низкими воротами, на двор тюрьмы или на разбойничий притон, дожидались бесчисленные носилки. Здесь сверкали всегда обнаженные мечи и панцири преторьянской гвардии. При свете факела Омбриций видел, как его любовница обернулась и скользнула по нему взглядом. Значит, она знала, что он следует за нею. Спрятавшись за пирамидой сложенного оружия, он видел, как Гедония остановилась перед своим паланкином, и услышал слова, которыми она обменялась с Цециной.
— Мне надо поговорить с тобой. Проводи меня до дому в моих носилках.
— Я не доверяю тебе.
— Ты неправ. Дело идет о твоей жизни. Я знаю твою тайну, и если ты не пойдешь со мною, ты погиб.
Поддерживаемая ливийцами, патрицианка поднялась в широкие носилки. Цецина сел рядом с нею. Ливийцы задернули занавески, подняли паланкин и вышли со своей ношей из-под поднятой решетки Палатина. Идя позади, пропретор увидел, как носилки направились налево к Велобрию, пустынной и низменной части города. Холодный пот выступил на всем теле Омбриция. Он спрашивал себя, не изменила ли Гедония по внезапному капризу, на которые она была способна, своего намерения и не хочет ли она броситься в заговор Цецины, чтобы уничтожить его, Омбриция, вместе с Веспасианом и его сыном. Он еще не знал, что сделает, но шел, как охотник по следу зверя, вдыхая его запах, сам превращаясь в зверя. Белые фонари ливийцев колыхались впереди. Направо, в темной синеве ночи, черными и неровными массами высились храмы, портики, триумфальные арки форума. И в этот страшный час древние памятники давили злополучного сына Рима, обезумевшего от честолюбия и задыхающегося от ревности. Ему казалось, что они сочатся кровью и цементом их служит его собственное тело. Он чуть не вскрикнул, увидев бронзовую Волчицу с ее двумя детенышами, смеявшуюся над ним с вершины колонны и, казалось, готовую пожрать его. Фонари ливийцев мелькали теперь вдоль Большого Цирка, и носилки, качавшиеся на их могучих торсах, поднимались на Целий по крутой улице между высокими стенами, направляясь к дому Гедонии.
У Омбриция была только одна мысль: убить обоих чудовищ, соединившихся против него! Он прижался у ворот. Цецина вышел из носилок и сказал только:
— До завтра.
Одним прыжком пропретор ринулся на него и ударил его в шею кинжалом. Лезвие проникло в тело, но Цецина вырвался. Обладая необычайной силой, он схватил своего врага и хотел бросить его на землю. Омбриций, в котором тоже развилась нечеловеческая сила, вцепился ему в горло и, напрягая мускулистые нервные руки, пригвоздил его к стене. Ни один из борцов не хотел сдаться в этой яростной борьбе, в которой ни слово, ни крик не выдали столкновения двух безмолвных и страшных воль. Наконец, Цецина, задушенный стальным кольцом рук Омбриция и собственной кровью, хлещущей из раны, безжизненной массой рухнул на ступени лестницы.
Гедония, не выходя из носилок, смотрела на борьбу при свете роговых фонарей с спокойствием львицы, из-за которой дерутся два льва и которая безмятежно ожидает победителя.
Но смерть соперника не успокоила крови Омбриция. Он обернулся к патрицианке с блуждающими глазами и занесенным кинжалом. Ливийцы бросились на него. Но Гедония сказала: «Оставьте его!» и, положив легкую руку на плечо своего неистовствующего любовника, воскликнула:
— Наконец-то я снова нахожу тебя!
Спокойная, она смотрела на него глазами Победы, готовой принять смертельный удар. Через минуту побежденный Омбриций опустил оружие.
Не теряя ни секунды, Гедония сказала рабам:
— Назад в Палатин!
И, указывая Омбрицию на дом, в котором слуги уже отворили двери, прибавила:
— Жди меня в своей комнате.
Полчаса спустя Гедония предстала в Палатине перед цезарем. С высокой эстрады, окруженный своими приглашенными, Тит смотрел на игру гистрионов с задумчивым и скучающим выражением лица.
— Я прошу секретной аудиенции у императора римлян, — громким голосом проговорила Гедония.
И, подходя ближе, прибавила вполголоса:
— Речь идет о жизни Веспасиана и твоей и о спасении империи.
— Пусть все выйдут, — приказал Тит.
Когда они остались одни, Гедония вынула из-под столы свиток, на котором было написано обращение Цецины к легионам, призывающее их к мятежу. Пробегая его глазами, Тит не мог удержаться от возгласа изумления, Гедония сказала:
— Чего заслуживает этот человек?
— Кары, которой наказываются государственные преступники. Я позабочусь об этом.
— Он уже наказан, — сказала патрицианка.
— Кто же убил его?
— Омбриций Руф.
— Он быстр на отмщение обид, нанесенных цезарю! — проговорил Тит с пронзительным взглядом.
— Мы обеспечили царствование Флавиев, — сказала Гедония, смиренно опуская голову. — Цецина был их последним и самым опасным врагом. Отныне благородный Тит сможет следовать своей природе и проявлять доброту и милосердие.
— Это хорошо, — сказал сын Веспасиана со строгим видом, но втайне удовлетворенный, — это очень хорошо, Гедония Метелла. Омбриций Руф через месяц будет консулом.
— Благодарю тебя, великий цезарь. Многие лета Веспасиану Августу! Титу Цезарю победа и бессмертная слава!
С этими словами Гедония взяла руку монарха, склонившись, облобызала императорский перстень и вышла.
— А теперь, — сказал Тит своим царедворцам, — пусть продолжают пьесу.
Возле ложа, покрытого драгоценными тканями, между нефтяным светильником и жаровней, в которой курились пряные ароматы, Омбриций сидел, опершись локтем на ручку бронзового кресла, и думал. Он погружался в один из тех уголков сознания, где человек перестает понимать себя и с ужасом отшатывается от собственных своих поступков. Что совершил он? Мужественное деяние или подлое убийство? Кто он? Действовал ли он по собственному побуждению или под внушением этой страшной женщины? Ах, как она умела пользоваться его страстями! Он был простой игрушкой ее воли, стилетом в ее опытной руке. Кто он в данную минуту? Ожерелье на ее шее или топор, годный только на то, чтобы быть брошенным в Тибр? Что принесет она ему по возвращении из Палатина? Славу или Гемонские ступени?
После огромного напряжения ярости и воли он ждал тупо, равнодушно. Увы! — он ясно чувствовал, что благодаря какому-то темному волшебству его сознание, волю, желание, — все поглотила эта ужасная женщина, как зияющая пропасть. И все же он ждал ее с неутолимой жаждой всего существа, всех своих доведенных до высшей степени возбуждения чувств.
От нее одной, из ее глаз, с ее губ он получит ответ судьбы, смерть или жизнь.
Спальня Омбриция выходила на террасу. Сквозь растворенную дверь виден был край Палатинского холма и уголок чистого неба. Жаровня потрескивала неровно и тревожно. Вдруг огромное пламя вспыхнуло перед дверью, закрывая вид красноватой тенью. Это была Гедония. Она сбросила свой плащ на пол и стояла в сирийской тунике, прозрачной и волнистой, как облако.
— Ты — консул! — воскликнула она. — Привет тебе, мой Вакх и царь!
И холодная патрицианка, превращаясь в пылкую вакханку, стиснула Омбриция в объятиях, как добычу.
— Что же сказал Тит? — спросил молодой человек, дрожа от страха и радости.
— Как будто это важно! — сказала Гедония с звонким смехом, потряхивая геммами своего ожерелья. — Я смеюсь над Титом, над Веспасианом и над всеми царями! Я знаю только одно, что теперь ты мой, как никогда до сих пор!
Сидя на его коленях, она осыпала поцелуями голову, шею, руки человека, которым владела теперь вполне. Поцелуи сыпались на него, как дождь красных роз. Они жгли его сквозь тунику. Казалось, что долго сдерживаемая страсть Гедонии Метеллы изливалась потоком лавы. Затопленный и обжигаемый этой пламенной волной, уносившей его страхи, Омбриций едва имел силы прошептать:
— Я хочу знать все.
— Завтра, мой Вакх, завтра!
И, схватив обеими руками его голову, она не сводила с него глаз, во взоре которых сосредоточивалась вся ее неукротимая душа. Омбриций не противился более… Светильник погас… И губы их слились в долгом, страстном и безумном поцелуе…
Тихая и ясная ночь царила над Вечным Городом, когда Гедония вышла на террасу, держа за руку будущего консула. Небо горело звездами. Безмолвный черный Рим спал у их ног. Глаза Омбриция были полны мрачной печали, странной тревоги.
— Разве ты не счастлив? — спросила она.
— Я счастлив, — ответил Омбриций, как во сне.
Она указала рукой на Вечный Город.
— Взгляни на этот цирк, безлюдный ночью. Это арена всех честолюбий. Взгляни на Авентинский холм — гору народа, часто победоносного в мятежах, но всегда побеждаемого чудовищем, рожденным его неистовствами. Взгляни на Палатин — это трон цезарей. Если ты захочешь… все это будет принадлежать нам!
Омбриций отступил в трепете. Патрицианка положила руку на плечо изумленного римлянина и продолжала едва слышным голосом, как бы боясь, что ночной ветерок унесет отголосок ее слов в черный Палатин, где спало все, кроме бодрствовавших часовых:
— Военный трибун… начальник легиона!.. консул… Почему же тебе и не быть когда-нибудь цезарем!
Она была серьезна и величественна в одеянии из розовой кисеи, похожем на пеплум мраморных Венер, свободными складками целомудренно облекавший их сладострастные формы. Царя над погруженным в ночное безмолвие городом, над его колоссальными и беспощадными, как сыновья Волчицы, памятниками, она казалась Гением императорского Рима.
— Хочешь?.. — прошептала Гедония, и голос ее замер, как дуновение Зефира.
Порыв внезапного ветра, несущегося с далекого моря, пролетел над семью холмами. Со свистом понесся он под темными портиками храма Клавдия и длительным стоном коснулся садов Нерона. Пихты и гигантские кипарисы бань, вздрогнув, наклонились как черные призраки. Звезды померкли на минуту, потом снова заблистали ярче и словно приблизились к земле. Очарованный Омбриций смотрел на Гедонию. Рука его, обнимавшая ее стан, поднялась до ее груди, напряженной от страстного желания и ставшей твердой, как бронза. И, утопая взглядом в ее глазах, он прошептал:
— Да… цезарь, если ты хочешь… Августа…
Слова эти, едва произнесенные в безмолвии ночи, прозвучали торжественно, как клятва, приносимая перед лицом невидимых богов. В эту секунду из затаенных глубин его души в памяти Омбриция всплыло залитое слезами лицо Альционы, но смутный образ тотчас же испарился под объятием рук Гедонии Метеллы, охвативших его неразрывной цепью.
Заря белела над Палатином, и из подземелий цирка донеслось рычание голодных львов.
XVII Белая и черная магия
В течение четырех лет, последовавших за отъездом Омбриция, город Помпея был ареной крупных общественных раздоров. Сенатор Лентул и Марк Гельвидий были назначены дуумвирами. Эти два магистрата, управлявшие городом, были непримиримыми врагами. Вслед за ними вся Помпея разделилась на два лагеря: на гедонианцев и поклонников Изиды. Иерофантида, жившая в уединении и замкнутая в самой себе, ничего не знала об этой борьбе и не замечала ее.
Со времени поцелуя Антероса в душе и жизни Альционы произошла большая перемена. Какой-то высший мир, казалось, снизошел в нее, окутав ее божественной печалью. Благодаря своему таинственному страданию и безмолвным мукам она действительно сделалась иерофантидой, но иерофантидой свободной, не знающей власти учителя. Мемнон наблюдал за нею и слушал ее с религиозным вниманием, но уже не направлял ее. Однако он заметил, что чувство, похожее на тоску по родине, влечет теперь прорицательницу к могущественному утешителю, к невидимому другу, посетившему ее в горестный час, и что, отдаваясь этому желанию души, она рискует порвать все плотские узы и устремиться в иной мир через врата смерти. Он испугался и приложил все старания, чтобы вернуть ее к жизни. В этих стараниях, как это ни странно, ему помог сам Антерос, сказавший погруженной в глубокий сон жрице: «Вернись на землю. Ты должна страдать еще, чтобы исцелиться и спастись. После этого ты увидишь меня так, как никогда не видела». С тех пор Альциона снова стала интересоваться жизнью. Иногда она заговаривала с Мемноном и Гельвидией об Омбриции, как о далеком друге, который должен когда-нибудь вернуться и приобщиться к свету Изиды. Жрец и жена дуумвира не возражали ей и не рассказывали о триумфах бывшего трибуна и его блестящей карьере, которую слухи неразрывно связывали с именем Гедонии Метеллы. В то же время по совету Мемнона Альциона стала принимать в храме в присутствии иерофанта всякого рода просителей, больных и страждущих, мужчин и женщин, испытываемых судьбою. По взгляду, по прикосновению она узнавала их физические страдания, читала их тайные мысли, их прошлую жизнь и давала им совет. Иногда, хотя и редко, она предсказывала и будущее в смутных или определенных выражениях. Отсюда возникла все возраставшая популярность иерофантиды, а несчастье преображало ее, и в покорности своей она черпала как бы новые силы для жизни.
Но неожиданное событие нарушило весь этот покой — событие вызвавшее целую бурю в душе иерофантиды и в городе Помпея.
Однажды утром Альциона спала в гамаке, в курии Изиды. Старуха Нургал, лежавшая у ее ног, играла со страусовыми перьями и цветными стеклышками. Вдруг с улиц донесся крик: «Да здравствует консул Омбриций Руф!» Альциона проснулась и мгновенно вскочила.
— Омбриций! — воскликнула она. — Нургал, ступай, посмотри, что там такое!
Нубийка побежала, спотыкаясь, и вскоре вернулась с вестями. В городе стало известно, что консул Омбриций Руф празднует триумф в Риме и через несколько месяцев совершит торжественный въезд в Помпею. Толпа, подстрекаемая гедонианцами, ликовала заранее в ожидании этого радостного события. При звуке имени Омбриция, произнесенного устами толпы, спавшее прошлое проснулось в сердце Альционы.
— Принеси мне шкатулку из слоновой кости, — сказала она нубийке.
Сев на каменную скамью на площадке курии, Альциона поставила шкатулку на колени. Она долго смотрела на маленьких амурчиков, образующих фриз ящика, и на Венеру, украшавшую крышку. Ведь это был залог любви Омбриция, его свадебный подарок. Медленно она открыла шкатулку. Хрупкие руки ее потрогали тяжелые браслеты. Вдруг она взяла коралловое ожерелье и прижала его к губам. Но тут же пронзительно вскрикнула. Ей показалось, что она снова ощутила на губах своих страшный поцелуй, которым дерзкий трибун некогда овладел ее чувствами и сердцем.
— Я не хочу оставаться здесь… — сказала Альциона. — Проводи меня к Гельвидии.
Обе женщины оделись в длинные столы, закутали головы покрывалами и вышли на шумные и кишевшие народом улицы.
Альциона застала Гельвидию под колоннадой атриума, среди улыбающихся статуй, у журчащего фонтана, каскадом спадавшего в имплювиум. Перед ней стояли ткацкие пяльцы, а на яшмовом столике с грифоновыми ножками лежали разноцветные мотки шерсти. Но в эту минуту Гельвидия оставила работу, чтобы взглянуть на своего второго, двухлетнего ребенка, спавшего в тростниковой колыбельке, похожей на лодку. Услышав шаги Альционы, она подняла голову и воскликнула:
— Посмотри, какой он хорошенький! Когда он спит, он похож на Гельвидия.
Иерофантида смотрела на ребенка, не говоря ни слова. Гельвидия встала. Обе женщины взглянули друг на друга и взялись за руки. Они составляли полный контраст. В спокойных глазах темноволосой и величественной Гельвидии, в ясном лице ее, было выражение силы и спокойствия, свидетельствовавших о полном счастье. Наоборот, казалось, что бурный ураган скрутил огненные волосы на голове Альционы. Черты лица ее были взволнованы, и страстные чувства окружили глаза ее темной синевой.
— Что с тобою сегодня? — спросила жена дуумвира.
— Ничего, но я должна непременно услышать твой голос. Спой мне гимн, который так любит Гельвидий, Песнь дориянки.
— Я не хочу, — сказала Гельвидия. — Эта песня всегда расстраивает тебя.
— Сегодня она меня не расстроит. Спой, если любишь меня, я прошу тебя, даже требую!
С этими словами Альциона сняла лиру черного дерева с инкрустациями из слоновой кости, висевшую на золоченом гвозде колонны. Она вложила ее в руки подруги и заставила ее сесть возле колыбели малютки. Покоренная ее ласками, Гельвидия не противилась и, повинуясь властному взгляду девушки, запела низким голосом страстную песнь, сложенную в бурном ритме:
В лесах дикой горы Я спала на камне. Свистела буря; под ветвями Бог Солнца, Аполлон, предстал передо мной. Огонь кудрей его горел сквозь тучи, И взор его, как стрелы света, пронзил меня. Пораженная в сердце, Я томилась любовью, Грустна и бледна, я влачила Безотрадные ночи в пустынной пещере. И в злобе, Я прокляла день, И рвала, презренная рабыня, Влажные волосы над бледным ручьем. Но я увидала тебя, на военной колеснице, Один, свободный, гордо ты стоял, как лучезарный герой… И мне показалось, что вновь увидела я властелина, бога, Моего солнечного царя! Я буду хранить огонь твоего жилища, Бросать я буду твое копье, И встану на твою прекрасную колесницу, О, муж, в ком бьется сердце льва! Я вырвала стрелу из моего сердца С тех пор, как я увидела тебя, герой, мой господин, С тех пор, как улыбнулось мне твое солнечное око О, сын Аполлона!Альциона слушала неподвижно, обвив руками колонну и прижавшись головой к ее желобкам. Но когда Гельвидия, увлекаемая ритмом поэтической песни, закончила ликующим возгласом, Альциона бросилась к ней, выхватила у нее лиру и воскликнула:
— Довольно! Остановись! У тебя есть муж, герой, сын Аполлона, а у меня, у меня нет никого!
— Я так и знала, — сказала Гельвидия, сжимая ее в объятиях с нежностью, смешанной с досадой. — Зачем ты заставила меня петь эту песнь?
— Я хотела знать, хватит ли у меня силы привлечь моего героя. Ну, вот, я думаю, что хватит.
— О ком говоришь ты?
— О консуле Омбриции Руфе, который должен приехать в Помпею.
— Несчастная! Так ты не знаешь, что он находится во власти страшной и развратной женщины, злой волшебницы, адской колдуньи!
— Я знала это давно по своим сновидениям.
— Ты думаешь, что сможешь вырвать его у этой женщины? Ты только погубишь себя.
— Все равно. Я должна попытаться спасти его. Пойдем в сад Изиды, я не была там со времени поцелуя Антероса. Я хочу увидеть опять фонтан лотосов, где я поклялась любить Омбриция до смерти.
Альциона залилась слезами и спрятала лицо на груди Гельвидии, потом вдруг подняла голову и сказала:
— Пойдем, я так хочу!
Пройдя по выжженным солнцем полям, под цветущими лозами дикого винограда, фестонами свешивающегося со стволов вязов, обе женщины подошли к саду Изиды. Все говорило здесь о полной заброшенности. Мастиковые деревья и молочаи росли на развалинах. Сорные травы заполнили дорожки. У фонтана лотосов камыш и простые водяные растения покрывали водоем, и плесень их заглушала священный цветок Египта. Глаза Альционы устремились к тому месту, где Омбриций говорил ей о своей любви и где она связала себя с ним торжественной клятвой. Инстинктивно они искали статую Изиды — вместо нее она увидела погребальную урну, с которой свешивался черный креп, от дождей уже превратившийся в оборванный лоскут. Три маленьких кипариса окружали этот маленький памятник.
— Боже мой, что это! — воскликнула дочь Мемнона.
— Разве тебе не известен обычай, принятый в школе Пифагора? — сказала Гельвидия. — Когда какой-нибудь ученик изменяет учению и восстает против своих учителей, его считают умершим. Это могила прежнего Омбриция, он теперь для них не существует.
— Возможно ли?.. — промолвила Альциона, дрожа всем телом и побледнев еще сильнее.
— Смотри и читай! — сказала Гельвидия.
Альциона нагнулась и прочла слова, высеченные в камне:
«Здесь лежит Омбриций Руф. Он мертв более прочих мертвецов, ибо вернулся к дурной жизни. Тело его вращается среди живых, но душа его угасла. Ученики, плачьте над нею».
С воплем отчаяния Альциона упала возле маленькой колонны и обвила ее руками. Она долго плакала, потом встала и сказала с мрачной решимостью:
— Ну, что ж! Я воскрешу эту душу!
— Не пытайся сделать невозможное, — умоляюще проговорила Гельвидия.
Но ничто не могло повлиять на решение Иерофантиды. Несколько дней спустя она с помощью Гельвидии заменила погребальную урну статуей крылатого Эрота с опрокинутым светильником, символом Гения воскресения, бодрствующего над усопшими. Каждый день она возвращалась в сад Изиды и размышляла и молилась возле колонны. Мысль ее устремлялась иногда к Гедонии Метелле, которой она никогда не встречала, но часто видела по ночам во сне. Часто патрицианка являлась ей обнаженная, сияя дивной красотой, с горящими и пристальными глазами, в диадеме на царственной прическе, с распростертыми руками. Но вдруг к телу ее прирастала отвратительная перепонка серого, почти черного цвета. Перепонка эта соединяла руки и ноги, как два веера, и по краям была усажена длинными, как когти, ногтями, что делало эту роскошную женщину похожей на гигантскую летучую мышь или, скорее, на гарпию, готовую ринуться на иерофантиду, чтобы задушить и растерзать ее. Но Альциона устремляла на видение свою волю, острую, как меч, и ужасный призрак бледнел и испарялся с криком дикой птицы. Что же касается до Омбриция, то Альциона видела его мрачным, встревоженным. Она осеняла его своею любовью, как белыми голубиными крыльями. Но не могла удержать его. Он постоянно ускользал. Вследствие этих настойчивых и постоянных видений у иерофантиды явилась уверенность что она действует на своего далекого врага и умаляет его влияние.
В это время Гедония Метелла, вернувшись в Помпею, собирала своих сторонников и искусно подготовляла город к приему консула Омбриция Руфа и к своему бракосочетанию с ним. Уже несколько дней она жила в своей вилле в Байях. Охраняемая ливийскими невольниками, она все ночи проводила одна в гроте на мысе, где находился храм Гекаты. Сюда она уединялась обычно в трудные периоды жизни для того, чтобы сосредоточиться и запастись новыми силами.
Дочь Метеллия приближалась к цели своих желаний. Торжественный въезд Омбриция в Помпею с возданием консульских почестей, бракосочетание с триумфатором — разве это не был достойный венец всей непорочной и честолюбивой жизни? Долго искала она человека, который был бы равен ей, но которым вместе с тем она могла бы повелевать. Наконец, она нашла его в буйном и дерзком трибуне. Медленно и уверенно она укротила его и сделала из него послушное орудие. И теперь она любила его всепоглощающей ревнивой любовью, как свое творение, как свою вещь. Поэтому, вливая в него яд взглядов и лобзаний в тайне ночных восторгов, когда никто не мог захватить их врасплох, она называла его «своим могущественным цезарем». И горе той, которая захотела бы отнять его у нее! Но кто же мог бы это сделать? Кто осмелился бы? И тем не менее глухое беспокойство охватывало ее по временам. В момент достижения высшей цели жизни, в момент, когда рука уже протягивается к давно желанной добыче, боязнь лишиться ее достигает высшей степени. Гедония проводила тревожные ночи. Ей снились чайки и цветы лотоса, которые пугали ее, неизвестно почему. Небо было тускло и покрыто тучами, воздух удушлив. Женщина, не боявшаяся никого, терзалась внезапным страхом перед безмолвием ночи.
Однажды утром, на бледной заре, страшная буря разразилась над заливом Неаполиса. При первых порывах ее Гедония вскочила со своего ложа и выбежала на край мыса, откуда можно было полюбоваться зрелищем. Стряхнув с себя все страхи, она дышала полной грудью и чувствовала себя в своей стихии. Тяжелые тучи закрывали тусклый и бледный свет. Ураган уже бушевал с пронзительным свистом. Море из синего стало черным. Потом покрылось белой пеной, как от тысяч ревущих псов, и, наконец, стало желто, словно стая мечущихся львов с развевающимися гривами. Слабее мух, гонимых ветром, все барки и суда попрятались в бухтах. Вскоре обширный залив походил на кипящий котел. Армия бесчисленных волн осаждала берега. Они скакали вокруг рифов и островов как бешеный хоровод Амфитриды и ее нимф.
Стоя на краю мыса, склонившись над бездной, Гедония, раздувая ноздри, с упоением вдыхала ветер, пену, пространство и все море. О дивное море!.. Где она купалась накануне, ласкаемая его струями, пропитываясь его мощью, — разве оно не она сама? Доверяя ему свое прекрасное тело, растворяясь в нем совершенно, не поглотила ли она его в свою очередь, чтобы самой сделаться волной, водорослью, сиреной? Она любила в море его неукротимую ярость, жестокую и ненасытную, его богатство, созданное кораблекрушениями, и его бесстрастие. Да, это море было подобно ее огромному желанию, со всеми его скрытыми силами и всем напряжением его страсти. И ураган, хлеставший его, раздиравший его грудь, разве он не воля Гедонии, управляющая этими силами и по своему усмотрению придающая форму этому желанию? Чтобы лучше насладиться объятием стихий, она откинула покрывало, распустила волосы, обнажила руки и грудь. Буря бешено ревела, море вздымалось. Брызги волн долетали до храма Гекаты и ударялись в лицо ее жрицы. Женщина и буря целовались.
Она кричала:
— Ко мне, демоны воздуха и океана! Войдите в сердце Гекаты, чтобы она покорила сердце Помпея!
Теперь Гедонии казалось, что этот яростный ветер, рвавший море, превратился в Омбриция, пытавшегося покорить свою возлюбленную. Но это не могло ему удасться. Потому что море, уравновешенное между берегами и рифами, постоянно обрушивалось на свою массу, царственное, хотя и разъяренное, неистовствуя на поверхности, но спокойное в глубине. В конце концов оно утомило своего господина, поглотило его, повелевая и собою, и ветром. Тогда они составили одну лишь силу, способную опрокинуть и разрушить все.
Довольная тем, что обрела спокойствие и доверие к своим силам в этой мысли, Гедония вернулась в дом, расположенный за мысом, у подножия холма, в маленькой роще. Здесь она целый день писала письма, принимала разведчиков, отдавала распоряжения. Вечером, когда она вернулась в грот на мысе, в убежище, где имела обыкновение проводить ночи за храмом Гекаты, буря утихла. Море еще плескалось у подножия утесов. Черные разорванные тучи неслись по небу, и луна ныряла среди них в серебристой и опаловой пене. Гедония растянулась на ложе, на котором впервые приняла поцелуй Омбриция, — кровавый поцелуй, страшные чары которого жили в ней, как и в нем, и конечного исхода которого никто не мог предвидеть. В этой ночи было что-то тревожное и зловещее. Снаружи слабые порывы налетавшего ветра стонали в деревьях. Этот ветер, которого она не боялась, когда он бушевал ураганом, казался ей теперь предателем, подстерегавшим ее мысли. Летучая мышь влетела в грот и, порхая, ударялась о стены, освещенные красным отблеском жаровни. В полумраке Гедонии представлялись неисчислимые глаза ларв, устремленные на нее, и она чувствовала, как предательские крылья и мохнатые лапы щекочут ее съежившуюся кожу. Кто были эти призраки, коварные и изменчивые, рожденные в воздушных безднах? Гедония, любившая ураган как любовника, Гедония, не боявшаяся людей и не верившая в богов, — Гедония Метелла боялась этого сумрака и этого слабого ветра, шарившего повсюду. Где-то выла на луну собака. Ей показалось, что она слышит хрипение умирающего и шаги убийцы. Она вскочила, схватила кинжал, с которым никогда не расставалась, и вышла на террасу. Напугавший ее шум был лишь треском сломленного бурей дуба. Вернувшись в грот, который служил ей спальней во время магических действий, патрицианка выпила кубок сицилийского вина, сдобренного лавровыми листьями и головками гвоздики. От напитка этого она впала в тяжелый сон, но ночь ее была полна кошмаров. Ей казалось, что она видит Омбриция, залитого кровью Цецины, точно он был одет в пурпурную мантию. Он смотрел на нее с упреком. Вся белая, девушка приблизилась к нему с умоляющим жестом. Омбриций тотчас же бросился на Гедонию, чтобы вырвать у нее кинжал, освященный Гекатою. Она ударила им его, но в то же мгновение почувствовала, как в горло ей вцепились железные когти, похожие на когти Немезиды, богини возмездия с бронзовыми руками и ногами.
Гедония протяжно застонала и проснулась с криком хищного зверя.
Как? Неужели она побеждена?.. Она! И побеждена кем же? Какой-то жалкой девчонкой? А! Она узнала ее… Это может быть только ее смертельный, ее единственный враг… Альциона! И она ясно почувствовала, что жрица Изиды преследует ее издали невидимым мечом своей девственной воли и что она тайным, непонятным образом влияет на Омбриция и грозит из глубины своего храма разрушить искусную ткань, сотканную патрицианкой. Гедония поднесла руки ко лбу, покрытому холодным потом. Все тело ее содрогалось. Она зажгла смоляной факел от жаровни и прошла в святилище в сталактитовом гроте. Здесь по-прежнему стояла в своей нише ее единственная богиня, Геката, каменный призрак, увеличенное изображение ее самой, созданное ею, но в которое она тем не менее верила, как в единственную силу. Геката, бледная и страшная, смотрела на нее своими кровавыми глазами. Они говорили: «Для того чтобы победить своих врагов, будь нечувствительна и беспощадна». Решение ее созрело. Она должна встретиться наедине с жрицей Изиды, устрашить ее, показав ей, что она ее не боится, отнять у нее ее силу или убить, в случае надобности, взглядом, отравленным ненавистью. Но как осуществить эту встречу?
По возвращении в Помпею Гедония позвала старого раба, служившего ей помощником в тайных предприятиях и приказала ему проследить за жизнью и действиями жрицы Изиды. Старик явился вечером и рассказал патрицианке, что жрица каждый день отправляется в сад Изиды и проводит там долгие часы в размышлениях и молитве возле мнимой могилы Омбриция Руфа.
— Негодная! — воскликнула Гедония Метелла. — Она хочет убить его и меня своими магическими заклинаниями. Вот новый пункт обвинения против поклонников Изиды. Они погибли! Но необходимо, чтобы я застала ее на месте преступления… эту жрицу… лицом к лицу! Завтра же я отправлюсь в сад Изиды, ты проводишь меня.
Гедония Метелла совершенно успокоилась, и самообладание вновь вернулось к ней. Правда, она подозревала, что иерофантида обладает неведомой силой, но во всяком случае перед нею был несомненный и определенный факт. Значит, не Невидимый окружал ее неосязаемыми врагами. Она знала, где находится ее враг и каким образом следовало напасть на него.
Теперь начиналась борьба — и борьба не на жизнь, а на смерть — между Нею и Другой.
На следующее после этого дня утро Альциона попросила Гельвидию оставить ее одну у фонтана лотосов. Старый слуга должен был проводить ее обратно в Помпею при наступлении сумерек. Она села под мимозой на краю источника, возле колонны. Долго смотрела она на бассейн со стоячей водой, где лотосы погибли почти все. Один только цветок еще держался у самой воды, но, по-видимому, у него уже не было силы раскрыться. Солнце садилось позади группы оливковых деревьев и ласкало белую жрицу своими желтыми лучами. Все вокруг нее было залито золотистым светом: развалины храма Цереры, окруженные олеандрами, храм Персефоны в куще кипарисов, широкие листья водяных растений на поверхности источника и прозрачная листва мимозы, спадавшей над стоячей водой как белокурые кудри. Но в сердце Альционы царили только грусть и мрак, и грусть как бы закрывала от нее мир черным крепом. Напрасно в течение целого ряда дней она призывала Омбриция. Тщетно надеялась она, что он вернется на призывы ее сердца в это место, освященное их любовной клятвой. Между ним и ею порвались последние нити. Она села у подножия колонны и закрыла глаза. Жгучие слезы струились из-под ее опущенных век. В душе она посвящала себя смерти. И от этой мысли душа ее преисполнилась ощущением мира и покоя. Но это отрадное чувство вскоре сменилось другим, тревожным и тяжелым. Хотя глаза ее были закрыты, ей казалось, что над нею распростерлась и ее гнетет густая тень. Ощущение это становилось почти невыносимым. В эту минуту она услышала шорох в камышах. Она обернулась и пронзительно вскрикнула. В четырех шагах от нее высокая женщина, в широкой серой столе, изящная, закутанная в черное покрывало, стояла и смотрела на нее строгим взглядом, скрестив на груди руки. Пышные волосы ее образовали на ее лбу темный ореол, увенчанный диадемой. Альциона узнала фигуру, которую часто видела во сне, с крыльями гарпии. Но живая женщина была гораздо страшнее в своей зловещей неподвижности, чем ее призрачная тень, рожденная сонными грезами. Медленно Альциона приподнялась и прижалась к колонне, как птица, зачарованная змеем, цепляется за ветку. Наконец, она прошептала глухим голосом:
— Что тебе надо от меня?
Наслаждаясь внушаемым страхом, Гедония безмолвствовала. Альциона продолжала с упорством отчаяния:
— Кто ты?
— Та, которой ты не ждала, — проговорила патрицианка глубоким и звучным голосом. — Ты должна знать мое имя. Меня зовут Гедония Метелла, но я в то же время жрица Гекаты. Берегись, мне известно преступление, которое ты замышляешь.
— Что я сделала тебе? — спросила иерофантида, крепче прижимаясь к холодному мрамору.
— Что ты мне сделала? Ты это прекрасно знаешь, коварная колдунья. Своими дурными мыслями и развратными обрядами твоей проклятой религии ты борешься против меня, чтобы уничтожить мое дело. Ты хочешь лишить жизни меня и моих близких.
— Ты лжешь! — воскликнула Альциона. — Что же я сделала?
Гедония шагнула к жрице движением хищного зверя и, почти касаясь ее, склонила над колонной свое матовое лицо, которому ненависть придавала зеленоватый оттенок.
— Что означает эта лживая могила, на которой я читаю надпись: «Здесь лежит Омбриций Руф»? Это ты, лгунья, выдумала это кощунственное погребение, чтобы зачаровать душу его в этой могиле и добиться его смерти. Это кощунственный алтарь твоих преступных заклинаний.
При этих оскорбительных словах Альциона овладела собой и к ней вернулось достоинство жрицы.
— Эта пустая гробница, — сказала она, — была воздвигнута неверному ученику его учителями. Таков обычай пифагорейцев. Они оплакивают таким образом отсутствующего, и с этим не связано никакого волшебства. Что же касается меня, то я каждый день прихожу сюда думать о том, кто меня некогда любил и кого я люблю до сих пор. Я думаю о нем и призываю его, чтобы он вернулся к свету Изиды. Нет, я не хочу его смерти, но хочу его спасения, потому что он впал в мрак благодаря твоим злодеяниям.
— Злодеяниям? Это ты совершаешь их. Достаточно долго бедный трибун был вашим гостем и твоим рабом. Зачем же ты не сохранила его? Я не стала бы оспаривать его у тебя. Достаточно было ему увидеть меня два раза, чтобы он стал моим. Теперь, когда я сделала его могущественным консулом, ты хочешь отнять его у меня своим колдовством, но, как ты ни ловка, это тебе не удастся. Омбриций Руф принадлежит мне на всю жизнь. Это мое завоевание и моя собственность, мой скипетр и мой венец. Изощряй свое искусство на других добычах, но не трогай моей. Знай, что я не потерплю этого. Я прикажу своим людям разбить в куски эту мнимую гробницу. И для начала опрокину изображение этого мрачного Гения, с которым ты обдумываешь смерть моего супруга.
С горящими глазами Гедония уже занесла руку на маленькую статую; как будто, разбив этот символ, она уничтожила бы одновременно и всю силу иерофантиды. Но та с гордым жестом и трагическим взглядом встала перед нею.
— Ты не коснешься изображения моего Гения-покровителя, раньше ты должна убить меня.
— Несчастная! — воскликнула Гедония, давая простор своей змеиной злобе. — Ты хочешь противиться мне? Да разве ты не знаешь, что ты и все твои, вы осуждены заранее и неминуемо погибнете? Разве ты не знаешь, что ты в моей власти? Повинуйся и отойди прочь, или я убью тебя, чаровница, колдунья, вот этим кинжалом, освященным Гекатой и хранящим на себе следы поцелуя Омбриция!
Кинжал, дремавший под покрывалом, на горячей груди жрицы Гекаты, блеснул в ее поднятой руке. Гедония была уверена, что перед этой угрозой девушка отступит. Взглядом она изливала на свою жертву все свое презрение патрицианки и всю ненависть соперницы. Но Альциона выпрямилась под ее обнаженным оружием в пророческом восторге. Глаза ее стали фиолетовыми и приобрели такую силу и напряженность взгляда, что патрицианка изумилась и смутилась, как будто увидела у нее другой кинжал, более острый, чем тот, что был в ее руке.
— Умереть… ради него… и от твоей руки? Ну, что ж, я согласна. Но ты не знаешь, что тогда ты потеряешь его. Он снова полюбит меня, когда ты прольешь мою кровь. Ибо ты владеешь только его телом, я же владела его душой! Ты хочешь дать мне венец бессмертия? Хорошо, я принимаю его.
Спокойным движением Альциона сняла лавровый венок, висевший на колонне. Гедония отступила на шаг.
— Так порази меня! — продолжала иерофантида, впадая все более в восторженное состояние.
Испуганная Гедония все отступала, Альциона резким движением разорвала свою одежду и обнажила при умирающем свете дня белоснежную грудь, похожую на перламутровую раковину.
— Ударь сюда! Ударь же! Тогда он будет спасен моею кровью. Пронзи эту девственную грудь, пламеневшую для него в одинокие ночи, убей ту, которая отдала себя в жертву ради него. Ты сотни раз держала его в своих объятиях; я же владею им иначе, чем ты. Меня охраняет Гений. Я — победа после смерти!
Шаг за шагом Гедония отступала под молниями этих слов и под острыми кинжалами глаз Альционы. Растерянная волшебница со своим бессильным оружием, казалось, защищалась против этой стремительной девственницы, преследовавшей ее, высоко держа в руках венок.
Обе женщины достигли таким образом поворота на пологую тропинку по ту сторону пруда. Здесь Гедония внезапно повернулась спиной к жрице и крупными шагами побежала по дорожке, как побежденная фурия, шипя от ярости.
У входа в сад она нашла ожидавших ее ливийцев с носилками. В ту минуту, как она поднималась в них, она увидела Мемнона, входившего в сад Изиды и бросившего на нее изумленный взгляд. На расстроенном лице этой женщины жрец прочел страх, а в глазах неутолимую жажду мести.
Предчувствие серьезной опасности заставило Мемнона отправиться в сад Изиды. Встреча с патрицианкой подтвердила его опасения. Он нашел Альциону, судорожно обнимавшую статую Антероса. Когда Мемнон окликнул ее, она бросилась в его объятия. В глазах ее было выражение свирепого торжества. Кровь кипела в ее жилах. Все тело ее горело.
— Что она делала здесь, эта презренная женщина? — спросил Мемнон. — Зачем она приходила к тебе?
— Она хотела меня убить… — ответила Альциона. — Но я прогнала ее, прогнала… прогнала!
Слова эти с криком сорвались к губ иерофантиды, но последнее замерло в слабом вздохе. Слишком сильное напряжение победило ее. Все силы вдруг покинули ее, и она без чувств упала на руки жреца. Мемнон осторожно отнес ее в грот, позади пруда. Здесь он положил свою драгоценную ношу на мелкий песок и сам сел на камень, положив голову жрицы к себе на колени. Долго она лежала без движения, погруженная как бы в оцепенение, и Мемнон тихонько гладил ее золотые волосы, из которых жизненные флюиды вылетали мелкими искрами. Когда она очнулась наконец от своей летаргии, ночь сменила день, и звезды, как очи бездны, пронизывали темную синеву за прозрачной листвой мимозы. Альциона подняла голову, потом встала на колени на песке. Несколько раз она провела руками по лицу, словно возвращаясь откуда-то издалека. Она с изумлением взглядывала то на Мемнона, то на звездное небо, то на колонну со статуей. По мере того, как она узнавала все окружающее, глубокое отчаяние и безутешность все сильнее выражались на ее лице.
— Откуда ты пришла? Что с тобой, моя Альциона? — спросил Мемнон.
Она ответила грустно, подняв один палец:
— Антерос бодрствует надо мною там, наверху, в своем золотом свете, но здесь, во мраке, у меня нет никого, кто любил бы меня.
— А я? — проговорил Мемнон, раскрывая объятия.
Альциона приподнялась и взглянула на своего приемного отца. В глазах его она узнала такую же бесконечную скорбь, как и ее, — скорбь человека, сознающего, что его более не любят. Она вспомнила все, чем он был для нее, и несколько секунд стояла неподвижно. Наконец руки ее распростерлись, и она бросилась на грудь Мемнона с криком сердца, не передаваемым никакими словами. Это движение и этот крик уничтожили пропасть, в течение четырех лет разделявшую их. Альциона, казалось, готова была раствориться в море рыданий и слез. Но мало-помалу она успокоилась под нежными ласками иерофанта. Когда, наконец, Альциона подняла голову, Мемнон охватил ее обеими руками, и они долго смотрели друг на друга, молча, сквозь дымку слез.
Все преграды рушились между ними. Души их смотрели, наконец, прямо в лицо друг другу. Они сливались в бесконечности своего горя, и это слияние наполняло их невыразимым блаженством. Нет, ничто на земле и на небе не могло быть божественнее этого молчания и этого взгляда. Полное самозабвение в чистой любви освобождало их от всех оков. В сердцах их трепетала Душа мира, луч сердца Изиды.
XVIII Возвращение консула
В одно августовское утро 833 года от основания Рима (79 христианской эры) страшная новость, как удар грома, поразила Помпею.
Комиции только что собрались на форуме для назначения новых эдилов. Декурионы в латиклавах стояли посредине площади и убеждали собравшуюся вокруг них толпу поддержать их кандидатов. Табелларии, вооруженные своими списками, громким голосом вызывали избирателей. Форум был переполнен шумной толпой вольноотпущенников, ремесленников, всякого рода рабочих. Булочники отличались своими зычными голосами, сукновалы и цирульники — пронзительными криками. Вдруг перед сенаторами, находившимися посредине форума, появился легат цезаря, носящий почетный титул народного трибуна. Как и сенаторы, он был одет в белую тогу с красной каймой, но голова его была обвязана черным крепом — предзнаменованием плохой вести. В руке он держал оливковую ветку, перевязанную такою же траурной лентой. Что возвестит он? Смерть императора или которого-нибудь из членов императорской семьи? Запрещение игр в цирке, для того, чтобы наказать Помпею за постоянные драки гладиаторов, или высылку какого-нибудь знатного гражданина? Какой бич должен обрушиться на всех или на одного? В этой людской массе пробегал зуд тревожного любопытства, смешанного со страхом, состраданием и жестокостью, охватывающих всякую толпу при приближении несчастья. Наконец чернь смолкла, и посол цезаря заговорил:
— Именем Императора и римского сената, славному городу Помпее привет! Тит Цезарь, преемник Веспасиана, в неусыпном попечении о процветании и благополучии этого города, узнал, что под него подкапываются опасные люди, развращающие его обычаи и угрожающие анархией римскому народу путем чужеземных культов и учений, враждебных Империи. Чтобы защитить город от его врагов, столько же, сколько и для того, чтобы оградить самого себя, цезарь предает своему суду дуумвира Марка Гельвидия и его жену, Мемнона Александрийского, жреца Изиды, и иерофантиду Альциону по обвинению в тройном преступлении: заговоре против римского народа, оскорблении императора и занятии волшебством. Для произнесения приговора в этом процессе он передал свои полномочия товарищу своему, консулу Омбрицию Руфу, который через три дня совершит торжественный въезд в город и разберет это дело в помпейском суде.
Несколько возгласов: «Слава Цезарю Августу!» со стороны собравшихся гедонианцев последовали за этой прокламацией, но народ, переполнявший площадь, принял ее мертвым молчанием. Все были поражены. Обвинение дуумвира, первого магистрата города, было делом серьезным и почти равнялось оскорблению города. И, кроме того, Гельвидия уважали за его приветливый характер, любовь к справедливости, великодушие и щедрость. Что же касается до иерофантиды, то ее любили за ее прелесть и доброту. Все знали, что она чище Дианы, выходящей из волны. Она исцелила многих больных, и народу нравилось смотреть на нее, когда она проходила в своем жреческом одеянии с длинными прямыми складками. Простой народ называл ее весталкой, а артисты и художники — Изидиной голубкой. Поэтому в пестрой толпе пронесся ропот сострадания и послышались отдельные возгласы: «Добрый Гельвидий! Наша бедная Альциона!»
Тем временем дуумвир Лентул, товарищ обвиняемого, вышел вперед, чтобы успокоить народ. Он произнес пространную, осторожную речь, полную искусной лести, и закончил ее словами: «Не думайте, чтобы Тит Цезарь питал недоброжелательство к этому городу или ненависть к обвиняемым. Против них предъявлены важные обвинения. Они будут рассмотрены здесь, перед вами, с полным беспристрастием. Вы все будете свидетели этого дела. Обвиняемые будут защищаться, и если они окажутся невинными, цезарь первый осыплет их милостями и покарает их клеветников. Что же касается до знаменитого Омбриция Руфа, то он приезжает не только во всеоружии своих побед и доверия императора, но и в качестве ликующего триумфатора. В ознаменование своей победы над бретонцами он даст в Помпее два больших зрелища в театре и три боя гладиаторов в цирке. Приготовьтесь встретить его достойным образом».
Обещание триумфального праздника и публичных игр имели такую привлекательность в глазах народа, что радостные крики встретили эту речь, и такова переменчивость толпы, что непрочная симпатия к дуумвиру и поклонникам Изиды быстро потонула в шуме, вызванном ожиданием новых увеселений.
Уже несколько месяцев Мемнон, осведомленный о кознях Гедонии в Риме и интригах гедонианцев в Помпее, ожидал рокового удара. Он убеждал Гельвидия предотвратить его, выселившись из Помпеи со всей группой приверженцев на давно уже готовой триреме, чтобы продолжать святое дело в каком-нибудь греческом или египетском городе, вдали от подозрительного ока цезаря и коварной патрицианки, поклявшейся погубить их всех. Гельвидий высказывал противоположное мнение. Он отвечал, что час великой и решительной борьбы настал, что нужно выдержать удар и встретить врага лицом к лицу, хотя бы и рискуя жизнью. Он рассчитывал на могущество своего слова, на авторитет, которым пользовалась иерофантида и, несмотря на все, на справедливость цезаря. Его мнение взяло перевес.
Когда Альциона узнала, что Омбриций возвращается триумфатором и будет судить ее близких, она поняла только одно, что она снова увидит его, очутится с ним лицом к лицу. Одна эта мысль пробудила в ней непобедимую надежду влюбленной и всю гордость жрицы. У нее тотчас же явилось желание сделать последнее усилие, чтобы вернуть своего прежнего жениха, сделавшегося могущественным консулом, к свету истины силой своей любви. И желание это, едва зародившись в ее пылком девическом сердце, превратилось в светлую уверенность.
Гедония, сильная милостью цезаря и победами своего любовника, царила полной повелительницей в своем помпейском дворце, готовясь вместе с Лентулом и братством гедонианцев к торжественной встрече Омбриция, за которой в недалеком времени должно было последовать ее бракосочетание с консулом. Но в радости этой таилась непобедимая тревога. Могла ли она забыть свое постыдное поражение в саду Изиды, обнаженную грудь иерофантиды, подставленную под ее кинжал, торжествующий взгляд девушки, изгнавшей ее как воровку, и лавровый венок, которым она размахивала в знак победы? Утонченная женщина в сладострастии и искусстве жизни, Гедония была мужчиной в действии. Мужчина же больше всего придает значение своей вере в себя. Лишенный всего, он еще может завоевать целый мир, обладая этой верой. Но, если даже в руках его будет мир, без нее мир этот распадется в прах. Ибо вера эта и есть сила сил, самая суть мужества, цитадель воли. Злым это известно так же, как и добрым. И они не могут простить тем, которые заставят их усомниться в самих себе. Вот почему Гедония Метелла, будучи вполне уверенной в Омбриции, не прощала иерофантиде. Ей необходимо было блестящее возмездие, унижение ее соперницы, уничтожение поклонников Изиды. Только тогда оскорбленная римлянка снова сделалась бы в своих глазах непобедимой Гедонией Метеллой. Поэтому она заранее устанавливала вместе с Лентулом ход процесса, обвинительный акт, список свидетелей.
Тем временем Омбриций направлялся из Рима в Помпею со свитой, состоящей из когорты легионеров. По пути его приветствовали, бросали цветы. Он достиг вершины своих желаний и все же никогда до сих пор не испытывал подобной тревоги. Гедония заставила его принять на себя роль судьи поклонников Изиды. Он знал, что осуждение их есть непременное условие его женитьбы на патрицианке. Роль эта была ему противна. Несмотря на все, бывший его учитель Мемнон внушал ему уважение. И потом, как мог он быть палачом Альционы? Со времени сцены таинственного поцелуя Антероса он вспоминал о ней с горечью. Но как бы он ни обвинял жреца в обмане, а иерофантиду в измене, она все же оставалась для него совершенно особым существом, странным и священным. Что он почувствует при виде ее? Как в этом процессе, созданном ненавистью и местью, примерит он достоинство консула и судьи с тиранической волей Гедонии Метеллы и с состраданием, которое должно оказывать девушке — притом, может быть, невинной?
Но когда Омбриций с большой пышностью был встречен у ворот Помпеи городским сенатом, фламинами Юпитера и самой Гедонией во главе жриц храма Августа; когда вечером он очутился в нимфеуме патрицианки, окруженный лестью партии гедонианцев; когда увидел светильники своего будущего Гименея, горящие в больших черных глазах его любовницы как огненные факелы, — все страхи и сомнения его рассеялись. Женщина, вливавшая ему в один и тот же кубок наслаждение и честолюбие, снова всецело завладела им. С этого дня молодой консул испытывал странное ощущение. Опьяняющий нектар, который он большими глотками пил из глаз, голоса и с уст Гедонии, переливался в его жилах тонким ядом. Он ожесточал его сердце и облекал грудь его чешуей, непроницаемой для всех чар Изиды.
Процесс продолжался уже целую неделю. Свидетели и обвиняемые были допрошены, наконец настал день приговора.
Помпейский суд представлял открытую ложу, образованную тремя аркадами, напротив храма Юпитера, по ту сторону большого прямоугольного форума. Под каждой аркадой находилось по массивному курульному креслу из мрамора. На среднем, самом высоком, заседал судья, консул Омбриций Руф; направо от него — дуумвир Лентул, налево — декурион, исполнявший обязанность писца и направлявший процедуру. Позади консула бюст цезаря из белого мрамора выделялся на фоне сложенных военных трофеев, состоявших из щитов, копий и бронзовых орлов, знаков отличий легионов. Это медное солнце со стальными лучами блистало могуществом Рима, царящего над миром силой оружия. Напротив судьи, несколько ниже и на самой площади, было устроено нечто вроде деревянной трибуны, на которой помещались четверо обвиняемых: Гельвидий и его жена, иерофант Мемнон и иерофантида Альциона. Ликторы и легионеры, выстроенные полукругом, отделяли обвиняемых от шумной толпы, покрывавшей площадь. Свидетели из различных городов и из самой Помпеи не могли доказать ни единого преступления обвиняемых, ни одного нарушения законов. Но в этот день Лентул, повторяя и резюмируя свое обвинение, запутал Гельвидия и Мемнона системой коварных инсинуаций. Он обвинял своего сотоварища в желании посредством многократных путешествий отделить несколько итальянских и сицилийских городов от Римской империи, смещая в них сенаторов и восстанавливая аристократическое правление, и в стремлении его к царской власти. Речь его кончалась ядовитым обращением к жрецу Изиды:
— Что до тебя, Мемнон, — сказал Лентул, — то ты не более, как сообщник заговорщика Гельвидия. Ты ввел в этом городе культ мнимой богини, Изиды египетской, для того чтобы отвратить народ от отечественных богов. Вместе с твоей иерофантидой, женщиной-пифией, ты предавался занятию волшебством. Она предсказывала будущее, исцеляла больных именем злых гениев и накликала чары на своих врагов. Наконец вы оба, так же, как Гельвидий и его жена, отказались принести жертву божественному Августу и ныне царствующему цезарю, правящему миром. За эти преступления мы ожидаем, что консул приговорит вас к наказанию, налагаемому в таких случаях законом. Мы просим, чтобы роковая трирема, принесшая возмущение на берега Италии, была выдана нам; чтобы оружие и сокровища ее поступили в распоряжение императора; чтобы остов проклятого судна, отягченный кознями и злодеяниями, был разломан на куски и сожжен на морском берегу в присутствии муниципалитета Помпеи.
Гельвидий встал и опроверг по пунктам обвинения Лентула, за исключением обвинения в отказе совершить жертвоприношение цезарю, которое он обошел молчанием. Он закончил следующими словами, бесстрашно подтверждающими его мысль, его намерения и надежды:
— Я не боролся против цезаря, я защищал свободу городов и их древние традиции. Города существуют для того, чтобы создавать избранное общество свободных людей, воспитывающих в народе свободу и достоинство. Ныне, вследствие трусости, лжи, пороков и подкупности, вы являетесь не более как рабами цезаря или черни. Мы же, посвященные, работаем для создания такого порядка вещей, при котором городские должности будут распределяться сообразно с душевными качествами, и даем пример этого в наших гетериях, где все души свободны, но каждая действует сообразно со своим положением. Ради этой божественной мечты, ради вечной истины мы одинаково готовы и жить, и умереть.
— Ты хотел быть царем! — крикнул Лентул.
— Да, царем по духу! — звенящим и гордым голосом произнес обвиняемый.
За ним поднялся Мемнон и произнес торжественно и серьезно:
— Я не знаю, виновны ли мы по законам империи и римской религии, но мы невиновны по законам божественным, начертанным в каждой чистой совести. Мы утверждаем только ту истину, которая обнаруживается нам в глубинах сознания и на вершинах мышления. Эта вечная истина более всех скрыта от толпы, но она самая старая в мире. Она была истиной посвященных во все времена. Она угадывается воодушевлением, завоевывается жертвами, доказывается действием. Порядок, который мы хотим установить на земле, есть лишь отражение верховной иерархии, царящей в силах видимой вселенной и в мире духов, в который мы проникаем. Мы идем к веку, когда боги будут пониматься в самом существе своем и сольются в свете Изиды, которая есть Душа Мира.
— Говоря таким образом, — прервал его Омбриций, — ты кощунствуешь против государственных богов и подтверждаешь свою виновность.
Мемнон продолжал:
— Было время, когда ты, говорящий с столь высокого места, сам устал от самого себя и от этих каменных и бронзовых богов, которых деспотизм превратил в свое послушное орудие. Ты пришел к нам полный жажды к истине и надежды на свет. Тогда ты называл нас своими учителями, Омбриций Руф. Сегодня ты хочешь судить нас и приговариваешь себя к темнице угрызений, которые душат тебя. Ибо не мы боимся тебя, а ты трепещешь перед нами. Некогда мы заставляли живых богов говорить перед тобою — Духа, одетого светом и огнем. Посмеешь ли ты сказать, что не видел его? Посмеешь ли утверждать перед лицом этого народа, что не верил в стоящую здесь иерофантиду и что она не давала тебе свидетельств истины?
Омбриций сидел с самым жестким и надменным выражением лица, но испытывал невольное волнение при звуке голоса своего бывшего учителя. В первый раз с начала процесса он решился устремить взгляд в глаза Альционы, блестевшие огнем ясновидения. Все видели, что он колеблется.
В эту минуту в толпе произошло движение. Гедония Метелла вышла из храма Августа и показалась в сопровождении жриц. Одетая в пурпуровую столу, с диадемой на лбу и в лиловом газе, окутывающем голову, она встала в центре полукруга, против суда.
— Я являюсь в качестве свидетельницы для подтверждения обвинения, — сказала Гедония. — Месяц тому назад я застала жрицу Альциону на коленях перед мнимой могилой консула Омбриция Руфа. Все могут видеть эту гробницу с именем мнимого усопшего в саду Изиды. Из чувства мести она призывала своих злых гениев, чтобы убить на расстоянии консула, которого она боялась в качестве судьи.
Ропот пробежал по толпе. Альциона встала и звонким, ясным голосом произнесла:
— Нет, никогда! Я просила у Бога не его смерти, а своей. Возле гробницы, воздвигнутой учителями неверному ученику, я предлагала себя в жертву ради его спасения.
Из другой группы народа донесся гул восхищения. Поддерживаемая этой волной симпатии, Альциона по внезапному вдохновению покинула скамью на трибуне, поднялась по трем ступенькам судилища и, став на колени перед консулом, с умоляющим движением протянула ему цветок лотоса, который держала в руке. Нежный и проникновенный голос ее пронесся как вздох, и стоявшие поблизости услышали:
— Вспомни, Омбриций Руф!
Тогда гедонианцы, видя, что консул колеблется и что дело их может быть проиграно, стали кричать: «Она виновна! Преступление ее доказано! На Гемонские ступени колдунью!» Чтобы прекратить этот шум, грозивший помешать его свободному решению, Омбриций встал, простирая одну руку над просительницей:
— Тише! — крикнул он толпе. — Подождите приговора!
Гедония Метелла, видя, что у нее оспаривают победу и что судья почти готов склониться в сторону Альционы, выпрямилась с презрительной гордостью и продолжала:
— Это не все. Эта хитрая и коварная женщина, которая теперь плачет и умоляет, чтобы обмануть своего судью, — я видела, я слышала, как она грозила мне смертью, как фурия, на ложной могиле своего бывшего любовника!
— Ты лжешь! — воскликнула Альциона, вставая и выпрямляясь как лилия. — Это ты хотела убить меня своим кинжалом… Я призываю в свидетели богов и моего божественного покровителя, спасшего меня от тебя, — моего Гения Антероса!..
Услышав это имя, Омбриций мгновенно увидел в воображении всю сцену поцелуя Антероса. Его безнадежная любовь к жрице и яростная ревность к неуловимому возлюбленному проснулись в нем и повергли его в страшную нерешительность. Это впечатление было так сильно, что в течение нескольких секунд ему казалось, будто он видит над иерофантидой, бросившей вызов своей сопернице, видение, появившееся в храме Персефоны. Но это был уже не пастух с посохом, не Эрот с факелом, это был юный воин, подобно новому Гармодию, державший в руке меч, перевитый миртовой ветвью.
Консулу стало страшно и, отступив на шаг, он оперся рукой о курульное кресло.
Пользуясь этим обстоятельством и обращаясь к народу, Гедония воскликнула:
— Вы видите, она хочет заколдовать моего супруга, призывая своего демона!
При виде этого нового положения, обнаруживающего самые сокровенные мысли души и самые глубокие пружины воли, перед этой сценой, ставившей лицом к лицу двух соперниц, оспаривающих друг у друга перепуганного судью, перед этим неожиданным эффектом, превращающим суд в театр, все страсти толпы разыгрались как бурное море. Одни кричали: «Да здравствует иерофантида!», другие — «Да здравствует Гедония Метелла!», третьи — «Да здравствует Омбриций Руф!» Патрицианка, чувствуя, что в этом страшном смятении необходим явный поступок и властное слово для того, чтобы привлечь симпатии народа и склонить на свою сторону весы человеческого правосудия, возымела блестящую мысль. Она бросилась к судилищу, схватила консула за плечо, как бы для того чтобы стряхнуть с него чары, и, возложив на его голову золотой венок, который держала в руке, воскликнула:
— Да защитит Юпитер консула и правосудие цезаря!
Громкие клики раздались на площади, все повторяли эти слова, и вскоре к ним стали примешиваться крики: «Смерть поклонникам Изиды!». Протесты меньшинства были заглушены все возраставшим шумом. С этого момента в неистовствующей человеческой массе не было уже ни судьи, ни судилища, ни свидетелей, ни аудиторов, а группа любовников, охваченная океаном разъяренных страстей. От прикосновения Гедонии, обнимавшей его торжествующим жестом, Омбриций почувствовал, что страх покидает его, и он снова вернулся на землю. Он не видел уже ни иерофантиды, ни своих бывших учителей. Он слышал только рев тысячеголового чудовища, чувствовал горячий ток, струившийся из руки патрицианки и заполнявший его сердце и мозг. Гедония шепнула ему что-то на ухо. Когда шум стих, консул произнес приговор среди торжественного безмолвия:
— Поклонники Изиды виновны. Пусть их отведут в куриальную тюрьму. Цезарь сам решит их судьбу.
Среди возгласов, последовавших за этим приговором, Альциона оставалась неподвижной. Омбриций не видел ее, но Гедония Метелла впивалась в нее сверкающими от торжества глазами. Величественным жестом Альциона сложила руки на груди. Лицо ее стало прозрачно, почти призрачно. Глаза смотрели невидящим взглядом. Никто не заметил судорог, пробегавших по ее телу. Шесть ликторов окружили Мемнона, Гельвидия и его жену, чтобы вести их в подземную тюрьму курии Августа. Двое других грубо схватили за руки иерофантиду. Она не противилась им. В эту минуту группа мужчин, женщин и детей подбежала с криками: «Не делайте вреда жрице, которая нас исцелила! Она священна!» Старый жрец Аполлона, присутствовавший при сцене суда, вмешался и сказал таким тоном, что консул и Гедония не осмелились возразить ему.
— Пусть отведут эту девушку в храм Аполлона. Это — пифия. Я запрещаю, чтобы к ней прикасались, и беру ее под свою охрану. Если цезарь потребует ее, Аполлон возвратит ее ему.
Никто не осмелился протестовать. Ликторы отпустили Альциону, и среди почтительно расступившейся толпы, белая, как ее одежда, иерофантида, прижимая обеими руками к груди цветок лотоса, прошла в храм Аполлона, находивший напротив курии.
XIX Цветок лотоса
В темной келье храма Аполлона старый жрец стоял перед иерофантидой, сидящей на соломенной подстилке.
— Вот твое жилище, — сказал старик, — никто не потревожит тебя здесь. Мы знаем, что твоими устами говорит бог, и защитим тебя. Не бойся ничего и отдохни.
Вместо ответа Альциона опустила в знак согласия голову и протянула руки с благодарным жестом. Потом почти без чувств упала на свое ложе. Жрец оставил ее одну, поставив на стол хлеб и сосуд с молоком.
Приемная дочь Мемнона, мечтательная и вдохновенная, жила до сих пор, повинуясь только своим импульсам. Текущие часы вливали в ее душу упоение или муку, неведомо для нее самой почему. Странные сны переносили ее с земли на небо и низвергали оттуда в ад, и она не понимала закона этих внезапных перемен. Она переходила от крайней радости к крайнему горю, как судно, качающееся на волнах, переходит от бури к затишью и от затишья к буре. Теперь страшный удар потряс ее существо до самых корней, и холодный пот обливал все ее тело. Под ударом катастрофы, поразившей ее и близких ей людей, она стала раздумывать о своей судьбе и в первый раз окинула взором всю свою жизнь.
Таково могущество горя, что оно в мгновение ока заставляет человека видеть то, чего он не замечал в течение всей своей жизни. Альциона в первый раз спросила себя, какая странная сила бросила ее, уроженку Самофракии, на берега Нила, в храм Изиды, а оттуда на берега Италии, в роскошный город Помпея. Весь опыт ее жизни иерофантиды заключался для нее в этом внутреннем верховном свете, в который она порой погружалась и сквозь который бросала взгляды на людей, души и в мир духов. Разве вся сила этого света не сосредоточилась в великолепном видении Гора-Антероса? Ибо теперь она знала, что Гений ее сна был Гор, чистый возлюбленный ее юности, появившийся на Острове Камышей и таинственно исчезнувший. И разве Мемнон, разве свет Изиды и любовь Антероса не повелевали ей принести в мир новую истину? Она же, охваченная пагубной любовью, отдала свое сердце этому роковому римлянину. Ему, ему одному хотела она подарить сокровища своей души. Но жалкий гордец, плененный сладострастной и честолюбивой красавицей, заключил союз с силами мрака и отверг все. Альциона не имела уже никакой власти над консулом. Другая, женщина из плоти, гордости и желания держала его в своих когтях. Повинуясь шепоту этих презренных уст, он произнес обвинительный приговор, грозящий иерофантиде и ее близким кандалами, ссылкой и, может быть, смертью.
Все рушилось сразу, ее любовь и родной очаг, семья и родина, ее храм и бог. Она была одна, одна, одна!
При этой мысли Альциона почувствовала, что силы оставляют ее. Она упала ничком на ложе своей кельи. Из груди ее вырывались протяжные стоны, предсмертное хрипение. Зубы впивались в жесткую ткань подстилки.
Наконец она почувствовала некоторое успокоение и встала, мысли ее приняли иное направление. Да, она была одна, подавленная, разбитая, по-видимому, бессильная. Но в этом одиночестве в ней зарождалась новая сила, неизмеримая и всепобеждающая — ее воля. Омбриций, — она его уже не любила. Он перестал существовать для нее. Ибо в порабощенном консуле не было ничего общего со свободным трибуном, которого она любила. Это были два разных лица. Он походил на прежнего себя столько же, сколько прожорливый волк походит на прекрасного эфеба. Но иерофантида должна была отмстить за Изиду, спасти верных и обнаружить истину, поразив ее ослепительными лучами устрашенную и проклятую чету.
И теперь она могла это сделать, потому что воля ее сделалась непоколебимой, она могла порвать цепи, разрушить стены. Для достижения этой цели нужно умереть. Только тогда сквозь пробитые врата смерти на виновных и на погибший город устремится поток света, спасая верных поклонников Изиды для новых усилий. Решившись умереть, Альциона хотела принести себя в жертву и поклялась в этом на коленях. Потом, поднявшись с колен, призвала две силы, в которых верила, — божественную Истину и своего Гения — и крикнула во мрак храма, огласившегося отзвуком ее призывов:
— Изида! Антерос!.. Свет! Справедливость!
Наступил день, назначенный для бракосочетания консула и патрицианки. Воздух Помпеи дышал предвкушением праздника. Пиры и танцы продолжались всю ночь и должны были начаться вновь, так как предстояло три дня увеселений с боями в цирке и зрелищами в театре. Переплетенные имена и инициалы Омбриция Руфа и Гедонии Метеллы, устроителей этих увеселений, читались на столбах, над арками из зелени и победоносные слоги их не сходили с уст уличных певцов.
В сопровождении длинной свиты супруги уже прошли в храм Юпитера. Уже они вышли из него и заняли два кресла в форме тронов, стоявшие на высоте шестнадцати ступеней над площадью, на паперти храма, господствующего над форумом.
Здесь был воздвигнут консульский подиум, украшенный пальмовыми ветвями, орлами и военными трофеями для церемонии триумфа, которым сенат желал почтить консула. Омбриций, в красной мантии, суровый и надменный, в лавровом венке, сверкал золотом и бронзой. Гедония, в пурпуровой столе, в откинутом на плечи лиловом покрывале, с светлым и радостным лицом сидела рядом с ним. Вокруг них расположился сенат. Фламины Юпитера и жрецы храма Августа стояли по обеим сторонам вдоль лестницы. Внизу когорта легионеров составляла на площади продолжение этой живой стены, отмечая двумя частоколами копий путь триумфального шествия. Народ сплошным морем голов покрывал весь форум.
Всякий раз, как трубачи, стоявшие позади консула, оглушали площадь своими резкими звуками, на лестницу поднималась новая группа и опускала к ногам консула и его жены свои подношения.
Легионеры принесли бретонские щиты и бросили их в кучи, испуская воинственные крики. Гладиаторы клали на трибуну свои короткие мечи, сетки и шлемы с забралом. Группа патрицианок положила перед новобрачными сундучки из кедрового дерева с сирийскими тканями, и треножники, на которых курились восточные ароматы. Виноградари из соседних поселков с движениями фавнов разложили корзины с фруктами, рога изобилия и связки тирсов, увитых виноградными листьями, воспевая в комических куплетах нового Бахуса, победителя варваров, и его Ариадну. Наконец Лентул от имени сената поднес «спасителю Помпеи» золотую статуэтку Победы. Гедония Метелла приняла ее из его рук с приветливой улыбкой и поставила ее на спинку консульского трона.
— Да здравствует спаситель Помпеи! Да здравствует Гедония Метелла!
Под гул приветственных возгласов, перекатывавшихся по площади, Омбриций встал, чтобы поблагодарить в нескольких словах сенат, народ и город, оказавших ему такой прием. Но слова замерли на его устах, и глаза его приковались к неожиданному кортежу, вышедшему из храма Аполлона, находящегося на противоположной стороне форума. Толпа почтительно расступилась перед этим кортежем, направлявшимся к нему.
Это была группа женщин, одетых в белое, как жрицы Аполлона. Все несли в руках ветви лавров, увитые цветными лентами. Женщины пели торжественный дорический гимн. Во главе шел старый жрец, предшествуемый девушкой в белой одежде, призрачной бледности. Она подвигалась медленными, но твердыми шагами и, видимо, вела весь кортеж. Омбриций вздрогнул. В девушке этой он узнал иерофантиду Альциону. Гедония тоже поднялась с места и стояла растерянная, недоумевающая перед этой неожиданной манифестацией. Народ, за минуту до этого неистовавший от радости, внезапно стал безмолвен, объятый странным волнением и как бы подчиняясь высшей силе.
Спокойная и уверенная, как Судьба, Альциона поднялась по ступеням храма в сопровождении жрецов и жриц. В четырех ступеньках от подиума она остановилась перед новобрачной четой, окруженной дымящимися треножниками, пальмовыми ветвями и трофеями. Тогда, глядя по очереди на консула, его жену, сенат, толпившийся на возвышении, жрецов, расположенных на ступеньках, и народ, теснившийся у ее ног, она заговорила нежным и проникновенным голосом:
— Омбриций Руф, римский консул, ты, Гедония Метелла, его супруга, и вы, жрецы, солдаты и жители Помпеи, выслушайте в последний раз иерофантиду, явившуюся с берегов Египта для того, чтобы принести вам луч света Изиды…
Головы жрецов и сенаторов приблизились, встревоженные и любопытные. Сочувственный шепот пробежал по толпе, как зыбь по воде, задетой ветерком. Но Гедония Метелла снова села и, предчувствуя грозящее ей несчастье, воскликнула громким голосом:
— Фламины Юпитера и вы, жрецы Августа, заставьте замолчать эту женщину, которая говорит здесь, оскорбляя законы, и отведите ее в тюрьму, где она должна бы находиться! Суд цезаря осудил ее, она уже более не жрица!..
Но жрец Аполлона, подняв лавровую ветвь, которую держал в руке, возразил:
— Нельзя приказывать молчать пифии, которая посвятила себя своему богу. Ты выслушаешь ее, да, ты выслушаешь ее молча и до конца, дочь Метеллия и супруга консула, и вы все выслушаете ее. Это ее лебединая песнь!..
Ни один сенатор не двинулся, ни один жрец не раскрыл рта. Бесчисленная толпа не шевелилась и затаила дыхание. Альциона, по-видимому, не слышавшая ни восклицания Гедонии, ни речи старого жреца, продолжала кротким, почти детским голосом, мало-помалу крепнувшим под волнами переживаемого внутреннего трепета.
— Пять лет тому назад отец мой Мемнон и я были посланы египетскими мудрецами для того, чтобы принести в эту страну луч святого света. Тогда я встретила этого человека, Омбриция Руфа, на свадьбе бесстрашного Гельвидия и благородной Гельвидии. Он умолял меня открыть ему доступ в светлый мир, ключом к которому я обладала. Я обещала ему это. Он поклялся мне в любви… у фонтана лотосов… и я полюбила его… (здесь Альциона сделала недоумевающий жест рукою и опустила голову, как бы смотря в бездну). О! Я не надеялась стать его женою, как эта женщина, перед лицом народа и в царственной славе. Я хотела ввести его на небо Изиды на священной барке… Он вернулся бы… иным… героем… полубогом… в этот город… с божественными мыслями… с огненными цветами и светозарными мечами…, а я осталась бы безвестной, в храме… закутанной в покрывало… его тайной возлюбленной… его прорицательницей! Но это была лишь девичья греза! Омбриций, ты предпочел последовать за могущественной патрицианкой. Она сделала тебя консулом, но она же облекла тебя в покровы мрака, она влила в сердце твое яд лжи и ненависти, она запятнала твои руки кровью соперника. Чтобы заглушить голос Изиды, она заставила закрыть ее храм и бросить в темницу ее учеников. Но берегись, Гедония Метелла! Оковы твоих жертв разобьет огонь! Стены их темниц расступятся и рухнут на тебя. И барка Изиды, трирема, которую ты хотела сжечь, отплывет к иным берегам, ускользнет от твоих преступных и святотатственных рук… И ты тоже, Омбриций Руф, берегись! Ибо на брачном ложе твоем вакханка превратится в фурию!
— Ты сама фурия! — воскликнула Гедония Метелла вне себя. — Как можете вы позволять, чтобы она обрызгивала меня пеной своей ненависти? Жрецы Юпитера, низкие трусы, заткните ей рот!
Но жрецы не слушали жену консула. Онемев от изумления, они следили за движениями иерофантиды, приковавшись взглядами к ее устам. Она продолжала тихим и горестным голосом:
— О, будь спокойна, Гедония Метелла, я не помешаю совершиться твоему бракосочетанию. Но и Альциона тоже должна принести тебе свадебный подарок, Омбриций. Другие принесли тебе благовония, оружие, трофеи, я же приношу тебе этот цветок — тот цветок лотоса, который ты велел мне блюсти, — твою душу… Я лелеяла его как свое единственное сокровище. Цветок этот был моей любовью, моим безумием и моею славою. Ради него я все забыла, родную Грецию, Египет, моего отца и даже самую Изиду. Из-за него я томилась и горела, ради него я жила и ради него умираю. И вот! Эта душа, ради которой я отдала все, эта душа, которую я хотела вознести на небо как горящий светильник… вот она!.. Но взгляни… она мертва!
С жестом отчаяния Альциона протянула руку в пространство. Но вдруг она упала на ступени, бледная, как воск, сжимая в своих руках увядший цветок. Консул спустился со ступеней и склонился над ее телом. Он прикоснулся к волосам, они были смочены холодным потом. Он приложил руку к ее груди, чтобы послушать сердце, оно едва билось. Тогда Омбриций с отчаянием воскликнул:
— Альциона! Альциона!
Казалось, он впервые понял все, что заключалось в этом имени. Жрец Аполлона тоже нагнулся послушать сердце иерофантиды. Через минуту он выпрямился и, обернувшись к площади, проговорил с торжественным жестом:
— Она умерла!
Толпа тотчас же устремилась к лестнице. Все хотели видеть лицо иерофантиды, душа которой отлетела вместе с ее лебединой песнью. Все хотели видеть ее священное тело.
В это мгновение всех оглушил страшный шум. Это было громыхание подземного грома. Он пронесся где-то в земных недрах, потрясая почву грохотом сотен тысяч военных колесниц, устремляющихся в беспорядке, и рокотом грома в тучах. Это длилось несколько секунд. Шум стих, и все успокоилось. Ни один дом не рухнул, но в течение нескольких секунд все колебалось — люди, памятники, обелиски. В течение нескольких секунд форум походил на волнующееся море, а окружные храмы — на суда, бросаемые бурей. Крик ужаса, вылетевший из тысяч грудей, поднялся над площадью: «Terrae moius!»
Землетрясение! Шестнадцать лет тому назад город был разрушен землетрясением. При этом новом колебании почвы, возвещающем новые несчастья, панический ужас овладел человеческим муравейником. Опрокидывая солдат, жрецов и сенаторов, толпа ринулась со ступеней на площадь, как море во время отлива, и разбежалась во все стороны с воплями и проклятиями.
Омбриций по-прежнему стоял на коленях возле мертвой, положив левую руку на ледяной лоб жрицы, а правую на ее умолкнувшее сердце. Гедония Метелла присутствовала при этом зрелище, неподвижная, безмолвная, ухватившись рукой за опустевший трон и в первый раз в жизни парализованная страхом сильнее ее воли. Но не слыша более страшного подземного грома и видя разбегающийся народ, Гедония спустилась по ступенькам, схватила Омбриция за руку и, тряхнув его, сказала:
— Несчастный! Ты останешься здесь или пойдешь за мною?
Омбриций встал, с растерянным видом провел рукой по лбу и пробормотал:
— Да, да пойдем!
Консул и его жена поспешно спустились со ступеней храма. В охватившей всех панике никто не обращал на них внимания. Они торопливо сели в носилки, и ливийцы понесли их с форума.
На ступенях храма Юпитера, возле тела Альционы осталась только группа фламинов и сенаторов. Жрец Аполлона возвысил голос и проговорил:
— Вы осудили истинную прорицательницу, которой покровительствуют боги. Пусть город озаботится погребением Альционы. Воздвигните ей царский костер, какого никогда не имела ни одна жрица. Таким образом город искупит свое злодеяние и отстранит божественное возмездие.
— Да, — сказал один из сенаторов, — воздвигнем ей царственный костер для того, чтобы успокоить народ, ярость которого может обратиться на нас.
— Для того, чтобы умилостивить гнев богов, — сказал жрец Юпитера.
— Чтобы почтить душу, более возвышенную, чем наши, — закончил старый жрец Аполлона.
И вечером, на почти безлюдном форуме, среди испуганных групп, собрался торжественный кортеж: жрецы Аполлона в сопровождении безутешных жриц с погребальными факелами на усыпанных цветами носилках перенесли бездыханное тело иерофантиды в храм Изиды, превращенный во временную усыпальницу.
Книга четвертая СВЕТ
Lux victrix.
— Aeternumque adytus effert penetralibus ignem.
ВергилийФилософия есть лишь сознательное и обдуманное возвращение к данным интуиции.
БергсонXX Свет в темнице
Темное золото сумерек бросало бронзовый отблеск на фризы и выступы храма Юпитера, и большая площадь Помпеи была почти пуста, когда двенадцать ликторов в сопровождении отряда легионеров ввели троих осужденных в подземную тюрьму, находившуюся под форумом. Вход в эту тюрьму вел сквозь низкую дверь, отворявшуюся внутри курии на узкую лестницу. Тюремщик освещал ступени глухим фонарем. Мемнон бесстрастно спустился первым; за ним следовал Гельвидий. Прежде чем погрузиться во мрак, глаза его, сверкающие вызовом, бросили последний привет умирающему дню. Гельвидия, шедшая последней, закутанная с головой в длинное покрывало, не могла удержаться от рыдания, ступив в эту сырую яму. Легионеры с обнаженными мечами замыкали шествие. Они миновали несколько темных камер и прибыли, наконец, в большой подвал со сводами, куда проникал слабый свет с форума сквозь забранную решеткой отдушину в плитах мостовой.
— Здесь, — сказал тюремщик, — осужденные будут ждать распоряжений цезаря.
Тюремщик удалился со стражей, тяжелая дверь захлопнулась с шумом, и трое пленников остались одни во мраке подземелья.
Было не совсем темно, как показалось вначале их непривыкшим к мраку глазам, скорее здесь царил какой-то туманный сумрак. Печальный луч пробивался сквозь зарешеченную скважину свода и озарял подвал своим рассеянным светом. Он слегка задевал желтоватые стены и змеился по черному полу. Присмотревшись, заключенные увидели в углах два соломенных ложа, стол и на нем ржаной хлеб, большую амфору с водой и несколько глиняных сосудов.
Ухватившись за руку мужа, онемев от ужаса, Гельвидия с отчаянием смотрела на бледнеющий свет в отдушине, как будто видела крушение своей последней надежды. При свете этом жрец Изиды и ученик Пифагора взглянули друг на друга. Измученные волнениями дня и наполовину разбитые ударом судьбы, они прочитали каждый в глазах другого не утомление отчаяния, но напряжение высшей борьбы и вызов смерти. Они поняли друг друга и пожали один другому руку.
— Попробуем заснуть, — сказал Гельвидий, — а завтра попытаемся выйти отсюда.
Мемнон подошел к своему жалкому ложу и лег на него. Гельвидий сел на другое; Гельвидия со стоном опустилась возле него на солому. От изнеможения она скоро задремала. Но двое мужчин не могли заснуть. С открытыми во мраке глазами оба видели перед собою всю свою жизнь и старались проникнуть в ожидавшую их судьбу.
К грусти Мемнона примешивалось горькое чувство сознания своего бессилия. Эта темница и этот мрак, предвещающие бесславный конец, были высшей насмешкой судьбы над жизнью, всецело посвященной исканию истины. Разве он не пожертвовал всем желанию проникнуть за завесу Природы, в мир духов, к центру самой жизни? Сначала невидимые силы благоприятствовали ему, послав ему приемную дочь, его прорицательницу, Альциону. Она сделалась его светочем, его надеждой. Через нее и с нею он проник в потусторонний мир, но в тот момент, когда посвященный уже готов был погрузиться в божественный источник, исходящий из него луч ослепил его. Гор-Антерос, ученик, некогда отвергнутый соперник, сделавшись Гением Альционы, сказал ему: «Ты не пойдешь дальше!» И с этого времени Мемнон жил в полумраке. Он ждал, страдал, искупал свою вину. Он принял нового ученика, нового соперника, Омбриция. Он полюбил его до того, что обещал ему в супруги Альциону. И вот, этот развращенный честолюбец сделался его палачом и погубил иерофантиду. Теперь, по-видимому, все погибло. Что станется с Альционой, разлученной с ним? Погибнет ли она позорным образом, или он сам умрет раньше, не увидев ее еще раз. В этом ли заключается ужасное Возмездие, предсказанное ему Саваккием в песках Египта? Этого ли требует от него Дух для высшего посвящения? Как! Для того чтобы подняться к Богу, нужно отречься от всего самого божественного и сладкого, от обладания любимой душой? При этой мысли ему показалось, что его окутывает вечная тьма.
Но вдруг, охваченный новым порывом, исходящим из самых сокровенных глубин его существа, Мемнон встал и проговорил с силой внутреннего глагола, повелевающего неведомым силам:
— Ну, что же, хорошо, я отказываюсь от этого…, но пусть я увижу ее победоносной, мою Альциону, в свете Изиды, как я вижу ее в эту минуту… и пусть виновные будут наказаны! Свет, Справедливость, Истина! Когда эти три луча соединяются воедино, проявляется величие Бога!
В другом углу темницы Гельвидий тоже был погружен в раздумье. Мрак уже не угнетал его, и хотя мысли его были не менее жестоки, он страдал меньше. Будучи моложе и живее, он сохранил в себе силу возмущения. А возмущение, последнее прибежище раба и осужденного, каким бы сокровенным и безмолвным оно ни было, есть все же действие, вопль неистребимой надежды. Гельвидий принадлежал к людям, рожденным с светом в сердце и на челе. Он не обладал глубокими знаниями Мемнона, но сущность их была как бы разлита в его чувствах и в его задушевных мыслях. Она сияла во всех его малейших поступках. Мечтой его было не познание великой тайны, а вольный город. Вольный и свободный по образцу греческих городов, где беспощадная олигархия и яростная демагогия оспаривают друг у друга власть, не по образцу римскому, где власть угнетающего народ сената сосредоточилась в конце концов в руках всемогущего цезаря. Гельвидий хотел создать вольный город путем создания группы посвященных, устанавливающих вокруг себя цепь душ, духовную иерархию, сообразно с достоинством и степенью развития этих душ. Химерическая мечта, говорили ему, быть может, преждевременная. Но разве она не была продиктована человеку законами вселенной и сознания? В нее верил Пифагор, верил и он.
Ради этой мечты он построил свою трирему и возвестил в городах Великой Греции новое слово. Ради этой мечты он призвал в Помпею иерофанта Мемнона и прорицательницу Альциону. Этой верой и этим светом он завоевал сердце Юлии Гельконии, ставшей его женой Гельвидией. Увы! Чего же достиг он? Несмотря на его убежденность и пламенные усилия, он сам и его сторонники не могли устоять перед властью цезаря, и удар был нанесен рукой того, на кого он возлагал самые блестящие надежды, — рукой неверного ученика, превратившегося во врага, рукой Омбриция Руфа. Состояние дуумвира должно перейти в собственность императора. Он сам, его жена и его друг, осужденные, как заговорщики, могли погибнуть с минуты на минуту от меча центурионов или веревки палача. И Гельвидий не без трепета думал о том, что будет с его маленькими детьми, двумя сыновьями, оставленными дома на попечении вольноотпущенников.
Однако что-то говорило ему, что он не погибнет в этой бесславной темнице и что сила, более могущественная, чем его, распахнет ее двери. Тогда, думая о великих стоиках, погубленных Нероном, Гельвидий выпрямился и произнес мысленно следующую молитву: «Великий Боже, управляющий моей душой, я жил для Света и Свободы. Если мне суждено умереть, пусть я пролью свою кровь при свете дня, перед лицом всего народа, как возлияние в честь Юпитера-Освободителя!»
Успокоив таким образом свои взволнованные души, Мемнон и Гельвидий заснули глубоким сном. Проснувшаяся от кошмара Гельвидия услышала во мраке только зловещее шуршание крыльев летучей мыши и перемежающиеся стоны ветра в отдушине свода.
Заключенные проснулись поздно от шума непрерывных шагов и смутных голосов на форуме. Что обозначало это необычное собрание? Может быть, это собрался народ, чтобы освободить их? Они подумали это на минуту; но вскоре разуверились. Послышались крики: «Да здравствует консул! Слава Гедонии Метелле!». Несчастные поняли, что враги их празднуют свое бракосочетание, строя свой триумф на их поражении. Стоя под отдушиной, откуда неслись наружные шумы, прикованные ропотом толпы, гудевшей над их головами, трое заключенных старались отгадать, что происходит наверху, на площади. В возбужденных умах их рисовались многочисленные группы, величественная и пышная сцена. Им казалось, что они видят, как жених и невеста поднимаются по шестнадцати ступеням храма Юпитера. О выходе их из святилища возвестили возгласы толпы. Они следили за триумфальной церемонией подношений по возраставшим крикам обезумевшего народа. Глухая тревога, глубокое угнетение овладели ими наконец от волн этого людского океана, всегда готового впасть в рабство перед апофеозом зла. Когда зазвучал гимн жрецов Аполлона, они подумали, что и они тоже подчиняются дерзким победителям, не подозревая, что во главе их идет Альциона и что она покончит с земным существованием у ног консула в последнем возгласе любви и в последнем экстазе. Гимн смолк. Потом на площади наступило глубокое безмолвие, страшное и тревожное. Вдруг страшный гром загремел в недрах земли. Земля заколебалась над темницей и под нею. Узники подумали на минуту, что своды тюрьмы рухнут на их головы вместе со всеми храмами форума. Но подземный гром продолжался всего несколько секунд, и его сменила паника убегающей толпы. Как море, отливающее к своему лону, она потекла из акрополя в низменные улицы с грозным ропотом. В наступившем затем безмолвии чей-то голос крикнул в отдушину:
— Вы здесь, Мемнон, Гельвидий?
— Да, мы здесь, — ответил Гельвидий, узнавший голос Кальвия. — Что случилось?
— Альциона умерла… Сенат постановил воздвигнуть ей костер… Народ восстал… Надейтесь! Мы хотим…
Грубые голоса легионеров, охранявших курию, прервали Кальвия. Они отогнали от отдушины друга заключенных. При роковой вести Мемнон зашатался. Он упал ничком на землю. Гельвидий и Гельвидия с трудом подняли его и отнесли на ложе, где он остался недвижимым. В бесконечной горести губы его едва могли прошептать только дорогое имя, в котором заключалась безбрежность его любви и беспредельность его утраты:
— Альциона умерла! Альциона!..
— Мужайся! — сказал Гельвидий. — Ее душа освободилась. Она поможет нам. Мы еще должны бороться. Земля заколебалась. Немезида не медлит. Подождем.
Вторая ночь, более тяжелая, более непроглядная, чем первая, окутала заключенных. Мемнон заснул глубоким сном, посещающим иногда тех, кто ждет смерти и желает ее. Но перед утром ему пригрезился сон, более светлый и прекрасный, чем за всю его жизнь. Он увидел, как яркий и белый свет вошел в верхнюю дверь темницы и спустился по лестнице. Он приближался к нему, и Мемнон узнал Гора-Антероса в лице Гермеса, держащего священный жезл. Тело Антероса сияло, как серебряный щит, а лицо его сверкало, как солнце. Он сказал:
— Будь спокоен. Альциона еще спит. Она проснется, счастливая от прикосновения моего скипетра. Ты увидишь нас обоих в сиянии солнца. Теперь вставай, и за дело! Уезжайте, бегите на триремы! Не ездите в Элевсин, где светоч Гермеса меркнет. Поезжайте на север!
Мемнон проснулся, облегченный этим чудесным сном, как будто вышел из волны света, горячие струи которого еще переливались по его радостно трепещущим членам. В подвале было темно. Слабый свет лился из отдушины. Проникнутый новой силой, иерофант приблизился к Гельвидию, который дремал на соломенной подстилке, прислонившись спиной к стене. Он дотронулся рукой до дуумвира, и тот раскрыл глаза. Гельвидия крепко спала, положив голову на плечо мужа.
— Ты ничего не видел? — спросил Мемнон.
— Мне показалось, — ответил еще полусонный Гельвидий, — что я видел сейчас юного Гермеса, указывавшего мне жезлом на нашу трирему.
— А ты? — спросил Мемнон Гельвидию, которая приподняла отяжелевшую голову с плеча мужа.
— Я видела, как отсюда вышел Гений, — ответила она, — у него был жезл из света, и он чертил им путь по морю.
— Радуйтесь и мужайтесь! — воскликнул Мемнон. — Я тоже его видел. Это Антерос, Гений Альционы, наш руководитель. Он говорил со мною. Мы будем свободны и начнем новую жизнь.
Стоя в своей темнице, трое заключенных обнялись, как будто увиделись вновь после долгой разлуки. Гельвидий и Гельвидия держались за плечи, и Мемнон крепко обнял их. Казалось, что все трое составляют неразрывную цепь. Бледная заря пробивалась сквозь отдушину, но все изменилось для этих душ, напоенных небесным лучом. Стены, разделяющие тела, рухнули, преграды, разъединяющие души, уничтожились. Безбрежный мир раскрылся перед ними в кипучих волнах света, исходящего из их слившихся сердец.
XXI Костер
Консул и его жена, как воры, пробрались в свой роскошный дворец, среди перепуганных рабов. Трагическая смерть иерофантиды угнетала все души, как зловещее предвестие, чреватое ужасом и грядущими несчастьями. Не было человека в Помпее, который не трепетал бы перед угрозой Судьбы. Но больше всех был устрашен Омбриций. Есть события, которые производят на душу впечатление, подобное действию страшных катастроф. Они подобны перемещению полюсов существования, потому что доказывают человеку, что истинная сила не с ним, но с силой, противоположной ему и более могущественной. Консул, незадолго до того казавшийся всемогущим, теперь походил на зверя, выгнанного из своей берлоги земным переворотом и бродящего в тревоге, отыскивая свое логово. Гедония, тоже встревоженная, не отступала от него. Как бы желая спрятаться от всех, он сел в задней комнате дома, в ларарии, между статуями предков семейства Метеллия. Эти задрапированные фигуры смотрели на него с презрением. Гедония прильнула к нему и, обвивая его руками, прошептала:
— Что с тобой, Омбриций? Очнись! Забудь этот кошмар. Разве ты перестал быть консулом от того, что земля поколебалась? Эта жрица была твоим злым гением; ее уже нет более. Наши враги побеждены. Оставим плакать этот глупый народ. Завтра мы будем владыками.
— Владыками чего? — прошептал Омбриций, как во сне.
— Помпеи, Рима, всего мира.
— Да, правда. Но Помпея уже не принадлежит нам. Рим более не Рим и мир более не мир…
Омбриций все еще видел Альциону, умирающую у его ног, с завядшим цветком в судорожно сжатой руке.
Он слышал страшные слова: «Твоя душа, вот она… она мертва!» Он видел, как народ бежал по улицам, как вокруг него образовалась пустота и все предметы вокруг утратили краски. Ему казалось, что весь мир, подобно ему, утратил душу.
Но Гедония продолжала страстно шептать ему на ухо, сопровождая свои слова жгучими ласками:
— Разве ты больше не Омбриций, мой девственный цезарь, мой супруг? Разве ты не мой Вакх? Вспомни о днях в Риме и в Байях… Пойдем, забудем… Отдадимся любви… Завтра мы возродимся… более молодыми и более сильными!
Омбриций машинально встал и дал ей увлечь себя. Она по-прежнему обнимала его. Но ему казалось, что он ступает по крови, и это дыхание, ранее опьянявшее его, казалось ему теперь дыханием хищного зверя. Увидев брачное ложе в глубине комнаты, обтянутой восточными коврами, он вздрогнул и прижал руку к сердцу. В воображении его предстал храм Изиды, превращенный в усыпальницу, и тело Альционы, распростертое на погребальном ложе, в бездыханной красоте, прозрачное, как алебастр. И эта усопшая, более драгоценная, чем все живое, притягивала его с непобедимой силой… Видение исчезло. Глаза его вновь увидели пурпуровое ложе, куда влекла его патрицианка. Тогда эта комната представилась ему подлым местом, вертепом палача, залитым кровью праведников, а сама Гедония лемурой с лицом Химеры, с мертвой улыбкой и сочащимся из глаз похотливым ядом.
— Оставь меня, — резко проговорил он с полным ужаса движением, — мне надо остаться одному.
Глаза у него были как у помешанного. Гедония, изумленная, оставила его, видя, что в эту минуту не имеет над ним никакой власти. Омбриций сел опять в ларарии, поставив перед собою на пол лампаду, потому что не мог выносить темноты. В конце концов он погрузился в какую-то полудремоту. Но два беспощадных образа не отступали и терзали его и во сне. То он видел Альциону, с улыбкой поднимающуюся из ручья, протягивая к небу лучезарный цветок, то видел ее умирающей у его ног и она кричала: «Твоя душа мертва!» Тогда Омбриций вставал, выхватывал меч, чтобы убедиться, что он еще жив, потом опять падал на свое бронзовое кресло, и холодеющее сердце его сжималось, как будто его давила рука смерти.
Гедония тоже провела бессонную ночь на своем одиноком ложе. В первый раз Омбриций оказывал ей противодействие. Призрак Альционы разъединял его с его женою. Неужели мертвая отнимает у нее законного супруга? Нет, это невозможно. Но откуда же тень, которая прокралась между ними и разделила их какой-то завесой? Неужели Гедония лишится человека, которого воспитала для своего дела, оружия, которое выковала для себя? Она приобрела своей магией этот скипетр, сама выткала на искусно натянутой основе всей своей жизни пурпуровую мантию для этого будущего цезаря. Судьба их обоих была отныне связана; если погибнет Омбриций, должна погибнуть и она. Но нет, этого не может быть, этого не будет. Геката не покинет их, потому что Геката — это Гедония Метелла, с ее женским обаянием и мужской волей. Но, во что бы то ни стало, нужно увезти больного консула из Помпеи до церемонии погребения Альционы. Придя к этому заключению, Гедония повернулась на своем ложе и прижалась пылающим лицом к кинжалу Гекаты. Холод стали принес ей некоторое облегчение и, не будучи в состоянии заснуть, она, не изменяя положения, прижавшись лбом к лезвию, погрузилась в размышления.
На следующий день Омбриций написал письмо цезарю и отдал несколько приказаний центурионам, охранявшим город, в котором появились признаки мятежа, потом опять сел в ларарии и снова погрузился в свои мысли.
«Что же это за страшная сила, — думал он, — поднимается от трупа жрицы и бросается на меня? Есть ли Бог и действительно ли он на стороне поклонников Изиды? Кто прав из нас — они или я? Правым окажется тот, кто сильнее. Но как бороться с этой невидимой силой, поднимающей против меня народ и лишающей меня самообладания?»
Подняв глаза, Омбриций увидел перед собою Гедонию Метеллу. Она была в дорожной столе, на голове было накинуто коричневое покрывало. Край его спускался на лицо и делал ее почти неузнаваемой. Она скрестила руки. Горькая и презрительная улыбка кривила ее губы.
— О чем ты думаешь? Неужели ты целый день проведешь в этом углу, как трусливый раб, когда нужно бороться против наших врагов? Если ты слишком жалок для того, чтобы быть супругом Гедонии Метеллы, то вспомни, по крайней мере, что ты должен водворить порядок в этом городе. Слышишь ты этот отдаленный гул? Народ ропщет против нас.
— Это ты вызвала бурю процессом, — сказал Омбриций.
— Неблагодарный трус! — воскликнула Гедония. — Я сделала тебя консулом! Без меня что было бы с тобою? Отныне, что бы ты ни делал, мы скованы друг с другом. Твоя власть — моя власть, и мои преступления — твои преступления. Надо победить или погибнуть вместе.
— Это правда, — сказал Омбриций, опуская голову, пораженный страшной справедливостью ее слов.
Она подошла к нему, положила обе руки ему на плечи и взглянула ему в глаза. Под темным покрывалом плохо причесанные волосы в беспорядке падали на шею Гедонии. Пристальные глаза ее горели желанием. Скрытая тревога придавала им новое очарование. Она казалась теперь виновной тенью Ахерона, обещающей своему возлюбленному неслыханные наслаждения в черных аллеях какой-нибудь адской бездны. Она прошептала:
— Дадим улечься буре и бежим отсюда на несколько дней. Поедем в Байи, в наш уголок. Там я — волшебница, и там ты придешь в себя.
— Хорошо, поедем, — сказал Омбриций, вставая и не видя иного исхода своим мукам.
Она уже увлекла его до ворот, где их ожидали ливийцы с носилками. Но здесь их встретил страшный шум. Чернь толпами бежала по улицам и кричала:
— Кортеж! Погребальный кортеж!
В соседней улице слышался глухой шум идущей толпы и жалобный напев, который пели голоса жрецов. Кузнец с черными руками пробежал, размахивая зажженным факелом. Он кричал: «Я несу этот факел на костер Альционы!»
Гедония побледнела. Омбриций остановился, как пораженный молнией. Внутренний голос выбивал в его мозгу слова: «Как, весь народ оплакивает Альциону, какой-то чужой несет свой факел на ее костер, а я, которого она любила и ради которого умерла, я не увижу этого костра?» Непобедимая сила толкала его вперед. Он только успел сказать Гедонии:
— Я пойду к костру… подожди меня!
И бросился в толпу, как пловец бросается в реку.
Патрицианка кинулась за консулом, как безумная. Схватив его за плечо и за руку, она кричала:
— Омбриций, я не хочу! Дело идет о нашей жизни!
Он вновь оттолкнул ее, говоря:
— Так нужно! Так нужно!
Два раза она хотела остановить его, но он все бежал. Тогда, закутавшись в покрывало, она решила следовать за ним, увлекаемая потоком толпы и чарами смерти, притягивающими дух своей чудовищной тайной, несмотря на противодействие плоти.
Когда они выбежали за ворота Геркуланума, странное зрелище представилось их глазам. С этого возвышенного места Дорога Мертвых спускается наклонно к морю. Город мертвых, который тянулся у границ всех древних городов, отличался в Помпее особой пышностью. Таким он сохранился и до сих пор, почти нетронутый. Два ряда колонн без капителей, маленькие храмы, пирамиды, четырехугольные или круглые мавзолеи образовали широкую, спускающуюся к морю улицу. Эти памятники, увековечивающие жизнь мертвых, с их барельефами, урнами, склепами и лампадами, превосходили величиной и великолепием дома живых. Дорога, усаженная кипарисами, шла, расширяясь, и приводила к маленькой роще этих траурных деревьев, похожих на черные обелиски. Фон картины составляли море и Везувий.
В этот день по дороге мертвых двигалась длинная процессия людей, одетых в черное. Огромная толпа теснилась вокруг. Перед рощей кипарисов, подобно пирамиде, возвышался высокий костер, сложенный на высоком помосте. По четырем углам его горели светильники. Распростертое на его вершине тело Альционы, одетое в белое, лежало на асбестовом ложе и казалось издали чистым цветком, приносимым в жертву небу, и драгоценным ароматом, готовым загореться. Жрецы Аполлона расположились вокруг этого алтаря и пели похоронный гимн.
Но еще более трогательнее самого зрелища было молчание этой толпы и чувство мучительной тревоги, угнетавшее ее. Смерть жрицы, сопровождаемая землетрясением, взволновала до неведомых тайников сознание этого чувственного и раболепного народа. Смутно он понимал свое падение и содрогался от того, что допустил погибнуть самое благородное существо, жившее среди него. И по древнему суеверию, которое заставляет массы верить, что жертва, добровольно предлагающая себя в искупление, может спасти целый провинившийся народ от гнева божества, он умолял в глубине сердец усопшую жрицу спасти его от кары. Но, в безмолвном своем протесте, мертвая, казалось, говорила: «О, мертвый уже народ, я была единственной живой душой в твоей среде! Я хотела тебя спасти, ты не захотел. Горе тебе!»
Вот что говорил внутренний голос Омбрицию, когда он смотрел на костер Альционы от ворот Геркуланума. Гедония же испытывала только смертельный страх. Он увеличивался еще от необычного вида атмосферы. Желтоватый туман парил над Везувием, окутывая залив и затемняя солнце. Воздух был тяжел, неподвижен, удушлив.
— Вот наши носилки с ливийцами, — сказала Геония. — Ты видел то, что хотел. Теперь пойдем.
Но Омбриций устремился к подножию костра, рассекая толпу. В ужасе он смотрел снизу на тонкую фигуру усопшей, вырисовывавшуюся в воздухе. Сноп белых роз закрывал ее голову. Видны были только воскового цвета ноги с голубоватыми жилками и волна темно-золотистых волос. Пение внезапно прекратилось. Жрецы бросили факелы по четырем сторонам костра. Огонь взвился спиралью и лизнул тело, которое вскоре скрылось в дыму и пламени.
Тогда толпа, дотоле безмолвная, ринулась к костру. Мужчины, женщины, дети бросали в него ожерелья, украшения, жемчуг, драгоценные ткани. Гедония снова схватила Омбриция за руку и сказала ему:
— Пойдешь ли ты, наконец?
Но новое ощущение приковало его к месту. Видя, как исчезает в огне тело Альционы, он почувствовал, как железная рука сдавила в груди его сердце и бросила его, еще трепещущее, в огонь. На месте его осталась огромная пустота. И живая Фурия, сжимавшая его руку, чтобы оттащить его от мертвой, была палачом этой жертвы.
Но уже толпа, снова скованная ужасом, впилась глазами в другое зрелище. Столб черного дыма вырывался из вершины Везувия и разделялся на конце на несколько ветвей, как гигантская сосна. Вскоре земля заколебалась от нескольких последовательных толчков. Поднялся страшный ветер. Оглушительный гром потряс вулкан. Началось извержение. Подобно гонимому грозою стаду, жрецы, участники процессии и народ бежали в разные стороны. В мгновение ока Дорога Мертвых опустела. Омбриций и Гедония одни остались у подножия костра, который продолжал пылать. Дым его взвивался, соединяясь с дымом вулкана, как жертвенный фимиам.
— Несчастный, — умоляла Гедония, — ты погубишь нас… Бежим по дороге Стабии на берег… Еще есть время!..
Но Омбриций стоял, не сводя глаз с костра, превратившегося в пирамиду тлеющего угля, и тело Альционы лежало на нем раскаленной массой.
— Я хочу видеть ее, видеть ее в последний раз! — говорил консул, разрывая костер погасшим факелом.
— Иди же! — кричала Гедония. — От нее уже не осталось ничего, кроме праха и золы.
— Праха и золы? Это невозможно! Она была пламенем и жизнью. Она была свет, а ты мрак. Она была свобода, а ты — рабство!
Но Гедония усмехнулась надменно:
— Огонь падает, костер рухнул… Альционы больше нет!
— Ее нет! Не может быть! Но я все еще люблю ее, а тебя ненавижу!
При этих словах внезапно наступил полный мрак. Дождь горячего пепла, град камней посыпался на чету новобрачных, мрачная любовь которых пылала бледной ненавистью. Небо превратилось в черный катафалк, а земля в слой серого пепла, который порой освещался блеском молний, образующих огненную корону над вершиной вулкана. Гром грохотал без перерыва.
— Ты все еще любишь ее? — продолжала Гедония среди грозного возмущения природы. — Так оставайся же с нею, презренный! Я считала тебя цезарем, но ты безвольный трус. Прощай!
— Нет, — воскликнул Омбриций, — клянусь Гекатой, ты умрешь вместе со мною!
Она уже бежала. Тогда, в свою очередь, он схватил ее. Между ними завязалась отчаянная борьба. Внезапным движением она вонзила ему в горло кинжал Гекаты, в то же место, куда он ударил Цецину. Но он не выпустил ее, и оба покатились в пепел, осыпаемые огненным дождем.
Падая, Гедония в последний раз крикнула:
— Цезарь! Империя!
Тогда сквозь крутящиеся вихри пепла и мрак, наполнявшие их глаза и рот, они услышали неземной голос, прозвучавший с высоты:
— Душа дороже Империи!
XXII Сон Мемнона
Столб дыма, предвестие близкого извержения, поднялся над Везувием. Небо уже темнело, и испуганное население бежало на берег среди воплей женщин, пронзительных криков детей и возгласов мужчин. В это мгновение прибрежные рыбаки увидели, как белая трирема с желтыми парусами, стоявшая неподвижно в некотором отдалении, двинулась и вышла в открытое море, под дождем пепла и при увеличивающемся мраке. Это была трирема Гельвидия.
В утро этого дня, легионеры, испуганные подземными толчками, бежали из курии. Друзья заключенных выломали двери темницы. Мемнон, Гельвидий и его жена были освобождены. Тотчас же Гельвидий созвал своих приверженцев. Уже несколько недель тому назад он перенес на трирему все свои сокровища. В этот день он принес на нее самое драгоценное из них. Это была бронзовая урна, в которую он положил несколько горящих углей из очага и огонь с домашнего алтаря, на котором они с последней молитвой сожгли последние ароматы. Огонь этот, тщательно поддерживаемый, должен был тлеть под пеплом до того дня, когда им удастся основать новый очаг в новом городе. Что же касается до Мемнона, то он увозил с собою только один предмет — ларец из пальмового дерева, в котором хранились книги Гермеса. И в сердце своем он уносил образ иерофантиды.
Собравшись на палубе триремы, вокруг иерофанта и семьи пифагорейцев, изгнанники были готовы к опасностям далекого пути. Они знали, что покидают город, осужденный на погибель, чтобы продолжать в ином месте дело жизни. И вот, на их глазах осуществлялось предсказание иерофантиды. Пепел и огонь уже изливались на город наслаждений, где царила несправедливость. Уже извергаемый вулканом дым застилал все небо. Черный пепел, смешанный с пемзой, тяжелой массой падал на путешественников и на гребцов. Море местами кипело и, казалось, всасывалось в землю, грозя поглотить хрупкое судно в своих конвульсиях. Все сошли в каюты, находящиеся в нижней части триремы, на корме. Мемнон и Гельвидий одни остались возле кормчего. Судно медленно подвигалось в глубоком мраке, на веслах, при свете ярких вспышек, загоравшихся на склонах Везувия. Порывы ветра сменялись проливным дождем. Каждую минуту мрак прорезывали длинные извивы огня, похожие на красные стрелы, отражавшиеся в черном, как деготь, море. Это было настоящим путешествием по Эребу. Со всех сторон Бездна разверзала свой зев, и смерть подстерегала изгнанников в каждой вспышке неба, в каждом порыве ветра. Гонимую ураганом трирему прибило к острову Капреи, но в тот момент, когда она скользнула по чудовищной гряде его крутых утесов, небо прояснилось и солнце выглянуло, как сквозь желтоватый креп. Мемнон обернулся. Весь залив Неаполиса казался теперь глубокой пещерой с гигантским сводом, состоящим из черного дыма и серных испарений. В глубине пламенел конус Везувия. Поток красной лавы изливался с Геркуланума в море.
То был последний акт драмы, разыгранной подземным огнем в неожиданном извержении. Он закончился совершенным уничтожением Геркуланума и погребением под пеплом Помпеи.
Тогда судно, тихонько уносимое легким южным ветром, повернуло на север и распустило паруса. Когда опасность миновала, они обогнули Мицены и залив исчез, беспредельная грусть охватила сердце Мемнона. Слезы потекли по его щекам в первый раз с того дня в саду Изиды, когда в неизреченном слиянии душ он прижимал безутешную иерофантиду к своему сердцу. Теперь он оплакивал не только смерть Альционы и потерю ученика. В крушении прошлого, в смутности неведомого будущего он не думал уже более о себе. Он плакал о разрушенных городах и об их несчастных жителях. Он оплакивал весь человеческий муравейник и его бесчисленные горести. Оплакивал скорби мира, который движется вперед только путем несчастий и где все кончается катастрофами.
Закутавшись в плащ, Мемнон лег на связку канатов в открытой каюте на носу и заснул с желанием больше не просыпаться. Но под утро его посетил дивный сон, прекраснейший в его жизни.
Он увидел безлюдную Помпею, превращенную в развалины и покрытую грудой камней. Черный конус Везувия молчал, как потухший вулкан. Дорога Мертвых представляла лишь ряд небольших возвышенностей и походила на занесенное снегом поле в лунную ночь, а гробницы, одетые серым пеплом, — на собрание призраков. Но над этим безмолвием и смертью костер иерофантиды возвышался как горящий факел. Над ним, держась за руки, парила божественная чета, похожая на пламенную лиру: Антерос и Альциона. Альциона смотрела на Мемнона с бесконечной нежностью, положив нежную руку на голову иерофанта; Антерос касался сердца учителя своим зажженным факелом. И Мемнон почувствовал, как сердце его загорелось божественной любовью. Тогда человеческая лира, преображенная, распустилась как сноп света, такого блестящего, что Мемнон не мог его вынести. И одним движением божественная чета вознеслась на небо и исчезла, подобно метеорам, расцвечивающим лазурь в жаркие летние ночи на берегах Средиземного моря.
И со всех сторон, из разрушенных домов, гробниц, пещер, издали, с берегов, гор, городов, деревень, поодиночке, парами или группами, подобные тысячам ласточек, собирающимся огромным роем для отлета, загробный народ, народ душ, слетался к костру. Рой их описывал светящуюся змеистую линию в небе и поднимался ввысь расходящеюся спиралью. Он направлялся к отдаленному солнцу, состоящему из тысяч избранных духов, из тех, что более не воплощаются и которых Гермес называет «господами жизни, повелителями пространства и времени».
Но костер Альционы, брачное ложе ее загробной свадьбы, все горел в ночи красным пламенем и вспыхивал, один оставаясь живым среди этого мертвого города, погруженного во мрак. Костер этот, казалось, бросал вызов всемирной смерти и призывал землю к жизни, возрождающейся от его любовного пламени как жертвенный светильник.
И в глубинах неба Мемнон увидел другую спираль, выходившую как нить из далекого и ослепительного солнца, оживленную избранными духами, Гениями неба и земли. Огромной дугой и бесчисленными оборотами спираль эта спускалась к земле, тогда как другая восходила к небу. Это была сфера душ, привлекаемых к воплощению пылающим костром земной любви, в которой таким странным образом смешиваются огонь желания и огонь жертвенный. По мере того как спираль приближалась к земле, она расширялась в большой круг. И цвет ее из светящегося белого постепенно переходил в темно-красный. Потом эти бесчисленные искры-души, подобно рою ночных бабочек, светляков и летучих мышей, спускались под крыши жужжащих городов или в хижины пустынных берегов и исчезали во мраке. И все они таинственным образом притягивались в жаркие ночи жадными устами супругов или любовников, чтобы подвергнуться испытанию возрождения.
Дивное видение воплощения и освобождения душ. Эти две спирали, восходящая и нисходящая, не представляли ли они движение духа во вселенной, прилив и отлив жизни, вдыхание и выдыхание Бога? На одну минуту Мемнон испытал такое ощущение, как будто он погрузился в этот источник великого Всего. Он находился как бы в центре неизмеримого круга, откуда во все стороны расходились световые стрелы. Этот Свет, бывший Звуком, преисполнял его из края в край. И звук этот был Глагол, говорящий: «Создание! Жертва! Любовь!»
Жрец Изиды проснулся. Еще длилась ночь. Судно быстро и плавно скользило под небесным сводом. Кормчий напевал лигурийскую песню, меланхолическую и гордую. Кольцо туч с разорванными хлопьями затемняло круглый горизонт, В центре огромного прорыва в зените бледнели звезды. На востоке занималась заря.
Мемнон чувствовал в себе неведомую дотоле силу и мир. В безмолвии этой ночи душа мира проникла в него. Голос Света еще звучал в нем и говорил: «Настала пора людям вспомнить о своем происхождении и о своем конце. Горе тому, кто забывает небо ради земли или землю ради неба. Жизнь освящается только вечностью; вечность завоевывается только жизнью».
Теперь Мемнон чувствовал в себе силу претворить свою жизнь в любовь и свою любовь в действие. Ибо он отрешился от всего, он становился господином.
Слияние Альционы с ее Гением открыло ему сущность вещей. Как горящую головню, выхваченную из небесного костра, он уносил с собою этот светильник далеко от разрушенного города Помпея. Так Эней Вергилия уносил из разрушающейся Трои зажженную головню к своему дымящемуся алтарю: «Aeternumque adytus effert penertalibus ignem!» Мемнон же взял свой свет не из мертвого города и не от каменного алтаря. Он взял его от солнца душ, из сердца Бога спустился он в его сердце, — живой огонь, вечный луч, способный зажечь миллионы душ!
XXIII Барка Изиды
Солнце еще не встало, ветер свежел над покрытым зыбью морем, когда Гельвидий и Гельвидия, держа за руки своих сыновей, вышли из внутренней части триремы и поднялись на палубу. Мемнон присоединился к ним, и втроем они сели возле большой бронзовой урны, заключавшей в себе горячий пепел с домашнего алтаря. Гельвидий и Гельвидия не решались взглянуть друг на друга из боязни увидеть один в глазах другого тревоги последнего месяца и вчерашние ужасы. Они грустно следили за игрой бесчисленных волн на беспредельном море, единственном их отечестве в данную минуту. Они удивлялись тому, что улыбаются этому ясному небу, казалось, ничего не знавшему о несчастье Геркуланума и Помпеи. Что касается до Мемнона, то в глубине души он хранил свой сон, как перламутровая раковина заключает в лоне своем чистую жемчужину на спокойном дне морей, куда не достигают бури. Гельвидия, положившая обе руки, озябшие от ветра, на горячую урну, первая прервала молчание:
— Она еще горячая, — сказала она, смахнув слезу, — огонь теплится под пеплом…
Гельвидий тоже притронулся к урне, потом, указывая на сундучок из пальмового дерева, который Мемнон держал в руках и в котором заключались книги Гермеса, сказал:
— Мы увозим с собой священный огонь очага и святое предание — с этим можно основать новый город!
— Города разрушаются, — сказал Мемнон, — империи исчезают, но барка Изиды продолжает свой путь.
— Смотри, мама, чайки! — крикнул старший из сыновей Гельвидия.
Гельвидия следила глазами за полетом белых чаек, которые обогнали трирему и серебряными блестками затерялись на опаловой полосе горизонта, к северу, как бы показывая путь изгнанникам.
— Счастливые чайки! — проговорила Гельвидия. — Но где-то наша Альциона?
И она с плачем закрыла лицо руками.
Мемнон побледнел. Он сильно вздрогнул, но овладел собою и, положив братскую руку на голову молодой женщины, прошептал:
— Будь спокойна, Гельвидия, Альциона далеко отсюда, в сиянии и радости, но она всегда будет с нами, как победа, парящая над жизнью.
Между тем пологие берега Италии исчезли, потонув в мглистом тумане. За коричнево-оранжевой полосой, замыкавшей горизонт, Аврора поднимала свое розовое лицо на лиловатом небе. Порыв ветра погнул мачту и всколыхнул трирему. Дети упали на палубу, и испуганная мать вскрикнула, как львица, поднимая заплаканного младшего сына.
Наконец, солнце пронизало волны. Половина его золотого диска показалась над мглой, и тысячи огненных точек засверкали на прозрачной лазури Средиземного моря. Снова гребень высокой волны накренил барку.
— Корабль утонет! — крикнул младший сын Гельвидия, цепляясь за руку матери.
Но старший весело воскликнул:
— Fluctuat nec mergitur! Он качается, но не тонет!
Потом кристальный голосок ребенка вскрикнул:
— Солнце! Солнце!
И маленькая ручка торжествующе указала на царственное светило, поднявшееся совсем над горизонтом и пылавшее всеми цветами радуги в взлетающей пене волн.
Все встали и поклонились солнцу жизни.
КОНЕЦ
Примечания
1
Древнее название Марселя.
(обратно)2
Оленья шкура.
(обратно)



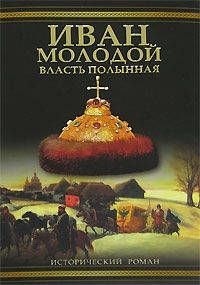

Комментарии к книге «Жрица Изиды», Эдуард Шюре
Всего 0 комментариев