Ромул
Ромул и Рем
Из энциклопедического словаря
Изд. Брокгауза и Ефрона
Т. LII. СПб., 1896
Ромул (Romulus). — Летописное предание о Ромуле, первом царе римлян, сводится к следующему. У альбанского царя Проки было 2 сына — Нумитор и Амулий. По смерти Проки престол должен быть достаться старшему, Нумитору, но Амулий силою овладел престолом, убил сына Нумитора, а дочь его, Рею Сильвию, отдал в жрицы Весты, Однажды Рея пошла в рощу за водой для храма, но встретила там волка и в испуге скрылась в пещеру, где ей предстал бог Марс. Вместе с тем погасло солнце, воцарилась темнота и девушка зачала. Когда родилось у неё двое близнецов, Веста разгневалась, алтарь её задрожал и огонь покрылся золой; Амулий приказал утопить, вместе с детьми, весталку, нарушившую обет целомудрия. Но бог реки Тибра сжалился над Реей и сделал её своей женой, а корыто с детьми было отнесено волнами на луг, залитый разлившейся рекою, и когда река вошла в берега, пристало к берегу возле смоковницы, у подошвы Палатина. В это время волчица пришла к реке утолить жажду; услышав детский плач, она перенесла подкинутых младенцев в пещеру и накормила своим молоком. В пещере волчицы прошли первые дни их детства; волчица исполняла по отношению к ним обязанности матери, дятел и чибис приносили им пищу и оберегали от всякой беды. Однажды на это место пришли пастухи; волчица убежала, и дети достались царскому пастуху Фаустулу, который с женой своей Аккой Ларенцией взялся воспитать их; один из близнецов был назван Ромулом, другой — Ремом. С этих пор началась пастушеская жизнь Ромула и Рема; они построили себе на соседнем холме соломенные хижины (casa Romuli существовала на Палатине и Капитолии ещё при Августе) и пасли свои стада. Среди своих сверстников они отличались мужеством, умом, красотой и благородством, обличавшими их высокое происхождение. Однажды завязалась драка между пастухами братьев-близнецов и Нумитора, стада которого паслись на Авентине. Пастухи Нумитора принуждены были уступить, но в свою очередь устроили засаду Рему в праздник Луперкалий, когда нагие пастухи совершали бег, установленный обрядом праздника, и, приведя его в Альбу, передали Нумитору. Тогда Фаустул сообщил Ромулу всё, что знал о происхождении его и брата. Ромул, во главе своих товарищей (квинктилиев), проник в царский дворец, убил Амулия и восстановил на престол законного царя Нумитора, который признал в Ромуле и Реме своих внуков.
Вскоре после этого юноши задумали на месте своей второй родины основать город; но при этом братья были несогласны насчёт того, чьим именем назвать город и какое место избрать для поселения — Палатин, за которым стоял Ромул, или Авентин, который предпочитал Рем. Решили прибегнуть к гаданию по полёту птиц. Ранним утром вещие птицы пронеслись стаей над Палатином. Ромул победил и возложил на себя знаки царской власти. Тотчас началась постройка города и был проведён померий, со рвом и стеной. Оскорблённый Рем вздумал перепрыгнуть, в насмешку, через невысокую стену нового города, но за это, как нарушитель святости границ, был убит Ромул (по другому сказанию, Рем был убит Целером или Ромулом в разгар спора о первенстве при постройке города). В городе появилась моровая язва, миновавшая лишь тогда, когда Ромул умилостивил тень брата, поставив для него трон рядом со своим и установив в память его праздник усопших — Lemuria. Памятниками древнего города, имевшими отношение к жизни его основателей, были руминальская смоковница (ficus Ruminalis), украшенная в 296 г. до Рождества Христова медною статуей волчицы, кормившей близнецов (Casa Romuli) на Палатине (была и другая хижина Ромула, на Капитолии, близ Curta Calabra), священное дерево (Корнелиева вишня), выросшее из копья, которое Ромул пустил с Авентина на Палатин и существовавшее до времён Калигулы, могила Акки Ларенции на Велабруме, чёрный камень на комиции — предполагаемая гробница Ромула или Фаустула. Город, основанный Ромулом, заселился скоро. Чтобы привлечь как можно больше жителей, Ромул принимал к себе рабов и беглых. Местопребыванием пришельцев была роща Капитолийского холма или, точнее, место inter duos lucos. Так как первоначальное население Рима состояло из одних мужчин, Ромул решил заключить союз с соседними народами, но они отнеслись к его мысли с недоброжелательством и насмешкой. Тогда Ромул назначил в честь Конса торжественный праздник и пригласил к участию в нём соседей. Приглашённые явились с жёнами и детьми. В то время как зрители были заняты происходившими состязаниями, римляне, по данному сигналу, бросились на девушек и сделали их своими жёнами. Оскорблённые племена двинулись войной на римлян, но одни за другими были побеждены жители латинских городов Ценины, Крустумерия и Антемин, а также сабиняне, под начальством Тита Тация. При осаде города сабинянами Тарпея, дочь начальника капитолийской крепости, впустила неприятелей в город, выговорив себе в награду то, что они носили на левой руке (она подразумевала запястья и кольца): когда сабиняне проникли в крепость, они забросали её запястьями и щитами, которые носили на левой руке, и таким образом умертвили; в память ей западный склон капитолийского холма был назван Тарпейской скалой. Сабинянки с новорождёнными детьми бросились в ряды сражающихся, чтобы разнять их. Был заключён мир и вечный союз на условии совместного правления Ромула и Тита Тация; народ, образовавшийся из слияния сабинян с римлянами, был назван квиритами. В воспоминание того, что женщины спасли Рим, был установлен праздник Matronalia; кроме того, Ромул даровал женщинам некоторые права и почётные преимущества. При встрече с матроной ей уступали дорогу; виновные в оскорблении женщины привлекались к суду; разводящийся с женой, по каким бы то ни было причинам, отдавал ей половину имущества. Правление двух царей продолжалось недолго: при столкновении с жителями Лаврента Таций был убит за нарушение международного права.
Ромул правил 37 лет справедливо и кротко. Его считали основателем авспиций и первым авгуром, а следовательно, и установителем той религиозной основы, на которой покоились первоначальные государственные учреждения Рима. Ему же приписывали разделение народа на 3 трибы и 30 курий, установление отношения клиентелы, учреждение сената как совещательного органа при царе и организацию 3-х центурий всадников (Celeres). Успех военных действий против Фиден и Вейев настолько поднял авторитет Рима, что мир, заключённый с этими городами, сохранялся ещё 40 лет после смерти Ромула. О смерти Ромул а предание гласило так: однажды устроили большой смотр на Марсовом поле. Вдруг поднялся вихрь, с громом и молнией, солнце затмилось — и в это время Ромул вознёсся, на конях Марса, на небо. Когда народ, разбежавшийся при наступлении бури, снова явился на Марсово поле, трон царя был пуст. Тогда все поняли, что царь их был богом и вновь обрёл бессмертие. В подтверждение этого Ромул явился во сне пользовавшемуся всеобщим уважением римскому поселянину Прокулу Юлию и приказал ему передать римлянам, что он возвратился к небожителям и, как бог Квирин, будет править своим народом.
Глава 1. РЕЯ СИЛЬВИЯ
Амулий истребил мужское потомство брата,
а дочь его, Рею Сильвию, под почётным предлогом —
избрав в весталки — обрёк на вечное девство.
Тит Ливий. ИсторияНумитор заканчивал утреннюю трапезу, когда в его покой вбежал взволнованный Люций.
— Государь, плохие вести! — проговорил он. — Рея заперта в темницу; открылось, что она беременна.
У Нумитора потемнело в глазах. Бессмертные боги! Какие ещё беды они хотят обрушить на него? Бедная девочка! У весталок нарушение обета карается смертью. Богиня сурова, но жестокость ей приписали люди. Он должен спасти дочь. Проклятый Амулий! Это он, отчаявшись склонить её к браку, вынудил стать весталкой. И вот служение Священному огню обернулось новым несчастьем. После гибели сыновей ещё и этот удар!
— Ты уверен? — спросил он.
Люций кивнул и, сославшись на надёжного человека, выложил страшные новости. Вчера одна из служанок храма заподозрила беременность Реи. Шесть старших весталок во главе с Порцией допросили Рею, и она призналась. Пока что её держат при храме в подвале дровяного склада. Кто-то тут же донёс Амулию: тот рассвирепел, сказал, что знатность не защитит Рею от казни и она умрёт в новолуние, то есть через три дня.
— Всё очень плохо, — заключил он.
— Значит, правда, — хмуро кивнул Нумитор. — Но кто мог проникнуть к девушке? Двор охраняется, на ночь спускают собак...
— Может быть, сам Амулий? — предположил Люций. — Ведь охрана не от него, а для него.
— Если ты прав... — Нумитор сжал кулаки и тут же, осознав своё бессилие, разжал их. — Надо что-то делать, Люций. Поедем в храм.
— Я готов, государь, — и приказал запрячь повозку.
Нумитор кликнул слугу; раб-рутул ловко обул господина, подал ему крепкий посох, помог подняться с кресла. Нумитор, припадая на левую ногу, вышел на площадь Верхней крепости. Прохладный воздух ранней весны встретил старшего царя, но не придал ему бодрости.
Из-за угла со стуком выкатилась лёгкая, украшенная резьбой повозка, запряжённая породистой рыжей лошадью, и остановилась у крыльца. Нумитор неловко забрался в неё и сел рядом с Люцием. Тот тронул поводья, и они покатили к Нижней крепости, возле которой стояло святилище Весты.
Альба Лонга лежала в перегибе крутого склона. Город вытянулся вдоль горы, за что и получил имя «Длинная Альба». Его строили из камня, который добывали тут же, — несколько каменоломен бурыми пятнами вторгались в опушку горного леса. Ниже на более обширной ступени склона лежала чаша Альбанского озера, левее, вдали, уже на равнине блестело Регильское.
При царе Проке верхний край города назывался просто Крепостью, южная часть Альбы в то время не была отделена особой стеной. Сыновья Прока Нумитор и Амулий мирно жили здесь с отцом, несмотря на то, что мать Нумитора была из рода Сильвиев, а мать Амулия из Клелиев. Прок, овдовев, взял в жёны Асканию Клелию в надежде пригасить скрытую вражду, разделявшую два главных рода альбанцев, и ему это на время удалось. Мир сохранялся и после смерти Прока, пока городом правил Нумитор. Но потом роковая битва с рутулами, жившими у моря южнее Альбы, поломала всё.
Отряд Нумитора принял главный удар нападавших и потерял много воинов: конь сбросил полководца и придавил его. Тут же отряд Амулия ударил из засады и разбил противника. План сражения, придуманный Нумитором, привёл к победе, но тяжело раненный полководец надолго был лишён возможности управлять Альбой. Тогда Амулий-победитель захватил власть. Нумитор не мог исполнять обряды, и Амулия избрали старшим жрецом, он не мог участвовать в боях — и стал главой ополчения.
Это было естественно, и если бы он советовался со старшим братом и правил его именем, Нумитор не стал бы возражать. Но Амулий перестал приглашать его в Совет, в котором скоро не осталось никого из Сильвиев. Больше того, Амулий перегородил южный край города, превратив его в Нижнюю крепость, и поселился там, окружённый друзьями Клелиями и наёмными воинами, распоряжаясь имуществом и судьбами альбанцев. Отстранённый от дел Нумитор жил в своей Верхней крепости почти что в домашнем заточении.
Повозка, подпрыгивая, бежала мимо низких, крытых камышом домов из дикого камня. В это время рыночная площадь ещё пустовала, встречных было немного, и мало кто из них поклонился Нумитору; в большинстве отводили глаза и сторонились, Как видно, опасались доноса и кары Амулия.
Храмовый двор окружала стена, примыкавшая к укреплению Нижней крепости. За ней поднималось круглое здание храма, накрытое островерхой шапкой камышовой крыши. Над храмом курился дымок, знак негасимого священного огня, который поддерживали весталки. Бородатые наёмники-вольски охраняли тяжёлые ворота и узкую дверку в стене. Нумитор приказал позвать главную жрицу: мужчин за ограду пускали только в особых случаях. Вскоре к гостям вышла Порция, полная степенная старуха в длинной одежде, давняя знакомая Нумитора. Она низко поклонилась ему и пригласила внутрь. Люций остался ждать господина.
Во дворе росло несколько тополей, за ними тянулся длинный приземистый дом с десятком дверей, за которыми жили отшельницы, стояли хозяйственные постройки. Молоденькая девушка, откинув занавесь, вдруг показалась в одном из входов, но, увидев мужчину, в испуге отступила назад.
Порция была расстроена.
— Горе нам, Нумитор! — восклицала она. — Всё открылось вчера, Рея созналась, но твердит, что её посетил бог Марс, и не хочет назвать ни истинного соблазнителя, ни тех, кто ему помогал. Ты знаешь обычаи Весты. В них нет справедливости — грешница должна умереть, а виновник оскорбления божества и предатели из стражи могут остаться безнаказанными! Хорошо ещё, что Рея не была допущена к Огню, и он остался чистым.
— Не верю, что такую кару ввела сама богиня, — сказал Нумитор, — скорее, какая-то её не в меру ретивая служанка. Не пора ли смягчить обычай?
— Я попытаюсь, но боюсь, это не в моей власти, — вздохнула Порция. — Не знаю, как такое могло случиться с твоей Реей, — продолжала она. — Если бы только она призналась мне сразу! Тогда я, может быть, нашла бы средство предотвратить последствия. Но теперь слишком поздно и я ничего не могу поделать.
— Проводи меня к ней, — попросил Нумитор.
— Да, конечно, — спохватилась Порция. — Пойдём, она вон в том доме. Расспроси, может быть, тебе она назовёт преступника...
Порция провела Нумитора вниз по каменной лесенке, бесшумно отвела щеколду и прошептала:
— Войдёшь, когда я поднимусь. Не хочу вам мешать.
Рея сидела на низкой скамье в каморке с крошечным окошком под потолком. Луч солнца падал оттуда ей на колени, и озарённая ткань белого платья освещала снизу грудь и милое подурневшее лицо девушки. Она не двигалась, погруженная в себя, и не заметила, что он вошёл. Слёзы подступили к глазам царя, он так редко видел её за эти два года, с тех пор как простился с ней, семнадцатилетней, у ворот храмового двора. Он неуклюже шагнул к дочери и тихонько позвал её.
— Отец! — вскрикнула Рея, поднялась и осторожно прижалась к нему. — Как хорошо, что ты пришёл. Ты знаешь, я так провинилась, так разгневала богиню! Теперь меня живой закопают в землю?
Нумитор поставил посох в угол, опустился на скамью, посадил Рею рядом.
— Расскажи мне, как это случилось, — попросил он. — Он хоть назвался?
— Да. Всё было так странно. Он появился только раз. Не знаю даже голоса. Он шептал: «Не бойся, я бог Марс и не причиню тебе зла», и ещё много нежных слов. Потом приласкал меня, и я даже не заметила, когда он исчез.
— А каким он был?
— Не знаю. Всё случилось зимой в новолуние, была страшная темень, я ничего не видела. Мне показалось: юный, с прекрасной гладкой кожей и длинными волнистыми волосами.
«По крайней мере не Амулий», — с облегчением подумал Нумитор и сказал:
— Почему же ты не закричала?
— Так вышло, отец. Сперва я думала, что это сон, а потом поняла, что должна покориться.
Тёплая волна надежды вдруг наполнила сердце Нумитора.
— А скажи, — перебил он её, — как он смог проникнуть к тебе? Ведь собаки, учуяв незнакомца, подняли бы шум.
— Разве богу трудно это сделать? — удивилась Рея. — Он просто появился, и всё.
«Или тихо отодвинул входную занавесь», — подумал Нумитор и спросил:
— Ты рассказала это старшим жрицам?
— Да, но они не поверили.
— Зато я верю. Верю, что ты невинна. Не нам винить и бога, навестившего тебя.
Рея порывисто придвинулась к отцу и крепко его обняла.
— Так ты веришь мне? А они говорят, что вру. Конечно, это был бог! Я чувствовала это...
— Ты же знаешь, — убеждённо продолжал Нумитор, — в древности это случалось нередко. С людьми соединялись и боги, и богини. Даже наш прародитель Эней был сыном Венеры и простого пастуха Анхиса. Что же говорить о дочерях и жёнах царей!
— Да, — оживилась Рея, — он говорил странные вещи. Я спросила, где он живёт, а он ответил: «Между землёй и небом, в мечтах о тебе». Ещё говорил, что увидел мою красоту, полюбил и явился, чтобы мне об этом сказать. Он обещал подарить мне тучные луга с молочными коровами и тонкорунными белыми овцами, плодородные пашни и трофеи одержанных за меня побед... И ещё, когда он появился, комната среди зимы наполнилась запахом цветов.
— Да, он не обманул тебя. Судя по всему, это был действительно Марс, защитник стад и полей, великий воитель.
— Но вот что странно. Ведь Марс уже давно не юноша...
— Глупая! Бог может принять любой облик.
— Но тогда, — Рея отодвинулась и пристально посмотрела на Нумитора, — тогда почему он не защитил меня и своего ребёнка?
— Ах, моя девочка! Не нам судить о заботах богов. И потом, у бога есть ещё возможность помочь тебе. Но многое зависит и от Амулия, который когда-то не пожалел твоих ни в чём неповинных братьев.
— Разве они умерли не от болезни?
— Уверен, что нет. Есть много причин считать, что он отравил их, чтобы Альбанское царство наследовал Асканий. Так что если вдруг он снизойдёт до тебя, будь с ним очень осторожна. Что бы он тебе ни сулил за ложь, не отступай от правды.
Порция дожидалась Нумитора на скамейке под деревом.
— Послушай, близкая к Весте, — начал он, — мне открылось нечто важное. Рея не виновна, я убеждён, что к ней и правда снизошёл Марс! И вряд ли на него за это обидится Веста. А то, что он сделал это тайно, в обычаях богов. Разве не просила Венера Анхиза не разглашать тайну рождения Энея? А когда он проговорился, разве Юпитер не ослепил его молнией? Я знаю Рею с младенчества и верю каждому её слову. Тайны и хитрости не для неё. Обдумай её слова, и сама убедишься, что здесь были замешаны высшие силы.
Порция тяжело вздохнула:
— Мне тоже хочется думать, что это был Марс. Правда, я подумала про Аскания. Он бежал три года назад и мог сохранить знакомства среди наших стражей. Но ты прав, Нумитор. Пусть это будет Марс, принявший облик юноши! Тем более что такие случаи бывали и известны всем.
«Тем более, — подумал Нумитор, — что это шанс спасти Рею и избавить Порцию от упрёков по поводу плохой охраны».
Амулий кипел от ревности. Как? Эта пигалица, гордячка, недотрога, неженка пренебрегала им и отдалась какому-то скоту из охраны! Мокрица, жаба, комок грязи!
Он плохо провёл ночь, сперва поругался с наложницей, поколотил и прогнал её, потом долго не мог заснуть. Он вспоминал милую стройную девочку с круглым лицом, светлыми вьющимися волосами, упрямо сжатым ртом и глазами, выражение которых не был в состоянии разгадать. Юную красавицу, которую природа обещала со временем сделать ещё прекраснее, немного странную, бесконечно привлекательную и страстно любимую. Она должна была принадлежать только ему! Он запретил своему приёмному сыну Асканию, рождённому покойной сестрой, свататься к ней, хотя такой брак был бы выгоден городу. Может быть, потому негодник и сбежал. Но это не страшно, он, конечно, объявится, едва возникнет шанс занять альбанский престол. Жаль, что его родная дочь Анто оказалась бездетной и оставила город без прямых наследников. И дело не в муже, он много раз заставлял дочь изменять ему, но она ни разу не забеременела. Не то что Рея!
А собственное сватовство? Когда он попросил у брата Рею, Нумитор велел позвать девушку и спросил, согласна ли она. Та посмотрела на Амулия с ужасом и ответила: «Никогда!» «Ты слышал?» — сказал Нумитор, и на этом всё кончилось.
Виданное ли дело, спрашивать согласия у девчонки, которая ничего не понимает в жизни! Конечно, он много старше, но он бы окружил её богатством, подарил пяток служанок... Но если не ему, то никому! Он сделал её весталкой — и вот она нарушила обет с каким-то случайным козлом! Оскорбила Весту, но это касается храма, страшней, что оскорбила его. Так пусть же платит за это! Было время, когда он был готов сам насильно овладеть ею, а потом, если дело откроется, публично казнить. Но он сладил с собой, удержался, а она!..
Амулий представлял Рею связанную, вопящую на дне ямы, и мысленно кидал в неё первую горсть земли. Так и надо ей и её нерождённому ублюдку! Закопать, сравнять с землёй, затоптать, сунуть в лапы на потеху подземным богам. Навеки вытравить из памяти.
Амулий зевнул, удобнее устроился в царском кресле и поднял руку в знак того, что готов слушать. Гней поклонился и сообщил, что ничего заметного в городе не произошло.
— А Нумитор? Я думал, он явится и будет просить за Рею.
— Нет, государь, — ответил Гней, — рано утром он приезжал в храм Весты, встречался с Порцией, посетил дочь и отбыл домой.
— Кто разрешил? — взорвался Амулий. — Я же сказал: строгий арест!
— Может быть, позвать Порцию? — предложил Гней.
— Да, и немедленно.
Пока бегали за жрицей, Амулий обдумывал порядок допроса стражников храма. Конечно, они будут запираться, и потом, прошло столько времени... Наконец, Порция явилась.
— Почему пустила Нумитора к Рее? — грозно спросил он жрицу.
— Он попросил, а запрета не было. Да и кто решится запретить отцу увидеться с дочерью, даже если она преступила обычай?
— Я запрещаю, — гаркнул Амулий. — Преступление слишком велико.
Но Порция умела владеть собой.
— Государь, — спокойно проговорила она, — дело сложней, чем ты думаешь. Рея говорит, что общалась с богом, назвавшимся Марсом, и я слышала Голос, который это подтвердил. Её нельзя судить по законам смертных.
— Врёт, — Амулий нахмурился. — Боги уже давно не снисходят к нам.
— Как знать, — ответила Порция. — Они и прежде действовали тайно. Вспомни Геркулеса, который недалеко отсюда убил великана Кака. Ведь он родился от Юпитера, принявшего образ мужа ничего не подозревавшей Алкмены. Она думала, это муж, вернувшийся с войны, и только утром поняла, что встречалась с богом.
Амулий не соглашался, Порция стояла на своём. Она приводила случаи из истории латинов и греков, пересказала слова Реи, упомянула о сопровождавшем гостя запахе цветов. Наконец Амулий остановил её:
— Ты морочишь мне голову. Это всего лишь уловка грязной потаскушки. Она хочет избегнуть кары, и готова на любую ложь. Что касается запаха, то с юга привозят пахучие снадобья, и модники натираются ими. Ты можешь идти, а Рею я сегодня же переведу в тюрьму крепости.
Когда Порция ушла, Амулий вызвал гадателя.
Появился седобородый лысый этруск Аррунт, знаток обрядов и предзнаменований, который долго мялся, с одной стороны желая угодить царю, а с другой — опасаясь ошибиться. Он не сомневается в возможности того, что Рея могла привлечь Марса (или Лорана-Мариса, как его называют этруски), и обещает во время очередного жертвоприношения погадать об этом на внутренностях жертвы. В конце концов Амулий задал прямой вопрос:
— Если ты допускаешь, что Рея понесла от бога, тогда почему он не вмешался и не защитил её?
— Ну, государь, — ответил старик, — представь, что это была его мимолётная прихоть. Он развлекался и забыл. Но может ещё и вспомнить, особенно если мы рассердим его. Я заметил, что боги чаще мстят за людские злодейства, чем предотвращают их.
Амулий погрузился в раздумье. Нумитор не пришёл, не валялся в ногах, не стал вымаливать пощады для дочери. Конечно, он мог заранее знать об отказе и решил не унижаться. Но скорее, Порция рассказала ему о «Голосе свыше», и Нумитор решил, что брат, узнав о возможном вмешательстве бога, вынужден будет смягчиться. И не ошибся. Что, если старая лиса Порция права, и в эту зиму бог действительно снисходил к Альбе? Ведь нечасто ребёнок появляется после единственного свидания. Впрочем, стоит ли верить Рее, может, их было десять? Двадцать, сорок? — Амулий скрипнул зубами. Но если к ней действительно являлся бог, то нетрудно разгневать его.
Несмотря на муки ревности, Амулий понимал, что вряд ли юная, простоватая Рея сумела бы тайно сговориться с любовником и обмануть или подкупить стражу. Его гнев немного улёгся. По закону он должен казнить Рею, а заодно и младенца, может быть, сына бога. Виновна Рея, но не дитя. Но если родится мальчик, власть в конце концов может вернуться к Сильвиям...
Амулий встал, прошёлся по комнате, взял стоявший в углу литуус — жезл для птицегадания, отполированный крючковатый посох без сучков, и отправился на башню. На её плоской деревянной крыше трое стражников играли в кости. Амулий велел им уйти и, оставшись один, приступил к священнодействию.
В центре круглой размеченной площадки пересекались нанесённые красным линии — продольная, кардо, идущая с севера на юг, и поперечная, декуманус, указатель востока и запада. Полагалось стать лицом на восток, то есть к склону, оставив сзади озеро. Амулий махнул жезлом налево в сторону Верхней крепости, отметив север, протянул руку к каменоломне и провёл сверху вниз воображаемую черту вдоль ствола старого дуба — границу между севером и югом. Потом отметил юг и вслух назвал северную сторону «левой», а южную — «правой». Немного подумав, произнёс молитву:
— О, Марс, великий воин, защитник полей и стад, ответь! Если ты отец ребёнка, которого носит под сердцем моя племянница Рея Сильвия, пусть твоя божественная птица дятел покажется справа. Если же это дитя человека, то слева.
Царь переложил жезл в левую руку и стал ждать, непрестанно оглядываясь. Птиц было достаточно, пролетали воробьи, вороны, голуби, дрозды, но, как назло, ни одного дятла. Наконец дятел появился на дубе над каменоломней прямо на отмеченной границе, устроился на стволе, постучал клювом и взлетел. Амулий замер, ожидая, куда он направится. Но дятел полетел вверх вдоль невидимой границы и исчез в густой листве.
Гадание не состоялось. Бог не пожелал ответить на вопрос или ответил: «Думай, что хочешь!»
Царь спустился в покой, бросил жезл в угол и снова задумался. Рея заслужила казнь, но уже сегодня весь город будет знать, что она носит божественное дитя. Так это или не так, но исполнив закон, он может непоправимо себя запятнать. Вот то единственное, что непоправимо: смерть, и здесь он не должен заигрывать с ней. Пока же следует отступить и выждать.
Царь принял решение и кликнул Гнея. Тот вошёл в покой, готовый слушать и повиноваться.
— Вот, что, Гней, казнь Реи откладывается, — сказал Амулий. — Помести преступницу в восточной комнате тюремной башни. Пусть к ней относятся согласно происхождению, хорошо кормят. Найди повивальную бабку, чтоб смотрела за ней и осенью приняла роды. Кроме неё и служанки никого не пускать.
Глава 2. СУД ТИБЕРИНА
И меж огромных дерев поток,
отрадный для взора:
Это струит Тиберин от песка
помутневшие воды.
Вергилий. ЭнеидаКогда стражники привели Рею в просторную комнату с этрусским столом, уставленным красивой посудой, с удобной постелью и двумя креслами, она изумилась. Зачем заботиться о той, кому осталось два дня жизни? Рея спросила об этом принёсшую поесть служанку, но та или ничего не знала, или получила приказ молчать. Прошли два дня, потом три, но ничего не менялось — о казни не было речи.
«Может быть, — подумала Рея, — они считают, что сделав это неожиданно, доставят мне больше страданий?» Но на четвёртый день появилась старая знахарка, которая расспросила узницу о самочувствии, ощупала живот, посоветовала побольше ходить и обещала помочь при родах. Значит, Марс всё-таки вмешался! Теперь Рее стало ясно, что до родов её жизнь вне опасности. А до этого была ещё уйма времени.
Правда, она была оторвана от мира. И служанка, и знахарка наотрез отказались передать её приветы отцу и Порции. Но в конце концов в городе должны были знать, что казнь не состоялась, и она жива, а это уже немало. Рея целыми днями слонялась из угла в угол, много спала. Её хорошо кормили, постель была чистой и мягкой. Она попросила, чтобы из храма принесли её пятиструнную самбуку, и с этого времени могла забываться, наигрывая любимые мелодии, или петь песни, сочинённые когда-то её пропавшим свойственником Асканием:
Пожалейте ту, что хочет волю чувству дать живому И тоску вином развеять, Но от страха обмирает Перед тяжестью укоров. Это у неё, несчастной, Легкокрылый сын Венеры Отобрал и где-то спрятал И корзинку и работу, Образ юноши оставив...Рея пела, и ей казалось, что возникшее в ней существо, затаившись, прислушивается к её голосу. Теперь собственная судьба мало волновала Рею, она была сосредоточена на том, что происходило у неё внутри, как вёл себя роковой подарок, которым её наградил таинственный ночной гость. Этот живой дар становился всё более самостоятельным. Обычно он был доволен жизнью и лежал смирно, может быть, спал или мечтал, но порой начинал брыкаться, пытался выставить наружу коленки или локти. Рея не знала, был он недоволен или просто резвился. Но стоило ей запеть или заиграть на самбуке, он затихал. Знахарка говорила, что это обычное дело, но удивлялась размерам младенца, качала головой и говорила: «Уж не двойня ли у тебя?»
Ещё он замирал, когда Рея вспоминала странную зимнюю ночь, в которую слышала шёпот: «Не бойся!» и ощущала божественные прикосновения неведомого друга (или губителя?), виновника её нынешних бед. Но она не сердилась — разве можно сердиться на бога? — напротив, воспоминания утешали её. И она втайне надеялась, что когда-нибудь, здесь или в царстве теней, бог снова навестит её.
Единственное окно камеры выходило на запад. Внизу лежало озеро с шалашами рыбаков у берега, луга с пасущимися коровами, рыжие пятна вытоптанной земли загонов, обведённые нитями плетней, серые полоски камышовых навесов. Правее начинался лес, и на его опушке пастушеское селение Ферента. Поросшие травой землянки пастухов издали напоминали бородавки на спине жабы. А где-то далеко впереди, за краем волнистой равнины было море. Там садилось солнце и разыгрывались красочные сцены закатов — таких красивых, когда хочется плакать от восторга, она, кажется, не видела никогда.
Море Рея не видела, но чувствовала его присутствие. Она вспоминала, как девочкой лет десяти побывала там. Тогда она с матерью, братьями, кучей родственников и их детей прожила целое лето в прибрежном Лавренте, городе, возле которого высадился Эней.
Тогда был ещё жив дедушка Прок, и вообще-то мужчины ехали в священный город Лавиний, названный в честь жены Энея Лавинии. Там они остались для исполнения важных обрядов, а женщин и детей отправили развлекаться дальше к морю. Рея вспоминала купание в теплом море, игры на песке, игрушечные крепости, которые они лепили, и прибой, который их без жалости слизывал...
Ах, почему её так невзлюбила Фортуна, хотя дала такое славное детство, так обнадёжила в юности! Рея вспоминала счастливый год перед роковой войной с рутулами, когда с юга вернулся Асканий. Он учился в Кумах, куда уехал мальчишкой, а вернулся юношей, милым, весёлым, внимательным. Как хорошо он пел, какие прекрасные сочинял песни! Рея знала, что нравится ему, и тайно его полюбила. Она любовалась им при каждой встрече, ловила каждый звук его голоса, и всё ждала, что он посватается.
А потом война, ранение отца, его ссора с Амулием, смерть братьев и исчезновение Аскания, который в какой-то день уехал со слугой на охоту и не вернулся. Никто не знает, что с ними стало — задрал зверь или поймали разбойники? Но был слух, что он поругался с отцом и бежал от него, захватив какие-то ценности. А она осталась одна со своей неразделённой любовью, без радостей и надежд.
Отложив казнь Реи, Амулий не забыл о пленнице. Теперь она была рядом: пройдя тайным коридором, он мог заглянуть в щель между камнями, откуда была видна её камера. Он мог наблюдать (и часто это делал), как она ходит, подолгу смотрит наружу, облокотясь о подоконник, или, сидя в кресле у окна, перебирает струны самбуки. Порой она пела песни, сочинённые его исчезнувшим приёмным сыном, и Амулий заслушивался её голосом:
Всякий влюблённый — боец, И есть у Амура свой лагерь. Он их куда ни пошлёт, Службу несут. Возраст Венериных слуг Тот же, что воину нужен. Жалки — дряхлый боец, Влюблённый старик...Теперь Амулий понимал, что эту шутливую песню Асканий адресовал ему; почему-то раньше она не задевала его. Но вряд ли Рея имела в виду здесь своего тюремщика, она, не подозревая о слушателе, пела всё подряд.
Ревность стихала. Амулий решил, что, отомстив сопернику, он смог бы смыть с Реи пятно измены и, наверно, даже простить. Какое-то время он думал только о мести, изощрённо по одному допрашивая стражников храма Весты. Но добился только того, что трое из наёмников сбежали, не получив причитавшуюся плату. После этого остальные дружно стали сваливать вину на беглецов, и допросы потеряли смысл.
Тогда он вспомнил о молодости Реи и простил её без всяких условий. Ещё никогда ему не приходилось так сильно и страстно любить. Ранней осенью, когда по словам повитухи до рокового события оставались считанные дни, он велел принести в камеру Реи вазы с яблоками и виноградом, кувшин лучшего вина и пришёл к ней чисто выбритый, в царской мантии.
Рея, предупреждённая о его визите, сидела у стола. Когда Амулий вошёл, она приподнялась в кресле и слегка склонила голову. Лицо её было непроницаемо. Он сел напротив и спросил, хорошо ли с ней обращаются.
— Да, дядя Амулий, мне не на что жаловаться, — спокойно ответила Рея и замолчала, явно не желая поддерживать разговор.
Тогда Амулий начал давно продуманную речь:
— Ты знаешь, что совершила запретное, пагубное для города дело, и за это осуждена. Я должен был уже давно поступить с тобой по закону, но тогда пострадал бы и твой ни в чём неповинный ребёнок. Поэтому я устроил так, чтобы ты смогла дать ему жизнь. Но что нам делать дальше? — Он остановился, подождал, но Рея отстранённо молчала, словно речь шла не о ней. Он подался вперёд, поднял над столом обе ладони и продолжил тихим мягким голосом: — Согласись, лучше быть последним подёнщиком на земле, чем главным помощником Плутона в царстве мёртвых. Я желаю тебе добра и предлагаю иную судьбу. Будет объявлено, что правосудие свершилось, и ты, как требует закон, исчезла с лица земли без погребения родными и могилы. Но на деле никто тебя не тронет, даже волос не упадёт с твоей головы. Для себя ты останешься собой, но для остальных превратишься в другую. Ты получишь новое имя, будешь считаться дочерью герников, умбров или сбинов, станешь важной персоной среди дворцовых девушек и ни в чём не будешь нуждаться. При тебе останется твой ребёнок, а со временем я женюсь на тебе, и, если это будет мальчик, а Асканий не вернётся, он станет царём Альбы. Что ты на это скажешь?
Рея молчала со скучающим видом, Амулий начал злиться.
— Учти, — он повысил голос, — я ведь могу и исполнить закон! И даже если смягчу наказание, например, изгоню из пределов царства, это будет немногим лучше — запятнанную изменой Весте вряд ли где-нибудь примут, а женщину, лишённую защиты, любой сможет сделать рабыней.
— Не пугай меня, — ответила Рея, и он встретил тот же упрямый взгляд, какой она бросила ему девочкой. Только на этот раз в нём не было страха: после той первой ночи в дровяном складе она уже пережила угрозу близкой смерти и теперь ничего не боялась. — Неужели ты думаешь, что побывав в объятиях бога, я позволю тронуть себя мужчине? Не надейся, проще меня казнить.
Царь поднялся и, едва сдерживая крик, медленно произнёс:
— Сейчас ты вынесла себе приговор.
На другой день Амулий вызвал Аррунта и рассказал о своих сомнениях. Вина Реи несомненна, наказание законно, но что случится, если при этом будет обижен какой-нибудь бог? Как всё же узнать волю богов, ведь дело касается особы царской крови? Аррунт, подумав, предложил:
— Мы, этруски, такие сомнения доверяем Тиберину, богу Реки. Среди богов он слывёт образцом справедливости. Судья, не уверенный в законности приговора, отдаёт его выполнение Тиберину. Преступника бросают в Тибр, и бог поступает с ним по своему усмотрению.
— Но тогда, — возразил Амулий, — получается, что шансы выжить больше у того, кто умеет плавать.
— Река своенравна, государь. Её течение непостоянно, в ней много перекатов, есть водовороты, способные утащить на глубину даже хорошего пловца. Тиберин может утопить осуждённого или выбросить на берег, населённый врагами, а может и принести в объятия друзей. Но мы за это уже не в ответе.
— Но ведь бывает, тонут и случайные люди?
— Конечно, — согласился Аррунт, — чтобы судить, Тиберин должен знать о деле и получить жертву. Поэтому выполняется особый обряд.
— Понятно, — кивнул Амулий. — Что ж, возможно, тебе скоро придётся его вспомнить.
Осенний дождь шуршал по крыше угловой комнаты дома Нумитора, где он сидел за вином с Люцием и заезжим гостем. Виновником встречи был Агис — молодой купец из Кум, осевший в Габиях. Приехав в Альбу по делам, он, как обычно, решил навестить старшего царя. Сын латинянки и грека, весёлый остряк появился в Альбе около года назад и быстро стал всеобщим любимцем. Презрев моду отцов, он не носил бороды, но не стриг длинные мягкие волосы, которые словно светлой рамкой окружали его загорелое лицо. Он часто приезжал в город с образцами товаров: дорогой посудой — этрусской, матово-чёрной из Клузия и красной из Арреция, расписной греческой и даже стеклянной карфагенской. У него можно было заказать не только духи и украшения, но необходимые в хозяйстве железо и бронзу. Взамен он брал местные изделия из кожи и лесной мёд. Обязательность и честность позволили ему стать главным поставщиком многих семей.
Разговор шёл о Рее Сильвии. В Верхней крепости внимательно следили за жизнью принцессы, ожидавшей своей участи в тюремной башне. Среди людей Амулия многие сочувствовали Рее, и то, что царь предпочёл бы держать в тайне, быстро становилось известным. Весть о том, что Амулий склонился к суду Тиберина, обрадовала Нумитора — это был шанс спасти дочь. Люций только вчера вернулся из Лавиния, где ему удалось уговорить жрицу храма Венеры Марцию принять Рею. Этому помог дорогой подарок и переданная посланцем просьба Порции.
— А ребёнок? — спросил Агис.
— Ребёнка мы скорее всего потеряем, — вздохнул Нумитор. — Девочку Амулий, возможно, не тронет, но парня уничтожит обязательно. Я уверен, что это он отравил моих мальчиков. Не могу понять, за что он так возненавидел мой род.
Агис подпёр кулаком подбородок и предложил:
— Я довольно богат и мог бы попробовать подкупить кого-то из людей Амулия.
— Не делай этого, — возразил Люций. — Если Амулий узнает, то утроит осторожность, и наши планы рухнут. Пусть лучше считает, что мы ни на что не способны.
Рея очнулась с криком: «Где мои дети? Я родила двух мальчиков, где они?»
— Они родились неживыми, — сказала старуха.
— Нет! Они кричали, я слышала!
— Ты слишком молода, чтобы произвести на свет сразу двоих, да таких огромных. Они умерли вскоре после рождения.
— Ложь! Принеси мне сыновей!
Рея кричала до изнеможения. Её заперли и оставили одну.
Тогда же недалеко от камеры обездоленной матери вернувшийся с Тибра командир десятки воинов Сервий докладывал царю Амулию о выполнении приказа. Людей Нумитора разведчики Сервия не заметили. Закрытая циста — обшитая кожей корзинка — после жертвы и этрусской молитвы была брошена в реку. Течение подхватило её, понесло на камни, и она быстро скрылась в волнах.
— Разбилась, утонула? — спросил Амулий.
— Да, государь, у камней вода так и кипела. Вряд ли циста могла проскочить между ними.
— Что ж, Тиберин сказал своё слово. Иди, ты получишь награду.
На третий день после родов, как думала Рея, последний в её жизни, у неё уже не было сил ни кричать, ни двигаться. Утром служанка одела её в чистое, потом пришёл Гней, злой и суровый, явно недовольный возложенной на него ролью, и вывел Рею во двор. Узницу ждали десять конников, вооружённых луками и мечами. Гней сел на своего коня, двое воинов посадили Рею за его спиной, она сморщилась от боли, но промолчала. Гней сложил её руки у себя на поясе и связал их так, чтобы принцесса не смогла упасть, затем кавалькада медленно двинулась в путь. Они миновали ворота и толпу молчаливых альбанцев, которые пришли проводить её, проехали мимо озера через Ференту вдоль речки Аллии и попали на лесную тропу.
На первой же поляне Гней объявил привал. Он развязал пленнице руки, велел посадить её на подушку, дать немного вина, хлеба и яблок. Рея грелась на осеннем солнце, прощаясь с травой, цветами, деревьями, безоблачным в этот день небом. Воины избегали смотреть на неё. Только один юнец с крючковатым носом подошёл поближе, стал разглядывать и хрипловатым голосом заявил:
— Такую и утопить? Лучше бы отдали нашему отряду.
Воин постарше оттащил его в сторону со словами:
— Всё-таки скотина ты, Кальпур!
Рея вздохнула, подумав: «Хоть кто-то меня пожалел».
Когда она отдохнула, Гней прикрепил подушку к попоне позади себя и предложил Рее сесть боком, обхватив его правой рукой. Это было намного удобнее. Рея поняла, что суровость Гнея предназначалась не ей, а Амулию, и почувствовала благодарность к человеку, который пытается скрасить её последние часы. Кони шли спокойным быстрым шагом, видимо, Гней не желал изводить её тряской. Вокруг простирался просторный буковый лес, пограничный между этрусками и латинами. Иногда тропа ныряла в глубокие овраги с ручьями, текущими к Аллии, вдоль которой конники ехали.
В удобном месте Гней устроил ещё один, более долгий привал. На этот раз развели костёр и подкрепились жареным мясом. Рея спросила, далеко ли до Тибра, и Гней ответил, что проехали уже больше половины. И снова кони шли через бесконечный лес. Однажды на тропу перед ними вышла лиса, постояла и скрылась в кустах. Что это было — случайность или тайный знак? И если знак, то что он предвещал? Рея стала думать об этом, незаметно задремала и очнулась оттого, что конь встал. Воины спешивались, один подошёл и помог Рее спуститься на землю. Впереди была река — последнее, что ей суждено было увидеть в этой жизни.
Бурая, морщинистая, не отражавшая неба вода упорно мчалась налево к морю. Все остановились на краю неширокого мыса: здесь Тибр круто поворачивал; лес правого берега, изогнутого полукругом, напоминал толпу зевак, собравшихся поглазеть на занимательное представление. Представлением этим было её, Реи Сильвии, убийство. Потом они скажут: «Мы не убивали. Мы просто бросили связанную в реку, кто виноват, что она утонула?» Рее до слёз стало жаль себя, а времени для жизни оставалось всё меньше.
Гней подошёл к коню, достал из мешка верёвку и сумку с жертвенным зерном, потом подошёл к Рее, крепко взял её за локоть, обернулся к воинам и крикнул:
— Оставайтесь здесь, я сам проведу обряд.
Он подвёл жертву к воде, она заглянула вниз и увидела невысокий скальный берег, уходящий в мутную глубину.
— Руки за спину, — приказал он и добавил вполголоса: — Теперь зажми конец верёвки в кулак, я оберну только правую руку, держи их пока за спиной, пусть воины решат, что связана. Если сможешь, выбирайся на наш берег и иди по течению. Тебя будут ждать и отвезут в Лавиний, в храм Венеры к Марции. А теперь начнём суд Тиберина.
Гней стал выкрикивать нараспев непонятные этрусские фразы, достал из сумки и бросил в воду три горсти зерна, потом сказал Рее: «Прощай!» и тихонько ткнул её пальцем в спину. Она качнулась и прыгнула в воду.
Вода была холодной, платье путалось в ногах и мешало плыть, Рея с трудом избавилась от него. Она плыла по-собачьи, пытаясь подгрести к левому берегу, но течение упорно тащило её к правому, этрусскому. Далеко позади остался мыс, откуда она начала плавание, силы были на исходе, а ей всё не удавалось приблизиться к суше. Бог Тиберин не желал отдавать свою жертву. И вдруг Рея увидела впереди на желанном берегу раздетого мужчину, который сбегал к реке. Спаситель (или ловец?) с шумом рухнул в воду и заскользил наперерез. Он плыл, как лягушка, загребая сразу двумя руками, и быстро приближался. Вот он оказался совсем близко, схватил её левую руку и закинул себе на шею. Его щека оказалась рядом и ей послышался знакомый шёпот: «Не бойся...» Пловец повлёк её к заводи, встал на ноги, поднял, и она, шатаясь, пошла за ним по илистому дну, по щиколотку в противной жиже, дальше они продирались через кусты, она шла босиком, дрожала от холода, и слёзы катились по её мокрому лицу.
Потом была поляна и люди. Спаситель снимал с неё остатки туники, приказывал, чтобы принесли покрывало и не вздумали смотреть на госпожу, покуда она не оденется. Его длинные светлые волосы слиплись и висели мокрыми прядями, но губы улыбались.
Наконец к Рее вернулась способность воспринимать окружающее, она узнала лицо спасителя и прошептала:
— Асканий?
— Да. Только теперь я называюсь Агисом и живу в Габиях.
— Ты отвезёшь меня в Лавиний к жрице Марции?
Он покачал головой:
— Нет, у неё тебя хотели спрятать люди Нумитора, они ждут чуть дальше за лесом. Но я перехватил тебя, мы уедем ко мне в Габии, поженимся, и никто не узнает о нашем прошлом.
— Это невозможно! — Рея с ужасом посмотрела на него. — Мною владел бог, и он не допустит, чтобы я соединилась с мужчиной, даже с тобой.
Асканий растерялся:
— Нет, Рея, нет, — запротестовал он и, собравшись с мыслями, проговорил: — Ты многого не знаешь, сейчас я тебе всё объясню. Ещё давно я посетил Дельфы и спросил пифию о наших судьбах. Она ответила, что бог заберёт тебя у богини и благословит наш союз. Тогда я не понял прорицания, но теперь, после всего, что случилось, смысл пророчества прояснился. Хотя бог выбрал не прямой путь, чтобы забрать тебя у Весты, но первая часть пророчества сбылась: ты стала свободна. Так пусть сбудется и его вторая часть. Наш брак угоден Марсу, бог помог мне спасти тебя, подсказал, где искать. Подумай, как иначе я бы смог тебя встретить?
Рея, глотая слёзы, прижалась к нему. Она была готова верить чему угодно и лишь прошептала:
— Почему же он тогда не спас близнецов?
— Может быть, он их спас, — возразил Асканий, — разве дано нам знать дела богов?
Люций встретился с Гнеем у храма Юпитера вечером, когда там почти никого не было, однако оба из осторожности надели серые плащи ремесленников.
— Я со своими людьми дежурил у реки до вечера, — сказал Люций, — нам пришлось даже заночевать там.
— Поверь, Люций, я сделал всё как мы договорились, — ответил Гней. — Амулий хотел превратить суд в убийство и убийцей сделать меня. Но клянусь Марсом, я только сделал вид, что связывал Рею. Её руки остались свободны, я знаю, что она умела плавать и имела возможность плыть. Но ты сам видел, какое после дождей было течение!
— Значит, она утонула?
— Не уверен. Её могло отнести к этрусскому берегу. А может быть, незаметно пронесло мимо вас, она выбралась на наш берег ниже по течению и в конце концов доберётся до цели. Я ей сказал, что её отвезут в Лавиний к Марции, так что она знала, куда надо стремиться. Поверь, я сделал всё, что было в моих силах.
— Верю, — вздохнул Люций. — Но от этого не легче. Видно, близнецы появились без помощи Марса, иначе бог защитил бы и её, и их.
— Откуда нам знать, защитил он или нет? — пожал плечами Гней.
— Скорее всего, их отец сам Амулий, — предположил Люций. — Потому и решил избавиться от плодов кровосмесительной связи. Говорят, он предлагал Рее стать его тайной наложницей в обмен на жизнь, но она отказалась. Удивляюсь, как ты можешь служить ему?
— Что делать. Я одного с ним рода и связан клятвой верности. Но, как видишь, не до полной слепоты.
Ранней весной град побил озимые, пришлось пересеивать. На хозяйстве предусмотрительного Нумитора это мало отразилось, но свободные горожане, истощённые увеличенными податями, оказались в трудном положении. Начались разговоры о Народном собрании, но Амулий, который ни разу его не проводил и проводить не собирался, предпочёл выдать гражданам зерно из городских запасов и снизить на этот год подати.
Когда посевные страсти улеглись, к Нумитору явился гонец из Габий с подарками и приглашением от Агиса. Нумитор решил поехать и оставил гонца, чтобы тот служил провожатым. Через несколько дней две пароконные повозки и десять всадников охраны покинули Альбу, проехали мимо Ференты в селение Бовиллы, через которые проходила дорога в Габий, и повернули на север. Ехали медленно лесом, повозка прыгала на корнях. Местность была холмистой, справа поднимался заросший лесом склон Альбанской горы. Вброд переехали Тускулу, небольшую речку, вившуюся по галечному ложу. Повозки с трудом преодолели крутой подъём на высокий правый берег долины к деревянному укреплению тускульцев, которое охраняло перекрёсток дорог — идущей с юга в Габий и поперечной, от Антемн на Тибре в стоявший справа Тускул. Снова заехали в лес. Двигаться становилось всё труднее, пару раз пришлось убирать с дороги деревья, поваленные недавней грозой.
Нумитор молчал. Молчал и сидевший рядом Люций, который чувствовал настроение господина. Царь думал об одиночестве, которым окружила его в старости судьба. Когда-то, полный надежд, готовый строить и сражаться за родной город, он был силён и молод, ощущал радость и веселье. Но все его труды пошли прахом, близкие оказались в стране без возврата, нет и уже никогда не будет ни детей, ни внуков. Да и на кого похож он сам — хромой и беспомощный?
В середине дня на большой поляне, давно облюбованной путниками, устроили привал. Здесь был построенный габийцами навес от дождя и сложенный из камней очаг. Отсюда на восток уходила ещё одна дорога, в Пренесту, к землям герников и вольсков. Отдохнув и поев, двинулись дальше, и — вот это подарок! — дорога стала ровней. Выбоины засыпаны щебёнкой, корни срублены, убраны упавшие поперёк пути деревья. Это означало, что они въехали на земли габийцев, которые следили за своими дорогами. Повозки покатили быстрей, вскоре лес сменился возделанными полями, и задолго до заката путники увидели блеск озёр, справа от которых белели ровные стены Габий.
Гонец показал, как проехать к Агису. Дом купца стоял в небольшом саду, в окружении более низких служебных построек. Хозяин радушно принял гостей, сделал всё, чтобы они могли хорошо отдохнуть с дороги. Он не отходил от Нумитора, старался развлечь царя и исполнить любое его желание. После ужина, когда дорожная суета осталась позади, он привёл старого царя в комнату с искусно расписанными стенами, усадил в резное кресло и сказал, что хочет познакомить со своей женой Илией. Нумитор удивился несколько странному обряду знакомства, но сказал, что будет рад видеть супругу приятеля.
Агис вышел и вскоре ввёл в комнату молодую женщину в светлом платье.
̶ Что я вижу! Рея! — воскликнул Нумитор.
̶ Отец! — она побежала и уткнулась лицом в его колени.
Агис краем одежды вытер навернувшиеся на глаза слёзы. Когда отец и дочь немного успокоились, он встал перед царём, вскинул руки к плечам и убрал волосы назад.
̶ А меня ты не узнаешь, дядя Нумитор?
̶ Асканий?
̶ Ну конечно! Я дал Рее имя, созвучное с моим прежним, ведь сына Энея звали Асканий-Юл. И помни: до конца дней мы Агис и Илия и оба из Кум.
Агис крикнул, чтобы подали вина и фруктов. Слуга принёс и поставил рядом с креслом царя низкий греческий столик-поднос с кувшином вина, чашей воды, черпачком, чашами-киликами и блюдом фруктов (по весеннему времени сушёных), потом подал господину и его супруге невысокие табуреты и удалился.
̶ О боги, Асканий! Как же тебя не узнали? Как же я сам не узнал тебя, выросшего на моих глазах? — изумлялся Нумитор.
̶ Очень просто, — ответил Агис. — Ты вспоминал юношу в светлых кудряшках, а я за четыре года возмужал, много повидал и многому научился. Я отпустил длинные волосы, освоил греческий акцент, и этого оказалось достаточно. Узнать можно принца, который притворяется купцом, но не купца, который перестал быть принцем.
̶ Значит, ты перехватил Рею из-под носа у Люция? — спросил Нумитор.
̶ Да, его люди чуть не наткнулись на нас. Мы знали, что Гней пойдёт к Тибру по правому берегу Аллии, Люций остановился левее, а мы у самого устья. Там мель, и хотя река поворачивает, поймать беглянку было проще именно там.
̶ Он божественно плыл, — подала голос Рея-Илия.
̶ Но почему ты не объединил свои усилия с нашими?
̶ Да, почему? — повторил Агис. — Может быть, ты знаешь, Илия?
В ответ она засмеялась.
̶ А близнецы?
̶ Что близнецы! Дети часто гибнут в младенчестве и без помощи Амулия. Но мы молоды и ты ещё дождёшься внуков, Нумитор. Только они никогда не узнают, что они — потомки царей и не будут царями. Ты согласна? — обратился Агис к жене.
̶ Конечно. Стыдно наследовать такому, как Амулий.
̶ Расскажи о себе, — попросил Нумитор Агиса.
Тот не заставил себя уговаривать.
̶ Я решил бежать из Альбы, — начал он, — когда отец запретил мне свататься к Рее. А потом тем более не смог остаться дома и ждать, когда он заявит, что убил её братьев ради меня!
Я бежал с верным слугой на юг с сумкой серебра. У меня было много друзей среди греческих купцов ещё со времён учёбы в Кумах. С их помощью я нанял корабль и удачно сплавал в Сицилию, Карфаген, Коринф. Тогда я и посетил знаменитый Дельфийский оракул и узнал судьбу свою и Реи, хотя и не смог истолковать предсказания. Но всё же я решил к ней посвататься. Когда-то отец запретил сватовство, но поскольку Агис не его сын, а чужеземец, то разрешение уже требовалось не от него. А от тебя я надеялся его получить. Я оставил в Кумах надёжного помощника, а сам переселился сюда, в латинский город на дороге из Кум в Этрурию. И тут выяснилось, что Рея служит Весте и связана обетом безбрачия. Тогда-то я понял смысл прорицания, полученного в Дельфах, отказался от поисков другой невесты и стал ждать исполнения воли богов.
̶ А какое было пророчество? — спросил Нумитор.
̶ Короткий греческий стих, — спокойно ответил Агис, — я тебе его прочту в своём переложении на латынь: «Бог, у богини забрав, в дом твой супругу введёт».
̶ Удивительно точно, — покачал головой Нумитор. — А чем ты занимаешься кроме торговли, сочиняешь песни?
̶ Нет, я занялся другим. В Лидии, в греческом Милете я купил список «Осады Трои» бродячего певца Гомера. Хочу сделать что-то подобное на латыни и прославить троянских героев с праотцом Энеем. А это труд не на один год.
Ночью Нумитор долго не мог заснуть. Кошмар, душивший его эти страшные полгода, отступил. Его Рея, милая доверчивая дурочка, жива и, кажется, довольна жизнью. Что ж, женщина есть женщина. Её дело любить, слушаться мужа да заботиться о детях. Но Асканий! Кто он, бросивший родину? Он не гражданин — ни Альбы, ни Габий, ни Кум. Сочинитель песенок, соловей, порхающий по кустам! Кого он выйдет защищать с мечом в руке, если над общиной сгустятся тучи? Да никого. Он сам по себе, достойный отпрыск рода Клелиев.
Он любит Рею, но что он с ней сделал? Обманул и привёл на край пропасти. Вором проник в запретное жилище, не побоявшись святотатства, назвался Марсом, запугал и обесчестил любимую девушку! Заставил её пережить позор заточения, ожидание смерти, потерю детей. Он думает, что, женившись, искупил свою вину. Да, он спас Рею, но на самом деле украл, доведя до отчаяния. Украл и взял в жёны тайно от родителя... И при этом не видно, чтобы он испытал хоть какие-то угрызения совести. Как это похоже на человека, не чтящего родины!
Нет, никогда Нумитор не простит его, но и не станет упрекать. Пусть Рея живёт в этом странном сне наяву, с жалким, недалёким любителем простых удовольствий. Асканий давно любил её, и видно, что и сейчас любит. Что ещё нужно женщине? Его дочь будет счастлива, а до Аскания ему, Нумитору, в конце концов нет никакого дела.
Глава 3. МЛАДЕНЧЕСТВО
Иные считают, что Ларенция
звалась среди пастухов «волчицей»,
потому что отдавалась каждому.
Тит Ливий. ИсторияГрад пощадил луга. Весна была тёплой и влажной, трава ферентинских пастбищ пышной и сочной. Акка Ларенция сидела с прялкой у входа в землянку, грелась на солнце и поглядывала на мужа Фаустула, который неподалёку вместе с юным братом Плистином строил деревянный дом. Перед Аккой в траве возились голые, перемазанные землёй малыши. Крупного и бойкого звали Ремом, а второго, который был поменьше ростом и ленивее, Ромулом. Дети вызывали у Акки гордость и умиление, ей хотелось непрерывно тискать их, мыть, прикладывать к груди, целовать и укачивать, так что Фаустулу порой приходилось останавливать жену и говорить, чтобы оставила детей в покое...
Венера-покровительница! Где же Рем? Акка вскочила. А, вон колышется трава, и среди цветов мелькает пушистая головка. Сорванец, только что был здесь и уже быстро-быстро ползёт неведомо куда. Она побежала за беглецом, поймала его и посадила рядом с братом, который лёжа на спине, неловко ловил ручонками жёлтые цветы одуванчиков и пытался запихнуть их в рот. Акка снова взялась за прялку и стала выговаривать Рему:
̶ Мы такие большие, такие самостоятельные... Вот мама Акка вобьёт колышек и привяжет Рема за ножку верёвочкой, чтобы не уползал, куда не следует...
Малыш между тем встал на четвереньки и вдруг поднялся на ножки. Постоял, покачиваясь, и шлёпнулся на живот. Акка снова вскочила, но Рем не заплакал, а стал опять подбирать под себя ручки и задирать попку к небу, собираясь подняться.
̶ Фаустул! — крикнула Акка. — Смотри, Рем научился вставать!
Муж обернулся с улыбкой и махнул рукой, мол, эка невидаль — любой ребёнок рано или поздно это делает.
Акка вспомнила, как осенью сидела у шалаша на дальнем лугу при стаде овец, сцеживала на траву молоко из набухших грудей и корила Венеру за свои несчастья.
̶ Когда же ты меня пожалеешь? — причитала она. — Да, было, что пила, не разбавляя, и отдавалась за плату. Но вот уже пять лет, как стала верной женой и примерной хозяйкой. Почему же ты, сама родившая Энея и узнавшая радости материнства, не даёшь мне живых детей? Ты, защищавшая сына в бою, и как простая смертная, раненая Диомедом, испытавшая боль и страдания, пожалей неудачницу! Трижды я рожала безжизненных деток, трижды хоронила с ними надежды...
Тут её окликнул пришедший снизу Фаустул: почему-то в его голосе слышалось возбуждение:
̶ Иди сюда, лучшая из волчиц, я кое-что тебе принёс.
Акка запахнула одежду, встала и обиженно проговорила:
̶ Ещё раз обзовёшь меня «лупой» — никогда тебе не приготовлю мяса со сливами. Опять попрекаешь меня прошлым, а сам обещал сделать волчицу матроной! Разве тебе есть в чём упрекнуть меня?
̶ Не шуми, — отмахнулся он, — лучше посмотри сюда.
Он поставил перед ней обтянутую кожей цисту, в какой обычно носил кувшины с молоком, и снял накрывавшую её ткань. Акка ахнула — на дне корзины посапывали два новорождённых, с поджатыми ножками, сморщенные, со стянутыми в точку ротиками.
̶ Бессмертные боги! Что это? — изумилась она.
̶ Наши дети.
̶ Где ты их взял?
̶ Нашёл.
̶ Где?
̶ Под смоковницей. Дальше не спрашивай, всё равно не скажу.
̶ А их мать? Она что, умерла?
̶ Пока жива, но жить ей осталось недолго.
̶ Значит, это дети Реи Сильвии и Марса? — в страхе прошептала Акка.
̶ Да, она родила их сегодня ночью. Амулий приказал утопить младенцев в Тибре и послал Сервия, чтобы это сделать. Но в корзине Сервия их нет, они тут, хотя Амулий уверен, что они погибли. Поэтому никто, понимаешь, никто не должен знать, что это приёмыши.
̶ Хочешь, скажу, кто их дал тебе? — медленно проговорила она.
̶ Говорю тебе, никто. Я их нашёл под деревом. А о своих догадках забудь. Эти дети наши, и люби их, как своих.
Акка почти с ужасом подняла того, который был поменьше, прижала к себе прохладное беспомощное тельце и разрыдалась. Ребёнок проснулся и добавил к её крику свой голосок.
̶ Семейный хор, — заметил Фаустул.
С трудом успокоившись, она замолчала, отдала ребёнка мужу, снова села на колоду, высвободила грудь и, замирая от счастья, приложила приёмного сына к соску.
Когда на другой день навестившая её пастушка спросила: «Правда ли, что ты родила мёртвую девочку?», она гордо ответила: «Что ты, наоборот, двух здоровенных мальчишек!»
Фаустулу действительно никто не давал детей: он в самом деле нашёл цисту в кустах под священной смоковницей, у колодца за тюремной башней. Правда, ему было сказано, когда и где искать и что там будет.
Как обычно, Фаустул принёс на рассвете в дом Гнея Клелия парное молоко. Неожиданно пастуха встретил сам Гней. Главный помощник царя спросил, как прошли роды Акки, и узнав, что ей опять не повезло, почему-то обрадовался, а потом предложил Фаустулу взять на воспитание двух младенцев. Он не скрыл, чьи они, не скрыл и опасности, которой подвергает его и себя.
̶ Мы положили в корзину Сервия двух связанных поросят, и я убедил Амулия взять с него клятву, что он не откроет цисту, мол, иначе может пожалеть детей. Надеюсь, Марс защитит их и нас, но если обман откроется, нам с тобой не дожить до вечера. Так что, пока не поздно, можешь отказаться.
Фаустул сразу согласился. Он, как и большинство горожан, сочувствовал Рее и посчитал честью спасти детей, рождённых гонимой царевной от бога. Но тут же его охватил страх. Таким, как он, следует держаться подальше от царских дел, которые творятся вокруг. Пастуху почудилось, что он шагнул в скрытую под травой трясину, и она сейчас поглотит его. Но отказываться было поздно, да и согласие, которое так естественно вырвалось у него, не было ли оно подсказано богом? Эта мысль немного успокоила Фаустула.
Тогда Гней велел пастуху оставить свою корзинку у него и пойти к восточному углу башни. В этом месте надо подождать, пока из-за угла не выйдет старуха в чёрной накидке до пят. Когда старуха скроется из глаз, следует пройти туда, откуда она шла — к священной смоковнице, возле колодца. Там в кустах и будет стоять циста, похожая на ту, с которой Фаустула привыкли видеть горожане и стража у ворот.
С бьющимся сердцем Фаустул подошёл к назначенному месту и встал у тюремной башни. Ему казалось: сейчас появится какой-нибудь стражник и непременно станет допытываться, что здесь делает пастух? Но город ещё не проснулся, и тут, вдали от рынка и жилья, было пусто. Мимо, позёвывая, прошли двое воинов, видимо, сменившиеся после ночного дежурства. Фаустул сделал вид, что поправляет узел на поясе, и они не обратили на него внимания.
Снова он ждал, думая с беспокойством, что дело сорвалось. Наконец из-за угла появилась старуха в длинном тёмном наряде. Она просеменила мимо, и Фаустул пошёл к священному дереву. Кругом никого не было, на стволе старой смоковницы с громким стуком работал дятел. То, что птица Марса охраняет детей, показалось Фаустулу хорошим знаком. Он взял из кустов корзинку, с трудом подавив желание заглянуть в неё и напустив на себя спокойствие, направился к городским воротам. Благополучно миновал их и пошёл вдоль стены и дальше на верхний луг к Акке.
Только дойдя до рощи и убедившись, что его никто не видит, Фаустул поставил корзинку на землю и открыл её. Вид спящих скорченных человечков потряс его. Наконец-то он стал отцом! Пусть не совсем настоящим — неважно. В этот миг Фаустул понял, что отныне на многие годы их жизнь зависит от него, что он любит их всей душой, таких смешных и жалких, что отныне они станут главной отрадой и главной из всех забот. Успокоенный, он прикрыл цисту и, оберегая драгоценную ношу, стал подниматься по крутой тропинке к овечьему стаду.
Пристроив детей, Гней при первом удобном случае сделал Фаустула старшим над царскими стадами, и вот не прошло ещё половины года, а пастух уже скоро будет владельцем первого в Ференте настоящего дома. А в старой землянке можно будет хранить припасы или держать в холода мелкий скот. Конечно, строить дом вне стен — рискованное дело: начнись война, его непременно спалят. Но, слава богам, войны давно не было, и вроде бы пока в Лации тихо. Ну, спалят, так спалят, но всё-таки несколько лет поживут по-человечески.
Зима. Семилетний Ромул лежит рядом с братом на досках, прикрытых козьей шкурой, накрытый тёплым, немного колючим одеялом. Окошко закрыто плотной занавеской, через неё чуть просвечивает луна. На полу в кружке камней красным светятся угли, дымок от них поднимается и уходит в дыру под потолком. Рядом на табурете и вбитых в земляной пол кольях сушится одежда, промокшая за день от возни в снегу. В высокой подставке горит сосновая щепка, при её жёлтом дрожащем свете мама Акка прядёт бесконечную нитку и поёт:
Уже глубоким снегом засыпана Вершина Альбанской горы священной, Леса застыли, а по озеру Можно ходить пешком. Огонь скорее накормим ветками, Пускай очаг нас теплом обнимет, Пускай наполнятся чаши винные, Друга радует друг. Богам на волю оставим прочее, Сердца согреем виной и песней, А в час урочный пусть услышится Шёпот милой жены...В комнату входит отец, огромный, добрый и сильный.
̶ Что, вспомнила весёлые пирушки? — спрашивает он.
̶ Нет, просто пою, чтоб ребятам лучше спалось. Эту песню сочинил Асканий в первую зиму Амулия.
̶ А ты с ним встречалась?
̶ Один раз видела в доме Гнея, когда меня пригласили потанцевать. Там он и спел эту песню. А помнишь, какие были в ту пору морозы?
̶ Морозы были годами раньше, в последний год Нумитора. Из-за них случился падеж скота, потому рутулы и полезли на нас, но им крепко досталось.
̶ А ты бился?
̶ Нет, не дорос до воина, смотрел со стены. Ладно, довольно болтать, пора укладываться.
Отец вынимает щепку из железных пальцев подставки и кидает её на угли. Родители уходят, щепка вспыхивает, на короткое время становится светло, потом она гаснет, и видно только мерцание подернутых пеплом углей в отведённом для них на полу круге. Рем давно спит, Ромул закрывает глаза и зевает. В его голове возникают и начинают жить фантазии. Их не надо придумывать, они появляются сами по себе, так приятно смотреть, слушать и чувствовать их. Вот он лепит из снега огромного пса, положившего морду между лапами, срывает с репейника колючие шарики и втыкает их в собачью морду на место глаз и кончика носа. Тогда пёс оживает, отряхивается и приглашает Ромула сесть себе на спину. Ромул несётся верхом через озеро, а рядом на таких же белых собаках скачут Рем, Тит-обжора, Цез и Лид. Бесшумные мягкие лапы почти не касаются тонкого льда. «Вот бы завтра и правда слепить такого», — думает Ромул сквозь дремоту.
Весна. Они живут в шалаше на горном лугу со смешными добрыми овцами. Ромул любит всё вокруг: маму Акку, могучего отца, сильного и ловкого брата Рема, дядю Плистина, милого дедушку Аккила с восточных лугов, пса Каниса, овец, коров, отцовского коня Луцера, и все они тоже любят его. Вообще кажется: все вокруг любят друг друга, и это замечательно. Правда, Канис не любит Рема, не подпускает к себе, рычит и скалится. Это потому, что Рем как-то ударил его палкой, но наверно, они скоро помирятся. Ещё внизу есть гуси, он тоже их любит, хотя они не ласковые. Не то чтобы злые, а недоверчивые, всегда готовы обидеться...
— Эй, сорванцы, пошли на осыпь! — зовёт Плистин.
Они берут в шалаше маленькие пращи, которые специально для них сделал дедушка Аккил, и вместе с Плистином поднимаются по тропинке через кустарник к скале, у которой сливаются две осыпи, похожие на неподвижные каменные речки. Дети учатся кидать из пращи камни: здесь их сколько хочешь, любого размера.
Праща — удивительное оружие, простая кожаная лента с утолщением посередине, но ею можно зашвырнуть камень намного дальше, чем рукой. Правда, управляться с ней нужно умеючи. Сложить петлёй, зажать один конец в кулак, а второй прижать пальцем. Потом вложить камень посередине, где петля пошире, и раскрутить пращу над головой. Камень так и рвётся наружу, натягивает ремень, кажется, — выпусти его, сразу полетит прочь. Но это обман, камень хитрит. Он полетит вовсе не в ту сторону, куда ты хочешь его швырнуть. Нужно, чтобы он летел вперёд? Отпусти конец петли в момент, когда она сбоку!
Плистин показывает дерево, в которое надо попасть, и они до бесконечности швыряют в него пращами камешки. Сперва совсем не попадали, а сейчас камни стучат о кору довольно часто, причём Ромул попадает чаще Рема, и тот сердится. Зато из лука Рем стреляет намного лучше...
С некоторых пор с ними часто появляется худенькая пятилетняя девчушка в платье из удивительно гладкой голубой ткани. Её приносит на плечах здоровенный раб, который идёт так быстро, что нянька едва поспевает за ним и всё время просит идти помедленнее. Девчушку зовут Примой, она дочь господина Гнея Клелия, и ей нужно пить молоко прямо из-под коровы, и не какой-нибудь, а Лилы, любимой коровы Гнея. Лила — рыжая, очень большая, но не страшная, а приветливая, и Ромул с ней дружит. Отец держит корову около дома, и когда гости приходят поить Приму свежим молоком, отец сам доит её, и струйки молока стучат о стенки деревянного ведёрка. А если отца нет, Лилу доит мама Акка или старушка-рабыня Лидия, которая недавно поселилась у них, чтобы помогать матери. Прима капризничает, не хочет пить, а нянька заставляет: то уговаривает, то запугивает. Из нянькиных слов Ромул понял, что молоком Приму лечат от какой-то болезни. Наконец она допивает свою расписанную чёрными узорами красную глиняную кружку, заедая принесённым из дома хлебом, и гости уходят обратно в город.
На этот раз вместе с рабом и нянькой приходит сам господин Гней. Отец где-то на пастбищах, мама Акка суетится, они с Лидией ставят перед скамейкой столик, мама приглашает Гнея отведать сыра и замечательной простокваши, какую не умеет делать никто, кроме неё. Лидия приносит угощение. Гней садится на скамью, берёт на колени Приму и просит хозяйку принять участие в завтраке и угостить за компанию близнецов.
Все рассаживаются, Акка наливает простоквашу, раздаёт ячменные лепёшки.
̶ Я слышал, у тебя долго не было детей, — говорит Гней маме. — У меня такая же история, прожил с женой девять лет, пока родилась Прима. Я уж думал, останусь бездетным, а тут у тебя такая удача, и, глядишь, вскорости и у меня. Какие молодцы у тебя выросли! А почему вы никогда не играете с Примой? — обратился он к Рему.
̶ Да ну, — отмахивается тот, — у девочек свои игры, у нас свои.
̶ А я предлагал ей покормить Лилу хлебом, — говорит Ромул, — но она не захотела.
̶ Боюсь я корову, — обиженно пищит Прима. — Вон большая какая, руку откусит!
̶ А вот и нет, — возражает Ромул, — пойдём, покажу.
̶ Да, сходи с Ромулом, — соглашается Гней и спускает дочку с колен.
Мать даёт Ромулу лепёшку, и он ведёт гостью к дереву, возле которого пасётся Лила. Корова огромна, кажется, он может пройти под ней, не задев провисшего брюха. Ромул ласково зовёт её, показывает лепёшку. Лила поворачивает голову, потом задирает её и оглашает окрестность хриплым мычанием. Девочка прячется за спину Ромула и вцепляется в его тунику.
̶ Не бойся, это она радуется, — объясняет Ромул. Он чувствует себя настоящим мужчиной, бесстрашным защитником слабых.
Ромул протягивает лепёшку, корова тянется к ней, разевает рот. Исполинские рога, гигантские уши, огромные глаза. Прима из-за плеча смыкает губы и вроде бы улыбается...
̶ А ты смелый, — восхищённо говорит Прима.
̶ Теперь навестим Каниса, — предлагает Ромул.
Прима не возражает, она уверовала в могущество спутника и ничего не боится. Они идут вдоль озера, и Ромул рассказывает ей о волшебной снежной собаке, которую он слепил зимой, а когда снег стал таять, собака ушла в озеро и, наверно, живёт там, но следующей зимой он позовёт её, и она непременно вылезет на берег. Тогда он сядет верхом, приедет на ней в город и покатает Приму.
Девочка слушает, открыв рот от удивления. Они доходят до стада овец, которое пасёт Плистин и сторожит Канис. Ромул гладит пса, и тот позволяет погладить себя и девочке. Они возвращаются, Прима под впечатлением прогулки без возражений выпивает целебное молоко, и гости уходят. После этого Прима появляется всё реже, а потом и вовсе исчезает. «Наверно, вылечилась», — думает Ромул.
Глава 4. ТАЙНЫ
В самом большом из лесов звенит
источник священный.
Воздух смрадом густым испарений
своих отравляя.
Вергилий. ЭнеидаЛето. Затевается большая прогулка на Альбанскую гору, к алтарю Юпитера Латиариса. Гора недалеко, город, собственно, стоит на её склоне, а Ферента чуть ниже, на уступе, где озеро.
Рано утром отец снаряжает Луцера, вьючит на него мешок с едой и плащами на случай дождя, сажает сыновей (Рема, конечно, спереди), берёт коня за узду, и они отправляются в путь. Утоптанная тропа приводит в заповедную рощу, наполненную голосами птиц. Здесь нельзя охотиться, рубить деревья, собирать орехи и ягоды. Брать можно только сухие ветки, если сами упадут с дерева, и убирать стволы упавших деревьев. Отец останавливает коня на покатой поляне. По её краю из заросшей мхом груды камней, журча, сбегает струйка воды. Там начинается прозрачный ручеёк, который бежит по гладким цветным камешкам. Дети слезают с коня, усаживаются на разложенных по траве колодах. Отец достаёт хлеб, наполняет чашку водой из родника и говорит, что это священный источник с целебной водой.
Они по очереди пьют вкусную холодную воду, а отец рассказывает, что на этой поляне, где нет места злу, время от времени собираются цари латинов и обсуждают общие дела. Те, что входят в «Союз тридцати латинских городов».
̶ А тридцать — это сколько? — спрашивает Рем, которого всегда занимают числа.
̶ Пересчитай пальцы на руках у нас троих, вот и будет тебе тридцать, — отвечает отец.
̶ Столько городов? — изумляется Рем.
̶ Городов меньше, — качает головой отец. — Это так говорится «тридцать», в смысле, много. А на деле их сейчас в союзе четырнадцать. — И он начинает перечислять: — Альба, Бовилы, Апиолы, Теллена, Тускул, Габии, Лаврент, Лавиний, Троя, Фикана...
̶ А зачем нужен союз? — интересуется Ромул, и отец объясняет, что Союз следит, чтобы латины жили в дружбе и не обижали друг друга. Столицей союза считается Тускул, он не очень далеко — вон за тем отрогом. Но всё равно между ними случаются ссоры и даже войны.
Они поели, отдохнули и вновь отправляются в путь. И сразу же на соседней поляне встречают ещё один источник. Из-под камня бьёт горячий ключ, окружённый паром и удушливым запахом тухлых яиц. Отец говорит, что он тоже священный и имеет чудесное свойство. Кто ляжет возле него спать на шкуре жертвенной овцы, увидит вещий сон. Ромул думает: «Хорошо бы достать такую шкуру и поспать Здесь. Только лучше сделать это днём и лечь с той стороны, откуда дует ветер. Интересно, что бы мне тогда приснилось?»
Тропа забирается выше и выше. Луцер шагает ровно и неспешно, под его копытами шуршат камни и прошлогодние листья. Уже день, и птицы немного угомонились. С одной стороны виден поднимающийся склон, с другой кроны деревьев, растущих ниже, которые заслоняют даль. Ромул ещё никогда не был так далеко от дома и радостно удивляется огромности мира. Но вот лес пропадает, впереди заросший травой и цветами склон, который упирается прямо в ярко-синее небо.
̶ Мы поедем на небо? — спрашивает Ромул отца.
̶ Дурак! — хохочет Рем.
̶ Не совсем на небо, малыш, — отвечает отец, — но поближе к небесным силам.
Они выезжают на широченный луг, края которого со всех сторон уходят вниз. Фаустул снимает детей с коня, они разминают ноги, оглядываются. Весь мир лежит внизу, позади бескрайний лес, впереди за глубокой лощиной лесистая гряда, а дальше в дымке видны далёкие горные цепи.
̶ Тускуланские холмы, — показывает отец, — а там вдали Сабинские горы. Они выше нашей. А теперь посмотрите туда. Видите на краю неба тёмную полоску? Это море.
Ромул видит пару сверкающих озёр, зелёную равнину, а за ней странную тёмную полосу, словно далёкую тучу с ровным верхним краем.
Отец, который признается, что сам ещё ни разу не бывал на море, рассказывает им про него, какое оно огромное, какая в нём солёная вода, и о том, что живущий в нём бог Нептун приказывает воде сбиваться в огромные живые горы — волны. Они бросают корабли, как щепки, и утаскивают в глубину.
Потом Фаустул ведёт детей к центру поляны, где лежит огромный серый камень. Он широкий и высокий, как дом. Это и есть алтарь Юпитера. Он не построен людьми, сам бог положил эту глыбу на священной вершине. Отец рассказывает о Юпитере, самом могучем и грозном из богов. У Юпитера много имён — его зовут и Диспатер — Отец дня, и Иовис патер — Отец-помощник, и другими именами. Он владеет молниями, и в грозу, когда летает среди мчащихся облаков, можно слышать его смех.
̶ А какой он? — спрашивает Ромул.
Отец задумывается:
̶ Однажды я видел его в грозовой туче. Разглядел косматую бороду и растрёпанные бурей волосы. Но, может быть, это был бог ветра?
А Ромул уже представляет себе бородатого гиганта в плаще из тёмных дождевых облаков с оторочкой из облаков белых, пушистых, просвеченных солнцем. Вот он стоит на поляне, поставив на камень исполинскую ногу. Ромул замирает от страха и уважения, а отец спокойно достаёт мешочек с жертвенным зерном, насыпает немного сыновьям в ладошки, по очереди поднимает (конечно, Рема первого), и они сыплют зёрна в одно из углублений на волнистой верхушке алтаря. Сам он высыпает на камень всё содержимое мешка.
̶ Теперь вознесём молитву, — говорит он. — Ну-ка, повторяйте мои слова и смотрите, чтобы они звучали торжественно. — И отец начинает молитву, делая частые перерывы, чтобы дети смогли повторять: «Великий правитель бессмертных, властитель молний, святозарный даритель дня...»
Ромул повторяет — сперва имена божества, потом его восхваление, в конце просьбы о благополучии стад и почему-то о защите детей Марса. Он половины слов не понимает, но ощущает важность происходящего.
На обратном пути Ромул расспрашивает отца о богах. Отец говорит о трёх главных богах латинов: Юпитере — громовержце-защитнике, Марсе — хранителе-воине, и Квирине — покровителе народных собраний. Рему все разговоры давно надоели, он что-то напевает и заплетает косички на гриве Луцера. Ромул же изводит Фаустула вопросами: «А сколько всего богов?» Отец не берётся сосчитать и говорит, что их очень много. Есть такие, о которых не знают даже этруски, да и никакие другие люди. Поэтому, молясь богам, надо добавлять слова «и вам, с которыми мы не знакомы».
̶ Боги, сынок, большей частью заняты своими делами, — объясняет он. — Чтобы обратить на себя внимание бога, нужно принести ему жертву и исполнить определённый обряд.
̶ А что такое жертва? — продолжает приставать Ромул.
Отец задумывается.
̶ Жертва, — наконец отвечает он, — это то, что нужно тебе, но ты отказываешься от этого в пользу бога. Но важно поднести её так, чтобы бог понял твоё отношение к нему и принял её. Для этого существуют правила, их и зовут обрядом.
Разговор о богах тянется всю обратную дорогу, и Ромул думает, что когда-нибудь узнает всё и изучит все до единого обряды.
Осень. Мама Акка выкурила комаров, завесила окошко тонкой тряпицей и ушла. Уже темно. Рем давно спит, а Ромул, как всегда, метает. Вот отец запряг Луцера в тележку, туда села мама, и Ромул привязал свою игрушечную, подаренную дедушкой Аккилом. И как ни странно, поместился в ней и катит вместе с родителями, да так быстро! И дедушка оказался рядом и тоже поместился. А где же Рем? Ну, конечно, вон он впереди всех, сидит верхом на Луцере...
За окошком голоса. Один — отцовский, другой незнакомый, хриплый. Чужой толкует о том, что сейчас большая вода, брод непроходим, а на этрусской стороне стоят три каравана. И как только вода спадёт, этруски перейдут, и тогда он со своими уйдёт за Аниен. Но сейчас до зарезу нужна корова.
̶ Нет, — говорит отец.
Хриплый убеждает, что лучше откупиться, чем воевать. Наконец отец соглашается отдать овцу.
̶ Три! — требует хриплый.
После долгого спора отец соглашается отдать две.
̶ Но шкуры, Кальпур, ты мне вернёшь, — добавляет он.
̶ Зачем тебе шкуры? — удивляется хриплый.
̶ Покажу. Скажу: волки заели, шкуру бросили, — объясняет отец. — А иначе — потерял или хуже того — продал. Стада-то не мои, царские.
Продолжая спорить, голоса удаляются, но мечты тем временем ушли и больше не вызываются. Наверно, всё-таки пора спать.
̶ Сегодня мы пойдём на речку мимо старого дуба, — говорит Рем.
̶ Но там же Муций со своими приятелями! — возражает Ромул.
̶ Потому и пойдём. Пусть знают, что мы их не боимся.
Ромул боится, но послушно идёт рядом с братом. Они делают вид, что не видят Муция и его друзей, которые играют во что-то вроде суда — привязали одного к стволу, встали напротив и произносят речи. Привязанный послушно ждёт своей участи.
Кажется, удалось проскочить мимо. Но нет, Мудий заметил и кричит:
̶ Смотрите, кто к нам пожаловал! А ну, малявки, зачем пришли на чужую землю?
̶ Мы не пришли, а идём мимо, на речку, — отвечает Рем, — и земля эта не ваша, а альбанская.
̶ Ишь ты, ещё рассуждает! — хохочет Муций.
Шестеро рослых, лет по двенадцать-пятнадцать, парней, забыв о привязанном к дубу товарище, окружают гостей.
̶ Сперва вам придётся с нами поиграть, — Муций потирает руки.
̶ Смотря во что, — возражает Рем.
̶ Как это во что? В войну. Вы будете вонючие рутулы, а мы альбанцы.
Рем цедит сквозь зубы:
̶ Мы не вонючие! Сам такой!
Муций поражён наглостью малыша, но делает вид, что не заметил грубости:
̶ Это понарошку. Не о вас речь. Рутулы воняют, потому что жрут морскую рыбу. Вы будете рутулы, мы возьмём вас в плен, а потом продадим в рабство.
̶ Мы с Ромулом так не играем.
̶ Дурачье, это же понарошку!
̶ Я сказал, что рабами мы не будем! Ищи других.
̶ Ах, им не хочется? — захихикал Муций. — А ты думаешь, других спрашивают, что кому хочется? Эй, центурия, взять их!
Центурия — это сотня воинов. У Муция в отряде их только семеро. Трое с радостными воплями бросаются на малышей, а двое, видимо, не желая связываться с сыновьями старшины пастухов, предпочитают роль зрителей. Рем выскальзывает из рук нападающих, в ярости бросается на Муция и впивается зубами в его правую руку. Муций взвывает от боли и замахивается левой, но Ромул валится на землю и дёргает врага за ногу. Муций падает, а Рем вскакивает ему на грудь. Братьев тут же хватают. Муций, поднявшись и шипя от ярости, кричит:
̶ Эй, отвяжите Анка, тащите верёвку!
Несколько парней бросаются к дубу, а Муций оборачивается к пленникам.
̶ Ну, зверёныши, теперь можете клянчить пощаду, — гнусавит он к слизывает кровь с прокушенной руки. — Но так просто вы её от меня не получите... Будете мне служить, а вякнете отцу, пришибу!
Ромул, которого крепко держат двое молодцов, ощущает свою беспомощность, но его наполняет гордость за то, что они почти выиграли первую схватку. Он лихорадочно ищет способ ещё как-нибудь навредить врагу, — ведь они же показали Муцию, на что способны! А дальше...
Вдруг откуда-то сверху раздаётся знакомый голос:
̶ Вот вы где! Да ещё со свитой...
Ромул поднимает глаза и видит лошадиную морду, а над ней лицо дедушки Аккила, окружённое пушистой белой бородой.
̶ Ну, победитель, — обращается дед к Муцию, — уступи мне этих двоих. Я думаю, они нелегко тебе достались, несмотря на твоё военное превосходство.
̶ Бери, — небрежно соглашается Муций, и его друзья сразу отпускают пленников. — Себе дороже связываться с начальничьим помётом. Зверёныши, привыкли жить на всём готовом.
Аккил хлопает лошадь по шее, и она направляется к дому Фаустула, всё ещё единственному настоящему зданию в Ференте. Дети идут за ним, Рем оборачивается и на прощание кричит Муцию:
̶ А с тобой я ещё рассчитаюсь!
Мама Акка устроила обед на улице перед домом. Все сытно поели, Аккил с отцом вволю наговорились о своих пастушеских делах. Потом отец отправился на Луцере объезжать пастбища, а Акка принялась развлекать старика и детей песнями:
Выхожу я на поляну — Фавн играет на свирели, А вокруг расселись нимфы, Зелены и холодны. Фавн копытом в землю стукнул: «Ты милей и горячее!» Стал меня ласкать и нежить, Бородою щекотать...Потом она уходит стирать на озеро, а дед, как всегда, рассказывает сказки. Солнце клонится к закату, дневные облака рассеялись, наступает прохладное безветрие. Они сидят втроём на скамейке под стеной, и мудрый дедушка Аккил говорит о чудесных событиях: сегодня про великого героя Персея.
Дело было далеко отсюда, у греков, в городе Аргосе. Там царствовал Акрисий, и было предсказание, что его убьёт собственный внук. Тогда Акрисий решил обмануть судьбу, хотя глупо это, идти против судьбы, потому что правильные предсказания непременно сбываются.
̶ А неправильные? — спрашивает Ромул.
̶ Лживые? Конечно, нет.
̶ А как узнать, какое правильное?
̶ В том-то и дело, что никак. Но потому и не стоит бегать от судьбы. Прими её заранее и живи, не загадывая, а то причинишь много лишних страданий себе и другим. Акрисий же решил просто не иметь внуков. У него была дочь Даная, он запер её в медной башне и никого из мужчин к ней не допускал.
̶ Как Амулий Рею? — спрашивает Рем.
̶ Вроде того, — соглашается Аккил. — Но богам никакие стены не помеха. Юпитер увидел девушку внутренним взором и золотым дождём пролился в её темницу. Вскоре она родила божественного младенца и назвала его Персеем. Акрисий сперва хотел убить обоих, но не хватило духа поднять руку на свою кровь, и он велел сделать сундук, запереть в нём мать и дитя и кинуть в море.
̶ В то море, какое видно с Альбанской горы? — спрашивает Ромул.
̶ То самое, только с другой стороны. Оно большое, это море. Вы смотрели на запад, а Аргос от нас на востоке. Наше море обходит разные земли...
̶ Не отвлекай деда, — вмешивается Рем, — пусть расскажет, что дальше.
И Аккил рассказывает, как рыбак Диктис выловил сундук и привёз пленников на остров Сериф, где он жил. Царевна поселилась у него, сын Юпитера вырос и стал всех удивлять силой и храбростью. Казалось бы, всё хорошо. Но царём этого острова был брат Диктиса Полидект. Он как-то увидел Данаю и посватался к ней. Но после Юпитера она не желала смотреть на смертных мужчин и прогнала Полидекта. Персей, конечно, встал на защиту матери. Тогда Полидект решил избавиться от него.
Как известно, самый простой способ погубить героя — послать на безнадёжный подвиг. Полидект долго думал, какое бы найти задание поопаснее, и вот что придумал. Обитало на земле в ту пору чудище по имени Медуза из рода Горгон, страшней не бывает: вместо волос на её голове росли ядовитые змеи, она их расчёсывала скорпионами. Эта Медуза Горгона умела летать без крыльев, а стоило человеку встретиться с ней взглядом, он тут же превращался в каменную статую. Так она убила много людей, а после её полёта погибали целые города! Вот её-то и велел убить Персею Полидект.
̶ Но как же можно убить Медузу? — сам себе задаёт вопрос дедушка. — Ведь любой станет камнем, едва её увидит!
Рем тут же предлагает свой способ:
̶ Надо подкараулить, когда она заснёт.
̶ Не получится, Рем, — качает головой Аккил. — Понимаешь, змеи на голове Горгоны спят по очереди, какие-то всегда начеку, сразу заметят и зашипят.
̶ А тогда, — подаёт совет Персею Ромул, — нужно подкрасться со спины...
̶ Тоже нельзя, — возражает рассказчик, — змеи растут со всех сторон, и на затылке тоже.
̶ Как же он тогда её победил? — изумлённо спрашивает Рем.
̶ Завтра доскажу. Мне пора, видишь, как солнце опустилось. Но до Медузы надо было ещё добраться... Это целая история.
Дед поднимается и идёт к дереву, где привязанная длинной верёвкой пасётся его смирная старая лошадь.
Солнце уже у самого края небес, мама ещё не вернулась с озера. Братья сидят на той же скамейке, время от времени шлёпая надоедливых комаров.
̶ Как ты думаешь, — спрашивает Ромул, — у Амулия тоже было предсказание про внука? Говорили, он сделал Рею весталкой, чтобы у неё не было детей.
̶ Она же дочь Нумитора. Её дети Амулию не внуки, а внучатые племянники.
̶ Ну, может быть, его предсказание касалось и племянников. Иначе отчего бы он боялся детей Реи? — возражает Ромул.
̶ Согласен, — кивает Рем. — Значит, было. Но дед сказал, что предсказания всегда сбываются, а это не сбылось, значит, ложное.
̶ Может быть, это просто ещё не сбылось, — догадывается Ромул, — а придёт время и сбудется?
Дети замолкают, потрясённые только что сделанным открытием. Выходит, совсем рядом, за серыми крепостными стенами Альбы вершится что-то таинственное и неотвратимое...
̶ Значит так, — Ромул пытается привести мысли в порядок. — Амулий поместил Рею в храм Весты, где нет мужчин. А Марс увидел её...
̶ Внутренним взором, — подсказывает Рем.
̶ И пролился к ней серебряным дождём, — решительно заключает Ромул, поясняя, — всё-таки он такой богатый, как Юпитер. А она родила божественного младенца. Или сразу двух, как наша мама Акка.
̶ Не сразу, а по очереди, — уточняет Рем. — Меня раньше, поэтому я старше.
Ромул не возражает. Они продолжают, уже не сомневаясь в своей выдумке и не замечая этого, творят собственный миф. Каждая догадка становится для них реальным событием, которое ведёт к новым предположениям.
Следующий вывод напрашивается сам собой — раз предсказание должно сбыться, дети Реи Сильвии спаслись. Как иначе они смогут погубить Амулия? Ну, если Даная с Персеем не утонули в море в своём сундуке, то и младенцев Реи, лежавших в непромокаемой цисте, река не могла погубить. Ведь они дети Марса, и бог должен был их спасти.
̶ Ой, — восклицает Рем, — помнишь, отец молился за детей Марса?
̶ Значит, он тоже знает?..
Братья замолкают и чувствуют, как тайна вместе с наступающими сумерками обволакивает их.
Потом они на ходу сочиняют и рассказывают друг другу историю о том, как Тибр вынес корзинку с младенцами в море, а там рыбаки-рутулы (ведь они едят морскую рыбу, значит, ловят её) поймали цисту и какой-то рыбак в Ардее сейчас растит их как своих детей. Дальше они придумывают судьбу Реи Сильвии. Конечно, и её спас Марс. Бог велел зубастой щуке перегрызть верёвки, которыми её связали, она доплыла до моря и тоже сейчас живёт у рутулов. Осталось решить, нашла ли она сыновей? Ведь Акрисий кинул Персея в море вместе с матерью, а Амулий близнецов и Рею по отдельности...
Но тут с озера возвращается Акка и велит сыновьям отправляться спать.
Вооружённые благодаря деду Аккилу деревянными мечами, луками и колчанами тростниковых стрел, братья идут на площадку над озером, недалеко от места, где вчера подрались с войском Муция. Ромул, ощущая противный страх, решительно шагает за братом, который полон мстительной решимости. Но Муций со своими играет на другой стороне поля, видно, решил не связываться. Вскоре на площадку приходят друзья-однолетки, и (конечно, под руководством Рема) начинаются развлечения — поединки на мечах, соревнования по стрельбе из лука, бег, прыжки...
За обедом Рем спрашивает, когда приедет дед, он обещал, что сегодня доскажет про Персея. Отец мрачнеет и печальным голосом отвечает, что дедушка Аккил больше никогда не приедет. Ночью на его пастбище напали разбойники, скотину угнали, а ему отрубили голову. Завтра будут похороны.
̶ Наверно, это шайка Кальпура, говорят, он любит так убивать.
Ромул цепенеет от ужаса. Что это значит — никогда? Ещё вчера за этим столом дедушка шутил, слушал мамины песенки, рассказывал таинственные истории, и вдруг — никогда! Он откладывает деревянную ложку, встаёт и идёт к озеру плакать. Мать окликает его, но Фаустул останавливает Акку словами:
̶ Оставь. Дай ему пережить потерю.
Глава 5. ГАБИИ
Говорят, что братьев перевезли в Габий
и там выучили грамоте и всему остальному,
что полагается знать людям благородного
происхождения.
Плутарх. Ромул.̶ Во что сегодня? — спрашивает Тит.
̶ В Амулия, — предлагает Рем, зная, что его предложения равносильны приказу.
Дети играют на берегу озера в месте, где привязана долблёная лодка старого Торна. Он на заре ставит сети, днём пасёт овец, а вечером плавает на ней за уловом. Лодка занимает в игре видное место, и они с разрешения Торна днём пользуются ею. Братьям, да и большинству из компании, уже по двенадцать. Игры в Персея или Амулия их любимые. Это некие сцены, знакомые и устоявшиеся, которые они давно разыгрывают для себя, каждый раз заново переживая события и иногда меняясь ролями. Ромулу больше нравится Персей, особенно появление Медузы. Все бегают, а Рем в шапке с верёвками-змеями грозно оглядывается и на кого посмотрит, тот должен мгновенно застыть. Правда, у них нет зеркала для сцены убийства Медузы, поэтому Персей подбирается к ней, глядя в щит из натянутой на прутья тряпки, а Тит из-за куста подсказывает ему, куда идти. Персея тоже играет Рем, а Медузу изображает кол со змееносной шапкой.
Но сегодня они разыграют Амулия. Решение принято, и теперь в дело вступает Ромул, основной автор и устроитель игр.
̶ Рем будет Амулием и Марсом, — объявляет он, — я Реей; Тит — Сервием и Гнеем; Цез — рыбаком-рутулом; Лид — его женой; остальные — воинами.
Он заходит в шалаш рыбака и передаёт Титу необходимые вещи: «близнецов» — полена с намеченными ножом глазами и ртами, корзинку, оружие, царскую диадему, женский наряд. Последним на свет извлекается знак Марса — щит с нарисованной волчьей мордой.
Все занимают свои места. Рем-Амулий в царской диадеме садится на пень, служащий троном, и приказывает Титу-Сервию привести Рею. Тот подталкивает Ромула, одетого в старое платье Акки, с набитой за пазуху соломой, который прижимает к себе деревянных младенцев.
̶ Мне доложили, что ты родила двух мальчиков, — грозно произносит Рем. — Где они?
̶ Вот, — жалобно отвечает Ромул, показывая глазами на замотанные в тряпку деревяшки.
̶ Ты преступница, ты оскорбила Весту, — с торжеством в голосе объявляет Рем. — Сейчас я прикажу Сервию бросить их в Тибр в жертву Тиберину! Эй, Сервий!
̶ Я здесь, государь, — отзывается Тит.
̶ Возьми у этой женщины детей, положи в корзину и брось в Тибр.
̶ Не отдам! — тонким голосом вопит Ромул.
̶ Воины, сюда! — зовёт Тит-Сервий.
Воины подбегают, хватают Ромула за руки, отнимают детей и отдают их Титу. Ромул тщетно сопротивляется.
̶ Уведите преступницу, — приказывает Рем. — Через три дня я решу, что делать с нею.
Корзинку с близнецами бросают в озеро. Потом отвязывается тяжёлая неуклюжая лодка, Цез с Лидом залезают туда, и Цез, отталкиваясь шестом, ведёт её вдоль берега.
̶ Что это там белеет, муженёк? — пищит Лид.
̶ Дохлая рыба, — отвечает Цез-рыбак.
̶ Эй, рыбаки! — кричит переодетый Марсом Рем, — это не рыба, а мои сыновья! Подберите их и воспитайте.
Игра идёт своим чередом...
Наступает очередь Реи. Тит-Гней делает вид, что связывает Ромула, и того, с руками за спиной, подталкивают в воду. С криком «Ой, сейчас утону!» Ромул идёт по пологому дну, пока над водой остаётся одна голова. Тут опять появляется Рем-Марс, зовёт щуку и велит ей перегрызть верёвки.
̶ Ой, кто-то кусает меня, — жалуется Ромул, потом радостно взмахивает руками и плывёт к лодке...
Утром Фаустул остановил сыновей, направлявшихся к озеру, сурово оглядел их и сказал:
̶ Вот что, парни, вчера я проходил мимо шалаша Торна, услышал крики и последил за вами из-за кустов. Скажите, кто вас научил этой странной игре про Амулия?
Дети удивлённо поглядели на отца.
̶ Никто, — ответил Ромул. — Мы с Ремом сами придумали.
̶ А от кого вы узнали про него и Рею?
̶ Ну, отец, — вступился за брата Рем, — про это все знают.
̶ Все знают, что Рея нарушила обычай и была казнена, — в голосе Фаустула появилась серьёзность. — Но с чего вы взяли, что она спаслась?
̶ Это из-за Персея, — стал объяснять Ромул. — Про него нам давно-давно рассказал дедушка Аккил. Это было у греков. Там Юпитер спас своего сына, почему бы Марсу не спасти двоих? Понимаешь, царь запер дочь в медной башне, а потом...
̶ Знаю я про Персея, — остановил его Фаустул. — Так это точно, что никто вас не учил играть в Амулия?
̶ Нет, мы сами, — кивнул Ромул. — А что, это плохо?
̶ Может быть, и плохо, — нахмурился Фаустул. — Это случилось давно, вам ещё года не было. Наверно, он уже всё забыл. Но разве ему приятно будет вспоминать, как погибла его племянница? Сами подумайте, хорошо ли будет, если кто-нибудь узнает о вашей игре и донесёт Амулию? Ведь я старший над его стадами, а вы мои сыновья. Скажут — я вас подговорил. Лучше бы вы играли в Персея.
̶ А мы и играем, — обрадовался Рем. — Я там и Персей, и Медуза...
̶ Ладно, — Фаустул кивнул. — Можете играть в Персея, Геркулеса, в войну с рутулами, вольсками, эквами, сабинами. Но играть в Амулия я вам запрещаю.
Фаустул наблюдал за ребятами не случайно. Накануне утром на пастбище Торн, тот самый, который разрешил мальчишкам пользоваться своей лодкой, вскользь упомянул, что они иногда играют в Амулия. Фаустул не стал его расспрашивать, но забеспокоился и пошёл на берег, чтобы побольше узнать об этой игре. То, что он увидел, напугало его. Игра была так правдоподобна, что Фаустул решил, будто тайна близнецов раскрыта, и кто-то подучил детей, чтобы, оставшись неизвестным, через них открыть её Амулию и тем погубить их и его. Но что толку вредить пастуху? Скорее, метят повыше, в Гнея, у которого достаточно врагов. Полночи пастух размышлял, кто бы это мог сделать, почему он ждал столько времени, и главное — как спастись от новой напасти?
Разговор с детьми немного успокоил Фаустула. Сравнение здешних событий с историей Персея поразило его; действительно, прежде ему даже на ум не приходило, что в поступках Акрисия и Амулия столько общего. Каковы, однако, его молодцы, недаром он учил их уму-разуму. Но, может быть, это сам Марс надоумил их? Тогда бог поторопился, ведь дети не понимают опасности и могут разболтать свою сказку любому. Лучше всего было бы на время отправить их куда-нибудь подальше от Альбы. Подумав, Фаустул вместо того чтобы объезжать пастбища, решил сегодня же сходить в город к Гнею Клелию.
̶ Вот что, парни, — сказал Фаустул братьям, — нам надо серьёзно поговорить. Пойдёмте сядем под деревом.
Это было на другое утро после запрета играть в Амулия. Они прошли к одинокому тенистому дубу за домом и сели на траву. Не спеша, Фаустул начал:
̶ Я вами доволен. Вы научились обращаться со скотиной, когда надо, помогаете. Не ленитесь, хорошо бегаете и плаваете. Но надо подумать и о будущем. Конечно, вы ещё мало знаете о жизни, но всё же; вот ты, Рем, хочешь ли ты стать пастухом?
̶ Нет, отец, — замотал головой Рем. — Я хочу командовать отрядом, сражаться и побеждать!
̶ А ты, Ромул?
̶ Я бы хотел стать жрецом, научиться говорить с богами.
̶ А как же наше стадо?
̶ Купим пастуха, — ответил Рем, — пусть пасёт и сторожит.
̶ Да, — согласился Ромул. — Ведь Амулий сам не смотрит за своими коровами и овцами, поручил это другим пастухам и тебе. Вот и мы так же.
Фаустул улыбнулся:
̶ Кое-что вы уже соображаете. Так вот послушайте. С тех пор, как меня поставили старшим, мне удалось не только приумножить царские стада, но заметно увеличить и наше. Так что мне будет что передать Плистину, когда он заведёт семью, и вам. Поэтому я хочу, чтобы вы, когда вырастете, смогли заказать хорошее оружие, завести отличных боевых коней и в случае войны сражались бы в коннице: прославили наш род, стали знатными членами общины. Но всадник это не только боец-наездник, способный содержать одного-двух коней. Всадник — это достойный гражданин. Его могут избрать полководцем, жрецом, членом совета. Он отличается от пастуха, земледельца или кузнеца не только богатством или славными предками, он должен гораздо больше знать. Не зря большинство всадников приглашают учителей или отправляют сыновей учиться в другие города. Я всё это вам говорю, чтобы вы поняли причину моего решения. Скоро вы отправитесь на несколько лет в Габии на учёбу. Я советовался с вашим покровителем Гнеем Клелием, он сказал, что лучше всего учат там. Я велю Плистину отвезти вас в Габии и устроить. Так что готовьтесь.
Поражённые браться ошалело посмотрели друг на друга. Кончалась знакомая беззаботная жизнь среди друзей и мальчишеских забав, впереди маячило что-то чужое, неведомое, может быть, враждебное. Но главное — как можно жить вдали от родного дома, мамы Акки, отца, дяди Плистина, так похожего на него, только более стройного и быстрого, от товарищей по играм?
̶ А там будут учить верховой езде? — вдруг спросил Рем.
̶ Конечно, — кивнул отец, и Рем облегчённо вздохнул.
̶ А чтению надписей? — спохватился Ромул.
̶ И этому, и многому другому, — ответил Фаустул.
Война между Тускулами и Лабиками закончилась месяц назад, и дорога в Габии снова стала считаться безопасной. День был пасмурный, прохладный и без дождя — самое удачное время для поездки. Плистин, прихватив небольшой мешок с вещами, уселся на свою Анту, молодую пегую кобылу, ребята залезли на старого отцовского Луцера, которого уже почти не загружали работой, вот и сейчас он вёз только их.
Акка разрывалась между гордостью и беспокойством. Конечно, хорошо, что господин Гней одобрил затею мужа с учёбой и даже дал совет, к кому обратиться. Значит, он хочет со временем поднять детей выше простых пастухов, рассчитывает на них. И в то же время что будет с ними в чужом городе, до которого чуть ли не полдня езды!
Фаустул был доволен: пора уже ребятам вылезать из-под Аккиного крылышка. Он произнёс слова прощания, пообещал, что как-нибудь навестит их, а в летнюю жару возьмёт на время пожить дома. Потом снизу вверх посмотрел на сыновей и дал им последнее наставление:
̶ Помните: учителя слушаться, как меня. Наказания сносить достойно, ни на что не жаловаться. Пусть все видят, что вы альбанцы, потомки Энея.
Плистин дёрнул поводья, кобыла двинулась по каменистой дороге, Луцер понуро зашагал за ней.
Миновали луга и поля, добрались до дороги, ведущей в Габии, и свернули на север, в лес. Здесь мало ездили на повозках, скорее это была не дорога, а тропа для всадников и вьючных караванов. Пешему на ней пришлось бы несладко — в болотистых местах тины иногда было выше колен. Плистин, щадя Луцера, не торопился. Сухой, поблекший в ожидании осени лес застыл, накрытый неприветливым небом. Братья молчали, тишину нарушали только шаги лошадей и хруст ломавшихся под копытами веток.
В одном месте копыта неожиданно гулко застучали по камню — дорога вышла на покатую скальную площадку с мшистыми трещинами, словно наружу выступила окаменевшая спина подземного вепря. Здесь Плистин остановил Анту.
̶ Каменный бугор, значит, до Тускулы рукой подать, — объяснил он и вдруг замер, прислушиваясь. Потом молча соскочил с лошади, знаками показал племянникам, чтобы следовали за ним, и медленно повёл Анту в сторону от дороги. Братья сползли с Луцера, Рем взял его за узду, и скоро они оказались в чаще.
̶ Кто-то идёт навстречу, — прошептал Плистин, привязывая Анту к дереву, — поэтому ни звука.
Ромула охватил страх. Что могло встретиться такое, если даже Плистин решил скрыться?
Тот тем временем вытащил из ножен меч и велел братьям достать ножи. Ромул потянулся к ножнам и не обнаружил ни их, ни ножа.
̶ Я держал нож на коленях, — смущённо прошептал он. — Наверно, отвязался и упал, пока я слезал с Луцера.
— Растяпа! Лучше голову потерять, чем оружие, — шёпотом выругался Плистин.
Ромул покраснел от стыда.
— Можно я за ним сбегаю? — пролепетал он.
— Какой бег? — шепнул Плистин. — Иди, только тихо. Не успеешь до встречных, замри и не шевелись.
Ромул скользнул в кусты, добрался до Каменного горба и сразу увидел свой нож в красивых кожаных ножнах с не вовремя развязавшимся кожаным шнурком. Встречных было не видно, но уже слышались их тяжёлые шаги и шутливая брань. Ромул застыл, но страх того, что кто-то найдёт и заберёт его нож, оказался сильней. Он, пригнувшись, на цыпочках метнулся к потерянному оружию, быстро схватил его и вернулся в кусты. Ромул перевёл дыхание, сердце победно колотилось, таинственные встречные, которые, как он теперь сообразил, могли оказаться и безобидными купцами, ещё не появились. Можно было возвращаться, но тут его охватило любопытство: захотелось хоть одним глазком посмотреть тех, с кем на всякий случай не пожелал встречаться Плистин. Ведь за кустами они его не заметят, а он в просвет между листьями сможет их рассмотреть. Да и возвращаясь, он больше рискует выдать себя, чем стоя на месте. Ромул замер, как велел Плистин, и стал ждать.
Раньше, чем он думал, из-за поворота дороги вышли пятеро крепких бородатых потных мужчин в крестьянской одежде. Они тащили тяжёлый и небезобидный груз — из мешков торчали острия мечей, выглядывали края щитов и шлемов. Шедший первым, мощный взлохмаченный человек с хищным крючковатым носом и красным шрамом на лбу, улыбался, обнажив зубы. Они прошли в нескольких шагах от Ромула, и задний, что-то заподозрив, крикнул вожаку:
̶ Эй, Кальпур, тут кто-то есть!
И поразивший Ромула в детстве хриплый голос ответил:
̶ Тебе показалось. Не отставай!
Разбойники вышли на скальную площадку, свернули вправо и скрылись между стволами. Ромул испытал облегчение и одновременно был поражён внезапным открытием: этот только что прошедший мимо него одетый крестьянином страшный силач и есть тот самый Кальпур, убийца деда! Ромул в бессильной злобе сжал рукоятку ножа — придёт время, он ещё отомстит негодяю! Он выждал, пока разбойники отойдут достаточно далеко, и вернулся к Плистину.
̶ Вот, нашёл, — прошептал Ромул, показывая нож. — Но они были близко, я решил переждать. Это разбойники и с ними Кальпур, убийца деда.
̶ Мы слышали их голоса, — кивнул Плистин и вложил меч в ножны. — Ещё немного постоим, и в путь.
Они вернулись на дорогу, и скоро через верхушки крон стало проглядывать небо, верный признак близости опушки. Дорога пошла вниз и вывела всадников на луг, спускавшийся к Тускуле, над другим высоким берегом которой поднимался столб чёрного дыма — горела окружённая частоколом бревенчатая башня тускульского укрепления. Кругом суетились люди. Путники вброд переправились через Тускулу, поднялись на кручу. Багрово-красное пламя ревело, облизывая брёвна, от него шёл обжигающий жар. Тускульские воины не пытались гасить огонь, слишком он разошёлся. Они хлопотали вокруг нескольких убитых товарищей и одного раненого, для которого из двух копий и сучьев мастерили носилки.
Ромул, как заворожённый, смотрел на буйство огня, вполслуха следя за разговором Плистина с воинами. Рассказчик говорил о коварном нападении. Пятеро чужаков назвались крестьянами, сказали, что принесли на продажу зерно, а когда воины подошли, выхватили ножи и сразу убили троих, в том числе начальника. Остальные, застигнутые врасплох, пытались защищаться, но уцелел только один, которого негодяи сочли убитым. Потом мерзавцы собрали всё оружие, подожгли башню и скрылись. Но теперь ясно, что это были вольски — кто-то обронил шлем, какие в ходу только у них.
Ромул обернулся, увидел в руке воина кожаный шлем, утыканный бронзовыми шипами, и крикнул:
̶ Никакие это не вольски, а Кальпур!
̶ Что ты плетёшь, парень, — отозвался немолодой высокий воин, судя по богатому плащу, командир. — Кальпур давно убит.
̶ Он не убит, — стоял на своём Ромул. — Я видел его и слышал, как его называли по имени.
̶ Это правда? — командир обратился к Плистину.
̶ Да, — Плистин кивнул головой. — Бандиты прошли мимо нас, я тоже слышал, как его называли Кальпур.
Около всадников уже собралось человек десять.
̶ А как же шлем? — спросил кто-то.
̶ Могли нарочно подбросить, чтобы поссорить нас с вольсками, — сказал командир и обернулся к Ромулу: — Что же ты видел?
— Они вышли на Каменный бугор и свернули к Тибру, — встрепенулся Ромул.
Боги шли навстречу его желаниям, дедушка Аккил будет отмщён!
— Что ж, попробуем их догнать, — кивнул командир.
Он быстро выкрикнул какие-то приказы. К нему тут же подвели коня, и кучка воинов в мгновение ока превратилась в готовый к бою конный отряд.
— Вот это выучка! — восхищённо проговорил Рем.
Оставив нескольких человек у горящей башни, воины поскакали вниз, пересекли реку и исчезли в лесу.
— Поехали, — хмуро приказал Плистин и тронул Анту.
Скоро они снова въехали в лес. Сидя позади Рема, Ромул глядел на склонённые к земле ветки буков, но мысли его были далеко: там, позади, где лихие тускульские конники сейчас мстили коварному Кальпуру за своих товарищей и дедушку Аккила.
Ухоженные поля, невысокие крытые камышом аккуратные мазанки селений, редкие встречные пустые повозки, которые неторопливо тянули быки...
— А вот и Габии, — Плистин показал рукой вперёд.
Там белела полоска стены с выступами башен, а над ней вставали ряды красноватых черепичных крыш. Слева от города темнела полоса широкой воды. Туда через поля, украшенные редкими деревьями, тянулась сплошная полоса зарослей. «Река», — подумал Ромул. И действительно, вскоре они подъехали к реке, которую Плистин назвал Астурой. Река текла в крутых берегах, заросших кудрявыми ивами. Впереди вставала зубчатая стена с раскрытыми воротами, но это был ещё не город, а небольшая крепость. Габии виднелись справа, а перед ними у озера расстилалось широкое поле, пересечённое дорожками, по которым в разных направлениях гарцевали всадники, — это и был гипподром, где учили искусству конного боя.
Дорога нырнула вниз к воде, и вскоре копыта Анты и Луцера глухо застучали по доскам. Ромул увидел, как справа под настил вбегает зелёная вода и колышутся приглаженные ею пряди водорослей.
Всадники поднялись на правый берег, въехали в ворота крепости и оказались на просторном дворе, где толклись люди и вьючные животные. Отсюда стало видно, что озёр два, и крепость занимает перешеек между ними. Впереди от берега до берега его пересекала ещё одна стена с воротами, в которые входил караван тяжело нагруженных мулов.
— Идут от этрусков из-за Тибра через Антемны и Коллаций, — объяснил Плистин. — Поторопимся, а то застрянут в правых воротах, и придётся ждать.
Но стражники остановили караван, чтобы собрать пошлину, и путники спокойно выехали в правые ворота, к Габиям. Дорога пошла между гипподромом и берегом озера. Город был уже рядом. Ромул с интересом разглядывал торчащие над стенами крыши, которые все, словно рыба чешуёй, были покрыты черепицей: совсем как крыша храма Юпитера в Альбе. Стена, сложенная из крупных одинаковых плит, тянулась по земляному возвышению, заросшему шиповником. Впереди неожиданно возник ещё один караван, хотя до этого дорога впереди была пуста. Вот оно что, он выходит из города, значит, там ворота. Но караван шёл на восток, к Пренесте, и когда всадники достигли двух широких въездных башен, там уже никого не было. Ворота, сбитые из толстых, ровно обтёсанных досок, были распахнуты настежь, путники заехали в город и остановились.
Они оказались на широкой, мощённой ровными камнями площади, впереди виднелись здания с лестницами и колоннами, слева пёстрые навесы и повозки торговцев, там был рынок — почти такой же, как в родной Альбе, только гораздо больше. Пока Ромул оглядывался, спешившийся Плистин подошёл к стражнику.
— Поручительство Агиса из Кум? — переспросил тот и подозвал помощника, длинного рыжеволосого юношу, у которого за плечами болтался железный шлем.
Юноша взялся показывать дорогу, и все поехали по неправдоподобно прямым ровным улицам, пока не достигли ворот в каменной крытой черепицей стене, над которой поднимались ветки деревьев. Стражник постучал вделанным в створку поворотным кольцом по шляпке гвоздя, всадники спешились. Появившийся слуга приоткрыл ворота и, услышав от Плистина имя Гнея Клелия, взял Анту под уздцы. Юный стражник, удостоверившись, что приезжих приняли, отправился назад.
Агис, живой, приветливый, доброжелательный, сразу понравился Ромулу. Он принял гостей в саду, велел подать обед, сам сел за стол напротив Плистина и тоже принял участие в трапезе. Плистин рассказал, что Фаустул, его брат, стал из простого пастуха старшим над стадами Амулия и хочет выучить сыновей, а Гней Клелий одобрил эту затею и посоветовал обратиться к Агису за помощью. Агис с улыбкой разглядывал братьев, сказал, что они ему нравятся, и послал за учителем Никанором из греческой общины Габий, который родился и вырос здесь, — латинский был для него не менее родным, чем греческий. Учитель, он же хозяин школы, оказался крепким, широколицым, со светлой полукруглой бородой и спущенными на лоб волосами. Агис изложил Никанору суть дела, и они стали обсуждать тонкости обучения братьев. Отдохнувшие дети с интересом и тревогой прислушивались к разговору взрослых.
— Ты оставишь их жить здесь? — спросил Никанор.
— Нет, это неудобно. Лучше бы ты поселил их у себя.
— Хорошо, — кивнул тот, сделал заметку палочкой на вощёной дощечке и продолжил: — Срок обучения три года. За это время я научу их счёту, письму, чтению. Могу даже немому чтению, но это за особую плату.
— Не надо, — вмешался Плистин. — Это же бесполезно!
— Как знать, — возразил Никанор. — Иногда очень даже полезно, например, если нужно передать на людях тайное сообщение. Впрочем, как хочешь. Греческий язык?
Плистин покачал головой:
— Вряд ли он им пригодится. Но хорошо бы этрусский.
— Кто же учит этрусский? Его и так все знают.
— Это в Габиях, — заметил Агис, — а Альба стоит на отшибе.
— Хорошо, будет этрусский, у меня помощник этруск, — Никанор сделал очередную отметку.
— Ещё я бы хотел, чтобы ты преподал им историю Энея.
— Да, конечно, на уроках чтения мы изучаем историю богов и героев, в том числе и Энея.
— Это хорошо, — кивнул Плистин. — Но из трёх городов, где правили прямые потомки Энея, только в Альбе Лонге они правят до сих пор.
— Правда, у них самих не осталось прямых потомков, — хмыкнул Агис.
— Это не важно, — возразил Плистин. — Отец хочет, чтобы племянники знали о славных корнях своего города.
— Ладно, будет им Эней, — согласился Никанор, сделал пометку и продолжил: — Пеший бой на мечах, метание копья и диска, лук. Начала выездки, обращение с конями, скачки с препятствиями, основы конного боя.
— Тут всё будет в порядке, — улыбнулся Плистин, — они выросли среди лошадей.
Потом пошли денежные разговоры, в которые Ромул и Рем не стали вникать.
Глава 6. ШКОЛА
...шествуй смелее,
Шествуй, доколе тебе позволит
Фортуна.
Вергилий. ЭнеидаДлинный дом, выходящий глухой стеной на улицу, а окнами на истоптанный, пыльный двор. Каменный забор, хозяйственные постройки и единственное дерево посередине. Ромул оглядывается. Невесёлое место. Неужели здесь придётся провести несколько лет? Но если отец велел, значит, так нужно... Братьям отводят каморку рядом с комнатой учителева помощника Авла, худого высокого старика с совершенно седыми длинными волосами и клочковатой тоже белой бородкой. В его владениях царствует сабинянка Нумия, большая, громогласная, ведущая себя как хозяйка.
Она устраивает постели из соломы, накрытой козьими шкурами, и братья, уставшие за день, засыпают на новом месте.
— Утро, утро! — кричит Нумия.
Братья поднимаются, суют ноги в сандалии и бегут во двор. Умывшись у бассейна с проточной водой, они завтракают вместе с Авлом, подпоясываются, поправляют одежду, приглаживают волосы. Им слышно, как приводят учеников, как местные мальчишки возятся и задирают друг друга. И вот в комнату заглядывает Авл и зовёт:
— Ну что, отроки, пора идти класть руку под розги!
Учебный зал — большая комната с квадратным столбом посередине. Слева высокие окошки, за ними двор. В торце зала помост и кресло учителя, рядом справа стол помощника, где лежат папирусные свитки и вощёные дощечки, а напротив скамейки учеников. Их человек сорок, разного возраста, от малышей лет шести до пятнадцатилетних юнцов. Ромулу с Ремом досталась задняя скамья в правом углу — самое тёмное место. Ребята переговариваются, хихикают, играют на щелчки в «сколько пальцев?». Время от времени учитель вызывает кого-нибудь к себе и занимается с ним, потом отпускает на место и зовёт другого. В комнате стоит равномерный гул, словно в лесу во время сильного ветра...
Иногда, повторяя хором, все учат наизусть короткие стихи о героях или обращения к богам. Порой Авл раздаёт вощёные дощечки и острые палочки. Сверху на воске нацарапана буква или слово, и надо аккуратно повторять надпись, пока не заполнится вся табличка. Но главные занятия проходят во дворе. В чём Никанор действительно мастер — так это в искусстве боя. Он увлечённо показывает ученикам приёмы обращения с мечом, щитом, копьём. Оружие, конечно, деревянное; Никанор подбирает его по росту и силе питомцев, которые для этого разделены на три группы. Старшие орудуют настоящими, но притупленными мечами.
Часто ребята занимаются борьбой и бьются на кулаках, причём по греческому обычаю обматывают руки ремнями, правда, без свинцовых грузов, и Никанор следит, чтобы братья никогда не сражались друг с другом. Раз в несколько дней они отправляются за город на гипподром заниматься с конями. Никанор любит устраивать соревнования и объявлять победителей. Рем чаще других становится чемпионом средней группы. Ромулу это удаётся реже.
Ромул чувствует, как от этой бесконечной возни растут его силы и ловкость, как уходят в прошлое страхи перед опасностью. Теперь он уже смело сам бросается на противника, готовый ради победы вытерпеть любую боль.
Авл в разговорах с постояльцами часто переходит на этрусский, и они начинают понемногу осваивать этот язык. Быстро идёт дело с чтением и письмом. У каждого языка своя азбука — греческая, латинская, этрусская, некоторые буквы похожи, другие нет, но буква «А» у всех одинаковая. Авл говорит, что она и у карфагенян такая же, только пишется вверх ногами, потому что там это не ножки, а рожки — у них «А» изображает «алефа» — «быка». Интересно, что Ромул сам, не зная как, овладел искусством немого чтения. Как-то он смотрел в свиток и вдруг почувствовал, как у него в сердце сами собой произносятся написанные слова. Сперва он испугался, но потом вспомнил слова Никанора о немом чтении, успокоился и решил пока хранить это своё умение в тайне.
Хорошо, что они живут у Авла, он даёт им дома читать школьные книги. Большинство из них греческие, и хотя Плистин не просил учить ребят греческому языку, они понемногу осваивают его, слушая, как Никанор учит других. Есть и латинская книга, которая называется «Наставление отца молодым сыновьям». Там рассказано, как младший сын всё делал, как велел отец, а старший поступал по-своему, и старший попал в рабство, а младший прославился, стал царём, выкупил старшего, и тот сказал, что надо слушаться отца. А большинство греческих книг написаны стихами, других учеников Никанор заставляет многие места учить наизусть.
Это случилось в первый день учёбы, давно, хотя, может быть, и не очень (однообразная жизнь скрадывает время). Ромул, впервые попав на занятия, переглядывается с Ремом, стараясь понять, что происходит. Ученики шумят, учитель расхаживает по помосту, потом останавливается и велит всем замолчать. Наступает тишина, и он возглашает:
— Слушайте и запоминайте, — он делает паузу и с расстановкой произносит: — «Воин верен командиру, гражданин — закону. Стена защищает город снаружи, закон — изнутри». Запомнили, пеньки глазастые? Сейчас проверим. Что скажут новички из Альбы? Эй, Ромул, встань и повтори!
Ромул вскакивает и без запинки, стараясь точно воспроизвести интонацию Никанора, выкрикивает:
— «Воин верен командиру, гражданин — закону. Стена защищает город снаружи, закон — изнутри». Запомнили, пеньки глазастые?
Зал сотрясается от дружного хохота. Ромул растерян, кажется, он повторил всё правильно...
— Авл, научи невежу порядку, — обращается Никанор к помощнику.
— Ромул, сюда, — зовёт старик.
Зал затихает, Ромул пробирается к помосту. Авл поднимает пучок тонких прутьев, спокойно подсказывает, что надо положить левую руку на стол, и больно хлещет Ромула по запястью. Тот помнит слова отца достойно сносить наказания и сжав зубы молчит с гордым видом.
— Хватит, — говорит Никанор.
Экзекуция кончается, и Ромул с покрасневшей распухшей рукой отправляется на место.
Когда занятия кончаются, и дети обедают вместе с Авлом, Ромул спрашивает его, за что был наказан — ведь он точно выполнил всё, что велел учитель!
— Тебе не надо было повторять последней фразы, — отвечает Авл и добавляет, — а Никанору не надо было её говорить.
Но через небольшое время после позорного провала Ромула честь Альбы восстановил Рем. Учитель вызвал второго новичка и спросил, сколько нужно секстариев, чтобы заполнить ведро ёмкостью в одну урну. Рем, давно помогавший Фаустулу в подсчётах, не задумываясь, ответил: «Двадцать четыре».
— Как ты это узнал? — удивился Никанор.
— Ну как же, — стал объяснять Рем, — в урне четыре кувшина-конгия, в кувшине шесть секстариев, это и по названию видно. Я быстро-быстро налил в урну четыре раза по шесть секстариев молока, и она заполнилась.
— Тогда вот что. Сколько будет овец, если соединить стадо из трёхсот семидесяти четырёх овец со стадом из двухсот девяноста восьми.
— Шестьсот семьдесят две овцы, — выпалил Рем.
Никанор задумался, шевеля губами, и с изумлением оглядел ученика:
— А это ты как узнал?
— Ну как же, — затараторил Рем, — я сперва отогнал от стад лишних овец, чтоб остались только десятки, от первого четыре, от второго восемь и быстро-быстро согнал их вместе. Получилось двенадцать, двух я оставил, а десять пригнал к первому стаду. Потом отогнали десятки — от первого восемь десятков (считая одну добавочную), а от второго девять и опять быстро-быстро согнал их вместе. Получилось семь десятков и сотня. Сотню я подогнал к первому, там стало четыреста, да во втором осталось две, итого — шесть. И вот я смотрю, стоят три стада — в одном шесть сотен, в другом семь десятков, в третьем две овцы. Тогда я быстро-быстро их перечислил.
— Отправляйся на место, — покачал головой Никанор. — В скорости счета за тобой никому не угнаться.
На другой день во дворе, пока малыши соревновались в беге, к братьям подошёл высокий ладный парень с гордо поднятой головой.
— Привет альбанцам, я Стаций из Габий. Здесь все меня знают.
Познакомились. Стаций не задирался, наоборот, всячески навязывался в друзья:
— Здорово ты вчера высмеял этого козла-Никанора, — похвалил он Ромула. — И на наказание плевал. А ты, — обернулся он к Рему, — показал, что он и считать не умеет! Пойдём после занятий на озеро?
Погода была хорошая, и Авл после обеда отпустил братьев погулять. Они встретились со Стацием и вышли через узкие Задние ворота к Малому, Фунданскому озеру, в месте, где стена ещё не подходила вплотную к воде. Было прохладно, лезть в воду не хотелось, ребята устроились в кустах на песчаном бугре, наломали сухих веток, Стаций высек кремнём огонь, и небольшой костёр окружил их уютным дымком, отгонявшим комаров.
— Ненавижу Никанора, — сказал Стаций. — Вот бы проучить его, положить где-нибудь верёвку, а когда он пойдёт, натянуть, чтобы шлёпнулся. Тогда узнает.
— Это опасно и нечестно, — нахмурился Рем.
— Если подстеречь в кустах, пока он будет подниматься, можно убежать, — возразил Стаций. — А честность тут ни при чём. Они, греки, все лгуны, хитрецы и пройдохи, даже друг с дружкой всё время воюют! Вообще настоящая доблесть есть только у латинов. Мы всегда тут жили, нас породила сама здешняя земля, а эти пришлые греки, этруски, сабины, эквы ни на что не годятся.
— А Эней и его люди? — возразил Рем.
— Эней не в счёт. Он принёс нам частицу божественной крови, и доблести ему не занимать. Но всё-таки латины по эту сторону Альбанской горы хоть ненамного, но доблестней приморских.
— Погоди, но ведь троянцев с Энееем победили и изгнали греки! — вмешался Ромул.
— Но не доблестью, а коварством, проникли в город, как воры, — Стаций стоял на своём. — У нас среди учеников половина греки и этруски. Надо их поколотить, чтобы нос не задирали. И вообще хорошо бы всех чужаков прогнать из Габий.
Стаций был вожаком десятка учеников, которые собирались после занятий, вместе шатались по городу, развлекались, задирая сверстников, могли, проходя по рынку, как бы невзначай опрокинуть прилавок грека-гончара. На какое-то время Ромул и Рем присоединились к его компании. И всё же нередко Стаций приглашал на озеро их двоих, пытаясь окончательно обратить в свою веру. Ромул заметил, что иногда тот встречался там и с другими своими приятелями.
— И как вы можете жить у этого колдуна-этруска? — говорил Стаций. — Да ещё рядом с сабинской покупной женой! Знаете, как она к нему попала? Её продал муж за то, что она изменяла ему с медведем.
— Врёшь, — обиделся Ромул.
— А ты её спроси, — хмыкнул Стаций. — Они, сабины, сущие дикари, живут в лесу. Выжгут поле и растят ячмень, а потом надоест это место, бросят его и переходят на другое. А город у них только один, Куры. Да и не город на самом деле, а село за забором. А эквы и того хуже, живут в горах, пасут скотину и разбойничают, а стрелы у них с кремнёвыми наконечниками...
— Послушай, Стаций, — прервал его Ромул, — если ты ни во что не ставишь греков и этрусков, то почему все у них учатся? Выходит, они знают и умеют больше латинов.
— Ничего подобного. Учат они ради корысти. Разве доблестный латин унизится до презренного учительского труда? А знания и умения — всё равно, что топор или лопата. Любого можно заставить преуспеть хоть в каком ремесле, если как следует наказывать. А уж ради денег он и сам себя не пожалеет. А доблестный общинник бескорыстен, он воюет и следит за хозяйством не ради выгоды, а чтобы добиться признания общины. Конечно, чужаки нужны городу, но только если это рабы или мастера. Хотя есть и такие, что живут роскошнее самых знатных латинских семей и похваляются своим богатством. Вот у таких бы надо всё отнять, а самих выгнать вон! И не только в Габиях, а по всему Лацию.
— Да, — согласился Рем, — это было бы хорошо.
— Так вот, — Стаций подался вперёд. — Я хочу этим заняться, не сейчас, конечно, а когда стану воином. Но одному человеку такое не по силам. Есть у этрусков один хороший обычай. Там знатный воин собирает друзей, они дают друг другу клятву верности и становятся братьями, эстерами. После этого у них всё становится общее, они живут как одна семья, но зато в бою или при любых других испытаниях стеной стоят за своего командира. Согласитесь ли вы стать моими эстерами?
— И тогда что, ты для нас окажешься главнее отца? — насторожился Ромул.
— Пожалуй, так. Но ведь он латин и, конечно, меня поддержит.
— Нет, — покачал головой Ромул, — пусть он сначала нас отпустит, а потом уже мы решим.
— Я же говорю о будущем.
— Брат прав, — нахмурился Рем. — У нас в Альбе дети подчиняются отцам, пока те живы.
— Ну, как хотите, — обиделся Стаций.
После этого разговора он стал избегать братьев, а через несколько дней Рем одолел его в поединке на мечах, и неприязнь перешла во вражду. Вскоре и вокруг Рема с Ромулом собралась кучка приятелей.
Всё же рассказ Стация о странных обычаях сабинов удивил Ромула, и тот как-то спросил Нумию, правда ли, что медведи любят сабинянок?
— Конечно, — засмеялась она, — как ты лепёшки с мёдом! Повезло тебе, что медведя не встречал! Он если человека поймает — съест, а потом когти оближет. Без копья, парень, в чащу лучше не соваться, такая у нас с ними любовь.
Среди ребят, с которыми подружились братья, выделялись двое — ловкач Лел и тихий неуклюжий этруск Туск. Вообще-то его имя и значило этруск, они называли себя тусками, или турусками, это латины для удобства добавили к их названию звук «э». Лел сдружился с Ремом на гипподроме, им досталось по очереди ездить на одном коне по имени Ост, в которого оба просто влюбились. Они вместе чистили Оста и могли сколько угодно обсуждать его красоту и силу.
Никанор в преддверии зимней непогоды использовал для выходов на гипподром каждый ясный день. Служители конюшен выводили лошадей, Никанор обучал кого-то приёмам езды, а остальные по очереди катались по главной окружной дорожке или по петлям с поворотами. Мимо вдоль берега Фунданского озера к Тибру в Этрурию и из неё в горы, а потом на юг, проходили вьючные караваны в сопровождении конных воинов. Однажды проследовало целое этрусское войско: впереди парами двигалась сотня конников, за ними длинная цепочка пеших (Рем решил, что их было не меньше тысячи), дальше тащились нагруженные мулы, на которых сидели женщины с детьми. Ребята не отрывая глаз разглядывали вооружение воинов — сверкающие на солнце железные шлемы, панцири, защитные юбки из железных пластин, пристёгнутые поножи. Никанор объяснил, что это переселенцы, идущие искать счастье. Они поднимутся по Аниецу в горы и оттуда по долине Лириса пойдут на юг к Флегрейским полям и горе Везувию, где греки основали Кумы и Партенопей, а этруски Капую, Нолу и Помпеи.
Однажды после соревнований по бегу Никанор закончил занятия раньше обычного, но солнце пригревало, и многие остались поиграть во дворе школы. Компания ребят окружила Туска, который занял в беге последнее место, и Стаций предложил наградить главного неудачника венком.
— Но особым, — провозгласил он, — таким, какой сплетёт сам герой из побегов священной крапивы, и не какой-нибудь, а подзаборной! Давай, Туск, иди, рви листья для венка. А ну, ребята, поможем ему найти самый пышный куст!
Затея понравилась. Мальчишки стали толкать этруска к зарослям крапивы, он отбивался, но дело шло к тому, что ему несдобровать. Ромул не выдержал, подбежал к Стацию и потребовал прекратить травлю.
— Ах ты, Альба-Лонга, — возмутился Стаций. — Не лезь в габийские дела, а то сам получишь!
— Я не прочь, только от тебя одного. Много ли доблести нападать вшестером на одного, — и Ромул ткнул Стация кулаком в грудь.
Началась драка, на помощь Ромулу прибежали Рем с Лелом. На крики выскочил Авл и прекратил сражение, которое окончилось вничью, только у Таска потекла кровь из расквашенного носа. Помощник учителя отвёл раненого к себе, а ребята разошлись по домам.
Нумия принесла воды и полотенце, Туска умыли и уложили, чтобы остановить кровотечение. Потом Авл оставил пострадавшего ученика обедать. Они ели вчетвером, а Нумия прислуживала. Авл похвалил своих постояльцев, вступившихся за Туска:
— Плохо, когда сильные травят слабого, — сказал он. — Разве Туск виноват, что ростом ниже других? Ещё неизвестно, кто будет выше через два года. А скажи, Туск, не из— за Стация ли отец хочет забрать тебя из школы?
— Нет, — твёрдо ответил Туск. — Я ему ничего не говорил.
— Тогда почему же?
Оказалось, Авл хорошо знает его отца, преуспевающего мастера, изготовителя ручных зеркал. Туск подумал и решил открыться:
— Отец хочет, чтоб я стал мастером, как он, а я хочу стать гаруспиком, жрецом-предсказателем.
— Хочешь, — предложил Авл, — я поговорю с твоим отцом и, если он согласится, подготовлю тебя к служению богам. Ведь я много лет служил Тину, занимался прорицаниями и входил в совет жрецов.
— Авл, — удивился Ромул, — но почему же ты, жрец, стал помощником учителя?
— Видишь ли, моя покойная жена служила Нортии, вашей Фортуне, а по нашим обычаям без неё я уже не могу служить богам, потому что священный жреческий брак расторгает только Кульсу, бог смерти.
— А Нумия разве тебе не жена?
— Не совсем, — ответил Авл. — Она рабыня. Я купил Нумию у ценинца, который захватил её во время войны между Цениной и сабинянами.
Постепенно Ромул невзлюбил Стация за его презрение к иностранцам. Если бы таким был Латин, никогда бы Энею не осесть в Лации, либо здесь жили бы одни троянцы, либо латины перебили бы их до последнего. А получилось, что троянцы сдружились с латинами и возвысили их. Потому что Латин и Эней умели уважать других.
Эней — любимый герой Ромула. Что такое Лаций, земли сабинов, вольсков или аврунков, и даже этрусское Двенадцатиградие по сравнению с Востоком? Ясно, что всё великое и важное происходило и происходит там, а здесь, на западе, слышны только отголоски тамошней жизни. И конечно, приплывший оттуда Эней дал латинам то, чего им не хватало.
Когда-то там, на востоке разразилась из-за женщины страшная война, и на ней погиб великий город Троя-Илион, основанный Илом, сыном Троса. Принц Парис-Александр, правнук Ила, украл Елену, жену царя ахейцев, и греки собрали огромное войско, чтобы отомстить за оскорбление. Десять лет они не могли взять Трою, а потом захватили хитростью — уплыли и оставили на берегу деревянного коня, набитого воинами. Троянцы затащили коня в город, а ночью враги вышли и открыли ворота вернувшемуся войску.
Так погиб город Троя. Но друг Париса Эней и многие другие троянцы поплыли искать новую родину. Боги назначили им плыть в Лаций. Много лет троянцы скитались по морям, но нигде не могли осесть, пока не высадились в землях Латина, царя приморского Лаврента.
Ромул перед сном, лёжа в каморе Авла, любит представлять себя Энеем. Он — Эней: высокий, могучий, в сверкающих доспехах, стоит впереди выстроенного войска троянцев. Перед ним на расстоянии полёта копья строй латинов. Мало у кого из них железные шлемы, но они сильны, свирепы и их во много раз больше, чем троянцев. Но выбора нет, корабли отслужили своё, за Тибром земли могущественных этрусков, тоже пришельцев с Востока. Он, Эней, выстроил своих друзей для последнего боя, сегодня они должны победить или погибнуть. Но есть и ещё один выход — мир!
Он — Эней. Он приказывает Ахату (тот почему-то похож на Рема) не двигаться с места, пока враги не нападут, а сам один идёт на вражеский строй, величественный, спокойный, в пурпурном царском плаще. В руке его не меч, а дубовая ветвь. Ему навстречу выходит Латин, похожий на Фаустула, но облачённый в царские доспехи.
Ромул говорит, что приплыл не ради грабежа или завоеваний. Он уважает права латинов владеть своей землёй. Он и его люди потеряли свою, изгнанные с родины коварными врагами, они — остатки великого народа, и не их вина, что другие хотят видеть в них или завоевателей, или рабов.
— Нас немного, — говорит он, но мы сильны, закалены морем, битвами и отчаяньем. Мы готовы сражаться до последнего вздоха. Я вижу, вы тоже полны решимости. Но что будет хорошего, если мы затеем битву, даже не узнав как следует друг друга? О, великий царь прекрасного края и смелого гордого народа, вот я перед тобой! Прими нас под своё крыло, да будут латин и троянец равны перед людскими законами, пусть мы, как равные, станем частью твоего народа и по-братски поделим власть.
— Хочешь стать моим соправителем? — с подозрением спрашивает Латин.
— Нет, — отвечает Эней, — я хочу остаться вождём своего народа и войска, которое отныне будет сражаться только во имя защиты нашей общей земли против общих врагов.
Он, Эней, смотрит на Латина открытым честным взглядом. Тот колеблется, но всё же даёт приказ вернуть своё войско в город; Эней велит Анхизу-Рему, который почему-то оказался рядом, отвести троянцев к кораблям.
Теперь он, Эней, беседует с Латином в Лавренте. Стол поставлен под огромным лавром, в честь которого назван город. С ними сидят советники и дочь царя, прекрасная Лавиния, которой предстоит стать невестой Энея. Здесь фантазии Ромула теряют яркость, и картина объединения народов погружается в туман.
«Да, — думает Ромул, — хорошо быть сыном божества. По крайней мере, тебя будут слушать. Вряд ли Латин принял бы троянцев Энея, если бы тот был простым смертным».
Против ожиданий Туска, его отец согласился, чтобы Авл после занятий обучал сына жреческим премудростям. У Туска были братья, и мастеру было кому передать своё искусство. Ромул нередко присутствовал на этих уроках. Пока Рем играл во дворе с Лелом или был у него в гостях, Ромул вместе с Туском слушал истории об этрусских богах Он уже неплохо понимал этрусский язык, но стеснялся переспрашивать Авла, когда встречались незнакомые выражения, и старик тут же повторял их по-латински.
У Авла были священные книги, по его словам, продиктованные в древности жрецам ребёнком-мудрецом Тагом. Святого младенца недалеко от города Тарквиний нашли в земле пахари. Они выкопали его и были поражены соединением младенческого тела с разумом мудрого старца. В книгах описывались ритуалы основания храмов и алтарей, правила и сроки богослужений, способы предсказаний.
Таинственный мир богов, их отношения с людьми, высшие силы, требующие почитания и платы, щедрые, грозные, непредсказуемые. Конечно, они одни и те же у этрусков, латинян и греков, хотя и носят разные имена. Но кто правильнее ведёт себя по отношению к ним? Ромул надеялся, что когда-нибудь приблизится к разгадке этой тайны.
«Интересно, — думал он, — не проще ли жизнь бессловесных тварей, не знающих ни молитв, ни жертв? Но кто же согласится отдать за беззаботное существование своё человеческое сердце, даже полное знаний о неумолимой судьбе и неизбежном сошествии в царство мёртвых? »
Глава 7. ГЕРСИЛИЯ
Дафнис сжигает меня,
я Дафниса в лавре сжигаю.
Вергилий. Буколики.Прошли три года, заполненные занятиями в школе, боевой учёбой, играми и чтением. За это время Габии воевали только раз, когда Лабики возмутились снижением дорожного налога, которое отвлекло купцов с южной дороги на северную. Было несколько сражений, разорение селений с той и с другой стороны, но после вмешательства Пренесты, где сходились обе дороги, города помирились, договорившись об одинаковой ставке налога.
Самые жаркие месяцы лета, когда занятия в школе прерывались, Ромул и Рем проводили в Ференте у отца. Мальчики вытянулись и превратились в крепких и рослых юношей, типичных альбанцев, таких, как Фаустул. Отец гордился сыновьями, которым осенью предстояло оставить Габии и пройти в Альбе военные испытания — первый шаг на пути вступления в родную общину. Тех учеников, которые освоили счёт и письмо, Никанор освобождал от школьных занятий, они учились только боевым искусствам и теперь имели гораздо больше свободного времени. Среди этих счастливцев оказались и Ромул с Ремом.
Перед днём весеннего равноденствия Авл сказал Ромулу, что хочет взять его с собой в храм на свершение новогоднего ритуала вбивания гвоздя.
— Кроме того, ты понадобишься мне и ещё одному человеку как свидетель. Можешь и Рема позвать.
В день праздника Никанор отменил занятия, и Ромул вместе с Туском и Нумией отправился в главное святилище этрусков, построенное в северо-восточной, благоприятной части города. Рем отказался идти с ним, таинственно улыбнувшись, сказал, что у него свои дела.
Лёгкий деревянный храм стоял на каменном помосте, куда вела широкая лестница. Само здание занимало только заднюю часть площадки, а двускатная черепичная крыша, подпёртая двумя рядами толстых брёвен, накрывала её целиком. Над портиком высилось какое-то крылатое божество, сделанное, судя по цвету, из обожжённой глины.
Они пришли слишком рано, когда у храма ещё почти никого не было. Войдя внутрь, Ромул увидел большую комнату с окошками под потолком и тремя нишами напротив входа. В нишах стояли нарядно одетые деревянные статуи.
— Слева Уни, ваша Юнона, — объяснил Авл, — в центре Тин-Юпитер, а справа Мин-рва, ваша Минерва.
Как всегда в храме, Ромул а охватило светлое чувство близости высших сил. От древних божественных статуй исходили невидимые токи, которые словно очищали его.
Старик подвёл Ромула к правой стене и показал на ней тесный ряд блестящих бронзовых кружочков, который тянулся от ниши Мин-рвы ко входу. От места, где кружки кончались, ряд продолжали маленькие дырочки.
— Это отметки годов, прошедших со времени освящения храма, — объяснил старик. — Обрати внимание на высоту ряда, её покажет само солнце. Мы встанем у левой стены, чтобы лучше видеть действо.
Ромул оценил длину ряда кружков — их было не меньше сотни — и вдруг понял, что наблюдает неотвратимое течение времени.
Они отошли к стене, где уже стояли серьёзный, сосредоточенный Туск и взволнованная Нумия, и стали дожидаться полдня. Храм быстро заполнялся, Нумия тихо шептала молитвы.
— Взгляни на средний столб, — проговорил Авл. — Ритуал начнётся, когда светлая полоса приблизится к верхней метке. Сперва заиграют музыканты и прозвучит новогодняя молитва жрицы Нортии.
Ромул подумал и спросил:
— А кто укажет время в облачную погоду? Или в этот день всегда солнечно?
— Водяные часы, — ответил старик.
Ромул кивнул, хотя и не знал, что это такое. Тем временем пятно света, входившего через дыру в основании портика, медленно опускалось по торцу столба и наконец достигло метки. Вдоль стены прошли священнослужители и остановились, повернувшись лицом к пришедшим. Крайние заиграли на трубах и свирелях, средние взмахнули висящими на цепочках чашами, и в зале закружились струи приятно пахнущего дыма. Они загорались в луче солнечного света, делая его похожим на гигантский палец, которым солнечный бог указывает время ритуала.
Когда невесомый палец достиг следующей метки, жрица в середине ряда служителей поднялась, встав на возвышение, и откинула с лица покрывало. Ромул был поражён её загадочной красотой. На плечи падали чёрные, как вороново крыло, волосы, такими были и брови, тонкие алые губы выделялись на белом лице, огромные глаза сияли. Она запела высоким голосом молитву, слов которой Ромул не мог разобрать, кроме «богиня», «неотвратимая» и «завершающая». Ромул, затаив дыхание, вслушивался в звуки чудесной божественной песни.
Но вот она смолкла, в храме воцарилась торжественная тишина. Жрице подали гвоздь и бронзовый молоточек, она замерла, следя за светлым пятном, незаметно ползущим вниз. Вот оно коснулось третьей метки. Жрица грациозно повернулась, левой рукой приложила к дырочке гвоздь, звонко стукнула по его широкой шляпке молотком, затем ударила ещё два раза, и полоса бронзовых бляшек стала длинней на одну.
— Благословенна да будет память о звезде, давшей нам завершить этот год, — торжественно произнесла жрица, — благословенна да будет звезда нового года.
Когда все разошлись, Авл повёл спутников к задней части храма, где в каменном помосте оказалась дверь с лесенкой, ведущей вниз. Там в просторном подвале стояли столы и скамейки, отдыхали жрецы и музыканты. Жрица Нортии, задумавшись, сидела у стола, освещённого солнцем, проникавшим через одно из отверстий в верхней части стены. Авл положил перед ней три серебряные монеты и сказал, что просит её в этот священный день превратить его рабыню в лаутню-вольноотпущенницу.
— Вот свидетели, — кивнул он на Ромула и Туска.
— Не слишком ли они молоды? — покачала она головой, и Ромул с испугом понял, что сама она далеко не молода. Её голос звучал совсем не так, как во время молитвы, лицо казалось усталым, у глаз проступили морщины.
— Им давно исполнилось шестнадцать, — ответил Авл.
Жрица спрятала деньги, приказала зажечь лампу и достала из шкатулки гладкую дощечку. Накалив на лампе иглу с деревянной ручкой, она стала выжигать на дощечке слова, справа налево, как пишут этруски. Авл подсказывал ей:
— Я, Авл Вальтур из Габий, отпускаю свою женщину Нумию, сабинянку из Кур. Свидетели обряда Туск из Габий и Ромул из Альбы Лонги.
Жрица задула лампу, достала из шкатулки бронзовый кружок и тот самый священный молоточек, каким вбивала гвоздь, положила кружок на дощечку и ударила по нему. На дощечке отпечатался затейливый вдавленный узор. Авл взял документ и спрятал его под одеждой.
— Теперь пойдёмте совершим обряд.
Они вышли наружу, где за храмом росло несколько старых дубов. Между ними стояло кресло, грубо вытесанное из глыбы туфа. Ромул прочёл выбитую на спинке этрусскую надпись: «Здесь садятся добронравные рабы, встают свободными». Жрица торжественно произнесла:
— Сядь Нумия, женщина Авла, и накрой голову, — потом высоким звонким голосом прочла молитву, и снова Ромул ощутил присутствие незримой богини. Закончив, жрица обратилась к Нумии: — А теперь открой лицо и поднимись, женщина, отныне принадлежащая только богам и самой себе.
Нумия откинула платок, оставила сиденье, опустилась на колени перед Авлом и жрицей и закрыла лицо руками. Она плакала.
— Успокойся, Нумия, ничего плохого ведь не случилось, — сказала жрица. — Авл просто утвердил перед богами и людьми то, что вы давно уже решили. Пойдёмте ко мне, я угощу вас как старых друзей, поближе познакомлюсь с юношами, о которых ты мне так много рассказывал.
— Мы решили, — шепнул Ромулу Авл, — что она будет со мной, пока не похоронит.
Они прошли к расположенным рядом с храмом домам, где жили служители. Жрица пригласила гостей за стол, к ним присоединилась её дочь Герсилия, миниатюрная живая девушка с ярко-рыжими вьющимися волосами.
— А где отец? — спросила жрица.
— Позвали гадать, — ответила дочь.
Две служанки быстро поставили на стол угощения и вино. Разговор шёл по-этрусски, сперва о предзнаменованиях на новый год, потом о тонкостях гадания по печени жертвенной овцы. Туск понимающе кивал, иногда вставляя реплику, а Ромул, ещё находившийся под впечатлением красивого и торжественного обряда, молчал и любовался сидевшей напротив Герсилией. С её платьем цвета весенней зелени удачно сочетались крупные бусы из карфагенского стекла со сверкающей бронзовой подвеской. Ему нравилось её тонкое живое лицо, стройная фигура, плавные движения. Почему-то, глядя на неё, Ромул ощущал возвышенную радость, почти такую же, какая бывает во время благодарственной молитвы.
Когда трапеза подошла к концу, Герсилия попросила у матери разрешения оставить общество и позвала с собой Ромул а «поболтать». Ромул был приятно удивлён. Он слышал, что этрусские обычаи по сравнению с латинскими дают девушкам гораздо больше воли, но не думал, что можно вот так запросто пойти поговорить с едва знакомой девушкой. Он привык, что в Альбе девочкам, едва они достигали возраста невест, разрешалось встречаться с парнями только в храмах или на городских и семейных праздниках.
Они вышли в крошечный огороженный садик позади дома. Герсилия села на скамейку за стол для игры в кости с бортиками и нарисованными в углах клетками для счета, Ромул уселся напротив. Герсилия рядом с ним казалась игрушечной. Она с интересом разглядывала его:
— Ты такой большой! Говорят, у вас в Альбе все такие, потому что вы родичи Энея и в вас есть кровь Венеры, нашей Туран. Правда, Таг не говорил, чтобы Туран рожала сына от смертного, но, может быть, это случилось уже после его явления...
— Какая у тебя мать красивая, — сказал Ромул, — а ты ещё лучше. Только волосы у тебя совсем другие, золотистые.
— У неё на самом деле тоже рыжие, — засмеялась Герсилия. — Просто она их красит, чтобы не видно было седых прядок. И губы красит, и глаза подводит. Это нам, молодым, боги дают красоту бесплатно, а женщинам старше не так-то просто её удержать...
И тут Ромул понял, что в нём сидит стрела Венериного сына, незаметно проникшая в сердце. Он продолжал ощущать беспричинную радость, глядя на девушку, но теперь уже знал почему. Всё в ней стало для него родным и близким. С каждым её словом, жестом, улыбкой он открывал в ней новые чёрточки, и все они неизменно восхищали его. Его привлекала её живость, способность становиться то смешливой, то таинственной, он наслаждался чистым голосом собеседницы, не особенно вникая в её болтовню, невпопад отвечал на вопросы и хотел только одного — чтобы это продолжалось вечно.
— Так, значит, ты тот самый ученик Никанора, который считает быстрее всех? — спрашивала она.
— Нет, это мой брат Рем. Мы с ним близнецы.
— Надо же, близнецы. У этрусков это большая редкость.
— А у нас, наверно, не очень, — заметил Ромул. — Как раз в тот год, когда и мы, в Альбе родилась другая пара.
И Ромул рассказал Герсилии печальную историю весталки Реи и её божественных сыновей.
— Только мы с Ремом не верим, что они погибли. Марс наверняка спас их и спрятал в безопасном месте.
Герсилия заинтересовалась и стала подробно расспрашивать Ромула о Рее, Нумиторе и Амулии, потом об отце. Она было расстроилась, узнав, что он пастух, но снова повеселела, когда Ромул объяснил, какую должность он занимает и чьим покровительством пользуется.
— Вот вы с Ремом близнецы, а кто из вас старше? вдруг спросила она.
— Никто, ведь мы ровесники.
— Но кто-то всё же появился на свет первым!
— У латинов это не имеет значения. Права у нас одинаковые.
— Ну и правильно, — кивнула Герсилия. — А знаешь, я умею гадать по руке. Хочешь, и тебе погадаю?
— Как это по руке?
— По линиям на ладони. Дай-ка сюда правую руку.
Она положила на столик раскрытую ладонь, Ромул вложил в неё свою и ощутил божественное прикосновение тонких пальцев. Герсилия деловито склонилась над его ладонью, стала водить по ней пальчиком и объяснять.
— Эти линии у всех людей разные, их каждому на всю жизнь наносит Нортия, когда придумывает судьбу. Вот линия жизни. Ого, какая длинная! А линия судьбы ещё длиннее. Странно, — Герсилия покачала головой. — Судьба — это события, но в детстве важное редко случается, поэтому обычно она короче. Наверно, что-то твоё продолжится после тебя... А вот и Венерин бугор; какой выпуклый! Да, от любви ты получишь великую радость. Завидую твоей избраннице... Смотри, а здесь у тебя царское пересечение линий! Уверена — когда-нибудь ты станешь царём.
— Ну, Герсилия, что ты такое говоришь. В Альбе цари должны быть прямыми потомками Энея.
— Но ты же сам сказал, что у вас прямых потомков не осталось!
— Да, пожалуй, — согласился Ромул. — Но я хочу быть не царём, а жрецом Юпитера.
— Одно другому не мешает, — возразила она.
На прощание Герсилия предложила как-нибудь погадать ему по бычьей печени.
— Конечно, я не жрица, — сказала она, — но мне приходилось присутствовать на обрядах отца, и кое-что я в этом понимаю. И пока он будет толковать своё, могла бы разглядеть и твою судьбу...
— Значит, мы ещё увидимся? — с надеждой спросил Ромул.
Герсилия посмотрела на него лукавым взглядом, от которого у него перехватило дыхание, и, потупясь, проговорила:
— Как знать.
В эту ночь Ромул почти не спал. С ним что-то творилось, его мыслями, сердцем, всем его существом владела Герсилия. В ушах звучал её голос, в глазах стоял чудесный облик, кожа помнила волшебное прикосновение маленьких чутких пальцев. Почему именно эта говорливая и изменчивая девушка, такая хрупкая и милая, стала вдруг для него важней всего на свете? Почему он чувствовал потребность непременно находиться рядом с ней? Ему хотелось прямо сейчас, среди ночи, тайно пробраться к её дому, сесть на землю, прижавшись спиной к холодной стене, и ощущать счастье от того, что за ней где-то рядом мирно спит любимая девушка, может быть, сразу же после встречи забывшая о нём. Но и это было несбыточной мечтой — его могла заметить храмовая стража, и тогда как бы он объяснил свой приход? Его сочли бы вором — не мог же он бросить тень на свободную девушку. Какой мукой, оказывается, надо платить за радость мимолётной встречи!
Так вот как мучит рана от стрелы! Теперь он понимал, почему порой из-за женщин случались безумства и начинались войны между народами. О себе он знал одно — что должен непременно и как можно скорей увидеться с Герсилией, но не мог придумать, каким образом это устроить. Конечно, Габии больше Ференты и даже Альбы, но и тут, как в любой общине, люди хорошо знакомы друг с другом. Здесь трудно что-нибудь скрыть, и Ромул боялся неловким поступком поставить девушку в ложное положение. В конце концов он решил, что лучше всего написать письмо, а роль гонца и разведчика предложить Туску.
Утром он пошёл к Туску и спросил друга, не сможет ли тот узнать, просватана ли Герсилия? И ещё, какой подарок, не нарушив этрусских обычаев, можно сделать такой девушке, как она? Туск не удивился и сказал, что постарается всё разузнать у своей приятельницы Веллы, которая, по его словам, «знает всё обо всех». Ромул поблагодарил и попросил держать его имя в тайне. Потом они вместе пошли на гипподром. Вечером Туск сообщил Ромулу, что пока Герсилия ни с кем не связана, и они долго на рынке выбирали для неё подходящий подарок. Здесь нужен был такт — подарив украшение, Ромул как бы толкал девушку на нарушение тайны, да и денег у него было немного. В конце концов они купили красивый самшитовый гребешок и складень для письма из двух резных вощёных дощечек. Ромул нацарапал на нём, что хотел бы встретиться и поговорить, и отдал деревянное письмо Туску для передачи Герсилии через Веллу.
Ждать ответа пришлось три дня, которые совсем потерявший голову Ромул провёл как в полусне. Когда он наконец раскрыл вручённые Туском знакомые дощечки, то не сразу смог прочесть написанное. Потом понял, что Герсилия писала по-этрусски, и он читает не с той стороны. Она сообщала, что сегодня после полудня пришлёт за ним служанку на рынок, к лавке, где торгуют ручными зеркалами. Пропустив занятия в метании копья, Ромул отправился на рынок, нашёл нужную лавку и, ожидая служанку, стал разглядывать товар. Круглые бронзовые зеркала с ручками отличались друг от друга картинками, гравированными на задней стороне и изображавшими сцены из жизни богов. Самыми интересными были сделанные бесстыжими греками фигуры обнажённых богинь. Они вгоняли Ромула в краску, но именно их ему больше всего хотелось разглядывать. За этим занятием его застала посланная Герсилией немолодая женщина.
— Как ты меня узнала? — спросил он.
— Видела в праздник за столом, — ответила та и замолкла.
Ромул попытался расспросить её о Герсилии, вернее, о её поклонниках, но она ответила, что ничего не знает, потому что её совсем недавно купили. Ромул, вздохнув, понял, что это умелая ложь ради сохранности тайн госпожи.
Служанка привела Ромула на юго-восточный край города, куда когда-то во время чумы свозили заболевших, и который с тех времён остался заброшенным. Здесь среди заросших травой улиц стояли полуразвалившиеся дома. Герсилия ждала Ромула на каменной скамье в зарослях конского щавеля во дворе когда-то богатого дома, от которого остались только кирпичные стены. Она поднялась навстречу, отослала служанку и предложила пройтись. Герсилия прекрасно знала этот уголок развалин, сказала, что её ничуть не смущают проклятия, которые отпугивают от него горожан, и что любит это место, потому что здесь можно побыть в одиночестве. Они в молчании прошлись по мощёной улице, где трава росла только между камней, и вернулись назад к дому.
Герсилия села, Ромул остался стоять. Она достала самшитовый гребешок, провела им по волосам, потом подняла на Ромула глаза и спросила, что он собирался ей сказать?
Ромула прошиб озноб. Он знал, что хочет сказать, да и она прекрасно знала. Но он не знал, что она ответит. Он мог сказать только одно, она — ответить разное, и второе означало бы немыслимое крушение. Всё на свете, вся его будущая жизнь зависела от одного из двух коротких слов, которое она должна была проговорить в ответ на его признание, и это мешало ему начать. Но Ромул уже научил себя, почуяв приближение страха, кидаться навстречу опасности.
— Герсилия, — проговорил он, — я собирался сказать, что хочу всегда быть рядом с тобой, и что ты мне дороже всех на свете.
В ответ она улыбнулась, и у Ромула отлегло от сердца.
— Ты мне тоже нравишься, — сказала она. — Что дальше?
— А дальше я хочу на тебе жениться, — ответил он, с трудом обретая дар речи.
— А твой отец разрешит? Ведь я не латинянка.
— Конечно. Он из простой семьи, ему важно, чтобы мы нравились друг другу. А твой?
— Мой только и ждёт случая от меня избавиться. Он меня ненавидит, считает, что я не его дочь, и наверно он прав. Знаешь что, давай я свяжу наши сердца магическим обрядом. А когда придёт время, узаконим брак перед людьми. Завтра праздник, приходи утром на озеро в одно место. Я сейчас тебе объясню.
И она рассказала Ромулу, как найти скрытый кустами потаённый грот в прибрежных скалах под городской стеной.
В той части озёрного берега, где городская стена наступала на выходы камня, незаметная тропка ныряла в заросли, обнимавшие серую покатую скалу. За кустами, как и говорила Герсилия, Ромул обнаружил расселину, ведущую в небольшую пещерку, где на куче сухих листьев сидела девушка.
— Нашёл! — обрадовалась Герсилия.
Грот был заполнен дымом. Прозрачная струйка поднималась над возвышением, сложенным из нескольких плоских камней.
— Эти камни будут алтарём, — объяснила Герсилия. — Сейчас я проделаю нужный обряд, и расторгнуть наш брак сможет только Кульсу.
— Не нужно никакого колдовства, — возразил Ромул. — Мы с тобой поженимся по обряду конформиати, как положено жрецам Юпитера. Это тоже нерушимый жреческий брак, единственный в жизни.
— Один обряд хорошо, а два лучше, — нахмурилась она.
Ромул не стал возражать. Он любил Герсилию, и никакое колдовство не могло хоть что-то изменить. Он остался у входа и стал наблюдать за девушкой, приступившей к ворожбе.
Сперва Герсилия трижды обмотала алтарь цветной лентой, подула на него и опустила в угли несколько скрученных листьев. Струя дыма поднялась к потолку пещерки.
— Это мы сжигаем побеги целебной вербены и ладан, — стала она разъяснять свои действия, — а теперь я беру твою восковую фигурку и тесьму из трёх нитей разного цвета.
Она взяла у стены пёстрый шнурок и продолговатый предмет, как понял Ромул, его лепное изображение.
— Смотри, я трижды обматываю твой образ трёхцветным шнуром, — продолжала Герсилия, — и трижды обношу его вокруг алтаря. Теперь нужно связать шнур тройным узлом: высшие силы любят число три. Дальше сложим сухие ветки благородного лавра с пучком ядовитых трав и посыплем мукой. На это колдовское ложе, Ромул, я кладу твоё изображение. Кладу, и сжигаю его.
Герсилия проделала всё, о чём говорила, снова опустилась на колени, положила на алтарь приготовленную жертву и дунула под неё. Вспыхнувшее пламя озарило лицо девушки.
— Как ты, Ромул, сжигаешь меня, — воскликнула она, — так я сжигаю тебя в лавре!
Герсилия застыла, наблюдая, как плавится и горит воск. Когда пламя угасло, она поднялась и виновато улыбнулась Ромулу:
— Вот и всё, теперь мы связаны навеки. Когда остынет, надо будет бросить пепел в воду через голову. — Герсилия подошла к Ромулу, прижалась к нему и прошептала: — А теперь поцелуй меня...
Следующее свидание Герсилия назначила в одном из домишек в заброшенной части города. Это место было намного удобней пещеры: сохранилась крыша, был стол, пара расшатанных табуретов, посуда, съестные припасы и подобие ложа, которое на удивление Ромула оказалось чистым и мягким. Видимо, Герсилия велела служанке привести их тайное убежище в порядок.
Несколько оставшихся до разлуки счастливых месяцев они встречались здесь почти каждый день. Ромул думал о Герсилии непрерывно и не понимал, как прежде мог жить без неё. Он любил её глаза, губы, волосы, голос, слова и нежные ласки, от которых можно было потерять разум. А время летело, осень, несущая неизбежную разлуку, приближалась.
В тот день на предложение Герсилии встретиться завтра, Ромул вынужден был ответить отказом: завтра Никанор должен был вести его с братом в гости к Агису. Купец пригласил учителя и попросил привести подопечных своего альбанского друга Гнея. И хотя сбор был вечерним, Ромул не имел возможности исчезнуть из дома на полдня. Герсилия не рассердилась, только попросила подробно рассказать, что будет у Агиса.
Моросил дождь. В сумерках в сопровождении слуги с факелами для освещения обратной дороги Никанор, Ромул и Рем дошли по мокрым булыжным улицам до знакомой стены, над которой поднимались ветки деревьев. Сад выглядел неуютно, зато дом со светящимися занавесками окон и вкусными запахами из кухни манил к себе.
Приглашённых провели через атрий, центральный зал с квадратным отверстием в потолке и каменным бассейном, куда сверху текли дождевые струйки, в большую комнату, где хозяин беседовал с несколькими гостями. Вдоль трёх стен помещались столы с блюдами сушёных фруктов, чашами, кувшинами с вином и водой. Перед столами были ложа для любителей есть полулежа, рядом с ними столики с угощениями. Ромула заинтересовали росписи на верхней части стен. На тщательно подогнанных досках были нарисованы корабли с надутыми парусами, которые плыли среди волн и рыб, другие корабли с голыми мачтами стояли у берега, и маленькие человечки что-то сгружали с них. Рядом зеленели луга, паслись коровы и лошади, рос лес, где можно было разглядеть оленей, кабанов, волков, лис и медведей.
Гостей было человек пятнадцать, среди них несколько нарядных женщин. Никанор показал братьям жену Агиса Илию, стройную, улыбчивую красавицу со светлыми волнистыми волосами. Возле неё вертелись трое детей, двое мальчиков-подростков и девочка лет пяти. Ростом и шириной плеч выделялся круглоголовый мужчина с орлиным носом и спущенными на лоб волосами. Ромулу его лицо показалось знакомым, хотя он и не смог припомнить, где его видел. Гигант почти не участвовал в разговорах и, вероятно, в этой компании был чужаком, как и они с Ремом. Агис показывал гостям стоявший у свободной стены резной сундучок на высоких ножках, где лежали десятки свитков. Это были греческие стихи — их переводы на латинский, сделанные хозяином, и его собственные сочинения.
Гости стали рассаживаться на скамьях. Никанор, Ромул и Рем сели за угловой стол, Агис с Илией и детьми расположились напротив с краю. Когда гости насытились, Агис подошёл к креслам, поставленным около книжного сундучка, и сказал:
— Друзья, я собрал вас, чтобы спеть своё новое сочинение. Вы уже слышали в прошлом году мой латинский пересказ стихов Гомера «Бой Энея с Диомедом» и «Коварство деревянного коня». А сегодня я спою вам песнь о делах, про которые греки ничего не знают. Я назвал эту песнь «Конец скитаний Энея». Илия подыграет мне на самбуке.
Агис достал из сундучка свиток, сел и развернул его перед собой. Илия подошла, взяла самбуку, устроилась рядом. Она тронула струны, и Агис запел:
Наступил рассвет, вода сделалась алой, Засверкала в лучах юной Авторы. Ветер стих, одни только вёсла морщат Гладкую воду. Вот в крутых берегах, лесом покрытых, устье сильной реки, мутной и быстрой. «Тибр! — кричит Полинур. — Эней, не пора ли К берегу править?» Десять старых судов, битых ветрами, правят вправо, воле дождя послушны, завершают путь в заливе тенистом, С морем прощаясь. Сосны, буки, дубы флот окружают. Над лесами снуют стаи пернатых, Мчатся взад и вперёд, песнями славя Светлое небо. Слышат тевкры-троянцы слово Энея: «Здравствуй, край, назначенный нам богами, Вам привет, пенаты верные Трои, Путь наш окончен! Позади изгнанье, бури, невзгоды, Веселитесь! Конец нашим скитаньям. Здесь отныне наш дом, данный судьбою, Родина наша!»...Ромул заслушался стихами, рисовавшими картину полусказочного прошлого намного ярче, чем он представлял её в своих детских мечтах. Герои Агиса дышали, жили, радовались и стонали от боли. Казалось бы: мир заключён, сыграна свадьба Энея с Лавинией, троянцы построили рядом с Лаврентом свой город Лавиний, у Энея появился сын Асканий, всё складывается хорошо. Но тут царь рутулов Торн и его друг Мезенций, царь-лукумон этрусского города Цере, решили идти войной на латинов.
На этом песня обрывалась. Ромул знал, что Эней победил в этой битве, но был убит и похоронен над речкой Нумиком, пограничной между латинами и рутулами, и представлял содержание будущей песни.
«Когда-нибудь обязательно закажу себе копию», — подумал он.
Герсилия предложила провести прощальную встречу в пещерке под стеной. Было пасмурно, Ромул пробрался через кусты и долго сидел, ожидая. Наконец девушка появилась, обняла его и печально сказала, что сегодня должна будет уйти раньше обычного. Часы последнего свидания Ромул запомнил до мельчайших подробностей.
Незадолго до прощания Герсилия сообщила, что ей удалось узнать его судьбу по печени жертвенной овцы. Она прочла её из-за спины отца, который гадал о видах на урожай.
— И знаешь, печень подтвердила, что ты будешь царём города в лесу на холме у воды, — уточнила она.
— Альбы?
— Как знать, гадания не дают прямых ответов. Но скажи, если бы близнецы, сыновья Реи, были живы, ведь они имели бы больше прав на престол, чем пропавший Асканий?
— Конечно, — кивнул Ромул, — потому-то Амулий и хотел убить их.
Герсилия внимательно посмотрела на него.
— А почему бы тебе с братом при случае не объявить себя её сыновьями? Кто докажет обратное?
— Что ты! — запротестовал Ромул. — Все знают, что мы сыновья Фаустула и Акки. Как можно отречься от родителей?
— Зачем отрекаться? Их можно подговорить, чтоб сказали, что вы им не родные дети, — рассудительно предложила Герсилия. — Ведь если вы получите престол, им тоже будет польза.
— Нет, — нахмурился Ромул, — ничего нельзя строить на лжи. И ты учти, что отцом сыновей Реи был Марс, а с богами вообще шутки плохи.
— Не зарекайся. По-моему, гадания говорят о другом. Ну ладно. — Герсилия прижалась к Ромул у, запустила пальцы в его волосы, притянула голову друга к себе и зашептала: — В таких случаях женщины плачут и умоляют своих милых не уходить. Но я не буду тебя удерживать и скажу на прощание: иди, сделай всё, что требует долг, и приезжай за мной. Только не медли, а то я умру от тоски.
Глава 8. ИСПЫТАНИЕ
Тяжелей обвал высочайших башен
И громады, гор привлекают чаще
Молний удары.
Гораций. ОдыРомул покинул Габии на рассвете, на другой день после прощального свидания с Герсилией. Накануне вечером отец Лела по просьбе сына устроил прощальный пир. Были двенадцать юношей из школы, в том числе Стаций, который недавно помирился с Ремом. Они хорошо посидели, выпили приятного вина, послушали приглашённую певицу, немного попели с ней хором. Рем, который давно уже был лидером школы, обещал, что став полководцем, назначит всех собравшихся командирами отрядов, а Ромула сделает главным жрецом. Ромул не возражал, считая слова брата очередной игрой...
Ехали верхом вместе с четырьмя торговцами Агиса, вёзшими в Альбу железо. Он же и одолжил братьям коней, которые габийцы должны были привести домой. Торговцы ехали гуськом, ведя на поводу мулов, вдоль боков которых висели связки железных пластин, выкованных в форме уменьшенных бычьих шкур. Агис объяснил, что когда-то за одну такую пластину давали быка; с тех пор железо подешевело, но вес и привычная форма товара остались. Братьям, замыкавшим кавалькаду, на всякий случай выдали мечи, хотя сейчас на дороге было спокойно, и путники рассчитывали попасть в Альбу без приключений.
Сперва все клевали носами, ёжась от утренней прохлады. Ромул молчал, переживая разлуку с Герсилией, Рем поравнялся с ним и завёл разговор:
— Слушай, давай всё-таки создадим конное войско и прославимся на весь Лаций. Помнишь, я тебе рассказывал?
— Ещё бы, — ответил Ромул, — только ничего из этого не выйдет.
Недавно Рем загорелся идеей чисто конного войска. Обычно в войсках бывали всадники и легковооружённые воины в броне. Но по мысли Рема, войско из одних только конников будет намного превосходить смешанное. Он тщательно всё продумал: главной боевой единицей была центурия из 126 человек, включая центуриона, его помощника и командира десятки эскорта. Центурия состояла из трёх турм по три десятки в каждой и командирской десятки, имела 147 лошадей, из них 20 запасных, вёзших припасы, и 20 оруженосцев, которые обслуживали воинов. Само же войско складывалось из нескольких центурий и турмы полководца.
— Почему не выйдет? — возмутился Рем. — Ты не понял главного. Конное войско непобедимо и неуловимо. За два дня оно может пройти от Альбы до Капуи, появиться там, где его никто не ждёт, разбить врага и внезапно исчезнуть.
— Предположим. Но как ты собираешься его создавать?
— Постепенно. Я всё продумал. Сперва нужно собрать десятку из двенадцати человек — десяти воинов и двух оруженосцев. Для них понадобятся четырнадцать лошадей, десять верховых и две вьючных, которые могут стать и запасными. Десятка имеет при себе всё необходимое и кожаный шатёр, который ставится на копьях. Первая задача — нападать на разбойников, разгонять их и забирать награбленное. На полученные деньги создаём вторую десятку, потом третью и получаем первую турму. В конце концов у нас появляется войско, способное завоевать пол-мира.
— Рем, но это же будет не война, а разбой!
— Ну и что? Разве не ради денег Габии воевали с Лабиками? Каждый хочет разбогатеть, а побеждают только сила и ум.
— Не нравится мне эта затея, — сказал Ромул. — Войны случаются из-за обид, объявляются по правилам. И правила эти освящены богами. А ты собираешься нападать из-за угла.
— Я не собираюсь обижать латинов. Но почему бы, например, не пройтись по землям этрусков...
— Нет, Рем, твои войны будут напоминать набеги дикарей — налетели, ограбили и ушли. Но дикари-то возвращаются к себе домой, а где будет дом твоего войска? Где, например, ты собираешься хранить завоёванные богатства?
— В этом ты, пожалуй, прав, — согласился Рем. — Неплохо было бы захватить какой-нибудь город, например, Антемны.
— Антемны — город латинов, а ты ведь не хотел их трогать, — возразил Ромул.
— Ну, можно выгнать вольсков из Вителия, — беспечно ответил Рем. — Правда, Антемны держат переправу через Тибр.
— А как ты без пехоты собираешься брать города и крепости?
— Очень просто. Я перережу дороги, и города сами придут ко мне на поклон.
— Так ты только всех разоришь и овладеешь безлюдной пустыней. А те, что уцелеют, возненавидят тебя, объединятся и в конце концов разобьют.
— Нет, не хочешь ты меня понять, — обиделся Рем и поехал впереди Ромула.
Они уже въехали в лес, когда Ромул решил, что рано или поздно ему придётся объявить всем о решении жениться на Герсилии и правильней всего начать с Рема. На этот раз он сам нагнал брата, поехал рядом и, собравшись с духом, проговорил:
— Знаешь, я ведь скоро женюсь.
— На этой рыжей пигалице? — изумился Рем.
— Ещё слово... — Ромул в ярости потянулся к мечу.
— Прости, я иногда грублю. Герсилия действительно хороша. Просто я не думал, что ты относишься к ней всерьёз.
— Так ты знаешь её?
— Конечно. Я давно вас выследил, но никак не думал, что ты решишь вот так жениться на первой встречной, даже ещё из этрусков.
— Не тебе меня учить, — огрызнулся Ромул.
— Да не сердись ты, а лучше подумай, — Рем заговорил дружески. — Брак — первый шаг члена общины, и удачная партия сразу позволит тебе занять в ней нужное место. Что тебе даст Герсилия? Ничего, кроме сплетен, что женился на колдунье. Вот ты хочешь стать жрецом Юпитера. Для этого нужно, чтобы тебе благоволили видные люди. Например, если ты женишься на Приме, Гней Клелий тут же договорится с Манилием, чтобы он взял тебя в храм помощником. А так? Сколько лет тебе придётся доказывать своё рвение? Согласись, ты поступаешь неразумно. Мой тебе совет: пока не поздно, сделай шаг назад.
— И не подумаю, — упрямо ответил Ромул.
— Кроме того, — продолжал Рем, — говорят, этрусские девушки хитры и расчётливы. Уж наверняка она о тебе всё выспросила...
Ромул удивился проницательности брата:
— И что тут плохого? Ты же сам говорил, что брак — дело серьёзное.
— Вот и я думаю, какую корысть она могла найти в сыне пастуха?
— Она нагадала, что мне судьба быть царём в Альбе.
— Ну?!
— Да. И предложила, чтобы мы с тобой объявили себя детьми Марса и Реи Сильвии. Это при живых-то родителях! Но я, конечно, отказался.
— Тогда понятно, почему твоя Герсилия мной интересовалась, — усмехнулся Рем.
— Тобой?
— Да, подробно расспрашивала обо мне мою Майю. Она у тебя не дура, ведь у нас с тобой одинаковые шансы стать самозванцами; вот она и взвешивала возможности. Знаешь, — проговорил Рем помолчав, — я то не хотел оставаться в Альбе, но с другой стороны, если жениться на Приме, а потом в нужный момент заявить о правах на престол... Здесь есть над чем подумать.
Солнце уже грело вовсю, когда маленький караван углубился в чащу, и путников окружила лесная прохлада. Рем придержал коня, снова поравнялся с Ромулом и сказал:
— Слушай, отложи на годик женитьбу, давай всё-таки займёмся моим войском. Согласись, войско я придумал хорошее, но ты прав, что оно только меч, а нужна ещё рука, которая бы им владела. Наверно, нам следует сперва утвердиться в Альбе, а потом уже создавать большое войско. Но иметь для начала небольшой конный отряд было бы очень полезно. Вот смотри. В Пренесту от Антемн ведут две дороги: Коллацинская через Габии и южная, Лабикская. А представь себе, мы тайно проложим и сумеем удержать ещё одну, более южную — по долине между Тускуланскими холмами и Альбанской горой? Будем проводить по ней караваны и брать за проход вдвое меньше, чем Коллаций с Габиями и Тускул с Лабиками? Тогда, пожалуй, мы быстро станем богаче Амулия и наберём конное войско.
Братья ещё немного поспорили, потом дорога стала узкой, и Ромулу пришлось отстать. Вскоре караван выбрался из леса на высокий берег Тускулы к заново отстроенному укреплению тускульцев на той самой южной дороге, шедшей через Тускул и Лабики с наружной стороны Тускуланских холмов, о которой только что говорил Рем. Братья остановили коней, внимательно разглядывая открывшийся вход в долину Тускулы. Там сходились крутые лесистые склоны, украшенные уступами и выходами скал, которые, казалось, делали её совершенно непроходимой.
— Ну, что скажешь? Уж вьючную тропу там проложить можно? — спросил Рем, когда они пересекли речку и снова оказались в лесу.
— Скорее всего, да, — согласился Ромул.
Какое-то время они ехали молча по тропе, потом дорога вышла на памятный Каменный бугор, где Ромул когда-то видел Кальпура. Ромул остановил коня, крикнул караванщикам: «Мы скоро вас догоним!» и обратился к Рему:
— Знаешь что, наверно, твоя тропа уже есть!
— Как это?
— Помнишь, как три года назад я тут потерял нож?
— Ну?
— Тогда разбойники свернули в лес именно здесь, на Каменном бугре, и сейчас я подумал: если они ушли по тропе от Тибра в Тускуланскую долину, то она должна пересекать нашу там, где не видно следов. Давай проверим, сделаем небольшой круг слева от дороги. — И он направил коня между деревьями.
Рем последовал за братом. Вскоре Ромул остановился и указал на помятую траву и конские следы, ведущие к горам:
— По-моему, это та самая тропа, которую ты хотел проложить по долине.
— Похоже, — мрачно согласился Рем. — Значит, кто-то меня уже опередил.
Они вернулись на дорогу и быстро догнали спутников.
Караван остановился на развилке, где перед подъёмом в город от дороги отходила тропа к озеру. Братья спешились, передали лошадей и оружие караванщикам, закинули на плечи вещевые мешки и зашагали к Ференте. Внизу перед ними лежала огромная чаша озера. Окружённое полями, лугами и купами деревьев, оно нависало над уходящей к западу равниной. Ближе к склону, где берег плавно сходил к воде, виднелись землянки и хижины Ференты, над которыми царила камышовая крыша дома Фаустула.
Их заметили издали. Радостные Фаустул и Плистин встретили пришедших на полдороге к селению, обняли, забрали у них мешки и повели к дому, где уже хлопотали Акка и Лидия, выставляя на стол угощения. Приятно было вернуться домой, в знакомые с детства родные места. День прошёл в расспросах и рассказах. Вечером пришли гости, несколько пастухов — друзей отца, включая Спурия Тарпея с женой и дочкой, странной девушкой с поджатыми губами, которая по наблюдениям Ромула за весь вечер не произнесла ни слова. Было несколько подпасков, товарищей по играм, среди них Фур и Тит. Пригласили и Муция с Цезом, бывших соперников, теперь уже взрослых юношей. Анк, младший из трёх братьев, уже год как ушёл из Альбы искать счастье на стороне. Было много съедено, выпито, сказано немало добрых слов.
Гости разошлись поздно при лунном свете. Оставшись в кругу семьи, Фаустул сказал, что счастлив.
— Как хорошо у нас всё сложилось, — говорил он. — Вы, мои сыновья, выросли, обучились грамоте и военному делу, познакомились с важными гражданами Габий, не ударите в грязь лицом среди знатной публики. Я вырастил достаточно скотины, чтобы снабдить вас оружием и конями. Хочу, чтобы в списках ополчения вы заняли почётные места конников. Не стоит вам быть пастухами: переселяйтесь в город, получите наделы, растите хлеб и виноград, я куплю вам нескольких работников. Вы станете видными гражданами, прославитесь и прославите Альбу Лонгу. Пускай у вас будут хорошие жёны и много детей. И да будут благосклонны к вам Марс и другие боги!
Рем, гордый похвалой отца, поднялся и торжественно провозгласил:
— Не беспокойся, отец. Обещаю, что на состязаниях мы будем не из последних и не подведём тебя на воинском смотре.
Братья подошли к отцу, обняли его. Он радостно улыбался, вознося в сердце благодарность Марсу, который подарил ему таких сыновей и позволил подняться из простых пастухов на уровень знатных семей.
До осенних состязаний оставалось три дня, за такой срок нельзя было купить хороших коней. В Альбе табун породистых скакунов принадлежал Нумитору, и Фаустулу, человеку Амулия, коней из него не продали бы. Фаустул думал подыскать подходящих скакунов в Теллене, но не стал спешить, потому что коней для соревнований братьям предложил Гней.
Оставшиеся дни они тренировались, привыкая к животным и приучая их к себе: на рассвете отправлялись в городскую конюшню Гнея, брали коней и скакали на поляну Марса. Это был просторный луг над озером, где проводились альбанские праздники. Примыкавший к нему пологий склон служил местом для зрителей. Сейчас поляну приспособили для конных состязаний — поставили два столба, плетни, перекладины и колья, нужные для разных видов борьбы. С утра по полю кружили полсотни всадников, ревниво наблюдая друг за другом. Упражнения заканчивали до наступления жары, чтобы не переутомить лошадей.
Прима не узнала бы Ромула, не услышав случайно, как его назвали по имени. Они встретились во дворе, когда Ромул передавал конюху жеребца. Неужели этот высокий крепкий юноша с умным открытым лицом и проникающим в душу взглядом — это Ромул? Тот самый сын пастуха, который когда-то в детстве знакомил её с псом и коровой и сочинял сказку о снежной собаке?
Прима решилась заговорить с ним, хотя по положению он был значительно ниже её, и их разговор мог считаться нарушением приличий.
— Ты сын Фаустула?
Ромул обернулся и с улыбкой посмотрел на неё:
— Прима? Тебя не узнать. Такая стала высокая, красивая...
— А где твой брат?
— На поле, учит коня прыгать через перекладину. А мой, вернее, ваш конь, устал. Завтра нам выступать, пусть отдохнёт.
— Что-то тебя не было видно, — сказала она и почему-то подумала: «Мне шестнадцать, значит, ему семнадцать».
— Учился с братом в Габиях, — ответил Ромул.
— Чему?
— Всему понемногу: читать, писать, считать, скакать, колоть, рубить...
— Завтра посмотрю на ваши успехи. Я буду на первой скамейке в голубом платье.
В склон, немного выше поляны, в самом удобном для наблюдения месте, врыты два ряда белых обтёсанных камней, служащих скамьями для знатных зрителей. Когда Прима с родителями пришли, на траве склона уже сидели чуть ли не все жители Альбы. Их места на нижней скамье, выше, на второй, расположились другие почётные гости и на почтительном расстоянии друг от друга возвышались кресла царей. Нумитор уже сидел на своём, кресло Амулия пустовало.
На поле ещё никого нет, кони и люди толпятся слева под деревьями, где видны несколько шатров. Наконец слышатся приветственные крики горожан, это значит, что появился Амулий. Погрузневший царь в красной мантии тяжело шагает мимо вскочивших зрителей к своему месту. Стоит Амулию сесть, как на поле начинается суета. На краю поля перед местами почётных зрителей у белого каменного алтаря сходятся жрецы, чтобы совершить торжественное жертвоприношение в честь богини плодородия Цереры, которой посвящён этот осенний праздник.
Но вот ритуал кончается, и на середину поля выезжает всадник в белом плаще. Он гордо восседает на Ветре, лучшем скакуне табуна Нумитора, стройном, тонконогом, сером с белыми пятнами. Распорядитель состязаний, в прошлом сам непревзойдённый наездник, подъезжает к зрителям, подносит к губам блестящий медный курн, трубит нехитрую мелодию и провозглашает зычным голосом:
— Согласно обычаю города и воле его царей Амулия и Нумитора начинаем конные соревнования юношей! Действие первое — состязание колесниц! Первая, чёрного цвета...
Он объявляет имена владельцев коней, стрелков и возничих трёх колесниц-участниц. К выложенной белыми камнями линии, которая начинается у алтаря и пересекает поле поперёк, подъезжают три лёгкие открытые сзади повозки — чёрная, красная и белая, запряжённые парой. В каждой справа воин-стрелок с луком, рядом возничий. Кони останавливаются точно у центральной линии, возничие застывают, держа вожжи на весу, зрители замирают, ожидая начала.
Глашатай снова трубит. Колесницы со стуком срываются с места и, подпрыгивая, несутся вдоль поля в облаке пыли вправо к далёкому столбу у его границы. Чёрная сразу вырывается вперёд, красная и белая летят рядом, скоро становится плохо видно, но в этой гонке у Примы нет близких знакомых, и она никому в отдельности не желает победы. Разве что загадать на один из цветов какое-нибудь желание? Но пустяковое лень придумывать, а серьёзное загадывать опасно.
Тем временем в конце поля один из острых моментов гонки — огибание столба. Чёрная показывается слева от него, значит, благополучно обогнула, а красная и белая замешкались, похоже, стараясь сократить путь, сошлись и сцепились колёсами. Вот и они снова несутся по полю, теперь уже влево. А чёрная уже с громом пролетает через центральную линию, за которой на шестах натянута кожаная мишень с белым кругом в середине. Прима хорошо видит, что стрелок успевает выпустить три стрелы, но она не может разобрать, попала ли в цель хоть одна. А что же справа? Белая колесница стоит без колеса, завалившись на бок, а красная во весь опор движется к середине. Но вблизи срединной черты вдруг замедляет ход, и воин одну за другой сажает в белый круг три красных стрелы. И вот его повозка, набирая скорость, снова бросается в безнадёжную погоню за чёрной, которая уже огибает правый столб. Хитрец! Знал, что всё равно придёт вторым, велел вознице сбавить ход и поразил мишень на малой скорости.
Чёрная первой останавливается у черты, за ней — красная. Друзья участников и судьи окружают повозки. Глашатай объявляет победителей, называют и стрелка красной колесницы. Зрители кричат от восторга, сломанную колесницу убирают с поля.
Второе действие — соревнование всадников в скорости. Глашатай объявляет участников первой группы, и Прима настораживается. Это уже интересно, среди всадников названы её поклонник Лик, Ромул и Рем. Двадцать пять всадников выстраиваются прямо перед скамьёй Примы вдоль белой черты. Лику по жребию досталось самое выгодное место, крайнее слева. Рему повезло меньше, он в середине, а Ромул вообще предпоследний справа. Зато его хорошо видно. Он оборачивается, находит Приму взглядом, приветливо улыбается и сосредотачивается, ожидая сигнала.
Взвывает курн, и всадники с дробным топотом бросаются вперёд. Они теснят друг друга, сбиваются в кучу и уже через мгновение теряются в облаке пыли. Прима силится разобрать, кто где, но бесполезно. Вот они достигают столба и друг за другом появляются из-за него. Теперь это цепочка, впереди на вороном коне Лик, его легко узнать по жёлтому плащу, значит, ему удалось сохранить своё преимущество. А кто дальше? Рем! Прима узнает Маю, любимую кобылу отца, а через одного и Ромул — молодец, сумел продвинуться ближе к столбу. Всадники мчатся мимо мишени к левому столбу, появляются вновь. Судьи подаются вперёд заметить, кто раньше проскочит черту.
Победители Лик, Рем, Турн, Ромул!.. Зрители приветственно шумят. Судьи объявляют восьмерых лучших, отобранных для третьего действия — скачек с препятствиями. Потом соревнуется в скорости вторая группа из двадцати пяти всадников, и из неё судьи выбирают вторую восьмёрку.
Третье действие разворачивается в середине поля, где в два ряда поставлены разной высоты плетни и перекладины на кольях. Пара всадников, начиная с последних отобранных из каждой группы, должны преодолеть препятствия. Здесь проверяется искусство управления конём. Малейшая ошибка, и падает плетень или летит на землю перекладина. Кто придёт первым, задев меньше препятствий? Из шестнадцати участников отберут восьмёрку для заключительного действия — конных поединков на мечах.
После прохода каждой пары служители ставят на место опрокинутые плетни и упавшие жерди, и новая пара конников проходит нелёгкий путь. Наконец перед Примой лицом к зрителям выстраивается восьмёрка единоборцев. Её возглавляет победитель третьего действия Рем. Прима разглядывает его напряжённое лицо, похожее на лицо брата, но более твёрдое и властное. Они уже надели кожаные панцири и шлемы, судьи проверяют оружие — затупленные мечи, разбивают участников на пары. Лик бьётся с Сергестом, Рем с Эмилием, Ромул с Анхизом.
Прима с замиранием сердца следит, как кружатся, налетают друг на друга и взмахивают мечами всадники. Рем быстро свалил с коня Эмилия, а Лик сумел выбить меч из рук Сергеста, теперь Лик и Рем будут сражаться между собой. Во второй группе Ромул одолел Анхиза, и его соперником будет Ахат. Два следующих поединка определяют соперников в последнем. Прима хочет видеть победителем Лика или... может быть, Ромула?
Рем долго бьётся с Ликом, наконец, их кони оказываются рядом, Лик выбивает у Рема меч, но тот обхватывает соперника руками, стаскивает с коня и бросает на землю. Судьи засчитывают победу Рему. Теперь у белой черты сходятся Ахат и Ромул. Несколько раз они съезжаются, обмениваются звонкими ударами мечей, неожиданно Ромул роняет меч, и ему засчитывают поражение.
«Он выронил оружие нарочно, — понимает Прима, — не захотел сражаться с братом».
В схватке с Ахатом побеждает Рем. Зрители рукоплещут, приветствуя нового героя...
Вечером у Гнея собираются победители юношеских конных состязаний, среди приглашённых Ромул и Рем. Прима с матерью занимают за столом почётные места рядом с Гнеем. Гости говорят о конях, хитростях боевого искусства, о политике. Новички, Рем и Ромул, держатся скромно, но не скованно, и Прима с интересом поглядывает на юношей. Отец явно доволен: не зря сыновьям пастуха он дал для состязаний своих лучших коней.
Братья, возбуждённые спортивными победами и выпитым у Гнея вином, пришли домой поздно, при свете едва взошедшей ущербной луны. Правда, Ромул не заслужил никакой награды, зато Рем получил дубовый венок победителя. Отец, который вместе с Аккой и Плистином со склона над поляной Марса полдня переживал успехи и неудачи братьев, был доволен сыновьями, доказавшими, что не зря потратили время в Габиях.
— Завтра же сходим в Бовиллы, присмотрим вам лошадок, — сказал он. — До смотра пять дней, и надо, чтобы вы туда явились всадниками, владельцами коней и оружия.
Так и решили. Перед сном Рем заговорил с Ромулом о Приме; девушка ему понравилась, и он был не прочь посватать её, хотя здесь имелся и серьёзный соперник Лик. Он, в отличие от Рема, был знатен, хотя и небогат.
— Правда, мне показалось, что Прима часто смотрела на тебя, — закончил он.
— Я свой выбор сделал, — ответил Ромул.
— Ну что ж, может быть, тогда я попытаю счастья, — решил Рем. — Впрочем, её-то никто не спросит.
— Вот именно, — согласился Ромул. — Да и Гней не отдаст Приму сыну пастуха.
— Не думаю. Ему нужны верные люди, те, что будут его сторонниками. Не зря же он нас вчера приглашал! Если мы станем всадниками, происхождение будет уже не так важно.
— Поживём — увидим, — ответил Ромул и задул лампу. Он так ещё и не решился сказать отцу о женитьбе на Герсилии, и рассуждения брата о браке его раздражали.
Ромул проснулся от криков, ругательств, ржания и топота коней.
— Хватай меч, скорее! — Рем, схватив меч деда Аккила, выскочил наружу.
Ромул, подхватив лук, вскинул на плечо ремень колчана и бросился за братом. Над склоном трепетало багровое зарево, кое-где в стороне коровьих навесов проглядывали алые полоски огня. На этом зловещем фоне плясали силуэты четверых всадников. Полуголые отец, Плистин и Рем стояли, готовые защищаться.
Из-за пояса переднего всадника торчал длинный факел. Он быстро сунул в его огонь конец стрелы и вскинул её, зажжённую, к луку. Ромул и поджигатель натянули луки и выстрелили одновременно.
Ромул попал в горло коня, тот встал на дыбы. Всадник рухнул на землю, но его стрела, описав огненную дугу, уже ушла в толщу камышовой крыши. Конь, пронзительно заржав, упал на бок, всадник вскочил, отбросив факел, вскарабкался на круп коня товарища, и поджигатели ускакали прочь.
— Помоги матери! — крикнул Фаустул Ромулу. — Мы — к стадам!
В Ференте уже горело всё, что только может гореть — шалаши, навесы, камышовые крыши землянок. Люди метались, пытаясь спасти хоть что-нибудь. Акка и Лидия вытаскивали из дверей какие-то горшки. Ромул пытался сообразить, что у него в доме есть ценного, вбежал в наполненную дымом духоту, нашёл у очага фигурку домашнего лара и выскочил наружу.
— Отойдите дальше, — приказал он женщинам, вспомнив пожар тускульского укрепления. — Сейчас здесь будет очень жарко.
Все отошли к старой землянке, крыша которой была выложена дёрном и потому не загорелась. Лучший в Ференте дом полыхал долго. Когда к рассвету возвратились мужчины, шатаясь от усталости и горя, крыша уже давно провалилась, но остатки брёвен ещё горели.
— Это что, — Фаустул безнадёжно махнул рукой в сторону дома. — Полсотни наших коров увели! А царских впятеро больше.
Налёт разбойников потряс Альбу: угнали уйму коров, лошадей и овец, сожгли запасы сена, множество домов, убили нескольких пастухов, правда, большей частью рабов.
Альбанцы потом долго спорили, сколько было нападавших — полсотни, сотня, две? Поджигатели выбрали подходящее время: хмельные после праздника Цереры воины выступили из города, когда разбойники уже успели угнать добычу в лес. Несколько всадников, занявших опушку У Тускульской дороги, помешали альбанцам начать преследование. Утром они исчезли, но преследователей у границы остановили тускульцы, не желавшие видеть вооружённых соседей на своей земле. Переговоры с посылкой гонцов в Тускул и Альбу заняли достаточно времени, чтобы разбойники успели скрыться. В Альбе считали, что тускульцы были подкуплены.
Фаустул был совершенно разорён. Он потерял не только дом со всем имуществом, стадо, рухнуло и его положение в общине. Амулий решил наказать пастуха, не сумевшего уберечь Вверенное ему добро, и поставил над своими сильно пострадавшими стадами нового старшего. Уже немолодой Фаустул впал в уныние, Акка, простывшая в ночь пожара, слегла. Братья прошли смотр в числе легковооружённых воинов, стали гражданами Альбы с правом получения земельного надела, как гласил закон, «из освобождающихся в порядке очереди». Но пока что в Альбе земли не освобождались; население города росло, и молодёжи в родной общине приходилось трудно. Конечно, в случае смерти Фаустула они бы получили принадлежавший ему участок земли с домом и частичкой прибрежного луга. Вернее, не они, а один из них по жребию. Но было похоже, что им, как и десяткам других юных альбанцев, придётся искать счастье на стороне.
Глава 9. РЕЯ-ИЛИЯ
Эту женщину иные называют Илией,
иные Реей.
Плутарх. РомулАмулий вернулся с удачной охоты на вепря и отдыхал, попивая вино около жаровни с углями, когда начальник стражи Сервий доложил ему о человеке, желающем сообщить нечто важное.
— Пусть подождёт, — ответил царь, — а, впрочем, впусти его.
Крупный, круглоголовый, аккуратно одетый мужчина вошёл и почтительно остановился посреди комнаты. Амулий велел слуге подать вторую чашу и удалиться.
Пришедший поклонился, положил перед Амулием укрытый платком подарок и торжественно поднял дорогую ткань. Под ней оказалось ручное этрусское зеркало. Царь поднял вещицу, глянул на своё отражение в полированной бронзе, перевернул и залюбовался изящной выгравированной на обратной стороне сценкой. Там, сплетя руки, прощались двое влюблённых, а за их спинами стояли демоны смерти: Тухулка с лошадиными ушами замахивался двусторонней секирой на девушку, а крылатый крючконосый Хара протягивал к затылку юноши ядовитую змею. Амулий отложил зеркало и поднял глаза на гостя, немного крючковатый нос которого придавал ему сходство со вторым демоном.
— Садись, налей себе вина и скажи зачем пришёл, — сказал царь, довольный подарком.
Гость церемонно сел и представился.
— Я купец. Герул из Пренесты. Думаю, то, что я хочу сообщить, заинтересует тебя.
— Посмотрим.
— Когда-то, государь, я был у тебя наёмным воином, — начал Герул и, отвечая на вопросительный взгляд Амулия, добавил: — Очень давно и совсем недолго.
— Не помню, — пожал плечами Амулий.
— Немудрено, я ведь ничем тогда не отличился. — Гость вздохнул и покачал головой. — Но всё же выслушай меня. Тогда я был совсем мальчишкой и служил в конной охране. И как-то осенью нас послали сопровождать на суд Тиберина весталку-преступницу...
Амулий насторожился, его сердце непроизвольно заколотилось.
— Ну и что? — хрипло спросил он.
— Так вот, она не утонула.
— Отпустили? — в голосе царя послышалась ярость.
— Нет, государь, всё было по закону, её связали и после молитвы столкнули в Тибр, — ответил купец, — но тем не менее она осталась жива.
— Связанная, в бурной реке? — Амулий пытался не выдать волнения.
— Но ведь это был божий суд, — возразил гость. — Бог мог вмешаться, выбросить на берег, кто-то нашёл, оказал помощь... Не мне об этом судить.
— Лжёшь! Я знаю, люди Нумитора хотели выловить её из воды и отвезти в Лавиний в храм Венеры. Но она туда не попала.
— Тем не менее я видел её живой в другом месте.
— Это невозможно!
— Я узнал её. Тогда на привале я смог хорошо разглядеть Рею. Такую красоту забыть невозможно, и потом, у неё родинка на правой щеке немного ниже конца глаза.
— Где она? — Амулий подался вперёд.
— А вот этого, государь, я тебе не скажу, — спокойно ответил гость. — Лучше сделаем так: я тебе её привезу, и пусть она сама тебе всё расскажет. Нет-нет, она не у меня, — предупредил он вопрос царя. — Живёт в другом городе с богатым мужем-купцом и тремя детьми.
Амулий скрипнул зубами:
— И как же ты собираешься её привезти?
— Украду. Если хорошо заплатишь.
Царь вздохнул, поднялся, прошёлся по комнате. Его сердце затопил водоворот чувств, вернувшихся из давнего прошлого — любовь, ревность, ненависть, зависть... Стоит ли пытаться вернуть Рею, отвергнутую, похороненную, чужую, отдавшуюся какому-то проходимцу, наплодившую ублюдков? Нет, не вернуть, а взять, получить, поймать. Отомстить ей за все страдания, которые она ему доставила своим упрямством и презрением!
— Сколько? — спросил он.
Гость назвал цену, сказал, что возьмёт серебро только в обмен на пленницу, пообещал, что сумеет совершить похищение тихо, не тронув остальных. Амулий остановился и взглянул на Герула так, что тот вскочил:
— Плачу вдвое, — проговорил он сквозь зубы, — но в живых не должно остаться ни ублюдков, ни их отца.
День был ясный, наполненный осенней свежестью. Акка лежала в тени дерева на лавке у входа в землянку, исхудалая, с запавшими глазами. Отца и Плистина не было, они пасли стада более удачливых соседей, Лидия ушла на заработки в город. Акка заметила Ромула, поманила его рукой. Он подошёл, наклонился, она приподняла голову и с трудом спросила:
— Где Рем?
— Тут рядом, чинит кому-то уздечку.
— Позови его.
Ромул привёл брата к матери, они оба опустились перед ней на колени.
— Плохи наши дела, мальчики, очень плохи, — проговорила Акка. — Мы хотели дать вам коней и оружие. А теперь об этом нечего и думать...
— Ничего, — сказал Ромул, — жизнь наладится. Была бы только ты здорова.
Мать покачала головой:
— Боюсь, мне уже не выкарабкаться. Потому-то я и позвала вас, чтобы проститься наедине. Вы хорошие дети. Я получала от вас много радости, пока растила, и совсем немного огорчений. — Акка попросила сыновей помочь ей подняться, поудобней уселась, помолчала, собираясь с силами, и снова заговорила: — Я хочу вам что-то сказать. Не знаю, дадут ли мне боги другой такой случай. Только обещайте не передавать моих слов отцу и не расспрашивать его о том, что я вам расскажу.
Встревоженные братья пообещали хранить её слова в тайне.
— Тогда знайте, — с трудом проговорила она, — я вскормила и воспитала вас, но родила вас не я. Я родила мёртвую девочку, а вы мои приёмные дети.
— Откуда же мы взялись? — поражённо спросил Рем.
— Вас мне принёс Фаустул, новорождённых, в закрытой корзинке и велел считать своими детьми. У меня было много молока, хватило на двоих.
— А наша настоящая мать? — Ромул не верил своим ушам.
— Умерла, — ответила Акка. — Только не спрашивайте отца, кто она и откуда он вас взял. Он запретил мне об этом говорить, и я запрещаю вам. А теперь помогите мне лечь.
Братья осторожно уложили мать на скамью, она слабо улыбнулась, устало закрыла глаза. Ромулу показалось, что, произнеся это признание, она избавилась от давно давившего её груза. Акка приподняла руку, словно искала что-то рядом. Ромул протянул ей пальцы, она нежно погладила их и заснула.
Она умерла во сне через два дня. Её тело сожгли на священном участке над озером. Акку любили в Ференте и проводить её собрались почти все жители селения. Четверо осиротевших мужчин — Фаустул, Плистин, Рем и Ромул — понуро стояли, соприкасаясь плечами. Ромул смотрел в погребальный огонь и вспоминал обгоревшие брёвна родного дома, который, как видно, уже невозможно будет восстановить. Когда костёр догорел и пепел заполнил простую глиняную урну, жрец провёл обряд очищения — окропил собравшихся водой с оливковой ветки и произнёс традиционное: «Кончено». Провожавшие хором ответили: «Прощай, прощай, прощай!» Четверо мужчин закопали урну с прахом Акки рядом с урной Аккила, её отца, под кустом шиповника.
Ночью шёл дождь, в землянке скопилась сырость, за открытой дверью стояла туманная мгла. Братья сидели одни, Фаустул и Плистин пасли чужих овец на дальних лугах и могли появиться только дня через три. Можно было разжечь очаг, но до обеда было ещё далеко, и братьям не хотелось понапрасну жечь дрова.
Они снова и снова обсуждали признание Акки.
— Кто же мы? Приёмыши, схоронившие неродную мать, потерявшие всё, на что могли рассчитывать? — с грустью спросил Ромул.
— Да, мы потеряли всё, — согласился Рем, — но зато получили полную свободу.
— А долг перед отцом?
Рем усмехнулся:
— Отец сам не хотел, чтобы мы стали пастухами. Если он наш отец.
— А почему бы и нет. Может статься, мы его побочные дети от какой-то пастушки или рабыни, умершей при родах. Но даже если он и не отец, кто больше него сделал для нас? — возразил Ромул.
— Знаешь, брат, — голос Рема стал жёстким, — а твоя колдунья оказалась права, мы ведь действительно потомки Реи и Марса, последние отпрыски царского рода.
— Что значит: оказалась?
— А то, что я нашёл доказательство. Помнишь, мать сказала, что нас принесли в корзине? Так вот, вчера я случайно нашёл любопытную корзинку. Сейчас покажу.
Рем отодвинул ящик, достал из-за него и швырнул на пол какие-то тряпки, потом вытащил небольшую цисту и позвал Ромула к дверям, чтобы лучше её рассмотреть. Тот, волнуясь, принял из рук брата драгоценную находку.
— Видишь, — показывал Рем, — она очень старая. Прутья рассохлись, кожа покоробилась и треснула, никуда не годится. Почему же её хранили? Можно решить, что о ней просто забыли, но это не в обычаях матери. А самое главное доказательство: вот это клеймо.
Ромул пригляделся и увидел сбоку выдавленные на коже сцепленные буквы «А» и «М».
— Амулий? — предположил он.
— Да, это циста из его хозяйства. Но, конечно, Фаустул получил её не от Амулия, а от кого-то из близких к нему людей, — кивнул Рем.
— От Гнея Клелия, — уточнил Ромул. — Ты прав, скорее всего, это та самая корзинка, в которой отец принёс нас из города. А кто кроме Гнея смог бы перехватить и спрятать детей несчастной Реи? Но для всех мы остаёмся детьми Фаустула и Акки, и твоё доказательство ничего не меняет.
— Ошибаешься, — возразил Рем. — Меняет и очень многое. Если бог не дал нам погибнуть, значит, он ждёт, что мы воцаримся в Альбе и дадим ей процветание и славу.
— Но почему же он в последний момент передумал? — усомнился Ромул. — Ведь всё так отлично складывалось! Мы стали бы всадниками, после твоих побед на состязаниях нас уже заметили. Гней отдал бы за тебя Приму, а за меня замолвил бы словечко Фламину Юпитера. Я привёз бы Герсилию, и мы бы прекрасно зажили в ожидании часов, когда детоубийцу Амулия призовёт Плутон. А тогда мы тут же предъявили бы свои права на альбанский престол. И Гней бы нас поддержал...
— Размечтался, — остановил брата Рем. — Боги помогают людям, но ничего не делают за них. Марс шлёт нам испытания, и наше дело их выдержать.
— Но у нас же ничего нет!
— Ещё раз ошибаешься, — Рем уложил цисту на прежнее место. — У нас есть очень много. Мы молоды, здоровы, образованы, полны сил. Чего ещё? Остальное зависит от нас.
— И с чего ты предлагаешь начать? Может быть, попроситься на службу к Гнею?
— Никогда, — Рем покачал головой. — Мы должны оставаться свободными, а для этого, — он помолчал и закончил, — нужно достать много денег. Иначе ничего не выйдет.
— Но сперва, — нахмурился Ромул, — нужно найти разоривших нас налётчиков и отомстить им.
— Согласен, — кивнул Рем, — вот с этого и начнём.
Холодный ветер завывал в атрии. Агис укрылся в угловой подветренной комнате, но и там не было покоя, когда солнце вдруг скрывалось за очередной тучей. Он заканчивал предпоследнюю песнь «Энея», сцену победы над Турном. Эней ранит врага копьём, подходит и собирается пощадить, но неожиданно замечает на его груди украшение, снятое с тела троянского юноши Паланта. И тогда в порыве гнева Эней убивает Турна. Агису никак не давалась последняя строфа. Он писал стилосом на воске:
Крикнул: «Кровью плати!» и железо в сердце Погрузил. И от тела в холоде смерти Отлетела жизнь к теням преисподним С жалобным стоном...Агис переворачивал стилос, заглаживал шариком неудачное слово, писал новое, читал и возвращался к прежнему варианту. И тут слуга сообщил, что приехал Герул из Пренесты. Это было некстати, но от дел не уйдёшь. Агис вложил стилос в ремённой кармашек вощёной дощечки и вышел к гостю, который ждал его в передней комнате.
Герул, рассыпав своим хрипловатым голосом льстивые похвалы хозяину, предложил дать ему в рост значительную сумму.
— У тебя большая торговля, — объяснил он, теребя спускавшиеся на лоб волосы, — и ты сможешь хорошо заработать на моём серебре, а я через полгода возьму сверху только пятую часть.
— Почему же ты сам не пустишь их в торговлю? — спросил Агис. — Если повезёт, за полгода серебро можно удвоить.
— Не любит меня Фортуна, — объяснил Герул. — В прошлый раз я потерял почти всё, в этот хорошо заработал, и вот на меня напал страх, что снова прогорю.
— Серебро с тобой? Что ж, пойдём в храм Меркурия, заключим сделку.
— Поедем, — поправил Герул, — у меня повозка.
Они вышли во двор, где Герул оставил двуколку, запряжённую лошадью. Он забрался в тележку и взял вожжи: оказалось, что он приехал один.
— Как же ты ездишь с такими деньгами без охраны? — изумился Агис.
— А кто знает, что я везу? — ухмыльнулся Герул. — Тем более, я сейчас живу рядом, в Коллации.
Они поехали в храм Меркурия. В нём помещалась прочная кладовая, где хранились городская казна и деньги многих купцов. Герул, оглядевшись, приподнял доски, и Агис с изумлением обнаружил, что у повозки двойное дно, и под её полом можно провезти гораздо больше, чем сумку с серебром, которая там лежала.
С договором провозились довольно долго. Жрецы записали его в двух экземплярах, Агис и Герул принесли, точнее, оплатили жертвы Меркурию и поклялись перед его статуей выполнять договор. Жрец-казначей проверил качество серебра Герула, его вес и, снабдив сумку деревянной биркой с именами сдельщиков, отнёс в кладовую. Там она должна храниться до момента, когда деньги понадобятся Агису. Вернулись к обеду, и Герул в честь заключённой сделки принёс из тележки пару кувшинов вина: фалернского — хозяевам, попроще — слугам.
Глава 10. ОХОТА
Куда, куда вы валите, разбойники
Мечи в безумьи выхватив?
Гораций. ЭподВыполняя вчерашнее решение, братья с утра отправились на поиски разбойников. Было решено сперва пойти в луга к остаткам стад, расспросить пастухов, потом поискать следы в лесу. Поэтому они снарядились как на охоту, взяли луки и охотничьи сумки. Погода поменялась. По ярко-синему небу неслись серые рваные облака с ослепительно белыми сияющими краями. Холодный порывистый ветер прочёсывал мокрую траву, рябил лужи, трепал тронутые желтизной кроны деревьев, словно это были веники, которыми он пытался подмести небо.
Братья расспрашивали пастухов о ночном нашествии, выясняли малейшие подробности. Страшные картины роковой ночи снова оживали перед ними: отдыхавшие, застигнутые врасплох люди просыпались от топота копыт и криков конников, которые гнали их прочь от стад, поджигали постройки.
Обход лугов они закончили у уцелевшей хижины старого Торна, который угостил их сыром и ячменными лепёшками. Сидя на бревне над озером в любимом месте своих детских игр, они вместе обсудили то, что удалось узнать. Получалось, что разбойников было не так уж много, и они имели чёткий план действий. Четверо конников появлялись первыми, нагоняли на пастухов страх. Остальные, человек двадцать, конные и пешие, гнали скот к лесу. Затем всадники поджигали сеновалы, дома и плетни загонов.
Вожак был среди тех четверых, он скакал на чёрном коне, громко распоряжался. Ромул вспомнил рассказ одного из пастухов, как вожак на скаку срубил голову его рабу, и спросил Торна о голосе всадника: не было ли в нём хрипа?
— Я подумал, может быть, это Кальпур?
— Все они кричали хрипло, — ответил Торн, — но вряд ли это Кальпур. Вроде бы его называли Герулом. А лица в темноте было не разобрать.
Простившись с Торном, братья по Габийской дороге направились в лес. Сперва на дороге ещё можно было обнаружить коровьи следы и навоз, но скоро они совершенно исчезли. Стало ясно, что скот погнали через лес к Тибру, чтобы переправить и продать этрускам.
Сняв башмаки, по колено в тине братья перешли болото, отдохнули, прошли Каменный бугор и ещё до полудня перебрались через Тускулу.
Ворота тускульского укрепления были приоткрыты, и братья вошли внутрь. Там посреди двора перед четырёхугольной бревенчатой башней заканчивали обед воины.
— Куда? — крикнул стражник, дежуривший у ворот.
Ромул заметил во главе стола знакомого воина, того самого командира, который когда-то взялся преследовать Кальпура.
— Мы охотники из Альбы, — ответил он и объяснил: — Хотим поговорить с вашим командиром.
Воин услышал и подошёл.
— Помнишь, три года назад я рассказал тебе, куда ушёл Кальпур?
— Так это ты? — обрадовался воин. — Здорово же вы выросли, парни. Эй, дайте гостям поесть!
Они сели на скамью у стола.
— Ну, и на кого вы охотитесь? — спросил воин.
— На разбойников, — ответил Ромул. — Решили разузнать, кто угнал нашу скотину. Кстати, а тебе удалось тогда поймать Кальпура?
— Нет. Они бросили все и разбежались. Мы забрали их добычу и вернулись назад, тем более что они стали обстреливать нас из кустов. Что касается угнанных стад, тут мы ни при чём, — воин развёл руками. — Мимо нас не прогнали ни одного. Да вряд ли они стали бы продавать ваш клеймёный скот в Лации: этим бы сразу себя и выдали. Ищите своих коров в этрусской лукумонии.
— Я так и понял, — кивнул Ромул. — Но вот загадка, почему вы не пропустили нашу погоню?
— Да ведь они шли неверным путём!
— Но говорят, вы им этого не объяснили, а стали обвинять в нарушении границ. Они подумали, что вы прикрываете бандитов и потеряли много времени в переговорах.
Воин вздохнул:
— Отчасти ты прав. Но в ту ночь дежурил другой отряд, и, возможно, его командира подкупили. Потому что за два дня до налёта какой-то подлец пытался подкупить меня.
Ромул затаил дыхание.
— Он приехал с юга верхом на чёрном коне и сказал, что, возможно, ночью после праздника отряд альбанцев захочет пройти мимо нас на север, и чтобы мы не верили ни одному их слову и не пропускали. Я поблагодарил за донос, но сказал, что если такое случится, поступлю, как найду нужным. Тогда он предложил хорошо заплатить, и я его выгнал, — воин помолчал и добавил: — Наверно, он подкупил этого пройдоху Гая. Но теперь уже ничего не докажешь. С одной стороны, он был прав, что не пропустил без договорённости ваш отряд на нашу землю, но с другой — от нас отлично было видно зарево.
— А каков был этот посетитель? — спросил Ромул. — Круглоголовый, нос крючком, голос хриплый?
— Да, — удивился воин. — И ещё причёска необычная, чёлка до бровей, как у лошади.
— Кальпур! Это был Кальпур! — закричал Ромул, и сразу понял, кем был странный гость Агиса, который был на вечере пения стихов.
Тогда ему и в голову не пришло сравнить грязного свирепого разбойника с благопристойным купцом, но теперь сомнения исчезли. Он и здесь назвался купцом, а спущенными на лоб волосами прикрывал шрам.
— Рем, скорей пошли в Габии! — обернулся он к брату. — Тот купец с чёлкой у Агиса был Кальпуром! Агиса нужно предостеречь.
Извинившись, они оставили недоеденное мясо, наскоро попрощались и быстро пошли на юг.
Илия очнулась связанной по рукам и ногам с заткнутым ртом в темноте. Она лежала лицом вверх на жёстком трясущемся ложе, над её головой плясала длинная светлая полоса, в ушах раздавались стук колёс и удары копыт. Она попыталась крикнуть, но смогла издать только слабое мычание.
— А, проснулась, — раздался сверху хрипловатый голос. — Ничего, потрясись ещё немного до привала.
Наконец повозка остановилась. Три скрывавших небо доски одна за другой уползли назад, и Илия увидела обрывки серо-белых облаков, бегущих по протёртой до блеска синей глади. Потом показалась круглая голова Герула. Он бесцеремонно схватил её за ноги, наполовину вытянул из тележки, подхватил на руки и посадил на траву, прислонив спиной к колесу. Сильный ветер заставил Илию зажмуриться. Разлепив веки, она увидела поле, блеск озера, светлые стены Габий и над ними растрёпанный ветром столб чёрного дыма.
— Догадалась, что там горит? — проговорил Герул. — Это горит твой дом со всеми, кто в нём жил, и вся твоя прежняя жизнь. Запомни, что видишь, а то потом не захочешь верить. Отныне ты не свободная женщина, ты опять преступница Рея, и я везу тебя Амулию.
Илия-Рея не слушала его. «Месть Весты, — думала она, заливаясь слезами, — значит, Асканий обманул. Не было ни предсказания, ни защиты богов, ни любви, ни счастья. О, жестокая, лучше бы ты убила меня!»
Братья вышли из леса и увидели дым, поднимавшийся над стенами города.
— Похоже на пожар, — сказал Рем.
— Опасная вещь в такой ветер, — заметил Ромул.
Тут показалась тележка, запряжённая чёрной лошадью.
— Кальпур! — вскричал Ромул, пытаясь схватить уздечку, и едва увернулся: возница был на ногах и балансировал, размахивая мечом.
Повозка промчалась мимо, Рем успел вскочить в неё сзади, но, встретясь с мечом разбойника, спрыгнул, чуть не упав, пробежал несколько шагов и вернулся.
Ромул пустил вслед две стрелы, но ветер отнёс их вбок. Браться в бессильной ярости смотрели на удалявшуюся повозку, которая скоро скрылась из лесу.
— Повозка была пуста, — с удивлением заметил Рем. — Совсем ничего. Но клянусь, ему от нас не уйти!
Догонять Кальпура не имело смысла: до большой поляны шла ровная дорога, а дальше он мог свернуть неизвестно куда, да и устали братья порядком. Решили идти дальше, в Габии.
Когда они подошли к усадьбе Агиса, дом уже догорал. К счастью, огонь не перекинулся на соседние дома: спасли черепичные крыши. Случись такое в Альбе, выгорело бы полгорода. Толпа габийцев стояла в саду. Жрец храма Меркурия, вероятно, в сотый раз рассказывал, что утром скреплял сделку Агиса с каким-то Герулом, а днём, незадолго до пожара, Герул явился один с двумя экземплярами договора, сказал, что они с Агисом отказались от сделки, отдал записи для уничтожения, получил назад деньги и уехал.
— Может быть, он и поджёг? — предположил кто-то из зевак.
— Нет, — возразил жрец, — слишком мало времени прошло от его отъезда до начала пожара. А когда он выехал за ворота, мне было видно. Верно, у него был сообщник.
Братья зашли к Никанору и узнали, что Авл заболел, оставил школу и переселился с Нумией к жрице Нортии. Они отправились туда, Ромул представлял трудную встречу с Герсилией, которую ему придётся огорчить вынужденной отсрочкой женитьбы. Но встреча не состоялась: никого из семейства жрицы не было дома. Гостей встретила обрадованная Нумия.
На вопрос Ромула, где Герсилия, она удивлённо ответила:
— Разве ты не знаешь? Она вышла замуж за знатного сабинянина Гостилия и позавчера уехала с ним в Куры. Нас с Авлом жрица и поселила в её комнатах.
У Ромула всё поплыло перед глазами.
— Как она могла?.. — прошептал он и ощутил на плече крепкое пожатие брата, которое немного отрезвило его.
— Она сперва не хотела, — объяснила Нумия, — но потом, дней десять назад, неожиданно согласилась, тем более что жених задабривал её и отца ценными подарками. Конечно, Гостилий не молод, вдовец, но он богат и принадлежит к знатному роду Курциев.
«Десять дней, — думал Ромул, — это как раз тот срок, когда до неё могла дойти весть о нашем разорении...»
Он сидел за столом вместе с Ремом, Нумией и бледным больным Авлом, потрясённым гибелью семьи Агиса, машинально что-то ел и пил и невпопад отвечал на вопросы.
«Как она могла?.. — снова и снова думал Ромул. — После того колдовства, которое должно было навеки соединить наши сердца? А вдруг это был только женский обряд, который привораживает мужчин, оставляя женщин свободными и равнодушными? — Ромул попытался оправдать Герсилию. — Нет, она не может быть изменницей, она всё так же любит меня, просто отец заставил её...»
Когда, прощаясь, Авл спросил гостей, есть ли им где заночевать, Ромул ответил, что они договорились об этом с одним из школьных друзей. Рем с удивлением посмотрел на брата, но промолчал.
Они вышли в ночной мир, озарённый лунным сиянием, и Ромул повёл брата на край города к заброшенному дому летних свиданий. Там он повалился на ложе и сдавил руками голову. Рем сел рядом.
— Это даже хорошо, что она тебя бросила, — сказал он. — Показала, что стоит женская привязанность. Но главное, теперь и ты свободен. Что из того, что первый шаг сделал не в ту сторону? Мы в самом начале пути, и чем меньше будем связаны, тем шире выбор.
— Легко тебе рассуждать, — простонал Ромул. — Ведь всё рухнуло в моей жизни.
— И ты откажешься от долга мести? Забыл, что мы упустили убийцу Аккила и Акки? Ведь не будь поджога, на неё бы не напала горячка, и наверняка это он сжёг семью Агиса! Неужели тебе важнее женщина, которая тебя предала, как последняя шлюха продавшись за деньги сабинскому богачу!
Ромулу нечего было ответить. Он долго не мог заснуть, вспоминая встречи с любимой женщиной. Он не винил и не ревновал её, а только ощущал тоску потери, похожую на ту, что приходила после смерти деда и матери. В конце концов он заснул. Рано утром его растолкал Рем:
— Вставай, пора на охоту!
Тишина. Прохладное безоблачное небо. Братья шагали на юг через лес по знакомой дороге. Ромул подавленно молчал. Рем пытался расшевелить его разговорами.
— Кое-чего мы достигли, — говорил он. — Зверя нашли, даже увидели, но упустили. Такое бывает, но посуди сам, если он с большим отрядом нападает на округу Альбы, а теперь катит из Габий на юг, то вряд ли его логово далеко. Либо их прикрывают тускульцы, либо они засели где-то в Тускуланской долине.
Последние слова вывели Ромула из оцепенения.
— Верно, — воскликнул он. — Помнишь тайную тропу? Скорей всего, они её и проложили.
— Попробуем по ней пройти? — предложил Рем.
— Давай сперва подумаем. Отряд у Кальпура не маленький — человек двадцать, да ещё с лошадьми. Если они уже несколько лет тайно проводят по долине караваны, то сами должны жить недалеко от тропы, но в стороне, иначе их выследят. Поэтому если мы даже пройдём по тропе всю долину насквозь, то скорее всего никого не найдём.
— Что же ты предлагаешь?
— Скажи, по какому склону ты бы повёл тропу?
— По правому, альбанскому. Во-первых, у подножия холмов стоит Тускул со своими полями и сёлами. Во-вторых, там склоны круче. Да и тропа начинается южней Тускулы.
— Я поступил бы так же, — кивнул Ромул. — Поэтому давай сперва поднимемся на холмы и оттуда осмотрим другую сторону долины.
Не доходя до тускульской заставы, они по козьей тропке свернули к холмам. Сперва им пришлось продираться через увитый колючими лианами низкорослый фисташковый лес. С гребня отрога они увидели внизу игрушечные домики Тускулы, пятна полей, светлое галечное ложе Тускулы, живую ниточку воды и нагромождение скал у входа в долину. Тропы разглядеть не удалось.
Братья пошли дальше. На одной из полян сели отдохнуть, съели подаренные Нумией лепёшки.
— Ни тропы, ни лагеря, — сказал Рем.
— Кальпур не дурак, — ответил Ромул. — Конечно, он выбрал место, которого не видно ни отсюда, ни с Альбанской вершины. Для этого лагерь должен быть в лощине, край которой заслонит его от взгляда с холмов, и под обрывом, куда не заглянешь со склона горы. Что ты скажешь о скальной стене вон за тем зелёным отрогом?
— Там должна быть котловина, — согласился Рем.
— Давай проверим это место. Только надо найти какую-нибудь примету на дне долины. Если тропа идёт перед отрогом, обрыва за ним не увидишь.
Они отыскали внизу напротив обрыва заметную группу деревьев, окружавших огромную светлую глыбу, и пошли назад. Около полудня вернулись на дорогу, миновали укрепление, перешли речку и добрались до Каменного бугра, незаметного перекрёстка дороги с тайной тропой. Братья нашли тропу и через светлый буковый лес двинулись к горе. Тропа резко пошла вверх, потом повернула направо, описала дугу и вышла к долине, оставив далеко внизу непроходимые нагромождения скал.
Не покидая лесного прикрытия, тайная, но далеко не заброшенная тропа петляла по склону. Напротив за серыми глянцевыми стволами буков светился озарённый солнцем южный склон долины. Наконец путники увидели внизу приметную глыбу с деревьями.
— Похоже, лагерь где-то над нами, — сказал Ромул. — В пределах мили должно быть ответвление тропы.
Братья пошли дальше, и вдруг Рем остановился на пологой полянке и показал брату край покатой скалы и сходившую на нет прижатую к ней осыпь. Осыпь была достаточно прочной, камни почти не ехали под ногами, очевидно, этим путём активно пользовались. Вскоре осыпь сменил вытоптанный травянистый склон.
— Осторожно, — проговорил Рем. — Приготовь луки и отстань шагов на десять. Если крикну, стреляй.
Рем вышел на перегиб тропы и вдруг остановился, медленно положил лук на землю и замахал руками. Это значило, что он под прицелом, и враг приближается снизу, чтобы взять его живьём. Ромул прижался к скале и натянул тетиву, готовый поразить первого, кто покажется...
Двое безоружных мужчин с носилками вошли в ворота Альбы Лонги, подошли к нижней крепости и потребовали встречи с Сервием. Сервий вышел и привёл их прямо в дом царя. Следуя за начальником стражи, носильщики прошли в покой, где стоял, скрестив на груди руки, мрачный Амулий. Носилки осторожно опустили на пол, старший носильщик нагнулся и снял покрывало, под которым оказалась лежащая на спине женщина в мятом платье.
— Это она, — медленно проговорил Амулий. — Что вы с ней сделали?
— Она невредима, государь, — ответил старший, — просто, чтобы её успокоить, Герул дал ей снотворное. К полудню проснётся. А сам он занемог. Распорядись, чтобы нам выдали плату.
Амулий склонился над Реей, прислушался к её ровному дыханию и велел Сервию рассчитаться с носильщиками. Едва он остался один, как упав на колени, коснулся ладонями щёк Реи, она не шелохнулась, тогда, оглянувшись, чтобы убедиться, что в покое никого нет, он поцеловал спящую в губы. Потом поднялся, кликнул слугу и велел перенести пленницу на ложе.
Амулий пододвинул табурет и сел рядом, вглядываясь в спокойное лицо любимой и проклятой женщины, которую даже не сумел убить. Конечно, она должна ненавидеть его, а очнувшись, возненавидит ещё больше. Что ж, его давняя мечта сбылась, он получил Рею тайно и теперь может делать с ней всё, что захочет. Кроме одного: этого пару лет назад его лишила проклятая старость...
Ромул напряжённо ждал, глядя на схожий с птицей силуэт брата, темневший впереди на фоне сиявшего неба. Рем медленно покачивал руками с растопыренными пальцами. Неожиданно он опустил руки и закричал:
— Анк! Вот так встреча! Ромул, беги сюда, это же Анк.
Ромул сунул стрелу в колчан, взбежал вверх и обнял старого приятеля.
— Зачем вы тут и как нас нашли? — спросил Анк.
— Да вот хотим побеседовать с Кальпуром, или он сейчас Герул?
Вместе они стали спускаться в лощину, где паслись кони. Справа её ограничивал зелёный вал отрога, слева отвесная морщинистая скала с чёрными дырами пещер.
— У нас он Кальпур, — ответил Анк. — А о чём вы хотите говорить?
— О старом Аккиле и его дочери Акке, — ответил Рем.
— Не боитесь?
— Чего бояться сыновьям Марса?
— Сыновья Марса? Вы что, те самые близнецы?.. — ахнул Анк.
— Да, — ответил Ромул. — Теперь это доказано, хотя известно, кроме нас, ещё только двоим людям.
Анк остановился:
— Знаете что, давайте сядем здесь за кустами и обсудим всё по порядку. Наверно, лучше мне сперва пойти вниз, подготовить народ к вашему появлению. А то у нас никогда не знаешь, что кому придёт на ум.
Они уселись в укромном месте, и сперва Анк рассказал братьям об убежище. Говорят, эти четыре пещеры когда-то были вырыты людьми, но в одной открылась щель с запахом серы, обитатели решили, что там вход в преисподнюю, и бежали. А разбойники просто обходят эту пещеру стороной. Потом он сообщил, что в отряде Кальпура двадцать два человека: трое особо приближённых, самых старых членов банды.
— Это с ними он поджигал Ференту? — спросил Ромул.
— Да. Я, правда, мало что видел, был пешим загонщиком. У этих троих всё лучшее: оружие, одежда, кони, — продолжал Анк. — Сейчас Кальпура в лагере нет, он с двумя друзьями повёз в Альбу похищенную Рею Сильвию.
— Нашу настоящую мать? — воскликнул Рем. — Она что, жива?
— Да. Кальпур нашёл её в Габиях, она жила под именем Илии с купцом Агисом.
— Бессмертные боги! Так мы же знали её, — с отчаянием проговорил Ромул.
— Счёт к Кальпуру растёт, — нахмурился Рем. — Значит, он убил наших сводных братьев.
— И сжёг дом Агиса со всеми, кто там оставался, — добавил Ромул. — Вчера мы случайно встретили его у Габий, но не догнали.
— Он ехал на юг, но в его тележке никого не было, — задумчиво сказал Рем.
— У него повозка с двойным дном, — объяснил Анк. — А у нас в отряде сейчас что-то вроде небольшого бунта, — продолжал он. — Парни недовольны. Должен вернуться Кальпур с большими деньгами, и мы хотим справедливого дележа, а он скорее всего скажет, что мы здесь ни при чём. Ладно, пойду подготовлю наших, а потом вернусь за вами.
Илия-Рея очнулась и понемногу стала приходить в себя. Болела спина, болели натёртые путами запястья и лодыжки. Она попробовала пошевелиться, руки и ноги оказались свободными, ощупала платье, коснулась волос... Она открыла глаза, как в тумане увидела перед собой морщинистое лицо Амулия и вспомнила всё. Что ждёт её? Какие пытки и издевательства готовит ей жизнь, потерявшая смысл?
Амулий смотрел на неё со зловещей улыбкой.
— Проснулась? — проговорил он. — Теперь уже ты не уйдёшь от меня, беглянка. Когда-то я предложил тебе выбор, но ты отказалась. Теперь выбора у тебя не будет.
— Радуйся, дядя Амулий, — с трудом ответила Рея. — Сказать, кого твой разбойник погубил при моём похищении? Он убил твоего приёмного сына Аскания и троих внуков. Он их сжёг, лишив похоронных обрядов, обрёк их тени на вечные блужданья. Ты доволен? — И она заплакала.
Амулий вскочил. Его первым порывом было найти и уничтожить Герула. Но тот исчез, и возможно, даже предвидел гнев царя, потому что не пришёл к нему сам. Царь вызвал Сервия и приказал:
— Эту безумную рабыню поместить в подвал тюремной башни. Заковать и не пускать никого, кроме тюремщиков. Её бред может вызвать вредные слухи.
Ромул и Рем вместе с Анком спустились к пещерам. Обрыв и неширокая лощина лежали в тени, низкорослые деревца отрога кудрявыми силуэтами рисовались на фоне противоположного склона долины. Серый обрыв с редкими вцепившимися в камень кустами уходил в небо. За чёрными треугольными входами в гроты по скале шла тёмная полоса, окружённая мхом и пышными зарослями вьюнков, по ней, рождаясь в невидимой трещине, бежала вода. Внизу, отклонённая естественным выступом, она -струёй падала в выдолбленную в камне чашу. Оттуда вода лилась на землю и вскоре исчезала среди травы и валунов.
Около источника за вынесенным наружу длинным столом садились обедать разбойники Кальпура. Расторопная повариха черпаком наливала из котла в глиняные миски горячее варево. Братьям, которых Анк рекомендовал как возможных новых членов отряда, выдали миски с едой и ложки. Насытившись, приступили к вину, и тут появился Кальпур с двумя спутниками.
Они. зашли в крайнюю пещеру переодеться и вышли к столу.
— Новички? — спросил Кальпур, сверля глазами Рема. — Кто,откуда?
Ромул не понял, узнал ли он их, но взгляд вожака разбойников не сулил ничего хорошего.
— Я Рем, а это мой брат Ромул из Ференты, — ответил Рем. — Мы сыновья Фаустула.
— Фаустула знаю, — кивнул Кальпур. — На вид вы парни что надо. Ладно, поговорим, посмотрим, приму ли. А нет, — добавил он, — живыми вам отсюда не уйти.
Прибывшим повариха подала более изысканный обед в серебряных мисках. За едой Кальпур похвастался удачей с похищением Реи.
— Я напоил их вином с сонным зельем, — рассказывал он, — а сам пару раз сходил в отхожее место и принял рвотное. Скоро все заснули, и я спокойно, никого не тронув, смог положить Рею в тележку и скрыться. Так я сперва и собирался сделать. Но Амулий предложил мне двойную плату, если я истреблю её семью, так что ещё пришлось поджечь дом. Никто не мог этому помешать — все спали, только детям почти не давали вина, и их пришлось придушить. Оставалась одна сложность — нужно было забрать деньги из храма Меркурия. Если бы пожар заметили раньше времени, жрецы сразу бы меня заподозрили и схватили.
— Это почему? — спросил кто-то.
— Да потому, что деньги были сданы под договор, который мы с Агисом заключили утром. И я, чтобы выиграть время, сделал особую зажигательную машину! Взял на кухне медное ведро с водой, поместил в нём поплавок — наполовину утопленный перевёрнутый горшок, сверху положил доску, а на её край поставил три зажжённые масляные лампы. А над ведром на край стола поставил деревянное ведёрко с маленькой дырочкой — так, чтобы струйка воды из него текла в большое. Соображаете? Когда вода в медном ведре достаточно поднялась, поплавок опрокинул доску, и лампы полетели на пол. А для большей надёжности я набросал там папирусных свитков, которых у Агиса был целый сундук. Вот какую машину я сделал. Потом связал спящую Рею, засунул её в подпол тележки и поехал в храм. Там расторг договор и получил назад деньги. Потом уехал из города, укрылся в укромном месте и, глядя на крышу Агисова дома, ждал начала пожара. Вот так-то.
Разбойники, выражая изумление, покачивали головами, но было неясно, одобряют ли они своего вожака.
— Пора, — Рем толкнул Ромула. — Кто нападает первым, тот выигрывает.
Братья вышли из-за стола и стали напротив Кальпура, оставив разбойников между собой и выходом из лощины, чтобы ни у кого не возникло мысли, что они намерены бежать.
— Эй, Кальпур, — провозгласил Рем, — мы, дети Марса и Реи Сильвии, приёмные сыновья Фаустула и Акки, Рем и Ромул, вызываем тебя на поединок кровной мести. Слушайте все! Мы обвиняем тебя в том, что ты не в бою, а исподтишка убил старика Аккила, отца нашей приёмной матери Акки, и убил двух наших сводных братьев и сестру, детей Реи Сильвии.
— И лучшего латинского стихотворца Агиса и уничтожил его творения! — добавил Ромул.
— Взять их! — заорал Кальпур.
Один из приближённых стал было подниматься, но его за одежду дёрнули вниз. Остальные не пошевелились.
— А почему бы, Кальпур, тебе не принять вызов? — спросил второй из приближённых. — Законы кровной мести надо уважать.
За столом зашумели:
— Секст прав! Посмотрим, каков ты в честном бою.
Не ожидая такого оборота дела, Кальпур затравленно огляделся, но быстро овладел собой:
— Аккил был вооружён, что касается детей Реи, то сперва докажите, что вы тоже её дети. Кроме того, я убил их по приказу Амулия, и их кровь на нём!
— А кто взял за это двойную плату, продажная тварь? — крикнул Ромул.
Разбойники повскакали с мест.
— Пусть сразятся, фурии покажут, кто прав! — раздался чей-то голос.
Поединок стал неизбежным. Сразу нашлись знатоки обычая и судьи, распорядителем стал Секст.
— Драться будете по очереди, — объявил он братьям. — Выбирайте оружие.
— Конный бой на мечах, без шлемов, щитов и брони! — с достоинством ответил Рем.
Разбойники встретили предложение одобрительным шумом.
— Мой конь устал, — возразил Кальпур.
— Трусишь! — крикнул Рем. — Тебе бы только рубить головы безоружным старикам. Возьми другого. У нас же нет своих коней.
— Согласимся на пеший бой? — спросил Ромул. — Незнакомый конь может подвести.
— Ну нет, — спохватился Кальпур. — Я буду драться на Граче.
— Я бы вам дал своего скакуна, — сказал Секст, — но он погиб в Ференте.
— Это я его застрелил, — сообщил Ромул. — Правда, метил в тебя, но конь вскинул голову, и стрела перебила ему шейную жилу.
— Удачный выстрел, — усмехнулся Секст, — особенно для меня. Ладно, смотрите наших коней, выбирайте любого. Но конь будет один на двоих.
Сражаться первым жребий предоставил Рему. Обнажённые по пояс соперники, рослые, сильные, с играющими под кожей мышцами сидели на конях друг против друга, ожидая сигнала. Кальпур сжимал коленями бока своего Грача, Рем поглаживал гриву жеребца по кличке Рыжий, которого выбрал вместе с Ромулом. Бойцы держали одинаковые острые мечи. Стол сдвинули к скале, зрители уселись на скамьях рядом.
— Что выбираешь: чтобы я обезглавил тебя или, может быть, придушил? — крикнул Рем. — Учти, у меня дубовый венок победителя альбанских состязаний по конному бою.
— Сопляк! — отозвался Кальпур. — Почему я вас только не прирезал лет десять назад?
— Готовы? — спросил Секст и, махнув рукой, крикнул: — Пошли!
Бойцы поскакали навстречу, поравнялись. Кальпур рассёк мечом воздух на уровне шеи Рема, но тот успел пригнуться, и только прядь срезанных волос рассыпалась по его спине. Всадники развернули коней и снова встретились. Кальпур направил коня прямо на противника, и Грач принялся кусать Рыжего. Тот попятился задом к обрыву, Рем поднял коня на дыбы, выскользнул из ловушки и ускакал к выходу из лощины.
И снова всадники понеслись друг на друга. На этот раз Рем сумел оказаться слева от Кальпура. Мгновенно перекинув меч в левую руку, он дотянулся до врага и задел его плечо, вид хлынувшей крови привёл разбойников в восторг. Какое-то время всадники кружили, обмениваясь звонкими ударами и незаметно приближаясь к выходу из лощины.
— Он хочет удрать! — крикнул брату Ромул.
Рем обошёл Кальпура, остановился и преградил ему путь, пересев лицом к хвосту и помахивая поднятым мечом. В этом месте лощина сужалась, справа была скала, слева кусты.
Кальпур решил прорваться и пустил коня в галоп, надеясь проскочить мимо противника. Рем дал ему разогнаться, быстро повернулся лицом вперёд и поскакал в том же направлении, держась правей Кальпура. Ромул увидел, как они поравнялись, как сверкнул в левой руке брата меч и свалилось на землю обезглавленное тело разбойника. Рем повернул Рыжего, на скаку свесился, обхватив коня левой, державшей меч, рукой, правой поднял за волосы голову врага. Чёрный конь, потерявший всадника, последовал за Рыжим. Рем осадил коня напротив зрителей и швырнул окровавленную голову Кальпура на стол.
— Кончено, — объявил Секст.
Рем выпрямился, поднял меч и обратился к разбойникам:
— Кровь Кальпура напоила тени его жертв и очистила вас, бывших под его началом. Согласны ли вы, чтобы я, Рем, сын Марса, стал вашим вождём? Пусть те, кто не согласны, отойдут влево. Они получат справедливую плату и свободно уйдут.
Никто не пошевелился, Рем опустил меч:
— Что ж, отныне мы вместе. Назначаю своим помощником Секста, а казначеем Анка, честность которого знаю с детства.
Новый командир спрыгнул с коня, отдал меч Сексту и пошёл умываться к источнику.
Глава 11. ХРАМ ДИАНЫ
Золота цвет сверкал меж ветвей
его тёмно-зелёных —
Так средь зимы, в холода, порой на
дереве голом
Зеленью чуждой листвы блещет
омелы побег.
Так же блестели листы золотые на
падубе тёмном.
Вергилий. ЭнеидаТело Кальпура сбросили с кручи на съедение волкам и крысам, оставив без погребения. Разбойники и сами были рады избавиться от своего вожака. Появление молодого, умелого и умного воина, который в честном бою занял его место, избавляло их от лишних склок и обид. До конца дня сын Марса успел познакомиться со всеми членами отряда, осмотреть и пересчитать оружие, припасы, деньги. Рем заявил, что хочет превратить доверившихся ему воинов из изгоев в знатных граждан Альбы.
— Вы будете основой настоящего войска, — пообещал он. — Мы договоримся с торговыми городами, наведём порядок на северной и южной дорогах. Мы построим крепость на Тибре и переманим караваны, идущие через Антемны и Ценину. А когда я стану царём Альбы Лонги, мы будем диктовать свою волю всем латинским городам и защищать край от посягательств соседей. Но сперва нужно сколотить хотя бы одну турму.
Ромул удивлялся, с какой лёгкостью брат очаровывал окружающих и заставлял их беспрекословно подчиняться себе. Но сам он решил не связываться с его отрядом и утром уехал, получив в подарок коня, того самого Рыжего, на котором Рем сражался, меч и немного денег для себя, Фаустула и Плистина.
Ромул ехал не торопясь, погруженный в думы. После переживаний последних дней он чувствовал себя опустошённым. И ещё он обнаружил, что остро завидует брату. Конечно, жребий и победа в поединке — это воля богов, но почему они достались именно Рему? Почему брат получил мешок серебра и два десятка верных воинов, а он, Ромул, как был, так и остался ни с чем?
В плохом настроении Ромул к середине дня вернулся в Ференту, застал там родных и вкратце рассказал им о своих и Рема приключениях, обходя острые моменты.
— Клянусь Марсом, вы отчаянные парни, — сказал Фаустул. — Значит, Рем, как и хотел, получил небольшое наёмное войско? А ты когда начнёшь служить богам?
— Не знаю, — хмуро ответил Ромул, который воспринял его слова как упрёк.
— Да, — вспомнил отец, — утром заходил Муций, спрашивал тебя и Рема.
Пообедав, Ромул отправился к Муцию. Он нашёл друга возле полуземлянки с новой, ещё не потемневшей тростниковой крышей, устроенной после пожара. Муций сидел на бревне и, уткнув конец меча в землю, ожесточённо водил по его острию точильным камнем. Увидев Ромула, он оставил своё занятие и поднялся навстречу.
— У меня к тебе дело. Давай пройдёмся по берегу, поговорим.
Муций убрал меч и точило, и друзья пошли к озеру. Мягкие дневные облака растаяли, ясное предвечернее небо излучало покой и прохладу. Ромул рассказал о вчерашнем поединке Рема с Кальпуром, о планах, умолчав о претензиях на альбанский престол.
— Какие-то дели у него мелкие, — поморщился Муций.
— Это как посмотреть. Вот увидишь, он создаст своё войско. Кстати, собирается предложить тебе место командира десятки.
— Десятки? — презрительно хмыкнул Муций. — Все вы заняты не тем: стремитесь к богатству, власти, военной славе, удачной женитьбе... Только я нашёл истинно достойную цель! Есть богатство и власть иные — дружба с богами.
— Ты тоже избрал жреческий путь? — удивился Ромул.
— Для того-то я и позвал тебя, хочу, чтобы ты мне помог. Знаешь, что будет через три дня? Осеннее равноденствие.
«Равноденствие»! Это слово эхом отозвалось в сердце Ромула и мгновенно перенесло его на полгода назад к равноденствию весны, когда после обряда вбивания гвоздя он познакомился с Герсилией. Тоска на миг захлестнула Ромула, но он быстро овладел собой.
— Осеннее равноденствие? Ну и что из того?
— Не просто равноденствие, а то, которое совпадёт с полнолунием. Говорят, это самый благоприятный день.
— Благоприятный для чего?
Муций укоризненно посмотрел на Ромула и гордо ответил:
— Чтобы стать Царём!
Ромул не сразу понял, и Муций объяснил:
— Я буду не Муций, сын Муция из Ференты, а Рекс Неморенис, великий Царь Леса!
— Так вот для чего ты точишь меч!..
— Да. И мне нужна твоя помощь. Ты должен отвлечь соперника, быть свидетелем, а может, — Муций невесело усмехнулся, — доставить домой моё мёртвое тело. Нужен ещё один человек. Я думал пригласить тебя с Ремом, но раз его нет, можно взять кого-нибудь другого, например, Тита.
— Да ты спятил! Стоит ли так рано губить жизнь? — стал отговаривать друга Ромул. — Что ты получишь, став жрецом лесной Дианы? Диана ещё более жестока, чем Веста. Ведь ты должен будешь непрерывно защищать эту должность мечом, и новый претендент убьёт тебя рано или поздно.
— Не рано, — усмехнулся Мудий, подвигав широкими плечами. — Ты ничего не понимаешь, Ромул. Быть Царём Леса — очень почётно. Месяц назад туда, к Зеркалу Дианы, поклониться богине сходились молодожёны чуть ли не со всего Ладия. А посредником между ними и божеством был этот злобный тупица! И потом... Ты знаешь, что Диану-охотницу окружают девы?
— Да, и сама она девственница.
— Ошибаешься, у неё был любовник, красавец Эндимион. Так вот, не всем это известно, но служительницы храма Дианы Неморейской не чета весталкам. Царь Лесов владеет ими всеми, и только он один.
— А беременных закапывают живьём? — спросил Ромул.
— Нет, вроде бы просто выгоняют, точно не знаю. Но, главное, на падубе появилась Золотая ветвь, и достаточно низко. Я был там позавчера и её видел. Чтобы вызвать на поединок этого старого волка, нужно сорвать ветку, и лучше это сделать незадолго до полуночи, когда он устанет. Я узнавал, за время правления он уже уложил шестерых. Но со мной у него ничего не выйдет. Ну что, согласен меня проводить?
— Конечно. Но, может, ты раздумаешь?
— Нет, Ромул. Эту мысль я вынашивал годами, и тебе меня не сбить. Через три дня я достигну цели или умру. Как пожелает Диана. Да, кстати, — спохватился он, — ты ещё не слышал? Говорят, Амулию удалось разыскать и доставить к себе Рею Сильвию.
— Откуда это известно? — насторожился Ромул.
— Её мельком видел Аррунт. Говорят, Рею вчера принесли на носилках без сознания двое неизвестных. А когда она пришла в себя, Амулий велел её заковать, объявить безумной и отправил в подвал тюремной башни.
Ромул тяжело вздохнул.
Хорошая погода ещё держалась, когда трое молодых людей под вечер отправились из Ференты на озеро Неми, к храму Дианы. Муций, Тит и Ромул взяли охотничьи сумки с едой, они не имели оружия, кроме ножей, и не могли вызвать никаких подозрений: просто юноши, решившие погулять. Правда, Мудий, скрывший под широкой одеждой меч и кожаный панцирь, двигался немного скованно.
До храма было мили четыре. Священное Неморейское, то есть Лесное озеро, которое в народе называли озером Неми, лежало восточней Альбанского и чуть ниже на похожей, но гораздо меньшей по размеру ступени склона горы. Если первая ступень, кроме большого озера, вмещала Ферентинскую рощу и обширные луга, то вторую почти полностью занимало скромное озеро Неми.
Путники прошли лугами мимо загонов и навесов знаменитого табуна Нумитора, оттуда начинался спуск к озеру. Они ненадолго задержались, любуясь открывшимся видом. Почти совершенно круглое озеро покоилось в крутых берегах, как в чаше, по краям которой рос заповедный дубово-буковый лес. Со стороны горы он упирался в серые, поросшие кустами скалы. Там виднелась нитка водопада, исчезавшая за деревьями. Рядом можно было различить островерхую крышу круглого храма Дианы, какие-то постройки, сходящую к берегу поляну, на которой виднелись люди и лошади. Им был хорошо виден священный дуб и прижавшийся к его стволу вечнозелёный падуб, на котором порой появлялись Золотые осенние ветви.
По утоптанной дорожке друзья спустились в лес и пошли к святилищу. Солнце стояло низко, птицы угомонились, царила тишина. В приметном месте Муций отошёл в сторону, снял и спрятал среди груды замшелых камней меч, чтобы не осквернить святилище оружием. Вскоре друзья вышли на поляну перед храмом, где отдыхало несколько групп паломников. Тит остался на берегу, а Муций с Ромулом отправились к святилищу.
Они вошли в храм, где их встретила высокая жрица в длинной, до пола, одежде. Её чёрные волосы двумя толстыми прядями падали на плечи. Муций подал ей деньги на жертвы, а она неожиданно протянула руку и коснулась его груди. Ромул заметил, как вздрогнул Муций, и понял, что она нащупала его панцирь, но жрица благосклонно улыбнулась молодому атлету и негромко проговорила:
— Славный юноша, да пошлёт тебе удачу Диана.
Друзья подошли к негасимому огню перед грубой деревянной статуей богини и поклонились ей, а когда повернулись, чтобы уйти, увидели, как высокий круглый зал святилища пересёк чуть сутулый, немолодой мужчина с хмурым лицом в длинном плаще жреца. Мужчина-жрец здесь мог быть только один — соперник Муция, который сегодня ночью должен был стать мертвецом или убийцей.
Муций и Ромул вышли наружу и остановились полюбоваться священным дубом. Это было могучее дерево с неохватным морщинистым стволом. Его толстые узловатые корни уходили в островок пышной травы, окружённый серой, вытоптанной паломниками землёй. На высоте в два-три человеческих роста от ствола во все стороны расходились ветки, каждая из которых могла бы послужить отдельным стволом. Гигантскую крону священного дуба можно было оценить только издали. Но посетителей храма больше интересовал притулившийся у ствола падуб с россыпью красных ягод. На нём среди тёмно-зелёной листвы в лучах заходящего солнца сияла цепь пожелтевших листьев — желанная Золотая ветвь.
Всё осмотрев, Муций и Ромул вернулись на берег ручья к Титу.
— Он выйдет на закате и будет сторожить всю ночь, — сказал Муций. — За это время я должен сорвать Ветвь и вызвать его на бой.
— У храма есть охрана? — спросил Тит.
— Охраны нет, но незадолго до захода солнца жрицы просят паломников покинуть священную рощу. Мой план таков, — объяснил Муций, — мы вместе уходим назад по дороге, прячемся в лесу и ждём пока стемнеет. У нас не так много времени от угасания зари до того, как луна поднимется. За это время я забираю меч, подхожу к храму вдоль обрыва и скрываюсь в кустах. Вы же спуститесь к воде и пойдёте под прикрытием берега. Там круто, но не настолько, чтобы нельзя было пройти: я пробовал. Только снимите башмаки. Вы осторожно поднимаетесь, не доходя до ручья, примерно там, где мы сейчас сидим, и устраиваетесь вот за этими кустами. Сидите там и ждите, не шевелясь, пока луна не окажется над Ланувийским холмом.
Ромул лёг и посмотрел в сторону озера.
— Интересно, Муций, отсюда из-за деревьев не видно никакого Ланувия.
Муций опустился на землю рядом, чтобы проверить слова Ромула.
— Да, отсюда не видно. Холм Ланувия торчит на уровне вон того сухого дерева. Когда луна встанет над ним, немного потрясите ветки куста и повторяйте это время от времени, чтобы отвлечь жреца. А когда поединок начнётся, выходите. Ждать придётся долго.
Заря погасла, лёгкий ветерок прошумел по вершинам и затих. Несколько раз ухнула ночная птица. Ромул и Тит осторожно достигли берега. Едва видимая пепельно-серая вода озера отражала звёзды. Помощники Муция спустились по травянистому откосу и пошли направо к устью ручья. Они не торопились, то и дело вынужденные опираться на руки или даже ползти, проходя скальные выступы. Остановились, когда впереди послышалось журчание сбегавшей с берега воды. Трава над берегом светилась, и Ромул догадался, что возле храма горит костёр или факел. Тёмная прогалина береговой кромки обозначала тень куста. Юноши выбрались на поляну, устроились за кустом и замерли. Муций продумал всё, шум ручья заглушал звуки.
Из-за куста Ромул видел поле будущего боя. Факел, горевший у входа в храм, озарял стену святилища, прилегающую к ней площадку, ствол священного дуба и роковой падуб. По площадке быстрыми шагами взад и вперёд ходил жрец с обнажённым мечом на плече. Он был без шлема, но в кожаном панцире и юбке из железных пластин, доходившей почти до колен. Длинная тень хранителя Золотой ветви пробегала по траве и терялась во мраке.
Казалось, время замерло, но вот на востоке, из-за отрога появилась полная луна и, пригасив звёзды, стала наискосок подниматься над противоположным берегом. Наконец она отразилась в глади озера, оправдав его второе имя: Зеркало Дианы. Вода наполнилась бледным сиянием, а лес на том берегу, очерченный сверху светом, превратился в тёмную полосу, разделившую два неба, верхнее и подводное.
Голубой круг луны, наливаясь светом, поднимался всё выше. Факел догорел, из храма вышла служительница и заменила его новым, но когда догорел и этот, и она появилась опять, жрец отослал её — холодное сияние луны залило поляну храма, высветив всё до последней травинки. Ромул представил себе, как эту сцену с неба наблюдает Диана-луна и рассказывает о ней своему отражению в озере.
— Пожалуй, пора, — прошептал Тит.
Ромул кивнул, взялся за один из стволов куста, подождал, когда жрец повернётся лицом к озеру, и пару раз дёрнул. Жрец остановился, выставил меч и сделал шаг по направлению к прятавшимся.
— Заметит, бежим, — шепнул Ромул Титу.
Но жрец не решился так далеко отходить от падуба. Он постоял и вернулся к привычному пути еженощного дежурства. Ромул снова пошевелил прутья, жрец вдруг рысью побежал к кусту, размахивая мечом. Но тут за его спиной раздался треск: Муций выскочил из укрытия и сломал желанную ветку.
— Защищайся, — крикнул он и вышел к дубу.
В лунном свете сверкнул поднятый меч.
Жрец замер, потом медленно повернулся, снял с пояса рожок, поднёс к губам и трижды протрубил. Поляна мгновенно ожила. Обходя храм с разных сторон на неё вышли два десятка женщин в длинных белых одеяниях. Ромул понял, что они ждали сигнала. Черноволосая жрица узнала планы Муция и, видимо, предупредила всех, кроме жреца. А, может быть, и его? Свидетельницы стали полукругом спиной к озеру, Ромул и Тит вышли из укрытия и присоединились к ним. Тени людей наподобие редкого гребня легли на траву. Муций ждал противника около дуба, с мечом в правой руке и священной веткой в левой.
Жрец медленно приблизился и обошёл Муция, повернувшись лицом к храму. Никто не произнёс ни слова. Жрец, вытянув шею, разглядывал соперника, тот изображал спокойствие и улыбался. Но вот Муций сделал стремительный выпад, отбросив для равновесия назад левую руку с древесным талисманом. Две стальные полосы с лязгом столкнулись, рассыпав белые искры, и бойцы начали долгий неровный танец. Хрипло дыша, они наседали друг на друга, отпрыгивали, обмениваясь звонкими ударами.
Сердце Ромула колотилось, словно он сам вёл этот беспощадный изнуряющий бой, но он поймал себя на том, что не сочувствует никому из соперников, дравшихся только за себя. Схватка продолжалась долго. Жрец казался более умелым, но Муций был сильнее и пару раз ему удалось хлестнуть жреца веткой по лицу. Плечи и руки бойцов уже были в царапинах. Боясь, что юноша возьмёт его измором, жрец вкладывал в борьбу последние силы. Отбивая удары, он норовил поразить врага в незащищённые места ниже пояса.
Наконец жрецу удалось прижать Муция к стене храма, и тогда тот неожиданно кинулся в наступление. Шквал метких ударов заставил жреца попятиться. Потом произошло неизбежное, жрец допустил оплошность, и все увидели, как конец меча Муция вошёл ему в горло. Зрители вскрикнули, а оба бойца повалились на землю.
Ромул подбежал первым. Он увидел залитое кровью тело жреца и Муция, который безуспешно пытался встать, держась за левое бедро. Подошла черноволосая жрица, опустилась перед раненым на колени, что-то приказала. Служительницы забегали, появилась чаша с водой. Жрица разорвала окровавленные одежды Муция и стала промывать рану. Женщины подходили, разглядывая нового повелителя. Четверо из них унесли тело убитого жреца.
Тит толкнул Ромула:
— Как ты думаешь, заставят они Муция завтра ночью нести дежурство?
— Не знаю. Но скорее всего, да, — ответил Ромул. — И представь, ведь уже завтра все узнают, что новый Царь Леса ранен. Сколько соперников набежит сразиться с ним, пока он не поправится!
Старшая жрица встала и велела отвести победителя в царские покои. Муцию помогли подняться, он стоял, пошатываясь, опираясь одной рукой на плечо служительницы, сжимая в побелевших пальцах прут падуба, на котором почти не осталось листьев.
— Я победил! — хрипло выкрикнул он. — Вы поняли, Ромул и Тит? Я Царь Леса!
— Отведите его, — приказала жрица, — пусть отдохнёт.
— Рана тяжёлая? — спросил Ромул, когда Муция увели.
— Не слишком, — ответила жрица, — но боюсь, задеты другие важные части тела. А вам я могу предложить ночлег. Куда вы пойдёте среди ночи? Вы сказали, что вы из Ференты? Какой он славный юноша, ваш ферентинец.
К утру Муций уже ходил, хотя и немного прихрамывал. Он знакомился со своими жреческими обязанностями, узнавал имена служительниц. Одна жрица на задворках храма прилежно точила его затупившийся в битве меч. Ромул с Титом попрощались с другом и отправились домой. Им предстояло рассказать отцу Муция и всей Ференте о событиях прошедшей ночи.
— Знаешь, — сказал Ромул Титу по дороге, — вот Муций достиг цели и стал царём. Но он убил невинного.
— Ну уж и невинного! — возразил Тит. — Этот жрец сам убил семерых, считая прежнего жреца. Таков уж закон Дианы.
— Конечно, богине видней, если только это её воля, а не выдумка какого-то очень древнего жреца. Хорошо, что у обычных людей другие законы.
— А по-моему, те же самые. Что плохого в том, что власть получает сильнейший?
— А как ты думаешь, — возразил Ромул, — о чём больше будет заботиться Муций: о храме или о том, как себя защитить? Несчастен город, живущий по таким законам. Царь, получивший власть по праву силы, станет думать не о своём народе, а о себе, и в конце концов будет свергнут по тому же праву. Настоящий царь может быть только наследным, если народ уважает его семью, а ещё лучше избранным.
Глава 12. НУМИЯ
С нами сегодня в гостях и муж твой
ужинать будет.
Овидий. Любовные элегииВ Ференте Ромула ждал Туск. Он, разминувшись с Ромулом, приехал накануне из Габий с вестью о кончине Авла и просьбой Нумии проводить её в Куры. Там ей придётся доказывать, что она отпущенница, а среди сабинов мало кто умеет читать, тем более по-этрусски, и никто не верит письменному слову. Рано утром следующего дня Ромул и Туск нацепили мечи, сели на коней и выехали в Габии. Погода испортилась, небо заволокли тучи, ветер шумел, но дождя не было. Ехали налегке, по прохладе кони шли бодро. Ромул ехал вторым, опустив поводья Рыжего, юноша не думал о предстоящем путешествии в землю сабинян, о возможных трудностях и опасностях. Его занимала только Герсилия.
Ведь Нумия родом из тех самых Кур, куда Герсилию увёз Гостилий. Может быть, там он встретит её? Какое было бы счастье увидеть её хоть совсем ненадолго, хоть мельком, хоть издали. Он одёргивал себя: «Нет, никогда! Она нарушила клятвы, польстилась на деньги, предала в самый трудный момент жизни». Он не станет искать встречи, напротив, вытравит из памяти образ этой коварной женщины. И всё-таки Ромул продолжал думать о ней и ничего не мог с собой поделать.
До Габий добрались быстро, у Туска даже возникла мысль сразу ехать в Куры; до них от Габий было ближе, чем до Альбы. Но Нумия, которую они нашли у жрицы Нортии, попросила повременить до завтра. Ей надо было кое-что купить, а главное, спуститься в гробницу Авла и попрощаться с ним.
Этрусский город мёртвых находился за рощицей примерно в миле от Габий. Трое посетителей подошли к ограде, за которой лежала сеть прямых улочек. Между ними вместо домов среди кустов шиповника поднимались странные каменные сооружения, похожие на огромные алтари — круглые, прямоугольные, многогранные. На всех строениях виднелись дверные ниши, направленные в одну сторону, на запад.
Подошедший сторож спросил, какая им нужна гробница, и взялся проводить. Он узнал Нумию, похоронившую мужа три дня назад, но сопровождение посетителей считалось обязательным, чтобы исключить кражу приношений. Сторож по центральной дорожке подвёл пришедших к приземистому каменному кубу, достал из сумки кривой железный прут, сунул его конец в отверстие двери и двумя руками повернул. Заскрежетал засов, дверь со скрипом открылась внутрь. Сторож занялся разжиганием факела.
Вниз вела тесная каменная лестница. Ромул с неприятным чувством спускался под землю за трепещущим светом факела, касаясь ладонями неровных стен. Гробница была неглубокой, и скоро посетители оказались в продолговатой комнате с разрисованными стенами, вдоль которых тянулись полки, уставленные приношениями умершим предкам Авла и ему самому — бронзовые и глиняные фигурки, этрусские и греческие вазы, какие-то украшения и коробочки. На каменных плитах пола виднелись имена здесь похороненных, на одной — выделялось свежевыбитое имя Авла и лежали увядшие цветы. Ромул постоял над плитой учителя, пожелал покоя и мира его тени и, если правда то, что считают этруски, удачного нового рождения.
Простившись с Авлом, Ромул обратился к рисункам. На стене разыгрывалась жестокая сцена: человек с надетым на голову мешком вслепую отбивался кнутом и палкой от свирепого пса, которого держал на верёвке и натравливал на него другой человек. Жертва была покусана, из ран текла кровь, пёс зол и страшен, а его хозяин хищно улыбался. С двух сторон были нарисованы зрители, мужчина и женщина, довольные представлением.
— Что это? — спросил Ромул у Туска.
— Старая обряд задабривания демонов, — ответил тот. — Если демоны насладятся чужими мучениями, то не тронут душу покойного. Но обряд не обязательно исполнять, достаточно рисунка.
На противоположной стене был нарисован стол и пирующие гости. Туск объяснил, что это пожелание душе умершего так провести положенный срок в царстве мёртвых до нового рождения.
Выйдя наружу, Ромул подумал, что латины хоронят своих близких правильнее. Ведь тень жизни похожа на дым, пусть себе летит с, ним, очищенная огнём, куда призовут её боги. Сторож закрыл дверь и задвинул засов, потянув за толстый кожаный шнур, Нумия дала ему монету, и посетители покинули кладбище.
Вернувшись в город и не заходя домой, занялись покупками; Авл оставил Нумии немного денег; она хотела купить «лошадку для путешествия и подарки хорошим людям». Обойдя весь конный ряд, они единодушно выбрали спокойную молодую кобылу небольшого роста. Вместе с лошадью хозяин продал им уздечку и всё необходимое для верховой езды.
— А ты сумеешь управиться с лошадью? — спросил Ромул.
— Я сабинянка! — обиженно ответила Нумия и повела их покупать платки и украшения для женщин, а для мужчин ножи с красивыми ручками.
Ещё она купила пузатую глиняную бутылку этрусского вина, по словам продавца, из особого винограда, растущего в Помпее на склонах Везувия. Туск попробовал вино, одобрил, правда, поджав губы, заметил, что оно немного разбавлено. Продавец поклялся, что это не так, но цену сбавил.
С рынка все отправились к Туску, у отца которого была конюшня. Нумия гордо восседала на своей лошадке.
Выехали рано, обогнули этрусское кладбище и направились на восток к горам. Ехать решили через Тибур. Это было дальше, но там через Аниен имелся удобный брод, кроме того Нумия, которой приходилось ездить в Тибур из Кур, хорошо знала этот путь.
Утро выдалось прохладным и пасмурным. Дорога была широкой, все ехали рядом, и Нумия стала рассказывать провожатым о сабинской столице. В Курах, как и в Альбе, существовало два сильных враждующих рода — тации, к которому принадлежала она сама, и их соперники курции. Курции по образцу латинов или этрусков основали город, а тации издавна жили в селении у города, перенося его раз в несколько лет вдоль подошвы городского холма. Когда земля истощалась, тации бросали пашни, выжигали молодой лес, выросший за это время на старых полях, и переселялись на новое место. Но городское население растёт, и из-за пашен между курциями и тациями возникает всё больше споров.
Тибур стоял на крутом мысу в изгибе речного русла. Над его изогнутой стеной ступенями поднимались постройки с черепичными крышами. Не доезжая до города, всадники свернули вниз к переправе. Ромул уловил странный шум, который усиливался по мере их продвижения.
— Сейчас увидим каскад! — крикнул Туск.
Всадники остановились перед завораживающим зрелищем. Река по крутому каменному ложу скатывалась с лесистых холмов. Бесконечные струи, потоки воды с шумом летели вниз, мимо заросших кустами скал, разделяясь на множество русел, сливаясь, исчезая и вновь появляясь на свет. На миг выглянуло солнце и осветило радостное буйство Аниена, наконец-то получившего возможность показать свою красоту и силу. А дальше грозная река превращалась в сетку быстрых ручьёв, разметавшихся по широкому галечному ложу, её можно было переехать даже на телеге.
После переправы двинулись на северо-запад по заросшей лесной дороге. Впереди ехала Нумия, знавшая путь, за ней Ромул, скромную кавалькаду замыкал Туск. Вскоре дорога вывела их к селению с приземистыми деревянными домами, которые стояли на краю широкой возделанной поляны.
Здесь всадников встретили несколько вооружённых сабинян. Но выслушав Нумию, заговорившую на сабинском диалекте, они пожелали путникам успеха и пропустили их. Туск спросил, не стоит ли им тут отдохнуть, но Нумия ответила, что до Кур не так уж далеко и не стоит задерживаться. Ещё два селения встретились им на пути, потом дорога нырнула в долину небольшой реки. Это был Нимфей, за ним на покатом холме виднелся частокол, из-за которого поднимались соломенные крыши домов.
— Это Куры, — сказала Нумия.
У подножия холма раскинулось большое селение, как объяснила Нумия, тоже Куры, только Нижние. Ей нужно было именно туда.
Вброд перешли речку, дорога через селение вела к городскому холму.
— А к кому мы пойдём? — спросил Нумию Ромул. — К твоим родным?
— Близких родичей у меня не осталось, — ответила она. — Мы явимся прямо к царю рода Тациев. Когда меня украли, царём был Тит, — добавила она и направила лошадь к большому дому, не похожему на остальные.
В царской усадьбе Нумию знали. Путников приветливо встретили, приняли лошадей, дали умыться, накормили. Только после этого состоялась их встреча с царём Титом Тацием. Он принял гостей в небольшой комнате с бревенчатыми стенами и парой длинных узких окошек, дававших мало света. Царь сидел в красивом деревянном кресле этрусской работы. Для пришедших поставили скамью, на вторую скамейку справа от трона сели двое приближённых.
Нумия подошла, поклонилась, вручила царю сосуд с редким вином и объяснила его происхождение. Тит оценил подарок, предложил гостям сесть.
— Рад, что ты вернулась, Нумия, — сказал он. — Мы считали тебя погибшей. Расскажи нам, где и как ты жила эти десять лет, не привезла ли с собой скверны? Слуге Акрона, истребившему твою семью, мы отомстили, но в спешке забыли спросить, куда он тебя дел.
— Он не лишил меня девственности, чтобы подороже продать, и отвёз на рынок в Габии. Там меня купил почтенный этруск Авл. Он был учёным жрецом, у него умерла жена, и он решил купить работницу.
— И ты стала его наложницей?
— Нет, государь. — В первый год он ни разу не прикоснулся ко мне. Потом исполнилось пять лет со смерти его жены-жрицы, и он предложил мне стать его тайной женой. К этому времени мы привязались друг к другу, и я согласилась. По этрусским законам жрец не может жениться дважды, и наш свадебный обряд по секрету совершил жрец-латин. Так что для наших богов я стала законной женой, а для этрусских — рабыней-наложницей. Но детей у нас не было.
— А теперь ты беглая рабыня? — спросил Тит.
— Нет. Когда Авл почувствовал приближение смерти, он отпустил меня на волю, с условием, что я его похороню. Я исполнила его волю и теперь свободна. Эти юноши — свидетели обряда, а вот дощечка из храма богини судьбы Нортии, которая это подтверждает. Я стала свободной в прошлый день весеннего равноденствия, с которого у этрусков начинается год. — И она протянула царю документ.
— Убери дощечку, — отмахнулся Тит. — Если человек лжёт, это сразу видно по его глазам. А у записей нет глаз, и я им не доверяю. А вы что скажете, свидетели? — обратился он к юношам.
Те подтвердили, что обряд был совершён, описали его и похвалили Авла.
— Что ж, — заключил Тит, — ты чиста и возвращаешься в общину. Могу, если хочешь, подыскать тебе подходящего мужа, а пока приму в свою семью. Ну а завтра вечером, чтобы отметить твоё возвращение, устроим небольшой пир.
Пир проходил в просторной комнате, украшенной развешенными по стенам разрисованными тканями. Столы образовывали незамкнутый прямоугольник. Гости сидели снаружи боковых столов, царь с женой и старшими сыновьями за торцевым, слуги, менявшие блюда, заходили внутрь прямоугольника.
На пиру было человек сорок. Сабинский диалект, близкий к латинскому, не мешал Ромулу понимать разговоры. Речь в основном шла о скотине и запасах семян на весну. Сидевший рядом с Ромулом сабин расспрашивал его об альбанских святынях — алтаре Юпитера, Ферентинской роще и озере Неми. Ромул отвечал. Вдруг услышал приветственный крик: «A-а, вот гости сверху!», обернулся и замер. Вошла пара — немолодой сабин с шеей такой толщины, что, казалось, его голова растёт прямо из плеч, и юная женщина с ярко-рыжими волосами и прекрасным, чуть капризным лицом. Это была Герсилия.
Значит, тот, без шеи — Гостилий. Гости за противоположным столом подвинулись, и вновь пришедшие сели чуть в стороне от Ромула. Слуга поставил перед ними серебряные тарелки и чаши, стал накладывать жаркое. Герсилия посмотрела на Ромула как на незнакомого, кивнула Туску и улыбнулась Нумии. Ромул тоже сделал вид, что видит её впервые. В продолжении всего пира он наблюдал её заботливую нежность по отношению к мужу, молчаливому и медлительному, как большинство сабинян.
Все хорошо поели, выпили кисловатого вина, послушали певиц и сами спели хором несколько песен. Ромул по мере сил подпевал, хотя песни были ему незнакомы. Как отличался этот степенный пир от шумных габийских пирушек, когда юнцы, едва захмелев, начинали задирать друг друга, кидались костями и затевали драки! Сабины во всём знали меру и не допускали, чтобы веселье выплеснулось через край. Хотя, может быть, здесь их стесняло присутствие царя?
Перед сном в гостевой комнате Туск спросил:
— Узнал Герсилию?
— Конечно, — кивнул Ромул. — По-моему, она вполне довольна жизнью.
— Или делает вид, что довольна, — ответил Туск. — Разве поймёшь этих женщин?
«Вот мы и увиделись, и ничего не случилось, — думал Ромул. — Слава богам, мы оба умеем владеть собой и никто никогда не узнает о том, что было между нами».
Миссия была выполнена, послезавтра Ромул и Туск собрались ехать домой.
Утром незнакомый слуга передал Ромулу кусочек коры, на котором было написано по-этрусски: «Приходи сегодня в полдень к храму Марса». Ромул расспросил Нумию, как найти храм, сказав, что хочет помолиться богу — покровителю семьи. Нумия указала ему на рощу над Нимфеем, где стояло скромное святилище бога плодородия и войны.
Ромул с трудом отделался от Нумии и Туска, которые хотели его провожать, объяснив, что желает сосредоточиться и остаться наедине с божеством. Дойдя до рощи из низкорослых дубков, он сразу увидел храм — небольшой безоконный сруб под соломенной крышей с широким входом, лишённым дверей. Он огляделся кругом, никого не увидел, но тут его окликнули и из-за кустов появилась Герсилия. На ней было зелёное платье и те самые стеклянные карфагенские бусы. Она была прежней, бесконечно близкой и родной.
— Как же ты могла согласиться?.. — тихо проговорил Ромул.
— А что мне оставалось делать? — дёрнула плечом Герсилия. — Отец просто продал меня. Что было толку брыкаться? Я добилась бы только того, что Гостилий стал бы обращаться со мной как с наложницей. А так он мною гордится, и я им верчу, как хочу. У меня три личных служанки, большой дом, полгорода подружек. А люблю я только тебя, — добавила она и робко положила руки Ромулу на плечи. — Не сердись на меня, я не могла идти против судьбы.
Ромул и верил, и не верил, но не удержался, притянул к себе, крепко обнял. И не осталось ни ревности, ни обиды, только тоска и нежность.
— Как бы нас здесь не заметили, — забеспокоилась Герсилия. — Давай отойдём от храма.
Они углубились в лес и сели рядом на упавший ствол.
— Знаешь, а ты ведь оказалась права, — сказал Ромул. — Мать перед смертью призналась, что мы ей неродные дети. Я действительно сын Реи Сильвии, только пока это надо держать в тайне, особенно от Амулия.
Ромул стал подробно рассказывать о состязаниях, набеге разбойников, бедах семьи, смерти матери и её признании, о находке цисты и похищении Илии, которая оказалась его настоящей матерью, о решении мстить разбойникам и том, как они с Ремом на полдня опоздали предупредить Агиса о грозящей опасности и не смогли предотвратить его гибель. Закончил он описанием победы Рема над Кальпуром, которая сделала брата главой отряда разбойников.
— Сколько всего за несколько дней! — вздохнула Герсилия. — Что же ты собираешься делать?
— У меня много желаний, — ответил он, — но два самых сильных пока невыполнимы. Я хотел бы освободить мать и вернуть тебя.
— Я бы пошла за тобой хоть на край света, — сказала Герсилия, — но сабиняне не прощают обид. Гостилий и его род способны начать из-за меня настоящую войну, как ахейцы из-за Елены. Боюсь, что это единственное наше свидание. Но если ты вдруг когда-нибудь сможешь, то укради меня!
Она прижалась к Ромулу и осыпала его лицо поцелуями...
Ромул и Туск сердечно простились с Нумией, которая без конца благодарила их за помощь, а Тит подарил на прощание друзьям по тёплому плащу и посоветовал ехать обратно другой дорогой, вдоль Нимфея и дальше через Ценину.
— Я слышал, у Коллация и Тибура остановился большой отряд переселенцев, — объяснил он, — там неспокойно. Да и в ничейных лесах тоже. В эту осень многие общины отпустили младших сыновей куда глаза глядят, и там полно лесного сброда.
— А как у вас? — спросил Ромул.
— К нам они не заходят. Мы живём среди лесов, охотимся, добываем мёд, собираем ягоды. Сабинин чужака заметит сразу. А уж постоять за себя мы сумеем! До Аниена я вам дам проводника, и в нашей земле вас никто не тронет.
Глава 13. ЛЕСНОЙ СБРОД
К нам молодёжь собралась, поколенье
изгнанников жалких,
Шли отовсюду они, сил
и решимости полны.
Вергилий. ЭнеидаУтро выдалось промозглым, и подаренные царём Титом тёплые шерстяные плащи оказались весьма кстати. Ромул с Туском ехали за молчаливым провожатым на юг вдоль Нимфея. Дорога, которую правильнее было бы назвать тропой, то шла по берегу, то, сглаживая изгибы реки, уходила в лес. Ромул был ещё во власти впечатлений после встречи с Герсилией. Туск догадывался о переживаниях друга и не надоедал ему разговорами.
Путники без приключений в удобном месте вброд перешли Аниен, служивший границей между землями сабинян и латинов, и поднялись к Ценине. Город стоял на латинской стороне Аниена напротив устья Нимфея и имел дурную славу. Главная торговая дорога из этрусского Двенадцатиградия в южные края шла через Антемны, при впадении Аниена в Тибр, и Габии, минуя Ценину. Говорили, что обиженный этим ценинский царь Акрон покрывал разбойников, грабивших караваны, и сам при случае был не прочь пограбить.
Благополучно миновав Ценину, поскакали на юг. Вскоре путники оказались на хорошей дороге, бежавшей по кромке леса в Габии. Потом лес отодвинулся вправо, и друзья через обжитую и ухоженную габийскую землю подъехали к знакомым озёрам, за которыми поднимались светлые стены и буро-красные крыши города.
Ромул прожил у Туска три дня, в один из которых тот показал другу мастерскую отца.
Они вошли в большой полутёмный сарай, озарённый светом нескольких горнов. Шумно дышали меха, под крышей клубился дым, пахло кисловатой гарью. Среди огней и дыма шевелились полуголые люди. Перед Ромулом измазанный сажей потный работник монотонно качал ручки двух мехов, одну вверх, другую вниз. Трубчатые клювы со свистом дули на угли, и те источали неестественно яркое пламя. Огонь обнимал широкую глиняную чашу с раскалённым светящимся варевом, над которым вился зеленоватый пар.
— Бронза, — пояснил Туск. — А это формы, — показал он на рядок светлых кирпичей, стоявших на земляном полу. — Скоро начнут заливку. А вон у окна отец что-то лепит. Не говори с ним сейчас, он не терпит, когда ему мешают.
Они осторожно подошли к старику, который трудился над лепкой небольшой восковой фигурки человека.
— Это для ворожбы? — шёпотом спросил Ромул.
— Ты что! Ворожба запрещена, да и не стал бы отец... Нет, это модель. Её покроют глиной, высушат, нагреют, чтобы вытек воск, а пустоту зальют бронзой. Потом глину отобьют, и получится бронзовая фигурка, точь-в-точь как восковая.
Ромул восхищённо покачал головой. Друзья вернулись к плавильному горну. Там брат Туска зачерпывал из чаши железной ложкой на длинной ручке огненную бронзу и осторожно заливал её в отверстия форм, пока металл не показывался в специальных дырах рядом.
— Это формы для зеркал, — сказал Туск. — Они постоянные. Когда бронза застынет, форму разберут и вынут готовое зеркало, вернее, заготовку. Ещё надо будет очищать и полировать лицевую часть, а на задней стороне гравировать узор. Этим занимается старший брат.
Ромул с облегчением покинул это странное место, где сделанные людьми чудовища дышали, бронза текла, и огонь был не обычный; может быть, именно такой и украл у богов Прометей? Нет, правы предки — только труд на земле достоин свободного человека.
Наутро Ромул распрощался с Туском, сел на своего Рыжего и поехал домой. Миновав знакомые габийские поля, он углубился в лес. Небо было ясным, шум листвы волнами прокатывался над головой одинокого всадника.
Ромул ощущал себя на дне неведомого лесного моря. Огромный дикий лес покрывал чуть не весь Лаций. От Тибра через Альбанскую гору он уходил на восток к землям герников и вольсков, тянулся к югу, до моря, а на севере терялся в Сабинских горах. В Лации были по-настоящему возделанные только полоска земли южней Аниена с Габиями и клин от моря с Лаврентом и Лавинием до Альбы. А южнее, за Нумиком, леса продолжались в земле рутулов. Большинство городов, окружённых полями, были лишь островками среди огромного занятого лесами пространства. Отсюда до Тибра лес раскинулся миль на пятнадцать, а до моря покрывал больше тридцати!
Ехать было легко. Ромул миновал Тускулу и через какое-то время в раздумье остановил коня на Каменном бугре. Может быть, стоит направиться налево по тайной тропе, навестить Рема?
И тут из-за кустов показался знакомый всадник — Анк.
— Ромул! Куда, откуда?
— Домой из Кур и Габий. А ты?
— А я в дозоре. Завтра встречаем караван. Тут у нас недалеко стоянка, и Рем там. Давай я тебя проведу.
Ромул обрадовался случаю повидаться с братом и последовал за приятелем-разбойником. По узкой извилистой тропе они выехали на небольшую поляну. Полтора десятка человек сидели у костра, рядом паслись кони. Разбойники повскакали, радостно приветствуй Ромула, Анк помахал им и отправился обратно на свой пост.
Ромула усадили на почётное место рядом с братом, поставили угощение, налили вина. Начались расспросы. Ромул подробно описал поединок Муция, о котором разбойники уже знали, рассказал о поездке к сабинам и стал расспрашивать Рема о его делах.
— Вот, продолжаем дело Кальпура, проводим караваны в обход Габий и Лабик, — сказал Рем. — Кальпур завёл этот промысел года два назад, проводил в месяц четыре-пять караванов. А мы с Секстом пока успели только два. Должен сказать, что выручка неплохая.
Рем рассказал Ромулу, как это делается. Главное было — сохранить тайну. Разбойники знали секретный брод через Тибр южнее Антемнского; там жил рыбак, которому платили за услуги. Купцы, которым надо было везти товар, сообщали об этом рыбаку, его сын ехал к пещерам, и караван встречали. Сперва разбойники под видом охотников прогоняли бродяг под предлогом того, что те распугивают дичь. А перед рассветом выходили к броду и вели караван до места днёвки, того, где сидели сейчас. Здесь вместе с купцами дожидались вечера, а за ночь проводили караван по долине до дороги в Пренесту. Был у разбойников и человек в Пренесте, который вызывал отряд для проводки караванов в Этрурию. Многое зависело от полноводности Тибра, погоды, луны. В новолуние по лесу двигаться трудно.
— А ведь ты и сам придумал почти такой же план, — напомнил Ромул.
— Я только придумал, а Кальпур осуществил, — отозвался Рем. — Он, конечно, был мерзавец, но не дурак.
Луна освещала стремительно бегущий Тибр. Тяжело нагруженные мулы пересекали реку за погонщиками, которые, вооружившись шестами, прощупывали дно. Вода порой заливала по пояс. Подъём на берег был крут и неудобен, погонщики тянули и подталкивали животных. Наконец все двадцать пять мулов выбрались на сушу. Груз бронзы, выплавленной жителями острова Ильвы, оказался в Лации.
После короткого отдыха караван в сопровождении шестерых разбойников, не считая Рема и Ромула, двинулся к месту днёвки, до которого было десять миль. Там их ждали остальные воины отряда. Лунный серп поднялся выше, небо из тёмно-синего сделалось серым. Лес молчал в безветрии, слышались только удары копыт, редкое ржание и хруст валежин.
Внезапно впереди раздался пронзительный свист, он эхом отозвался сзади, с боков, отовсюду. Из лесной полутьмы выскочили фигуры с мечами, жердями, дубинами и кинулись на караванщиков. Зазвенела сталь, всадники Рема закружились по бокам каравана, рубя направо и налево. Но врагов было намного больше, чем защитников.
— Все к голове каравана! — крикнул Рем. — Бросайте груз, спасайтесь сами!
Его расчёт оказался верным, напавшие занялись грабежом, людей никто не преследовал.
— Лесной сброд, — злобно проговорил Рем.
Уцелевшие собрались на небольшой полянке, посчитали потери. Из разбойников не пострадал никто, из караванщиков недосчитались восьмерых погонщиков-рабов и свободного этруска Тивула.
Когда разбойники дошли до места днёвки, было уже совершенно светло. Проводники, потерпевшие «караванокрушение», злые и усталые, понуро расположились у костров. Неожиданно из леса появился босой юноша, подошёл к командирскому костру и жалобно попросил:
— Не убивайте, я посланец...
Разбойники с недоумением подняли головы.
— Нашли кого послать! — хмыкнул Рем. — Садись, ешь. С детьми не воюем.
Сидевшие подвинулись, юнец схватил одной рукой лепёшку, другой кусок мяса. Прожевав откушенные куски, он опомнился, отложил пищу и проговорил:
— Господин Рем и другие господа, наш вожак господин Юлий просит за господина Тивула выкуп в одну греческую мину серебра. Господин Тивул сказал, что отдаст эти деньги господину Рему, когда вернётся домой в Популонию.
— Скоты! — возмутился Рем. — Мало им захватить караван, они ещё и выкуп захотели. А что погонщики?
— Четверо погибли, господин Рем, один убежал, а троих может продать по обычной цене, — затараторил посланец.
— Ешь, потом отвечу.
Трое — Рем, Секст и Ромул — отошли в сторонку посоветоваться.
— Уничтожить бы шайку до последней блохи! — сказал Рем, ударяя кулаком по ладони.
— Не очень-то уничтожишь, — покачал головой Секст. — Их не меньше сотни.
— Знаю. Это я так.
— Думаю, товар для нас потерян, — продолжил Секст. — Давайте бросим всё и уйдём.
— Нет, — покачал головой Рем. — Тивула надо выкупить. Предательства не забываются. Если мы не проявим благородства, с нами никто не станет иметь дела. И ещё, надо послать кого-то к рыбаку, пусть предупредит, что дорога на время закрыта.
— Не на время, а навсегда, — возразил Ромул, — раз брод рассекречен.
— Он прав, — кивнул Секст. — И нечего возиться с этим этруском. Глупо отдавать за неудачника целую мину серебра, которую он никогда не вернёт.
Рем не ответил, но, вернувшись к костру, велел посланцу встать и сурово проговорил:
— Передай своему Юлию, пусть завтра утром приходит на это поле за выкупом и приводит Тивула. И предупреди, чтоб и не думал обманывать. Скажи: этого Рем не прощает.
На следующее утро Ромул и три воина Рема, среди которых был Анк, выехали на поляну. Там, у костра, их уже дожидались шестеро людей леса.
— Я Юлий, — сказал один, — а ты?
— Я Ромул, брат Рема.
— Ну что ж, давай мину и можешь забирать своего Тивула.
Ромул снял с пояса кожаный мешочек.
— Здесь сто сибарийских драхм. Можешь пересчитать.
Юлий покачал мешочек на руке:
— Зачем пересчитывать, я верю.
— Значит, я свободен? — с подозрением спросил бородатый этруск и вскочил на ноги.
— Да, можешь идти, куда хочешь, — ответил Юлий. — Только пешком. Коня твоего мы съели.
— А что ты собираешься делать с бронзой? — спросил Ромул.
— Как что? Менять. Одна палка бронзы — мешок зерна. С этим караваном можно зиму продержаться.
Юлий пригласил Ромула посетить свою стоянку, и тот согласился. Ромул велел проводить Тивула к Рему и сказать ему, что задержится, сведёт знакомство с людьми леса. Все разошлись в разные стороны. Ромул взял Рыжего за повод, и маленький отряд Юлия двинулся к Тибру. Они долго шли через чащу, по тропе, которая ещё вчера была тайной, и вышли на широкую поляну. Там у костров сидели кучки оборванных людей. Кое-где поднимались жалкие наспех сложенные шалаши, на ветках болтались какие-то тряпки.
Ромул привязал коня и, беседуя с Юлием, прошёлся по поляне.
— Вообще-то наш постоянный лагерь южнее, — объяснил Юлий, — просто здесь мы на вас напали. Хорошее место для засады: впереди не так далеко Тибр, слева за поляной шагов через сто заболоченное устье ручья, кругом высокие кусты. Нужно было бы поискать местечко поглуше, чтобы надёжнее спрятать добычу, но народ не хочет отсюда уходить: ждёт второго каравана.
— Вот дураки! — изумился Ромул. — Ясно же, что второй караван пойдёт через Антемны.
— Я говорил, они не верят, — пожал плечами Юлий. — А вы с Ремом и правда дети Марса и Реи Сильвии?
— Кто тебе сказал? — забеспокоился Ромул.
— Говорят, Рем это объявил перед поединком с Кальпуром.
— Да, тогда пришлось открыться, — кивнул Ромул. — Это так, и есть доказательства. В своё время мы откроемся всем. Но пока, прошу тебя, помалкивай. Если слухи дойдут до Амулия, за нами начнётся охота. Недаром же он пытался убить нас в младенчестве.
— Входишь в отряд брата?
— Нет, я сам по себе.
— Тяжко нам приходится, — вздохнул Юлий. — Крупную дичь выбили, грызём буковые орешки, хорошо, если удаётся наловить рыбы. Но у Тибра вздорный нрав: то он переполнен, то по колено, и рыба здесь такая же: то полно, то совсем исчезла. С караваном нам здорово повезло.
— Знаешь, Юлий, — признался Ромул, — меня, пожалуй, тоже можно причислить к лесным людям. Не смотри, что у меня есть конь, меч и новый плащ, всё это случайные подарки. Да, я принят в общину с правом получения надела — в порядке очереди, которая всё время растёт, причём непонятно с какой стороны...
Вдруг послышался треск ветвей и перед деревьями с южной опушки возник неровный развёрнутый строй людей, вооружённых рогатинами и жердями. У некоторых были луки.
— Эй! — заорал предводитель появившегося войска. — Второй караван наш! Убирайтесь по-хорошему на свою стоянку!
— Это ты убирайся, Руф! — крикнул в ответ Юлий. — Тебя сюда никто не звал!
И в мгновение ока позади появился строй людей Юлия.
— Жадюга! — надрывался Руф. — Хочешь всё одному себе?
— Шакал, любитель падали! — не оставался в долгу Юлий.
Дело пахло столкновением. И тут перед мысленным взором Ромул а встало детское видение: Эней с троянцами перед строем латинов. Его охватило предчувствие неизбежной свары, которая никому не нужна. На этом поле сошлись для битвы люди без надежд и высоких целей, лишённые достойного вождя. Вот он, неповторимый момент, когда можно вмешаться, стать выше событий. Ромул поднял руку и закричал: «Стойте!»
Он был всем хорошо заметен: на полголовы выше далеко не низкого Юлия, с гордой осанкой, в темно-красном новом плаще, с мечом на перевязи. Стало тихо.
— Я Ромул, брат Рема. Вы знаете, что он одолел в поединке знаменитого Кальпура и стал главой его отряда. Я не участвовал в ваших спорах, но мне есть что сказать. Вы нанесли друг другу достаточно обид, чтобы начать драку. То, что скажу я, способно помирить вас. Будете слушать?
Оба строя молчали. Ромул заметил, что многие опустили оружие. Он по возможности ещё больше выпрямился и заговорил:
— Вы ждёте второго каравана, потому что о нём заранее было известно. Так вот, имейте в виду, второго каравана не будет. Точнее, здесь вообще перестанут ходить караваны. Ещё вчера мой брат Рем отменил все прежние договорённости. Вы думаете, он поведёт караваны, чтобы они достались вам? Нет, мой брат не такой дурак. Этот путь проложил ещё Кальпур. Он вёл караваны тайно мимо Антемн, Габий и Лабик ради пошлины. Брал вдвое меньше, чем они, и ему хватало.
Но теперь, когда тайна дороги раскрыта, тускульцы первые заявят на неё права. Во всяком случае они не позволят, чтобы у них под носом бесплатно провозили товары. За дорогу начнётся борьба между вами, купцами, Тускулом и Лабиками. Какой же смысл купцам рисковать? Они предпочтут платить больше, но пользоваться безопасными путями. Вы спорите о том, кому достанется тень! Хотите поубивать друг друга ради неё? Ваше дело, деритесь. Я всё сказал.
Какое-то время все молчали, обдумывая слова самозванного миротворца. Тишину нарушил крик вожака ещё одной шайки, появившейся на восточном краю поляны.
— Убирайтесь! — закричал он, потрясая копьём. — Второй караван наш!
Это решило всё. На мгновение оба первых войска замерли, потом разразились неудержимым хохотом. Строй распался, некоторые от смеха валились на землю. Вновь пришедшие переглядывались, не понимая причины веселья.
— Иди сюда, Квинт, — позвал третьего вожака Юлий. — Угощаю всех!
На поляне у множества костров четыре сотни лесных бродяг доедали дорожные припасы караванщиков. Ромул, Юлий, Руф и Квинт сидели рядом вместе с несколькими другими вожаками. Квинт, рослый силач лет двадцати пяти, говорил:
— Да, Юлий, ты молодец, что решил поделиться счастьем. Не часто такое случается. Смотри, мы бродим мелкими отрядами, жрём, что попало, отбиваем у волков задранных оленей, не брезгуем лягушками и падалью. Но оказывается, нас много! Может быть, устроим большой набег?
Ромул напряжённо думал. Он сумел помирить их. Осталось объединить и возглавить. Но как? Вот почти полтысячи здоровых молодых мужчин, согласных на любое дело...
— Набег? — протянул Юлий. — Без оружия, припасов, военного опыта? Нет, Квинт, нас перебьют всех до единого.
«Он прав, — подумал Ромул, — нужно что-то другое». Но мысли упорно ходили по кругу, — вот на ничейной земле сбилась в кучу толпа юношей, изгнанных с родной земли, и ждёт того, кто сможет дать им надежду. На земле... Вот оно: ведь ничейная земля — тоже земля! Было время, когда лес шумел на месте и Лавиния, и Альбы, и Габий...
— Послушайте, — сказал он громко. — Раз уж мы тут собрались, давайте принесём жертву Квирину, устроим собрание и поговорим о нашей общей судьбе. Юлий как принимающий гостей будет собрание вести. Я думаю, среди стольких людей найдётся немало толковых. Что-нибудь придумаем.
— А ты, хитрец, и впрямь сын Марса, — шепнул Ромулу Юлий и обратился к остальным: — Мне нравится затея Ромула. Не знаю, будет ли от неё польза, но вреда точно не будет. Что скажешь, Руф?
— Я не против.
— Договорились, — кивнул Юлий, — сейчас распоряжусь насчёт трибуны.
Участники собрания уселись на земле полукругом перед небольшим возвышением, наскоро сложенном из дёрна. Ромул первым попросил слова — против этого никто не возразил. Он встал на трибуну, прочистил горло и начал речь спокойным, уверенным тоном:
— Вот мы, почти полтысячи молодых мужчин, оказались лишёнными наделов родной земли и сошлись здесь на земле ничейной. Но ведь ничейная — тоже земля! Было время, когда такие же леса росли на месте Лавиния, Альбы и Габий. Но наши предки расчистили там место для пашен, построили города для себя и храмы для богов. Кто нам помешает считать эту землю своей? Кто запретит основать на ней собственную общину?
Слушатели одобрительно зашумели.
— Что для этого надо? — продолжал Ромул в порыве вдохновения. — Делать то же, что они: расчищать места для пашен, сеять хлеб, строить дома. Но наши предки при основании поселений на первых порах имели поддержку родных общин. У нас такой поддержки нет. У нас мало инструментов, нет лошадей и быков для пахоты, нет семян. И нам всего этого никто не даст. Что же делать? — Ромул сделал многозначительную паузу, ощущая, с каким вниманием и надеждой от него ждут ответа. — Давайте посмотрим на землю, которую мы хотим сделать своей. На ней, кроме места для пашен, есть великая ценность, о которой мы забыли — лес! Всё равно нам придётся его сводить, так вот, брёвна можно менять на пищу, оружие, инструменты, быков, семена. Так мы получим всё необходимое для начала святого земледельческого труда, а дальше заживём как люди. Конечно, соседям это не понравится, но когда это будет наша земля, мы защитим её оружием.
Ромул умолк и спустился с возвышения. Собрание молчало: люди были не готовы к такому повороту. Потом начались разговоры, споры, поляна зашумела, и Юлий предложил желающим выступать. На трибуну забрался Руф.
— Предложение Ромула заманчиво, — закричал он, — но ничего из этого не выйдет. Он слишком молод, чтобы судить о таких вещах. Как мы сможем валить лес, когда у нас нет топоров? Нет крепких верёвок, за которые тащить стволы и которыми их валить. Да и кто в этой глуши станет брать наши брёвна?
К таким вопросам Ромул был готов. Он ответил, что можно продавать брёвна этрускам, у которых почти не осталось лесов. Что касается инструментов, то пусть их доставят сами этруски в счёт платы за дерево. Потом Ромул сообщил, что у него есть надёжный друг, этруск из Габий, которого можно отрядить к этрускам в Пиргу, где строят корабли. Он с ними договорится.
Квинт и Юлий поддержали Ромула. После вождей выступили несколько простых участников собрания. Медлительный сутуловатый Клаве, судя по выговору сабин, сообщил, что сабины лес под пашни не рубят, а жгут. Для этого не надо топоров, а пепел удобряет землю, и она пять лет хорошо плодородит. Но вообще он готов войти в новую общину. За ним невысокий темноволосый крепыш, рутул Тирон из Ардеи, сказал, что он, сын корабельного мастера, разбирается в породах дерева и что сосновая роща, растущая на берегу недалеко отсюда, может дать хороший доход:
— Самое ценное дерево для корабля, — объяснил он, — прямая высокая сосна. Она идёт на мачты и киль, не гниёт в морской воде и не слишком набухает. Трудное дело задумал этот Ромул, но надо попробовать. Не подыхать же нам с голоду!
Были ещё выступления, но новых предложений в них не прозвучало. Наконец Юлий решил, что пора заканчивать:
— Вот что, братцы, я тоже готов войти с вами в новую общину. Конечно, насильно туда никто никого гнать не будет. И дело это важное, поэтому окончательно сегодня его решать не будем. Утром соберёмся снова, обсудим, что и как, и решим.
Ромул лежал в шалаше Юлия на соломе, покрытой попоной.
— Скажи, сын Марса, ты давно это выдумал? — спросил Юлий.
— Нет, во время пира. Увидел, как нас много, молодых и сильных, и подумал: что мы — толпа, войско, община или народ? И решил, что все вместе.
— Это бог говорил твоими устами. Я давно думал об общине, но не мог найти опоры для начала. А ты нашёл! Завтра ты станешь нашим царём, — продолжил Юлий. — Ты дал людям надежду, за ночь она созреет и вознесёт тебя над нами. Мы будем слушаться тебя и ждать от тебя чуда, — Юлий остановился и, помолчав, спросил: — А ты? Может быть, ты будешь возиться с нами, пока не устанешь? Как младенец с игрушкой?
— Ты спятил? — рассердился Ромул. — Какая игрушка, полтысячи храбрых парней! Тех, кто доверится мне, я спасу или погибну с ними.
Ромул вспомнил свои детские мечты, в которых воображал себя Энеем. Так вот как это бывает! Ни царских плащей, ни торжественных слов. Но тем не менее (о, бессмертные боги!) само собой получилось, что он оказался вождём небольшого народа. Да и вряд ли больше было людей и у Энея. Конечно, Эней был знатен, но и Ромул а боги не обошли, он сам сын бога и принадлежит к древнему роду Сильвиев, прямых потомков Аскания-Юла, сына Энея и Лавинии. Что же помешает Ромулу устроить жизнь людей по законам справедливости и сделать свой народ примером для других?
Глава 14. ПОБЕДА
Военным долгом призванный юноша
Готов да будет к тяжким лишениям.
Гораций. ОдыУтром Ромула единогласно избрали царём. Первое, что он сделал, по примеру Рема, назначил заместителей, ими стали Юлий, Руф и Квинт. Казначеем Ромул поставил Клавса, вспомнив слова царя Тация о честности сабинян. Он поручил Клавсу набрать стражу и обеспечить охрану остатков караванной добычи, которую объявил общинным имуществом. Потом он нацарапал записку, позвал Юлия и велел ему ехать в Габии за Туском, которого собирался послать к этрускам в Пиргу, порт торгового города Цере, чтобы предложить тамошним корабелам мачтовую сосну. Ему было стыдно посылать друга, которому стольким обязан, но кому кроме Туска он мог доверить такие переговоры?
Юлий в одежде, взятой из дорожного тюка Тивула, выглядел вполне пристойно. Ромул для поездки дал ему своего Рыжего, и посланец скрылся в лесу. Новоиспечённый царь пошёл в казнохранилище — наскоро устроенную землянку, где уже успели сложить связки бронзовых палок и запасы продуктов, и вместе с Клавсом попытался определить, надолго ли им всего этого хватит. Их отвлёк неожиданный стук копыт — у землянки появился запыхавшийся Юлий.
— Беда! — крикнул он, спрыгнув с коня. — На нас идут ценинцы.
Оказалось, не желая попадаться на глаза стражам тускульского укрепления, которые его хорошо знали, Юлий решил ехать в Габии мимо Ценины, и на краю леса встретил сотни полторы отдыхавших пеших ценинцев. Юлий назвался охотником, угостил начальника вином из дорожного бурдючка, и тот сообщил, что солдат послали отогнать лесных бродяг подальше от города. Так что очень скоро можно ждать нападения.
— Надо скорей разбегаться, — закончил Юлий.
— Никакого бегства, — оборвал его Ромул. — Примем бой!
Ромул выбежал в центр поляны, вскочил на дерновое возвышение и закричал:
— К бою! Квинт, Руф, Юлий — ко мне! Ты, — ткнул он Юлия, — собери всех, у кого есть настоящее оружие. Собери и построй в четыре ряда, будешь центурионом ударного отряда. Ты, — обернулся он к Руфу, — построй остальных, пусть вооружаются топорами, жердями, рогатинами, дубинами. Будешь центурионом вспомогательного войска. А ты, Квинт, собери и возглавь отряд лучников. Пусть твои люди берут луки и у имеющих другое оружие, но запоминают, у кого взяли и после битвы вернут. Учтите, времени у нас мало. Как исполните, возвращайтесь сюда.
Ромул огляделся, обдумывая план сражения. Тем временем справа быстро рос строй ударной центурии, вооружённой мечами и копьями. Напротив выстроились юноши с кольями и дубинами. Их было гораздо больше, и надо отдать должное Руфу — он распределил бойцов по видам оружия. Кольеносцы стояли отдельно от дубинщиков, рогатники от топорников. Лучников оказалось совсем немного. Ромул определил число воинов первого ряда: получилось около сотни с мечами, полсотни лучников и больше трёх сотен всех прочих.
Выполнив задание, трое командиров подошли к Ромулу.
— Сейчас я сам не буду драться, — сказал он. — Важно следить за боем. И вот что, — обратился он к Руфу. — Мне нужны целеры. Человек пять хороших бегунов без оружия для передачи приказов.
Руф отбежал к своему строю и привёл пять худощавых юнцов. Ромул поднял руку с мечом и заговорил медленно и громко, так, чтобы всем было слышно:
— Слушайте план битвы. Ценинцев полтораста человек, они в шлемах, панцирях, лучше владеют оружием. Но нас втрое больше, и мы победим. Наша цель — опозорить противника. Лучше всего — никого не убить, а всех захватить в плен. За убитых получим войну, за пленных — телятину! Поэтому приказываю без нужды не убивать, тонущих вытаскивать. Пленных обобрать до нитки, но не бить. Пленные считаются общими, захваченные вещи получает тот, кто добыл. Дубинщиков и топорников назначаю сторожить пленных. Топорники, если бить, то только обухом!
Главная роль достанется второй центурии и отряду лучников. Как будут действовать ценинцы? Сперва станут нас искать. Надо сделать так, чтобы нашли легко. Поэтому вторая центурия разжигает большие дымные костры и изображает отдых с пением. Наше главное оружие — внезапность.
Скорее всего ценинцы войдут на поляну с севера, со стороны, которая у меня за спиной, и бросятся на сидящих у костров. Вторая центурия! Вы должны изобразить панику и под прикрытием воинов с кольями и лучников отступать в сторону болота. Скрывшись из глаз, перебегайте обратно, огибайте врагов и нападайте на них со спины. Кто окажется слева, кричат: «Тут топко!», «Помогите, я провалился!» или что-то в этом роде. Пусть ценинцы думают, что болото там. А там будет первая центурия.
Первая центурия! Вы отходите шагов на триста от левого северного края поляны и прячетесь там. По приказу возвращаетесь и незаметно окружаете поляну. Ваша цель — перехватить беглецов.
По местам! Приступить к выполнению!
Центурионы бросились к отрядам, первая центурия двинулась в лес, вторая занялась кострами.
Ромул повернулся к целерам:
— Видите тот дуб за кустами? Подсадите меня на ветку, а сами прячьтесь в кустах. Будем ждать.
Костры в середине поляны уже вовсю дымили, и от них неслись заунывные песни.
Ромул сидел верхом на ветке дуба. Скрытый листвой, он был незаметен, но отлично видел всё, что делалось на поляне. Больше всего его тревожила мысль о том, что ценинцы заплутают или вышлют разведку и наткнутся на затаившуюся первую центурию. Тогда бой может пойти совсем иначе. Но ждать пришлось недолго.
На краю поляны появился первый воин-ценинец. Ромул хотел послать к кострам целера, но там, как видно, тоже заметили ценинцев; это было понятно по движению в кучках бродяг и изменившемуся строю пения. Тем временем ценинцы встали за деревьями в два ряда, спереди воины со щитами и мечами, позади копьеносцы, просунувшие копья между воинами первого ряда.
Раздалась команда, и нападавшие с криком медленно побежали вперёд, огибая старые кострища, спотыкаясь на обрубках, где прежде сидели бродяги. Ромул послал целера с приказом первой центурии оцепить поляну сзади и сбоку. Певцы у костра подняли страшный визг, повскакали, забегали, замахали жердями и рогатинами. Ценинцы стали огибать костры, и их строй нарушился. Кто-то швырнул в огонь кучу веток с листьями, и поле боя утонуло в дыму. Многие бродяги каким-то образом почти сразу оказались позади врагов, а слева понеслись истошные крики «тонущих в болоте».
Ромул заметил командира ценинцев в шлеме с орлиными перьями и послал трёх целеров поймать его, разоружить и доставить. А бой всё больше и больше напоминал возню мальчишек. Вот бродяга с рогатиной и воин словно исполняют странный танец — ценинец пытается разрубить мечом рогатину, а юнец изо всех сил толкает его назад. А рядом кружатся ещё двое — один лупит воина по спине палкой, а другой цепляет за ногу и валит. Потом все трое набрасываются, отбирают оружие, стаскивают шлем...
Пленных отводили к шалашам, где их окружали стражи с дубинами. Через некоторое время на поле осталось только две группы ценинцев, которые, став спинами друг к другу, держали круговую оборону. Ромул послал целера с приказом кричать: «Сдавайтесь, вас не тронут!» На одну группу это подействовало, вторую кто-то догадался закидывать горящими головешками, и те тоже сдались.
Несколько человек вывели из леса командирского коня и вьючных мулов с военным имуществом, и Ромул послал целера с приказом отвести их под присмотр Клавса. Потом он лёг на ветку, повис на руках и спрыгнул на землю.
Была уже середина дня. Ромул велел своим бойцам, раздевшим вражеских воинов, отдать им свою старую одежду, чтобы те не замёрзли. Бой удался: убитых не было ни с той, ни с другой стороны. Раненые были, ими занимался ценинский воин-лекарь. Лесных людей было не узнать. Эти злые неудачники повеселели, смеялись, поддразнивали друг друга, их глаза блестели, они были готовы действовать.
Ромул беседовал у костра со своими помощниками и командиром ценинцев Бассом, у которого в качестве трофея отобрали только щит.
— Вы нечестно поступили с нами, — говорил Басс. — Вот этот, Юлий, разгласил наши планы!
— Простая военная хитрость, — улыбался Юлий.
— Подумай, — вмешался Ромул, — что было бы, застань ты нас врасплох? Вряд ли бы в живых осталась половина. Они — лесной сброд, но согласись, собравшись с духом, показали себя отчаянными вояками.
— Зато мы, Ромул, остались в дураках, — мрачно заметил Юлий. — Ты поставил нас в охранение, и нам почти не досталось добычи.
— Ничего, вы получите долю общего имущества, — успокоил его Ромул и обратился к Бассу: — Скажи, согласен ли ты заплатить названный выкуп?
Басс покачал головой:
— О выкупе договаривается тот, кто захватил пленного, с его родными. Как ты можешь назначать цену?
— Но мы решили, что пленные принадлежат всей общине, и хотим поменять их оптом на продовольствие и тёплые вещи.
— Ты что, собираешься тут зимовать?
— Не обязательно тут, но на ничейной земле. Так что отправляйся домой, поговори с царём и родичами пленных. И не задерживайся: у нас с едой не густо, и как бы пленные не оголодали. Поедешь на моём Рыжем вместе с Юлием, у ворот он заберёт коня и приведёт обратно.
На другое утро Юлий наконец уехал в Габии за Туском, а днём прибыли ценинские послы по поводу выкупа. Ромул оставил Руфа и Клавса торговаться с ними, а сам с Тироном и Квинтом пошёл смотреть сосновую рощу.
— Конечно, годится любое дерево, — говорил Тирон, — но для корабельщиков лучше сосны не найти. Крепкая, чистая, смолистая; ствол прямой, высокий, без сучьев. Такая здесь и растёт.
— Нужно поближе к берегу, — заметил Ромул. — Продавать будет этрускам.
— Сосна есть и на берегу, — ответил Тирон. — Скоро придём.
Разведчики вышли на край оврага и замерли в восхищении. Впереди на покатом склоне, сходящем к реке, стояли стройные золотистые гиганты.
— Самый корабельный лес, — с гордостью проговорил Тирон, как будто сам вырастил это чудо.
Они перешли овраг и попали в царство могучих колонн, подпирающих облака. Ноги вязли в мягком слое бурых прошлогодних игл, где-то далеко вверху ветер с шумом трепал зелёные волосы сосен. Ромул прошёл рощу вдоль и поперёк, считая шаги. Вдоль Тибра она тянулась на полмили, а поперёк немного меньше.
Ромул остался доволен.
— Продадим лес, — уверенно сказал он. — И здесь будут первые наши пашни.
— Да будет так, государь, — ответил Квинт.
Впервые Ромул услышал, как его величают царским титулом.
Сколько дней прошло с момента, когда на поляне Юлия появились люди Руфа, и Ромул сумел помирить противников, а потом возглавить их? Десять, сорок, сто? Ромул, занятый делами общины, не знал покоя. Хорошо царю, люди которого могут прокормить не только себя, но и его. Но что делать тому, кто должен сам кормить свой народ? Тому, кто не уверен в своём предложении с продажей леса и видит, как быстро проедаются общественные запасы, а посланный в Пиргу Туск всё не возвращается.
Людям было нужно в день не меньше пяти мешков зерна, столько же бурдюков вина и хорошо бы одну-две свиньи. Ромул вместе с Клавсом пересчитал все общественные ценности. Захваченной в караване бронзы при обмене на пищу хватало на три месяца, выкупа за пленных ценинцев ещё на полтора. А до сева было пять месяцев, потом три до жатвы. Да ещё требовалось достать семена, плуги, тягловый скот.
Ромул показал Клавсу, как сделать счётную доску, научил быстро считать. Вместе сделали доски для записи доходов и расходов, и Клаве с помощью полученной из ягод краски каждый день записывал расход продуктов.
Ромул разделил людей поровну на три центурии, центурионы поделили на отряды, утвердили старшин. Через них каждое утро происходила выдача продуктов. Ромул понимал, что главный враг его пока ещё младенческой общины — безделье. Он приказал готовиться к зиме, строить землянки, запасать дрова. Поляну, кроме края, уходившего в болото, огородили плетнями и завалами из веток: каждый день, если позволяла погода, проводились военные учения. По сути дела поселение было очень уязвимо.
К Ромулу всё время обращались с вопросами:
— Что делать с тремя рабами-этрусками из каравана? Я поставил их погонщиками к ценинским мулам, но не пойму, чьи они теперь, общественные? — спрашивал Юлий.
— Нет, Юлий, скажи им, что они свободны. Вспомни, как они бились с ценинцами! Захотят — пусть остаются с нами.
Много разговоров было и за общими трапезами в просторной царской землянке, построенной возле казнохранилища, куда сходились центурионы и старшины. Три десятка обедавших с трудом помещались в дымной комнате со стенами из плетёных прутьев. Ромул убеждал людей в том, что они пока ещё не община.
— Общиной мы станем, когда сможем себя прокормить, основать поселение с подобающими обрядами, освятить его, воздвигнуть алтари и найти святыни. А пока у нас не поселение, а военный лагерь, а мы — сборище людей, готовящихся стать общиной. Мы хрупкий зелёный росток, которому ещё предстоит стать деревом.
— Не такой уж хрупкий, — возразил Руф.
— Зря ты так думаешь, — покачал головой Ромул. — Нас терпят, потому что не принимают всерьёз. Но стоит Тускулу с Альбой и Телленами объединиться, половину нас уничтожат, а остальных разметут по лесу. Потому-то я и запрещаю делать разбойничьи вылазки. Пусть о нас на время забудут и дадут нам окрепнуть.
Наконец, на девятый день после отъезда, из Пирги вернулся Туск с двумя лесоторговцами. Под мелким дождём они на конях вброд перебрались через Тибр и въехали в лагерь.
Ромул принял их в царской землянке. Одного лесоторговца звали Тиррен, другого Вител. После приветствий, отдыха и угощений лесоторговцы отправились посмотреть рощу, которую уже видели по дороге с другого берега реки.
Дождь тем временем прекратился, изредка в просветах облаков показывалось солнце. Увидев сосны, этруски одобрительно закивали головами, Ромул понял, что они заинтересовались его предложением и приготовился отчаянно торговаться. На переговоры он пригласил Тирона.
Сперва разговор зашёл о том, кому принадлежит лес. Лесоторговцы считали, что земли за Тибром относятся к Двенадцатиградию.
— Эти места, где мы сейчас сидим, — утверждал Вител, — принадлежат Этрурии, точнее Веям, и продажа леса может вызвать возражения с их стороны.
— Если бы они так думали, то сами могли бы продать вам эту рощу. Но как видите, их это не интересует. Или, может быть, они всё-таки считают этот берег Тибра латинским?
— Всё равно, нам придётся возить брёвна через их землю, — заметил Тиррен, — так что пошлин не избежать. Это придётся учесть при оплате. И ещё дорога: тридцать миль и три переправы.
— Хорошо, — кивнул Ромул. — Я согласен отдать корабельную сосну по десять мешков зерна на одно дерево. Как ты считаешь, Тирон?
— Такую сосну? — ахнул сын корабельщика. — Это же всё равно что задаром!
— Полмешка, — спокойно ответил грузный Вител.
— Да где ещё вы найдёте сосны такой длины! — вскричал Тирон.
— Рад был с вами познакомиться, — улыбнулся Ромул. — Дать вам провожатого для переправы через Тибр?
— Ну, Вител, ты уж очень преувеличил наши убытки, — вступился Тиррен. — Можно было бы дать мешок...
Торговались долго и страстно. Подали вина и сушёных фруктов из запасов Тивула. На трёх мешках Ромул увидел в глазах лесоторговцев полное разочарование и сдался. Потом начали обсуждать практические вопросы. Ромул с интересом слушал беседу Тиррена, который, как видно, был специалистом не только по части цен, с Тироном о том, как валить лес, переправлять его через Тибр и везти на запад к морю.
Приближалась зима. Ветер швырял опадавшую листву, свистел в оголённых кронах. Но Ромул был доволен, его план продажи леса удался и позволял лагерю не только пережить зиму, но и сделать запасы и даже завести небольшое собственное стадо свиней. Оплата брёвен проводилась через Вей, с которыми договорились лесоторговцы. Продукты привозили сами вейяне, люди Ромула переправляли их к себе. Была налажена и связь с Альбой, в которой удавалось менять бронзу на кое-какие инструменты. Там связным служил сверстник и давний друг Ромулу Фул.
Ромул часто посещал свою лесосеку и наблюдал за работами. Напротив сосновой рощи этруски построили деревянный дом для людей и навес для быков. Через Тибр протянули прочный канат, по которому с помощью верёвок можно было гонять с берега на берег ящик на колёсах. К ящику привязывали канат для переправы бревна через Тибр. На латинском берегу его отцепляли от ящика и привязывали к концу бревна, перед тем как столкнуть в воду. Второй конец был прочно прикреплён к столбу на этрусской стороне, и течение, натягивая канат, само прибивало бревно к берегу. Ромул любил смотреть, как на том берегу этруски увозят брёвна. Концы длиннющего ствола клали на перекладины с парой сбитых из досок колёс, и всё сооружение утаскивала пара запряжённых быков.
Ромул хотел, чтобы участки земли, освобождённые от леса после вырубки сосен, сразу пошли под пашню. Поэтому, кроме отрядов лесорубов, он назначил команды, которые занимались приведением лесосек в порядок — убирали ветки, корчевали или выжигали пни, рубили и удаляли расположенные близко к поверхности корни. Эта большая трудная работа требовала много сил и времени, но зато по мере рубки на месте сведённого леса сразу появлялись поля, годные для пахоты. А рабочих рук у Ромула было больше чем достаточно. Многие ворчали, что он заставляет их вместо благородного труда земледельца заниматься презренным рабским трудом лесорубов и землекопов. Но с другой стороны, люди наконец-то были сыты.
В эту зиму Ромул редко виделся с Ремом, хотя порой они и навещали друг друга. Рем принял в свой отряд десяток желающих из людей леса, при этом брал только рослых, ловких и исключительно латинов. Он не прогадал, отдав выкуп за Тивула. Тот не захотел возвращаться к купцу, товар которого упустил, и решил служить Рему. Пользуясь своими знакомствами в Пренесте, он договорился об охране воинами Рема нескольких караванов, и им удалось хорошо заработать.
Однажды в холодный ясный день братья ехали через буковый лес вдоль Тибра от лагеря к сосновой роще.
— Отличное место для крепости, — сказал Рем, протянув руку к небольшому круглому холму, поднимавшему зелёную с проседью вершину над кронами деревьев.
— Пожалуй, — кивнул Ромул, — но впереди есть кое-что получше. Место для целого города.
Он направил коня вверх по склону, и вскоре братья оказались на плоской вершине широкой возвышенности, раскинувшейся над изгибом Тибра. Кругом был неуютный оголённый зимний лес.
— Город, — презрительно поморщился Рем. — У нас уже есть город: Альба Лонга. Нужна крепость для защиты брода и дороги через лес в Тускулу и дальше. Когда мы получим Альбу, то отнимем у Антемн господство над переправами через Тибр. Моё войско отрежет их от дороги, и караваны пройдут через наш брод. А твой город тут никому не нужен.
Глава 15. ЛОВУШКА
Так Рема передают
Нумитору для казни.
Тит Ливий. ИсторияСтояло яркое весеннее утро. Молодая листва ослепляла зеленью, заливались птицы, чистое небо источало тепло, хотя в затенённой обрывом лощине Четырёх пещер было ещё свежо. Три дня назад Рем и Секст вернулись из похода на юг и теперь отдыхали. Рем был доволен жизнью.
— Ну что, съездим, навестим твоего Муция? — спросил Секст. — Погода подходящая, а я давно не был в Роще Дианы.
— Как договаривались, — согласился Рем.
Они пошли к лужайке, где паслись лошади.
— Всё же, Секст, отличного ты купил коня! — сказал Рем, поглаживая светлую гриву нового скакуна. — Наверняка он кровей Ветра.
— Да, похоже, — согласился Секст.
Командир и помощник выехали из лощины, спустились на тропу и поскакали на восток, чтобы обогнув Альбанскую гору, добраться к озеру Неми. После сырости лощины было приятно оказаться на солнце. Рем ощущал радость и силу. Он мог гордиться своим конным отрядом в тридцать человек храбрых и умелых воинов. Теперь, узнав, что они провожают караван, дорожные грабители даже близко не подходили к стоянкам. А ведь часто это были отчаянные горцы, нападавшие сотнями. Но после пары плачевно закончившихся для них стычек даже само имя отряда Рема стало надёжной защитой.
Рем немного завидовал брату, управлявшему уже полутысячной командой, которая без всяких усилий с его стороны непрерывно увеличивалась. «Но Ромул, — считал он, — простак, не способный заглянуть вперёд. Что он собирается делать дальше со своими горемыками, которых превратил в рабов-землекопов и лесорубов? На что они будут способны, когда попытаются основать город и встретятся с кознями соседей? И это притом, что Ромул имеет права на альбанский престол! То ли дело я сам, — Рем мысленно улыбнулся, — готовлю ядро конной армии, которая со временем под знаменем Альбы станет грозой Лация и наведёт в нём порядок».
Миновав долину, всадники свернули на юго-запад. Наконец внизу засинела вода и показался светлый столбик храма Дианы. Друзья выехали на дорожку и двинулись вниз шагом, чтобы не нарушать священный покой этого таинственного и страшного места.
Рем не был здесь уже несколько лет и новыми глазами смотрел на круглое святилище, уменьшенную копию альбанского храма Весты, могучий древний дуб и прижавшийся к его стволу роковой падуб. На поляне перед храмом почти не было паломников. Путники привязали коней к дереву. Секст остался снаружи, а Рем вошёл в святилище.
Он оказался в высоком круглом помещении со скромной статуей Дианы-Весты. Поклонившись горевшему перед ней негасимому огню, Рем дал жертвенные деньги высокой черноволосой жрице, назвался, сказал, что он старый друг Муция, и спросил, где его можно найти. Жрица улыбнулась и попросила подождать перед храмом.
Вскоре жрица появилась и провела Рема к домам позади святилища, где жили многочисленные служительницы и единственный служитель богини. Царь Леса сидел у стены на скамье, покрытой овечьей шкурой, и, видимо, отдыхал после упражнений с мечом, который лежал рядом. У ног Муция стояло ведёрко воды с тряпицей для обтирания. Он блаженно улыбался, подставив мускулистое тело весеннему солнцу.
— Привет, — сказал Муций, не меняя позы. — Всё суетишься? Рассказывал мне Ромул о твоих подвигах! Подожди, сейчас принесут угощение.
Действительно, тут же появились две молодых служительницы, одна из которых поставила на траву складной табурет, а вторая низкий столик с дымящимися блюдами, винным кувшином и чашами. Рем сел напротив старого приятеля.
— Нет, не понять тебе ту степень довольства, какую получает добившийся в жизни всего! — говорил Муций. — Тебе и не снилось такое почитание и обожание, какое непрерывно изливается на меня. Какая это радость — ощущать власть над душами людей, которые приходят к тебе с надеждой и уходят окрылённые. Какое счастье быть близким к великой богине, ловкой, сильной, огненно-страстной! Ромул видел мой поединок; спроси его, и он подтвердит, что только помощь Дианы позволила мне победить того старого волка, прежнего жреца, которого, уж не знаю зачем, она столько времени терпела. Впрочем, у бессмертных свои понятия о сроках.
— А тебя не донимают соперники? — спросил Рем.
— Уже нет, — ответил Муций. — В первое время, пока не зажила рана, один досаждал мне, но так и не решился напасть. А теперь никто и не думает.
— Значит, ты доволен? — спросил Рем.
— Да. Кто мог подумать, что я, сын пастуха, стану Царём? Тебе-то такое и не светит!
— Кто знает? — улыбнулся Рем.
Он не стал говорить, что Царь Леса на самом деле ничем не владеет. Он пленник этой рощи, за пределы которой не может выйти, пленник обрядов, которые обязан выполнять, игрушка в руках служительниц и раб своего меча, с которым должен еженощно охранять себя и деревце падуба. Нет, счастлив только настоящий царь, который правит народом и волен вести его к избранной цели. Тогда любовь и почитание будут заслужены делами, а не победой над состарившимся соперником.
С такими мыслями Рем вернулся к Сексту, который сидел на прежнем месте. Рему показалось, что конь его встревожен и тяжело дышит.
— Что с твоим конём? — спросил он.
Секст встал, похлопал коня по шее и равнодушно ответил:
— С ним такое бывает, задремлет и увидит страшный сон, а потом ничего. Поехали? Давай вернёмся через Бовилы, у меня там друг живёт.
Рем согласился. Чтобы сократить дорогу, они поднялись на Альбанские луга и направились к южному берегу блестевшего вдали озера.
Неожиданно из-за деревьев им наперерез выскочили вооружённые всадники, окружили и велели остановиться. Посетители священной рощи, Рем и Секст, были безоружны.
— Рем? — прорычал старший, направив на юношу копьё.
— Да. А в чём дело?
— Вяжите его, он украл Ветра!
Рем оглянулся: Секст, пригнувшись к холке коня, мчался прочь. Ему мгновенно стало всё ясно. Купленный в подарок конь был не просто похож на Ветра, это был он сам, украденный сообщниками Секста. Убегавшего вора сообщник назвал именем Рема, а сегодня, пока он прохлаждался в обществе Муция, Секст успел съездить к сторожам табуна и предупредить их, что приведёт преступника. Вот почему так тяжело дышал его конь... Предатель, он решил возглавить отряд! Рем всё это понял, но уже ничего не мог сделать... Его стащили со знаменитого коня и связали.
— Пошёл! — крикнул старший, дёрнув надетую на шею пленника верёвку.
Старший конюх застал Нумитора во дворе, где старик, полулёжа на подушках, грелся под солнцем. Он доложил, что Ветер найден, а вор уличён и пойман.
— Как вам это удалось? — обрадовался царь.
— Он наглец, сам приехал к табуну на Ветре. А его дружок предупредил, что приедет.
— Хорош дружок!
— Ну, может, не дружок, а тайный враг. Он ускакал, мы не стали за ним гнаться.
— Кто вор? — спросил царь.
— Рем, сын пастуха Фаустула.
— Победитель конных состязаний? Странно. Впрочем, бывает такая страсть к коням. Он признался?
— Отчасти, — ответил конюх. — Отозвался на имя Рем. Лица похитителя, правда, никто не разглядел, коня угнали ночью, но свидетель слышал, как его напарник крикнул: «Рем, скачи сюда!» Что касается убийства пастуха и кражи коня, преступник всё отрицает.
— Его можно понять, — кивнул царь. — За такое казнят. Амулию доложили?
— Да, государь. Поскольку конь твой, он сказал, что тебе и казнить.
— Ветер в порядке?
— Да, с ним обращались хорошо.
Нумитор был рад возвращению любимого коня и поимке преступника. Но не в его обычаях было отправлять на казнь человека, даже не увидев его.
— Ладно, я займусь этим завтра, — решил он.
Весть о том, что Рем схвачен за кражу коня и убийство, дошла до Ференты поздно вечером. Фаустул был вне себя от горя.
— Бедный мальчик, как щедро он помогал нам в последнее время! — твердил пастух. — Это ошибка, не может быть, что он вор! Но мы спасём его, Плистин! Слушай, у меня есть тайна. Близнецы нам не родня, они дети Марса и Реи Сильвии, мне дал их на воспитание Гней Клелий. Нумитор — родной дед Рема! Как же он сможет его казнить?
— Не он, так Амулий, — нахмурился Плистин. — Надо звать на помощь Ромула, его люди смогут отбить Рема.
— Да, скажи Фулу, чтобы на рассвете ехал к нему.
Фаустул заметался по землянке, чуть не опрокинул лампу, и наконец извлёк из-под хлама старую обтянутую покоробленной кожей корзинку.
— Вот, вот она, циста, в которой я принёс младенцев, — стал он показывать её Плистину. — Видишь, тут клеймо Амулия. Надо скорей отнести её Нумитору.
— Успокойся, брат, — сказал Плистин. — Городские ворота давно закрыты. Я схожу к Фулу, пусть зовёт Ромула. А нам с тобой придётся подождать до утра.
Нумитор собрался выслушать конокрада утром, но это случилось раньше. После вечерней трапезы к царю явился возбуждённый Люций и сказал, что вор требует свидания. Говорит, что владеет тайной, которую не может открыть никому другому. Нумитор велел привести преступника.
Стражи ввели высокого сильного юношу со связанными за спиной руками и верёвкой на шее. Несмотря на это, преступник держался независимо, с гордо поднятой головой. Он посмотрел на Люция, потом на Нумитора, узнал царя и обратился к нему:
— Государь, прикажи меня развязать. Недостойно гражданину Альбы быть связанным.
— Развяжите, — кивнул Нумитор. — Я знаю тебя, победителя состязаний по конному бою. Скажи, что тебя толкнуло на убийство и кражу?
— Я не преступник, — ответил Рем, растирая затёкшие запястья. — Коня украли мои враги, подарили мне и обвинили в краже. Я не знал о пропаже Ветра, а причиной сходства коней посчитал их родство.
— Назови настоящих преступников, — предложил Нумитор. — Мы схватим и накажем их.
Рем замешкался. Раскрыть тайное гнездо в долине? Поставить под удар весь отряд из-за двух предателей, которые, может быть, из осторожности на время решили скрыться?..
— Я не могу их назвать, — ответил он.
— Тогда ты останешься под подозрением, — сказал Нумитор. — Лучше скажи, что за тайну ты хотел мне открыть? Надо ли нам для этого остаться наедине?
— Нет, государь, мне нужно только, чтобы первым узнал её ты. А потом пусть она перестанет быть тайной. — Рем помолчал и с расстановкой произнёс: — Я и мой брат-близнец Ромул не родные дети Фаустула. Перед смертью нам это открыла вскормившая нас Акка Ларенция. Настоящие наши родители — бог Марс и Рея Сильвия. Я твой внук, государь. Призови Фаустула, он подтвердит тебе это и доставит доказательства.
Поражённый Нумитор пристально посмотрел на юношу. Его сходство с дочерью было несомненным, а мощь и красота фигуры могли говорить о родстве с богом. Или с Асканием? Именно такими он желал видеть своих погубленных Амулием внуков, такому желал бы оставить родную Альбу. На глазах старика выступили слёзы. Бессмертные боги! На закате жизни, после бесчисленных неудач и потерь он снова может познать радость и надежду. Его первым порывом было встать и обнять юношу, но он сдержался и, сохраняя внешнее спокойствие, обернулся к Люцию:
— Помести Рема в гостевых покоях, пусть его накормят и примут с почётом. Потом возвращайся ко мне.
Рема увели, и мысли Нумитора перешли от переживаний к политике. Близнецы, пусть даже самозванцы (во что он не верил), могли стать могучим оружием против Амулия. Ко времени, когда Люций вернулся, у царя уже был готов план действий.
— Прикажи объявить, что завтра в начале первой четверти дня я созываю Народное собрание. Пусть к этому времени все граждане приходят на площадь перед храмом Юпитера. Сделай так, чтобы об этом и о появлении детей Реи узнал и Амулий, но позже всех, иначе может помешать. Завтра мы дадим ему бой.
Занятый своими заботами Ромул в последнее время почти не виделся с Ремом, у того и у другого жизнь наладилась: Рем нанимался на охрану товаров и совершал дальние походы с этрусскими караванами, Ромул продавал лес, готовил пашни, запасал брёвна для строительства городских стен, засевал первые земельные наделы. Население лагеря росло, теперь в нём было уже больше семисот человек, но и работы и пищи хватало. Ромул принимал всех, даже скрывшихся преступников и беглых рабов, но тех, кто нарушал установленный им порядок, без жалости изгонял.
В это утро он как раз думал, не послать ли к брату гонца договориться о встрече, когда в лагерь на загнанном коне влетел Фул и сообщил об аресте Рема. Он выехал на рассвете и достиг лагеря рано. Лесные люди ещё только подкреплялись после сна.
Рема надо было выручать. Ромул позвал Юлия и Квинта и рассказал о постигшей брата беде.
— Дело идёт не только о спасении Рема, — решительно заявил он. — В Альбе может начаться гражданская смута, там созывают Народное собрание, и нам нельзя остаться в стороне. Если Нумитор победит Амулия, а мы ему поможем, Альба Лонга станет нашим другом и опорой. Могут произойти и более выгодные нам события. Поступим так. Сейчас у нас только десять верховых лошадей. Я с девятью воинами немедленно скачу в Альбу. Ты, Юлий, собери отряд, человек пятьсот, вооружённых только спрятанными под одеждой ножами. Вы должны будете войти в город, не напугав горожан, поэтому не бери неопрятных и вспыльчивых. Когда соберёшь, быстрым шагом иди к воротам Альбы, там я оставлю связного с указанием, что делать дальше, либо Фула, либо кого-то из конников. А ты, Квинт, с остальными готовься к обороне лагеря. Все работы на сегодня отменяются. Если нас схватят, альбанцы могут добраться и до вас.
Через небольшое время одиннадцать всадников помчались к Альбе через сырой от росы весенний лес.
Глава 16. КЛЯТВА ФАУСТУЛА
Юноши явились со всем отрядом на
сходку и приветствовали деда,
называя его царём; единодушный
отклик толпы закрепил за ним
имя и власть царя.
Тит Ливий. ИсторияЧасть граждан оповестили о созыве Нумитором собрания ещё вечером, часть рано утром, и когда глашатаи Амулия стали кричать, что никакого собрания не будет, было уже поздно. Полторы тысячи граждан сошлись на площади в середине города. Храм Юпитера, квадратное каменное здание без передней стены, стоял на возвышении, небольшом отроге склона, срезанном строителями. Это была единственная в Альбе постройка с черепичной крышей. В её задней части, за статуей бога располагалось хранилище городской казны. На площадке перед храмом возвышался каменный алтарь, сюда принесли царские кресла и скамьи для членов Совета.
Глашатаи не называли причины собрания, но в толпе уже говорили о появлении одного из сыновей Реи Сильвии и о том, что он арестован за кражу коня. Слух обрастал противоречивыми подробностями, многие склонялись к тому, что Нумитор хочет провозгласить вора царём и сместить Амулия. Кое-кто считал, что Нумитор пошёл на хитрость и сам предложил юноше, осуждённому на казнь, объявить себя потомком Марса, а тот, естественно, согласился. Другие заявляли, что давно догадывались о спасении близнецов: недаром же говорят, что Рее удалось спастись, и Амулий держит её в тюремной башне под видом помешанной по имени Илия. И действительно, если в истории с близнецами участвовал бог, то не мог же он допустить гибель избранницы и своих детей...
Ромул с воинами приехал в Ференту и спрыгнул с коня у родной землянки. Растерянный Плистин бросился ему навстречу. Из сбивчивой речи дяди Ромул понял, что собрание вот-вот начнётся, а Фаустул исчез.
— То есть как это исчез? — изумился Ромул.
— Утром Фаустул пошёл к Нумитору, — стал объяснять Плистин, — я немного задержался покормить гусей, а тут прискакал человек Нумитора. Оказывается, брат к царю не пришёл, и стражи ворот его не видели. Не понимаю, куда делся?
— Зато я понимаю, — сказал Ромул. — Его похитил Амулий.
— Зачем?
— Плистин, Амулию нужно доказать, что Рем самозванец, а Фаустул — единственный, кто может доказать обратное.
— Так ты знаешь, что вы дети Реи?
— Да, и я, и Рем. Нам это перед смертью сказала Акка. Я думал, мне придётся выручать брата, а оказалось, ещё и отца.
— Что же теперь делать?
— Давай подумаем, — Ромул помолчал. — Где мог Амулий спрятать Фаустул а? Скорей всего, в подвале тюремной башни. Слушай, а правда Тарпей когда-то служил в нижней крепости?
— Да, — кивнул Плистин.
— Ждите здесь, я съезжу к нему.
Один из воинов отдал коня Плистину, и через некоторое время Ромул со своими конниками, Фулом, Тарпеем и Плистином спешились на лугу у восточного края города.
— А как ты узнал про подземный ход? — спросил Ромула Тарпей.
— Догадался. Как иначе Амулий мог поместить пленника в башню, минуя городские ворота?
— А с чего ты взял, что Фаустул в башне? Его могли спрятать и не в городе, — возразил Плистин.
— Вряд ли, — отмахнулся Ромул. — Царь до этого не додумается. Так где вход в подземелье?
— Я говорил, что ход начинается в подвале башни, но где выход, не знаю, — хмуро ответил Тарпей.
Ромул огляделся. Вряд ли ход стали копать вверх. Скорее вниз или вправо. А выход, чтобы можно было незаметно пройти, должен быть в лесу. Ближе всего лес подходил к городу как раз на уровне тюремной башни.
Оставив троих воинов с конями, он повёл остальных к опушке и приказал им искать следы.
— Похоже, тут что-то тащили, — позвал его Фул.
Там, где он указал, трава была примята, а на серой песчаной проплешине виднелись бороздки от мелких камешков. Спасатели бросились осматривать землю рядом с найденным следом.
— Раздавленное гусиное яйцо! — крикнул Тарпей, уже войдя в лес.
— А вот ещё одно, целое, — подхватил забравшийся выше Плистин.
Ромул побежал вверх и заметил в кустах выше находок кучу рассыпанных яиц и перевёрнутую корзину, ту самую. Ромул осторожно поднял и осмотрел её. Дураки! Выкинули главное доказательство. А сверху уже кричали о найденном входе.
Ромул узнал у Тарпея, что в подвале башни хорошо слышно то, что происходит за дверью. Он выдал Тарпею пять серебряных драхм из выкупа за Тивула и послал его в .город ко входу в башню. Там бывший стражник должен был отвлечь дежурного игрой в кости. Сам Ромул с Фулом и Плистином собирался проникнуть в подвал и освободить Фаустула. Ромул первым протиснулся в низкий овальный лаз и стал подниматься в темноте, ощупывая корявые скальные стены. Ход был не очень длинным и привёл в тупик. Ромул поднял голову и заметил слабые полоски света — щели между досками крышки. По выбоинам в стене колодца он поднялся, осторожно сдвинул крышку и высунул голову наружу. В лицо ударил тошнотворный запах. Ромул увидел узкое помещение с глухими выходами камер по бокам и лестницей наверх, за которой горели просветы в щелях наружной двери. Он спустился к спутникам, ждавшим его у начала колодца, и шёпотом приказал им затаиться.
Наконец сверху донёсся звучный голос Тарпея. Сперва прозвучали приветствия, потом началась игра с прибаутками и шутливыми упрёками в жульничестве. Пора. Ромул сдвинул крышку и вылез в коридор, за ним последовали двое воинов. Ромул пошёл по подвалу вдоль правой стены, осторожно сдвигая засовы и приоткрывая тяжёлые двери. Плистин двигался вдоль левой. Камер было восемь, по четыре с каждой стороны, они освещались дырами, пробитыми в потолке. Две первых оказались пустыми, в третьей на соломе лежала женщина, запястья которой сковывала толстая цепь.
Женщина устало приподняла голову, и Ромул узнал Илию, вдову Агиса, свою настоящую мать. Он прикрыл дверь, хотел заглянуть в последнюю камеру, но Плистин знаками показал, что нашёл пленника, и исчез за дверью. Ромул вернулся к матери и зашептал:
— Держись, сейчас мы вытащим тебя отсюда через подземелье. Ты прикована к стене?
— Нет. Цепь только на руках. Кто ты?
— Я Ромул, твой первый сын, один из близнецов. Дай я помогу тебе встать.
— А где второй?
— Рем в городе. Тише, пойдём.
Они вышли в проход, там уже стоял освобождённый от верёвок Фаустул. Ромул закрыл задвижки на двери камеры и осторожно подвёл пленницу к колодцу.
— За мной, — шёпотом приказал он. — Проверьте засовы и не забудьте задвинуть крышку.
Рея лежала на траве под солнцем и дрожала так, что у неё стучали зубы. Ромул насилу успокоил её. Цепь удалось снять только с левого запястья.
— Вот что, Плистин, — решил Ромул, — отвези Рею к нам домой, дай ей умыться, накорми, пусть немного отдохнёт. Вот тебе деньги, купи у кого-нибудь из соседей чистое платье. Негоже царевне ходить в тряпье. Как только она сможет, идите в город на площадь. Стойте в толпе, пока о Рее не зайдёт разговор, а тогда сами решите, что делать.
— А цепь?
— Пусть держит конец в правой руке и прячет под одеждой. Без кузнеца цепь не снять. А нам с тобой, отец, — повернулся он к Фаустулу, — пора в город.
— И сразу к царскому помосту? — спросил тот, пряча под одеждой заветную корзинку.
— Нет, вначале постоим в сторонке, подождём нужного момента.
Фаустул кивнул. Ромул привык, что ему подчиняются люди намного старше и опытнее его: он умел думать и часто находил удачные неожиданные выходы из трудных ситуаций. Пока Фортуна явно благоволила. Но что будет дальше?
Рее помогли сесть на кобылу впереди Плистина, и они поехали в Ференту. Остальные поскакали к воротам, кроме воина, уступившего Фаустулу коня. У ворот они спешились. Ромул оставил Фула снаружи сказать Юлию, чтобы его люди без лишнего шума оттеснили стражу от ворот, вошли в город и встали позади горожан. А дальше будет видно, что делать.
Отрядив двоих воинов с конями в Ференту, Ромул с Фаустулом и остальными вошёл в ворота, которые выходили на площадь напротив храма Юпитера.
Ромул увидел толпу горожан, охватившую полукольцом возвышение храма, а справа отряд наёмников с копьями, в шлемах и панцирях. Наёмники стояли строем у городской стены почти на границе священного участка, куда нельзя было входить с оружием. Ромул помрачнел, он не ждал, что Амулий решится так откровенно пугать горожан. Перед широким проёмом храмового входа на площадке в высоких креслах восседали цари: слева Нумитор, справа Амулий. Между ними, ниже в кресле сидел фламин Юпитера Манилий — старец с бахромой седых волос вокруг лысины, который слыл образцом честности и часто решал спорные вопросы. Позади на скамье разместились члены Совета. Над алтарём ещё курился дым, вероятно, только что закончилось жертвоприношение. Ромул с Фаустулом поспели к самому началу.
Успев к началу собрания и освободив важных свидетелей, Ромул был уверен, что сможет помочь Нумитору выиграть спор, но присутствие отряда наёмников меняло дело. У Амулия был решающий довод — бросить строй копьеносцев на толпу безоружных горожан. Куда же запропастился Юлий со своим отрядом? Ромул вглядывался в толпу, пытаясь угадать, скрываются ли в ней вооружённые сторонники Нумитора, которые в нужный момент смогут противостоять воинам Амулия, но никого не находил — либо они умело спрятались, либо скорее всего их не было. Как же Нумитор решился открыто выступить против коварного брата, имеющего такой перевес сил, на что надеется?
Нумитор встал, опираясь на посох. Толпа замерла, разговоры стихли, старый царь заговорил сильным высоким голосом:
— Сограждане, я собрал вас, чтобы явить чудо. Приведите Рема, — обратился он к служителю.
На площадку гордой походкой вышел Рем в красивом светлом одеянии.
— Перед вами, граждане, — продолжил царь, — один из близнецов, рождённых семнадцать с половиной лет назад моей дочерью Реей Сильвией. Многие помнят, что тогда по указу правящего царя Амулия младенцы и их мать были подвергнуты суду Тиберина: отданы на волю реки. Все решили, что они погибли, но оказалось, бог реки знал о божественном отце близнецов и спас их. И вот перед вами мой внук, которого его приёмный отец, пастух Фаустул из Ференты, назвал Ремом.
Толпа зашумела, кто-то крикнул: «Победитель в конном бою!» Но сразу же стало тихо, когда встал Амулий.
— Не спешите верить моему брату, — начал он. — Этот юноша самозванец, мало того, он преступник, приговорённый мною согласно закону к казни за конокрадство и убийство пастуха. Сейчас свидетель расскажет о его преступлении.
Цари сели, зато поднялся фламин, который должен был вести допрос. На площадке появился конюх. Он поклонился царям, фламину, народу и потом сбивчиво рассказал, как четыре дня назад поздно вечером его помощник зачем-то вывел Ветра, лучшего скакуна Альбы, из загона. Тогда свидетель вышел вслед узнать, в чём дело, и тут прискакали двое.
— Один из них, — продолжил конюх, — заколол помощника мечом и пересел на Ветра, а второй крикнул: «Рем, скачи!» и оба они умчались, а за ними их лошадь. А вчера к табуну подъехал какой-то всадник не из здешних и сказал, чтобы мы приготовились ловить вора, он вот-вот прискачет сюда на Ветре. Так и случилось, он отозвался на имя Рем, и мы его схватили.
— Вина налицо, — подал с места голос Амулий.
Толпа одобрительно зашумела.
— Что можешь сказать в своё оправдание? — спросил фламин Рема.
— В рассказе конюха много странного, — твёрдо ответил тот. — И разве станет вор приезжать на краденом коне к месту кражи? Клянусь, я не крал Ветра, коня мне подарили, я не знал, что это Ветер, думал, это один из его потомков. Кто-то сыграл со мной злую шутку.
Снова толпа отозвалась одобрительным гулом.
— Это тот юноша, который украл коня и убил твоего помощника? — спросил фламин конюха.
— Не знаю, — ответил тот.
— Лицо? Голос? Осанка?
— Не знаю, было темно, а вор молчал.
— А кого ты сам подозреваешь? — обратился Амулий к Рему.
— Не могу сказать, — ответил Рем.
— Почему? Не может быть, чтобы человек не знал своих врагов. Значит, ты что-то скрываешь. Но честному человеку нечего скрывать. Своим отказом отвечать ты изобличил себя! Так, Манилий?
Старик суетливо огляделся:
— Так, государь. Но это не проясняет обстоятельств похищения коня. Может быть, отложим его рассмотрение и займёмся самозванством?
— Ладно, — кивнул Амулий. На этот раз он не стал подниматься, а только слегка повернулся к Рему. — Так ты, преступник, ещё смеешь утверждать, что вместе с братом рождён дочерью царя. Где же брат твой Ромул? Я слышал, он стал вожаком банды бродяг, скрывается в лесу и занят тёмными делами.
— Я здесь, государь! — крикнул Ромул, бросившись вперёд.
Люди расступились, пропуская юношу. Он взбежал по каменной лестнице на площадку, поклонился царям и фламину и встал рядом с Ремом. Ромул заставлял себя держаться спокойно и уверенно, старался говорить медленнее: нужно было тянуть время, чтобы дождаться Юлия.
— Тебе рассказали о нас небылицы, государь, — обратился Ромул к Амулию. — Мы вовсе не бродяги и живём не в лесу, а в поле около Тибра. И никакими тёмными делами мы не занимаемся.
— Чем же вы тогда живете? — спросил Амулий.
— Плодами леса, — нашёлся Ромул.
— Желудями? — съязвил царь.
— Да, государь. Только нам помогают свиньи: они едят жёлуди, а мы их.
В толпе доброжелательно засмеялись. Амулий нахмурился:
— Хватит: пора разобраться с самозванством. По какому праву вы считаете себя сыновьями Реи Сильвии?
Рем предоставил отвечать Ромулу, зная, что у того лучше подвешен язык.
— Вскормившая нас достойная Акка Ларенция, — начал Ромул, — полгода назад перед смертью открыла нам, что как раз в осень суда Тиберина нас к ней младенцами принёс в корзинке её муж, почтенный Фаустул...
— Мы собирались его допросить, — сказал Амулий. — Но он сбежал, как видно, побоялся стать лжесвидетелем.
— Я здесь, — крикнул из толпы Фаустул.
Он двинулся к храму, прижимая к груди заветную корзину, и поднялся к судьям. Амулий сделал знак рукой и к нему подбежал человек в шлеме, в котором Ромул узнал командира стражи Сервия. Одними губами беззвучно царь произнёс проклятия и спросил:
— Ты, Сервий, был послан свершить суд Тиберина. Расскажи всё как было.
— Я готов. Гней Клелий передал мне закрытую корзинку весом примерно в десять мин. Я отвёз её к Тибру, принёс бескровную жертву Тиберину и отдал цисту ему на волю.
— Она утонула?
— Скорее всего, да. Но сам я этого не видел, корзинку сразу унесло течением.
— Все слышали? — грозно спросил Амулий. — Корзина утонула. Значит, перед нами самозванцы.
Но тут со скамейки советников поднялся Гней:
— Я был тогда на Тибре пару дней спустя. В те дни река была многоводной и вполне могла занести корзинку в какую-нибудь заводь, и, вернувшись в свои берега, оставить на суше. Ведь суд Тиберина не казнь, а передача решения божеству.
— Вы что, сговорились мешать мне? — рявкнул Амулий.
— Пора допросить Фаустула, — вмешался Нумитор. — Начинай, Манилий.
— Расскажи, как было дело, — обратился к Фаустулу Манилий.
— Жена родила мёртвую девочку, она очень горевала, груди её были полны молока. Я молился богам о чуде. Я нашёл корзинку с двумя младенцами и принёс домой. Потом я увидел на корзинке соединённые буквы «А» и «М», знак Амулия, и понял, что корзинка из дворцового хозяйства. Вот она, — пастух протянул цисту Манилию. — Посмотри сам, какая она старая: кожа покоробилась и треснула. Разве стал бы я хранить эту рухлядь, если бы близнецы были моими родными детьми?
Манилий стал разглядывать корзинку, а Амулий, сверля пастуха взглядом, потребовал:
— Выкладывай подробности. Где ты нашёл цисту?
— У воды, государь, под старой смоковницей. На ней ещё сидел дятел...
— Птица Марса! — крикнул кто-то в толпе.
— Ты сейчас скажешь, что он кормил близнецов червяками? — усмехнулся Амулий.
— Этого я не видел, государь, — ответил Фаустул, — зато видел, как волчица кормила их своим молоком.
— Сказки, — заявил Амулий и обратился к фламину: — Заставь его, Манилий, всё это повторить под нерушимой клятвой богу Правды.
Фламин положил корзинку на кресло, подошёл к алтарю, прошептал молитву, повернулся к Фаустулу и проговорил грозным голосом:
— Сейчас, пастух, ты принесёшь страшную клятву богу договора Семону Санку. Помни, одно слово лжи — и ты ослепнешь, или станешь паралитиком, или умрёшь на месте! Иди сюда.
Фаустул твёрдой походкой подошёл к алтарю.
— Накрой голову полой одежды и повторяй за мной.
Фаустул повиновался и вслед за Манилием повторил:
— Если я, Фаустул из Ференты, скажу неправду, да падёт на меня кара Семона Санка.
— А теперь клянись.
Толпа замерла. Фаустул, склонив накрытую полой голову, медленно заговорил:
— Что младенцев мне никто не давал, клянусь. Что нашёл цисту с ними у воды, под старой смоковницей, клянусь. Что видел на ней дятла, клянусь. Что видел, как их своим молоком кормила волчица, клянусь.
Фаустул откинул край плаща с головы и выпрямился, по его лицу струился пот. Собрание взревело, послышались крики: «Он сказал правду! Дети Марса! Утопили невинную!» Какой-то пастух пробирался через толпу к храму, расчищая дорогу бледной измождённой женщине в крестьянской одежде. Вот они подошли к возвышению, и женщина, пряча в складках платья правую руку, поднялась по ступенькам на возвышение.
— Мои дети! — закричала она и кинулась к братьям.
— Дочь, Рея! — вскочил Нумитор.
Амулий повернулся к всё ещё стоявшему рядом Сервию и прошипел:
— Ты мне за это ещё ответишь. А сейчас разгоняй собрание!
Царь сказал это тихо, но Ромул услышал и весь напрягся, понимая, что на этот раз удача ему изменила. Вот сейчас воины, потрясая мечами, бросятся на толпу, горожане разбегутся, а все, кто на возвышении, окажутся в руках Амулия. И тут он увидел, как из ворот на площадь выбегает толпа его воинов, которых становится всё больше. Наконец-то.
— Юлий! — закричал Ромул. — Встаньте между войском и горожанами. Живее!
Раздались крики, юноши, обходя толпу, помчались к городской стене. Военные учения в лагере не пропали даром: Юлий моментально построил их в четыре ряда спиной к толпе, отрезав воинов от горожан. Ромул, отдавая этот приказ, рисковал всем. Он бросил четыре сотни практически безоружных против сотни вооружённых копьями. Столкновение могло кончиться плачевно, но другого выхода не было: он надеялся, что Сервий не решится вместо разгона мирных граждан вступать в битву с отчаянными юнцами, которых горожане могли поддержать.
Расчёт Ромула оправдался. Сервий не отдал никаких команд и не тронулся с места.
— Что происходит? — вскочил Амулий.
— Ничего страшного, государь, — ответил Ромул. — Просто мои друзья будут на время собрания охранять порядок. А к тебе у меня есть вопрос. Ты говорил, что честному человеку нечего скрывать. Зачем же ты украл Фаустула и Рею Сильвию и заточил их в подвале тюремной башни? Сегодня утром я освободил их оттуда.
— Я никого не крал, — нахмурился Амулий.
— Слушайте все, — обратился к толпе Ромул. — Знаменитый разбойник Кальпур предложил Амулию похитить Рею Сильвию. Тиберин не счёл её виновной, она спаслась и жила под именем Илии в Габиях с мужем греком Агисом и тремя детьми. Мы с Ремом учились в Габиях, встречались с ней, но не знали, что она наша мать. Там же мы видели Кальпура. Он под видом купца Герула ходил в дом Агиса. Он узнал Рею и предложил Амулию за плату украсть её. А царь отдал двойную плату за то, чтобы Кальпур ещё убил бы её мужа и детей. Разбойник пришёл в дом Агиса, опоил всех сонным зельем, увел Рею, а остальных сжёг вместе с домом!
— Ложь, — ледяным тоном ответил Амулий. — Наглая ложь. Откуда ты мог такое узнать?
— Кальпур сам рассказал это перед тем, как Рем убил его в поединке, мстя за наших сводных братьев и сестру. Рем тоже слышал это.
— Ложь. Ты и Рем сговорились против меня, у вас нет независимого свидетеля.
— Есть! — шагнул вперёд Сервий. — Я через дверь слышал твой разговор с Герулом. Ты сказал: «Плачу вдвое, но убей ублюдков и их отца».
— Изменник! — взвизгнул Амулий, но тут к нему бросилась разъярённая Рея.
На её правом запястье висела цепь, конец которой был зажат в кулаке. Она хотела что-то сказать, но не смогла, и тогда взмахнула цепью и изо всех сил хлестнула ею царя. Удар пришёлся в голову, Амулий охнул и вместе с креслом повалился на бок.
— Это тебе за детей! — наконец выдавила Рея.
Братья подхватили мать, старейшины столпились вокруг Амулия. Нумитор подошёл к телу брата, повернулся к народу и проговорил:
— Кровь погубленных младших детей Реи, моих внуков, отомщена. Мой преступный брат мёртв. Я принимаю власть над Альбой Лонгой и отныне считаю старших детей Реи, Ромула и Рема, моими наследниками.
По толпе прокатился шум, словно порыв сильного ветра налетел на вершины соснового леса. Люди постепенно стали расходиться.
— Подождите! — тонким голосом закричал Манилий. — Мы не закончили дело о краже коня!
Наступила тишина. Через мгновение её нарушил Ромул:
— Высокий суд! — обратился он к Манилию. — Поскольку доказано, что Рем внук Нумитора, а конь и убитый раб-пастух являются его же имуществом, это дело подлежит семейному суду, и его должен решать в частном порядке глава семьи, то есть Нумитор. Не так ли, достойный Манилий?
— Ты прав, юноша, — согласился фламин. — Собрание закончено!
Нумитор подозвал Гнея:
— Устрой большое угощение для людей Ромула где-нибудь у Ференты на берегу озера. А Ромул тебе поможет там их собрать.
Горожане, обсуждая случившееся, стали покидать площадь.
Глава 17. ДОГОВОР
Ромул... всё создавал заново, и только
так приобрёл себе страну, отечество,
царство, никого не губя, благодетельствуя
тех, что из бездомных скитальцев желали
превратиться в граждан, в народ.
Плутарх. РомулНад Альбанским озером взошла луна и отразилась в воде, по которой сонный ветер гонял пятна ряби. На берегу горели десятки костров, пахло жареным мясом, аппетитный дым расстилался над берегом и плыл к Ференте. Лесные люди, сидя на траве, пировали у огня, слуги суетились, разливая вино и подкладывая еду в глиняные блюда.
Выше под дубом стоял длинный царский стол, уставленный серебряной посудой. Кресло Нумитора поставили так, чтобы ему был виден берег и костры пирующих, справа от царя сидел Рем, за ним Гней, Люций, Фаустул, Плистин и Тарпей. Слева от Нумитора устроилась Рея-Илия, по-царски одетая и наконец-то освобождённая от цепи, рядом сели Ромул и его друзья — Юлий, Туск, Фул и Анк. Анк приехал днём узнать о судьбе пропавшего Ромула. Накануне Секст, вернувшись с прогулки, объявил, что Рем убит, и отныне он вожак отряда, но ему не поверили, заперли, а альбанца Анка послали на разведку.
Рем излагал Гнею свой план создания конного войска, Плистин в который раз пересказывал Фаустулу подробности его освобождения, а тот хвастался своей изобретательностью. Пастух положил в цисту гусиные яйца, чтобы избежать расспросов, зачем ему нести в город пустую корзинку. Юлий держался как победитель: действительно, быстрота и слаженность действий его отряда переломили ход событий.
— Знаешь, почему Марс выбрал тебя? — шепнул Ромул матери. — Потому что ты самая красивая женщина на свете. Даже красивей Герсилии.
— Герсилии? — переспросила Рея. — Ты знал её? Ту, которую отец продал сабинскому князю?
— Да, в то лето я был её тайным мужем, — вздохнул Ромул. — Если бы не это, мы бы поженились.
— Бедный мальчик. Ты любишь её, а обязан забыть.
— Нет, мы связаны страшным заклятьем, и я ещё её завоюю.
— Ах, сынок, — грустно улыбнулась Рея, — ты однолюб, наверно, пошёл в меня. Ты знаешь, что Агис это Асканий? Мы любили друг друга ещё до того, как он покинул Альбу. Он не забыл меня, спас и взял в жёны. Но не следовало мне после бога идти за него замуж. Асканий сказал, что в Дельфах он узнал от пифии волю богов, разрешивших наш брак. Но теперь я поняла, что он меня обманул. Любовь была, а оракула не было. Наивный, он играл с огнём, и этим огнём погубил нашу чудесную жизнь. Конечно, это сделали Кальпур и Амулий, но, согласись, то было наказание Весты. Я думаю вернуться к служению богине, если только Порция меня примет...
Солнце через окна врывалось в комнату приёмов дома Нумитора. Тронное кресло было пустым, Нумитор сидел за столом между Люцием и Гнеем. Напротив, спиной к свету, разместились Рем и Ромул, сбоку склонился над вощёными досками писец Приск. Обсуждался договор между дедом и царственными внуками.
Рем торопился с отъездом, ему предстояло навести порядок в своей команде. Он требовал от Нумитора признать его наследником альбанского престола и, кроме того, просил средств на создание конного войска из 415 человек. О престолонаследии договорились сразу, но с войском вышла заминка.
— Опомнись, — возражал Нумитор. — Твои замыслы смелы, но невыполнимы.
— Альба с трудом может содержать сотню наёмников для защиты города, — добавил Гней.
Рем не обратил внимания на его слова.
— Поймите, как только войско возникнет, оно станет кормить и себя, и Альбу! — настаивал он. — Мы обложим данью Габии и Пренесту, завоюем Вей.
— Хорошо, согласен содержать сто конников половину года.
Начался торг. Сошлись на содержании сотни в течение года.
— Надеюсь, ты ещё при моей жизни набьёшь себе шишек и откажешься от этой затеи, — вздохнул Нумитор.
Рем попрощался и вышел, доверив Ромулу заключить договор и за него с соблюдением положенных обрядов.
— Ну, а чего хочешь ты, вожак лесного народа? — улыбнулся царь. — Я предпочёл бы, чтобы после меня Альбой правил ты, а не Рем. И это ещё не поздно сделать, поскольку он доверил тебе скрепление договора.
— Нет, — покачал головой Ромул. — Если бы это было полгода назад, я бы согласился, но не теперь. Мне доверились люди, которых Альба не примет, мы хотим основать новый город и новую общину, и я не могу их бросить.
— Жаль, — сказал Нумитор. — Так чем же я могу тебе помочь?
— Двумя вещами. Во-первых, я хочу, чтобы ты, когда наш город будет основан, признал его независимой общиной и не оспаривал принадлежность ему окрестных земель. А во-вторых, хотел бы получить часть святынь Энея, чтобы новое поселение было прочным и любимым богами.
— Ну, что ж, — кивнул Нумитор. — Ты вернул Альбе справедливость, а мне дочь, то, что ты просишь, не такая уж щедрая плата за это. Что ещё?
— Ещё мне понадобятся семена, тягловый скот, лемехи для плугов. Кое-что я смогу оплатить, что-то приму в подарок. Сейчас я не готов всё перечислить, но обещаю, что тебе не придётся нас содержать. Да, и ещё одно. Не сыщется ли у тебя совершенно белого быка и такой же коровы? И мастера, который сделал бы бронзовый лемех, чтобы я смог обвести город священной бороздой?
— Всё это будет у тебя, мой мальчик, — растроганно проговорил Нумитор и добавил. — Как странно: хоть вы с Ремом близнецы, но насколько ты взрослее его!
Послесловие
Древний Лаций представлял собой заросшую лесами приморскую местность восточней Тибра, текущего с севера, который служил границей между землями латинов и этрусков, и южней впадавшего в Тибр Аниена, за которым жили сабины. На Аниене в тридцати км от Рима у древнего города Тибура (теперь курорт Тиволи) бурлил знаменитый каскад. В середине этой равнины поднималась Альбанская гора (теперь Монте-Каво), в то время тоже покрытая лесом, — потухший вулкан высотой шестьсот метров и поперечником в двадцать километров. На её плоской вершине с древних времён латины поклонялись Юпитеру, а позже был построен величественный храм. С севера к горе примыкает гряда холмов — остатки края огромного древнего кратера, они огораживают долину, где стоял город Тускул и по которой позже шла Латинская дорога от Рима на восток.
От юго-западного склона горы отходят две лавовые террасы боковых кратеров. На месте первого кратера лежит Альбанское озеро, над которым вытянулась Альба Лонга. Время не пощадило родины Ромула, её разрушил, переселив всех жителей в Рим, третий римский царь Тулл Гостилий, внук Гостия Гостилия, первого мужа Герсилии, правивший с 672 по 649 г. до н.э.
Чашу второго, меньшего кратера, лежащего восточнее и ниже среди священного леса, заполняло небольшое Неморейское озеро (оно же Неми, Арецийское, Зеркало Дианы). Здесь стоял знаменитый храм Дианы, у стен которого долгие столетия разыгрывались кровавые сцены смены жрецов, связанные с охраной Золотой ветви. Известный английский этнолог Джеймс Фрэзер (1854-1941) в честь неё дал название «Золотая ветвь» своему главному труду по истории религий. Этот дикий древний обычай получения титула Царя Леса путём убийства предшественника соблюдался ещё во II в. н.э.
Существовала и священная Ферентинская роща, где собирались главы Союза тридцати латинских городов, и северный источник, навевавший вещие сны, который упоминает в «Энеиде» Вергилий.
Не являются чистым вымыслом и описанные в романе этрусские обычаи, имена богов и предметы быта. Роспись со сценой травли человека псом найдена в одной из этрусских гробниц (правда, не в Габиях). Существует и бронзовое зеркало с изображением пары влюблённых в окружении демонов смерти, на другом зеркале изображён ритуал вбивания гвоздя, который упоминается и в одной из расшифрованных этрусских надписей.
Несколько слов о стихах. Только одно из них: «Выхожу я на поляну...» не имеет римского аналога, остальные опираются на произведения римских поэтов Горация, Овидия и Вергилия. В ряде случаев я лишь ненамного изменял их существующие русские переводы. Приведённый в романе кусочек поэмы Агиса представляет собой пересказ начала Седьмой книги «Энеиды» Вергилия. Здесь я заменил тяжёлый гекзаметр, которым пользовался Вергилий, другим размером, взятым у Горация. Последняя строфа, «написанная Агисом», - пересказ последней строфы Двенадцатой книги «Энеиды», закончить которую поэту помешала смерть.
Конечно, исторические источники дают только канву событий, которой я старался по возможности следовать…
Отцы-основатели
Глава 1. НАЧАЛО
Холм на восточном берегу реки, по которой проходила граница с этрусками, был крутым, но плосковерхим — самое место для крепости. Вокруг поднимались соседние холмы, одни слишком пологие, неудобные для обороны, другие, наоборот, чересчур островерхие. К юго-востоку до горизонта тянулся буковый лес, вершины сливались в ровный ковёр, лишь кое-где проглядывали вырубки возле посёлков. Если на беду соседи с того берега окажутся слишком воинственными и хорошо вооружёнными и их не удастся ограбить, в лесу можно было, хоть и не без труда, расчистить отличную пашню и выращивать собственный ячмень.
И всё-таки зря близнецы решили отметить границы нового лагеря со всеми сложными обрядами, с какими полагается основывать город. Окажись место несчастливым, его будет трудно бросить из-за того, что оно освящено, и начнутся бесконечные задержки. Стоя в толпе на вершине в ожидании начала обряда, Марк попробовал поделиться сомнениями с соседом. Тот, конечно, ответил, что были удивительные значения: даже предположить неудачу — кощунство.
— Нельзя говорить такое вслух, — сердито добавил он, — а то какой-нибудь бог услышит. Но если только глупые юнцы вроде тебя не станут специально навлекать на это место беду, оно непременно будет счастливым. Ведь нас ведут сыновья Марса, выкормленные его волчицей. Когда ты в последний раз видел коршуна? В наших краях это редкая птица, а близнецы сегодня насчитали восемнадцать, что ты на это скажешь? А ещё вон на том бугре копают ров для внешних укреплений, и знаешь, что там нашли?
— Нет. Копать-то начали всего часа два назад, а я держался подальше, чтобы мне тоже не сунули мотыгу. И что нашли, горшок золота?
— Нет — куда более великое знамение. Из нетронутой земли выкопали человеческую голову, только что отрезанную, из неё ещё шла кровь. Знаешь, что это значит? Когда-нибудь нашей крепости подчинятся все окрестные земли! Близнецы уже решили назвать холм Капитолием, чтобы память о пророчестве никогда не исчезла.
— Чья же это была голова, — осторожно поинтересовался Марк, — где всё остальное?
Он знал, что такой вопрос рассердит любого истово верующего, но ему, простому бедному воину, претила сама мысль, что вожаки тайно приносят человеческие жертвы: как бы однажды не добрались до него.
— Дурень, голова была ничья. Её послали боги, чтобы показать, какое у нас будет счастье. А ты разве не с нами, не рад общей удаче?
— Я здесь не от хорошей жизни. Пришёл ниоткуда, туда же и уйду; вступил в отряд Рема, потому что меня выгнал отец. У меня есть щит и копьё, а когда будем сражаться, убью богатого врага и добуду меч, я стою своего места в строю и доли добычи. Но раз я подчиняюсь Рему, эта крепость не моя.
— Как же не твоя? Рем признал знамения, его люди будут жить там, где указал Ромул. И не говори «крепость», это город. Смотри, его как раз делают городом, вон вождь с плугом. Замолчи, а то боги не расслышат молитвы!
Марк с радостью кончил разговор. Он был не в духе, а сосед оказался преуспевающим и набожным любителем давать хорошие советы. Марк таких терпеть не мог, он считал, что этим упитанным богобоязненным пахарям нечего делать в банде с отчаянными удальцами, которые решили умереть молодыми или разбогатеть. Спор непременно перешёл бы в ссору, а дойти до драки, ясное дело, кого бы выгнали. Все вожаки за богатых и против бедных, а родичей, которые заступились бы за него на этом приграничном холме, у Марка не было.
Лет семнадцати, тонкий, смуглый, ещё по-мальчишески нескладный, он был одет только в оборванную тунику и чинёные сандалии, но чисто вымыт, подстрижен и причёсан. На его руке, чуть ниже локтя, виднелась мозоль от лямки щита, знак настоящего мужчины; Марк то и дело на неё поглядывал.
Сейчас он слушал молитвы в угрюмом молчании. Обряд для него ничего не значил — не ради этого он оставил дом. Ну, не совсем «оставил», потому что ушёл он не по доброй воле. Отец поступил опрометчиво, когда, сам пожилой, женился на молоденькой, а Марк не сделал мачехе ничего противозаконного. С другой стороны, к этому неизбежно пришло бы, останься они под одной крышей, так что отец имел полное право отослать. В сущности, он поступил милостиво: мог бы подождать, пока застигнет их вдвоём, и забить обоих насмерть с полного одобрения соседей. А он просто отправил непутёвого младшего сына искать счастья, пока не случилось ничего серьёзного. И всё-таки эта женитьба отца принесла Марку неудачу.
Случайно он примкнул к отряду Рема — лишний знак, что не везёт. В конце концов вожаки же близнецы, оба сыновья Марса, оба вскормлены волчицей, к обоим на редкость благосклонны боги. Кто мог месяц назад догадаться, что Ромул настолько затмит брата и оттеснит его от власти? В Альбе Рем слыл даже более отважным разбойником.
Марк молча размышлял о странной истории со знамениями. Ромул солгал, тут нет никакого сомнения, но боги тем не менее явно его предпочли. Это случилось совсем недавно, на рассвете, и по отряду ещё ходили всевозможные слухи, но Марк всё слышал своими ушами — он стоял возле Рема вместе с другими телохранителями. Братья с утра отправились каждый на свой холм, обвели изогнутыми жезлами священные участки для гадания по птицам и сели ждать. И скоро Рем увидел шесть коршунов со счастливой стороны; знамение замечательное, ведь коршун, как известно, самая удачливая птица в Италии — никогда не охотится, но живёт в своё удовольствие. Кроме того, коршуны редки, никто на холме ещё не видел сразу шесть. Естественно, Рем послал за братом, чтобы рассказать ему об удивительном знаке божественной милости.
В ответ Ромул передал, что зовёт его на свой холм, потому что видел ещё более великое знамение. Вот тут-то, понял Марк, они и просчитались. Рему надо было оставаться на месте и потребовать подробного рассказа, а он вместо этого подчинился. Оттого только, что по слухам Ромул на несколько минут старше — как будто между близнецами может быть речь о старшинстве! А когда Рем добрался до этого дурацкого крутого холма, где все сейчас стоят, ему было нагло сказано, что Ромул пока ничего не видел, но уверен, что скоро будет хорошее знамение.
Всем стало ясно, что Ромул обманщик и лжец, что он не хочет признавать явного знака богов, которые заступились наконец за его бедного одураченного брата. Тут и пришёл бы конец его притязаниям на власть. Но с богами не поспоришь, а они часто помогают последним негодяям. Пока простые воины пререкались, а начальники пытались их унять, Рем стал взбираться обратно на вершину к своему священному участку и едва успел ступить туда, как перебранка внизу сменилась изумлёнными криками. Справа, со счастливой стороны, на глаза у всех показалась целая стая коршунов, не меньше дюжины. Рем со своим отрядом видели их без обмана. Просто потрясающе, сколько коршунов водится в этих краях! Но они и пришли гадать по птицам, потому что так по правилам предков надо выбирать место для крепости, и выбор не оставлял никаких сомнений: все поселятся на холме, который выбрал Ромул.
Теперь он в одиночку отмечал границу города, который должен простоять века; а ведь они не это имели в виду, когда согласились построить у самой реки укреплённый лагерь. Этруски на том берегу богаты, известно, что их стоит грабить, но вдруг они окажутся слишком сильными? Опасный лагерь можно бросить, но убежать из только что основанного города — позор; теперь оба отряда будут связаны обязательствами, хотя людей Рема даже не спросили.
Вдобавок Ромул совершал обряд один, точно единоличный вождь, а не просто старший из двух. Он закончил молитвы и теперь вёл священным бронзовым плугом борозду, на которой потом встанут укрепления. Толпа помощников держала упряжку, потому что бык и корова всегда плохо работают вместе, даже белоснежные, посвящённые богам и уже украшенные гирляндами для жертвоприношения. Но никто не помогал Ромулу справляться с тупым бронзовым лемехом, остатком древних обычаев, который сохранился теперь только в священнодействиях.
Со скрытой усмешкой Марк подумал, что этот обряд — чепуха, как все суеверия, и если действительно подражать древним, надо копать обожжённой палкой, как это до сих пор делают дикари на юге. До этого утра Марк мог похвастаться, что не боится богов, а то и вовсе в них не верит; но историю с коршунами нелегко было объяснить, и сейчас он начал сомневаться. А что касается рассказов о чудесном рождении и детстве близнецов, он не из-за этого пошёл к Рему. Тот набирал отряд переселенцев, а Марку надо было срочно убраться подальше от отца и мачехи, и только.
Жрицы, посвятившие себя богам, время от времени к негодованию верующих рожают детей, хотя пара мальчишек, пожалуй, это слишком. Если Рея Сильвия смогла убедить старейшин, что её честь не запятнана, а виноват невоздержанный бог, тем лучше для неё. Однако впредь благоразумнее было бы не полагаться так на её ничем не подкреплённые слова. Вполне может быть, что близнецы — действительно дети Марса, но уж очень кстати пришлось это оправдание их матери.
В то, что братьев выкормила волчица, Марк отчасти верил — об этом ему рассказал сам пастух Фаустул, который нашёл их покинутыми в колыбели. Фаустул участвовал в походе и сейчас следил за священнодействием; спокойный, рассудительный, не из тех, кто может выдумать такую невероятную историю. Впрочем, в его рассказе и не было ничего особенно невероятного — он не говорил, что дети росли в волчьем логове или воспитывались вместе с волчатами. Фаустул видел, как приспешники царя Амулия поставили колыбель на берег разлившейся реки, и незаметно отполз в сторону переждать, пока они уйдут, а когда вернулся, в ужасе увидел, что над детьми стоит волк. Однако с близнецами ничего не случилось — это оказалась волчица, готовая подставить свои набухшие молоком соски любому детёнышу. Происшествие было, конечно, очень знаменательным, но продолжалось всего пару минут. Марк однажды видел, как сука, у которой отобрали щенков, кормит крысёнка, и не сомневался, что волчица на короткое время может повести себя так же. Но в любом случае, Марс их отец или нет, волчица их выкормила или нет, командуют они на равных. Рему бы следовало идти за плугом вместе с братом, а не стоять в сторонке среди зрителей.
Ромул наметил первый угол священной ограды и поднял лемех на месте будущих ворот, когда Рем наконец перешёл к действиям. Осторожно обогнув свежую борозду, он спустился на склон. Его люди поняли, что вождь не хочет оставаться в городе своего брата, и заторопились следом. Они составляли почти половину собравшихся, так что скоро больше тысячи молодых воинов смотрели на новый город снизу, словно уже началась осада. Конечно, на самом деле это было не так опасно, поскольку всё оружие осталось под холмом в обозе — на основание города никто не придёт вооружённым.
Ромул закончил круг, накрыл голову плащом и стал молиться, а его помощники зарубили быка и корову в жертву хранителям города. Когда они закончили, Рем снова поднялся по склону, остановился у самой борозды и подбоченился, насмешливо её разглядывая. Марк стоял всего в двух шагах позади — ему интересно было послушать перебранку, а Рем не полез бы на холм, не будь у него наготове какой-нибудь неотразимой колкости.
Разделённые царапиной на земле, два вождя смотрели друг на друга. Оба двадцати семи лет, рослые, румяные, сильные, настоящие сыновья Марса, оба — проверенные предводители рвущихся в бой отрядов, оба уверены в себе, как может быть уверен лишь тот, кто пережил бесчисленные опасности и убедился, что ему помогают высшие силы. Рем выглядел к тому же более сообразительным и остроумным, а Ромул так старательно изображал благочестие, что на его правильном лице не читалось никаких мыслей.
— Вот, значит, твой город, — начал Рем, — самое время для знамения. Или боги опять запоздали? Как сегодня с коршунами, тебе пришлось соврать, прежде чем они спохватились.
— Когда я утром сказал про знамение, — ответил Ромул, — может быть, его и не было. Но ты не успел возразить, как боги сделали мои слова правдой. Знамения появляются, когда я хочу; сейчас их достаточно, поэтому новых не будет. Смотришь на стену? Ни один враг не сможет её перейти: она укреплена моим счастьем. Если хочешь в город, ступай через ворота.
— Да ну? Твоё счастье — большая сила, это нам всем давно известно, братец. Но ты, похоже, забыл, с кем имеешь дело. Я такой же сын Марса и тоже выкормлен волчицей. Ты сегодня видел больше коршунов, но всё равно командуем мы вместе. Сейчас проверим, одолеет ли моё счастье твою стену.
Марк стоял близко и почувствовал, как напрягся Рем. Даже храбрые волнуются, решившись испытать судьбу. Ромул тоже понял, что брат задумал что-то отчаянное, и тихо подал знак целерам, преданной шайке, которая поддерживала в его буйном отряде порядок. Один из целеров, сгребавший землю по краю счастливой стены, подошёл и с мотыгой на плече встал за спиной своего начальника.
— Спокойно, братец, — продолжал Рем. — Мы не хотим, чтобы твой город не удался из-за ссоры в самый день основания. И всё-таки я должен проверить, чего стоит твоё знаменитое счастье. Может, меня остановит какой-нибудь бог? По крайней мере, не эта стена. И враги её одолеют также легко! — Со спокойной улыбкой он сделал шаг вперёд и перескочил через борозду.
Он оказался возле целера. Святотатство заставило того содрогнуться.
— А с врагами мы поступаем так! — крикнул целер, взмахнув мотыгой.
Раздался хруст, и Рем упал с проломленным черепом.
Марк оцепенел, раскрыв рот. Всё произошло слишком быстро, да и вожак, которого он выбрал лишь несколько дней назад, не слишком много для него значил. Но некоторые в толпе служили Рему уже восемь лет, с тех самых пор, как он открылся деду.
— Рем убит! Хватайте убийцу! — закричали в задних рядах.
Толпа безоружных, но решительных молодых людей подступила к священной борозде. Марк хотел было спуститься вниз за щитом и копьём, это казалось самым разумным, но товарищи могли решить, что он убегает со своей первой битвы. Нашаривая за поясом нож, он стал проталкиваться вперёд.
По ту сторону борозды не было видно убийцы (он бежал к этрускам и больше не показывался на латинском берегу), но люди Ромула приготовились защищать стену. Их было больше, многие сжимали кирки и лопаты, и наступающие остановились.
Минутным затишьем воспользовался миротворец. По седеющим волосам легко было узнать Фаустула, приёмного отца близнецов, единственного на холме человека средних лет.
— Мальчики! — воскликнул он. — Что сделано, то сделано. Рема не вернуть к жизни. Хватит крови!
— За кровь надо отомстить! — раздалось сзади.
В воздухе просвистел камень величиной с кулак — кто-то из молодых пастухов вспомнил о ремешке, которым повязывал волосы, о праще, истреблявшей больше волков, чем самые лютые овчарки. Камень летел прямо в Ромула, которому плотная толпа за спиной не давала возможности уклониться; казалось, оба отряда останутся без начальников. Но Фаустул не мог допустить, чтобы погиб и второй его приёмный сын. Он метнулся вперёд, загородил собой Ромула, и камень попал ему в шею. Захрипев, он замертво свалился на землю.
Ничто не могло бы сильнее подействовать на собравшихся. Фаустул был на целое поколение старше остальных, давние соратники близнецов почитали его как отца. Кто-то затянул похоронный плач, остальные подхватили. Едва плакальщики замолчали, чтобы перевести дух, Ромул вскочил на кочку.
— Воины! — крикнул он. — Квириты, мы пришли сюда основать город на том месте, которое наполнили счастьем Юпитер и мой отец Марс — ваш отец Марс. И вот город основан, благословен знамениями более благоприятными, чем могли предвидеть величайшие пророки. Он ждёт нас. Так давайте жить в нём мирно, как друзья. Скверну братоубийства я полностью принимаю на себя, вас она не коснётся, а мне божественный отец дал достаточно счастья, чтобы с ней справиться. Тот, кто нанёс удар, бежал и не вернётся в эти священные стены. Когда мы построим жильё и выделим место для святилища, я доставлю из Лавиния святыни; когда-то ими владел праотец Эней, от которого в Италии идёт род потомков Венеры. Я покажу их вам, прежде чем убрать навсегда от человеческих глаз. Повторяю опять; нет таких бед, которые не одолело бы счастье моего города, но мы, его жители, должны быть заодно. Пусть все, кто хочет, уйдут, я их отпускаю. Но для тех, кто останется, я буду начальником, царём Рима. Вы согласны мне подчиняться?
Марк смотрел на Ромула. Тот был старше его на десять лет, зрелый человек в расцвете мудрости; в отряд Рема Марк вступил меньше месяца назад без особых мыслей. Стоит ли давать клятву мести за предводителя, которого едва знал? Главным достоинством Рема было счастье, а теперь выяснилось, что этого больше у другого брата. Марк решил верно служить новому начальнику, которого послала судьба.
Насколько было видно, никто из людей Рема не покинул холма, разве что кто-нибудь улизнул тайком. Вместе с остальными воинами Марк, тщательно обойдя борозду, вошёл в город и встал рядом с отрядом Ромула. Увидев, что угроза битвы миновала, царь опять обратился к подданным.
— Наше начинание омрачено бедой. Сегодня вечером мы возложим моего несчастного брата на великолепный костёр со всеми обрядами, какие нужны для блага его души. Всю скверну убийства я беру на себя. К счастью, вы видите, что крови не пролилось, а если кровь не попала на землю, Старухи не могут выследить виновного. Но несколько минут назад наши сердца переполняла ненависть. Прежде чем город начнёт свою жизнь, нам необходимо очиститься. Давайте соберём хворост для большого костра. Я зажгу его священным кремнём с молитвой, которой меня научил мой отец Марс, и мы все прыгнем через пламя, чтобы оставить в огне чувство вражды, недостойное сограждан.
Так и поступили. И пока воины вместе собирали и втаскивали на холм хворост, в них впервые проснулось чувство общего дела. Когда обряд закончился, Ромул распорядился, чтобы начали строить землянки и перенесли вещи из долины. Они ночевали уже в новом городе. Но когда проснулись утром 22 марта, за 753 года до Рождества Христова, им ещё многое предстояло сделать.
В эту первую весну, пока сеяли ячмень, чтобы было на чём продержаться зиму, царь Ромул нашёл время лично поговорить с каждым из подданных. До Марка очередь дошла одним из последних. Изгнанник без роду и племени, даже без собственного меча, он был в городе человеком незначительным, однако царь расспрашивал его о жизни подробно и внимательно, словно какого-нибудь вельможу.
Они беседовали в грубой бревенчатой хижине царя, сидя на чурбаках у жаровни с углями. Прежде всего Марку пришлось объяснять, как он оказался один на свете.
— Господин, то есть государь, — беспокойно начал он, решив сразу рассказать самое худшее, чтобы потом не обвинили, что он что-то скрыл. — Меня выгнал отец, а моё имя вычеркнули из списка воинов нашей деревни, но я не сделал ничего плохого. Просто отец боялся, что я совершу преступление, если останусь.
— Как это?
— У меня была молодая мачеха, государь.
— Ясно. Но если ты говоришь, что ничего дурного не сделал, почему он лишил тебя даже поддержки родичей? Ведь достаточно было просто отослать подальше.
— Сначала так и хотели. Но потом мы поругались, я наговорил лишнего, и отец сказал, чтобы я не смел больше оставаться ни минуты. Вообще-то меня собирались отправить со Священным поколением; у вас в Альбе есть такой обычай? Все, кто родился в священном году, когда вырастут, должны переселиться, и берут с собой скотину того же года. По возрасту я не подхожу, но меня бы взяли. А тут случилась эта ссора, отец погнался за мной с палкой. Я уже не мальчик, чтоб меня бить, но не мог же я дать сдачи. У нас в деревне не полагается поднимать руку на отца.
— Нигде не полагается, — ответил царь. — И всё-таки, неужели он правда хотел тебя выгнать? Кто будет продолжать род?
— Старший брат. Наверно, надо сказать «Бывший», теперь ведь у меня никого нет. И никакого имущества, только щит и копьё, да и то потому, что их подарил брат матери, и отец не мог их забрать. Но в первой же битве я добуду меч.
— Верно, меч тебе нужен, а если хочешь занять достойное место в войске, то и шлем. И правильно, что ты решил добыть их сам. В чём ещё ты нуждаешься, в чём тебе могу помочь я?
— Во всём, но это совсем немного: кусок земли, чтоб выращивать ячмень, угол, где хранить добычу, крыша, под которой спать в безопасности, и товарищи, чтобы отомстили, когда меня убьют.
— Это я могу тебе дать, но не больше. Тебе необходимы родичи, которые бы за тобой смотрели, ухаживали, если заболеешь, а в случае чего выкупили бы из плена. Три тысячи граждан не могут тобой заниматься, словно ты всем им брат, поэтому завтра вступай в какой-нибудь род. Я решил разделить граждан на тридцать родов, выбирай любой и держись со своими. Заодно получишь родовое имя; старое я не спрашиваю, называть его не к добру, раз его у тебя отобрали. Больше ничего?
— Нет, государь... Или только одно. Я знаю, что ты один из самых удачливых людей на свете. Не можешь ли сделать что-нибудь, чтобы боги опять стали ко мне милостивы? Должно быть, они гневаются, раз я так беден и одинок.
Марк сам удивился своим словам. Раньше он гордился собственной независимостью, на все эти сказки о гневе богов только посмеивался свысока и считал, что их придумывают старики, чтобы держать молодёжь в узде. А теперь некому стало замолвить за него словечко перед потусторонними силами, и он почувствовал себя совершенно покинутым.
— Ты разделишь счастье города, — ответил Ромул. — Больше я ничего не могу сделать, но ты убедишься, что этого вполне достаточно. Долю моего личного счастья ты не захочешь, если боишься отцовского гнева: я довольно-таки сильно обидел богов родства, хотя поступил справедливо и не боюсь держать ответ.
— Что ж, спасибо, государь. Теперь я в безопасности за стеной и будет кому за меня отомстить — это немало. А с богами придётся наладить отношения самому.
— Даже здесь город может тебе помочь. На мне смерть брата, но мои предки владели могучими святынями. Скоро я перевезу их в Рим и научу всех римлян служить богам. Вот кончится сев — и увидишь.
На другой день Марк выбрал себе род из тех тридцати, на которые Ромул разделил всех граждан. Казалось странно: называть отцом двадцатилетнего юношу, но иначе в род было не войти — пожилых людей в городе не было. Эмилий, аристократ из Альбы, которому на родине будущее не сулило ничего из-за бедности семьи и множества старших братьев, был очень рад получить под покровительство ещё одного человека. Он любезно сказал Марку, что тот может взять второе имя «Эмилий» и считать себя его полноправным сородичем, но добавил, что жертвы за весь род имеют право приносить только те, кто действительно принадлежит ему по крови. Как только удастся раздобыть писца — никто в городе писать не умел — надо будет составить дополнительный перечень новых родичей, чтобы их потомки знали своё место и помнили, что главенство никогда к ним не перейдёт. Это было достаточно честно, и уж куда лучше, чем вообще не иметь рода, и Марк Эмилий с готовностью согласился.
Поля засеяли, ячменём можно было не заниматься до жатвы, но Ромул не повёл войско, как ожидали, грабить этрусков. Он объявил, что сперва надо укрепить счастье, воздав почести богам. Для начала он доставил из священного латинского города собственных родовых Ларов. Говорили, что их привёз в Италию из разрушенной Трои праотец Эней, первый известный предок царя Нумитора, в те давние времена, когда Народы моря разоряли все божественные города. Но появились эти святыни ещё раньше. До основания Трои их домом был волшебный остров Самофракия, а ещё раньше, в самом начале мира, богиня дала их в приданое дочери, которая вышла за смертного. Ромул вёл свой род от этой богини; впрочем, почти у каждого, если достаточно глубоко проследить его родословную, найдётся божественный предок. Марка поразило не божественное происхождение святынь, а их невероятная древность.
Выглядели они не слишком впечатляюще. В начале процессии несли большую глиняную урну, вроде тех, в какие кладут пепел покойников. Зрители были разочарованы — хотя и старая, урна вполне могла оказаться пустой, — но Ромул объяснил, что внутри очень древнее деревянное изображение Девы, подарок богини, его прародительницы, смертному зятю. Прорицатели не советовали показывать подарок народу, чтобы божественное счастье не рассеялось в толпе. Они предсказали, что пока изображение в сосуде, город не захватят враги.
За таинственной урной на других носилках несли древний позеленевший наконечник копья — символ, а может, и тело бога-копьеносца Квирина и два обвитых змеями посоха из бронзы. Эти были куда внушительнее. Никто не знал, какие силы они воплощают, такое не связывают ни с Девой, ни с Матерью, ни с Небесным отцом, но змеи — жуткие существа, а уж бронзовые змеи наверняка имеют огромную колдовскую силу. Новые сверхъестественные защитники очень воодушевили граждан.
Но Ромул на этом не остановился. Он хотел обеспечить городу всю поддержку, какую только изобрели мудрецы. На болотистом пустыре между холмом и рекой он начертил гадательным посохом круг и велел каждому бросить туда горсть земли со своей родины. Многие предвидели такую необходимость и захватили из дома горшок с землёй, но многие, как Марк, зачерпнули наугад пригоршню грязи в знак того, что пока не стали римлянами, домом им был весь белый свет.
Когда была насыпана куча, Ромул поколдовал над ней и объявил, что отныне она будет называться Мундус, потому что это средоточие всего населённого мира. Взволнованные зрители стиснули амулеты, а Ромул взял бронзовую кирку и принялся копать в насыпи яму, уходящую глубоко в болото. Наконец он остановился, велел помощникам подать запечатанную урну и опустил на дно, где ей надлежало остаться навсегда. Потом яму завалили громадным камнем. Ромул объяснил, что теперь это проход в Нижний мир, вообще его лучше держать закрытым, но время от времени камень будут отваливать, чтобы проводить духов обратно из мира живых. Царь будет решать, когда придёт время это делать.
Итак, люди были связаны со всеми богами, с небесными через предметы в Священной сокровищнице, с подземными через Мундус, открывающий и закрывающий вход в Царство мёртвых. Молодой город получил надёжную защиту.
Не запускали они и дела посюсторонние: Ромул следил, чтобы подданные всё время были заняты. Первое лето они валили и втаскивали на холм буки и скоро укрепили вал и ров вокруг поселения отвесной стеной из мощных брёвен. Поэтому, хотя Ромул и требовал, чтобы город в его честь называли Римом, жители обычно говорили о своём холме «палисад» — Палатин. Другим палисадом увенчался крутой холм неподалёку, Капитолий, на котором выкопали колдовскую окровавленную голову. Там постоянно жил небольшой гарнизон — как крепость Капитолий был куда сильнее Палатина, хотя и слишком мал для города.
Всё лето римляне строили укрепления и хижины или по очереди пасли общих волов, овец и свиней. Осенью вышли на поля убирать урожай, а когда закончили, то оказалось, что ячменя насилу хватит до следующего года. Каждый день они трудились с рассвета до заката и едва могли прокормиться.
Простые воины были недовольны. В городе неплохо жилось Ромулу, его охране — наглым цел ерам, да молодым людям, назначенным главами родов; дома эти правители никогда не получили бы столько власти. Но простые граждане жили хуже батраков. От переселения они ничего не выиграли, даже наоборот — в родной деревне можно было хотя бы по праздникам выпить вина да поухаживать за девушками. Храбрецы, которые покинули дом и родню в надежде добыть богатство, вместо этого целыми днями гнули спину в поле, чтобы кое-как поужинать кашей с луком. Не так представлялась им жизнь удачливых разбойников.
Марк делил маленькую круглую хижину с пятью другими холостяками, и каждый вечер они спорили, чья очередь варить кашу. Стряпня — женское дело, но в Риме не было женщин. Здравый смысл подсказывал Марку, что скоро пора заводить детей, чтобы было кому о нём позаботиться, когда он станет стар и не сможет пахать и сражаться. В конце концов он поделился тревогами с Эмилием.
Эмилий не принял его заботы слишком всерьёз, впрочем, сам-то он предусмотрительно захватил из дома молоденькую рабыню.
— Видишь ли, мой мальчик, — беззаботно заявил он, — мы — шайка разбойников. Чтобы сразу обзавестись женой, тебе надо было отправляться со Священным поколением.
— Я не мог, отец выгнал меня позже, — мрачно ответил Марк. — А твоя шайка разбойников до сих пор ни на кого не напала. Скажи лучше, шайка работников.
— Сначала надо построить крепость и запастись едой на зиму. Но грабить тоже начнём, и гораздо скорее, чем ты думаешь. Через четыре дня на тот берег отправляется отряд за этрусскими овцами. Вот когда будешь уплетать жареную баранину, поймёшь, зачем мы строили стены. Согласись, глупо было бы украсть овец и не знать, где их спокойно зажарить.
— Верно, но ведь я не овец красть сюда пришёл. Я думал, мы будем грабить самые богатые города Этрурии.
— Всё впереди, дай только время. Сейчас нас всего три тысячи, с такими силами нельзя осаждать большой город. Вот продержимся год-другой, и начнут приходить подкрепления. А когда соберётся настоящее войско, мы опустошим всю Этрурию.
— Если только этруски к тому времени не сотрут нас в порошок. Ладно, на самом деле я не жалуюсь. Просто сейчас работаю больше, чем дома, а получаю меньше. Наверно, бандиты всегда начинают с тяжёлого труда, хотя по старым песням про развесёлых лесных молодцев этого не скажешь.
— Добывать пропитание копьём тяжелее, чем плугом. Я и раньше это подозревал, а теперь знаю точно. Но смотри, чтобы твои разговоры не дошли до царя, потому что мы с тобой хотим разбойничать, а он-то уверен, что каждый его подданный мечтает основать в этом великолепном городе знатный род.
— Отличная шутка, господин, просто прекрасная. Какой может быть род, когда здесь одна женщина на десятерых?
— Может, нас выручит священная урна в сокровищнице, и оттуда в один прекрасный день вылезут толпы красавиц? Если серьёзно, царь так хочет, чтобы город жил, что непременно придумает, как раздобыть для нас жён. А пока что нам гораздо лучше за стеной, чем простым разбойникам в сырой пещере.
Марк вышел немного утешенным. Всё-таки приятно, когда о твоих трудностях знает влиятельный, близкий к царю аристократ. Надо терпеть и работать больше, пока не настанут лучшие времена. По крайней мере, за стеной можно спать спокойно.
Первая вылазка римлян не совсем удалась. Они захватили стадо овец, но на обратном пути их нагнали этруски и несколько человек убили. Царь Ромул объявил, что пока войско не окрепло, надо подождать и не раздражать соседей.
Глава 2. САБИНЯНКИ
В Риме было мало женщин. Некоторые переселенцы успели обзавестись семьями на родине и привезли жён с собой, но они были молоды, так что их дочерям предстояло ещё долго расти до брачного возраста. Единственный воин, который был старше остальных и дольше всех женат, Тарпей, держался высокомерно и недоступно, а десятилетнюю дочь охранял, словно от диких зверей. Его назначили на Капитолий командовать гарнизоном, потому что других желающих не нашлось, и он жил там с семьёй совершенно замкнуто.
Появилось несколько женщин лёгкого поведения, как и следовало ожидать в поселении здоровых молодых мужчин. Их не пускали в город, и они занимались своим ремеслом в лачугах на болотистом берегу. Рынок был небогатый, вместо серебра и бронзы им приходилось довольствоваться в качестве платы ячменём и свининой. Все они были неряшливы, немолоды и дурны собой. Никто из граждан не признался бы, что часто у них бывает, и считалось хорошим тоном не видеть и не замечать тех, кого там застали.
Но на второй год в Рим стали прибывать люди, которым не было дела до того, в каких грязных притонах их видят, люди без чести и совести. Ромулу не давало покоя, что город опасно слаб, хотя его подданные и считали, что три тысячи латинян защитятся от любого количества врагов. Царь готов был на всё, чтобы увеличить войско. С трудом ему удалось уговорить воинов принимать в свои ряды каждого, кто способен носить оружие. В Азиле, скопище хижин под Палатином, за городской стеной, были рады любому крепкому мужчине и не спрашивали о прошлом. Некоторых новобранцев выдавало клеймо беглых рабов, другие скрывались от правосудия, многие прогневали богов кровосмешением или святотатством. Но всех сильных мужчин Ромул принимал, и целеры, запугивая коренных поселенцев, добропорядочных латинян, навязывали им этих негодяев в сограждане.
Когда пришла пора отмечать четвёртую годовщину создания города, Рим готов был взорваться. Взаимная неприязнь жителей, нищета, тяжёлый труд и вынужденное половое воздержание раздирали его на части. Особенно негодовали простые воины, и на собрании, которым открывались торжества, они решили заявить о своём недовольстве. Пусть войско выступит на Вей — ближайший и самый слабый из богатых этрусских городов, правда, к сожалению, хорошо укреплённый. А то они возьмут назад клятву верности, которую Ромул вынудил у них ложными обещаниями, и все вместе уйдут на север, служить наёмниками в бесконечной войне между этрусками и дикарями из Лигурии.
Воины принялись кричать о своих горестях, едва завидели Ромула. Он теперь, в довершение обиды, окружил себя заимствованными у этрусков пёстрыми знаками царской власти, которые ничего не говорят настоящим латинянам. Но одолеть его на собрании было нелегко.
С самого начала он правил простым способом — разделяя подданных. Царь мог рассчитывать на поддержку всех тех, кому помог выдвинуться. За него были сто глав семей, которых он позвал в Совет отцов, и триста молодых богачей, составляющих римскую конницу, потому что кони, которые обеспечивали их положение, были царские. Ещё — три сотни целеров — этих молодых разбойников никто не любил, но многие боялись. В неорганизованном собрании из трёх тысяч человек семьсот самых влиятельных единодушно голосовали за царя.
Его противники быстро поняли, что речи против произносить без толку. Но Ромул был опытным начальником и знал, что с недовольством лучше бороться уговорами, чем силой. Он заговорил откровенно:
— Воины, вы стойко выдержали четыре года тяжёлого труда. Не сдавайтесь же в последнюю минуту и не дайте своим усилиям пропасть даром. Я знаю, что вам нужно — добыча и женщины. Скоро у вас будет и то и другое. В этом году мы уже сможем взять этрусский город; а через месяц я отправлю посольство к сабинянам просить жён для своих воинов. В Альбу можно больше не обращаться, в прошлом году они отказались из-за той злополучной истории с Ремом, сказали, что наш город осквернён братоубийством и недостоин дочерей богобоязненных латинян. Но мы ещё покажем им, как они ошиблись! Разве мог я разгневать богов-хранителей Рима, когда защищал стену, невзирая даже на родственные чувства? Нас ждёт великое будущее, и Альба ещё будет просить о союзе! Но это впереди, а пока вам нужны жёны. Их мы получим у сабинян, наших соседей и родичей. Их обычаи не совсем такие, как наши, они ютятся в деревнях и не ценят преимуществ городской жизни. Но они почитают тех же богов, что и мы, и говорят на том же языке — хотя и очень плохо!
Последние слова он произнёс, подражая сабинскому говору. Слушатели расхохотались, и Ромул понял, что победил.
— Значит, решено, — продолжал он. — Кричите «да», чтобы показать, что согласны. — Раздался рёв одобрения. — А теперь устроим шествие через город к святилищу, где целых двенадцать коршунов явились некогда возвестить предначертанный нам успех. Держитесь чинно, с достоинством, как подобает жителям города, который основал сын бога во исполнение воли богов!
В торжественной тишине римляне прошествовали на грандиозное жертвоприношение; оно обещало к ужину вволю жареного мяса, и все воспрянули духом. Да и одних молитв хватило бы, чтобы ободрить, так убедителен и красноречив был Ромул. Но всё-таки Марк чувствовал, что его провели. Вечером у костра, наевшись досыта, он набрался храбрости и пожаловался соседу:
— Удивительно, как мы всегда соглашаемся на то, чего на самом деле не хотим. Нельзя сказать, что царь Ромул — тиран, а мы рабы; он всегда объясняет свои планы, обещает, что если нам не понравится, он придумает что-нибудь другое. Но когда доходит до дела, все голосуют «за». Я не желаю клянчить, чтобы сабиняне разрешили мне ухаживать за их дочками; они вообще должны быть счастливы, что их даже заметили. И от сородичей-латинян я не желаю сносить оскорбления. Нехорошо, конечно, воевать с городами предков, а стоило бы. И главное, чего я никак не могу взять в толк, это почему бы завтра не захватить несколько этрусских баб. Сил нет каждую ночь валяться одному и слушать, как храпят пятеро других парней. Будь у нас одна женщина на шестерых, и то было бы лучше. И всё равно я сегодня голосовал за царя. Он что, всех заколдовал? Говорят, он не простой смертный.
— Кто говорит? Предсказатели да старухи, — ответил сосед. — Я сам из Альбы, помню Ромула мальчишкой, он всего на шесть лет меня старше. Но он умный, такому не жалко подчиняться. А на собраниях он побеждает очень просто: не даёт никому другому говорить. Не запрещает, конечно. Наоборот, каждый раз приглашает на возвышение всякого, кому есть что сказать, но всегда находится помеха. Если бы ты сегодня попробовал подбить нас на войну с этрусками, царь сказал бы, что боги ждут жертвы. А до следующего собрания целеры поколотили бы тебя или обвинили в чём-нибудь и выпороли при всём народе. Мы соглашаемся с Ромулом потому, что никогда не слышим возражений.
— А ведь точно, — удивился Марк. — Я не замечал этого, пока ты не сказал. Но как тебе нравится мой план?
— Никак. Нам не взять ни одного этрусского города и не выдержать ответного нападения. И потом, если спишь с женщиной, теряешь храбрость.
— Наши старики тоже так говорили, но я не верю. У нас в лесу возле деревни жил разбойник, такой силач, что все его боялись, и он насиловал женщин, какие ему попадались.
— Может, он был бы ещё сильнее, если бы воздерживался. Здесь ничего не докажешь ни так, ни эдак.
— Ну, если я раздобуду женщину, мне плевать, даже если на другой день будет битва. Останься я дома, был бы уже женат. Женитьба, между прочим, на храбрость не влияет.
— Я бы тоже был женат, если бы остался, — мрачно произнёс сосед. — Пришёл сюда сдуру, надеялся разбогатеть, а через четыре года живу не лучше, чем в первый день. Правда, мы построили славный палисад. Когда-нибудь может получиться настоящий город.
— И ты туда же! Слышать больше не могу про ваш настоящий город. Я думал, что иду в разбойники, а мы только строим для потомства, которого не будет, если кто-нибудь не согласится отдать за нас своих дочерей. Хватит с меня на сегодня пиршеств, возьму кувшин вина, пойду в хижину и напьюсь, чтобы не слышать, как эти болваны славят царя Ромула...
К весне Марк немного приободрился. Эмилия выбрали в посольство к сабинянам, и Марк попал в число его телохранителей. Посольство получилось внушительным, хоть и представляло город молодёжи, город четырёх лет от роду. Двенадцать послов с роскошными, пусть и без седины, бородами, воины охраны рослые и хорошо вооружённые. Золота в дар послы не принесли, в Риме его почти не было, но гнали перед собой быков, навьюченных бурдюками хорошего вина. Им должны были остаться довольны.
Сабиняне, суровые воины старого закала, считали, что недостойно мужчин ночевать сгрудившись за стенами. Они жили в деревнях, на полянах среди лесистых холмов и меняли место каждые два-три года, едва земля истощалась. Но в остальном их порядки и обычаи были теми же, что у латинян, и говорили они на одном из латинских наречий. Такие живущие по старинке, но почтенные селяне должны были принять за честь, что с ними хотят породниться жители процветающего нового города.
Совет сабинских вождей, стоя на поляне, холодно выслушал речи римских послов. Быков пощупали и увели на заклание, но не похвалили. Затем вожди удалились совещаться, а вернувшись, объявили, что ответ всего сабинского народа передаст один представитель. Им оказался кряжистый силач, заросший бурой спутанной бородой до самых глаз. Глаза зловеще сверкали, и римляне приготовились отдать за невест немалую цену: воин явно собирался сказать что-то мало приемлемое.
Он начал с любезностей, судя по всему, тщательно сочинённых, хотя понять их из-за непривычного говора было сложно. Сказал, как рады сабиняне видеть у своих границ такой замечательный город, как восхищает их мужество соседей-латинян, решившихся наконец ответить на бандитские набеги жадных этрусков. Конечно, нельзя допустить, чтобы Рим захирел оттого, что некому продолжить род его основателей. Но ведь спасение в руках могучего царя Ромула; странно, как он до сих пор не подумал о том, что ясно даже неотёсанным сабинянам, которые, как известно, соображают куда хуже латинян. Царь Ромул уже устроил приют для беглых преступников, к великой выгоде своего города, что свидетельствует о его благородстве и душевной широте. Почему бы не основать другое прибежище для неудачливых продажных женщин, сбежавших из дому жён и им подобных? Так граждане найдут достойных спутниц жизни, а честным сабинянам не придётся отдавать дочерей за чужеземцев.
На этом воин закончил речь и отступил обратно к старейшинам. «Мы послы, нам нельзя обнажать оружие!» — прошипел Эмилий охране. Молча, подчёркнуто чинно римляне покинули поляну...
Когда всё это доложили собранию, из толпы раздались возмущённые крики, что сабинянам надо немедленно объявить войну, но царя Ромула оскорбление, похоже, больше позабавило, чем задело. Он ответил, что у римского народа есть дела поважнее, чем война ради чести. Сперва весенний сев, потом набеги на этрусские стада — осторожные, потому что укреплённый город пока не захватить, — а потом придёт пора убирать урожай. Снова искать жён можно, лишь обеспечив еду на зиму.
Летом, когда воины сидели на солнышке и смотрели, как растёт ячмень, поползли слухи, что в городе не совершают какого-то важного обряда и это надо срочно исправить. Марк сначала злился; римляне и так слишком много времени тратили на богов, и за все молитвы и жертвы заслужили чего-нибудь получше, чем миска каши в день. Потом он заметил, что разговоры идут от целеров, и стал прислушиваться. Мысли царя Ромула надо было принимать всерьёз.
Цел еры говорили, что праздник урожая в этом году нужно провести получше. Конечно, после каждой жатвы благодарят богов, как могут, но несмотря на все усилия, в прошлый раз ячмень не уродился. Было упущено что-то жизненно важное.
Когда всё это дошло до знатоков обрядов, следующий шаг стал неизбежен. В деревнях, где выросло большинство римлян, в ежегодном празднике урожая важную роль играют женщины и девушки. Ведь раньше земледелие было чисто женским делом, как сейчас у южных дикарей, а мужчины занялись им недавно, когда появился плуг. На празднике урожая замужние женщины посыпают землю чем-то из своих таинственных корзинок, а девушки поют песнь незасеянного поля.
В Риме женщин почти не было, следовало просить помощи у соседей. На очередном народном собрании Ромул предложил осенью устроить большой праздник в честь Конса, бога-хранителя запасов, и пригласить сабинян и полулатинских жителей трёх соседних городов, где правит этрусская знать. Если они примут приглашение, пусть приводят жён и дочерей. Утром женщины благословят поля своим непостижимым для мужчин способом, потом все посмотрят состязания колесниц на пустыре под стеной, а вечером будет пир и вволю вина.
Кто-то заметил, что опасно пускать в крепость толпу чужеземцев, но Ромул сказал, что в город гости не войдут, оружия с собой не возьмут, а Палатин и Капитолий будут весь день надёжно охраняться. Марк только удивился, хватит ли в таком случае у сабинян безрассудства прийти.
Но семнадцатого августа, когда последнее зерно убрали в амбары на попечение Конса, стало точно известно, что приглашённые со своими женщинами отправились в путь и прибудут на следующий день. Праздник урожая всегда возбуждал римлян, а оттого, что предстоит впервые в истории города принимать гостей, они взволновались ещё сильнее. Поэтому никто не удивился, когда вечером Ромул объявил: всем предписывалось сидеть по домам, поддерживать священный огонь и молиться о плодородии римских полей.
У Марка и его соседей был на случай чрезвычайных обстоятельств припрятан кувшин вина. Когда все согласились, что обстоятельства чрезвычайные, кто-то достал игральные кости и компания неплохо коротала вечер, как вдруг появился целер. Игроки всполошились, не донесёт ли он собранию, что они нарушают пост, но целер пришёл передать указания на завтра, указания чрезвычайно волнующие.
— Смотреть состязания колесниц приходите, спрятав под плащами мечи, — сказал он. — Хорошо, если рядом будут щиты и копья. Когда царь подаст знак, хватайте девушек и тащите за палисад. Это одно, но есть ещё важные вещи, которые надо исполнять под страхом смерти. Слушайте внимательно. Целер помолчал для внушительности и продолжал: — Хватать только незамужних девушек, женщин не трогать. Никакого кровопролития, мечом не колоть, а только пугать. И самое важное. Нам нужны не наложницы, а жёны. Никому не брать больше одной девушки — да там столько и не будет, и не ложиться с ней, пока царь не совершит брачного обряда. Ясно? Суть в том, что нам не нужна вечная война с сабинянами, а если честно обойтись с их дочерьми, может быть, удастся помириться. Так что приказ самый строгий, обдумайте его и завтра исполняйте в точности.
Наутро Марк с удивлением обнаружил, что три тысячи человек могут сохранить тайну. Гостей встречали мирные, улыбающиеся, безоружные граждане. Сабиняне восхищались суровыми палисадами на Палатине и Капитолии — за четыре зимы брёвна потемнели и выглядели устрашающе, но не пытались войти и не удивлялись, что их не пускают: чужакам не положено разгуливать по крепости.
Утром гости и хозяева вместе готовили у реки место для состязаний; за лето болото пересохло и хорошо подходило для скачек. Работы было — поставить два шеста, у которых будут поворачивать колесницы, да посередине устроить возвышение из дёрна, чтобы судьям было удобнее смотреть. Тем временем вокруг полей расставили часовых, чтобы мужчины не помешали приглашённым женщинам и девушкам совершить известный им одним обряд, от которого ячмень на следующий год уродится густым и обильным.
К полудню все собрались к месту скачек. Молодые римляне предлагали гостям вино и лепёшки, но те почти не брали — никто не привык плотно есть больше одного раза в день, а пир намечался после того, как состязания завершатся и правую лошадь победившей упряжки принесут в жертву Консу. Царь Ромул поднялся на кучу камней, отмечающую финиш, и зрители заняли свои места.
Воины не переставали глазеть на девушек, гости знали, как они истосковались по женскому обществу. Никаких недоразумений не было, больше шести часов прошло мирно и приятно, гости расслабились и чувствовали себя в безопасности. Римляне ждали царского знака, но знали, что сначала боги должны получить положенную жертву.
Марк выбрал удобное место возле сабинской семьи — отец, мать, маленький мальчик и девушка на выданье. Он всё рассчитал: по знаку кинется к девушке и сразу унесёт её на Палатин. Тут главное не замешкаться: отец будет защищать жену, а взрослых сыновей, которые бы ему помогли, не видно. Когда начнётся сражение, если начнётся, Марк будет уже за палисадом, а там никто не потребует, чтобы он бросил добычу и спустился помогать остальным. Даже с мечом он не хотел бы оказаться без щита в гуще разъярённых сабинян.
Должно получиться. Но какому же подлецу он, почти случайно, служит эти четыре года! Разве может город процветать, когда на нём тяжким грузом лежат злодейства основателя? Смерть Рема, смерть Фаустула. Убийство брата и отца — самые страшные преступления, какие знает человечество, и боги за них карают суровей всего. Что может быть хуже? На ум пришло кровосмешение, за которое, как известно, неотвратимо следует возмездие свыше. В этом грехе Ромула пока никто не обвинял, его непросто совершить холостяку, но всё равно кровосмешение было здесь замешано. Не все в Альбе верили в божественное происхождение Ромула. Имелось и более приземлённое объяснение: царь Амулий в полном вооружении, закрыв лицо большим шлемом, изнасиловал Рею Сильвию, когда та возвращалась от священного колодца. Он рассчитывал, что жрицу казнят за прелюбодеяние и роду царя Нумитора придёт конец, но когда она убедила граждан, что стала жертвой божественной воли, испугался и промолчал. Тогда выходило, что Ромул — сын дяди и племянницы, а это кровосмесительный союз.
Кровосмешение, убийство, отцеубийство, теперь ещё предательство под прикрытием священного праздника — похоже, нет злодейства, которым бы царь себя не запятнал. И всё-таки город стоит уже пятый год. Либо боги очень терпеливы, либо счастье Ромула и впрямь настолько сильно, что он может безнаказанно нарушать все божественные законы. Второе объяснение обнадёживало больше, и Марк надеялся, что оно верно.
Но вот колесницы одна за другой остановились, и через толпу протиснулся молодой силач с секирой, принести в жертву коня-победителя. Марк потрогал рукоять спрятанного короткого меча, потёр потную ладонь в пыли, чтобы пальцы не соскользнули. Плащ у него был обмотан вокруг пояса, и конец перекинут через левое плечо. И правая рука свободна для драки, и сразу видно, что он римлянин — царю нравилось, чтобы подданные носили плащи именно так.
Внезапно Ромул спрыгнул с кучи камней с боевым кличем. Римляне бросились на остолбеневших гостей. Марк выхватил меч и кинулся к намеченному семейству.
Всё вышло точно, как он задумал. Сабинянин, коренастый и крепкий, встретил врага со сжатыми кулаками и не дрогнул, увидев обнажённый меч, но за его широкой спиной всё же не могли укрыться обе женщины. Марк увернулся, чтобы удар, направленный ему в лицо, пришёлся на плечо, ухватил девушку за волосы и стряхнул мальчишку, попытавшегося вцепиться зубами ему в ногу. Сабинянин, естественно, защищал жену, которой ничто не угрожало. Марк выволок добычу на колею, взял меч в зубы, обхватил девушку обеими руками и потащил вверх, на Палатин.
У ворот целер велел ему ждать с пленницей на главной площади и помог связать девушке руки за спиной. Связав ей ещё и ноги, Марк мог быть спокоен, что до прихода царя она никуда не денется.
С Палатина не было видно, что происходит внизу, но в ворота толпой валили римляне с добычей. По их рассказам, захват женщин прошёл без единой заминки. Первой мыслью гостей было спасаться, пока всех не обратили и рабство; они бежали по левому берегу к своим лесистым холмам. Невероятно повезло, что с обеих сторон никто нс погиб и серьёзно не пострадал. Захватили почти тысячу девушек, хотя некоторые оказались ещё слишком молоды для немедленной женитьбы. Марк не знал, гордиться ли ему хитростью вождя или стыдиться его коварства.
Скоро на площади показался Ромул во всём; своём великолепии, с пурпурной мантией на плечах и посохом из слоновой кости в руке. Перед ним вышагивали двадцать целеров, у каждого пучок розог, примотанный к топору палача. Такого воины раньше не видели; но с самого основания города целеры и рубили головы, и секли по приказу царя, чем не свита для римского владыки! Ромул обратился к подданным:
— Воины, вы захватили достаточно женщин, чтобы наш город выжил. Теперь надо обращаться с ними почтительно, чтобы они стали матерями достойных римских граждан. Эти дамы — ваши жёны, а не рабыни и не наложницы. Мои помощники обойдут вас с корзинами освящённых ячменных лепёшек, и пусть каждый разломит лепёшку, разделит со своей госпожой и поклянётся при этом, что он хозяин на поле, она — хозяйка в доме. Это самый строгий брачный обет, какой знают мудрые служители богов, и расторгнуть его может только смерть. Его охраняет Мать зерна, дающая нам ячмень, а с ней мой отец Марс и святыни, которые я собрал в этом городе. Пока жена жива, её нельзя прогнать и взять другую. Если кто-нибудь боится связать себя столь прочными узами с незнакомкой, может отказаться, мы найдём на его место другого римлянина.
Желающих отказаться не нашлось; после многолетнего воздержания женщина была для воинов сокровищем на любых условиях.
— Обращайтесь с жёнами как с равными, как с помощницами и спутницами жизни, — продолжал царь. — Не заставляйте их работать в поле, такой труд не подобает римлянкам. Если жена выкроит время от домашних хлопот, пусть дома прядёт шерсть. Муж должен уважать жену, отпускать по своим делам, признавать, что она правит кухней. Я знаю, пока мы живём в маленьких круглых хижинах. Но придёт время, когда у нас будут настоящие дома из нескольких комнат. Как только у семьи появятся две комнаты, а я надеюсь, что такого недолго ждать, одна комната отойдёт к жене, и муж будет заходить туда только как гость. Но, — Ромул выразительно помолчал, — глава семьи — муж. Если он убьёт жену, никто не смеет требовать объяснений. Это право даётся вам, чтобы поддерживать к себе уважение, на самый крайний случай. Теперь вы знаете, как обращаться с жёнами... Ещё одна практическая деталь. Супружеской паре не годится делить хижину с толпой холостяков; после общей свадьбы цел еры отведут каждой семье отдельный дом, а неженатые, если понадобится, будут ночевать на улице, пока не построят ещё жилья. Теперь помолчите и покройте головы, я помолюсь за вас. Оставайтесь на местах, пока не преломите и не съедите лепёшку.
По толпе пробежало движение — все садились, мужчины натягивали на головы концы плащей. Ромул молился вслух, со старинным выговором, как положено обращаться к богам. Он призвал Мать зерна взглянуть благосклонно на эти браки и закончил знакомым всем с детства свадебным призывом к богам. Целеры тем временем раздавали лепёшки.
Марк заставил пленницу сесть и развязал верёвки. На этот счёт царь ничего не сказал, но и так было ясно, что жениться на женщине, спутанной, точно животное, — явное кощунство. Все вокруг развязывали пленниц.
Наконец-то Марк как следует разглядел добычу. Приземистая, как все сабинянки, широкоплечая, с крепкими бёдрами, груди маленькие — ей вряд ли больше пятнадцати. Прямые чёрные волосы, густые, но не очень длинные, глаза серые, а кожа белая, где не тронута загаром. Прямой нос, маленький рот. В общем, сногсшибательной красавицей её не назовёшь, но внешность вполне приятная. Совсем неплохо.
Марк заговорил с ней, первый раз с тех пор как похитил.
— Слышала, что сказал царь? Мы сочетаемся законным браком. Я Марк, из рода Эмилиев. Как свободному гражданину мне выдали поле и упряжку волов, за ними помогают смотреть общинные рабы. У меня есть щит и копьё, а ещё железный меч и три глиняных горшка. Царь поселит нас в отдельную хижину. Как тебя зовут? Ты согласна за меня выйти?
На лице девушки читались гнев и брезгливость, но ни тени страха. Она ответила сразу, словно уже приняла решение.
— Согласна, что же ещё остаётся. Всё равно после того, как я побывала у римских разбойников, ни один приличный сабинянин меня в жёны не возьмёт. А своё имя я не скажу, оно — часть меня, и этой частью я не собираюсь с тобой делиться. Вообще тебе незачем знать, из какого я рода, тогда родичам будет легче за меня отомстить.
— Как хочешь, жёнушка, — весело отозвался Марк, — оставь своё имя при себе. Как-то называть тебя надо, поэтому я буду звать тебя Сабина, а соседям достаточно знать, что твой муж — Марк Эмилий. Кстати, ты девушка?
— Что за гадкий вопрос!
— Вовсе нет, я хочу знать.
— Конечно, девушка, как любая незамужняя сабинянка. Но я уже посвящена в мистерии, если ты это имел в виду, и знаю, что со мной сегодня будет.
— Вот что, Сабина. Царь просил богов, чтобы они нас соединили, и нам с тобой жить в одной хижине, пока смерть нас не разлучит. Мы ведь довольно похожие люди. Не вижу, почему бы нам не поладить, давай будем друзьями лучше.
— Я тоже хочу жить хорошо, по крайней мере в Риме. Буду готовить как умею и следить, чтобы в доме было тепло и чисто. А смерть нас разлучит очень скоро, как только родичи отомстят за мой позор. Тогда я останусь вдовой и выйду за какого-нибудь приличного сабинянина.
— Это честно, сразу видно хорошее воспитание. Только, пожалуйста, не забывай, что месть — дело твоих родичей, им это и предоставь. Обещай, что не отравишь меня и не заколешь во сне.
— Обещаю. Боги наказывают за убийство мужа.
— Хорошо. Через пару минут нас поженят, а пока, если не возражаешь, я бы тебя попросил сразу заняться домашней работой. Видишь на ножнах ремешок? Узел должен проходить вот в эту петлю на перевязи, но он не лезет. Ты не могла бы его подтянуть и сделать поаккуратнее?
С этими словами он положил меч в ножнах ей на колени. Сабина оценила его находчивость и улыбнулась. Он поступил с ней дурно, но раз уж судьба свела их вместе, надо доверять друг другу, иначе им никогда не видать спокойной жизни. Целер, разносивший священные лепёшки, с удивлением увидел, как пленная сабинянка дружелюбно болтает со своим захватчиком, держа его меч.
Глава 3. ПЕРВЫЕ ПОДКРЕПЛЕНИЯ
Сабиняне жили в маленьких деревнях, разбросанных по лесистым горам на востоке. Те, кто бежал из Рима, не помнили себя от ярости, но собрать полное ополчение — дело небыстрое. Зато три полуэтрусских города — Ценина, Крустумерий и Антемны — были всегда готовы к войне, а царь Ценины Акрон издавна славился как полководец. Он был не из тех, что долго взвешивает силы, когда его подданные пострадали и оскорблены.
Поэтому для римлян первая война началась с небольших стычек со слабым врагом, пока собиралось могучее сабинское войско. Царь Акрон повёл на Рим всё ополчение своего городка несколько сотен воинов.
Участие в разгроме этого отряда стало для Марка первой настоящей битвой. Разумеется, Марк не раз участвовал в разбойничьих вылазках, но это было совсем другое дело. Для налётчика главное — добыча, и нет никакого стыда в том, чтобы удирать от погони во весь дух; а тут воины стоят сомкнутым строем, быстрые ноги не спасут, отступать нельзя. Марк даже немного боялся.
Но всё оказалось очень просто, словно специально для новичков. У Марка не было ни панциря, ни поножей, поэтому его поставили в третий ряд, откуда конец копья едва достаёт до противника, и сказали, что главное — покрепче нажимать щитом на впереди стоящих, чтобы не дать им отступать. Но даже из третьего ряда Марк хорошо видел действия царя Ромула.
Засада вышла отличная. Когда больше трёх тысяч римлян показались на гребне холма, маленькая колонна, которая шла по долине, остановилась и приготовилась их встретить. Царь Акрон сразу понял, в какой опасности его отряд, и бесстрашно предпринял единственное, что могло бы спасти людей. На несколько корпусов впереди своих всадников он помчался на римскую конницу в надежде убить Ромула и остановить нападающих. В своё время он одолел немало противников, но его бойцовские дни прошли. Ромул, сын Марса, могучий бородатый гигант, оказался для стареющего полководца неравным противником. Одной рукой он поднял царя Ценины из седла, а другой всадил ему меч в живот. Римляне при виде этого подвига побежали вперёд, и когда они обрушились на врагов, те кинулись наутёк.
Неприятель отступил в свой городок, но Ромул остановил погоню: нельзя связывать себя осадой, когда столько других врагов ждёт случая напасть. Вместо того чтобы разделаться с Цениной, он повёл воинов обратно на поле боя собирать трофеи. Они собрали достаточно щитов, чтобы доказать, что противник позорно бежал, а Марк подобрал кожаный шлем с бронзовой шишечкой. Но для Ромула главное было сохранить память о собственном подвиге. Нечасто случается царю своими руками убить другого царя, и это лишний раз показывало, как Марс опекает сына. Такое деяние следовало достойно увековечить. Срубили деревце, на нём повесили доспехи царя Акрона, его роскошное оружие этрусской работы, бронзовый позолоченный панцирь. Царь Ромул поставил трофей рядом с собой в колесницу четвёркой и так въехал в город. Когда все насмотрелись на шест, его вместе с колесницей убрали в священную сокровищницу.
Вечером после битвы победители пировали дома. Молодая жена встретила Марка, безучастно стоя в дверях, но её равнодушие улетучилось, едва она завидела большой кусок освящённой говядины на ужин.
— Мясо! Мы ведь ели его всего три дня назад, на свадьбе. В Риме хорошо живут! Даже жалко будет, когда мои родичи разграбят город и всех вас перебьют; у нас в деревне круглый год перебиваются одной ячменной кашей, — её глаза горели от детской жадности, нашлась улыбка и для мужа. — А у тебя новый шлем. Хороший? Ты убил кого-нибудь? Почему подняли такой шум насчёт доспехов царя Акрона? Победить старика — небольшая заслуга.
— Наоборот, великий подвиг, — весело ответил Марк. — Ведь его совершил царь Ромул, а всё, что он делает — подвиг. Не веришь, спроси его самого; он стыдливо покраснеет и сознается, что мир не видел более могучего героя.
— А ты ведь не очень высокого мнения о своём царе. Тогда почему ты в его войске? Ты — его подданный от рождения?
— Конечно нет, любовь моя. Я пришёл сюда по доброй воле, а в основном по глупости, но к Ромулу попал случайно. Я служил его брату, Рему. Ромул его убил в тот самый день, когда основал город.
— Так давай уйдём отсюда.
— Что, бросить Рим после всех трудов? Откуда, ты думаешь, у палисада такой красивый цвет? Это пот и кровь моих рук! И потом, у меня своя земля и волы, ты их ещё не видела, но они отличные. Весной поможешь на них пахать.
— Вот и нет, римлянку нельзя заставлять работать в поле. Царь Ромул — трус, подлец и хвастун, и я его люблю не больше, чем ты, но насчёт уважения к замужним женщинам у него есть очень здравые мысли.
— Совсем забыл про тот дурацкий указ. Царь бы его отменил, если бы хотел заставить собственную жену пропалывать грядки. Хотя нет, для нас оставил бы в силе, а сам нарушил бы. Он никогда не трудится выполнять свои законы.
— Что верно, то верно, — посерьёзнела Сабина. — Единственное, что было честного в похищении, это то, что ваш царь велел брать только девушек. Для нас это, по крайней мере, не рабство, а достойный брак. Но одну замужнюю женщину всё-таки похитил. Её зовут Герсилия, её муж — Гостилий. Она приглянулась царю, и он велел своим бандитам-целерам схватить её и привести к нему в постель.
— Не знал, но это меня не удивляет. И всё-таки он, должно быть, стыдится этой истории, раз никому не сказал.
— Все женщины в Риме об этом знают; мы встречаемся у родника и на реке, где стираем. Герсилия довольна. Гостилий ей не нравился, а этот римский скот, по-моему, привёл её в полный восторг.
— Если знают жёны, дойдёт и до мужей, — задумчиво проговорил Марк. — Что же делать? Когда меня выгнал отец, я ушёл в разбойники, думал награбить у этрусков несметные сокровища и явиться домой на зависть соседям. И вот у меня царь почище любого разбойничьего атамана, но при этом требует, чтобы я пахал землю, точно как брат в родной деревне. В более предприимчивую шайку с женой не уйдёшь, да и Рим бросать жалко. Земля здесь неплохая, палисад мы построили на славу, а в сокровищнице лежат настоящие святыни, про них Ромул не наврал. Потом, кровавая голова, которую вырыли на Капитолии, тоже что-нибудь да значит, если, конечно, это правда. Но главное, я не хочу признавать, что загубил впустую четыре года молодости. Наверное, стоит остаться и подождать, что из этого выйдет.
— Что из этого выйдет, милый, мы давно знаем: мои родичи снесут ваш палисад, сломают хижины и сокровищницу и засеют холм солью в знак вечного проклятия. Разве не помнишь? Мы решили в брачную ночь, что таков будет конец Рима.
— И ты обещала, когда я попаду в рабство, проследить, чтобы со мной хорошо обращались, не забывай, это было самое главное. Ну что ж, нечего думать о будущем. Всё равно, пока война, я должен оставаться со своим вождём; бросить Рим сейчас было бы похоже на бегство. А пока что надо приготовить ужин, а потом в постель. Кстати, враги сразу побежали, я никого не проткнул копьём и не осквернён убийством. Шлем неплохой, но его обронил какой-то беглец, а я подобрал.
— Я не из Ценины, но всё равно хорошо, что ты никого не убил. Сходи наруби дров, и будем ужинать.
За несколько дней Ромул разбил ополчения Крустумерия и Антемны, захватив оба маленьких войска врасплох. Это опять были почти бескровные битвы, римляне нападали внезапно превосходящими силами и рассеивали слабые колонны. Ромул без сомнения показывал себя достойным сыном Марса.
Самые могучие противники, сабиняне, всё ещё не появлялись. Как положено земледельцам, они в первую очередь думали о полях и, похоже, отложили месть до конца осенней пахоты.
После трёх побед римское ополчение распустили. В Народном собрании какие-то горячие головы кричали, чтобы их вели на Ценину: её жители понесли такие потери, что не смогут защищать стены. Но Ромул, взиравший на толпу с почётного возвышения, куда нельзя было подниматься простым римлянам, не согласился.
— Не слишком полагайтесь на сабинскую медлительность, друзья. Ещё неизвестно, правда ли они будут так копаться, что за это время можно захватить город. Выйдет глупо, если они возьмут Рим, пока мы будем осаждать жалкую Ценину. Давайте останемся дома готовиться к великой битве, которой не избежать, когда нападут сабиняне. Но не думайте, что наши завоевания пропали даром. Я поддерживаю связь с правителями побеждённых городов; награда может оказаться больше любой добычи, которую мы бы там захватили.
Слушатели недоумевали. Не предлагает же царь взять выкуп! Дикари и даже некоторые крестьяне иногда платят победителям, чтобы те не трогали полей, но ни один свободный город на такое не согласится. А если согласится, что получит взамен? Обещание Ромула оставить его в покое, а слово такого человека недорого стоит. Тем не менее воины, как всегда, поддержали царское предложение — трудно было голосовать иначе, когда Ромул не давал противникам толком высказаться.
Дома Марк рассказал обо всём жене и узнал, какие слухи ходят среди женщин. Сабина объяснила, что Ромул, как обычно, скрывает свои замыслы от подданных. Он добивается не выкупа, а мира. Герсилия, у которой в Ценине родичи, выступает посредником и всё рассказала другим сабинянкам.
— Ромул с Герсилией придумали очень странную вещь, — сказала Сабина. — Они хотят, чтобы побеждённые города стали частью Рима, а их войска вошли в римское ополчение.
— Что за нелепость, — ответил Марк, — город не может быть сразу в двух местах. Как тогда гражданам приходить на собрание? Половине придётся в придачу к дневной пахоте прошагать немалый путь. Войну не останавливают на середине. Либо мы разрушим Ценину и возьмём жителей в рабство, либо она останется независимым городом.
— Неужели врагов надо непременно убивать и нельзя хоть раз помириться? Побеждённые должны что-то потерять, но незачем отнимать у них жизнь, свободу или всё имущество. По новому плану они останутся жить в своих домах, но будут воевать по приказу Рима и слушаться решений римского собрания. А если их что-нибудь всерьёз заинтересует, я думаю, они доберутся сюда проголосовать. Со временем, когда привыкнут, они даже могут стать верными римлянами; это лучше, чем лишиться головы, так что они ещё будут благодарны за милость.
— Вот-вот, милость меня и удивляет. Это не похоже на Ромула, отец у него жестокий бог. И никогда бы не подумал, что у него хватит ума изобрести новый вид мира.
— А это не он изобрёл, всё придумала Герсилия. Ей был нужен предлог, чтобы пощадили её родных.
— Да, никогда не слыхал ничего подобного. Но, может, и выйдет.
— Выйдет, не сомневайся. Герсилия приказала Ромулу, а тот прикажет римлянам.
— Ромул правит нами, а им, значит, правит жена? Не знал, но я тебе верю.
Сабина была права. На следующем собрании царь изложил свой план. Ему пришлось долго говорить, прежде чем до слушателей дошло диковинное изобретение: диктовать свою волю свободным людям. С чужим городом можно заключить союз, который, скорее всего, развалится в трудную минуту, но обычно считалось, что вопросы войны и мира каждый народ решает сам — войско, которое не хочет сражаться, непременно будет разбито. А тут жители трёх городов (Крустумерий и Антемны тоже попали в этот план) должны будут исполнять решения римского собрания, хотя сами живут так далеко, что не смогут голосовать.
— Не думайте, что всё останется как было, — продолжал Ромул. — Стены и святыни никто не тронет, город — это хорошо. Я сам основал город и хочу, чтобы меня помнили за это, а не за то, что опустошил половину Италии. Так что пускай постройки стоят, но половина жителей переселится в Рим, а на их место отправится столько же римлян. Тогда наши новые сограждане никогда не составят большинства ни в Риме, ни в колониях. В собрании перевес будет у вас, исконных поселенцев. Довольны? Заметьте, наша военная мощь почти удвоится. С колонистами в римском ополчении восемь тысяч человек, а когда надо ждать сабинян, дорог каждый воин. В конце концов мы разобьём сабинян, непременно разобьём, не забывайте знамения, особенно кровавую голову на Капитолии. Риму суждено повелевать. А ваш долг — делать всё, чтобы город исполнил своё предназначение. Помните о долге, а то боги вас покарают; я сын бога, уж я-то знаю.
Собрание утвердило царские решения. По жребию выбрали, кому переселиться в колонии, и переселенцы отправились туда почти охотно, потому что в чужих городах жилось богаче. Но Марк был рад, что не попал в их число. Ему полюбилась хижина, где Сабина хлопотала у очага, а брёвна палисада, которые он сам в своё время ставил, охраняли его сон, словно старые друзья. Он тосковал бы по ним, если бы пришлось оставить Рим.
— Хорошо бы царь поменьше говорил о своём божественном происхождении, — сказал он жене. — У него всегда есть решающий довод, когда надо нам что-нибудь навязать: «Я сын бога и знаю волю богов». Не так-то просто в это поверить, хотя мне начинает казаться, что доля правды тут есть. Наверно, все его злодейства остаются безнаказанными именно поэтому, боги не хотят быть слишком строги с беспутным племянничком. И, конечно, именно такой и должен быть сын Марса: сильный, храбрый, способный на всё, а теперь оказалось, что он у нас ещё и милосердный. Хотя по мне лучше бы он, как в добрые старые времена, убеждал нас, а не запугивал дружбой с богами.
На празднике середины зимы Сабина сказала Марку, что ждёт ребёнка.
— Родичи слишком затянули с местью, — она развела руками. — Теперь не знаю, что им говорить, когда они наконец ворвутся за ваш палисад: чтобы не трогали сабинского малыша или чтобы прикончили римское отродье.
— Может, это окажется девочка, — ответил муж. — Тогда будет всё равно. У сабинян ведь свободную матрону не отличишь от рабыни, обе с утра до вечера гнут спину в поле. Одни мы, римляне, почитаем жён и освобождаем их от всякого труда, кроме пряжи.
— Зато на вас и не напрядёшься, каждый непременно хочет огромный плащ, чтобы показать, что он гражданин. Вы, когда отправляетесь в собрание, кутаетесь теплее, чем сабинский пастух в самую лютую стужу. Но женщин здесь действительно уважают. Когда-нибудь я приду на этот холм, на развалины, погрустить о разбойничьем городе, где жила с добрым мужем и рожала ему детей. Этот, судя по росту, сын — уже почти такой же силач и буян, как царь Ромул.
Разумеется, они всё время говорили о страшной мести её родичей. Гордость не позволяла Сабине признать, что навязанная жизнь пришлась ей по сердцу. Но сабиняне почему-то долго собирались. Их огромное войско так и не появилось в апреле, когда Сабина родила крупного, здорового мальчика. В тот же день его занесли в списки рода Эмилиев и назвали по отцу Марком. Он был одним из первых коренных римлян — явление, впрочем, не очень редкое, потому что в эту весну почти у всех украденных сабинянок появились первенцы.
День прибывал, и Марк с утра до вечера пропадал в поле. Было приятно обходить свою землю, смотреть, как пробиваются всходы, копать канавки и отводить воду, выпалывать сорняки. Выгнанный из родной деревни, он подался в разбойники подальше от скучной, однообразной жизни пахаря, а теперь, на Палатине, они с женой жили точно так же, и это было замечательно. Правда, теперь он работал на собственной земле, которую своим копьём защищал от врагов.
Заставить ячмень расти было непросто. Всё надо было делать правильно, всё было важно — от того, как посеять, до того, как сжать последний сноп. Неизвестно, почему вообще зерно лучше всходит во вспаханной земле. В конечном счёте, оно превращается в ячмень оттого, что так хочет Мать зерна. Поэтому её надо задабривать.
Имелось множество средств ей угодить, и римляне, родом из разных мест, любили сравнивать заклинания. Интересно было попробовать новое колдовство, пока по соседству другие пахари подбадривали свой ячмень каким-то особым способом. Марк сам не заметил, как втянулся в вечный круговорот земледельческого труда.
Только когда солнце заходило, он откладывал инструменты и шёл на холм, к палисаду. На плоском верху Палатина молодые жёны с младенцами, сидя у очагов, ждали к ужину мужей и кормильцев. Жизнь в Риме становилась всё более уютной и домашней. Марк чувствовал, что не против остаться здесь на всю жизнь, работать в поле, не искать ни роскоши, ни славы, а со временем передать плуг сыну и провести остаток дней на скамеечке у тёплого очага. Так испокон веку велось у латинян, и так же готовы были жить люди в этом разбойничьем посёлке.
Но если Палатин превратился в цветущую деревню, на Капитолии по-прежнему царил чисто мужской дух. Воины, охранявшие крепость, получали за дополнительную службу ежемесячную плату ячменём и мясом, но жили они тесно и неудобно, и в гарнизон шли только последние бедняки, которые слишком ленились или чересчур небрежно колдовали, чтобы добиться хорошего урожая. Среди этих жалких, никчёмных холостяков была только одна семья, начальника крепости, Тарпея. Его дочь была уже взрослой, но отец так и не выбрал ей подходящего жениха. Единственная девушка посреди скопища грубых воинов, она жила под неусыпной родительской опекой.
Дело в том, что ещё год назад Тарпейя была в Риме единственной невестой. Отец прочил для неё очень выгодное замужество, так что поначалу никто из соискателей его не устраивал. Теперь обстоятельства изменились, а Тарпей не мог умерить требования. Все видные аристократы из окружения царя женились на пленных сабинянках, с переселенцами из колоний прибыло немало девушек-подростков, у знатных молодых людей появился выбор, а Тарпейя, сильная, крупная, не могла похвастаться красотой. Пришло лето, а она всё тосковала в одиночестве. Как-то вечером Сабина заговорила о ней с Марком.
Она завела разговор издалека, как и подобает осмотрительной жене.
— Что решит ваше собрание, если вдруг римская девушка родит ребёнка неизвестно от кого? Её выгонят умирать с голоду или казнят за прелюбодеяние? Или так обрадуются будущему воину, что не станут требовать объяснений?
— А в чём дело? — удивился Марк. — Твои-то дети известно от кого, их всех признают моими, что бы я там себе не считал на пальцах; и у всех твоих подруг, кажется, тоже есть мужья. Надеюсь, ты не говорила со шлюхами из Азила? Жалкие, одинокие существа, им некуда больше податься. Конечно, неприятно, когда их выгоняют, но такое уж у них ремесло, что детей они рожать не должны и не должны просить, чтобы за них заступались честные матроны.
— Разумеется, я с ними не говорила, я вообще не знала, что такие бывают, пока не попала в Рим. Возле сабинской деревни им бы ни за что не разрешили поселиться. Нет, я подумала о несчастной римской девушке, о дочери почтенного военачальника с Капитолия. Тарпейю пора выдать замуж или хотя бы просватать. Бедняжка, куда не посмотрит, везде ползают младенцы, а отец всё не подберёт ей жениха. Время идёт, она боится, что так и останется старой девой. Что если в один прекрасный день она заведёт ребёнка, просто чтобы поторопить отца? Не мог бы ты поговорить с Тарпеем, напомнить ему о семейных обязанностях? Нелепо, что она томится в девках, когда в Риме всё ещё не хватает женщин. Царь Ромул постоянно твердит, что надо увеличивать число граждан.
— Ах, вот оно что; хорошо, что ты и твои подруги здесь ни при чём. Но с Тарпеем я поговорить не могу, такой знатный человек не станет слушать простого воина. Разве что попросить Эмилия, он тоже аристократ, Тарпей может последовать его совету. Но если ничего не получится, ей надо взять себя в руки. Она не дикарка, чтобы делать что захочет и когда захочет. Цивилизованные девушки не отдаются мужчинам до свадьбы, и если Тарпейя так поступит, то будет наказана.
Сабина не стала продолжать этот разговор. За время замужества она уже стала понимать странное отношение мужчин к супружеской измене. Попадись Марку девушка вроде Тарпейи, он не стал бы раздумывать, в полной уверенности, что настоящему мужчине тут нечего церемониться. Открой случайно чью-нибудь связь на стороне, тоже готов был бы помочь сохранить тайну любыми способами. Но если бы в собрании ему пришлось голосовать по делу явно провинившейся женщины, он потребовал бы сурового возмездия. Ещё бы, ведь она так страшно оскорбила общество — дала себя уличить!
Тем не менее Марк, как всегда обязательный, не забыл о просьбе жены. Он поговорил с Эмилием, а тот с Тарпеем, однако разговоры ни к чему не привели, а вскоре всем стало не до Тарпейи: в город пришли тревожные вести.
На римской границе неведомо откуда появилось чужое войско. Весь год разведчики высматривали сабинян, ожидали нашествия, но те как будто решили сначала собрать урожай. А эти чужаки приближались с северо-востока и походили на бездомных грабителей.
Через некоторое время разведка донесла, что пришельцы настроены мирно и даже просят разрешения отправить к царю Ромулу послов. Перед полным собранием прибывшие послы изложили свою просьбу.
Оказалось, что это громадный отряд наёмников. Несколько лет они участвовали в бесконечной войне этрусков с дикарями Лигурии, но весной лигурийцы согласились платить этрускам дань, и на равнине за холмами настало перемирие. Тысячи наёмников остались без дела. Нанять такое войско очень дорого, зато, всячески подчёркивали послы, их начальники — цивилизованные люди и строго соблюдают договор. Рядовые, родом со всей Италии, но офицеры все, как один, этруски, главный даже был верховным жрецом Лукумоном в этрусском городе Солонии, пока не попал в изгнание из-за гражданской войны.
Ромул не стал советоваться с собранием, но отвечал при всех — пусть никто не говорит, что он ведёт переговоры за спиной подданных. Он объяснил, что город не в состоянии нанять это войско. В Риме слишком мало серебра, а просто за паек из зерна и мяса такие доблестные воины, надо полагать, сражаться не станут. Главный посол ответил, тоже обращаясь к собранию:
— Вот и все так говорят, великий царь. Нас слишком много, и мы не по средствам ни одному городу. Конечно, это доказательство того, что наш Лукумон удачливый полководец: люди к нему так и стекаются. Но с другой стороны, нам надо есть, и мы честно отрабатываем содержание. Вы воюете с сильным противником, и мы вам нужны. Не заставляйте отбивать у вас поля, тем более, что сабиняне прогнали нас со своих земель, и мы бы не хотели им помогать. Есть следующий выход: почему бы нам не сделаться римскими гражданами? Отведите нам наделы, дайте жильё в городских стенах, а мы будем сражаться в вашем ополчении и до конца дней хранить верность Риму.
Слушатели зароптали. Может, Рим и был вначале разбойничьим гнездом, но это ещё не значит, что в город сейчас принимают кого попало. Послы не стали бы так хвалиться своими командирами, просвещёнными этрусками, не будь половина рядовых дикарями из Лигурии да беглыми рабами. Наёмники хороши как товарищи на поле боя, но никто не пожелает их в соседи жене и детям.
Но как раз, когда римский народ собирался приступить к голосованию, примчался всадник со срочным известием с границ. Сабиняне наконец зашевелились, через пару дней их войско окажется под стенами Рима, и их гораздо больше, чем ожидалось. Ромул обратился к подданным с речью.
Он подчеркнул, что в ближайшие дни предстоит решающая битва. Это меняет дело. Если победят сабиняне, Риму конец, но если верх одержат римляне, то они смогут расширить свои рубежи и дать место новоприбывшим. И потом очевидно, наёмники — это своевременная помощь, которую посылает Марс, и если не принять их, бог разгневается.
— Опять Марс отец и Ромул — его уста, — проворчал Марк. — Неужели он не может просто доказать, что прав, а не стращать нас небесным гневом?
Однако Марк, как и все, проголосовал за то, чтобы принять воинов Лукумона, луцеров, как они себя называли: Ромул умел добиваться своего.
Вечером Марк излил душу Сабине, но та заметила только, что для несчастной Тарпейи прибавилось женихов. Марк совсем забыл о девушке, но вынужден был согласиться.
— Конечно, большинство наёмников — безродные головорезы, — сказал он, — но среди них попадаются и молодые аристократы, у которых много старших братьев. Сам Лукумон, по этрусским меркам, знатного происхождения, и не исключено, что не он один.
— Хорошо бы из этого что-нибудь вышло, так жалко бедняжку. Но ваш царь Ромул, похоже, боится моих родичей, хотя сам затеял эту войну. Мне и самой жутко. Что будет с малышом, если город начнут штурмовать! Может быть, улизнём на побережье и переждём, пока всё успокоится? Если ты не поднимешь оружие против сабинян, я постараюсь, когда война кончится и Рим будет разрушен, устроить тебе дом в нашей деревне. И маленький Марк вырастет среди честных, порядочных сабинян, а не в скопище разбойников и наёмников.
— Ты прекрасно знаешь, что я не могу убежать перед битвой. Я свободный воин, сын свободных родителей. Жалко сражаться против твоей родни, но ничего не поделаешь. Не хочу пролить кровь тестя, но вряд ли мы встретимся. Без панциря в первый ряд меня не поставят, а битва будет огромная, с обеих сторон тьма народа.
— Не надо об этом... Кто бы ни победил, пострадают мои близкие. Конечно, ты не можешь убежать, я бы не пережила этого — быть замужем за трусом. Но неужели нельзя заключить мир?
— Нет, дорогая. За твою честь надо отомстить, для того и даны свободным людям копья.
Глава 4. ЮПИТЕР СТАТОР
Все римские воины ждали битвы, и большинство — с тяжёлой тревогой. Правда была на стороне сабинян, да и независимо от того, кто прав, кто виноват, не может же один-единственный город Рим справиться с громадным войском Сабинского союза! По донесениям, в поход выступили почти тридцать тысяч разъярённых горцев. Ромул обдумывал самые отчаянные уловки, чтобы любой ценой пополнить ряды защитников.
К счастью, выяснилось, что луцеров гораздо больше, чем полагали. Половина, оказывается, притаилась поблизости и ждала, как примут послов. Когда наёмники узнали, что станут гражданами сильного города, они с воодушевлением вернулись к товарищам. Выстроив своё войско на лугу под Капитолием, Ромул был удивлён и обрадован: двадцать тысяч пехоты, почти тысяча всадников. Вот только больше половины — наёмники и чужаки из колоний, поневоле начнёшь бояться, что они захватят город и вышвырнут исконных поселенцев. Эмилий, когда родичи поделились с ним этими опасениями, успокоил их, объяснив, что луцеры не составляют отдельной силы, потому что это на редкость пёстрый сброд. Все эти этруски, латиняне, самниты — дикари, забредшие с дальнего юга и дальнего севера. Они объединяются только, чтобы пограбить, и не могут действовать сообща.
Болото у подножия холмов пересохло от зноя, только в одном месте можно было увязнуть, если не знаешь местности. Каждое утро римское ополчение выстраивалось в долине, готовое биться с захватчиками, и каждый вечер воинов отпускали спокойно ночевать за крепким палисадом.
Сабиняне не спешили — возможно, надеялись, что разношёрстное войско за это время разбежится.
Но вот однажды вечером плотный строй сабинян показался на левом берегу. Для битвы время было слишком позднее, и римляне ушли за палисад. Сабиняне встали лагерем неподалёку, и всем стало ясно, что сражение состоится наутро.
Но в полночь затрубили тревогу. Марк нехотя поднялся, взглянул ещё разок на спящего сына, поел каши, которую ему подала Сабина, но не стал просить жену застегнуть ему перевязь: как бы она не наложила какого-нибудь заклятья на его оружие, ведь он шёл сражаться с её родичами.
Внутри палисада было тесно. Ополчение едва могло там разместиться, пришлось открыть ворота, чтобы конница выстроилась на склоне, за рвом. Никто не знал, почему всех подняли, когда сабиняне вроде бы не думали нападать. Воины возмущались, что им среди ночи устроили ложную тревогу, но потом все увидели, как на той стороне долины на Капитолии вспыхнули факелы.
Множество факелов горело и на Палатине. Появился царь Ромул, он протискивался сквозь ряды воинов; конюший вёл за ним боевого скакуна. Царь был взбешён и громогласно ругался, требуя известий с Капитолия, но никто ничего не знал, и это приводило его ещё больше в ярость. Похоже, там стряслось что-то серьёзное.
Всадники отправились в долину на разведку, а пехота села отдыхать в надежде, что без завтрака не выступят. Марк сел, где стоял, в третьем ряду, и кто-то сказал ему на ухо, что именно так начинаются неудачные походы.
Появился конный отряд, позади начальника сидел воин в полном вооружении. Ромул в это время как раз оказался недалеко от Марка, и тот всё услышал.
— Государь, на Капитолии сабиняне, — закричал начальник конницы. — Наших почти всех перебили, остальные бежали через палисад с другой стороны, как были, в одних туниках; мы их встретили на склоне. Но этот, по крайней мере не спал, когда ворвались враги. Он вооружён, значит, всё видел и расскажет.
— Это Тарпей, начальник крепости. Осторожно, спусти его. Ты должен был отдать ему честь и попросить указаний, — царь никогда не забывал о военной дисциплине. — Ну, Тарпей, как же получилось, что у тебя за палисадом сабиняне?
— Государь, нас предали, — ответил усталый старик. (Не такой уж старик — но все прочие в Риме были молоды, и не такой уж усталый — но остальные только что поднялись с постели).
— Нас предали, — повторил он. — Тайно открыли ворота. Моих людей застигли врасплох. Я видел предателя, государь, тем тяжелее мне это вынести. Ворота крепости открыла врагу моя собственная дочь.
— Как странно, — произнёс Ромул. — А я слышал, будто ты строгий отец и держишь её в покорности. И непонятно, как это ты оказался вооружён, когда твои люди спали? Гляди-ка, на руках перстни, кошелёк на поясе, большая серебряная пряжка; можно подумать, ты куда-то собрался и захватил с собой ценности. Где твоя дочь? — вдруг рявкнул он.
— Я её видел, государь, — крикнул один из воинов. — По крайней мере, я думаю, это была Тарпейя. Главные ворота стояли настежь, вокруг факелы. На пороге свалилась девушка, а сабиняне побивали её, ну, как побивают камнями, только они кидали не камни, а щиты. Я видел, как она упала. Сейчас, должно быть, уже умерла;
— А отец её жив, невредим, и все богатства при нём, — задумчиво проговорил царь. — Тарпейя потеряла жизнь. Я потерял крепость. Один ты, Тарпей, ничего не потерял. Эй, вы двое, поставьте этого человека на колени и отрубите ему голову. Вот как в Риме обходятся с предателями. А мы пойдём штурмовать Капитолий, пока сабиняне там не освоились.
Тарпей был горд. Он сам упал на колени и вытянул шею: пусть по крайней мере скажут, что он встретил смерть спокойно и бесстрашно. Целер отсёк ему голову в три удара; смертельным, наверное, был уже первый, потому что Тарпей не издал ни звука. Голова покатилась по земле, царь схватил её, крутанул, чтобы стряхнуть кровь, и насадил на кол палисада.
— Воины, за мной! — прогремел Ромул. — Если до зари не отобьём Капитолий, города у нас больше не будет.
— Чур меня! Марс меня сохрани, и Юпитер, и Мать, и какое божество живёт на этом месте! — в смятении зашептал Марк. — Пусть все боги отвратят знамение. Если останусь жив, принесу в жертву свинью. Ты видел? — повернулся он к соседу справа. — Кровь брызнула мне прямо на тунику. Хуже знамения не придумаешь, да ещё перед битвой. Что самое скверное, я знаю, что Тарпей не виноват: он каждую ночь охранял крепость в полном вооружении, так серьёзно относился к своим обязанностям. Дочь не очень-то его слушалась, она думала только о том, как бы заполучить мужа. Не иначе, её подговорил открыть ворота какой-нибудь сабинянин. И вот сейчас бой, а на меня свалилось такое злосчастье. Пусть кто-нибудь доложит царю, надо по крайней мере похоронить Тарпея с почестями.
— Утихни, герой, пока тебе не заткнули глотку целеры, — ответил сосед. — Не пройдёт и часа, как все мы будем с ног до головы в крови невинных, не один Тарпей сегодня сложит голову зря. Я много видел, как умирали воины, видел однажды, как женщина камнем убила мужчину-силача, но никогда не видел, чтобы кого-нибудь убила дурная примета.
Марк замолчал. Он должен сражаться за свой дом — дом, где он был так счастлив, где сейчас спит его сын. В третьем ряду не самое опасное место, щит у него широкий, а кто не хочет защищать свою долю города, недостоин называться гражданином.
Начинать войну с неподготовленного броска в темноте на крутой холм было ошибкой. Сабиняне ещё грабили захваченную крепость, не могло быть и речи о том, чтобы захватить их врасплох — по нападающим ударил град дротиков и камней. Человека со щитом это может только разозлить, но в такой давке кому-то неизбежно не повезло, и римляне дрогнули: обидно терять людей, когда до врага ещё не добраться. Ближе к вершине они остановились: между кольями палисада ощетинился сплошной ряд сабинских копий.
Ромул попытался подать пример. Один, прикрываясь огромным щитом, он подобрался ближе и ткнул копьём сквозь палисад. Но в него нацелилось полдюжины пик, а от такого количества не защитит даже роскошный щит царя. Ромул отскочил, следовать его примеру римлянам совсем не хотелось.
Впрочем, числом ополчение намного превосходило сабинский отряд, засевший в маленькой крепости. Враги не решались высунуться из-за палисада, и камни из римских пращей загнали их в укрытие. Через полчаса обе стороны признали ничью. Царь Ромул с большей частью войска отправился на Палатин завтракать, оставив на склоне Капитолия отряд караулить захватчиков.
Людям Эмилия не повезло: пока товарищи ели и не спеша приводили в порядок оружие, они оставались в строю. Несправедливо, сколько пришлось им ждать, прежде чем наконец явилась смена. Марк поспешил домой, где его ждала приготовленная Сабиной еда. Уписывая солонину, он с полным ртом принялся сетовать на постигшее Рим несчастье.
— Теперь справа, с незащищённой стороны у нас вражеский пост. Если наш строй прорвут, сабиняне выскочат с холма и перебьют бегущих. Или мы должны выиграть битву, или все погибнем при отступлении. Но больше всего бесит, что никто не виноват, ни командиры, ни воины, никому просто в голову не приходило, что возможно такое предательство. Да и с какой стати? Не знаю, на чьей ты сегодня стороне, дорогая, и нарочно не спрашиваю, но если вдруг захочешь впустить сабинян на Палатин, не сомневайся, за тобой будут приглядывать. Мы не забыли, откуда ты родом. Но Тарпейя-то, будь она проклята, из первых поселенцев! Когда царь Ромул намечал стены, она сидела, наверно, в обозе на том самом болоте, где мы сегодня будем сражаться. Если кто должен быть за римлян, так это она. Ну зачем она нас предала, и уж совсем не понимаю, почему сабиняне её за это убили?
— Почему? Я думаю, они обыкновенные честные воины, ценят мужество и презирают предателей, даже если те приносят им выгоду. Ты бы любил меня, если бы я стала помогать Риму против собственного народа? Может, был бы рад моей помощи, но это разные вещи. Вот я провожаю тебя на битву, туника у тебя чистая, в сумке большой кусок солонины, и я буду молиться, чтобы ты вернулся живым и невредимым. Но я не скажу тебе, для кого я сегодня буду просить у богов победу.
Хотя Марк никогда раньше не видел сражения такого размаха, он думал, что всё будет ему знакомо по преданиям и песням. Бой по старинке, без манёвров, без тактических уловок. Он заметил, что убегать будет некуда. Двадцать тысяч римлян стиснуты в долине между Палатином и рекой, а позади ещё один крутой холм, Авентин.
На севере, по направлению к врагу, река изгибалась, и ровного места было больше. Этот берег назывался Марсовым полем, потому что на второй год основания Рима салии, которые исполняют священный танец для Марса, в порыве воодушевления не остались внутри палисада, а выскочили плясать туда. Топкое пятно посередине могло засосать нескольких человек, по обе стороны хватало твёрдой земли.
Марк стоял в третьем ряду Эмилиев, как положено бедному пехотинцу, не имеющему панциря. С несказанной радостью он увидел, что весь их род оказался не в первом, а во втором строю: громадному войску негде было развернуться в одну линию, поэтому ярдов на пятьдесят впереди стоял ещё один тройной строй пехоты, а перед ним лучники и пращники — беднота, у которой нет даже щитов и права голоса в Народном собрании.
Со своего относительно безопасного места Марк плохо видел и только по негодующему шуму впереди понял, что показались сабиняне. Потом он различил облако, а в нём вражеские военные знаки, в основном просто пучки листьев на длинных шестах, но среди них виднелась и маленькая фигурка марсова волка. Это уже была наглость; всё-таки дети Марса — римляне, на древке над родом Эмилиев красовался точно такой же волк.
Раздались боевые кличи — значит, первые ряды сошлись. Битвы по-прежнему не было видно, только высоко вздымались тучи пыли, а в них над борющейся пехотой маячили всадники. Марк осознал, что в нескольких ярдах от него решается будущее Рима, а он ничего не может сделать.
Ожидание тянулось долго. Марк стоял, где велели, и чувствовал, как земля постепенно раскаляется от солнца и припекает ноги. Если дальше так пойдёт, он не сможет быстро бежать ни назад, ни вперёд. Как шла битва, было непонятно, потому что не приходили пострадавшие с вестями — судя по всему, впереди сцепились так тесно, что раненые умирали в строю. Но первые ряды не отступали, стало быть, римляне пока выдерживали сабинский натиск.
Наконец Эмилий на своём коне выехал вперёд и скомандовал родичам готовиться к наступлению. Трубач возле древка с волком принялся дуть в длинную бронзовую трубу, гнусавое рычание подхватили дальше по строю, и всё вспомогательное войско римлян затрусило вперёд.
Воины наступали без пыла и воодушевления, потому что не видели врага и шли, наставив копья прямо в спины первого строя. Не так надо было вводить их в бой, но между рекой и холмами было слишком тесно для манёвров.
Эмилий ехал во главе родичей и только перед самым первым строем повернул и придержал коня. Воины вскинули копья и перешли на шаг, не видя для себя места в сражении, но от них хотели другого. Во всю глотку Эмилий приказал бежать и толкать.
Марк закрылся щитом и побежал, левое плечо вперёд, держа копьё старательно остриём вверх. Упёрся щитом в спину какого-то римлянина и нажал, тому как будто было всё равно. Только тут он вспомнил, что перед ним должны быть ещё двое человек. Повертев головой, он обнаружил обоих неподалёку, теперь они заполняли бреши в первом ряду — сколько же народа полегло впереди!
По сторонам точно так же налегали на щиты товарищи.
— Долго нам так толкать? — пропыхтел Марк через плечо соседу справа. — И зачем это надо?
— Весь день, или пока сабинянам не надоест биться. Вот попадёшь в первый ряд, поймёшь, что лучше, когда сзади помогают. Если теснить врагов, они начнут спотыкаться и опустят щиты.
В таком виде битва тянулась много часов. Теперь с обеих сторон в ней участвовали все до последнего воина. Перестроиться было невозможно, бежать и подавно — в такой тесноте всякий, кто повернётся, будет немедленно изрублен. Это понимали и сабиняне, и латиняне, и напрягали все силы, чтобы удержаться на ногах. Убитых было немного, почти все слишком усердно налегали на щиты, чтобы действовать копьём или мечом.
Просветы в сплошной толпе сражающихся были только там, где какой-нибудь начальник верхом пробивался вперёд помериться силами со вражеским всадником. Порой эти отважные наездники топтали собственную пехоту; но по крайней мере они хотели драться, а не толкать. Остальная битва превратилась в состязание на выносливость.
В целом побеждали римляне, они медленно продвигались вперёд и ещё не отступили ни на шаг. Но им не удавалось теснить сабинян настолько быстро, чтобы те повернулись и подставили спину, а пока та или другая сторона этого не добьётся, оставалось только толкать.
Вдруг взревели трубы, и тут же сабиняне отбежали шагов на двадцать назад. Это было проделано так внезапно и стремительно, что весь их строй оказался вне досягаемости римских копий. Был уже полдень, римляне бились с самого утра, и вот вражеское войско снова стояло перед ними неприступной стеной, копья наперевес.
— Славная выучка! — весело крикнул родичам Эмилий. — Вам, дубье стоеросовое, за сто лет так не научиться. Но это хороший знак: их начальники поняли, что мы им не по зубам.
— Однако, — тут же добавил он, — а у них не всё так гладко, несколько всадников попали в трясину. Люди выберутся, а лошади увязли — нечего было так быстро удирать. Ну, ребята, отдышитесь, пока снова не сошлись.
По обоюдному согласию наступила передышка, пока измученные воины перестраивались и поправляли побитые доспехи. В просвет между своим и вражеским войском на видное место выехал царь Ромул, поднял на дыбы коня и приготовился как всегда воодушевить подданных речью, но не успел раскрыть рта, как на него помчался всадник.
— Глядите, ребята, им есть за что драться, — воскликнул Эмилий. — Это Гостилий, сабинский муж госпожи Герсилии. Кто бы ни победил, сегодня она станет честной женщиной, с одним мужем.
У всадников давно уже не осталось дротиков, так что римлянин и сабинянин сразились на мечах. Гостилий широко замахнулся, деля Ромулу в голову, но тот не зря славился удалью: вместо того чтобы отражать удар, он сам сделал выпад. Вражеский меч снёс верхушку его бронзового шлема, но спасла кожаная подкладка. Сабинянин не успел выпрямиться, как римлянин всадил меч ему в грудь. Гостилий замертво рухнул на землю, а Ромул замотал головой и осадил ошалевшего коня.
Римляне восторженно завопили. Но их царь, наполовину оглушённый, сидя без движения на замершей лошади, превратился в отличную мишень для сабинских пращей. В воздух взвились камни, и один ударил Ромула прямо в край искорёженного шлема. Царь без сознания повалился на шею коня, воин подбежал ухватить узду, и тут сабиняне все вместе с криком бросились на врага.
Не один Марк испугался и пал духом. Весь день римляне стойко держались, зная, что под предводительством сына Марса нельзя потерпеть поражение, и вот он оглушён, может быть, смертельно ранен. Воины потеряли уверенность. Под напором сабинян передний ряд стал отступать, а задние вместо того, чтобы упереться щитами и удержать товарищей, побежали.
С того дня, как Марк впервые взял в руки копьё, ему повторяли снова и снова: в ближнем бою бегство — не просто позор, это верная гибель. Вооружённому воину трудно убежать от погони, а закрываться щитом на бегу невозможно. И всё равно, когда побежали соседи, Марк припустил за ними.
Оказывается, он очень устал и не мог бежать быстро, ноги заплетались, не хватало воздуха. Вдруг рядом возник всадник, могучая рука схватила Марка за шиворот. Прощаясь с жизнью, он взглянул вверх — но это был не сабинянин, а взбешённый царь Ромул.
— Стоять! А ну, повернись! — рявкнул царь, тряся его, точно собака крысу. В царской хватке было что-то такое, что Марк действительно повернулся и закрылся щитом. Ему показалось, что встретить смерть лицом к врагу и вправду лучше.
В толпе носились римские всадники. Эмилий остановил одну кучку беглецов, Ромул другую... Вокруг Марка начал образовываться строй, и вот уже всё вспомогательное войско римлян снова встало поперёк равнины. Передний ряд отступал медленно, и их товарищи успели построиться, как полагается.
Посреди войска царь Ромул, не слезая с коня, накинул плащ на голову и стал молиться.
— Юпитер, Небесный отец, правитель всего! — воскликнул он громко, чтобы все слышали. — Ты основа закона и прочного порядка, ты удерживаешь воинов в строю. Юпитер, Останавливающий войска, придай моим людям сил сражаться за город. Если сейчас ты воодушевишь их и спасёшь Рим, клянусь, я посвящу тебе на этой равнине не просто святилище, а кирпичный дом, где будет в роскоши пребывать твоё изваяние. Юпитер Статор, помоги своему городу Риму!
Добравшись до римского строя, сабиняне замедлили наступление.
«Дело к вечеру; и мы, и они потеряли уже сотни людей, а всё по-прежнему, как и раньше, — в тоске думал Марк. — Неужели придётся топтаться по этой тесной равнине вверх-вниз между Палатином и Капитолием, пока нас или их не перебьют до последнего воина?»
Ни римляне, ни сабиняне не рвались снова в бой, но уходить с поля тоже не хотели. Разделённые сотней ярдов, они пожирали друг друга глазами, пока командиры вытаскивали вперёд воинов из подкрепления, чтобы усилить первый ряд. К Марку вдруг повернулся какой-то наёмник-луцер, невесть откуда взявшийся среди Эмилиев, и ткнул ему в лицо изрубленный щит.
— Видал, сколько свежих вмятин? — прорычал гигант. — А твоего щита хватит на двух таких сопляков, и на нём ещё нет ни царапины. Меняемся местами, иначе я тебя насажу на копьё, как муху.
Марк не хотел показать, что струсил.
— Конечно, приятель, я встану на твоё место, пока ты не отдышишься, — выдавил он с робкой улыбкой. — Дай знать, когда будешь готов вернуться к своим.
— Как только тебя убьют, дружище, займу твоё место. Такой у нас, луцеров, порядок.
— Как хочешь. Смотри не ткни меня случайно в спину.
— Такого за мной не водится, — заявил громила, но легче от этого не стало.
Так Марк попал в первый ряд. Он выставил копьё, перехватил его поудобнее, стиснул зубы и стал ждать наступления сабинян. Вдруг справа раздались изумлённые крики, и ему показалось, что строй дрогнул. Марк высунулся вперёд, но не мог понять, что происходит: с Палатина спускалась толпа женщин с венками на головах и зелёными ветками в руках.
Женщины заняли место между войсками. Все они были в чистых туниках, словно в праздник, тщательно причёсаны и почти все с младенцами на руках. Первой выступала Герсилия, уже час как законная жена Ромула. Ничего не понимая, царь выехал им навстречу.
Марк, держа на руках сына, взбирался на Палатин, рядом Сабина несла его щит и копьё. Она только что кончила рассказывать о подвиге женщин и нетерпеливо ждала, что он скажет.
— Ну, раз царь согласился, наверно, так и надо, — с сомнением произнёс Марк, и Сабина облегчённо вздохнула. — Но чего вы с Герсилией ждали столько времени, если она с самого начала решила всех помирить?
— Не догадываешься? Каждая женщина должна быть либо непорочной девушкой, либо замужем за порядочным человеком. Незаконная жена быстро станет не лучше, чем эти несчастные возле Волчьего логова, «волчицы», как вы их зовёте в своих мужских разговорах. Герсилия, хоть и не по своей вине, но оказалась с двумя мужьями. В один прекрасный день Ромул мог её выставить, раз она не была ему законной супругой, а Гостилий, разумеется, не взял бы обратно. Так что она вполне разумно решила подождать, пока не останется один из них. Герсилия знала, что Гостилий вызовет Ромула на поединок, как положено оскорблённому мужу. И когда поняла, что он убит — это мы все видели со сторожевых башен — сразу повела нас заключать мир.
— А если бы победил Гостилий?
— Она бы всё равно всех помирила, только на других условиях.
— Наверно, сделала бы Гостилия римским царём. Вообще она крутит, как хочет — убедила Ромула, а он нам приказал. Хотя, что до меня, я за любой мир, лишь бы не совсем позорный. Встречусь с твоей роднёй, заплачу разумный выкуп, и мы наконец перестанем скрывать, что любим друг друга с самой брачной ночи. Уже невмоготу было подыгрывать тебе и делать вид, будто верю, что ты хочешь падения Рима. А теперь между нами нет вины, и я смогу познакомиться с твоим отцом.
— А лучше всего, наверно, что маленький Марк теперь будет расти среди друзей, под защитой целых двух родов. Между прочим, я знала, что его надо назвать по отцу, у сабинян такой же обычай; а для его братьев и сестёр имена известны заранее? Я бы хотела когда-нибудь назвать ребёнка в честь брата.
— Что, уже второй на подходе? Придётся просить ещё земли. Ну, по латинскому обычаю десять дочерей будут просто Эмилия Прима, Секунда и так далее по порядку, а для десяти младших сыновей имена можно выбирать — родовое имя, разумеется, будет «Эмилий». Итого двадцать один человек. Больше мне не прокормить, так что, надеюсь, ты не против на этом остановиться?
— Посмотрим, что будет через двадцать лет, а пока мне хочется рожать и рожать тебе детей. В Риме хватит места.
— Места хватит, но странный же это будет Рим! Пять лет назад мы основали латинский город. Когда строили палисад, в ополчении было всего три тысячи человек; с Азилом и колониями набралось десять тысяч, в основном латиняне. Потом против твоих земляков взяли этот сброд, лудеров. А теперь здесь поселятся ещё десять тысяч сабинян. Интересно, где этому конец? Тридцать тысяч человек — огромный город, даже боязно, хватит ли счастья на всех. Вначале его было вволю, даже несмотря на убийство в день основания. Голова на Капитолии, царь — сын Марса! Я тогда не верил, а теперь понимаю, что счастье у нас было; да упрочат его боги.
— Так и будет. Гляди, маленький Марк смеётся, это доброе знамение.
Глава 5. САБИНЯНЕ
Целый народ снялся с места. Так много было запряжённых волами повозок, так велико стадо, что переселенцы сошли бы за восточных дикарей, которые живут в кибитках и не знают постоянного дома. Но там и тут в общем потоке волы брели спряжёнными в пары, хотя ничего не тянули, а на каждой крепкой повозке гору пожитков венчал деревянный с железным лемехом плуг. Это были не кочевники, а земледельцы.
Путешествовали они мирно, без нужды в военных предосторожностях, так что Публий, хоть его место в войске и было в первом ряду, шагал возле своей повозки. В облаке пыли, среди оглушительного скрипа несмазанных осей, было почти невозможно ни видеть, ни слышать, и ему оставалось только думать. Переселение должно было стать важнейшей переменой в его жизни. Не то чтобы тяга к переменам вдруг нашла на него самого — переезжал глава рода, а с ним все верные родичи.
Публий решил, что так даже лучше. Всем, а сабинянам особенно, проще выполнять долг, чем принимать трудные решения. Против переселения можно было много чего сказать, и он бы сказал; но никто не удосужился его спросить, и вот он здесь. Этот гвалт, пыль и пот, раздражённая толпа со всех сторон будут теперь окружать его до конца дней. Сегодня все заночуют за палисадом, сбившись в кучу, чуть не вплотную друг к другу. Конечно, и дома, в хижине, где жена и дети жались поближе к дымному очагу, тоже было не слишком просторно; зато во всей деревне пять домов, а дальше — нетронутые ряды буков, за которыми не видно даже дыма соседнего села.
Сегодня же ночью вокруг будут сотни переполненных хижин, а от леса его отрежут запертые ворота и стража — самое неприятное в новой жизни, по крайней мере, пока не привыкнешь. Хотя нет, не самое: противнее всего, разумеется, поддерживать хорошие отношения с бесчисленными соседями. Он уже испытал как-то на себе это мучение, когда вместе с родичами разведывал озеро за горами, вчетвером в одной лодке. Спать приходилось вповалку, словно птенцам в гнезде, да ещё и быть вежливым спросонок, когда каждый нормальный свободнорождённый сабинянин хочет, чтобы к нему не лезли и не мешали проснуться. Того плаванья с него хватило. Кончилось оно тем, что он вышиб зуб недоумку, который ему случайно плюнул на ногу. Берега озера кишели дичью, но больше Публий в ту сторону не ходил.
На новом месте соседи будут повсюду. И даже воевать они отправятся стиснутые в строю, на латинский манер. Как там говаривали в прошлый бесплодный поход? Если пробить латинский щит, на тебя кинутся трое, которые за ним прятались. Не бродить ему больше в одиночестве под сенью буков. Разве это жизнь для свободного сабинянина!
Но мысль остаться даже не задержалась в его уме. Таций будет жить в городе, а куда бы ни направился Таций, родичи должны следовать за ним. Латинянам не понять, что стоит за этим беззаветным повиновением; они считают Тация царём и удивляются, почему подданные не уйдут от него и найдут себе, как привередливые латиняне, другого царя, получше. Они не знают, что Таций больше, чем царь — он глава рода. Давно, так давно, что никто точно не знает когда, а знает лишь число поколений в родословной, был только один Таций и его жена. Когда его шесть сыновей женились, главенство осталось у старшего. Сейчас по праву глава всей разросшейся семьи — Тит Таций, а Публий, потомок младших сыновей младшего сына, должен почитать его, как латиняне — ведь в них есть искра порядочности — почитают дедов. Если Таций решил жить за частоколом, словно дойная корова, родичи пойдут вместе с ним.
Проехали трудное место, колдобину, которая зимой превращалась в топь, а сейчас высохла от летнего зноя и наполнилась мягкой пылью. Упрямо раскачиваясь, волы тяжело полезли вверх, словно хотели сорвать повозку с колёс. Публий выровнял их, помахав перед мордами копьём. Вообще-то Таций распорядился, раз путешествие мирное, идти безоружными; меч, панцирь и шлем тряслись в повозке с прочим скарбом. Но щит и копьё Публий нёс в руках, отчасти чтобы видели, что он свободный воин, отчасти потому, что только так и можно спокойно, не повредив, перевозить эти ценности.
Стуча и скрипя, повозка одолела яму. Гора поклажи качнулась и едва не завалилась набок. Публий глянул вверх, где, бережно охраняя плуг, примостились жена и дети. Сквозь густую пыль он различил, что их всё ещё трое, никто не упал. Все домочадцы были на месте, причин беспокоиться не больше, чем всегда.
Семья — вечное беспокойство, этим неизбежно надо расплачиваться за то, что ты свободный женатый воин. Как на домашних повлияет город, не хотелось даже думать. Жена, Клавдия — надёжный человек, свободная сабинская матрона замужем за полноправным родичем. И всё-таки вокруг неё постоянно будут латиняне, хитрые, ловкие, вкрадчивые соблазнители. Она может захотеть лучшей жизни. Хуже того, может пожаловаться на обиду от одного из этих чужаков. Тогда непонятно, что делать: в городе первое правило — не поднимать оружия на сограждан, но сильнее ли этот закон, чем тот, что велит немедленно убить всякого, на кого укажет оскорблённая жена?
И за рабами в городской тесноте трудно присматривать. Его рабы: пахарь с женщиной будут всё время сновать среди чужих домов, в такой сутолоке не сразу спохватишься, если они убегут. Хотя с чего бы рабу, если с ним хорошо обращаются, убегать? Ведь всякий, кто его укроет, естественно, снова сделает его рабом. Ну, может быть, на этот счёт будут какие-нибудь законы, до которых ему не додуматься. За много лет, что латиняне живут в городах, они уж наверно научились заставлять рабов трудиться.
Но больше всего Публия тревожили дети. Ему было тридцать, но женился он всего шесть лет назад, а из пятерых, что родила Клавдия, выжили только двое. Маленькому Публию четыре года, Помпонии — два. Ребята непоседливые и не слишком послушные. В деревне, вдали от соблазнов, из сына вырос бы храбрый воин, из дочери — скромная невеста, а среди пороков города, да ещё латинского, они могли, чего доброго, запятнать честь рода Тациев.
Но ничего не поделаешь. Таций решил так, и братья идут за ним. Хотя он поступил странно, Публий, пожалуй, даже сказал бы «бесчестно», узнай он такое о ком-нибудь другом — собственный глава рода, разумеется, ничего бесчестного сделать не может. Заключить мир посреди боя, когда есть все надежды на победу, а поражение вроде бы не грозит, на первый взгляд отдаёт малодушием. Помириться по совету горстки женщин ещё более удивительно. Перевернуть всю жизнь и поселиться в городе вместе со своими врагами, латинянами, уже явное чудачество. А для простого сурового сабинянина, землепашца, лесного жителя, охотника на кабанов, нет ничего хуже, чем прослыть чудаком.
Утёс над дорогой показался Публию знакомым. Конечно, ведь здесь останавливалось войско позавтракать перед битвой. Почти приехали, если бы не пыль столбом, уже показался бы Рим. Публий вспомнил, что дорога перед холмами делает петлю почти к самой реке. Он решил, что в этом месте велит всем слезть с повозки, умыться и переодеться, чтобы понравиться новым согражданам.
Тут спереди передали, чтобы воины построились к торжественной встрече царей; женщины и дети могут смотреть, если захотят, а за вещами последят рабы. Клавдия подала мужу тяжёлый узел с доспехами. Публий гордился вооружением, которое давало ему место в первом ряду. Панцирь и шлем — отцовское наследство, то и другое из тонкой бронзы на хорошей кожаной подкладке. Поножи он добыл сам в удачной стычке с этрусскими разбойниками, чистая бронза и льняные завязки. Многие зажиточные этруски носили поножи, но на этом берегу они были редкостью. Пехотинцу, которому приходится карабкаться по горам, от них мало помощи, и в настоящие походы Публий их обычно не брал, но для парада они были необходимы.
Завязав все узлы на доспехах, он надел поверх панциря нарядную, шерстяную с вышивкой перевязь. На ней висел замечательный меч. Публий купил его в одно из редких перемирий у торговца-этруска, но выкован он был на севере. Двуострый клинок в форме листа, длиннее и тяжелее обычных мечей Средней Италии, из превосходной стали, не тупился даже в сырую погоду. Меч стоил Публию трёх коров и здоровенной бочки вина; хорошо, что как раз тогда он угнал больше скота, чем имел право пасти на общинных землях. В полном вооружении Публий выглядел так внушительно, что делалось странно, почему он не на коне: не каждый знатный всадник щеголяет такими доспехами.
Пока повозки стояли, пыль постепенно осела и показались окрестности. Публий уже знал эту местность, но было странно вспоминать, с каким волнением он тогда смотрел вокруг, перед близкой битвой даже у храбрецов дыхание перехватывает и во рту делается сухо. Вон плоский валун, на котором он в прошлый раз надевал поножи. Прямо впереди изгибалась река, над ней сбились в кучу островерхие холмы, покрытый садами Пинцианский холм уже остался сбоку. На юге торчала шишка Капитолия и широкий закопчённый палисад на Палатине. Он стоял на краю болота, где недавно так упорно сражались. Битва была не из лёгких, один раз даже пришлось отступить — вон топь, где Курций потерял лошадь, — но они собрались с силами и погнали этих латинян-женокрадов. Не ответь Юпитер на молитву царя Ромула, они бы взяли палисад ещё засветло, и Риму бы пришёл конец. Видимо, что-то есть в сказках, будто этот царь ниоткуда — сын бога: счастья у него явно больше, чем положено простому смертному.
Ромул, похоже, решил встречать гостей прямо на поле боя. Он сидел на коне во главе всех своих подданных, хоть начинай битву сначала. Если бы сабинянам вздумалось, они могли бы проверить, поможет ли Юпитер римлянам ещё раз.
А впрочем, сражаться они бы не смогли. Римляне стояли строем, как всегда в три ряда — и очень ровно, должно быть, недавно упражнялись — но без оружия, в чистых туниках, огромные шерстяные плащи у всех одинаково закинуты на левое плечо. На них было просто приятно посмотреть.
Публий почувствовал, что начинает смягчаться к этим охотникам до чужого. Сабиняне, конечно, пришли на торжественную встречу в лучшем вооружении, потому что на людях для воина копьё — знак положения в обществе, да и ни у кого не было этих длинных белых римских плащей. Встречать чужих без оружия, доказывая, что веришь их клятве — такой изысканный, преувеличенно-учтивый жест никогда не пришёл бы в голову сабинянам, — это было славно придумано.
Оба строя остановились недалеко друг от друга, предводители обнялись, не сходя с коней, и Ромул выехал вперёд, чтобы все гости слышали его приветственную речь. Сначала он указал направо, сабиняне вытянули шеи и увидели у подножия Палатина квадратный кирпичный домик. Должно быть, это была священная сокровищница, потому что вокруг торчали прутья без коры, какими огораживают участок для гадания. Публий удивился: нашли где хранить святыни, за стенами города.
— Друзья, это здание стоит на тот самом месте, где вы, когда были в Риме последний раз, едва не победили меня, — объяснил царь Ромул. — Там я воззвал к Юпитеру, Останавливающему войска, и он вселил мужество в моих людей. За это я дал обет построить ему дом. Вот этот дом, жилище Юпитера Статора. Конечно, у Юпитера есть святилище, которое я обвёл своим счастливым гадательным посохом, но посередине этого святилища мы возвели здание из прочного кирпича. Оно открыто, и Юпитер может входить и выходить, когда захочет. Внутри возлежит его статуя, время от времени мы приносим ему хорошее угощение. Он доволен, потому что когда я гадаю по птицам, знамения благоприятные. Так что теперь вы знаете: это обитель бога, первый дом в наших краях. Не вздумайте заходить, если чем-нибудь себя осквернили. Но каждый раз, глядя на эти стены, вспоминайте, что это памятник равному мужеству латинян и сабинян, которые здесь сражались, и что только царь, который понимает богов так хорошо, как я, мог догадаться его построить. Боги покровительствуют нашему новому жилищу, а я толкую их волю. Это счастливый город, и правит им счастливый царь.
«И болтливый, — добавил про себя Публий. — Но всё равно, поселить Юпитера Статора в Риме — здравая мысль, пусть присматривает за городом. И раз дом стоит под палисадом, значит, Ромул верит, что его люди способны не подпускать врагов близко. Может статься, жить в толпе латинян не так уж и плохо».
Царь Ромул заговорил снова:
— Друзья, мы вам очень рады. Но за палисадом не хватит места для всех нас, к тому же я уверен, что вам будет удобнее и спокойнее жить отдельно. Пусть пока мои люди останутся на Палатине, а вы постройте палисад и дома вон там, на Квиринальском холме. Но две деревни останутся единым городом, здесь, в долине мы будем сходиться на Народное собрание и принимать решения, обязательные для всех. Здесь мы не латиняне, не сабиняне, а просто римляне. В подтверждение этого давайте приходить на собрания по одному. Не надо ни с того, ни с другого холма спускаться толпой. Прошу вас, — добавил он более значительно, — в этом счастливом месте, возле дома Юпитера, будем римлянами, а не жителями Платина или Квиринала. Только так мы обеспечим городу благоденствие на долгие времена.
— А как же предки? — закричал кто-то из сабинян. — Хранителями нашего рода служат только родичи, мы не хотим, чтобы в наши жертвоприношения лезли латиняне.
— Я это учёл, — ответил Ромул с улыбкой. — Если царь Таций не возражает, разделим граждан на трибы. Мои люди — Рамны, вы — Тации, а остальные, не латиняне и не сабиняне, будут зваться Луцерами в честь Лукумона, своего самого видного вождя. Но это деление касается только обрядов. На собрании, а тем более против общего врага вы должны быть римлянами и только римлянами.
Послышался гул одобрения. Служить богам — дело семейное, в него нечего вмешиваться чужим. Но в остальном, особенно если не надо жить с латинянами бок о бок, сабиняне от участия в этой двойном городе только выигрывали и становились сильнее.
Затем вожди спешились и отправились обсуждать частности наедине, пока гадатели всякими способами испрашивали у богов счастья для нового союза. Через некоторое время царь Таций через посланцев велел собрать сто человек своих родичей, а остальных отпустил перевезти семьи и поклажу на Квиринал и взяться за строительство палисада.
Публий вынужден был предоставить жене выбирать место для дома. Всё равно решала бы Клавдия, даже будь он рядом, но он попал в число ста воинов, которых вызывал царь.
Таций был растерян и от этого немного злился. Старше и опытнее Ромула, он только водил сабинян в битву, а управлять в мирное время ему ещё не приходилось. Последние полчаса он изо всех сил пытался вникнуть в новшества, которые предлагал молодой соправитель.
— Значит так, братья, — сухо сообщил Таций родичам. — Утром вы были просто воинами, как все, а теперь — почтенные отцы. Никто к этому не готовился. Я выбирал вас в спешке, как попало, и, может быть, не всех правильно, но знаю, что вы для меня постараетесь. Видите ли, у царя Ромула есть совет из сотни старейшин; он предложил удвоить его, чтобы мы вдвоём возглавили совет двухсот, и просил сегодня же собрать старейшин на первое заседание. Мне не хотелось объяснять, что у нас один вождь и много равных воинов, поэтому я выбрал вас. Так что не подведите. Остальное вы сами понимаете. Конечно, никаких советов, пока я не попрошу, а когда попрошу, то заранее сообщу вам, что советовать. Никаких дерзостей и вольничанья. Если латиняне хотят, чтобы мы заседали в совете, это ещё не повод перечить главе рода. Можете передавать остальным братьям приказы, а если кто-нибудь спросит, по какому праву, скажите, что я, Таций, назначил вас старшими. Это всё. Думаю, не нужно напоминать, что в римском совете вы голосуете все вместе так, как скажу. Теперь ступайте строить дома, да пошевеливайтесь. И вот ещё что, ни у кого нету лишней пилы? Управляющий забыл взять мою.
Лишней пилы не нашлось; их возили с востока, и стоили они недёшево. Кто-то предложил взамен долото. Как глава рода Таций мог требовать от своих людей полного подчинения, но предки у них были общие, и никому бы не пришло в голову работать на него, словно на господина. Либо пусть строит жилище сам, со своими рабами, либо остаётся ночевать под открытым небом.
Квиринальский холм, как и Палатин, был крутым и плосковерхим, но гораздо больше и соединялся с возвышенностью к северу. Здесь было где развернуться любящим простор сабинянам. Публий разыскал Клавдию, которая вдвоём с пахарем пыталась забить угловой столб, пока рабыня присматривала за детьми. Он одобрил место, сообщил, что его назначили чем-то вроде латинского вождя, потом оставил их продолжать работу и отправился строить палисад. Укрепления всегда возводят воины, без помощи женщин и рабов.
Жёны и дети должны быть укрыты от непогоды, и уже через несколько дней у всех сабинян была добротная крыша над головой. Воинов интересовало расположение наделов: если уж переселяться, то так, чтобы поле было лучше и больше, чем в родных местах. В целом они остались довольны выделенной землёй.
Публий был более чем доволен. Ему отвели два полных надела расчищенной пашни и кусок леса, который можно выкорчевать, когда понадобится ещё место под ячмень — вдвое больше, чем дома. Он горячо поблагодарил царя Тация.
— Скажи спасибо своим поножам, — ухмыльнулся в ответ царь. — Это обычный надел для отцов-сенаторов, как вас зовут латиняне. Царю Ромулу, похоже, не понять, что все мои люди — один род; у них семьи куда меньше. Когда он рассказал про свой Сенат и предложил мне добавить ещё сотню глав семей, пришлось набирать советников на месте, а ста не выходило, и тут мне попались на глаза твои славные поножи. Человек в таких доспехах — важная птица, по крайней мере, так решит любой латинянин. Надеюсь, тебе-то нравится новая должность. Ну-ну, не обижайся, ты её заслужил не меньше, чем латинские мальчишки, советники Ромула. Мы с ним неплохо ладим, он умелый правитель, но совершенно помешан на громких словах — Отцы, Совет старейшин, а там никому нет и сорока. Хотя должность сенатора пожизненная, так что время, надо полагать, это исправит.
— Судя по первым заседаниям, всё обсуждается в Сенате, а собрание только слушает речи и голосует за или против. Мы управляем городом, а простые граждане слушаются.
— Могут и не послушаться, хотя не знаю, с чего бы, разве что их всерьёз рассердят. Народ всегда можно держать в руках, если подавать ему каждое дело только с нужной стороны, но для этого Сенат должен быть единым. Смотри не начни сам ничего выдумывать.
— Разумеется, брат. Ты глава рода, все Тации будут голосовать, как ты скажешь, и в Сенате, и в собрании. Между прочим, это значит, что в Риме будут править сабиняне: мы всегда заодно, а взбалмошные латиняне то и дело разделяются.
— В целом ты прав, но не надо слишком увлекаться. Есть ещё третья сторона, луцеры. В Сенат этот сброд не попал, но в собрании голосует. Они никого не слушаются, особенно Лукумона, за которым сюда пришли. Короче, мы сильнее, но надо действовать осторожно. Если тебе всё равно, а другому нет, пусть он делает по-своему. Хорошее правило для правителей города, особенно когда в нём граждане со всего света. Запомни мои слова, брат, и обдумай за плугом. Не стану тебя задерживать, ты, наверно, спешишь в поле.
— До свидания, брат. Можешь всегда рассчитывать на мой голос, — ответил довольный Публий. Рамны и луцеры обращались к царю «государь», но приятно было почувствовать, что сабинский воин своему правителю брат.
Земля на латинской равнине была не такая, как на вырубках в сабинских холмах. Умеючи с неё можно было получить лучший урожай, и переселенцы с радостью слушали советы коренных жителей. Полем к югу от Публия владел латинянин по имени Марк Эмилий, приветливый, скромный человек, который не скрывал, что он у Эмилиев всего-навсего воин, но уверял, что небольшое родное племя у него тоже когда-то было. Держался он на редкость приятно, с должным почтением к видному сенатору, со снисходительной мягкостью к пахарю, который тоже был латинянином, но уронил честь мужчины, когда предпочёл рабство смерти в бою.
Марк обходил поля с новым владельцем и его слугой и давал дельные советы относительно того, как правильно пропалывать и осушать. Только под вечер он робко заметил, что его жена — из похищенных сабинянок, может быть, даже родня досточтимому Публию.
— Дело в том, что когда я насильно женился на ней, она не говорила своего имени; и я решил звать её Сабина. Теперь мы очень подружились, жена ничего от меня не скрывает, но я так и не знаю, из какого она рода. Она говорит, что полюбила имя, которое я дал ей в нашу брачную ночь, не хочет его менять, и до самой смерти останется Сабиной. Может быть, твоя супруга, почтенный Публий, зайдёт к ней и расскажет, что нового на родине?
— Я сделаю всё возможное, непременно попрошу Клавдию. В Риме ведь надо жить по римским законам, нельзя указывать собственной жене, куда пойти. И даже надо уступать ей дорогу на улице, — Публий фыркнул над нелепым законом, который, впрочем, соблюдал, как честный воин.
— Это не совсем закон, а указ. Царь Ромул издал его, чтобы как-то искупить кражу жён, и жить по нему оказалось вполне удобно. Раз вы здесь, обиды больше нет, но это не повод отменять хороший обычай.
— Вы, римляне, вообще так носитесь друг с другом! — в голосе Публия сквозило раздражение. — У нас в деревне все пять домовладельцев были кровными родичами, но если поссорятся, а так часто бывало, могли пустить в ход и кулаки, и камни, только, конечно, не оружие. А здесь не смей подбить глаз согражданину, сразу потащат в собрание, прямо не верится, что начинали вы несколько лет назад как разбойники.
— Я думаю, в каждом городе так. В сущности, никак иначе он и не может существовать. У нас, латинян, вековой опыт городской жизни.
— Ну и что в ней хорошего? Работаешь ничуть не меньше, чем любой крестьянин, грабить никого не грабишь, теряешь время на болтовню в собраниях, а дома не смей делать что захочется, чтобы не помешать соседу.
— Не знаю, — медленно ответил Марк. — У меня нет другого дома, а здесь неплохо. Детей никто не захватит и не продаст в рабство, и друзей у них много. Я бы не вернулся в деревню, даже если бы отец позвал — привык к толпе, приятно, что всегда есть с кем поговорить. И потом, с самого основания наш город и все его граждане отмечены потрясающим счастьем.
— Ах, да, счастье. Наверно, что-то в этом есть, вот только не видно, чтобы оно было общим. Мы служим богам порознь, по своим родам и трибам.
— Для всего города тоже есть обряды, в основном в начале года, до конца зимы ты их не увидишь. Мы стараемся, чтобы счастье было у всех.
— Ну, про ваши состязания колесниц знают все сабиняне. Как только у вас хватает наглости повторять их каждый год! А что до остальных обрядов, посмотрим. Если они не роняют чести сабинского воина, я буду в них участвовать.
— Они замечательные. Не сомневаюсь, когда придёт время, ты будешь рад присоединиться...
Осень сменилась зимой, и постепенно Публий обнаружил, что толпа не так уж назойлива. Дома вполне можно было уединиться; правда, соседи слышали всё, что делалось внутри, но без приглашения никто не входил, и Публий скоро выяснил, что ссылаться на то, что услышал через стену, не принято. Даже когда однажды пришлось высечь раба и громкие стоны были, конечно, слышны всем соседям, никто ничего не сказал. В сущности, в Риме в личную жизнь лезли даже меньше, чем на родине — здесь постоянно что-нибудь происходило, и соседям было не до тебя, а там любой необычный шаг сейчас же принималась обсуждать вся деревня.
На Квиринале хватало места, так что в хижине Публия было две комнаты, не считая пристройки для рабов. Рабы терпеть не могли друг друга, потому что женщина была лигурийская дикарка, а мужчина — латинянин из низов, с совершенно другими привычками, но, естественно, им приходилось спать вместе: женщина ещё достаточно молода, чтобы дать потомство. К сожалению, она так ненавидела пахаря, что до сих пор не приносила детей. Рабыни часто обманывают хозяев таким образом; говорят, оставаться бесплодными им помогает тайное заклинание, неизвестное свободным людям.
В самой хижине в первой комнате был очаг, ларь с зерном и полки для оружия и доспехов; здесь же принимали гостей. Внутренняя комната с огромной двуспальной кроватью безраздельно принадлежала Клавдии и детям, даже муж просил разрешения войти туда, а другие мужчины не допускались вовсе. По свободным римским обычаям Клавдия могла принимать у себя подруг, не спрашивая мужа.
Она близко сдружилась с женой Марка, которую по-прежнему все звали Сабина.
— Она просто чудо и отличная мать, сама совсем девочка, а уже двое на руках, и скоро будет третий, — рассказывала Клавдия мужу. — Я сначала думала, что она что-то скрывает — землякам-то можно назваться, даже если не хочешь, чтобы твоё имя знали латиняне. Но теперь я не сомневаюсь, что она настоящая свободнорождённая сабинянка, это видно по всему. Она говорит, что её отец и дядья не заключили с римлянами мира, и она не открывает своего имени, чтобы они не стали мстить. Это разумно. Если родичи ничего про неё не услышат, то постепенно забудут свой долг. Я стану и дальше звать её Сабина, хотя это не имя, когда в Риме столько сабинянок.
— Пожалуй, ты права. Жена уходит в семью мужа и порывает с отцовским родом. Странно только, что она считает Марка законным мужем. Если вспомнить, как подло он её похитил...
— Не думаю, что ему пришлось долго за ней гоняться на этих состязаниях, про которые нас так настойчиво просят забыть. Наверно, у неё не было никого на примете в собственной деревне. По крайней мере, своему латинянину она предана прямо-таки до нелепости.
— Что-что, преданная жена — это нелепо? Дома мы так не считали. И если тебя просят забыть о предательстве на Консуалиях, то уж не надо напоминать, что здесь нет ни сабинян, ни латинян, а только римляне.
— Ты тоже хорош, — улыбнулась Клавдия, — называешь деревню домом. Дом теперь здесь, и после нас здесь будут жить наши дети.
— Если Рим не развалится раньше. Незачем было основывать город на самой границе с этрусками, если их не грабить, но цари не хотят устроить поход. Остаётся надеяться на пресловутое счастье, которым вроде бы владеет Ромул. Может, оно нас вытянет. Латиняне не жалеют сил на то, чтобы ублажать богов своими странными обрядами...
Обрядов было много, и один из них едва не поссорил посёлки, которые старались слиться в один город. Зима переломилась, прошло самое тяжёлое время, дни делались длиннее, а земля подсыхала. Каждый земледелец чувствовал, что пора показаться всходам.
Публий не находил себе места. Поля были в чистоте и порядке, канавы отводили лишнюю воду, но пока не пробьются ростки, неизвестно, как тебя приняла земля. Он хорошо знал это напряжение, на его памяти род переселялся трижды, и каждый раз все тревожно ждали, когда старики объявят, что обряды роста прошли успешно. Пора было и Ромулу это объявить. Уже десять дней, как женщины и девушки плели корзинки и прятали в них то, что не должен видеть ни один мужчина.
Клавдия, конечно, знала, когда объявят время очищения. Она постоянно мылась, одевалась в чистое и с загадочной улыбкой уходила к роднику, где собирались женщины. Как-то взяла с собой и рабыню, хотя та по-прежнему не подавала признаков плодовитости и никак не могла показать хороший пример полю, где будет колдовать. Публий не надоедал жене с неподобающими расспросами, да она бы и не ответила. У мужчин своя жизнь, у женщин своя.
И вот однажды утром Публий понял: что-то произойдёт; Клавдия и рабыня поднялись рано, старательно вымылись и принарядились. Выйти из дому они не пытались, но стояли в дверях и явно чего-то ждали.
Публий хотел пойти в поле ещё раз потыкать палкой канавы, проверить, не застаивается ли вода, а на самом деле просто успокоить душу и повозиться с землёй, с которой потом собирать урожай. Но теперь он решил остаться и посмотреть, что станут делать женщины. Клавдия не обращала на него внимания. Публий уселся на табурет и сделал вид, что приклёпывает разболтавшийся наконечник копья, а сам наблюдал за женой. Она прислушивалась и, судя по всему, звук должен был раздаться издали.
Его услышали все сразу — волчий вой за палисадом. Захныкали дети. Публий схватил щит, копьё, с сожалением глянул на стену, где сияли поножи. Гнаться за волками в них нельзя, они мешают бежать, но если волки гонятся за тобой, а шло, похоже, именно к этому, то поножи — совсем не лишнее.
Он прислушался внимательнее и повернулся к жене:
— Когда я уйду, запри дверь и спрячь маленького Публия в ларь для зерна. Это не волки, это чей-то боевой клич. Не понимаю, как им удалось подобраться так близко, но, кажется, они застали нас врасплох.
Он изо всех сил старался не выдать страха. Одно дело — готовиться к бою не спеша, должным образом настроившись, с боевым кличем и священными обрядами, и совсем другое — вдруг услышать крики врагов, когда завтрак ещё на столе. Но если на палисад нападают, ответ один — обороняться, для битвы уже слишком поздно.
— Да это люди, — спокойно сказала Клавдия, — мы их ждали. У них так похоже получилось, что я сперва испугалась, что это правда волки. Не беспокойся, это обряд. Сейчас все выйдут на улицу, а люди-волки принесут нам счастья. Я не предупредила тебя, потому что это женское дело.
Со смешанным чувством досады и облегчения Публий подошёл и встал у двери, женщины вышли вперёд. Его сердило, что он показался семейству растерянным, даже напуганным. Публий хотел было поколотить жену или выпороть рабыню, но знал, что успокоится и передумает, а попусту грозятся только дураки.
Все сабиняне высыпали на улицу посмотреть, что происходит, но уже привычные к городской тесноте, они оставили посередине узкий проход. Ближе и ближе подкатывала волна радостных криков, завернула за угол, Публий вытянул шею и ужаснулся.
Прямо на него выскочили четверо голых юнцов. Ну, не совсем голых, на головах и плечах у них болтались растерзанные козьи шкуры, и такие же кровавые лохмотья они держали в руках, но ниже плеч на них не было ничего.
Изображая волчий вой, юнцы подбежали, один остановился прямо перед Публием, лицом к лицу. Тот, естественно, попытался загородить жену и дочку от неприличного зрелища, но женщины, даже маленькая Помпония и рабыня, протиснулись вперёд. Улыбаясь, они протянули руки, словно хотели обнять бесстыдника.
Парень с прыжками и ужимками замахал клоком свежесодранной шкуры, забрызгивая всё вокруг кровью. Публий нырнул в хижину за мечом, но когда вернулся, наглец уже убежал дальше. Все женщины на Квиринале завывали по-волчьи, голые парни носились из переулка в переулок, а беспомощные отцы семейств, ошеломлённые непристойным набегом, тщетно пытались их отогнать.
Всё кончилось так же внезапно, как и началось. Юнцы взвыли напоследок и выскочили в дальние ворота. Видно было, как они бегут через долину обратно на Палатин.
Публий не терял времени. Он взял копьё в знак того, что идёт по общественному делу, и отправился разыскивать царя Тация. К царской хижине отовсюду уже спешили сердитые воины, и у дверей собралась толпа. Когда царь вышел, Публий вспомнил, что он сенатор, и заговорил от имени всего обиженного рода.
— Брат, немедленно веди нас войной на Палатин. Эти латиняне оскорбили всех честных женщин в нашем роду. Их мальчишки скакали по городу в чём мать родила, совали нам в нос свою омерзительную наготу и выли при этом по-волчьи, словно объявляли, что ведут себя не как люди, а как дикие животные. Надо срочно отомстить, сегодня же.
Таций ухмыльнулся. Для родичей это была смертельная обида, но он явно не разделял их возмущения.
— Успокойтесь, братья, — сказал он, посмеиваясь. — Вы видели священный обряд, латиняне устраивают его каждую весну, чтобы женщины были плодовиты. Они изображают волков, потому что их вскормила волчица. На какую женщину попадёт кровь с козьей шкуры, у той будут дети. Молодые люди должны быть без одежды, это часть обряда. До следующей весны они не появятся. Совершенно не из-за чего объявлять войну согражданам.
— Нет, брат, так не пойдёт, — упёрся Публий. — Мы знаем, все мужья знают, что у женщин есть свои обряды для плодовитости, и не все пристойные, но женщины совершают их отдельно, не напоказ. А тут латиняне подбегают к нашим жёнам на глазах у мужей и детей, перед всем городом! Это оскорбление, они должны быть наказаны. Если ты как глава рода приказываешь сохранять мир, мы послушаемся — мало ли, вдруг латиняне правда не знали, что мы не одобрим их выходки. Но если через год опять прибегут эти голые волчицыны дети, я всажу копьё в первого, кто приблизится к моей жене. Даже если ты велишь сохранять мир.
— Как ты серьёзно относишься к этому пустяку, брат, — Таций беспокойно нахмурился. — Я глава рода, но надо считаться с мнением всех. Я обязательно поговорю с царём Ромулом. Итак, какая часть обряда вам не нравится? Что юноши являются без приглашения, что они голые, или что обрызгивают кровью женщин, не спросись мужей?
— Не то, не другое, и не третье, — послышался чей-то возмущённый голос. — Они чужаки, латиняне, вот чего я не могу вынести.
— И почему они только себя называют сыновьями волчицы? — добавил Публий. — Волк — зверь Марса, а Марса чтут не только латиняне. Сабинянам он тоже отец.
— Если дело за этим, я без труда всё улажу, — с облегчением ответил Таций. — В следующем году у нас будут собственные луперки, сыновья волчицы. Латиняне пусть делают плодовитыми своих женщин, а на Квиринальский холм счастье будут приносить молодые сабиняне. Это вас устроит, братья? Вы не станете губить наш растущий город гражданской войной? Но учтите, по мне лучше бы этот обряд для всех совершали латиняне. Плохо, что в Риме всего по два, словно мы союзники, а не сограждане.
— Зачем тогда два царя, если латиняне везде главные? — выкрикнул кто-то.
Таций, не в силах сразу придумать правильный ответ, сердито повернулся и ушёл в дом. Даже главе рода от дерзких и независимых сабинян порядком достаётся.
Собрание торжественно утвердило новый порядок. Отныне и у сабинян будут свои луперки. К тому же, поскольку потомки должны помнить, что Рим возник как город двух равноправных народов, решено было ввести и второй отряд салиев — молодых людей, которые пляшут весной со щитами и копьями и просят Марса благословить летний поход.
Более вдумчивым из влиятельных граждан эта подчёркнутая парность была не по душе, особенно разные салии: как бы их сторонники не отправились в разные походы. Но на меньшее Тации не соглашались. Они всё ещё плохо ладили с латинянами, и на старом поле могла бы состояться новая битва, не будь третьей силы, луцеров.
Лукумон объявил, что поведёт своих людей против любого, кто начнёт гражданскую войну. Это удержало город в мире, и жизнь, неуютная, напряжённая, продолжалась.
Глава 6. ПОСЛЫ ИЗ ЛАВИНИЯ
Через пять лет Публий Таций попал наконец в число салиев. Выбирал сам Марс: угодные ему воины вынули из кухонного горшка, в котором тянули жребий, меченые камешки. Публий был счастлив, что и до него дошла очередь, а то в свои тридцать шесть он становился уже староват для такого сложного обряда и боялся, что Марс вовсе его обойдёт. Когда он поделился радостной вестью с женой, Клавдия предположила, что сделать этот выбор Марсу, должно быть, помог царь Таций.
Публий сразу начал усиленно упражняться, чтобы, когда придёт время, плясать не хуже молодых. Зима выдалась необычайно суровая, но он мало ел и уходил в холмы заниматься бегом. Когда весной по Квириналу очередной раз проскакали луперки, он наблюдал за их прыжками снисходительно. Теперь это были сородичи, сабиняне; и хотя его по-прежнему передёрнуло, когда голый юнец завихлял животом перед Клавдией и рабыней, он безропотно принял это как необходимое для города. Обряд себя оправдал — рабыня принесла уже троих, да и в собственном доме Публия подрастали двое сыновей, чтобы продолжить род, и две дочери, чтобы замужеством связать его с другими семействами.
Сколько всего нужно для благополучия города! Хотя теперь уже казалось, что Рим останется навеки. Двенадцать лет — неслыханный срок для сабинских деревень, которые быстро строят и так же быстро бросают в поисках свежей земли. Возвращаясь с пробежки, Публий смотрел на обветренные палисады; можно было подумать, что суровые брёвна венчают эти поросшие травой валы с древних времён. В склон глубоко врезались колеи от повозок и острых воловьих копыт. Дорога к броду походила прямо-таки на опрокинутую стену, так долго латиняне на свой манер мостили её камнями. Кирпичный домик в долине, любимая, хотелось надеяться, обитель Юпитера Статора, тоже перестал казаться слишком новым, и граждане привыкли приходить поклониться богу, непринуждённо возлежащему, точно за обеденным столом. Рядом оставили отметину народные собрания — голый вытоптанный круг, посередине возвышение из дёрна, откуда к римскому народу обращаются дари. Даже не верилось, что когда он, Публий, подростком пас коров, в этой долине ещё никто не жил.
Да, Рим стоял прочно и был совсем не похож на то, что Публий себе представлял, когда переселялся из сабинских лесов с семьёй и скотиной — нехотя, потому только, что иначе было не кончить жестокую кровную вражду с сильным соседом, либо бесконечная война, которая не оставит времени на поля и стадо, либо этот нежданный почётный мир. Был, конечно, третий выход — позорный мир, но на совете воинов никто не решился его предложить.
Мир без поражения был заманчив, много значил и голос сабинянок, миривших отцов с мужьями, но Никто не двинулся бы с места, если бы не надежда попасть в шайку удачливых разбойников. Рим построили отчаянные головорезы, которых даже латиняне выгнали, причём построили на самой границе с этрусками, у лучшего брода — только разбойникам придёт в голову поселиться в такой незащищённой крепости, но если не бояться рисковать, то более выгодного места не придумаешь.
Первая же весна разочаровала. Салии плясали для Марса, прыгали, кидали копья, но куда бы эти копья ни указывали, Ромул заявлял, что враги в той стороне слишком сильны. А кто не слишком силён, те не враги, повсюду оказывались родичи, у которых даже свинью нельзя было украсть. По болотистым берегам на юге ютились только нищие латиняне-пастухи, к юго-востоку стояли латинские города, на холмах к северо-востоку жили сабиняне. Если не грабить родичей, оставались только этруски, и скоро исчезли последние сомнения: Ромул просто боялся этих богатых колдунов.
Виноват был, конечно, царь Таций. Вместо того чтобы расшевелить это сборище, он покорился соправителю. В собрании всегда высказывался за мир и только твердил унылым родичам, как хорошо выращивать ячмень на плодородной латинской равнине и насколько это легче делать, чем на лесных вырубках.
Пять лет Тации пахали землю и жили только трудом своих рук. Всё лето гнули спину в поле рядом с рабами, зимой боялись съесть лишнее, отмеряли зерно, чтобы хватило до следующего урожая. А в холмах другие сабиняне, не соблазнившиеся обманчивой силой палисадов, жарили мясо и пили вино. Вот как подобает жить воину. Пора было кому-нибудь предложить на народном собрании, чтобы Тации отказались от гордого имени квиритов и назывались не воинами, а пахарями. Может, тогда лентяи наконец почувствуют свою никчёмность.
Впрочем, Публий придумал кое-что получше. Марс выбрал его в салии; он спляшет так, что римлянам просто придётся воевать...
Настала середина весны, великий день. Давным-давно Марс научил предков, что следует делать летом свободным людям. Ячмень посеян и дальше будет расти сам, мужчинам необходимо вернуться домой только к жатве, сейчас самое время идти на врагов. Сначала полагалось воздать хвалу Марсу, чтобы он берег поля в отсутствие воинов, но вообще-то ежегодный танец был лишь подготовкой. Обряд не закончен, пока не захвачена добыча.
И уж на этот раз, когда салиев ведёт ветеран, да ещё сенатор, обряд будет доведён до конца.
С первыми петухами, едва на востоке забрезжила заря, Публий бесшумно встал с большой двуспальной кровати и на цыпочках вышел из дому в одной набедренной повязке. Вся семья знала, что он выбран главным салием, друзья приходили поздравить с удачей, так что когда Клавдия проснётся, она поймёт, куда ушёл муж. И всё-таки салии были не просто воинами, в их лице у бога просил покровительства весь род Тациев. Публий сейчас был не Публием, средним земледельцем, бедным, но уважаемым сенатором, а воплощением всего своего рода: современников, забытых предков, ещё не рождённых потомков. Нелепо, даже кощунственно было бы проститься с женой и пойти открыто.
Держась в тени, он бесшумно прокрался к воротам. Створки распахнуты, стражник уставился в небо. Неслышно ступая босыми ногами, Публий словно призрак скользнул наружу и вниз по склону. Колдовская сила дня уже заговорила в нём. Он был словно безоружным, беззащитным человечеством и пробирался сквозь тьму искать помощи у небесного покровителя, который вооружит его и даст мужество встретить врагов.
Жаль, конечно, что пришлось перейти широкую площадку для собраний и войти в полуотворенные ворота на Палатин, приятнее было бы получить священное оружие в сабинской сокровищнице. Но все признавали, что у Ромула особенное счастье и что он в здешних краях главный знаток обрядов. В двойном городе была только одна священная сокровищница, возле дома Ромула.
Сокровищница представляла собой высокую круглую постройку с островерхой крышей. Окон не было, крошечная дверь, в которую протиснешься только согнувшись, прорублена так высоко, что добраться до неё можно было лишь по бревну с зарубками. Стены из тонких кольев не оштукатурены, не обмазаны глиной, поэтому днём немного света проходило через щели. Но сейчас едва занимался рассвет, и внутри была бы крошечная тьма, если бы не факелы, с которыми обходили узкую галерею под самой крышей цари Ромул и Таций, снимая развешенные по стенам святыни.
Салии явились, не опоздав, и один за другим вскарабкались в сокровищницу, двенадцать, по шестеро от каждой половины Рима. Публий больше не чувствовал себя одиноким, окружённым опасностями человеком, который просит у бога защиты, теперь он был частью войска Тациев, стоял плечом к плечу с родичами.
Сверху цари подавали каждый своим салиям священные доспехи. Вначале по небольшому кожаному шлему с бронзовым шариком на верхушке, в каких ходили древние, дорожившие каждым кусочком бронзы. Потом копья, эти подходят только для обряда, сражаться ими не смогли бы и предки; широкий бронзовый наконечник был покрыт затейливым узором, а древко слишком коротко даже для дротика, словно это не оружие, а гадательный жезл.
Наконец, самое важное и священное — двенадцать бронзовых щитов, как говорили, точные копии щита, с которым идёт на битву Марс. Тяжёлые, позеленевшие от времени, они состояли из двух дисков один над другим. На них были выбиты свитые кольцами змеи со страшными разинутыми пастями. С торжественным лицом и торжественными мыслями Публий продел левую руку в ремень и сжал рукоять щита. Он никогда не носил ничего подобного и боялся, как бы непривычный вес не помешал плясать. Но теперь он и вправду был салием, связующим звеном в цепи поколений, от далёких предков до грядущих потомков. Несмотря на волнение, он чувствовал, как сила Марса укрепляет его мышцы и делает дыхание спокойным и ровным.
В священной сокровищнице все молчали, салии хорошо знали обряд. Взяв доспехи, они выбрались наружу. Цари втянули наверх бревно с зарубками; всё время обряда они будут одни, в надежде услышать голос Марса, который внушит им, как лучше провести поход.
Молча шестеро сабинян прошли Палатин, пересекли долину и вступили на Квиринальский холм. Всё было сделано вовремя, к восходу солнца они уже стояли у края святилища посередине холма и ждали, когда Публий подаст знак.
Солнечные лучи показались над буковым лесом, ближе, ближе, наконец сверкнули в глаза. Публий, напрягшись, взвился в воздух, опустился на священную землю и заколотил древком копья по щиту. Следом прыгнули товарищи. Бронза щитов гудела, как гром. Родичи высыпали из домов смотреть, как приходит счастье Марса.
Утомительный обряд тянулся до полудня. На каждом перекрёстке салии били в щиты и, призывая Марса, прыгали ровно двадцать раз. Публий не сбивался со счета, только раз пришлось вернуться: один из салиев крикнул: «Марс!», когда должен был назвать бога другим его именем — Мармар. Отпрыгав, они молча спешили к следующему перекрёстку, а обойдя весь посёлок, спустились в поля. Они бежали, прыгали, не переводя дух, щиты оттягивали руки, но Марс давал им силы исполнить долг. Вот, наконец, самое дальнее, недавно расчищенное поле.
С Публия градом катился пот, в глазах темнело от усталости, он задыхался. Но теперь пришло время для главного сегодняшнего обряда. Родичи ждали знака на весь год, и он обеспечит достойное знамение, с которым даже осторожный царь Ромул вынужден будет считаться. В двадцатый раз Публий прыгнул так же высоко и стремительно, как в первый раз, он бил по щиту в такт напеву и выкрикивал нужные слова в нужном порядке. Толпа зрителей затаила дыхание. Собрав все силы, Публий метнул копьё в небо.
Обряд требовал кидать вверх, чтобы небо указало, куда велит Марс или случай, но если так сделать, злые духи часто всё портят: поворачивают священное оружие в сторону твоего же дома или втыкают в землю древком. Публий держал копьё почти пять часов, это была плохо уравновешенная штука, наконечник чересчур тяжёлый, однако, он понял, как верно рассчитать полёт. Наконечник глубоко ушёл в мягкую землю, показывая на юго-восток.
Родичи радостно зашумели.
Следующее заседание Сената было бурным. Как только сенаторы собрались, царь Ромул опять предложил провести этот год в мире со всеми соседями. Юноши могут, если захотят, угонять скот с этрусского берега, но не под волчьим знаменем, знаменем Рима, если попадутся, город не будет за них мстить. На границах с сабинянами и латинянами запрещались даже такие мелкие вылазки. На тринадцатое лето Рима намечался мир, спокойная работа в полях и радушный приём для всех способных носить оружие. Пусть воины ещё немного потерпят; скоро сил хватит, чтобы взять богатый этрусский город.
Когда Ромул кончил, полдюжины сабинян зашумели, требуя внимания.
— А как же салии, — кричали они, — как же танец Марса! Бог повелел нам воевать и указал добычу! Надо следовать знамению!
Обеспокоенный царь Таций оглядел сородичей и, чтобы унять беспорядок, дал слово Публию, которого считал здравомыслящим и послушным. Обычно в Сенате Публий молчал, он не умел говорить красиво, но на сей раз его переполняло сознание необходимости и слова полились сами собой.
— Отцы, Марс показал нам добычу. Я был главным салием и нёс мудрое копьё. Я видел знамение. Вы должны мне верить — это сделал бог. Наконечник целиком ушёл в землю: мы все знаем, что это означает всеобщую войну, войну до последнего. Копьё указало на юго-восток, на латинские земли. Я проверил направление — прямо на пастбища Лавиния. Этот город не сильнее Рима и богат скотом. Если мы пойдём на него войной, Марс пошлёт нам победу, если сохраним постыдный мир, то ослушаемся приказа своего небесного покровителя. Что предложить народному собранию? Выслушайте мнение царей, отцы, и решайте. Царь Ромул уже дал свой совет. Что скажет царь Таций?
Таций нахмурился. Он не этого ожидал от уравновешенного, средних лет отца семейства. Обычно Публий нагонял на сенаторов такую тоску, что они соглашались на все его предложения, потому он и дал ему слово.
— Мы с царём Ромулом не видели знамения, — начал Таций, осторожно подбирая слова. — Все утро мы провели в священной сокровищнице, размышляли, и Марс ничего нам не сказал, так что знамение могло исходить и не от него. Если мои молодые братья хотят украсть несколько латинских коров — пожалуйста, но против соседей, которые никогда не делали нам зла, я Тациев не поведу.
— Да мои люди и не пойдут на них, — бесцеремонно вставил Ромул. — Жители Лавиния нам такая же родня, как вы, сабиняне, друг другу. Воевать с ними святотатство, и вдобавок неразумно, если мы хотим, чтобы в римское войско шли предприимчивые латиняне. Если ссориться с латинянами, нам никогда не набрать сил для похода в Этрурию.
— Но так велел Марс, — возразил Публий. — Копьё приказало воевать с Лавинием. Должно же оно в конце обряда куда-нибудь указать! Если вы уже решили провести год в мире, нечего было устраивать танец и искать подходящего врага.
Ромул пожал плечами.
— Может, и нечего, — весело ответил он. — Вы, сабиняне, принимаете знамения чересчур близко к сердцу. Каждый год надо плясать для Марса, чтобы он не забыл нас в трудную минуту, но не каждое же лето воевать! В этом году нам больше подходит мир и спорить здесь не о чем. Давайте проголосуем и представим своё решение собранию. Я предлагаю мир, Публий войну. Царь Таций, согласен ли ты, что мы достаточно обсуждали этот вопрос?
— Царь Ромул, мне тоже кажется, что пришло время воевать, — заговорил Таций. — Мы ничего не добьёмся, если будем просто сидеть тихо и собирать урожай со своих собственных полей. Но я не могу требовать, чтобы твои воины грабили сородичей, это было бы безнравственно. Поэтому раз они не пойдут на Лавиний, ту войну, про которую говорит Публий, начинать нельзя. Простите, братья, — добавил он, повернувшись к сабинянам, — но на сей раз я вынужден голосовать за мир. Может быть, через год удастся, наконец, немножко повоевать.
— Видите, царь Таций меня поддержал. Вы слышали обе стороны, хватит разговоров, — Ромул торопился, как всегда, прекратить обсуждение, пока оно не повернулось против него. — Голосуем немедленно. Не забывайте, решение связывает всех, согласных и несогласных.
Голосовали не поднятием рук. Сенат редко разделялся, даже решая самые спорные вопросы, потому что люди, не уверенные, кого слушаться, не любят открыто показывать своё мнение. Вместо этого все латинские сенаторы и изрядная часть сабинских прошли и встали за спиной царей. Публий и несколько его друзей упрямо не трогались с места, пока не стало ясно, что они в меньшинстве, а потом поплелись за остальными. В итоге можно было сказать, что Сенат решил единогласно.
Народное собрание без труда утвердило мир. Многие воины были против, но ни у кого не хватило мужества идти против двух царей и единодушного решения Сената.
Для Публия на этом вопрос был закрыт. Долг римского гражданина и верность царю Тацию вместе были выше любых личных желаний. Печальный, разочарованный, он снова вернулся к утомительной круговерти полевых работ — выпалывал сорняки, ковырял кое-как оросительные канавы, охранял, когда подходила его очередь, общинное стадо. Но он не счёл своим долгом донести царям, когда узнал, что в нарушение их приказа намечается вылазка. Ромулу о готовящихся неприятностях пусть докладывают его триста наглых целеров, а Таций, пожалуй, огорчится, если его предупредить слишком рано: ведь тогда пришлось бы пресечь поход, который он в сущности одобряет.
В роду Тациев нашлась сотня отчаянных юношей, готовых исполнить веление копья. Они тайком улизнули из города, а через десять дней пригнали захваченное стадо. Весь Квиринал, за исключением, если в это можно поверить, царя Тация, знал о набеге заранее. Вернувшихся воинов приветствовала радостная толпа, а с Палатина смотрели неодобрительно и угрюмо: клейма ясно говорили, что скот из Лавиния, то есть Тации открыто ослушались решения, принятого народным собранием по всей форме.
На следующем заседании Сената царь Ромул говорил только об обрядах и прочей подготовке к жатве. Никто не предложил наказать ослушников, про вылазку молчали. Тем не менее о ней всё же высказался вскользь царь Таций — все поняли намёк, когда он, рассуждая вроде бы о семейных узах и о празднике урожая, заметил:
— Нет сомнения, что родство — великая сила. Семья должна поддерживать всех своих членов, даже если некоторые из них провинятся. Но есть другая сила, ещё более могучая — это узы, связующие сограждан. Во имя города я мог бы пойти даже против родичей, хотя надеюсь, что меня никогда не поставят перед столь горьким выбором.
— Иначе говоря, налётчиков простили при условии, что они больше не будут, — прошептал молодой латинский сенатор, который стоял рядом с Публием.
Казалось, злополучную историю похоронили.
Однако спокойствие было обманчивым. Люди работали в поле, собирая неплохой урожай, как вдруг дозорные сообщили, что приближаются незнакомцы. Для разбойников их было слишком мало, и по дороге они шли открыто. Вскоре стали видны их длинные, обвитые зеленью посохи, а более близкая разведка подтвердила, что это посольство из десяти человек и нескольких слуг.
Вообще-то каждому полагалось всё знать о послах, о том, как их встречать, и об их правах; этому учат любого воина. На самом же деле посольства были большой редкостью, Тации не видели их с того злосчастного дня, когда римляне пришли просить в жёны сабинянок. Вся работа в полях была сейчас же остановлена, и трубы заревели, созывая воинов, словно при приближении врага.
Граждане явились на зов вооружёнными — как же иначе приходить на неожиданный сбор среди дня? Потом несколько целеров засуетились, закричали, что невежливо встречать послов в полном вооружении и что всем надо отнести щиты обратно домой. Но карабкаться на холм было некогда, посольство уже показалось на дороге.
Естественно, что пришло в голову вооружённым воинам — построиться в боевой порядок, знать сидела верхом, цари тоже появились на конях. Когда посольство подошло к месту народных собраний, перед ним стояло всё ополчение Рима, готовое к немедленной битве.
Послы не растерялись. Вид у них был слегка рассерженный, потому что встретили их не слишком учтиво, но главный сразу обратился к римлянам. Латинское наречие похоже на сабинское, и все слушатели поняли, о чём речь.
— Царь Ромул, — прямо начал посол, — Авл, царь Лавиния, послал нас узнать, воюешь ли ты и твои римляне с нами, или ты хочешь сохранить мир и беспрепятственно прийти на наш праздник. Если воюешь, ты тяжко провинился, когда не послал вестников объявить войну. Но мы простим неопытным правителям их невежество и будем защищаться всеми средствами. Если же ты желаешь мира с нашим городом, на который не смеет посягать ни один богобоязненный латинянин, то немедленно верни украденное и в нашем присутствии накажи грабителей.
Ромул, нахмурившись, взглянул на своих людей.
— Все убирайтесь, — сердито крикнул он, — и приходите вечером, да в приличном виде, без оружия. Дело серьёзное, мне надо обсудить его с советниками. Хорошо, — повернулся он к послу, — я удаляюсь со своим Сенатом обдумать ответ. Сегодня вечером наше решение примут или, быть может, отвергнут воины этого города. Если вы можете разбить шатры здесь, возле святилища, посвящённого Юпитеру Статору, утром вы услышите ответ. Идёмте, сенаторы. Отдайте оружие друзьям. Вопрос требует немедленного обсуждения, а на заседание Сената не подобает приходить вооружённым.
Публий стоял среди своей ближайшей родни — тациев, ведь во время битвы всегда разумнее, чтобы с правой, не прикрытой щитом, стороны был надёжный родственник: ему можно доверить и оружие, даже драгоценные поножи. Передав всё это, Публий направился прямо в Дом Сената.
Несмотря на своё название, Дом Сената был просто огороженным участком без крыши, потому что невозможно перекрыть комнату на двести человек. Однако незачем было бы обсуждать важные вопросы отдельно, на совете старейшин, если бы все споры мог услышать любой случайный воин. Поэтому в долине между Палатином и Квириналом, на некотором расстоянии от реки, поставили крепкий плетень выше человеческого роста, за которым сенаторы могли сколько угодно спорить, не внося раскола в простой народ, — караульные целеры держали на расстоянии всех любителей подслушивать. Внутри были расставлены рядами пни и чурбаки для сидения, а в конце — возвышение из дёрна, откуда говорил царь, то есть два царя. Латиняне не всегда помнили, что Ромул делит власть с равным соправителем; сабиняне не забывали этого ни на минуту.
Занявший своё место среди сабинян, Публий был недоволен, увидев на возвышении одного царя Ромула. Но через несколько минут туда же взобрался Таций, и первым обратился к собравшимся именно он.
— Ну что ж, парни, то есть, я хотел сказать, почтенные отцы, — начал он со старой, приевшейся шутки насчёт безбородых сенаторов. — Не так важно, что мы ответим послам из Лавиния, главное всем говорить одно и то же. Если хотите воевать, я готов и не думаю, чтобы нам грозит разгром. А если хотите, можем сохранить мир: вежливо извинимся и отдадим несколько кусков меди в возмещение убытка. Чего я не желаю ни при каких обстоятельствах, так это возвращать добычу, ради которой мои молодые братья рисковали головой. Мы живём в суровое время, и справедливости в мире куда меньше, чем прежде, это вам скажет любой гадатель. Если эти дураки-латиняне хотят сохранить скот, пусть стерегут его как следует, а если мы хорошо стережём свой, у нас его никто не отберёт!
Его слова утонули в одобрительных криках, и Таций понял, что можно не продолжать. Широко улыбаясь, он вернулся на свой табурет, а когда шум утих, поднялся Ромул.
— Отцы, — сказал он серьёзно. (Ромул вообще никогда не видел смешного ни в чём, что касалось Рима). — Отцы, предложение царя Тация представляется мне бесчестным. Хуже того, оно малодушно. Если думать только о нашем городе, может быть, мудрее всего было бы объявить Лавинию войну, но нам нельзя воевать с соплеменниками. А если не воевать, надо заключить мир, настоящий, с возмещением причинённого ущерба. Украденное надо вернуть владельцам. Мы не хотим, чтобы соседи-латиняне внешне находились с нами в мире, а сами затаили обиду и готовы были помочь любым нашим врагам. Мир — это хорошо, есть преимущества и у войны, но нет положения хуже, чем вражда без открытой схватки. Давайте вернём угнанный скот и заплатим за каждого жителя Лавиния, который погиб или пострадал от налёта. Конечно, если они потребуют выдать налётчиков, мы откажемся, потому что совершенно искренне не знаем, кто это сделал. Ну что, несогласных нет?
— Есть! — крикнул царь Таций, не потрудившись даже встать. — Этот скот увели мои братья, я не позволю отбирать у них заслуженную добычу.
— Но я повторяю, мы не можем воевать с Лавинием! — повторил Ромул. — Надо заключить мир на хороших условиях, а для этого необходимо по меньшей мере вернуть украденное.
— Или добыча остаётся у нас, или мы уходим домой. Это моё последнее слово. Что Тациям вообще делать в Риме, если мы никого не грабим?
К этому времени сабиняне и латиняне кричали кто за, кто против, Сенат шумел и препирался, словно всё Народное собрание. Ромул понял, что проиграл.
— Отцы, — начал он снова. — Перед простым народом мы должны быть едины. Я считаю, надо вернуть похищенное имущество. Но если мне вас не переубедить, давайте хотя бы сойдёмся на чём можем. Я хочу мира с Лавинием, но как правитель города ничего не знаю о набеге, и поэтому не могу наказать налётчиков. Согласны вы, чтобы я передал это послам? Учтите, нам скорее всего придётся выслушать очень резкий ответ, но по крайней мере мы сохраним мир с родичами.
Такое решение не устраивало ни латинян, ни сабинян; но все видели, что большего согласия не достичь, и ни один сенатор не стал возражать. Собрание же, наоборот, было довольно: у сабинян, которые обогатились от набега, не отнимут добычу, но войны не будет — это всем пришлось по душе. Когда царь Ромул объявил решение Сената, никто не попросил слова, и оно прошло единогласно.
Наутро Народное собрание созвали снова. Постоянные сходки отрывали земледельцев от работы, но никто не пожалел времени — не такая уж частая вещь посольство. На сей раз горожане пришли без оружия, в длинных плащах по-римски через плечо, и чинно расселись слушать, как царь Ромул передаст ответ Лавинию и что скажут послы.
Послы отвечали коротко и оскорбительно. Главный посол начал сразу, глаза его горели гневом.
— Мы не станем воевать из-за каких-то коров. Я думаю, жалкие лодыри, которые здесь живут, часто голодают, раз не хотят и не умеют возделывать землю. Мы бы дали вам милостыню, если бы вы объяснили, что в Риме нечего есть. Оставьте скот себе и будьте благодарны за нашу доброту. Впредь мы станем охранять стада от мелких воришек, но если попросите, для вас найдётся пяток старых недойных коров. Дальше, вы просите о мире, наверно, испугались наших воинов. Мы даруем вам мир, потому что войны вы недостойны. Снисхождение наше столь велико, что Лавиний даже согласен принять ваше посольство на празднике. Только пусть царь Ромул проследит, чтобы его сопровождали только честные люди, если, конечно, в вашем городе такие найдутся. Я всё сказал.
Послы молча покинули собрание.
Публий взбирался к себе на холм, кипя от ярости. Он оставил родную деревню, переселился в это тесное, шумное, несносное скопище хижин, потому что так хотел глава рода, и вот награда. Перед толпой чужаков его оскорбляет надутый горожанин, латинянин. На минуту Публию даже пришло в голову, не бросить ли род и не поселиться ли в одиночку на каком-нибудь холме среди леса. Но отказаться от защиты родичей — значит, обречь себя на жизнь, полную неуверенности и страха, семья будет в постоянной опасности. Надо было раньше думать, что посеял, то теперь и пожинаешь.
Из хижины доносился оживлённый говор. Публий нахмурился, он вспомнил, что у Клавдии день рождения и она пригласила к ужину этого латинянина с соседнего поля. Ему совсем не хотелось принимать гостей, но отменить приглашение было уже поздно. В конце концов, это не самое плохое общество. Сабина — приличная молодая матрона, хотя и держится так, будто стыдится отцовского рода, а Марк Эмилий — человек дружелюбный и для латинянина даже вполне воспитанный. Входя, Публий изобразил приветливость.
— Ну, поздравляю с заключением мира! — Клавдия встретила мужа усмешкой. — Говорят, вам пришлось проглотить пару грубых слов. Зато теперь можно спокойно растить ячмень, не отвлекаясь на караулы и дежурства. Я знала, конечно, что в городе всё будет иначе, но не думала дожить до такого дня, когда наши мужчины станут сносить оскорбления от латинян. Или это ещё один новый обычай?
— Это верно, — сквозь зубы процедил Публий, — но не могла бы ты поговорить о чём-нибудь другом? Как ты сама заметила, здесь всё иначе, не по-сабински. Например, не принято бить жену, если она дерзит. У городской жизни есть недостатки, но за хорошее надо платить.
— И всё-таки мир — это в самом деле неплохо, — со смущённой улыбкой заметил Марк. Его пугал воинственный настрой сабинян, да вдобавок присутствие важного сенатора. — Сначала мы собирались жить разбоем; двенадцать лет назад это было, хоть и кажется, что вчера. А теперь я привык работать в поле, держу свою землю в порядке. Мне бы совсем не хотелось всё лето смотреть, как она зарастает бурьяном, пока я в шлеме торчу на сторожевой башне.
— Тогда не о чём жалеть, — воскликнул Публий. — Латинянам нужен мир, они его получили. Подумаешь, нескольким честным сабинянам пришлось выслушать оскорбления, каких бы никто не посмел произнести у нас в горах! Цари велели терпеть, а с царями не поспоришь. Только одного я не могу понять, почему все так боятся воевать с Лавинием? Я слышал, его называли священным городом, но это же чепуха. Не могут в городе жить одни жрецы, кто там тогда будет работать? По крайней мере, послы были обычными воинами, как ты да я.
— Лавиний не священный город, — ответил Марк. — Иначе это бы и вправду было очень странное место. Там есть почитаемый алтарь, но, строго говоря, он не имеет к городу никакого отношения: он гораздо древнее, Лавиний просто основали на той же горе. Но всё равно, если осаждать город, алтарь легко повредить, вот почему латиняне так обрадовались миру.
— Значит, алтарь священен для всех латинян? — спросил Публий из вежливости. Обряды были для него делом семейным, и он считал, что пусть хоть весь свет поклоняется какому-нибудь камню, он останется верен предкам рода Тациев. — А я думал, вы перевезли своих богов в Рим, как и мы. Зачем Ромулу сокровищница, если его боги живут в Лавинии?
— Мы перевезли только собственных богов, а не всех на свете. В Лавинии, то есть в скале над городом, есть расщелина, где бог отвечает на вопросы. Раз в двенадцать лет правители всех латинских городов собираются туда слушать знамения. Это большой праздник. После жертвоприношения они улаживают споры, устраивают браки дочерей. Кто не был на этой встрече, тот не настоящий латинский царь.
— И чтобы царя Ромула уважали, он должен туда попасть; теперь понятно, почему он так старался выпросить прощение у хранителей алтаря. А в прошлый раз он там был? Ты говоришь, цари встречаются каждые двенадцать лет.
— Прошлый праздник был одиннадцать лет назад, через год после основания Рима. Тогда город был ещё слишком бедным и незначительным. Ромул побоялся, что другие правители не захотят его признать, и не поехал. Поэтому на будущий год ему непременно надо попасть в Лавиний, если он хочет доказать, что не хуже прочих.
Первый раз подала голос Сабина. Она сидела у очага, помешивая какую-то изысканную похлёбку, счастливая снова оказаться среди ценителей хорошей сабинской кухни.
— Царь Ромул избежал бы многих нареканий, если бы объяснил всё это начистоту, когда пришли послы. Если его честь в руках жителей Лавиния, с ними, конечно, придётся ладить. Ему и его людям повезло, что оскорбляли только нас, сабинян.
— Не сабинян и не латинян, здесь таких нет. Все мы римляне, и оскорблён наш город. Но цари посоветовали соблюдать мир, а собрание их поддержало, поэтому рассуждать больше не о чем, надо подчиняться царям и собранию, — высказал Марк точку зрения всех правильно мыслящих граждан.
— Да, рассуждать не о чем, — согласился Публий. Любой из Тациев должен был бы отомстить, но если царь запрещает, нет ничего постыдного в том, чтобы последовать его совету. А на тот латинский праздник, должно быть, стоит посмотреть. Я бы сам не прочь туда отправиться.
Между тем поспел ужин. После еды, пока женщины убирали посуду, мужчины, потягивая вино, завели неторопливую беседу. Марк, несмотря на низкое происхождение, был всё-таки на редкость приятным человеком. Трое сабинян с удовольствием слушали его болтовню, то и дело ловя в ней полезные советы о правилах городской жизни. Они приятно провели время, пока не стемнело...
Наутро Публий поднялся рано, чтобы наверстать упущенное за вчерашний день. Но когда он выходил из дому, вновь зазвучали трубы на Палатине, и откликнулись на Квиринале. Сначала трубили тревогу, но не успела Клавдия затянуть завязки на его поножах, тревога сменилась срочным призывом в собрание. Публий оставил оружие и поспешил в долину.
Царь Ромул был на месте, царь Таций ещё не появился. За спиной Ромула выстроились триста его целеров в полном вооружении. На новшество обратил внимание не один Публий: с Квиринала кучка мальчишек торопливо тащила отцовские щиты и копья. Публий пожалел, что не догадался спрятать под одеждой меч, но возвращаться за ним было уже поздно, появился царь Таций. Ромул на возвышении беспокойно озирался в поисках знамения. Скоро зоркий целер заметил голубя с правой, счастливой стороны, и царь, убедившись, что боги всё ещё благосклонны, открыл собрание.
Он стоял на возвышении выпрямившись, молча, пока все взгляды не устремились на него. Тогда, по-прежнему без слов, он вскинул руки жестом отчаяния, нагнулся, зачерпнул пыли и посыпал голову. Слушатели поднялись на цыпочки и ждали затаив дыхание. Наконец Ромул заговорил.
— Воины, — воскликнул он, — прошлой ночью послы из Лавиния разбили лагерь в нескольких милях от Рима. Утром их нашли зарезанными. Город они покинули с миром.
Сказать больше нечего. Я знаю, и вы знаете, кто их убил; сейчас целеры возьмут преступников.
Он сделал знак своей охране, и целеры стали наступать на безоружную толпу.
Царь Таций потребовал внимания.
— Братья, — закричал он, — я обращаюсь к вам, а не к чужим воинам, которые здесь стоят, хотя им тоже не помешало бы прислушаться к моим словам. Я не знаю, кто убил послов, и царь Ромул не знает. Может, их вообще лишили жизни боги за то, что они оскорбили храбрых сабинян? Это объяснение не хуже любого другого, и царь Ромул ничего не сможет возразить, разве что сам присутствовал при гибели послов, а если присутствовал, то хотелось бы знать, что он там делал. Подумаешь, несколько человек скоропостижно умерли. Царь Ромул из-за этой мелочи, похоже, приказал целерам хватать моих родичей. Безрассудный и опрометчивый шаг. Целеров три сотни, а в моей родне около семи тысяч воинов. Так что кто бы то ни был здесь прав, царь изъявляет свою волю довольно неуклюже. Ещё неизвестно, станут ли помогать целерам остальные латиняне, а если станут, что ж, однажды на этот самом месте у нас была отличная битва. Она кончилась вничью, но я совсем не прочь повторить всё сначала, пусть только собрание подождёт, пока я схожу за мечом и щитом. Ну что, царь Ромул, будут твои люди кого-нибудь хватать?
Ромул в бешенстве стиснул кулаки, потом овладел собой и выпрямился, сдержанный и спокойный.
— Тринадцать лет назад, когда я основал этот город, — произнёс он тихим голосом, — чудесные знамения предвещали, что он будет когда-нибудь править миром. Я сын Марса, и знамения были — ведь вы мне верите, воины? Неужели вы не понимаете? Тринадцать лет город во исполнение своего предназначения рос и богател, мы уже почти готовы завоевать всю Этрурию и стать великими. Осталось так немного — если бы вы только потерпели! Но вы вместо этого хотите уничтожить главный город в Италии потому только, что заступаетесь за роди чей, хотя и понимаете в глубине души, что они преступники. Ну что ж, сабиняне, вы запятнали себя кровью, но пусть будет по-вашему. Для меня Рим превыше всего, превыше закона, превыше чести и неприкосновенности послов. Вы их убили, всё это знают. Но чтобы не погиб город Марса, пусть ваше преступление остаётся безнаказанным. Вы не знаете стыда, буду и я бесстыден; Лавиний не получит удовлетворения. Никого не накажут. Взамен обещайте мне одно: если оскорблённые жители Лавиния согласятся на мир, не делайте им больше зла. Меня вскормила волчица, но я вижу, что мои воины по жестокости превзошли волков. Не делайтесь волками во всём. Не делайтесь волками для всех, кто почитает латинских богов — ведь эти боги обещали нам могущество и величие!
Сражённый стыдом и горем, Ромул закрыл лицо руками и опустился на колени. Царь Таций шагнул вперёд.
— Ну, целеры, слышали, что сказал ваш начальник? Убирайте-ка оружие и ступайте по домам, не стоит лезть на тех, кого в двадцать раз больше. А остальным, особенно моим братьям, лучше всего забыть, что здесь было. Послы мертвы, их не воскресить, сколько ни убивай других людей. Мы никого не отправим в Лавиний: его жители попробовали, и вышло несчастье. Если они начнут войну, мы сумеем за себя постоять, останутся в мире — мы их не тронем. По-моему, это честно и просто. И ещё хочу кое о чём напомнить братьям. Вы знаете, что тяжко провинились и заслуживаете наказания. Я спас вас от заслуженной кары; это и есть родственные узы, потому что от незаслуженной кары спасёшь кого угодно. Так что запомните: я за вас заступился и свой долг выполнил. В следующий раз готовьтесь получить сполна — конечно, если попадётесь. Болваны, не могли подождать, пока они отойдут подальше!
Таций повернулся и сошёл с возвышения. Целеры, по крайней мере большинство, уже исчезли. Собрание стало расходиться.
Сгорбившись, руки за спиной, Публий поплёлся прочь, почти стыдясь, что он сабинянин. Утешало только одно — что у него замечательный родич, царь Таций, бесстрашный воин, который в беде не оставляет своих. Отрадно знать, что в минуту опасности тебя защитит такой верный вождь.
Глава 7. КРОВЬ ЗА КРОВЬ
Тоска и стыд охватили всех сабинян на Квиринальском холме. Даже те, кто не участвовал в убийстве, знали, что разделили вину убийц, когда поддержали их и помогли остаться безнаказанными. Но надвигалась осень, и некогда было тратить время на пустые сожаления.
Жизнь в Риме теперь следовала за бесконечным течением полевых работ. Сбор урожая, пахота, потом — самое важное в году — сев. Но прежде чем сеять, надо было подготовить поля к очистительному воздействию небес. В этом помогали все — воины, ремесленники, даже рабы, если знали какое-нибудь принятое у себя на родине колдовство. Но главную роль здесь играли женщины.
Сабиняне вполне осознали тяжесть вины, только когда заметили, что латинянки с Палатина отказываются помогать им в этом священном деле. Обиднее всего, что многие из этих женщин сами были сабинянками, захваченными во время той пресловутой всеобщей свадьбы. Но теперь они стали матерями латинских сыновей и, когда пришло время выбирать, заняли сторону мужей.
Женщины встречались постоянно — у родников, куда ходили за водой, на берегу, где стирали, на склонах, где отбеливали, расстелив на траве полотно. Если Ромул запретил им работать в поле, надеясь, что они станут сидеть дома поодиночке, это лишь доказывает, что мужчине никогда не понять жизнь жены и матери. Клавдия почти каждый день виделась с Сабиной и поначалу не могла взять в толк, откуда у той каждый раз берутся неотложные дела и заботы, которые мешают ей участвовать в женских священнодействиях под Квириналом. Наконец Сабина потеряла терпение и объяснила напрямик.
— Нет, Клавдия, и не проси. Конечно, я, как ты говоришь, плодовитая мать, но в этом году я не могу тебе помочь. Твой муж не убивал послов, но помог убийцам избежать правосудия. Когда я стану плясать на пашне, то не смогу выбросить это из головы, и ячмень узнает от меня, что убийцы и их пособники должны остаться голодными. На моих следах ничего не взойдёт.
— Но мы в опасности из-за латинян. Ты же сабинянка по рождению, а в трудную минуту сабиняне должны держаться все вместе.
— Именно потому, что сабиняне держатся вместе, ваши мужчины и впутались в эту историю. И потом, я больше не сабинянка. Марк — отец моих сыновей, я вместе с ним приношу жертвы предкам рода Эмилиев. Я осталась бы беззащитной у латинского очага, если бы не забыла прежних родичей.
Клавдия попыталась утешить себя, что если Сабина и была когда-то сабинянкой, то не из рода Тациев, не из настоящей родни. Теперь, когда правда открылась, им пришлось смириться и исполнять обряды без помощи соседок с Палатина.
Рим был расколот. Кое-кто из сабинской молодёжи намекал, что неплохо бы выгнать латинян и поселиться на Палатине самим. Но старшие понимали, что отчуждение, в которое они попали — расплата за недавний проступок, и не нарушали мира. Каково бы ни было наказание, они его заслужили.
И всё-таки осенью едва не вспыхнула гражданская война. Это случилось во время жертвоприношения лошадей. Обряд был новый, чудной, не от древних; и никто не знал наверняка, как применять его в священнодействиях. Этруски за рекой, люди сведущие и зажиточные — верный знак, что они умеют расположить к себе богов — устраивали по большим праздникам состязания колесниц. Выяснив таким образом, какие лошади самые лучшие, они приносили в жертву правого коня победившей упряжки, потому что правая сторона вообще счастливая. Судя по всему, их боги оставались довольны, поскольку этруски с каждым годом жили всё лучше. Царь Ромул ввёл этот обряд в Риме. Никто толком не знал, в честь какого бога, но это было и неважно: богов на свете много, и мудрый старается задобрить всех, каких сможет.
Возиться с конской тушей неудобно; этруски не тащат её целиком в поля, чтобы благословить посевы. В съедобной жертве главное — внутренности, где трава превращается в плоть, но лошади не еда, а слуги, у слуг же важна голова. Этруски водружали конский череп на кол посреди пашни, и ячмень всегда всходил густо и споро.
Под руководством царя римляне в точности повторили этрусский обряд. Состязания кончились, целер отсёк голову мёртвой лошади, и только тут до Тациев дошло, что череп всего один и латиняне хотят поставить его в своих полях. Сабиняне могли бы устроить другие состязания, собственные, но для обряда подходил лишь один день в году, а время уже близилось к вечеру. Проще было отобрать у латинян череп.
К счастью, на торжество все пришли без оружия. В драке были синяки, расквашенные носы, но воинов не учат кулачному бою, и большинство просто боролось. Тации славно отвели душу, потрепав латинян, и заметно повеселели, потому что череп остался за ними. Разъярённые латиняне ушли на свой холм, и видно было, как некоторые достают копья и щиты. Но пока не началось кровопролитие, Ромул спешно созвал Народное собрание и произнёс речь, которая могла прийти в голову только прирождённому политику.
— Квириты! — сказал он, оглядывая сердитую толпу. — Рим — единый город, и конь должен быть один. Но подобно тому, как усилия и усталость остальных лошадей добавляют ценности выбранной жертве, так и ваши усилия, боль и изнурительность борьбы и, конечно, синяки и ссадины, которые я вижу у столь многих из вас, повышают ценность приношения. Ради единого города — единственная жертва; но в нашем городе два поселения. Каждый год после состязаний жители Палатина и Квиринала будут бороться за конскую голову, принося в дар богам собственную силу. К следующей осени действие этого черепа истощится, но победители могут сохранить его как память об успехе в увлекательном состязании. Пока что Квиринал впереди. Может быть, на следующий раз моим сородичам посчастливится больше. Когда-нибудь по длинным рядам черепов наши дети решат, какой холм вправе гордиться силачами. Рим вечен, не забывайте, и что начинаем мы, то будут во веки веков повторять потомки. Наши друзья Тации показали себя более сильными. Не переселиться ли части из них на Палатин, чтобы немного уравнять силы и сделать состязания следующего года более интересными?
Сабиняне разошлись по домам довольными. Латинские юноши стали подбирать борцов, чтобы начать готовиться к следующему году.
Вечером царь Таций обошёл всех сабинских сенаторов. Он появился без предупреждения, когда Публий сидел с Клавдией у очага, и ни за что не хотел, чтобы матрона удалилась.
— Нет, пускай все слышат, — улыбаясь, сказал он. — Я созвал бы собрание рода, но латиняне могут решить, что мы что-нибудь против них замышляем. Я пришёл сказать, что царь Ромул — отличный малый, и всем надо его поддерживать. Он всерьёз верит, что Рим — особенный город и простоит вечно. Конца света, чтобы это проверить, мы не дождёмся, но город точно простоит, пока он царствует. Увидел драку между согражданами и парой слов превратил её в угодное богам священнодействие. Такому человеку стоит служить! Пока вы подчиняетесь мне, подчиняйтесь ему. Ну что, согласны поступить, как я сказал?
— Мы всегда тебя слушаемся, брат, — Публий озабоченно нахмурился. — Наверно, царь Ромул действительно неплохой человек, раз ты так говоришь. Только хорошо бы его латиняне держались с нами потеплее, они даже не помогли принести счастье на поля.
— Вообще-то мы не заслужили их дружбы. Послов убили Тации, хоть и не мы с тобой, даже тут вышло в конце концов по-нашему, родичей не наказали. Я люблю Рим и не хочу, чтобы он развалился, и мне не нравится, что сабиняне с латинянами на ножах. Постарайтесь ближе сойтись, а если покажется, что вас презирают, не забывайте, что кто-то в роду действительно совершил преступление. Это я вам говорю как глава рода.
— Повинуюсь главе рода, — коротко ответил Публий.
— Но, брат, нельзя забывать ещё об одном, — Клавдия спокойно обратилась первая к гостю-мужчине, словно считала себя, женщину, не хуже воина. Положительно городская жизнь всех развратила. — Царь Ромул, как ты говоришь, отличный малый. Но в Риме два царя, по крайней мере, должно быть два. Не давай Ромулу во всём верховодить, а то люди забудут, что ты ему ровня.
— Сестрица, не ты первая мне это советуешь, хотя очень правильно с твоей стороны высказывать своё мнение. Но всё дело в том, что я царю Ромулу не равный и равным никогда не буду. Стоит ли стараться прыгнуть выше головы?
— Как не равный? — Публий задохнулся от возмущения. — Разве не в этом состоял уговор? В чужом городе неловко и опасно, мы бы не согласились здесь поселиться без царя-защитника, равного Ромулу во всём.
— Но я не умею колдовать, — с улыбкой ответил Таций. — Я не сын бога, и сокровищницы с древними заморскими святынями у меня нет.
— Зато у тебя есть то, чего нет у Ромула, — сказала Клавдия. — Преданный народ, над которым ты главный по праву рождения. Ромула латиняне выбрали и могут завтра вместо него выбрать кого-нибудь другого, а мы, Тации, никогда тебя не бросим.
— Это правда. Но сейчас у него больше людей, даже если в один прекрасный день они от него уйдут.
— Послушай, а что это за счастье у Ромула? Что ты сам о нём думаешь? Смотри, я убрала Лара в нишу и закрыла створки. Здесь все свои, никакой бог не слышит. Можешь говорить прямо.
Клавдия знала, что женщине не полагается вызывать мужчину на откровенность, но муж ни за что не решился бы задать этот вопрос, а ей очень хотелось знать.
— Честно говоря, я сам ещё толком не разобрался. Ромул — странный человек, добился царской власти своими силами, не то что я. Ему достались от предков эти жезлы с медными змеями, непонятные штуки, никогда не видел ничего похожего у сабинян. И в высокой глиняной урне наверняка тоже что-нибудь странное — не знаю что, и не хочу выяснять. Может, опасное, может, просто нечисть, но я бы не рискнул проверять, настоящий он колдун или нет. Настоящие колдуны бывают, это уж точно.
— Но Ромул не только называет себя колдуном, — не унималась Клавдия. — Он говорит, что его отец Марс. Ты в это веришь?
— Может, Марс, а может, и нет, — пожал плечами Таций. — Его мать, жрица, дала обет безбрачия. Ей удалось избежать казни, но я не слышал её собственных слов и не могу судить, сколько в них правды. Да и кто вообще знает своего отца? Могу я доказать, что я не сын лигурийского раба? А ты? Приходится верить на слово старшим, а они часто ошибаются. Боги есть, и у них бывают смертные дети, это видно по многим родословным. Ромул говорит, что он сын Марса, и ведёт себя так, словно в это верит. Не исключено, что он прав. А поскольку так жить проще, на этом и остановимся.
— На этом нельзя останавливаться, — Публий понял, к чему клонит жена. — Ты наш вождь по праву рождения, но ты не равен Ромулу, потому что он царь-жрец, а ты военачальник. Если не хочешь ему уступать, ты тоже должен обзавестись какими-нибудь сверхъестественными силами.
— Я про это подумал, — Таций подмигнул и сделал торжественное лицо. — Я представляю наш народ на всех священнодействиях и не отхожу от Ромула ни на шаг, чтобы перенять его божественный дар. Вот почему, кроме всего прочего, вы должны помириться с латинянами. Весной предстоит кое-что важное: праздник в Лавинии, он бывает раз в двенадцать лет. Хранители алтаря пригласили всех латинских царей, то есть царей, которые правят латинскими городами, и я отправлюсь с Ромулом.
— Брат, это безумие! — в ужасе вскрикнул Публий. — Если где тебя ждут мстители, так это в Лавинии. Да вдобавок правда на их стороне, послов ведь убили наши, а ты спас убийц от суда.
— Знаю. Но Ромул говорит, что праздник не связан с городом, просто алтарь на той же горе. Я не собираюсь заходить в Лавиний и иметь дело с его жителями. Вообще это ведь земледельческий праздник, а значит, никому не позволят внести в святилище оружие. Со мной будут друзья, а безоружный латинянин ничего не может сделать сабинянину. Если они полезут драться, мы их повалим и усядемся сверху.
— Всё равно, зачем же идти прямо в логово к заклятым врагам? Что ты там получишь?
— Что-нибудь да получу. Хорошо бы заранее выяснить, что происходит на этом празднике. Он только для царей. Наверно, там добавляют царям святости и власти, иначе зачем бы все так туда стремились? Ты дружишь с Марком Эмилием, латинянином, что и жену переделал в латинянку; я знаю, чем заняты мои родичи, он постоянно у вас бывает. Так вот, Публий, выведай у него всё про обряды, которые совершают в Лавинии. Не сомневаюсь, там как-то наделяют царей силой и счастьем. Если я буду всё точно знать, то прослежу, чтобы и надо мной обряд совершили как следует, без обмана. И пусть не говорят, что я сабинянин: приглашают царей из латинских городов, а я правлю латинским городом Римом. Поэтому разведай это для меня, как брат для брата.
— Брату я помогу, — осторожно ответил Публий, — но и с другом буду откровенен. Я не стану выпытывать у Марка исподволь никаких тайн, а спрошу про обряды прямо и объясню зачем. Не сабинское дело хитрить с латинянами, да и без того у нас совесть нечиста.
— Ладно, будь честен, если хочешь. Даже приятно знать, что в роду есть один честный человек. Надеюсь только, твой Марк не побежит докладывать Ромулу, потому что если все латиняне сговорятся, они меня обманут. Спроси его открыто и передай ответ. Заодно можешь сказать, что я велел всем родичам хранить верность Риму и его основателю царю Ромулу. Это правда, а Марк тогда охотнее расскажет, что знает...
На другой день Публий отправился разыскивать Марка. Ослушаться главу рода он не мог, но царская затея ему не нравилась по многим причинам. Во-первых, это было опасно. Во-вторых, сабинские воины, честные и прямые, всегда считали себя выше таких уловок. Никто не звал вождя сабинян на собрание латинский царей, и отправиться туда значит вести себя невежливо и вызывающе. Но была и третья причина, едва ли не самая главная: вдруг у Тация и вправду всё получится? Сейчас он был старшим в роду по праву рождения, но той же крови, что и подданные, воин во главе свободных воинов. Получив божественную власть, Таций — священный царь, чего доброго, мог стать тираном.
Марк охотно рассказал всё, что знал, но этого оказалось немного.
— В Лавинии главное — алтарь, он восходит к глубокой древности, хотя город новый. В святилище живёт великий бог. Чтобы спросить у него совета, надо пойти и что-нибудь пожертвовать.
— Выходит, это обычный оракул, просто более могущественный? Что же цари не приходят, когда кто хочет, а устраивают торжества только раз в двенадцать лет?
Марк только пожал плечами.
— Так повелось. Латинским царям трудно выбираться в Лавиний всем одновременно, оттого, наверно, и не встречаются каждый год. Потом, что-то есть в самом числе. Гадатели говорят, что главных богов двенадцать, хотя и перечисляют их все по-разному. А вообще-то, хоть цари и приходят советоваться с божеством, на самом деле это не столько обряд, сколько совещание правителей.
Публий подумал, что это очень похоже на латинян. Повторяют раз за разом одно и то же, не зная зачем, вот и вся их вера, а человеку со стороны не отличить священного праздника от собрания по мирским делам.
— Значит, это не для одних латинян? Жрецы пустят к святилищу сабинянина?
— С радостью, если он поднесёт хорошие дары. А почему ты так туда стремишься? Что-нибудь неладно на Квиринале? Я могу помочь?
— Стремлюсь туда не я, хотя, может, и мне придётся. Это царю Тацию взбрело в голову, что раз он царствует в латинском городе, то должен быть на празднике.
Марк нахмурился.
— Это, конечно, справедливо; город латинский, а он царь. Но например этруски, которые правят в латинских городах, никогда не появляются в Лавинии.
— Они поклоняются другим богам, мы нет. Дело вот в чём: царь Ромул должен быть в Лавинии, чтобы его признали царём, а царь Таций, чтобы его признали равным Ромулу.
Марк ещё больше помрачнел.
— Это место — священное. Кто принесёт туда несчастье, сам же и пострадает. В святилище нельзя заносить скверну, даже если ты убил в бою, как честный воин. Все цари, едва прибыв, проходят обряд очищения.
— Тогда тем более Таций должен там быть, чтобы показать всем латинянам, что он невиновен. Я знаю, ты думаешь, что на нём кровь тех послов. Но он чист, и когда его примут у алтаря, всем придётся это признать.
— Понятно. Беда в том, что святилище стоит прямо над Лавинием.
— Думаешь, Тация могут убить? Он возьмёт охрану.
— Бесполезно, жрецы обыщут любого, если заподозрят, что он хочет пронести оружие.
— Тогда мстители тоже будут не вооружены.
— Случается, что и безоружный убивает безоружного.
— С Тацием такого не случится. Он не слабее любого, а вокруг будут родичи.
Марк всё ещё не мог успокоиться.
— Всё-таки ему там не место. Несправедливо пролилась латинская кровь, будет несчастье.
— Ерунда. Ему непременно надо туда поехать. Так и передам. Могу ещё предупредить его, что некоторым латинянам это кажется опасным. Тогда он будет начеку, но отправится непременно, чтобы показать, что не связан с убийством послов...
Зиму город доживал тяжело. Погода стояла плохая — зимой погода всегда плохая, но на этот раз стоило полить дождю или задуть ветру, угрожая будущим всходам, как на Палатине принимались ворчать, что боги гневаются на убийц-сабинян, а на Квиринале — что все беды начались, когда жадные латиняне не поделились счастьем и не помогли соседям привести поля в порядок. Никто не говорил о войне, о победах, не мечтал разграбить богатый город. Рим превратился даже не в деревню, а в шаткий союз двух деревень.
Но пришла весна, по бороздам зазеленел ячмень. Римляне успокоились, что всё-таки не умрут с голоду, приободрились и стали готовить посольство в Лавиний.
Приём этого посольства означал, что древние города признали Рим как равный город, поэтому посольству следовало быть пышным, великолепным и исполненным достоинства. Все помогали кто чем мог. Цари в пурпурных мантиях собирались ехать на колесницах. Ромул привёз свою давным-давно из Альбы с прочими семейными ценностями; для Тация родичи выменяли колесницу у этрусков из города Вей, отдав за неё целое стадо. Боевую колесницу смастерит любой плотник, это пара колёс да лёгкая плетёная рама. Но только этруски могли соорудить парадную колесницу: рама из прочных досок, сверху тонкий лист бронзы с чеканными изображениями богов, резное сиденье украшено белым не то камнем, не то металлом, который привозят из-за моря и называют почему-то слоновой костью. Тации отдали за колесницу сто телок и пять быков, да и то насилу упросили ремесленников.
Добыть плащ оказалось проще, хотя в Италии не знали хорошей пурпурной краски. С юга как раз забрёл торговец с рулоном купленной у чужеземцев пурпурной материи, и его уговорили продать отрез за серебро вдесятеро больше веса ткани — сабинянки пожертвовали украшениями.
Каждый царь взял конную свиту из десяти советников, без оружия по случаю священного праздника, все в одинаковых белых плащах через плечо. Публий, попавший в их число, одолжил под залог поножей красные сапоги до колен; они были заморской работы, а сейчас принадлежали наёмнику из луцеров, который зарезал ради них одинокого путешественника. Сенаторы захватили на дорогу соломенные шляпы от солнца и взяли умелого раба, чтобы сплёл венки для праздника.
Ещё царей сопровождала охрана, по сто отборных воинов в полном вооружении. Они насилу согласились ехать, поскольку долгий, утомительный путь им ничего не сулил. Им предстояло остаться в десяти милях от Лавиния, потому что в пределах видимости от святилища нельзя было находиться с оружием.
С жертвенным скотом и богатыми подарками для храма посольство получилось самое дорогое и пышное за все тринадцать лет от основания Рима. Граждане вздыхали о неслыханных тратах и утешались тем, что городу будет оказан почёт.
Посольство выступило в разгар лета. Особенно интересно было сабинянам, которым первый раз удалось взглянуть на давно обжитую, деревня к деревне, латинскую землю, на обнесённые стенами города из кирпича и камня. Публий мечтал посмотреть какой-нибудь город изнутри, но его надежды не оправдались. Ромул объяснил, что проводить воинов по чужим городам без приглашения не принято, а после убийства послов римлянам не доверяют. Но даже с дороги было на что полюбоваться — крепости с отвесными стенами, облака дыма из печных труб, а в одном городе замечательное новшество: дом, крытый вместо тростника обожжёнными глиняными пластинками.
Но вот охрану оставили в лагере у обочины, и впереди показался Лавиний. Встретились и другие латинские цари, больше двух десятков — не у одного Ромула был соправитель. Все они ехали в пурпурных плащах, но многие верхом; этрусская колесница — бесполезная роскошь, этим Рим показал, что уже богаче многих старинных участников Латинского союза.
Лавиний стоял на крутом склоне, так что целиком просматривался с равнины. На первый взгляд казалось, будто он составлен из крепостей; широкие дома были сплошь кирпичные, соломенные крыши нависали над белыми отштукатуренными стенами. Публий даже встревожился, что родичей угораздило убить послов такого могучего города. Но затем он заметил у открытых ворот нескольких воинов, которые провожали сабинян злобными взглядами: обыкновенные латиняне, щуплые, худосочные. Может, у них и хватает богатства выстроить себе кирпичные дома, но на поле брани таких бояться нечего.
Высоко над Лавинием поднимался голый утёс, святилище. Римляне наконец были у цели. Вежливость требовала идти к богу пешком, и они с облегчением оставили у ворот лошадей и колесницы. Пехотинцам по призванию, им казалось, что верховая езда только расшатывает кости, а тряске в колеснице любой предпочёл бы запряжённую волами повозку.
Весь верх горы был, как подобает святилищу, обнесён очищенными от коры прутьями. Самую макушку покрывала зелёная, ощипанная священными козами трава, а чуть ниже виднелась расщелина-оракул, обыкновенная трещина в скале, глубокая и изогнутая так, что дальнего конца не было видно. Перед входом в неё стоял алтарь из ничем не скреплённых камней. Вокруг уже толпились латинские цари, и за каждым вели жертвенного быка.
— Придётся подождать своей очереди, — небрежно заметил Ромул, — но с жертвоприношением не стоит затягивать. Дела не начнутся, пока бог не получит своё, а мне надо переговорить кое с кем из царей до совета. С твоего позволения, царь Таций, я пойду первым. Серебро в дар положишь вон на тот камень, потом посвятишь быка богу этого святилища — без имён, чтобы не ошибиться. Выведешь быка и стукнешь по голове, а остальным займутся служители: заколют его, снимут шкуру, сожгут на алтаре жир, ещё своруют часть мяса, но тут хватит на всех. Предоставь всё им, они наловчились приносить жертвы и делают это очень расторопно, а другие цари рассердятся, если их задерживать.
Ромул с латинскими сенаторами куда-то заспешили, а сабиняне стали тихо ждать, пока освободится алтарь.
Когда очередь дошла, Публий с горечью отметил, что не чувствует никакого благоговения. Первый раз он видел жертвоприношение такого размаха, но замечал только, как воняет кровью и горелым мясом, ревут в ожидании смерти быки, роятся мухи, да ещё что взятые взаймы сапоги перепачкались в навозе. Всё было отвратительно. Двое дюжих служителей схватили быка, и царь Таций подошёл ударить его, как положено, старинным бронзовым топориком. Теперь бык станет мычать, пока ему не перережут горло, потом осядет на колени, и сабинянам можно будет наконец спуститься на склон и вздохнуть свободно. Всё было известно заранее, не на что и смотреть.
Вдруг раздался крик, боевой клич Тациев, и прервался булькающим хрипом. Публий вскинул голову: бык брыкался, задрав хвост, а на колени рухнул царь Таций. Его зарезали жертвенным ножом и для верности всадили в спину вертел из тех, на которые натыкают жир для возжигания. Советники оцепенели. Снизу спешил царь Ромул.
Публий схватился за пояс, но там было пусто, в священное место он не взял ни меча, ни ножа. На ровной траве под ногами не валялось даже подходящего камня, да ещё и плащ мешал двигаться. Служители, человек двенадцать, с длинными ножами и вертелами обступили алтарь, готовые защищаться, словно воины-ветераны. На глазах сабинян убили главу рода, но кинуться мстить вдесятером, без оружия, они не решались.
— Никаких драк на священной земле! — выкрикнул на бегу царь Ромул. — Если оскверним святилище, жители Лавиния нас убьют. Не двигайтесь! Пусть они сами разберутся с преступниками.
Появился отряд воинов, со щитами и копьями наготове; при виде них убийцы, сложив орудия мясников, покорно протянули руки, чтобы их связали.
Кто-то уже выдёргивал прутья из земли, которая больше не была святилищем.
— Все к обозу, — крикнул начальник воинов. — Преступников будут судить наши старейшины и до вечера вынесут приговор. Всем чужеземцам спуститься в долину. Убитого доставят соплеменникам, как только принесут носилки.
— Уходим, уходим, — распорядился Ромул. — Всем римлянам собраться у моей колесницы, под городом. Никакой мести на земле Лавиния! Убийцы схвачены, их ожидает суд.
Один из сенаторов развёл руками. Публий повторил его движение и поправил неудобный плащ. В первый миг он ещё мог броситься на врагов с голыми руками, но когда начали говорить, порыв пропал. Вождь погиб, его уже не вернёшь. Убийцы схвачены, и если жители Лавиния их пощадят, для мести ещё будет время.
В пару минут вершина опустела. У верхних ворот царям и советникам встретилась процессия гадателей, которые шли очистить осквернённое святилище, чтобы богу, который там обитает, не перестали поклоняться ни на один день.
Добравшись до обоза, Ромул тотчас вскочил на колесницу и отправился объезжать одного за другим латинских царей, а сабиняне сели на коней и поспешили в лагерь охраны, за десять миль, на другую сторону хребта. День скоротали беспокойно, загородившись повозками, готовые к бою. На закате появился Ромул, с ним старейшины Лавиния принесли на роскошных носилках тело Тация. У сабинян стерегут покойника всю ночь, чтобы из тела не выбрался призрак, так что сенаторы спали по очереди и у них не было возможности посовещаться всем вместе.
Наутро, по дороге в Рим, было вволю времени обсудить будущее, но никто ничего не предложил. Все колебались, не зная, что скажет народ на Квиринале. Публий ехал молча.
Из-за носилок двигались медленно, и к Риму труп царя уже смердел. Ромул предлагал сжечь его у дороги, а в город для погребения доставить пепел — но это латинский обычай, сабинянину даже подумать о таком казалось дико. Жечь можно мусор и отбросы, а тело великого начальника должно лежать в земле целиком, на случай, если оно снова понадобится душе.
Когда прибыли в город, могила была уже готова. Покойный не оставил сыновей, поэтому свинью на похоронах принёс в жертву старейший из тациев.
«Не оставил сыновей», — об этом и думали по дороге домой все сенаторы. Была, конечно, замужняя дочь, и обычно в таких случаях наследует зять. Но у мужа Тации было трое старших братьев, значит, он беден. И родом не из тациев. Не может же ими править Помпилий!
После похорон самые влиятельные сородичи собрались в бывшей царской хижине обсудить положение, и скоро стало ясно, что очевидного преемника нет. Прежние вожди отличались в битвах, но не в постели, покойный царь был единственным сыном единственного сына — ни дядьёв, ни двоюродных братьев.
Конечно, все тации произошли от первого Тация, и каждый знал имена своих предков, но старшинство в этих родословных не уточнялось, и никто не мог поручиться, что его пра-пра-прадед был старше своих братьев. Рассмотрев дело так и эдак, советники решили выбирать преемника на общем собрании рода.
Публий не участвовал в обсуждении. Он не слишком разбирался в родословных, но знал, что сам не может наследовать царю, а никого другого не поддерживал. Но в Сенате он научился кое-каким политическим приёмам. Под самый конец собрания он подал такую мысль.
— Слушайте, братья, — неуклюже начал Публий, — вы ведь хотите и дальше жить в Риме? Я бы не отказался. Здесь тесно и летом воняет, зато безопасно, вволю счастья и не соскучишься. Вернись я в деревню, мне бы уже не хватало толпы соседей. Ну а если вы тоже хотите остаться в Риме, зачем нам вообще глава рода? Покойный вождь был наследником своего отца, правил, пока мы жили сами по себе, и переселил нас в Рим. Но если новый вождь не согласится быть просто соправителем царя Ромула, он попытается увести нас обратно в горы, а если кто-нибудь не захочет, род может расколоться. Предлагаю избрать царя Ромула военным вождём — бывает ведь, что выбирают какого-нибудь хорошего воина, если глава рода ребёнок или калека. Приносить жертвы предкам будем, как раньше. Старшие научат детей обрядам, латиняне помогут сохранить дух трибы Титов, как они на свой чудной лад нас называют. А собственный царь нам в Риме не нужен. Предлагаю не избирать главу рода, и во всём, кроме обрядов, стать как остальные.
— Мне такое в голову не приходило, но я согласен с Публием, — сказал старейший сенатор. — Я тоже хочу жить здесь. Палисад хороший, а я не так молод, чтобы карабкаться по обрыву, если на мою беззащитную деревню нападут. Пусть всеми нами правит Ромул.
В тот вечер совет ничего не решил, но наутро на общем собрании рода обнаружилось, что никто из преемников не набирает явного большинства. Долго спорили и наконец решили покончить с родом Тациев и оставить только трибу для священнодействий. Царя Ромула избрали военным вождём. Ничья честь не пострадала, и Рим успокоился под властью единого правителя.
Через несколько дней из Лавиния послы доставили закованных в колодки убийц царя Тация. Граждане Лавиния постановили, что судить и наказать их должны римляне. Разбирательством немедленно занялось собрание.
Марк Эмилий давал ужин. Гостей было всего двое, но по-настоящему их принимали впервые, раньше они только заходили поболтать. Ведь сенатор Публий Таций и его супруга госпожа Клавдия стояли в обществе неизмеримо выше скромного воина рода Эмилиев. Был праздник. Вино и свинина достались даже рабыне, которая чистила посуду (готовила Сабина сама), и Лары были убраны цветами.
Марк постарался. Он раздобыл взаймы два этрусских ложа, так что оба стула освободились для дам. Еда была самая латинская, какую может приготовить сабинянка, но мяса больше обычного, а ячменную кашу подали последней, на случай, если кто-то ещё не наелся.
Потом чаши щедро наполнили разбавленным лишь наполовину вином, и началась беседа.
— Выпьем за Рим, — предложил Марк, совершив возлияние богам. — Я видел, как он возник, уже больше тринадцати лет назад. Сперва тут жили одни латиняне да горстка бродяг со всей Италии. Шесть лет назад появились вы с родичами, с нами объединились, город стал как бы двойным. И вот наконец мы полностью едины. Нет больше латинян и сабинян, просто римляне, сограждане.
— Мой Публий одним из первых предложил отменить род Тациев, — похвасталась Клавдия. — Конечно, мне он о своей речи не сказал, мужья вообще забывают рассказывать о многом жёнам, но я всё равно узнала, и, по-моему, все его друзья должны знать.
— Я этого не скрываю, просто не считаю важным. Все братья согласились, как только услышали. Глупо, в конце концов, что в одном городе два царя. Я в Риме прожил не один год и хочу здесь остаться, а новый царь увёл бы нас снова в горы.
— Да, жить надо в городе, — сказала Сабина. — Меня сюда не приглашали, а когда первый раз затащили в эту хижину, я порядком удивилась. Но за палисадом дети играют в безопасности, и кругом всегда полно соседей.
— Город защищает, — согласилась Клавдия, — и не так уж сильно стесняет нашу свободу. У римлянок больше прав, чем когда-нибудь снилось матери, а что соседи всё время смотрят, я привыкла.
— Не забывайте, наш город ещё и любят боги, — заметил Марк.
— Ну, — фыркнул Публий, — Лавиний они тоже, должно быть, любят, раз святилище у самых ворот. Но это не спасло его жителей от неприятностей.
— Зато сегодня им невероятно повезло, — сказал Марк. — Послам было бы тяжело смотреть, как иноплеменники казнят их сограждан, пусть даже заслуженно. А так они могут забрать их живыми и невредимыми.
— По-моему, народ судил правильно, — заявил Публий. — Я сам голосовал против казни, хотя убили моего вождя и брата. Нельзя винить этих несчастных, что они мстили за сородичей, и надо же кровной мести где-то остановиться, чтобы не воевать всегда со всеми соседями.
— Похоже, кроме меня Тациев не осталось, — Клавдия виновато улыбнулась, словно извиняясь за дерзость. — Если кровная месть — это долг, а я думаю, что да, то они правильно убили царя, а мы не имели права их отпустить. Если же месть не извиняет убийства, то они нарушили закон, когда пролили кровь на священной земле. Что так, что эдак, их надо было казнить.
— Дорогая, тебя подводит не логика, а память, — снисходительно ответил Публий. — Ты не вспомнила, что первыми начали наши братья. Год назад Тации убили послов. А кто первым пролил кровь, имеет право прекратить вражду.
— Все такие благородные, просвещённые и передовые, Клавдия начинала сердиться и говорила резче, чем подобает послушной жене. — Убийц твоего царя связали и привезли в собрание, а ты отказался мстить. Если чужие могут безнаказанно убивать твоих сограждан, где хвалёная безопасность нашего города? Месть — первый долг свободного воина, по крайней мере, меня так учили, а если теперь по-другому, то надо повсюду носить меч, потому что везде опасно. Царь ставил долг перед родичами даже выше правосудия, поэтому и заступился за наших перед Ромулом, когда погибли послы. А теперь он мёртв, и никто не потрудился наказать преступников. Просто стыдно быть сабинянкой.
— Если мы хотим жить здесь, это единственный разумный путь, — Публий говорил мягко, гордость не позволяла ему отчитывать жену при посторонних. — Царь Ромул хочет мира. Он теперь наш единственный царь и нашёл бы, как избавиться от несогласных.
— Да, новый наш правитель не чета прежнему! — проворчала Клавдия. — Таций стоял за свой род и погиб, а Ромул не потрудился отомстить за соправителя, потому что воевать слишком хлопотно. Бедный Таций был лишён стольких преимуществ — отец не Марс, а простой смертный, и братьев нет, некого убить.
— Вы оба правы, — вмешался Марк, пытаясь помирить спорщиков. — Я рад, что собрание присудило отпустить убийц невредимыми, раз ими руководила честь. Это великодушно и умножит славу Рима. А что касается царя Ромула, наверно, ему и вправду следовало отомстить. Он предоставил собранию решать, но все видели, какого приговора он хочет. Странный человек, а может, и больше, чем человек; я помню, как он убил Рема, хоть и кажется, что это было в незапамятные времена, и знаете, они друг друга стоили. Как бы то ни было, Ромул с тех пор процветает, а уж если ему даже братоубийство не повредило, значит, он действительно любимец богов.
— Посмотрим ещё, как он кончит. Боги иногда долго ждут, прежде чем покарать злодея. Но раз мы все римляне, он теперь наш царь; так что, наверно, нехорошо желать ему зла, — Клавдия осталась при своём мнении, но готова была кончить спор.
— Давайте выпьем снова, — обрадовалась перемирию Сабина. — За вечный Рим, за нас и за римлян после нас, во веки веков!
Глава 8. БЕГЛЕЦ
Даже в такое тяжёлое, отчаянное время про обряды не забывали. Наоборот, их надо было исполнять с умноженным рвением, потому что город как никогда нуждался в помощи богов. Но после недавнего разгрома едва хватало воинов, чтобы защищать стены, все жрецы и гадатели встали в строй, и приносить утреннюю жертву остался только один юноша, да в помощь ему старый калека.
Семнадцатилетний Перпена ещё никогда не приносил жертвы, но в бою он тоже ещё не бывал, хотя учился и военному и жреческому делу. Главный жрец решил, что его можно отпустить на час заколоть барана и посмотреть печень. Врагов больше, чем защитников крепости, но один новичок дела не меняет. Тем более всякий, кто учился читать знамения, справится с этим делом с первого раза, а про неопытного воина, как его ни готовь, никогда неизвестно, будет ли он полезен в бою. Поручение было очень ответственным, на целый час счастье города оказалось в руках Перпены. Обряд надо было совершить без единой ошибки, без суеты и точно по всем правилам.
Святилище находилось в старой части города, на плосковерхом утёсе, который поднимался из речной излучины и служил крепостью первым поселенцам. Только здесь сейчас и было тихо: враги не могли подступиться к окружённым водой стенам. Свежий утренний ветерок уносил шум сражения, почти весь нижний город ещё покрывала тень. Перпена взглянул на южный берег, и на миг ему показалось, что всё как раньше и в городе по-прежнему мир.
Он аккуратно снял железный панцирь; боги не понимают новшеств, нехорошо вносить в святилище железо. Шлем и поножи он тоже снял, хотя бронзу боги знают и любят, но гадатель должен подходить к алтарю босиком, чему поножи вроде бы противоречили, а голову полагалось покрыть особой тканью из чистого льна, этого не сделаешь в шлеме.
Оставшись в одной тунике, он нагнулся за мечом, надел перевязь и остановился. Когда под стенами битва, свободный этруск должен быть вооружён, и меч у Перпены был отличный — только выкован из железа. Осторожно, по краю священной борозды Перпена подошёл, как можно ближе, к алтарю и положил меч рукоятью к святилищу на самой его границе. Нечистого железа он за борозду не внесёт, но оружие будет всего в двух шагах.
Баран стоял у алтаря спокойно. Служитель, как водится, накормил его зерном, вымоченным в вине, чтобы он захмелел, ведь нет хуже знамения, чем если жертвенный баран начнёт отбиваться. Поднять его на камень у хромого служителя сил не хватило, и Перпена сам взвалил туда барана одним движением сильных молодых рук.
Теперь баран лежал на спине, служитель удерживал его задние ноги. Перпена занёс бронзовый нож и вдруг почувствовал, что сейчас совершит убийство, до того похож был баран на скрюченного старика. Всё правильно: ведь он действительно заменял человека. Человеческая жертва пришлась бы богам больше по вкусу, но убивать сограждан преступно, а каждый день раба дорого. Так что придётся барана. Перпена всадил ему нож в горло и перепилил жилы.
Итак, баран был мёртв, кровь его дымилась на алтаре, чтобы боги остались довольны и помогли этрускам в этот нелёгкий час одолеть северных дикарей. Перпена перехватил нож и с некоторым трудом вспорол жертве брюхо. Тут он снова замешкался: очень уж противно было засовывать руку в вонючие внутренности, копаться там и нашаривать печень. Но такова уж одна из важнейших обязанностей жреца, со временем он притерпится. Главный жрец умел вытащить печень, не посадив на свои безукоризненные одежды ни капельки крови.
Нижний город внезапно взорвался криками, беспорядочно гудела одинокая бронзовая труба, мерно били мечи о щиты: дикари разъяряли себя перед штурмом. Обычно они любили поспать, рассвет в осаждённом городе был самым тихим временем, но на сей раз, похоже, враги решили броситься на стены с утра. Шум был до того оглушительным и страшным, что Перпене захотелось подхватить оружие и бежать вниз, на своё место у северных ворот. Но он знал, что выполняет важное дело, что здесь он нужнее, чем на стене. Содрогаясь от омерзения, он запустил пальцы в склизкие потроха.
Вот и печень, точно как его учили; пусть он в первый раз совершает обряд, но какой-нибудь другой орган по ошибке не вытащит, это принесло бы большое несчастье. Перпена достал окровавленный бурый комок, поднял руку, чтобы первым знамение увидел Небесный отец, потом протянул её вперёд и стал ждать, пока печень заберёт служитель.
Глядя, как положено, в небо, он произнёс заученные слова молитвы, но служитель не торопился. Это было просто возмутительно. Первый раз Перпене доверили самому приносить жертву, он справился безупречно, а тут ветеран, который уже сто лет помогает в таких обрядах и должен знать их без подсказки, стоит столбом и всё портит.
Служитель не отрываясь смотрел в нижний город.
— Там очень шумно, — беспокойно сказал он, — несколько крыш загорелись. Наверно, часть диких забралась внутрь. Боги получили жизнь барана, может, поторопимся вниз и поработаем мечами?
— Мы приносим жертву или обсуждаем осаду? — рассердился Перпена. — Ты знаешь не хуже меня, что на священной земле произносят только слова заклинаний, но раз ты нарушил правила, я тоже их нарушу. Нельзя уходить, не кончив обряда. Небесный отец действительно хочет только жизни барана, и он её получил, но городу нужен совет свыше, как лучше расправиться с дикарями. Держи печень, я буду читать знамения.
Служитель принял печень в сложенные ладони и сунул под нос юноше, неуклюже присев; по правилам ему полагалось бы преклонить колено, но старика извиняла негнущаяся нога. Потом он мельком взглянул на кровавый комок, каких несчётное множество протягивал жрецам на своём веку. Перпена увидел, как его лицо вытянулось.
Вообще-то печень у всех овец примерно одинаковая. Нужно большое умение и опыт, чтобы заметить морщинки, бугорки, всякие мелочи, которые предвещают хорошее или дурное. Перпена несколько лет осваивал эту премудрость по глиняным слепкам, но был готов и к тому, что ничего особенного не увидит. Он доложил бы, что сегодня у богов нет послания. Это неплохо: молчание — тоже хороший знак.
Но эта печень была ни на что не похожа. Твёрдая, сморщенная, но при этом прогнившая. В ней извивались тонкие черви, и она уже воняла. Это было жутко.
— Хуже не придумаешь, — пробормотал Перпена, — после такого знамения остаётся только накрыть голову и сидеть, пока несчастье не развеется, а у нас, как на зло, отчаянная битва. Пошли, надо скорей найти главного жреца. Вдруг можно остановить сражение, пока гнев богов не сравнял весь город с землёй.
— Поздно. Печень прогнила насквозь, это значит, что городу конец. Слышишь, дерутся всё ближе и ближе. Смотри: дикие лезут сюда, и некому их вышвырнуть!
Служитель показал на стену. Перпена быстро обернулся: с этой стороны площадку защищала только низкая ограда, и над ней торчали три рогатых кожаных шлема. Склон здесь был не настолько отвесный, чтобы по нему не забраться, но крутой и открытый, и для обороны хватило бы одного часового, но тот убежал к товарищам сражаться за нижний город.
Хромой служитель заковылял вниз, размахивая руками и зовя на помощь. Перпена кинулся к мечу. Копьё и щит подбирать было некогда, а то враги успеют забраться внутрь.
Из-за стены навстречу ему вылезала волосатая рожа, сплошная борода и усы, увенчанная немыслимыми бычьими рогами. У дикаря был крепкий кожаный панцирь и большой овальный щит, но как раз сейчас его мог одолеть и противник в одной тунике: левую руку со щитом дикарь перекинул через стену, правой цеплялся за скалу, и меч ему мешал. Какая, оказывается, лёгкая штука первая битва! Перпена ударил мечом по бычьим рогам — дурацкое украшение — шлем свалился. Ещё удар, и дикарь полетел в реку. Перпена перегнулся через стену посмотреть, как он падает.
А по скале ползли ещё дикие. Судя по всему, небольшой отряд решил подняться здесь, пока все защитники заняты в нижнем городе. Даже десяток врагов в крепости — непоправимая беда, но служитель пришлёт помощь, как только разыщет военачальника, а до тех пор неужели расторопный воин не сможет отразить беспорядочное и слабое нападение? Перпена побежал направо, откуда лез второй дикарь.
Он опоздал. Враг ещё не совсем перебрался внутрь, но прочно стоял на ногах. Одет он был в овчину мехом наружу, такую не разрубишь мечом. Перпена скрестил с ним клинки, досадуя отсутствию собственного щита.
Было очень непривычно отражать удары, сознавать, что бьёшься всерьёз. Даже пришлось напомнить себе, что это не урок боя на мечах, любая ошибка может оказаться последней. Но всё-таки дикие совершенно не умели драться! У этого был длинный меч, но он словно боялся его сломать. Похоже, смертельный бой — это совсем просто, проще, чем можно подумать. Пусть даже у Перпены не получалось убить врага, продержаться он мог сколько угодно.
Было просто нечестно, что влезли остальные, когда он так ловко вёл первый в жизни бой! Перпена вдруг услышал сзади шаги и краем глаза различил занесённый меч. Он отпрыгнул, увернулся и увидел, что подбегают ещё трое дикарей.
Это означало конец всему. Конец городу, друзьям, родным, ему самому. Крепость взята, и уже неважно, как пойдёт сражение в нижнем городе. В таком положении самому смелому воину позволительно было подумать о собственном спасении.
Перпена побежал к углу стены. Дикари пустились следом, но им мешали щиты и панцири, а на нём была только полотняная туника. Из-под самых вражеских мечей он перемахнул стену точно, где собирался. Сзади торжествующе, насмешливо заорали: решили, конечно, что одуревший от страха этруск соскочил прямо в пропасть и разбился. Он мог не бояться погони.
Перпена приземлился, как и рассчитывал, на неширокую осыпь; щебёнка поехала вниз, но замедлила его падение. Многие юноши знали об этом укромном выходе, но поскольку залезть обратно по крутой осыпи было невозможно, никто не докладывал про изъян в укреплениях. Оказавшись на берегу, Перпена прошмыгнул между валунами, перешёл ручеёк, в который превратилась река от летнего зноя, и взобрался на южный берег. Спрятавшись за кустом, он увидел, как гибнет его город.
Не было сомнения, что это конец. Город пылал, на стенах кривлялись и отплясывали враги. У многих в руках были отрубленные головы, дикари ещё не понимали цены рабам и охотились только за добычей. Уцелеть могли разве что такие же случайные беглецы.
В полной безопасности город не был никогда, даже задолго до рождения Перпены, но конец пришёл настолько внезапно, что он никак не мог заставить себя это осознать. Кроме них больше нигде на северном берегу не жили этруски, одни дикие лигурийцы, которые злились, что их охотничьи угодья сводят под пашню. Так продолжалось много поколений, но лигурийцы никогда не представляли серьёзной угрозы. Они были слишком бедными, чтобы делать приличное оружие, и слишком дикими, чтобы собраться в войско, и могли убить одинокого путника, но подступать к каменным стенам боялись.
Три года назад из-за гор, из неизвестных краёв появился новый враг. Пришельцы носили железные мечи и бронзовые доспехи и не занимались ничем, кроме грабежей, это было настоящее войско. После победы они забирали добычу обратно за горы, и никто не знал, как они живут на родине. Те из лигурийцев, с которыми можно было разговаривать, утверждали, что этот народ называет себя кельтами и что за горами им принадлежат все земли до края света. Лигурийцы в ужасе бросали свои угодья в речной долине и прятались в щербатых холмах на западе.
Год назад кельтское войско пришло на земли этрусков. Кельтов было так много, что горожане не решились с ними сражаться, а укрылись за стенами и ждали, когда дикари уйдут. Те ушли, пока снег не закрыл перевалы, но сначала опустошили поля и оставили горожан на зиму без продовольствия. Когда весной появилось другое войско, горожанам оставалось только принять бой или погибнуть от голода. Перпене повезло, его оставили с остальными мальчишками охранять стены; из ополчения почти никто не вернулся. Может, наоборот, не повезло — разве не лучше погибнуть в бою, когда вокруг друзья и город цел, чем ещё пару месяцев влачить жалкое существование бродяги, без товарищей, без надежды?
Но после того разгрома никто не считал беду непоправимой. Оставалось достаточно стариков и мальчишек, чтобы защищать стены, а всем было известно, что дикари не могут взять крепость. Конечно, пропали два урожая подряд, и горожане знали, что будет голодно, даже очень — настолько, что весной, может быть, придётся бросить обжитые места и отправиться на юг, под защиту Этрусского союза. Но пока что надо было держаться и не сдавать стены. Они недооценили дикарей...
Перпена просидел за кустом до позднего вечера и двинулся на юг. Часовые с крепости его не заметили; скорее всего, там уже никого не было, потому что дикари не любили долго оставаться в разграбленных городах, несмотря на усталость, голод и жажду. Перпене предстояло ещё найти до темноты место для ночлега.
Из вещей у него остались только меч без ножен да туника. Но как жреца его научили рассуждать спокойно и трезво, не бояться холода и поста. Ужасов поражения он, к счастью, не видел, и хотя знал, что все друзья и близкие погибли, не мог представить их непогребённые, обезображенные трупы. Они просто перешли в иной мир, и его долгом было, как только он найдёт безопасное укрытие, позаботиться об их душах. Страх не мешал думать.
Мечом Перпена отрезал от туники полоску, получилась праща, а под ногами хватало обкатанных рекой булыжников. Скоро ему посчастливилось найти зазубренный кремень. Сегодня огонь ещё мог навести на след дикарей, но потом в любое время можно будет греться. Пройдя ещё несколько миль, он заночевал в расщелине, где цепь холмов замыкала южный край равнины.
На рассвете он убил горного козла и сидел на месте три дня: нажарил мяса, сделал из шкуры хорошую пращу, перевязь для меча и пару сандалий. Всё снаряжение страшно воняло, но Перпена не обращал на это внимания: конечно, его мог учуять прохожий, зато смешанный запах козла и человека собьёт с толку собак. На четвёртый день он выломал палку-посох, положил в сумку из козьей шкуры вяленого на солнце мяса и отправился искать какой-нибудь город. Навстречу не попадалось ни души: кельты не перешли реку, но все крестьяне в страхе перед ними попрятались.
Перпена не спешил, держался в узких долинах, где его не могли заметить издали. Десять дней спустя он вышел к возделанным полям и, притаившись за торчащим из земли камнем, стал наблюдать, что за люди здесь живут. Начиналась жатва, в полях было много работников, но держались они, как все жнецы, кучками, и только к вечеру Перпена приглядел человека, который трудился один.
Человек чинил дорогу, заравнивал выбоины, засыпал щебнем лужи. Такая работа, хоть и тяжёлая, требует известного умения, её не поручили бы рабу без надзора. Кроме того, он выглядел неглупым, спокойным и ответственным и держался как свободный гражданин, имеющий голос в делах войны и мира. Перпене не хотелось начинать знакомство с городом с раба, рабы обычно так боятся чужих, что от страха перестают соображать, а этого человека как раз можно было расспросить.
Ползком он стал подбираться ближе. Работник двигался вдоль дороги, пока пригорок не заслонил его от ближайших жнецов. Пора! Перпена встал, вытянув правую руку в знак мира: меч на перевязи показывал, что он не беззащитен.
При звуке его голоса работник подскочил и схватил мотыгу наперевес, словно копьё. Потом увидел, что Перпена один, и ответил на приветствие по-этрусски, чисто и правильно, как аристократ.
— Ты меня напугал, юноша. Твоё счастье, что я не вооружён, а то мог бы ударить. Похоже, тебе приходится туго, если ищешь еду и кров, пойдём со мной в город.
— Мне в самом деле нужна помощь, но сначала хотелось бы узнать об этом городе побольше. Я даже не был уверен, что он этрусский, пока не услышал, как ты хорошо говоришь.
Работник улыбнулся.
— Это постарались родители, приятно слышать, что я не забыл их уроки. Но в здешних краях говорят на более диком наречии. Ты, наверно, с севера, твой город разорили кельты? Мой тоже. Я здесь уже третий год.
— И хорошо живёшь?
— Лучше, чем в чистом поле, где ни крыши над головой, ни горячей еды. Если у тебя нет родственников, которые бы помогли тебе устроиться в каком-нибудь безопасном городе, оставайся здесь. Совет о тебе позаботится, по ночам ты сможешь спать спокойно. Вот только придётся зарабатывать на жизни, раз у тебя нет серебра. Знаешь какое-нибудь ремесло?
— Да. Я обучен двум искусствам: читаю знамения по печени и владею всеми видами оружия, какое носит свободный воин, хотя сейчас у меня только меч.
— Боюсь, это не годится — и то и другое запрещено иноплеменникам. Жрецы здесь не потерпят соперника, а давать чужеземцам оружие не велит осторожность.
— Тогда какую же мне подыщут работу? Я не хочу жить за городской счёт.
— Город и не станет тебя содержать, только первые три дня, как гостя. Если хочешь есть каждый день, будешь, как я, работать в поле. Утром работа, когда кончишь — обед, на следующий день новое задание, и так далее.
— Но это же рабство! — возмутился Перпена. — Неужели тебе не дали надела? Ты работаешь не на своей земле?
— Разумеется, нет. Земли не хватает, особенно теперь: кельты теснят нас с севера. Но я не раб, хотя живётся, конечно, нелегко. Я свободный беженец под защитой города. Сплю на террасе дома советов, на зиму получаю тёплую тунику. По закону меня нельзя бить, хотя не годится жаловаться на каждую затрещину. Может, жизнь и неважная, но другой я не заслужил: мой город разграбили, а родичей перебили. Мне ещё повезло, что я, нищий, остался свободен.
— Почему не поискать другого места, где тебя лучше примут?
— А где? Здесь, по крайней мере, говорят на моём языке и почитают богов, которых я знаю с детства. Я сам виноват, надо было сражаться до последнего, когда в город ворвались дикари. Сейчас у меня есть еда, есть где спокойно спать, а в италийском городе сделают рабом, посадят на цепь и станут запирать на ночь.
— Если ты можешь работать, значит, можешь сражаться. Иди в разбойники, вдруг награбишь серебра и купишь поле.
— Я думал об этом, само собой, но такая жизнь не для меня. Я стар, ловкость уже не та; убьёт какой-нибудь крестьянин, а нет, так другие разбойники станут отнимать добычу. После всех скитаний и погони достаточно того, что здесь я в безопасности.
— Так ты мне советуешь тоже поступить на содержание города?
— Я ничего не советую, делай как знаешь. Если войдёшь, три дня будешь гостем, как всякий путник, но если заподозрят, что ты собрался в разбойники, то не успеешь убежать, как тебя распнут. У нас разбойников не любят. На четвёртый день дадут работу. Чего ещё искать? Тебе бы следовало погибнуть, защищая свой город.
— Спасибо, что предупредил, — ответил Перпена. — Я стану разбойником. Да, собственно, уже стал. Видишь этот меч? А ну быстро отдавай всё, что может мне пригодиться.
— Ты сам решил, — устало вздохнул старик, — не говори потом, что это я посоветовал. Здесь бы тебе давали хлеб и вино, а по праздникам кусок мяса, и ты ночевал бы за надёжной стеной, под охраной. А разбойнику случается, конечно, каждый день есть говядину, только чаще ему вообще ничего не достаётся, и разбогатеть грабежом можно, но вероятнее получить нож в спину, как только с тебя будет что взять. Хотя если ты вправду решился, не стану отговаривать. Так, дай подумать. Вот ломоть хлеба с сыром, может пригодиться нож, который мне одолжили, башмаки не забирай — они ничуть не лучше твоих самодельных сандалий, а других у меня нет. Когда уйдёшь, мне придётся поднять тревогу, чтобы объяснить, куда делся нож, так что не трогай нынче ночью наших овец, тебя будет высматривать часовой.
— Хорошо. Не знаю, когда ещё случится попробовать хлеб, так что твой я возьму, и нож тоже, а башмаки оставь. Кстати, как тебя зовут и как назывался твой город? Вдруг я встречу кого-нибудь из твоих родичей.
— Родичей у меня нет, я беглец, без имени, без города. Некому будет позаботиться о моей душе, и едва мой пепел остынет, я буду навеки забыт. Может, ты и прав, что выбрал разбой. А теперь беги; прежде чем звать на помощь, я сосчитаю до тысячи.
В разбойничью шайку попасть оказалось нетрудно. Перпена пришёл с хорошим мечом, у него самого взять было нечего, так что главарь не возражал. Он тоже был беглец-этруск, но никто не называл его по имени, а только кличкой: Мор, что значит «высокий» на дикарском наречии. В шайке было ещё четыре этруска да десятка два лигурийцев и италиков. Занимались больше мелкими кражами, чем серьёзным разбоем, потому что на двадцать пять человек приходилось всего шесть щитов и шайка боялась иметь дело с настоящими воинами. У них было укрытие в узкой долине, они жили там в землянках и готовили, не прячась, на больших кострах. Перпена зазимовал с ними. К весне у него был толстый плащ из овчины и крепкие башмаки, а от жареной баранины заметно прибавилось сил.
Как только ночи стали теплее, он бросил шайку и один отправился на юг. В одиночестве, конечно, было тоскливо, но общаться с разбойниками он не мог. Все опустились, отупели, думали только о следующей еде, и он с трудом выносил их порядки. В лагере держали трёх грязных, неряшливых женщин, единственных выживших из тех, что утаскивали с окрестных полей. Но под конец зимы личная наложница Мора умерла, и вожак решил, что хорошенький восемнадцатилетний новобранец с успехом её заменит. Самое время было двигаться дальше.
Перпена знал, что не пропадёт. Ел он или голодал, дремал или высматривал врага, сидел у костра или дрожал от холода, он оставался неизменно спокоен. Находясь день и ночь в опасности, он редко испытывал страх, хотя и избегал ненужного риска. Меч, единственное, что осталось от прежней жизни, держал чистым и острым, из пращи редко промахивался. Было сразу видно, что его трудно убить. Собственно, потому он до сих пор и оставался жив.
Перпена шёл медленно, поскольку по дороге охотился и воровал, а когда добудешь оленя или овцу, глупо уходить, не съев всё мясо. Но тем не менее он шёл: вдоль реки, мимо холмов, с чёткой целью. В своё время он слышал, что за границей этрусских владений есть другие народы, которые тоже живут в городах, там нищему беглецу могут оказать более радушный приём. Однако когда первые осенние заморозки напомнили, что пора искать пристанище, он всё ещё оставался на этрусской земле.
Однажды, когда он дремал на склоне, снизу в долине появился отряд наёмников. Перпена подобрался к замыкающим, и когда они разглядели одинокого бродягу, подошёл и прямо спросил, не найдётся ли места ещё одному воину. Наёмники согласились его взять, хотя сами как раз искали службу и не очень-то хотели пополнять свои ряды. Несколько дней Перпена сытно ел и крепко спал среди новых товарищей, под защитой часовых.
Через десять дней он сбежал из отряда. Платы он не получил, и преследовать его не стали. Не понравилось ему в основном то, что от жизни простого меченосца страдала гордость: без щита и доспехов он не мог встать в строй и оказался ниже последнего лигурийца, раздобывшего себе полное вооружение. В бою его место, сказали ему, будет где-нибудь на фланге, с пращой, а пока велели готовить, таскать воду и заниматься прочей работой, недостойной настоящего воина.
Вторую зиму своих скитаний Перпена провёл наёмным работником. На юге края было спокойнее, подходящих разбойников не попадалось, только какие-то жалкие бродяги, которые вместо того, чтобы взять ещё одного человека в свою шайку, готовы были убить его ради меча. Однажды в страшную грозу Перпена в поисках зимовки вышел к одинокой овчарне между холмов. Он решил, что так поздно осенью там никого нет, но вдруг залаяли собаки и на шум появился старый пастух. Старик сразу понял, что перед ним разбойник, но ему было всё равно: сам он раб, овцы хозяйские. Если путник ищет, чем поживиться, может взять овечку, больше тут ничего нет. А если хочет, может остаться на зиму, только пускай помогает присматривать за стадом. Мокрый, продрогший Перпена взглянул на огонь в очаге и согласился.
За годы одиночества старик стал и сам похож на овцу. В этих южных краях отары оставляли в холмах на всю зиму, и хозяина нечего было ждать по крайней мере до весны. Пастух знал пару слов по-этрусски, но родной его язык был италийский, и он всё время тихонько говорил сам с собой. Время остановилось для него больше пятидесяти лет назад, когда его похитили охотники за рабами, и он без конца бормотал о своём детстве в сабинской деревне. Когда кончили ягниться овцы и пора было в путь, Перпена уже не только освоил основы пастушеского дела, но и бегло говорил на ломаном италийском языке.
Но долго так было не прожить. Он отчётливо понимал, что спасается одним только везением. Летом бродяге не так уж трудно, и на зиму оба раза удавалось найти укрытие, но настигни его болезнь или несчастный случай, и придётся умирать от голода в какой-нибудь заброшенной пещере. Мог и разъярённый крестьянин попасть дротиком, несколько раз Перпена едва успевал увернуться. И главное, он был совершенно один.
Он мог бы украсть девчонку, хотя обычно, когда крестьянки гонят свиней пастись в буковый лес, неподалёку всегда есть воины. По закону, стоит украсть девушку и изнасиловать, и никто другой к ней уже не прикоснётся, так что ей волей-неволей придётся быть верной своему похитителю. Однако на деле не всегда всё выходит гладко, она может всё равно его предать. Потом, боги не одобряют таких поступков, да и ему самому этот план не нравился.
В большой разбойничьей шайке он мало на что мог рассчитывать, там только и достанется, что чистить миски — человек без щита всегда ниже настоящих воинов. Кроме того, вряд ли разбойники согласятся принять в своё братство чужака, могут и продать в рабство. Ещё можно было пристроиться к такому же одинокому бродяге, этих вокруг хватало, хотя с ними было не так просто договориться. Но тут, как назло, мешала молодость и красивая наружность: товарищ непременно начал бы к нему приставать.
И всё-таки этим летом Перпене пора было наконец прибиваться к людям, причём лучше куда-нибудь, где их много, чтобы первое время, пока не освоишься, пожить незаметно. Конечно, он всегда мог пойти батраком в этрусский город. Но говорили, что за пределами Этрурии италики подражают просвещённым соседям и тоже устраивают что-то вроде городов, и он хотел попытать счастья там, прежде чем смиряться с жизнью, которую ему уготовили соплеменники.
Вскоре после жатвы ему попалась ещё одна река, тёкшая, как и остальные, на юг к морю. Плодородный западный берег был весь обработан, но оставались рощицы и полоски кустов, так что Перпена, который очень хорошо научился прятаться, подобрался к самой воде.
Впереди, у небольшого островка, река на изгибе замедляла течение, длинная галечная отмель, видимо, служила бродом. На дальнем берегу среди букового леса с проплешинами полей торчало несколько островерхих холмов. Два из них венчали палисады, а под ними в долине возле каких-то построек виднелось пыльное пятно — вероятно, место общих сходок для этих двух деревень.
Городами их всё-таки было не назвать, по крайней мере, не по этрусским меркам, сколько бы народа в них ни жило. Вместо каменных стен — колья, забитые в земляной вал, вместо домов — крытые тростником хижины. Как будто какой-то недоразвитый народ пытается подражать великим городам Этрурии. Должно быть, это и было одно из новых италийских поселений, про которые он слышал, когда сам был гражданином. Но вдруг здесь с ним обойдутся лучше, чем в настоящем городе у просвещённых людей? По крайней мере, надо попробовать.
Местный народ был всё-таки не безнадёжно дик. Такой мостовой, как вон там у реки, не найдёшь и в Этрурии, да и сам брод был выложен каменными плитами. Поля обработаны тщательно, виноград рос не хуже ячменя. Жить в этих деревнях могло оказаться не так уж плохо, только не рабом и не безземельным батраком. Главное было — осторожно всё разведать и не попасться раньше времени. Перпена притаился и стал ждать, не удастся ли расспросить кого-нибудь наедине.
Но здешние жители оказались неплохо организованы. На закате они дружно потянулись с полей, а в долину прошагал вооружённый отряд сторожить скот в загонах. Потом зазвучала труба, и ворота в обоих палисадах закрылись. Теперь Перпена не решался подойти, потому что всякий, кто рыщет по ночам, будет встречен как враг. Развести огонь он не решился, закутался в плащ и стал дожидаться утра.
На рассвете снова послышалась труба, и ворота открылись. Перпена приготовился перейти через реку, как вдруг навстречу по броду зашлёпал отряд воинов, человек двенадцать. Вот с кем можно спокойно поговорить! Они не испугаются, а он в случае чего сможет легко от них убежать, потому что у них тяжёлые щиты и доспехи.
Более того, воины, перейдя реку, рассыпались цепочкой и принялись прочёсывать кустарник, причём один подошёл совсем близко к месту, где укрылся Перпена. Значит, удастся, как он задумал, побеседовать с глазу на глаз.
Воин был коренастый, бородатый, на вид между тридцатью и сорока; доспехи простые, но прочные: больше кожи, чем бронзы. Похоже, ему не особенно нравилось лазать по колючим кустам, но он делал это внимательно и добросовестно. Перпена высунул голову и негромко окликнул:
— Эй, можно с тобой поговорить? Я пришёл с миром.
От волнения слова сами собой вырвались у него по-этрусски, но воин, к счастью, их понял, хотя ответил на италийском наречии.
— Тогда пусть будет мир. Чего ты хочешь?
— Я этруск, беглец, — сказал по-италийски Перпена. — Мой город разрушили дикари, и я ищу новый дом. Как называется ваш посёлок на том берегу? Вы принимаете чужеземцев?
— Наш город называется Рим, потому что его основал царь Ромул, сын бога Марса. Городу не больше лет, чем тебе — около восемнадцати, — так что ты мог о нём не слышать. Что касается чужеземцев, одних мы к себе принимаем, других нет: воины нам нужны, а воров и так хватает. Встань, дай я на тебя посмотрю и, если подходишь, позову начальника, чтобы ты рассказал ему, кто ты такой.
Перпена встал, бросил меч к ногам воина и раскрыл руки, показывая, что в них ничего нет.
— Как видишь, я не опасен, но не хочу попасть в плен к чужакам, про которых ничего не знаю. Если позовёшь начальника, я убегу, и вам за мной не угнаться. Можно поговорить с тобой наедине, узнать побольше об этом городе, прежде чем отдавать себя в ваши руки?
— Конечно, если дело за этим. Я тебя не боюсь и не охочусь за рабами, так что меня бояться нечего. Мы живём слишком близко от этрусской границы, чтобы держать рабов насильно. Если ты не грабил наших деревень на том берегу, то самое худшее, что с тобой сделают, это просто отправят восвояси.
— Я никогда в жизни не бывал за рекой, так что не мог грабить ваши деревни. На самом деле я не разбойник, хотя ты и видишь, как я живу. Я беглец, в этрусском городе навсегда остался бы батраком. Воровал, чтобы выжить, но иногда работал и готов работать снова. Я хочу, чтобы меня взяли в город, деревню, племя, куда угодно, лишь бы сражаться в войске и, может быть, возделывать собственную землю.
— Тогда ты попал куда нужно. Если тебя примут, получишь место в ополчении, голос в собрании и поле. Но ни я, ни даже начальник не может сделать тебя римлянином. Сначала поговоришь с царём Ромулом, а потом, если он согласится, тебя должно принять Народное собрание. Главное — что скажет царь, собрание всегда его слушается.
— А пока я не узнаю, принимают меня или нет, мне придётся пойти с вами в крепость и быть вашим пленником?
— Очень уж ты осторожен для разбойника-одиночки. Римляне не людоеды, никто тебя не зажарит на ужин. Если хочешь, могу дать клятву. Меня зовут Марк Эмилий, я из основателей этого города, живу здесь все восемнадцать лет, на холме у меня жена и дети. В ваших непонятных этрусских богах я не разбираюсь, так что просто кладу руку на эту скалу. Клянусь, что если ты просто поговоришь с царём Ромулом, тебе не причинят вреда и либо примут в граждане, либо отпустят на свободу. Моя клятва крепка, как камень, а если я её нарушу, то да падут на мою голову все скалы на свете.
— Хорошая клятва, я ей верю. Моё имя, когда я снова стану воином, будет Перпена, а город лучше не называть, чтобы не навлечь несчастья, потому что его разрушили. Ты возьмёшь мой меч? Кстати, что вы вообще делаете на этом берегу?
— Как всегда по утрам, проверяем, нет ли здесь этрусских грабителей. По реке проходит граница, мы не хотим, чтобы нас застали врасплох. Теперь пора возвращаться; держись возле меня, я прослежу, чтобы к тебе не лезли, пока царь Ромул не решит, как быть.
Перпена охотно пошёл за Марком, неся свой меч, потому что тот не стал его забирать. Этот человек прямо-таки излучал доброту и порядочность. Не слишком воспитан, мало знает о богах, но ясно, что на его слово можно положиться.
Царя они нашли на другой стороне брода, в долине между укреплёнными холмами. У реки было отмечено святилище, и он совершал там какой-то обряд. Перпена заметил про себя, что этот сын Марса служит своим родственникам довольно неумело: привёл на священную землю вооружённых охранников, и у самого во время жертвоприношения висит на поясе железный меч.
Ромул был рослым, осанистым человеком средних лет. Густая борода и красивая посадка головы придавали ему внушительный вид, но он склонен к полноте, так что величавость скоро пропадёт, когда отрастёт брюшко. Морщины на лбу показывали, что он часто хмурится, хотя он и встретил подданного приветливой улыбкой. Здесь было, похоже, без церемоний: всякий мог подойти посоветоваться с царём о личных или общественных делах, не надо было падать ниц, никто не обыскивал просителя, проверяя, нет ли спрятанного оружия. Но охрана, крепкие ребята с мечами, держалась наготове.
— Значит, перед нами ещё один желающий получить долю прославленного римского счастья, — добродушно произнёс царь, когда Марк объяснил, в чём дело. — Когда-то мы брали всех подряд, всех, кто искал убежища вон там, в Азиле. Но теперь город процветает, Азил закрыт, и мы стали разборчивы. Однако для крепкого воина место ещё найдётся; а кто сумел выжить как разбойник-одиночка, без защиты товарищей, тот стоит своего места в строю. Здесь есть другие этруски, некоторые даже уверяют, что они знатные. Но говорят у нас по-латински, и хорошо, что ты знаешь язык. На первый взгляд ты нам подходишь, я так и скажу собранию, если мне понравятся твои ответы, но кое-что всё-таки надо выяснить. Во-первых, нет ли у тебя причин считать, что навлёк гнев богов?
— Мой город разорили дикари из-за гор, так что, возможно, боги мной недовольны. С другой стороны, это искупается тем, что я всё-таки уцелел.
— Я не про то. Города появляются и исчезают — кроме Рима, конечно, Рим вечен. Не прогневал ли богов ты сам, не совершал кровосмешения, святотатства, убийства родича?
— Никогда.
— Ты самоуверен. Случается согрешить и не подозревая об этом, чему есть десятки примеров.
— Да, государь, хотя такое бывает лишь, если боги враждебны. Может быть, я случайно нарушил какой-нибудь запрет, но если бы небеса меня преследовали за преступление, я бы непременно об этом знал. Я настоящий этруск и по отцовской, и по материнской линии, и обучен приносить жертвы и гадать по внутренностям. На мне нет проклятия, иначе я услышал бы в душе, как сопят идущие по следу Старухи.
— Не поминай Старух в этом счастливом месте. Что ж, насколько я понял, ты знаешь, что говоришь. Поверю на слово, что ты не принесёшь в город несчастье. Теперь ещё одно. Ты настоящий этруск, но этруски ведь живут за рекой; будешь ли ты честно сражаться за Рим, если случится идти против своих?
— Конечно. Будь это мой народ, я не стоял бы здесь. Они делают беглецов безземельными батраками, а Этрусский союз не пришёл на помощь, когда дикари крушили наши стены.
— Хорошо. Наконец, последнее. Ты совсем один? Ни друзей, ни родных, ни жены, ни любовницы, ни детей? Ясно. Тогда поднимайся вон по той дороге на Палатин и спроси, где Регия, царский дом. Слуги позаботятся о тебе и одолжат оружие и щит, чтобы вечером на собрании ты выглядел прилично. Спустишься, покажешься гражданам, и я посоветую тебя принять.
Глава 9. ОБРЯДЫ И ВОЙНА
Постепенно Перпена свыкся с новым домом, к осени ему уже казалось, что он всю жизнь поднимался и спускался по крутой дороге на Палатин. Он не пропускал ни одного Народного собрания — они были почти каждый день, изредка случалось и голосовать со своей трибой этрусков и прочих не латинян, луцеров. Ему отвели надел, на котором впрочем нечего было делать до весны. На военных смотрах он стоял в первом ряду, с лучшими воинами. Участвовал в жертвоприношениях, потому что смолоду знал, как вести себя на священной земле. Во всём, что касается законов, службы и обрядов, он был свободным римским гражданином.
Но это только казалось. Он часто напоминал себе, что радоваться особенно нечему: у него не было ни собственного оружия, ни плуга и семян, ни скота для ежедневных жертв. Хоть Перпена и вёл жизнь гражданина, по сути он был рабом царя Ромула. Доспехи одолжены с царских складов, у царя надо просить земледельческие инструменты, каждый день он ел царский хлеб и ночевал у царского огня (на этом царском огне римляне просто помешались: он должен был гореть неугасимо, так что все женщины в доме только и знали, что постоянно следить за пламенем). Первое время Ромул ничего не требовал взамен, и от этого становилось ещё неуютнее, ведь он мог забрать свой щит и даже башмаки обратно под любым предлогом или просто так. Поэтому Перпена обрадовался, когда царь спросил, не хочет ли он служить целером.
Жизнь целера оказалась полной хлопот, но с другой стороны приятно было чувствовать, что не зря носишь оружие, а царь тебе друг. Каждое утро Перпена являлся за указаниями. Иногда его отряжали в охрану, иногда посылали с поручением, время от времени выдавался и свободный день на личные дела.
Целеров насчитывалось сотни три, хотя большинство ветеранов по существу были в отставке. Тихие, пожилые латинские воины, они служили Ромулу всю жизнь, защищали его в далёкие времена до основания Рима от козней дяди. Перпена ладил с ними, насколько вообще молодой этруск может ладить со старыми латинянами. Здравомыслящие, честные, с жёнами, детьми и ухоженными полями, они были беззаветно преданы царю, готовы сражаться за него с любым врагом, но помнили и о собственном достоинстве. На некоторые вещи они не пошли бы даже по приказу Ромула.
С воинами помоложе общаться было не так приятно. Они напоминали Перпене разбойников, которых он навидался в своих странствиях. Отчаянные храбрецы, настолько бедные, что без работы целера вряд ли остались бы свободными гражданами, почти все они тоже бежали в своё время от разных бед и полностью зависели от царя. Попадались среди них негодяи, которые запугивали робких граждан и собирали с них дань, хотя, как и разбойники, никогда не крали у своих; некоторые головорезы похвалялись злодействами, за которые их изгнали. Вообще не было граждан более буйных и менее уважаемых, и казалось странным, что царь окружил себя именно ими.
Перпена рад был бы завести других знакомых, но знатных этрусков в Риме почти не было, хотя треть населения, триба луцеров, носила этрусское имя. Её вождь Лукумон был ещё не стар, но из-за полученного когда-то удара по голове постепенно слабел рассудком. Когда Перпена зашёл к нему, несчастный учтиво приветствовал гостя, но не прошло и пяти минут, как он забыл его имя и снова поздоровался. Лукумон нашёл себе тихое пристанище, но не ему надо было возглавлять римских этрусков.
Кое-кто из других луцеров тоже происходил из этрусских городов, а значит, был этруском в глазах латинян. Но в южных городах настоящие этруски — только горстка знати, а эти полукровки были для молодого аристократа ничуть не лучше любого латинянина.
Поэтому Перпена стоял на страже в полном вооружении за спиной царя Ромула, бегал выполнять царские приказы, а в остальном жил одиноко и бесцельно. Только в один дом он мог всегда зайти без приглашения, хотя вообще-то римляне держались более замкнуто, чем жители обычных городов. Гостеприимный дом принадлежал Марку Эмилию, тому самому воину, который убедил его попытать счастья в неприветливом Риме. Если бы не уютный очаг и величавая матрона с целым выводком ребятишек у Марка, Перпена ушёл бы искать другое место на зиму.
Марк не умел увлечь блестящей беседой. Сказать по правде, он подчас наводил скуку, но после бесстыдной похвальбы целеров так приятно было для разнообразия оказаться среди простых, хороших людей! Сабина не пряталась от гостя в заднюю комнату, если она купала детей или готовила, то включалась в разговор, а если выдавалось свободная от домашних дел минутка, пододвигала табурет и прихлёбывала в свой черёд из круговой чаши. Даже посторонний видел, что муж с женой живут душа в душу и что у них есть свои нравственные правила. В отличие от целеров, они не стали бы делать что угодно просто потому, что так велел царь.
Чего недоставало в Риме, так это нравственности. Возможно, со временем из него и мог получиться город, только сначала жителям следовало бы решить, земледельцы они или головорезы. Марк постоянно рассказывал, о каких опустошительных грабежах мечтали первые поселенцы, когда перебирались на опасные приграничные холмы. Странно было слышать от этого бородатого, обветренного пахаря про намеченные на весну большие набеги. С его кривыми ногами никогда было не влезть на этрусскую стену, но рассуждал он как кровожадный разбойник. Впрочем, когда Перпена поинтересовался, удались ли походы в прошлом году, то постепенно выяснилось, что Рим ни с кем не воюет, только сразу после основания было несколько стычек. Когда Марк не мечтал, а всерьёз строил планы, они касались земли. На крутых склонах он собирался посадить виноград — ячменя в Риме уже хватало с избытком.
Так думал каждый, когда пришло время жатвы. Граждане и рабы, женщины и дети, все высыпали на поля, одни только младшие безземельные целеры остались сторожами. Перпена на башне чувствовал себя одиноким и ненужным. Ничего, через год он тоже отправится убирать урожай со своей земли.
Когда стемнело, он, как всегда, пошёл ужинать в царский дом, но едва ступив на Палатин, почувствовал неладное. Жатва — радостное время, однако все встречные казались мрачными и напуганными. Первая же рабыня в царском доме объяснила, в чём дело.
— Как, ты не слышал? Ячмень не уродился. На вид всё в порядке, а когда срезаешь, зерна в колосе нету. Я жала весь день и не знаю, набрала ли на ужин.
— Ну, ты не пропадёшь, милашка, — вставил молодой целер, — сильная женщина всегда в цене. Если царь не сможет тебя прокормить, то обменяет на зерно, и ты будешь есть хлеб, когда мы примемся за жёлуди. А вот остальным в эту зиму придётся поголодать.
— Только не тебе, — дерзко ответила рабыня. — Пока в Риме есть еда, ты голодным не останешься, с таким-то мечом!
— Слышал? Даже рабы надо мной издеваются, всё потому что я простой латинянин, а не злобный этруск.
Ужин был как всегда обилен, ещё из прошлогодних запасов. Когда по кругу пошла чаша, в зале появился сам царь и потребовал тишины. Обычно он отдавал приказы на утреннем смотре, и цел еры слушали неожиданную речь внимательно.
— Наше счастье что-то подводит, — беззаботно сказал Ромул. — Но это пустяки, если бы боги всерьёз рассердились, я бы знал. Просто в этом году нам нужно больше ячменя, чем выросло на римских полях, а если так, надо пойти и взять у тех, кому его хватает. Марс уже вложил мне в голову роскошный план. Мне нужно двадцать добровольцев, которые готовы скакать по холмам в темноте, а утром, если придётся, перерезать пару глоток. Эй, не кричите все сразу!
«Конечно, этот царь Ромул немного разбойник, но очень хитрый полководец, — думал Перпена. — Зря жители Фиден полагаются на свои новые ворота. Обычные поворачиваются на каменной оси в каменной втулке, но какой-то путешественник показал, как подвесить ворота к железным крючьям кожаными ремнями. Их стало легче открывать и закрывать, не мешали случайные камешки, над землёй появилась щель в несколько пальцев, сквозь которую можно в случае чего смотреть на осаждающих».
Ромул или его отец Марс всё продумал. Отряд целеров в темноте подобрался к воротам и разрезал петли, незаметно для часовых. Наутро, когда ворота отперли, обе створки рухнули плашмя, и в зияющую брешь кинулось всё римское ополчение. Жители Фиден должны были сражаться без защиты своих мощных стен, а противник превосходил их числом. Они предпочли бы погибнуть в бою, чем обречь себя и своих близких на рабство, но мудро согласились на переговоры, пока первые удары, нанесённые в порыве гнева, не разожгли между Фиденами и Римом вечную вражду.
Ромул торопился. Если не заключить мир, завтра же на помощь Фиденам придут Вей, а то и весь Этрусский союз. Он предложил щедрые условия. Фидены выйдут из Этрусского союза и признают главенство Рима, запасы ячменя будут разделены (римляне заплатят за зерно скотом), а часть граждан переселится в Рим и оставит земли и дома римлянам, которые придут на их место.
Условия были приняты. К полудню в Фиденах расположился римский гарнизон, а основное войско отправилось обратно на Палатин.
Когда Перпена снова заглянул к Марку, разговор естественно зашёл о последнем походе. Марк был рад, что на зиму обеспечена еда, но сомневался, стоило ли нападать на мирных соседей.
— Они ничего нам не сделали и думали, что мы с ними в мире, — уныло сказал он. — Вот в старые добрые времена было ясно, что Рим воюет со всеми, а теперь чужие города откажутся торговать.
— Всё равно это был настоящий подвиг. Как ловко царь заметил слабину в их новых воротах!
— Сделанного не воротишь, — мрачно продолжал Марк. — Придётся есть краденый хлеб, не сидеть же голодными. Но мы победили несчастных только потому, что застали врасплох, и нечего было обходиться с ними так жестоко.
— Жестоко? — изумился Перпена. — Да царские условия — верх милосердия! Фидены были у нас в руках. Любой другой разграбил бы их, перебил воинов, а женщин и детей продал. Я и представить не мог, что можно захватить город и не стереть его с лица земли. Если царь так милостив к побеждённым, все побегут к нему сдаваться, и Рим станет могучей державой.
— Я рада, что ты так думаешь, — сказала Сабина, подходя с миской похлёбки. — Обед готов. Между прочим, краденую баранину все едят со спокойной совестью. Почему-то овец и коров отбирать можно, а урожай нехорошо. Но забавно слушать, как знатный этруск отстаивает выходку, которая возмущает простого латинского пахаря и сабинскую домохозяйку. Мы забываем, дорогой Перпена, что ты два года разбойничал. Тебе надо подыскать невинную римскую девицу и жениться, чтобы она вернула тебя к нормальным человеческим представлениям о том, что хорошо и что плохо.
— В самом деле, когда ты собираешься заводить семью? Может, мне поспрашивать знакомых с дочерьми на выданье? Без помощи детей не расчистить землю.
— Спасибо за заботу, но не хлопочи. Я настоящий этруск и не женюсь, пока не встречу девушку той же крови.
— Ну, в Риме ты таких не найдёшь! — засмеялась Сабина. — Здесь невесты почти не сыскать, в Риме очень мало женщин. Только не проси меня на ночь взаймы у Марка — что бы там ни говорили этруски, у латинян такого обычая нет.
— Я не гожусь для семейной жизни, — ответил Перпена. — Слишком долго бродяжничал. Лучше скажите, если на моё поле забредёт чужая коза, имею я право её убить или нет?
Лучше всего, чтобы эти милые люди не лезли в его личную жизнь, было обсуждать с ними римские законы, которыми они очень интересовались и гордились.
В тот вечер с юга налетела буря, и утром над Римом пролился кровавый дождь.
Остановилась даже неотложная работа в полях. Охрану на границе удвоили, чтобы страшным бедствием не воспользовался враг, остальные укрылись по домам. К полудню небо прояснилось, и с первым проблеском солнца царь отправился в святилище на Палатин приносить жертву. Печень быка оказалась самой обыкновенной, её показали народу, и возбуждение несколько спало. Ромул объявил, что будет один испрашивать у богов совета в священной сокровищнице, работать в такой несчастливый день нельзя, и разумнее всего гражданам оставаться по домам. Вечером на собрании царь объявит, что посоветовал ему отец Марс.
Перпена с полудюжиной целеров стоял под лестницей у входа в сокровищницу. Товарищи боязливо жались, стараясь не попасть в тень священного здания, а он прислонился к свае, беззаботно насвистывая. Что может сделать кучка амулетов, которые где-то подобрали невежи-латиняне, учёному этруску, жрецу великих богов? Ромул, должно быть, увидел его в щель, потому что вдруг высунул голову из двери и сердито подозвал.
— Что-то в тебе не заметно трепета ни перед сегодняшним знамением, ни даже перед святынями, а ведь мои предки привезли их прямо с таинственного острова Самофракии, — сказал он. — Кто ты такой? Ах да, ты тот молодой этруск; это меняет дело. Счастьем тебе со мной не сравниться, но знаний у тебя, может, и побольше. Я хочу поговорить с тобой наедине.
В сокровищнице пахло плохо выделанными шкурами, по тростниковому полу прыгали блохи.
Царь уставился на Перпену в упор.
— Давно пора нам поговорить наедине. Твоё счастье не стоит и половины моего, а если не веришь, мог бы из простой вежливости проявить уважение к моим семейным святыням. К тому же у меня есть триста целеров, а у тебя нет. Так что когда я спрашиваю совета, лучше выкладывай всё, что знаешь, и не пытайся увиливать. Ну, что ты можешь сказать про кровавый дождь?
— Во-первых, это не кровь, — начал Перпена, но царь перебил его.
— Естественно. Я не такой болван! Если бы нынче на нас истёк кровью Небесный отец, к полудню случилось бы что-нибудь жуткое, кровь не выпадает просто так. Поэтому во время жертвоприношения я капнул бычьей крови возле лужицы; сейчас оба пятна высохли и, как видишь, цвет совсем разный. Но если это не кровь, то что и зачем?
— Такие дожди случаются время от времени, особенно на юге, — Перпена говорил непринуждённо, как равный с равным. — Наши мудрецы заметили, что перед этим всегда дует сильный южный ветер. По всей вероятности, на юге есть сухая страна с красной пылью, и ветер иногда подхватывает эту пыль и приносит в Италию. Так объясняют мудрецы; а я учился на жреца и гадателя и могу добавить, что этот вполне естественный дождь выпадает, только когда боги гневаются. Итак, чем-то римляне прогневали богов.
Ромул помрачнел и выпрямился, сжав кулаки. Потом рассмеялся.
— Мы здесь одни, а я сам велел тебе говорить прямо. В любом случае, даже если боги сердятся, я знаю, как умаслить отца. Давай спокойно подумаем. Конечно, всё, что здесь делается с самого основания Рима, по обычным меркам — сплошная безнравственность. Но сейчас должно быть что-то особенное. Не могу вспомнить никакого недавнего преступления.
— Кровосмешение? Святотатство? Отцеубийство? — принялся перебирать грехи Перпена, но на все вопросы царь качал головой. — Значит, гневаются не небесные боги, а духи из Нижнего мира. Убийство родича? Непогребённые трупы? За кого-то не отомстили? Убили во время мира?
— Точно, — воскликнул Ромул, — два последних. Я уж думал, те злоключения забыты. Всё началось несколько лет назад, когда убили послов из Лавиния, но только в прошлом году был зарезан мой соправитель, и я в самом деле не стал за него мстить.
— Значит, их души не знают покоя и своим гневом навлекли на Рим этот грозный знак. Придётся их умилостивить. К счастью, это не так уж трудно, не надо казнить убийц или мстить за царя. Просто покажи, что осознал свой долг.
— Не учи меня, юноша. Я правлю здесь почти двадцать лет и умею успокаивать подданных. Исправить эти две оплошности ничего не стоит. Но надо придумать внушительный обряд, объяснить народу, что кровавый дождь не оставил вечного проклятия.
— От крови лучше всего отмыться, государь, — первый раз Перпена назвал Ромула царским титулом. — Пусть моются и стирают одежду в чистой воде. Если хочешь торжественности, воду можно сначала освятить и, может быть, окропить все дома в городе.
— Неплохая мысль. Вы, этруски, знаете толк в этих вещах. Имей в виду, я верю в богов, и ты, не сомневаюсь, тоже. Счастье, которым я наделён от рождения, часто меня выручает, но в отношениях с богами нужна честность, и я стараюсь не злить их лишний раз. Я постараюсь задобрить этих сердитых духов, сочиню прочувствованные молитвы и произнесу их от всего сердца. Но главная задача — успокоить не богов, а народ. В этом ведь нет ничего дурного. Так вот, насколько я понимаю, всеобщее омовение — этрусский обычай; не подскажешь ли, как его поторжественнее исполнить?
На другой день состоялось первое очищение города. Царь окропил священной водой все ворота и перекрёстки и в каждом доме налил по нескольку капель в бочку с водой для стирки осквернённой одежды. Когда все граждане очистились и почувствовали это, началось долгое и жаркое собрание. В конце концов было решено лишить гражданства сабинян, причастных к убийству послов. Им выделили достаточно времени, чтобы покинуть город; собственно, почти все они уже и так вернулись в родные холмы вскоре после гибели царя Тация. Таким образом, никого не казнили и не поставили под угрозу казни, но справедливость была восстановлена, причём всенародно. Духи убитых послов не имели больше никакого права преследовать живых.
Отомстить За смерть царя Тация, казалось, можно было лишь войной, но жители Лавиния, по счастью, сами испугались, узнав о зловещем дожде, и тоже отправили убийц в изгнание. Этим и было достойно закончено дело.
Тем не менее весть, что боги недовольны царём Ромулом, быстро облетела округу: счастье Ромула дрогнуло, предприимчивым будет чем поживиться. Римляне ещё убирали остатки скудного урожая, когда часовые подняли тревогу: приближалось вражеское войско.
Без объявления войны на Рим двинулось ополчение Камерия, небольшого городка из Этрусского союза. Враги перешли реку выше по течению, и римляне, строясь в боевой порядок, видели, как поднимается дым с горящих гумен. Этруски застали Ромула врасплох и надеялись захватить без боя несколько повозок зерна, но воины, привыкшие каждый день являться на Народное собрание, собрались быстро. После полудня римское войско уже шагало вверх по левому берегу.
Царя Ромула окружала в сражении небольшая охрана, остальных целеров он распределил по всему войску, чтобы поднимать боевой дух простых граждан и подавать пример беспрекословного подчинения приказу. Перпена попал в первый ряд среди сабинян из рода Тациев — эти могли начать самовольничать, и к ним надо было добавить несколько посторонних. Перпена не посмел отказаться, хотя ему и не хотелось идти в битву среди чужаков: они могли бросить его на поле боя и вовсе не обязаны были спасать в трудную минуту. Больше всего безопасность зависит от соседа справа, который прикрывает твой правый бок щитом, но к счастью, здесь оказался надёжный на вид немолодой воин. Как только войско двинулось, Перпена завязал с ним разговор.
— Я бился с толпами дикарей и два года жил разбойником, — сказал он, — но в настоящем бою никогда не был. В юности меня учили обращаться с оружием, как всех свободных этрусков, так что защититься я, наверно, сумею. Но не мог бы ты меня поправить, если я буду что-нибудь делать неправильно?
— Первый раз вижу вежливого целера, — сосед холодно покосился на его щит с царским знаком. — Не так большинство твоих дружков разговаривает перед битвой. Ладно, я буду приглядывать за тобой, если хочешь, но в общем ничего сложного нет. Просто держись на своём месте, возле меня, не лезь вперёд. Само собой, не отставай. Главное, когда ударим на врага, держать копья вровень. Увернёшься от вражеского копья и не старайся непременно убить воина напротив, чего зря надрываться, достаточно нажать покрепче, чтобы он начал пятиться. Я прикрою тебя справа, и не забывай, что слева Понтий надеется на твой щит, как ты на мой. Спокойно жми и положись на римское счастье. Если оно сильнее, чем у камерийцев, мы сомнём их, если нет — они нас.
— Непохоже, чтобы ты жаждал крови этих жалких трусов, которые так подло разорили наши поля, — улыбнулся Перпена.
— Я хочу выгнать их с римской земли, а убивать чем меньше, тем лучше. Незачем втягивать кучу народа в кровную месть, особенно когда царь не знает, чего она требует от порядочного человека. Все мои родичи думают точно так же. Можешь доносить, мне всё равно; я сенатор, и народ меня уважает. Если Ромул попытается меня запугать, я просто уйду домой в горы, а Рим пусть обходится, как хочет. Кстати говоря, я Публий из рода Тациев: пришёл в Рим потому, что так велел глава рода, и до сих пор не уверен, что он поступил мудро. А ты почему здесь и почему целер? Сограждане вышвырнули?
— Ты, кажется, не любишь целеров. Я и сам их не очень люблю, а царю служу, чтобы иметь пропитание не только на сегодня, но и на завтра. И город вовсе меня не выгнал — он был разрушен.
Публий что-то буркнул. Не слишком обнадёживает, когда рвёшься рассказать историю своей жизни, но Перпена всё равно описал страшный конец своего родного города и все разбойничьи приключения за два года скитаний. Публий молча выслушал его и наконец проворчал:
— Не так уж плохо. По крайней мере, ты не сбежишь и не переметнёшься к врагам. Но я бы предпочёл встретить кого-нибудь, кто пришёл в Рим, потому что хотел, а не потому, что больше было некуда податься.
— Не всё сразу. У нас на севере о латинских городах едва слышали. Я учился на жреца и уже сейчас вижу, что Рим богат счастьем; может быть, со временем я полюблю это место не хуже любого латинянина.
— Все вы, молодёжь, твердите о счастье, как будто стоит найти счастливый город и можно сидеть сложа руки, а работать будут высшие силы. Но всё равно у царя, который не потрудился отомстить за соправителя, счастье долго не продержится. Боги не любят тех, кто не хочет сражаться и мстить за товарищей.
— Мы с тобой сегодня поможем римскому счастью, — примиряюще ответил Перпена и дальше зашагал молча.
Сердитый ветеран начал ворчать и, если его не остановить, мог договориться до чего-нибудь совсем возмутительного и подстрекательского, о чём наёмный целер обязан доложить, а совершенно не годилось наживать врагов в чужом городе.
Скоро показались и камерийцы, которые ждали, выстроившись на пологом гребне. Римское счастье не подвело. С первой же атаки римляне потеснили врагов и нажимали, не давая тем остановиться. Какой-то камериец повернулся, чтобы побыстрее унести ноги, строй вокруг него смешался. Один за другим воины, испугавшись, что не могут доверять друг другу, стали тоже пускаться в бегство. Перпена заколол двоих копьём в спину, а за другими гоняться не стал, это было слишком утомительно, тем более что битву и так уже выиграли. Всего римляне перебили человек шестьсот.
Раздев убитых и собрав добычу, победители приготовились возвращаться, но у Ромула были свои планы. Он велел целерам подготовить войско к броску: воинам разрешили передохнуть и съесть кто что взял из дома, потому что всю ночь им предстояло идти, а с зарей напасть на Камерий.
Даже бывший разбойник Перпена и ветеран Публий подивились царской неуёмности, хотя и повиновались, как все. Только что была одержана великая победа, после которой подобает отправиться домой и устроить по этому поводу большой пир. А добычу надо поделить и убрать. Каждый благоразумный воин после победы по крайней мере один вечер сидит у очага и расписывает домашним свои подвиги, чтобы дети не забывали о славных деяниях предков. А тут царь Ромул заставляет воевать дальше.
— Надо полагать, это отец Марс его надоумил, — угрюмо заметил Перпена. — Выпад воинственный, и камерийцев напугает, но если царь думает, что после дня и ночи тяжёлого пути у нас хватит сил штурмовать укреплённый город, то он ошибается, только и всего. Я целер, не могу просто взять и ослушаться, но когда он прикажет идти на приступ, я сначала посмотрю, что скажет остальное войско.
— Может и получиться, — ответил Публий. — Соблазн велик. Все эти годы мы мечтали разграбить богатый город, и вот наконец выдался случай. Наши могут так воодушевиться, что одолеют стену.
— Не стоит того. Камерийцы, которых мы сегодня разогнали, завтра будут у себя, а я знаю, что такое настоящая этрусская крепость. Если бы мы отрезали им путь к отступлению или перебили до последнего воина, может, и удалось бы попасть внутрь без особых потерь. А так наши жертвы будет не окупить никакой добычей.
— Ты сам этруск и не ценишь этрусские сокровища так, как мы, италики. Если половину войска перебьют, другая половина только порадуется, что им больше досталось. Сабиняне нечасто берут укреплённые города, мы не знаем, как это делается, но если Ромул подаст пример, мы от других не отстанем.
Всю ночь усталые воины карабкались на холмы, перебирались вброд через быстрые речки, брели по болотам, продирались сквозь высокий, по колено, вереск невозделанной равнины. Царь Ромул с кучкой всадников гнали их, словно собаки отару овец. Воинам передалось возбуждение командира, вместо жалоб они принялись хвастаться силой и выносливостью. Когда заря осветила на невысоком, но крутом холме стены Камерия, нестройный хор закричал, что только римляне способны на такой бросок.
По царскому приказу остановились отдохнуть, хотели позавтракать, но ни у кого не оставалось припасов. Это была не лучшая подготовка к тяжёлой битве.
— Ничего, — заметил Публий, — камерийцы вымотались не меньше нашего.
— У меня щит из рук валится от усталости, — вздохнул Перпена. — Но щит этот царский, и если царь прикажет, я пойду на штурм. Но больше одной атаки нам не выдержать. Если не одолеем сразу, придётся срочно убираться в Рим.
— Похоже, ни одной атаки вообще не будет, — воскликнул Публий. — Гляди, они открывают ворота. Вон посольство с пальмовыми ветвями и трубами.
Одни римляне радостно закричали, другие уселись ещё немного передохнуть. Царь и целеры насилу снова согнали усталых воинов в боевой порядок; Перпена, браня лентяев, чувствовал угрызения совести. Но пока послы приблизились, римское войско уже вновь стояло ровно, хотя и без малейшего желания сражаться.
Никто не хотел продолжать войну, если можно было заключить почётный мир. Послы поняли это с первого взгляда и не упустили своей возможности. Едва они перечислили условия, как целеров созвали, чтобы выслушать и передать по войску решение. Перпена устало подошёл к царскому орлу на шесте, но под взглядом Ромула выпрямился. Когда все собрались, царь дал указания:
— Я принимаю условия Камерия, но все должны ещё утвердить воины. Так что когда будете им рассказывать о соглашении, убедитесь, что они проголосуют правильно. Всех, кто хочет биться до последнего и грабить город, заставьте замолчать; это нетрудно, добычи и без боя обещают вволю. Правители согласились выйти из Этрусского союза и служить Риму. Нам отдадут имущество половины граждан по жребию: кому не повезёт, переедет в Рим и получит надел, а на его место поселятся двое римлян, которые ко всему своему поделят ещё и его хозяйство. Дома и святыни, разумеется, останутся стоять. Никакого грабежа, просто смена владельцев. И никаких сражений, отдохнём и мирно отправимся домой. Так что позаботьтесь, чтобы воины голосовали «за», и выясните, кто хочет остаться в Камерии. Если добровольцев не хватит, недостающих будем назначать по жребию. Как только все проголосуют, доложите.
С подачи целеров римляне встретили мир восторженными возгласами. Этруски быстро сложили из валунов алтарь, из города вывели белую жертвенную телку. Царь Ромул и верховный жрец Камерия вместе посыпали её голову ячменной мукой и окропили оба войска кровью — теперь римляне и камерийцы стали родичами, новая война между ними была бы убийством. Мир заключили по всей форме и скрепили сильнейшими обрядами. Римлянам оставалось только возвращаться домой.
Но власть Ромула держалась на признании его заслуг, и он хотел насладиться почестями и потешить своё честолюбие. Во главе войска он отправился принести жертву в городском святилище. Камерий был невелик, за отвесной стеной лепились друг к другу невзрачные, бедные домишки. Но ступив на священную землю, римляне ахнули.
Там стояла боевая колесница, вся из драгоценной бронзы, но размером с настоящую. Она была пуста и запряжена четвёркой грубых глиняных коней. В неё спускался Марс, когда хотел развлечься, и правил игрушечными лошадками — все знают, как этот бог любит подурачиться.
Ряды римлян застыли в благоговейном страхе. У них было неприятное чувство, что Марс смотрит, честно ли победители соблюдают условия мира, не перебьют ли побеждённых. Перпена и его сосед оробели ещё больше, когда царь Ромул соскочил с коня и, не мешкая, забрался в колесницу.
— Она меня держит, — весело закричал он, — и колеса крутятся, она может ездить, как настоящая. Мы заберём её в Рим и поставим ко мне в священную сокровищницу, я въеду на ней в город. Ладно-ладно, я знаю, что она посвящена Марсу, а простым людям ездить на ней нельзя. Но я-то не простой человек. Марс — мой отец, он, конечно, разрешит любимому сыну прокатиться. Давайте снимем эту славную штуку с подставки и погрузим в обоз.
— Вот ужас-то, и такой святотатец поведёт нас домой, — вздохнул Публий. — Кощунство до добра не доводит. Как бы Марс не отомстил всему войску.
— Ну, пока ничего не случилось, — усмехнулся Перпена. — Наверно, у царя и правда хватает счастья, чтобы отвращать гнев богов. Но тебе незачем рисковать и шагать за ним в Рим. Я остаюсь, почему бы и тебе не вызваться?
— Вся наша семья — сабиняне, жена не захочет жить среди чужаков. Потом, я знаю свой надел и не собираюсь его менять. Но ты поступаешь правильно. В Риме ты недавно, холостой, найди себе девицу из местных и нарожай с ней ещё римлян, чтоб было кому постоять за наши завоевания, когда состаримся.
— Так и сделаю. Рим — неплохое место, я готов за него сражаться, но любить его буду только сильней, если не придётся жить в толпе римлян.
Почти весь день ушёл на то, чтобы погрузить священную колесницу на запряжённую волами повозку и проверить имущество камерийцев, переходящее к Риму. Царь Ромул решил, что войско переночует в городе, и первые колонисты должны были получить жильё этим же вечером. На рыночной площади состоялось собрание, и перед толпой зрителей дело было расчётливо и хладнокровно доведено до успешного конца.
Для начала уцелевших здоровых камерийцев разделили на пары. Броски священных костей решали, кто из каждой пары оставит город и всё имущество и начнёт в Риме нищую новую жизнь. Переселенцам разрешили взять жён, детей, престарелых родителей и одну смену одежды. Всё остальное — рабы, горшки и сковородки, домашний скот, мотыги и плуги, дома и мебель — переходило к римлянам. Изгнанники получили полное римское гражданство, но из оружия они могли забрать лишь по одному мечу главе семьи, доспехи и щиты пришлось оставить. Конечно, оказались разлучены братья и близкие друзья, и многие камерийцы вызвались поменяться местами, но царь Ромул не позволил. Он не хотел переселять кучки чужеземцев, пусть лучше ищут защиты от новых сограждан у него, чем друг у друга.
Изгнанники под охраной навсегда покинули город, чтобы на ночь разбить лагерь за его стенами. Настала очередь римских колонистов. Добровольцев нашлось почти нужное число, остальных назначил царь. Их построили в пары, и было решено, что каждая пара с помощью жребия определит, имущество какого изгнанника им достанется, и разделит его между собой. Но сперва в торжественном деле передачи земли предстояла легкомысленная передышка. Ромул, как и все серьёзные римляне, считал, что женщины — смешные существа, и всё, что с ними связано, само по себе забавно. Массовая свадьба должна быть развеселить усталых воинов и устранить немало досадных трудностей.
После шестисот убитых камерийцев осталось немало вдов, хватало в городе, как всегда, и незамужних девушек. Их выстроили в ряд напротив войска и предложили неженатым колонистам выбирать.
Перпена, одинокий холостяк, оказался одним из первых: как верный царский целер он получил преимущество перед большинством товарищей. В Риме женщин всё ещё не хватало, город был полон лишних мужчин — изгои и бродяги, которые туда стекались — люди не семейные. Нелепо схватить первую попавшуюся женщину, но ещё глупее разглядывать их, точно коров на рынке. Какие достоинства должны быть у жены? Как распознать эти качества по внешности? Да вообще, нужна ли ему жена? Но надо было делать вид, что тщательно выбираешь, и он пристально всматривался в незнакомые лица.
Вдовы в основном плакали или, окаменев, глядели в одну точку. Кое-кто из девушек пытался изобразить соблазнительную улыбку, но видно было, что им скорее страшно, чем весело. Перпена решил выбрать вдову. Ему не нужна была хорошенькая наложница. Бездомный бродяга, принявший римское гражданство ради одной безопасности, он не собирался основывать род и мог ещё всё бросить и отправиться дальше. Жену он брал потому, что в Риме они ценились и глупо отказываться, особенно задаром. Он не рассчитывал на любовь, а искал смышлёную помощницу по хозяйству, чтобы вела дом, пока он трудится в поле. Вот эта вдова лет тридцати вроде бы неглупа; некрасивая, сильная, умеет сдерживать чувства. На ней была длинная туника из небелёной шерсти, чёрные волосы распущены в знак скорби.
— Где твои дети? — спросил Перпена, стараясь улыбаться, словно говорил с равной.
— Было трое, но все умерли младенцами, — безучастно ответила женщина, переводя взгляд на пустое небо.
— Как погиб твой муж?
— Говорят, его ранили в самом начале, быстро бежать он не мог и отбивался, пока какой-то римлянин не ударил его по голове.
— Значит, его кровь не на мне, я убил двоих камерийцев, но оба убегали. Так что раз этого препятствия нет, а кто-нибудь из нас тебе всё равно достанется, согласна ли ты быть моей женой?
— Почему нет? — первый раз она взглянула ему в лицо. — На вид ты не хуже прочих. Меня зовут Вибенна, отец был этруск, а мать италийка. Как мне тебя называть?
— Я Перпена, а род называть незачем: всех перебили дикари. Мы соплеменники, — сказал он по-этрусски, радуясь, что сможет дома говорить на родном языке.
Женщина ответила по-италийски:
— Незачем говорить со мной на языке этрусков, я его не знаю. Моя мать была всего лишь наложницей, покойный муж — гражданином, но не из знатных. По-этрусски здесь обращаются только к богам.
— Ну что ж, Вибенна, будем с тобой говорить по-италийски. Меня зовут Перпена, ты мне станешь не наложницей, а женой. Римлянки защищены хорошими законами. Начинается новая жизнь, может быть, не хуже прежней.
— Это лучше, чем рабство. Я умею готовить, но мои дети не живут. Если ты меня выбрал, пошли в дом.
— Ещё рано, надо подождать, пока царь Ромул торжественно освятит наш брак и призовёт богов хранить наше семейное счастье. Но я не хочу, чтобы тебя разглядывали другие женихи. Пойдём со мной, пока я попрощаюсь с друзьями.
Он взял её за руку, отвёл к своему месту в строю, где она молча уселась на землю. Неподалёку отдыхал, сидя на мешке Публий, и Перпена подошёл рассказать о женитьбе.
— Это довольно-таки противно. Наш доблестный царь — изрядная свинья, я чувствую себя работорговцем. Зато раздобыл жену, которая говорит, что умеет готовить, и в придачу дом, так что первая битва кое-что мне принесла.
— Говоришь, противно? Может быть, жестоко и бессердечно, но если посмотреть с другой стороны, на редкость великодушно. Мы могли бы взять Камерий приступом, изнасиловать красоток, перебить воинов и распродать уцелевших. Город был у нас в руках. Вместо этого части жителей оставили часть имущества, а женщинам грозит всего лишь законный брак. Разве им тяжелее выходить за того, кто их выберет из шеренги, чем за чужака по приказу родителей? Если бы при виде тебя она закричала, неужели ты не прошёл бы дальше? Так что можешь утешаться, что на самом деле это она тебя выбрала, насколько женщина может выбрать мужа. Вы приспособитесь друг к другу и поладите, не сомневайся. По-моему, ты счастливый человек; и главное твоё счастье — что в Камерии ты не сможешь служить целером.
— Возможно, ты прав. Вы, римляне, действительно щедры и великодушны, хотя милости оказываете так грубо, что кажетесь хуже дикарей. Ну, прощай, спасибо, что прикрывал щитом. Нам с Вибенной пора становиться в очередь, чтобы царь нас поженил.
Глава 10. КОЛОНИСТ
Город Камерий никогда не знал ни могущества, ни славы, но это был старый город. Стена из обтёсанных глыб, подогнанных одна к другой без цемента, дома кирпичные, в основном нижние этажи: кое-где был ещё надстроен второй этаж, для лёгкости плетёный. Недавно в местной мастерской начали делать черепицу, плоские гнутые кирпичики, которые укладывают рядами на крышу, и по мере того, как ветшали тростниковые кровли, всё больше домов одевались обожжённой глиной. Узкие улочки с незапамятных времён были выложены круглым булыжником. Всё не так, как в Риме с его грубоватой новизной.
За Вибенной остался дом покойного мужа, хотя имущество пришлось разделить с другим римлянином и его римлянкой-женой. Перпена не привык к таким домам; у них на севере строили иначе, а тут постройки лезли одна на другую, словно основатели Камерия сначала заложили стену, а потом поняли, что внутри слишком мало места.
Но всё-таки дом был более или менее этрусским и потому довольно уютным.
Это было хорошо, потому что в остальном Камерий оказался на редкость неприветлив. Колонисты-римляне, хоть их и было вдвое больше, чем исконных камерийцев, чувствовали себя неловко и виновато, оттого часто кричали и раздражались. Гражданам запретили сходиться на собрание, разрешив в случае чего сходить проголосовать в Рим, если хватит времени. Повседневные вопросы решал совет из десяти старейшин, выбранных в Риме, то есть по сути назначенных Ромулом. Странно было жить за стеной, но без привычного городского самоуправления. Постоянно вспыхивали ссоры, особенно из-за новых границ после передела земли, но и их нельзя было разрешить на месте. Граждане, как водится, проводили почти всё свободное время на рыночной площади, но без свободы собраний они объединялись во враждебные группировки. Перпена постоянно вспоминал разбойничьи стоянки. Но на этой стоянке, по крайней мере, власть была крепка и ничто не угрожало жизни.
Больнее всего для жреца-этруска было то, что в городе не совершалось обрядов. Царь Ромул вместе с прочими знаками независимости отобрал и право узнавать по внутренностям жертвы настроение богов. Возможно, он не забывал приносить жертвы и за камерийцев, только они этого не видели. Священный участок бездействовал, святыни были увезены. Чудесная колесница из кованой бронзы, гордость Камерия, теперь находилась на Капитолии. Шёпотом говорили, что царь Ромул поставил туда глиняную статую, а ведь колесница предназначена для одного Марса. А потом будто бы перед всем народом дунул в лицо статуи и объявил, что отныне она будет изображать его, едущего на колеснице своего божественного отца. За такую дерзость не миновать расплаты, но, может быть, Ромул и впрямь не простой смертный.
Пока же камерийцы не совершали никаких больших обрядов, а всё необходимое если делалось, то в Риме. Перпена знал, что этого мало, и пытался как мог поправить дело собственными приношениями. Но, похоже, как ни горько было это сознавать, на милость богов гражданам рассчитывать не приходилось, а только на самих себя.
Перпене досталось хорошее поле и упряжка волов, за которыми смотрел пожилой раб. Земля ухоженная, не надо было, как обычно с новым наделом, биться над целиной, а просто продолжать то же, что и прошлый владелец, муж Вибенны. Дом был тоже в порядке и не доставлял хлопот, но не приносил и радости.
Еды хватало, очаг весело пылал в холода и выпускал клубы дыма, когда докучали комары; постель была чистой и мягкой, и жена ложилась в неё без возражений, не разыгрывая скромницу. Но Вибенна никогда не заговаривала первой, хотя отвечала живо и неглупо. Всё ещё уверяла, что не понимает по-этрусски, говорила только на простом италийском наречии, но Перпена подозревал, что она знает язык своего отца куда лучше, чем притворяется. У неё было мало своих вещей и почти ничего, что бы напоминало о прошлом. Все пожитки она запирала в деревянный сундук, и Перпена не хотел там рыться, чтобы не показаться грубым. У Вибенны были две шерстяные туники и плащ на холодную погоду, бронзовое ожерелье, серебряные серьги и красивый резной гребень из самшита. Эти вещи появлялись одна за другой, по мере надобности, и все сразу он их никогда не видел.
Не было в доме, как ни странно, и святынь, ни её собственных, ни оставшихся от первого мужа (имени которого Перпена так и не узнал). Большинство хозяев вешают хотя бы глиняную фигурку на шкаф с припасами да какую-нибудь счастливую вещицу к очагу, чтобы лепёшки не подгорали. Когда Перпена спросил жену, в чём дело, она с готовностью ответила, что раньше были Лар и ещё одна вещь, которую муж накрывал тканью, наверно, череп предка или убитого сильного врага. Но всё это пропало во время осады, должно быть, кто-нибудь украл. Сама она женщина простая, воспитана матерью-италийкой и не разбирается в том, как этруски служат своим великим богам.
Сначала Перпена пытался с ней подружиться, но скоро понял, что это безнадёжно. Если бы она его ненавидела, ещё была бы надежда изменить её чувства, но у Вибенны, похоже, вообще не было никаких чувств. Из-за этого безразличия он уже начал считать её полной дурой, пока однажды, почти случайно, не узнал её взгляды на жизнь. В тот день он вернулся с поля и увидел, что жена сидит у очага и тихонько плачет. Он спросил, что случилось, и услышал ответ, который глубоко его потряс:
— Ничего особенного. Просто я женщина, и время от времени плачу, такая уж женская доля. В детстве всё в порядке, а потом вырастаешь, приходит какой-то человек, что-то с тобой делает, и ты плачешь. Потом он или другой делает что-то ещё, и ты снова плачешь. В конце концов тебя оставляют в покое, и ты умираешь. Но сама никогда ничего не делаешь, просто сидишь и ждёшь. Будешь упираться — поколотят, будешь слушаться — не тронут, но слёзы лить всё равно приходится часто. Если прикажешь улыбаться, я постараюсь, но лучше бы ты позволил мне плакать. Больше женщина ничего не может делать по своей воле.
— Если ты так понимаешь жизнь, тогда плачь, — резко ответил Перпена, — не стану тебе мешать. Вот, положи мне ужин в миску, пойду съем его на рынке. Раньше я не понимал, что люди там делают весь вечер, когда дома тепло и уютно. А теперь удивляюсь только, как ещё род человеческий не пресёкся. Я пошёл, вернусь, когда на улице станет совсем холодно.
С этого дня Перпена больше не добивался её привязанности. Он обращался с женой ласково — как и с волами. Пусть готовит и греет постель, о прочем он перестал думать. Конечно, судьба обошлась с Вибенной неласково, но не стоило забывать о милости, которую оказал уцелевшим камерийцам царь Ромул, оставив почти всех свободными и сытыми, что на родине, что в Риме. Конечно, у них отобрали имущество, а дочерей насильно выдали за чужаков, но ведь они начали войну и проиграли, а поражение в войне — наверное, самое страшное, что можно себе представить.
Сам Перпена был не слишком счастлив, но наконец в безопасности. Работал весь день, ячменя едва хватало на него, жену и раба, зато не нужно было, идя за плугом, озираться и ждать, что кто-нибудь набросится сзади: разбойников высматривали по холмам надёжные часовые. А ночью он мог повесить меч на стену и заснуть у огня — после двух лет, что он спал с мечом в руке, затушив сначала костёр, чтобы дым не выдал укрытия.
Но он был бы рад найти друга. Даже коротышка Марк Эмилий и неотёсанный Публий Таций были лучше, чем всякий сброд, который согласился на изгнание в Камерий. Здесь собрались худшие из худших: в Рим и так приходили одни неудачники, а этим даже римская жизнь пришлась не по силам. Все, как один, были угрюмы, драчливы и нечисты на руку, хотя по-крупному не воровали, боясь царской расправы. Говорили только о еде и женщинах или расписывали свои ратные подвиги, про которые Перпена совсем не мог слушать, потому что в этих россказнях не было ни слова правды. И никто ничего не знал ни о богах, ни о том, как им служить.
Именно это было тяжелее всего — жить в городе, где забыли о богах. Ведь им надо приносить жертвы, хотя бы просто благодарить за то, что они позволяют людям жить, а иначе не миновать больших неприятностей. Боги по самой своей сути хотят истребить людей. Если искусные жрецы не стараются всё время их задобрить, они насылают голод, чуму, вражеское нашествие — просто чтобы смертные не забывали, что в небе и под землёй есть существа посильнее людей. Перпена надеялся, что заслужил себе спасение от грядущей беды, но в том, что на Камерий надвигается беда, не сомневался.
Поэтому когда колонистов вдруг призвали на войну, он надевал доспехи с тяжёлым чувством. Война была справедливой — в защиту собственных земель, но добром она кончиться не могла. Боги не упустят такого случая проучить наглых смертных.
В Камерии было не понять, кто из противников прав, кто виноват. Вроде бы этруски из города Вей вдруг вспомнили, что Фидены находятся под защитой Этрусского союза, но поскольку Фидены уже сделались покорной римской колонией, защищать их независимость было поздно, и этруски хотели, чтобы колония перешла к Веям — бесстыдное, корыстное требование, достойное разве что разбойников с большой дороги. Конечно, может быть, послы предлагали Риму не совсем это, но так представил дело Ромул, а что говорилось на самом деле, проверить было невозможно. Ясно одно: только войско города Вей шло на Рим, а второе — готовилось захватить спорные Фидены.
Камерийцам было велено прибыть под Фидены в помощь защитникам. Было немного грустно, что колонистов считают неполноценными и не берут в основное войско, но приказ есть приказ, и от решающей битвы они оказались далеко.
Фидены стояли на крутом холме: ещё один этрусский городок, который, как знал Перпена, превращается в смертельную ловушку, стоит врагу перебраться через стену. На вид крепость казалась надёжной, но путей к отступлению из неё не было, внутри слишком тесно для большого гарнизона, вдобавок недостаточно припасов на долгую осаду, а единственный источник время от времени пересыхал. К счастью, царь Ромул знал всё это — а, может, испугался, что при осаде войско переметнётся к врагу, поскольку в рядах противника хватало исконных жителей Камерия и Фиден. Все разумные римляне вздохнули с облегчением, когда он приказал колонистам выступить навстречу неприятелю и принять бой в поле.
Ясным, прохладным осенним утром колонисты поднялись по стерне на гребень пологого холма и стали ждать. Перпене это напомнило его первое и единственное сражение под Камерием. Но здесь было гораздо лучше: в чистом поле им доставалась часть счастья римского войска, и пускай алтари в Фиденах тоже были заброшены, немилость богов не висела на воинах таким тяжким грузом. Если дела пойдут плохо, бегает он не хуже любого вооружённого пехотинца. Главное, прошлая битва была лёгкой победой, а всегда кажется, что следующая будет не тяжелее.
У римлян не было единого командующего. В отсутствие Ромула войско возглавлял совет сенаторов, но это было не страшно, состав войска не оставлял простора для хитрой тактики. Все воины — тяжеловооружённые, не было ни лёгкой пехоты, ни конницы, а значит, сражаться можно только одним способом: встать, упереться щитами и толкать, пока враг не убежит. У римлян было время спокойно построиться, они заняли высоту и держали оборону, что, как известно, даёт несомненное преимущество. Можно было рассчитывать на победу.
Рукопашный бой — дело нечастое и рискованное, и никто не спешил начинать. Когда римляне расположились на холме, неприятеля ещё не было видно, и они успели плотно позавтракать. Кроме обычной солонины и ячменной каши, каждому выдали по кружке крепкого вина. Потом ополченцы не спеша поправили доспехи и разобрались, кому где стоять. Перпена как молодой, сильный и хорошо вооружённый воин попал в первый ряд, но по обе стороны оказались опытные надёжные ветераны, и на римлянина сзади можно было положиться. Не так уж плохо.
Только к середине утра показались враги, тоже вспомогательный отряд, без главного боевого знамени, почти без значков. Но по форме шлемов, по звуку труб было сразу ясно, что это этрусское войско, пусть даже большинство рядовых — италики. В первый раз Перпена понял, что придётся сражаться против соплеменников, а то и против родичей. Что ж, он не виноват. Если бы этруски обходились с бездомными беглецами по-братски, ему не пришлось бы искать пристанища у чужеземцев в Риме.
Римляне поплотнее надвинули шлемы и перехватили копья. Теперь им предстояло плотным строем побежать вперёд, под гору, и встретить нападающих. Чтобы никто не выскочил раньше времени, ярдов на пятьдесят впереди в землю предусмотрительно воткнули палки: нельзя было двигаться с места, пока враг с ними не поравняется. Это придавало римлянам мужество, показывая, что начальники знают своё дело.
Но никто не принёс жертвы, поскольку этим правом обладал один царь Ромул. Конечно, воины будут призывать Марса и напоминать богу, что их ведёт его любимый сын, но они не выполнили того, что положено, и Марс был совсем не обязан им помочь. Этруски — не дети Марса, но уж, конечно, не забыли сегодня о своих богах.
Раздался боевой клич, воины затопали в такт, чтобы побежать вперёд одновременно. Перпену захлестнуло общее воодушевление. Сыновья Марса идут на врага, могучие воины, которые двадцать лет защищают свой разбойничий город ото всего света, бесстрашные ветераны, которым не впервые вот так бросаться в атаку, проверенные товарищи, с радостью взявшие к себе одинокого бездомного бродягу. Эти римляне — славные ребята, и он их не подведёт.
Этруски поравнялись с палками; римский боевой клич кончился пронзительным, заунывным воем охотящейся волчицы. Ещё раз грохнули поножи, и воины ринулись вперёд.
Перпена старался бежать прямо, хотя его толкали с боков. Этруски тоже перешли на бег. Главное было устоять при первом столкновении, в этой схватке упасть значит погибнуть. Даже за десять ярдов он ещё не знал, в какого этруска попадёт копьём; сомкнутые щиты мешали бежать, и строй шатало из стороны в сторону. Но важнее всего, важнее даже, чем устоять на ногах, было держаться вровень с остальными. Всякого, кто выскочит вперёд, проткнут этрусские копья.
Вот почему, когда ряды сшиблись, удар оказался куда слабее, чем он ожидал. Последние несколько ярдов воины сбавляли шаг, чтобы не выбиться из строя. Оба войска замешкались — пришлось даже снова командовать наступление — и сошлись не в безумном яростном рывке, а осторожной трусцой.
Перпена оказался лицом к лицу с рослым воином в богатых доспехах, настоящим этруском, судя по чёрной бороде и бровям дугой. Он попытался ткнуть копьём в оскаленные зубы, этруск, естественно, тут же опустил голову, поднял щит, копьё царапнуло по бронзе и застряло.
Какое-то время никто из воинов не трогался с места, все налегли на копья. Не было ни крови, ни криков боли; похоже, пока вообще никто не пострадал. Потом в спину Перпене упёрся щит, пять задних рядов нажали, и его вынесло в самую гущу этрусских копий. Он в ужасе скорчился за щитом. Ничего не было видно, зато по крайней мере копьё наконец освободилось. Теперь оно без толку болталось в воздухе, но Перпена боялся высунуться, чтобы его нацелить, потому что их с противником стиснуло щитами вплотную. Со всех сторон переплетались копья римские, этрусские, в этой путанице было не разобрать, где чьи. Он согнулся ещё ниже, на оба плеча легли древки из задних рядов. Перпена был зажат в давке и ничего не видел.
Он выпустил бесполезное копьё, которое так и осталось висеть, запутавшись среди других копий. Вытащил меч, но не стал им размахивать, а держал за щитом, опершись рукой о колено. Нажим становился всё сильнее, и надо было во что бы то ни стало устоять на ногах, чтобы не оказаться растоптанным.
Держаться так было трудно, но можно. Не видя нацеленного на себя вражеского копья, Перпена вдруг воспрянул духом. Да ведь он храбро сражается в первом ряду римского войска! И, похоже, уцелеет, потом до конца жизни будет чем хвастаться. Стычки с разбойниками и пастухами, в которых он участвовал бродягой, были куда опаснее. Он сжал меч и огляделся. Под щитом виднелась полоска смуглой кожи над поножем. Перпена несильно ткнул в неё мечом, все силы уходили на то, чтобы не упасть.
Сверху раздалось рычание, нога пропала и на миг стало легче. Потом задние ряды снова выпихнули его вперёд; шаря в поисках опоры, он наступил на извивающееся тело. Щит снова упёрся во что-то твёрдое, и Перпена не боялся, что его откинут навзничь. Он посмотрел вниз, сдвинул ногой защитный кожаный фартук. Быстрый удар, и он сразил своего первого врага в открытом бою. Лица он не видел, но, наверно, это был тот знатный этруск, с которым они столкнулись в самом начале.
За это время Перпена продвинулся на несколько шагов вперёд, товарищи с обеих сторон тоже. Но исход битвы ещё не определился. Воины бросали копья, вытаскивали короткие мечи, и убитых становилось всё больше. Но по-прежнему стена щитов упиралась в стену щитов, никто не мог двинуться вперёд.
Однако строй постоянно шевелился. Рывок слева или справа заставлял бурлить и колыхаться всю стиснутую толпу. Трубы старались заглушить боевой клич врага, кругом вопили от ярости, взвизгивали от боли, и все звуки перекрывал мерный топот — воины отчаянно пытались удержаться на ногах. Битва была шумной, изнурительной и куда более страшной, чем казалось со стороны.
Постепенно Перпена уже освоился в этой опасной обстановке. Он бдительно защищал единственное уязвимое место, нижний край щита. Один раз туда ткнулось копьё, которое он придавил ногой, и невидимый враг выпустил древко; появлялось несколько мечей, он отражал удары. Потом вроде бы стало свободнее. Он осторожно распрямился и выглянул из-за щита посмотреть, одержана ли уже победа.
Нет, рано — слишком много впереди этрусских шлемов. А легче стало оттого, что задние ряды римлян начали отступать. Его искрошили бы вражеские мечи, если бы воин сзади не дёрнул его за тунику.
— Назад, болван, — прохрипел римлянин, — держи строй, не то нас раздавят!
Не оборачиваясь, Перпена попятился, с обеих сторон опять сомкнулись щиты товарищей, можно было начинать сначала.
Но раз начав отступать, остановиться оказалось нелегко. Этруски, хоть и шагали в гору, набрали разгон, и давление снова стало невыносимым, а каждому римлянину казалось, что шаг назад — и ему будет удобнее стоять и свободнее двигаться. Перпена не чувствовал спиной щита; не мог же он в одиночку удержать шесть рядов этрусков! Значит, оставалось только нагнать задние ряды. Медленно римляне отступали.
Вдруг Перпена споткнулся. Он успел сделать быстрый шаг в сторону, потянул лодыжку, но всё-таки устоял. Комья земли с колючей стернёй ложились под ноги как-то неправильно, и он решил сначала, что его старается повалить какой-нибудь враждебный бог, потом понял, в чём дело, и испугался ещё сильнее. Они дошли до гребня холма, теперь перевес будет у этрусков.
Все римляне заметили смертельную опасность. На пару минут войско остановилось, и над плоской вершиной отчаянно скрестились мечи и копья. Но удержаться не удалось. Взвыли трубы, этруски навалились и снова столкнули их с места, а склон с этой стороны был круче, и устоять на нём было ещё тяжелей.
Перпена пока что не получил ни царапины, хотя вокруг многие были ранены и обливались кровью. Но растянутая лодыжка болела, и он понимал, что бежать не сможет. Ну что ж, значит, это судьба. Он пережил разгром родного города лишь для того, чтобы погибнуть в стычке даже не войск, а вспомогательных отрядов, в войне каких-то жалких безвестных посёлков. Второй битве суждено было стать для него последней. Но оставался ещё долг перед предками и родичами. Раз нельзя убежать, следовало по крайней мере встретить смерть достойно, чтобы враги увидели, что оружие и щит при нём, а все раны спереди, и похоронить его с почётом.
Перпена медленно пятился, закрывшись щитом и выставив меч. Но враги куда-то пропали, впервые с начала боя никто не пытался обезоружить его и заколоть. Можно было опустить щит и оглядеться. Он увидел, что с обеих сторон римский строй распался, воины первого ряда развернулись и бегут, а сам он из-за растянутой мышцы оказался во главе небольшого клина, который один устоял из разбежавшегося войска. За спиной у него собралось десятка два спокойных, разумных ветеранов, людей рассудительных, которые понимали, что даже в проигранной битве нет ничего опаснее, чем беспорядочное бегство.
Поскольку конница в сражении не участвовала, вся этрусская пехота была занята преследованием беглецов, и пока никто не отвлёкся на последнюю не сломленную кучку римлян. Но они были открыты с тыла для неизбежного удара врагов. Перпена думал, не осталось ли всё же хоть какой-нибудь надежды, когда его окликнули из задних рядов:
— Эй, ты ведь тот бродяга с севера? Не иначе, бывал уже в таких переделках. Я не убегу, только скажи, что делать дальше.
Перпена искал, кто бы им распорядился, а оказывается, остальные сами ждали от него указаний. Спасти он их не мог, но по крайней мере мог показать, как встретить конец с достоинством.
— Кто хочет, пусть бежит, — крикнул он. — Я не могу, растянул ногу. Но всё равно спасения нет, за спиной враги, поэтому давайте сражаться до последнего. Если прикроете меня с тыла, может, ещё убьём пару этрусков, пока они нас не прикончили.
Перпена с трудом зашагал на гребень холма, и человек двадцать римлян, помешкав, двинулись следом. Сражение шло уже далеко позади. Воины не спеша выбрали из разбросанного вокруг оружия крепкие копья и уселись в кружок спинами друг к другу.
Перпена с удовольствием отметил, что вполне спокоен. Он подавал пример закалённым ветеранам; жаль, что враги не знают его имени, и нет родичей, чтобы сохранить о нём память — ведь именно о таком подвиге слагаются песни. Может быть, про его подвиг узнают в Нижнем мире, и, спустившись туда, он будет встречен героями древности? Он оглядел пустынное поле в поисках дочерей Небесного отца, тех, что выбирают павших; им как раз было время здесь трудиться.
Вон та ворона может оказаться одной из них; если подлетит поближе, надо назвать ей своё имя, родословную и напомнить, что он одолел не одного врага. Но ворона по-прежнему клевала свежий труп и не приближалась к кучке живых; птица из тех, по которым гадают, причём справа, со счастливой стороны. Доброе знамение, хотя совершенно непонятно, что оно могло в таких обстоятельствах предвещать.
— Погони уже не видно, — бодро заметил кто-то. — Если держаться на северном склоне, издали нас могут не заметить, и мы ещё уйдём невредимыми.
— Это ведь прямая дорога на Вей? Там нас не станут искать. Сколько нас? Двадцать четыре? Можем успеть раньше их войска и захватить город. — Перпена тоже говорил весело. Когда знаешь, что скоро умрёшь, ничего особенно не заботит и не печалит.
Надежды не оставалось, но почему-то идти вперёд представлялось более смелым и благородным, чем сидеть на месте. За холмом они скоро миновали трупы, оставшиеся после первой схватки, и приободрились, ступив на чистую, несмятую траву.
Всего в нескольких милях от них был город Вей, а в нём, конечно, гарнизон. Скоро их окружат и перебьют, а если этруски понесли большие потери, могут захватить живьём и сначала ещё помучить. Перпена решил снова встать в первый ряд и не особенно защищаться, пусть его лучше проткнут копьём, пока не сошлись вплотную.
Римляне шагали больше часа и подошли, должно быть, уже близко к городу, когда замыкающий поднял тревогу. Перпена обернулся и отдал приказ — отряд уже беспрекословно ему подчинялся:
— Стройтесь поперёк дороги в четыре ряда по шестеро, как можно плотнее. Бегство не спасёт. Копья вверх, бейте не лошадей, а всадников. Но откуда они взялись? В поле не было никакой этрусской конницы.
На них нёсся отряд вооружённых всадников, на позолоченном древке развевался воинский знак из крашеной шерсти, звенела труба. Римляне ответили боевым кличем, рыдающим волчьим воем.
Вдруг всадники осадили лошадей и, подняв облако пыли, остановились. Один шагом выехал вперёд.
— Ого, — воскликнул он, — так вы правда римляне! Я думал, этруски пытаются спасти свою шкуру, перевирают наш боевой клич. Что вы здесь делаете? Идёте на Вей? Вроде у нас было только два войска. Откуда вы взялись, кто главный?
Воины наперебой начали рассказывать о своих приключениях. Молодой аристократ остановил их:
— Я понял: значит, Перпена, ими командуешь ты, хотя царь не давал тебе полномочий? Что ж, боевые заслуги делают тебя моим равным. Я Эмилий, один из начальников конницы, сейчас дам тебе лошадь и поедем к царю докладывать. Это славный поступок. Меня послали проверить, что осталось от камерийских колонистов после разгрома. Миля за милей видел римлян, позорно заколотых в спину, и вдруг двадцать ветеранов мужественно идут одни штурмовать Вей! Воистину, это подвиг. Но если бы царь Ромул не разбил их главное войско, вас бы давно клевало воронье; вы не просто храбрецы, но и любимцы богов!
Эмилий не пытался скрыть восхищения. Но лучшей наградой было то, как он велел какому-то хмурому аристократу спешиться и отдать Перпене коня.
Главное войско римлян стояло у ворот Вей. Ворота были распахнуты и увешаны в знак мира оливковыми ветвями. Этруски-советники выносили сундуки с выкупом, а простой народ, италики тащили бурдюки с вином и торговались с теми из римлян, у кого нашлось немного серебра. Перпена понял: в тот самый час, когда колонисты терпели поражение, царь Ромул разбил врагов наголову. Рассказывали, что царь с одной только личной охраной разгромил целый отряд пехоты, чуть ли не четырнадцать сотен. Этруски испугались, что не выдержат штурма, и предложили мир. Они платили выкуп, отдавали бесценные солеварни в устье реки, готовы были дать что угодно, лишь бы римляне со своим всепобеждающим царём убрались восвояси, а Вей остались бы свободны и независимы, пусть даже лишившись богатства и многих воинов.
Победоносное этрусское войско с отбитыми у колонистов трофеями как раз входило в западные ворота — слишком поздно, чтобы спасти город.
Царь Ромул восседал на своём знаменитом табурете из слоновой кости под пурпурным балдахином. Он явно вымотался до предела — в летах, почти старик, а весь день рубился, словно мальчишка в первой битве. Но зато он был и на пределе блаженства, захмелел от радости, как от вина. Ещё одна добрая весть переполнила чашу царского благодушия. Улыбаясь во весь рот, Ромул обнял Перпену.
— Только мерзкое поведение колонистов портило этот прекрасный день; герой, ты загладил позор своим подвигом! Люди забудут, что мои воины побежали от первого же натиска, а запомнят вместо этого, что когда всё было потеряно, кучка храбрых римлян бросила вызов целому вражескому войску. И это твоя заслуга. Твои товарищи — храбрецы, я награжу их, но без тебя они бы разбежались. И хорошо, что ты из моих старых целеров, пусть все видят, как я умею выбирать отличных воинов. До чего я же рад! Надо и тебя осчастливить. Само собой, ты должен перебраться в Рим с женой и со всем хозяйством. Дам тебе хороший дом на Палатине и двойной надел. Если этого мало, бери под начало солеварни — их устроили этруски, только этруск там и разберётся. И самое главное: будешь сенатором. Мне пришло в голову, вот прямо сейчас, что к сотне латинян и сотне сабинян стоит добавить сто человек из трибы луцеров. Сотню порядочных луцеров набрать нелегко, но уж ты точно заслужил эту должность. Что ещё я могу для тебя сделать? Ничего? Тогда поезжай домой собирать вещи. Коня оставь себе; всё равно он мой, а нашим гордым юным всадникам не повредит, если кто-то для разнообразия пройдётся по Риму пешком. Ну, убирайся, а то я отдам тебе полцарства и начну завидовать!
Вибенна обрадовалась хорошему известию. Она даже выдавила улыбку, первую, которую видел муж:
— Хорошо будет уехать из этого злосчастного города, где все помнят, что меня забрали в жёны насильно, как военную добычу. Римляне, может быть, решат, что я настоящая матрона и мужа мне выбрали родители. Вообще я слышала, что в Риме женщинам хорошо живётся. И место там здоровое, лучше, чем здесь; во мне начал расти твой ребёнок — может быть, там он выживет. Трое малюток у меня умерли в колыбели, вот бы посмотреть, как он станет ползать. Удивился? Мужчины всегда удивляются таким новостям, но это правда, и я не знаю, так ли уж тебя не люблю.
Первый раз она говорила с ним по-этрусски.
Все радовались торжествам в честь победы, кроме захваченного в бою военачальника города Вей. Когда Ромул благодарил Марса на Капитолии, пленника, одетого ребёнком, вели за его колесницей. Потом его забили до смерти лёгкими палками, какими наказывают детей; но было ли это сделано для удовольствия богов или одного царя Ромула, неизвестно.
Глава 11. СКВЕРНА
Граждане сошлись на собрание. Если бы это были все римские воины, долина оказалась бы забита до предела, а если бы явились ещё и жители колоний, пришлось бы искать другое место. Но на самом деле слушателей у Ромула было немного. Собрание созывалось почти каждый вечер, никогда заранее не известно, по какому делу; большинству было лень приходить каждый раз. Царь мог гордиться, что правит с согласия всех подданных, не боясь при этом, что кто-нибудь проголосует против.
Этим вечером важных дел не было. Несколько юношей достигли возраста воинов, отцы представляли их к зачислению в трибы. Для жертв подземным богам, которые не любят быков, требовались свиньи; городская казна уже отпустила серебро на их покупку, теперь собрание должно было это утвердить, чтобы жертвы приносились от лица всех граждан. Замечена одна явная потрава, но владелец овец, которые забрели на чужую землю, давно признал свою вину и договорился с хозяином поля о возмещении ущерба. Собрание проголосовало отразить в протоколе, что спор закончен.
Ромул самодовольно глянул на писца, сидящего на корточках под возвышением. То, что в городе теперь ведётся столько деловых записей, говорило о просвещённости и о богатстве, потому что обходились писцы недёшево. Но они того стоили. Всё, что один заносил на буковую табличку упрощёнными, взятыми у этрусков греческими буквами, мог прочесть через много месяцев не только он сам, но и другой.
Больше у собрания дел не было. Всё прошло гладко, мнения ни разу не разделились. Народ единодушно поддерживал царя — по крайней мере, когда рядом с ним для убедительности стояли вооружённые целеры. Ромул поднялся и объявил собрание закрытым.
Жидкая толпа стала расходиться. И тут царь увидел на краю площади возле дома Юпитера Статора стоит незнакомец, опираясь на длинный дорожный посох — некоторые чужеземцы отдыхают в такой позе, для них это всё равно что сесть. Царь больше не мог похвастаться, что знает всех подданных в лицо, слишком уж их было много, но этот человек явно пришёл издалека, потому что его плащ не был перекинут по-римски через левое плечо.
Молодой, не латинянин, судя по причёске и форме бороды, скорее всего грек из новых городов с юга. С ним не было ни узла, ни мешка, но путь он явно проделал немалый. Стоял он спокойно, не стараясь привлечь внимание, словно времени у него вдоволь, а дело важное — об этом лучше слов говорила смесь терпения и уверенности в себе, с которой он держался. Ромул подозвал целера:
— Вон тот юноша хочет, должно быть, говорить с царём Ромулом. Узнай, что ему нужно, и скажи, что я свободен и могу выслушать просьбу — если, конечно, она в пределах разумного.
Тут произошло нечто непонятное. Едва цел ер приблизился, юноша взмахнул вокруг себя посохом, что-то настойчиво говоря. Опять и опять повторялось какое-то слово, которого царь не мог расслышать. Целер вернулся один.
— Государь, он никого не подпускает. Говорит, что на нём скверна и простым людям нельзя его касаться. Только истинному царю не опасно к нему подойти, но даже твоей божественной поддержки может оказаться недостаточно, так что если боишься, он уйдёт и поищет более великого правителя.
— Вот нахал! Чего ради мне снимать проклятие с какого-то чужеземца? — проворчал Ромул. — Конечно, придётся немедленно поговорить с этим парнем, а то целер решит, что он струсил. Наглец ловко придумал, как к нему обратиться.
— Эй ты, — Ромул сердито подошёл к юноше, который снова опирался на посох. — Я здешний царь, и к тому же любимый сын Марса, бога войны. Никакая скверна мне не страшна. Я могу тебя очистить, если захочу, но сперва объясни, чем навлёк проклятие. Мало ли, вдруг ты получил по заслугам. Итак, что ты сделал и почему?
— Я убил брата; это долгая история. Я видел Старух, правда, только во сне, потому и не позволил твоему посланцу приблизиться. Я не хочу осквернять других. Ты мне поможешь? Только великий царь, любимец богов, способен меня очистить и вернуть к обычной жизни.
Италийский язык явно не был для него родным. Ромул окончательно уверился, что это грек.
— Убил брата? Нехорошо, даже если на то была причина. Но, между прочим, я тоже когда-то убил брата, много лет назад, а посмотри на меня теперь. Такие вещи всегда можно поправить, если боги тебя любят.
— Значит, поможешь?
— Для начала уберём на время преследователей, чтобы ты мог войти в город, не занося опасности. Тогда и поговорим, ты всё расскажешь, а я решу, оставаться тебе здесь или идти дальше. Надо спешить, — он повернулся к целеру. — Сбегай на Палатин, приведи барана. Ещё бронзовый нож, сухие дрова и пару кремней. Одному столько не донести, пусть кто-нибудь поможет. Скажи, царский указ.
Он говорил раздельно и внятно, чтобы чужеземец понял.
— Понимаешь, что я задумал? — обратился Ромул к юноше. — Пока этого хватит, только нужно долго готовиться. Солнце заходит, будет холодно, но лучше не рисковать, не подпускать твоё злосчастье к римскому огню. Наберись терпения и стой, где стоишь. За спиной у тебя дом Юпитера, площадь для собрания тоже священна, так что не двигайся, а то мне придётся всё освящать заново. Ты умно сделал, что встал на единственном открытом месте, не в городе и не в святилище. Должно быть, разбираешься в обрядах. Ну, расскажи о себе: кто такой, откуда?
— Государь, я знаю довольно, чтобы не называть своего имени. Его ждут уши в каждой былинке, в каждом дуновении ветра. За мной долго охотились, а теперь, если буду осторожен, погоня собьётся со следа — поэтому пока баран не сделает своё дело, я ничего не скажу. Вот когда снова смогу войти в дом, то всё объясню и надеюсь, ты позволишь мне остаться. Я убил случайно.
— Что ж, подожди, если хочешь, — милостиво ответил Ромул. — Твоё прошлое не так уж важно, конечно, не считая того несчастья. В Риме полно убийц, да и воров хватает, и кто чем занимался раньше, никого не касается. Конечно, за нарушение законов города у нас казнят, но когда избавим тебя от погони, ты сможешь начать новую жизнь. Разумеется, прежде чем предлагать тебя в граждане, я должен буду всё узнать, и если ты натворил что-нибудь совсем немыслимое, то отправишься восвояси.
Они замолчали, разглядывая друг друга. Ромул принял величественный вид. Получить римское гражданство — большая честь, слишком много бродяг уверены, что сюда пускают всех подряд. Этот парень должен понять, что его могут ещё найти недостойным. Вид самоуверенный — говорят, каждый грек уверен, что все италики вместе взятые не стоят его мизинца. Цел еры со священными принадлежностями куда-то запропастились, и Ромул чувствовал, что начинает злиться. Надо владеть собой, не в первый раз. Сказать по правде, с возрастом он стал завидовать цветущей юности, один вид молодого воина портил ему настроение. Но без молодых воинов где его сила? Он запретил себе поддаваться этим мыслям.
Наконец появились двое целеров с бараном и дровами — священное поручение не доверяют рабам. После трудного дня годы давали себя знать, работа предстояла тяжёлая, но она была по плечу только царю, к тому же любимцу богов, и Ромул взялся за дело.
Сначала надо было заставить барана встать смирно между священными участками. Грек знал обряд, он без подсказки вскочил на барана верхом и поджал ноги, чтобы не касаться земли. Дальше настала сложная минута: цел ерам нельзя было держать барана, но он должен был оставаться на одном месте. Взмахнув ножом, царь бросился на жертву, поймал баранью голову под мышку и принялся перерезать горло. К счастью, он сразу ухватился как следует, а дальше требовалась не столько ловкость, сколько сила. Упругие складки кожи поддались под ножом, хлынула кровь, и царь направил её на подходящее пятно голой земли.
Баран свалился. Беглец оставался у него на спине, вцепившись в руно обеими руками. Оставалось самое трудное: не двигая барана, подсунуть под него дрова, чтобы юноша при этом не коснулся земли, и это тоже надо было проделать без помощников. Ромул покряхтывал от ревматизма в плече. Но наконец дрова были уложены, костёр готов. Зажав левой рукой кусок трута, царь приготовился высечь огонь счастливыми кремнями.
Разумеется, тут же невесть откуда налетел ветерок, относя искры в сторону. К пятой попытке Ромулу захотелось послать на Палатин за головней. Но тогда как бы не осквернить все очаги в городе: проклятие, как известно, может переходить с одного огня на другой, от которого его зажгли, а в Риме все непрерывно очаги зажигались один от другого. Сердито ворча, Ромул поборол искушение и наконец зажёг маленький огонёк. Теперь надо было поджечь намокшие от крови дрова.
Наконец омерзительная вонь палёной шерсти и тлеющего мяса показала, что жертва принята. Кашляя, царь нырнул в зловонный дым и ухватил юношу за плечи, чуть не упав от тяжести. Беглец, сильный и мускулистый, всё делал как надо. Он оставался наверху костра, где, казалось, мог сгореть заживо, и не терял самообладания. Царь выхватил его из огня и поставил на краю участка, посвящённого Юпитеру Статору. Отдуваясь, они снова пристально оглядели друг друга.
— Готово, — с удовольствием проговорил Ромул. — Несколько лет не делал, но такое не забывается. Получилось на славу, я уверен, что мы не ошиблись. Но учти, проклятие с тебя не снято. Если тебя выслеживают, мы сбили их с толку, но хороший нос всё равно распутает след. На пару дней ты в безопасности, за это время решим, как с тобой быть. Тогда либо мы с римскими мудрецами очистим тебя как следует, либо отправим дальше.
— Государь, незачем щадить мои чувства, говорить про «них», про «хороший нос». Два месяца ни днём, ни ночью Старухи не покидали моих мыслей, можно сказать о них вслух. Они пойдут по моему следу, наткнутся на жертву и решат по крови и дыму, что я погиб. Но когда не найдут меня в подземном мире, то поймут, что их провели, и снова кинутся искать. Ты дал мне передышку, и я знаю, что ненадолго. Но теперь я могу говорить свободно, ты меня выслушаешь?
— Не здесь и не сейчас, — твёрдо ответил Ромул. — Отойдём подальше, и не говори о Старых так громко. Рядом Мундус, один из входов в Нижний мир, хоть я и запечатал его заклятьями. В любом случае, судить тебя буду не я один. У меня вволю счастья, я любимец богов, но мудростью некоторые советники меня превосходят. Расскажешь свою историю сенаторам, и мы вместе примем решение. Я думаю, теперь ты можешь войти в город и есть нашу пищу. Сенат соберётся утром.
Более двухсот советников собрались за плетнём под открытым небом. Кто стоял, кто сидел, царь расположился напротив входа на стуле из слоновой кости. Посередине круга сенаторов горел на счастье костерок из благовонного дерева, а рядом стоял ищущий очищения юноша. Он начал речь, не мешкая, потому что сочинял её всю ночь, а у него на родине считалось, что запинания и незаконченные фразы свидетельствуют не об искренности, а о невежестве.
— Римские советники, Отцы, — произнёс он быстро, но слегка коверкая слова. — Моя родина — Кумы, греческий город далеко на юго-востоке, но всё же в Италии. Не стану называть ни моего отца, ни рода, ни имени, под которым был зачислен в ополчение, потому что, как вы скоро поймёте, у меня больше нет ни отца, ни рода, ни города. Друзья прозвали меня Макро — «Большой» — за высокий рост. Это не имя, а кличка, но под ней я буду жить в изгнании.
Юноша рассказал, что был старшим из двух сыновей, когда умер его отец, торговал в Греции, а вернувшись, обнаружил, что отцовским хутором завладел брат.
— Это против обычая, по закону нашего города земля переходит к старшему. Но я не слишком обиделся: я торговец, брат был пахарем. Поссорились мы не тогда, а в день ежегодного праздника, когда граждане шествуют к алтарю в полном вооружении принести жертвы героям-хранителям города. Это большая честь, знак того, что город признает наше богатство и храбрость. Как наследник отца верхом должен был ехать я. Но брат сказал, что конь его вместе со всем хутором. Лицом к лицу мы стояли у конюшни, оба вооружённые из-за праздника. Я хотел взять то, что принадлежало мне по праву, а брат не давал. Он ударил меня кулаком, хотя я старше. Взялись за мечи, и брат мёртвым свалился к моим ногам... И вот я пришёл к вашему великому царю просить, чтобы он снял с меня проклятие. А если буду очищен, то хотел бы навсегда поселиться в вашем городе.
Пожилой советник принялся расспрашивать:
— Ты говоришь, взялись за мечи; твой брат обнажил меч?
— Одновременно со мной. Мы были оба вооружены как всадники, без щитов. Но помню, как он отбил мой первый удар.
— Он упал мёртвым, — не отставал советник. — Можешь сказать, как он лежал и где была рана?
— Он лежал на спине, шлем свалился. Кровь хлестала из разрубленной шеи.
Вмешался другой советник, средних лет, морщинистый, с лисьим оскалом.
— Вы спорили о земле и коне? Тут не было замешано женщины?
— Никто из нас не был женат. Я держал любовницу в греческом порту, а брат жил с рабыней на хуторе. Здесь нам не из-за кого было спорить.
— По-моему, обстоятельства этого убийства и поиски виновного не имеют отношения К Сенату и римскому народу, — вставил Ромул, торопясь покончить с расспросами. — Убийство брата может прогневать богов, но на сей раз они не стали мстить. Это очевидно, раз убийца перед нами в добром здравии и просит гражданства. Конечно, он осквернён, но я могу его очистить. Нам нужны молодые воины; он воин и хочет быть полезным. Если советники не возражают, я предложу собранию его принять.
Раздался одобрительный гул, хотя кое-кто из сенаторов пожал плечами, словно показывая, что мог бы ещё поспорить, не прими царь решения. Макро удалился с Ромулом в священную сокровищницу, чтобы как следует очиститься, прежде чем предстать перед Народным собранием.
Наутро юноша скатал постель и вымел угол, который ему отвели в доме для гостей. Он не был больше гостем города, не обременял казну; полноправный римский гражданин и завтрак должен был добывать своими силами.
Из вещей у него имелись только туника, плащ, пара башмаков да пустой кошелёк, но он верил в будущее. Если городу так нужны воины, что здесь рады любому крепкому чужеземцу, то граждане не откажутся и от помощника в поле. Он найдёт работу, а с ней кров и пищу. Ещё ему пообещали надел, но не сейчас, а как только отберут земли у соседей, потому что в Риме не было свободных полей.
Макро направился в долину. Утром площадь для собраний превращалась в рынок, в палатках продавали сыр и фрукты; если нет постоянной работы, можно было работать здесь, помогая навьючивать ослов и увязывать товары. Как прекрасно было снова толкаться в толпе, никого не оскверняя! Улыбаться женщинам, не отгонять от ног детей, не кричать каждому встречному, чтобы остерегался. Собака обнюхала его ноги — это была просто собака, и взглядом его проводила обычная коза, а не кто-то другой в козьем обличье. Он совершил страшное преступление, но, как вчера сказал царь Ромул, искупил его добровольным изгнанием — конечно, не без помощи сложных очистительных обрядов.
Теперь он стал свободным гражданином цветущего города, после долгих безнадёжных скитаний по горам обрёл соседей и защитников. Оставалось найти в этом чужом, многолюдном месте еду и друга.
Казалось, на Палатине до сих пор ещё не всё обоснованно постоянно. Кое-где стояли новые дома со сверкающей штукатуркой и ровными черепичными крышами, но попадались и жуткие старые хибары из некрашеных брёвен, кособокие, готовые того и гляди развалиться. Улочки были узкими, прямыми, точно в военном лагере, чистыми, под ногами хорошая булыжная мостовая, но дома жались по сторонам, город не помещался в стенах. На Квиринале, на той стороне долины, тоже было тесно и висел дым от множества очагов. Но площадь для собраний оставалась свободной, строиться здесь было запрещено законом, а римляне, похоже, свои законы соблюдали.
Проходя через ворота, Макро окинул взглядом палисад; раз это теперь его город, может, придётся когда-нибудь защищать эти укрепления. Крутой и высокий вал порос травой, все промоины от дождя, судя по пятнам свежей земли, тут же заделывались. Но колья уже начали гнить, они почти отслужили свой век. Брешей нет, но вид ненадёжный. Римляне, похоже, не ждали осады.
Никто не обращал внимания на новое лицо в толпе, не оглядывался на Макро — плащ его был по-римски перекинут через левое плечо, и ничто не выдавало в нём чужеземца. Так, незамеченный, он бродил по рынку, терзаясь от запаха варёных в мёду яблок. От голода сводило живот, но подойти к первому встречному и попросить работы и еды было как-то неловко, словно клянчить милостыню. Он понуро остановился, глядя под ноги и собираясь с духом.
Тут кто-то его окликнул. Макро робко поднял голову. Ему улыбался стройный мужчина лет тридцати, с чёрной, как смоль, бородой. Туника чистая, новая, хорошие башмаки из мягкой кожи. Если бы не круглое лицо, выглядит как зажиточный горожанин-грек. Он улыбнулся в ответ.
— Ты Макро, новый гражданин с юга? Меня зовут Перпена, и я тоже пришёл в Рим как воин, больше десяти лет назад. Мои родители были этрусками, так что мы попадаем в одну трибу: всякого, кто не сабинянин и не латинянин, включают в трибу луцеров. Это нас связывает. Если ты ещё не ел, может, позавтракаешь со мной вон в той лавочке?
Женщина подала им горячую кашу, разбавленное вино и козьего сыра на закуску. Перпена ничего не заплатил.
— Нет, граждан не кормят бесплатными завтраками, — объяснил он, перехватив изумлённый взгляд Макро. — Только после хорошего урожая иногда раздают излишки зерна. Я слышал, в некоторых греческих городах каждый неимущий гражданин может бесплатно пообедать, но нам ещё до этого далеко. В Риме есть богатые и бедные, словно ему уже много веков, и тем, у кого нет земли, нелегко прокормиться. Просто я хозяин этой лавочки. Когда-то мне повезло в битве и царь дал в награду двойной надел, а с тех пор удалось прикупить ещё три. Мои люди торгуют на рынке, и я иногда завтракаю здесь, чтобы они не распускались. А сегодня я искал тебя. Тебе, кажется, нужна работа а мне нужны работники. Но не торопись соглашаться, пойдём ко мне и всё обсудим за чашей вина.
Дом был роскошный, кирпичный, с черепичной крышей, на самом краю Палатина. Палисад загораживал вид на долину, но с полей и далёких буковых лесов долетал свежий ветерок. Расположившись напротив хозяина на овечьей шкуре на мощёном полу, Макро чувствовал себя почти как в Греции. Перпена говорил по-италийски, подбирая простые, понятные даже чужестранцу слова.
— Чтобы ты понял, чего я от тебя хочу, надо сначала объяснить, как устроено наше общество. Риму нет ещё сорока лет, все семьи откуда-нибудь переселились, поэтому своей аристократии у нас, разумеется, нет; зато есть Сенат из трёхсот главных граждан, и я туда вхожу. Пока не решено, наследуется должность сенатора или нет. У меня пять полей, это в пять раз больше, чем у обычного римлянина; земля перейдёт к старшему сыну, и было бы естественно, чтобы он занял после моей смерти место в Сенате. Короче говоря, я стараюсь основать знатный род, а для этого мне нужны сторонники.
— Ты хочешь, чтобы я за тебя боролся, против кого и насколько рьяно? Надо мне будет освистывать твоих врагов в собрании, тайно резать глотки или участвовать в открытой гражданской войне?
— Как приятно говорить о политике с греком! Ты всё понимаешь с полуслова, только ударяешься в крайности. Я сам ещё не знаю, чего потребую, но сторонники мне нужны, все видные сенаторы сейчас стараются набрать их себе как можно больше. Их так много, что пришлось даже придумать особое слово — «клиенты». По-моему, это италийское слово, но не знаю, что оно значило до основания Рима. У клиента есть все права свободного гражданина, голос в собрании и место в ополчении, но голосует он так же, как его господин, и в бой идёт под его началом. За это господин следит, чтобы клиент не голодал, а если у того возникают неприятности с законом, заступается за него перед собранием. Всё это совершенно открыто и честно. Десятки бедных, но порядочных граждан могут сказать, что они клиенты какого-нибудь видного человека, и никто этого не стыдится.
— Но ты так и не сказал, какие это налагает обязательства. Могу я перестать быть твоим клиентом и перейти к другому господину или начать жить сам по себе? Должен ли я за тебя сражаться всегда, даже если ты нарушишь законы города? И вообще сражаться или просто кричать да иногда запустить камнем?
— Я не могу точно ответить, это пока что не определилось, — улыбнулся Перпена. — Не забывай, Риму всего тридцать пять лет, и до сих пор не было ни одной гражданской войны. Сделаем так: я обеспечу тебя на несколько дней, пока не осмотришься в городе, взамен не прошу ничего, кроме твоей дружбы. Считай, что я просто люблю греков. Никого из нас это ни к чему не обяжет. А тем временем я представлю тебя одному из первых людей, с кем я здесь познакомился. Марк Эмилий живёт в Риме с самого основания, он уже старик, отставлен из ополчения по возрасту, но голос в собрании у него есть, и его могут призвать защищать стены. Он очень почтенный человек, славится честностью и порядочностью. Всё время, что он здесь, он был клиентом рода Эмилиев; в прошлом году умер его первый господин, и он стал клиентом наследника, которому годится в отцы. Никто не может лучше него объяснить, в чём состоят обязанности клиента. Он настоящий латинянин старого закала, той же породы, что царь Ромул. Римские законы придумали люди вроде него. Он понимает эти законы сердцем, потому что они отвечают всем его врождённым предрассудкам.
— Это честное предложение, я его принимаю, — благодарно ответил Макро. — Пока я ем твой хлеб, я буду считать себя твоим клиентом, и скажу прямо, если эта обязанность окажется мне не по силам. — Он отхлебнул ещё вина для храбрости; то, что он собирался сказать, хозяин мог счесть нескромным. — Господин Перпена, ведь сейчас ты мой господин, скажи, если гражданской войны в Риме не было, зачем ты тратишь хлеб и вино на то, чтобы нанимать последователей, особенно молодых одиноких воинов?
— Да, за тридцать пять лет Рим не видел гражданской войны, — усмехнулся Перпена. — Но в своё время и солнце взошло в первый раз. Рим не видел ещё много, например, мы никогда не выбирали царя.
От такого прямого ответа Макро просто спросил, какие будут указания.
— Сегодня никаких. Просто зайди к Марку Эмилию, скажи, что ты от меня. Хорошо бы тебе пойти со мной на Народное собрание вместе с остальными клиентами. Если проголодаешься, на кухне всегда найдётся еда, спать можешь где-нибудь в доме, только не с рабами, а то тебя не станут уважать. Лучше всего на террасе. Кстати, надеюсь, ты не боишься спать один или ещё чего-то опасаешься?
— О нет, господин, все мои страхи позади. Царь Ромул совершил очень тщательный обряд, и теперь моё прошлое забыто.
— Обряд, конечно, латинский? Мы, этруски, служим богам иначе. Но это можно обсудить в другой раз, когда будет больше времени. Утро перевалило за середину, не тот час, чтобы сидеть за вином. Управляющий объяснит тебе, как найти Марка Эмилия; Марк уже стар для работы в поле, так что сейчас должен быть дома.
Макро понял, что встретиться с этим стариком очень важно, и отправился его искать.
Вечером на террасе для Макро были готовы одеяла и подушка. Там же ночевали ещё люди — колонисты, приехавшие в Рим по делам, и земледелец-арендатор, который по большей части жил где-то в глуши. Все они были свободными римлянами, и всё более или менее зависели от хозяина. Рабы спали в комнате, чтобы их соседство не оскорбляло граждан. Располагаясь на ночлег, Макро удовлетворённо вздохнул. Наконец-то можно спать, не боясь преследователей, первый раз с того страшного дня в Кумах. Он неплохо устроился в этом чужом городе, а будущее было полно надежд.
Марк Эмилий оказался хорошим человеком, тот самый простой и честный землепашец, про каких пишут поэты в элегиях из сельской жизни. Он видел основание Рима, не отрицал, что всё началось с крови и преступления, говорил об этом несчастье неохотно, но долго рассказывал про голову на Капитолии и остальные знамения, которые ясно показали, что город любим Марсом и невероятно щедро наделён счастьем. С юности Марк был клиентом Эмилия, зависел от него настолько, что даже взял его имя. Без колебаний он решил, что эти обязательства пожизненные, и теперь подчинялся наследнику прежнего господина. Так же уверенно Марк утверждал, что, выполняя приказы, клиент не может повредить городу, потому что господин — по-италийски патрон — никогда не прикажет нарушить законы.
Иными словами, в отношениях патрона с клиентами никто не видел противоречий. Есть долг перед городом, который тебя защищает, и долг перед патроном, который кормит, и надо выбрать, какой важнее, не дожидаясь, пока они столкнутся.
Макро было ясно: жить как Марк Эмилий не может быть стыдно, значит, клиент — достойное положение. И ясно, что погони больше нет. В общем, ему очень повезло.
Сон не шёл, может быть, за праздный день он недостаточно устал. Стоило чуть-чуть задремать, перед глазами всплывало белое лицо и окровавленная шея брата. Дважды Макро просыпался в ужасе, но преследователи не снились, и вокруг не было никого, кем могут прикинуться Старухи. Поэтому он скрестил пальцы, пробормотал по-гречески заклинание, чтобы успокоить живущее на этой террасе божество, и решил хотя бы полежать до рассвета, даже если не удастся толком выспаться.
Наутро настал ещё один приятный день безделья. Еда, кров и помощь обеспечены, и он мог снова и снова наслаждаться близостью дружелюбной толпы. Это было прекраснее всего. Два месяца Макро провёл, скитаясь по горам Италии, в безопасности — скверна отпугивала даже закоренелых разбойников — но в полном одиночестве. Когда он появлялся в деревне, детей втаскивали в дома, весь огонь, который горел на улице, торопливо гасили, двери запирали, и даже сторожевые псы держались поодаль. Какой-нибудь старик выносил немного поджаренного ячменя на листе или клал прямо на землю ломоть хлеба. Макро подходил и всё уносил с собой, чтобы скверна не пристала к посёлку. При этом следил, чтобы тень не упала на дом или даже на вспаханное поле. Он знал это сам, без подсказки, как знал, что нельзя оставлять следов своего пребывания, ни изношенного башмака, ни клока от плаща, ни обломка суковатой палки, служившей ему посохом. Тяжелее всего был запрет зажигать огонь.
Макро не удивлялся, что все встречные замечают с первого взгляда, каким гнусным преступлением он запятнан: должен был остаться след, а может, над головой всё время вился какой-нибудь посланец Старух. Он не понимал, что изгоя в нём выдаёт лицо, походка, весь его вид. Иногда, входя в деревню, он предупреждал жителей криком, сам того не замечая, потому что часто кричал о своём проклятии, не разбирая, говорил ли он вслух или про себя. Он принял как должное, что преступление отрезало его от мира.
Само собой, он ни разу не пытался войти в город, обнесённый стеной: это значило бы навлечь проклятие на невиновных. Но даже если бы он захотел приблизиться, стража заколола бы его копьями.
А теперь было так хорошо стоять на углу людной улицы, в толчее, где его задевали прохожие. Мальчишка, догоняя щенка, врезался ему в ноги, и Макро засмеялся от радости.
Но хотя тело и очистилось от скверны, душа была неспокойна. Бледное лицо брата всё время всплывало перед глазами. Макро не пугала погоня, но мучила совесть, и даже избавившись от последствий убийства, он чувствовал, что всё равно остался хуже других людей...
После собрания он застал на террасе патрона, которого привлекла туда вечерняя прохлада. Вокруг никого не было, и Макро решился задать мучивший его вопрос.
— Господин, — почтительно сказал он, — ты этруск и учёный служитель богов. Развей мои сомнения, скажи, очистил ли меня царь Ромул от скверны братоубийства?
— Это должен знать ты, а не я. Если ты чувствуешь, что чист, значит, чист. Месть подземного мира поражает лишь душу; на твоём теле нет никаких знаков — но ведь их не было и тогда, когда ты знал, что проклят. А есть ли клеймо на твоей душе, можешь сказать только ты сам.
— Я чувствую, что очищен, меня не преследуют, но я всё время вижу лицо брата.
— Разумеется, а чего ты ждал? Царь лишь остановил погоню, он не мог сделать тебя из злодея хорошим человеком.
— А кто может?
— Только не царь. Он храбро сражается, разумно правит, но он наместник небес. В сущности, у него нет ничего, кроме потрясающего счастья, которое он не заслужил, а получил от рождения. Не исключено, что он вправду сын Марса, хотя кто знает, чей он на самом деле сын?
— Понимаю, господин. Ну что же, раз месть мне не грозит, я останусь в Риме, не буду искать более великого царя-жреца. И с радостью стану служить тебе, как римский клиент патрону. Каковы будут поручения?
— Пока трудно сказать. В Кумах, насколько я понимаю, ты был моряком, но здесь нет кораблей. Пожалуй, ты мог бы помогать в кузнице. У меня работает отличный оружейник, свободный человек, тоже беглец из Этрурии. Он просит помощников, а рабам не стоит доверять оружие. Главное, что от тебя требуется, это быть наготове. Подбери хорошие доспехи, чтобы были впору, и держи под рукой, особенно ночью. Если бы я знал, чего ждать, то сказал бы, что делать; но я только чувствую: скоро что-то случится, и тогда моему дому пригодится отряд клиентов.
Макро подумал, что патрон собирается сделать его наёмным убийцей. Разве придумаешь лучшее дело для человека, который убил собственного брата? С поклоном он отправился к управляющему договориться о более укромном месте для ночлега, чем открытая всем ветрам терраса хозяйского дома.
Рим, хоть и не греческий город, оказался не так уж плох. В кузнице было бы интересно, если бы давали настоящие поручения. Железо, насколько понял Макро, выменивалось в Этрурии на живых волов, но его доставку окружала некая таинственность; похоже, эта торговля шла открыто лишь в Риме, а где-то ещё незаконно. Скорее всего, этруски запрещали вывозить необработанный металл.
Кузнец ковал только железные мечи да полоски бронзы на кожаные панцири. Броня была без украшений, мечи тяжёлые, неуклюжие тесаки, зато это грубое, некрасивое оружие стоило дёшево. В Риме было много кузниц, целое объединение оружейников, и каждый римлянин имел железный меч и доспехи.
Обычно кузнецы любят поговорить, и в холода вокруг горна, где весь день горит огонь, собирается общество. Но кузнец Перпены, угрюмый этруск, заикался, по-италийски знал лишь несколько слов, а к помощникам обращался только с приказами. Если работа выпадала сложная, он бормотал непонятные стихи-заклинания, но всё по-этрусски. В кузницу заходили только по делу. Было скучно.
Постепенно Макро обнаружил, что никто не ждёт от него особенного усердия. Открыто этого не говорилось, но на работу его взяли только для вида: нехорошо заявлять в собрании, что ты наёмный охранник, поэтому он мог называться помощником кузнеца. Но никто не мешал ему, когда захочется, взять свободный день-другой, лишь бы Макро был на месте, когда на ночь закрываются двери большого дома.
Большой дом, самое роскошное из всех частных жилищ в Риме, даже дал имя своему владельцу: в деловых записях тот значился как Домиций Перпена. Крыша целиком из обожжённой черепицы, с богато украшенным водосточным жёлобом по краю. Стены в парадных комнатах оштукатурены и расписаны на этрусский лад — отдалённое подражание грекам; Макро не мог разобрать, кто из богов где, и люди были нарисованы довольно нескладно. Крыша главного зала опускалась к середине, и через отверстие дождевая вода стекала в бассейн: отличный способ не тянуть длинные стропила. За это можно было простить даже невзрачные внутренние комнаты, где на изображения божеств и предков целый день садилась копоть от очага. Италики, привыкшие жить в лесу, жгли в огромных открытых очагах целые деревья, когда бережливому греку хватило бы маленькой жаровенки.
Но в общем дом был удобный, нельзя сказать, чтобы уродливый, и с его обитателями можно было общаться просвещённому человеку. Перпена, живой, язвительный, умный, видел мало хорошего в окружающем мире, но трудился ради будущего семьи, словно раб собственных детей. Его двое сыновей и две дочери, приятная, миловидная молодёжь, любили рассказы о чудесах Греции. Отца они слушались, только часто приводили в дом молодых людей с сомнительным прошлым.
Госпожа Вибенна, хозяйка этого обширного дома, была натурой более сложной. На первый взгляд казалось, что она всем довольна, привязана к своим детям, которые её обожают. Она ладила с мужем, и домашние рабы её не ненавидели. Но мысли её были далеко от Рима; она воспринимала жизнь рассеянно, как слушает хозяина кухарка, у которой тем временем пригорает обед. Оживала она лишь в Черной комнате, где был очаг: здесь при виде изображений богов в её взгляде загоралась ненависть. Макро побаивался Вибенны, но надеялся, что не подаёт ей повода для неприязни.
Постепенно он узнавал местных жителей. Честные, трудолюбивые люди, рачительные земледельцы, прилежные, хоть и без фантазии, ремесленники. Но не настоящие граждане в греческом смысле. Собственно, римлянами их можно было назвать лишь условно, едва ли хоть один так о себе думал.
Город стоял уже тридцать шесть лет, молодёжь здесь выросла и не знала другого дома, но кого ни спроси, почти любой ответил бы, что он латинян, сабинянин или этруск — ну и, конечно, римский гражданин впридачу. На вопросы о политике называли имя патрона. Но собственно народ и не управлял городом. Все вопросы, по которым голосовало собрание, задавал царь Ромул, он же на совещаниях с Сенатом заранее договаривался об ответах.
Но хотя Рим и не был республикой, он не был и вроде тех старых греческих городов, что до сих пор управляются царями. Ромул не пользовался почётом наследственного правителя, подданные жили не по законам предков и не по совету разума. Они слушались приказов своего военного вождя.
В сущности, Рим представлял собой разбойничий лагерь. Разбойники долго прожили на одном месте, обходились друг с другом честно и кормились земледелием, а не грабежами. Но всё равно они были разбойниками, и потому только подчинялись единоличному правителю, которого не выбирали, что покорность спасала их от мести негодующих соседей. Такое поселение вряд ли могло пережить своего основателя.
Глава 12. ЦАРЬ РОМУЛ
Получше узнав италийский язык, Макро пришёл к выводу, что римляне никогда не научатся управлять своим городом, как греки, хотя бы потому, что их язык слишком груб. На нём невозможно было выразить никакой сложной мысли, только простые чувства, чем римляне и занимались на каждом собрании.
С царём, разумеется, никто не спорил, но некоторые решения были Ромулу безразличны, а иногда, поддерживая самого царя, можно было пойти наперекор его прочим сторонникам. Любое собрание прямо-таки свидетельствовало, что Рим вот-вот развалится.
Отчасти, как постепенно понял Макро, это ощущение возникало из-за того, что граждане делились на два враждующих лагеря, два поколения с противоположными взглядами. Рим основали тридцать пять лет назад юноши, большинству из которых не было и двадцати. Сейчас им пятьдесят-шестьдесят, а их сыновьям лет по двадцать-тридцать. Но людей среднего возраста, чтобы заполнить пропасть между отцами и детьми, в городе почти не было.
Ромулу исполнилось шестьдесят один, но на вид можно было дать больше из-за того, что он не в меру ел и пил, а в последнее время мало двигался. Но хотя телом царь был стар, по своим взглядам он оставался очень и очень молод. Его главной опорой были целеры, юнцы с чистыми копьями, не видавшие битвы. Полные сил, отважные, преданные царю, они думали только о благе Рима, то есть были всегда готовы ради общего блага не считаться с правами отдельных римлян.
Взять, например, сложности из-за нехватки земли. В своё время пашни, захваченные у других городов, раздавали бесплатно или, может быть, за службу в ополчении, но за последнее время часть земель распродали, часть истощилась. Перпена со своими пятью наделами считался одним из крупнейших землевладельцев, у остальных сенаторов было по два или три, а среди воинов насчитывалось немало безземельных. Молодёжь требовала передела земли, по слухам, Ромул это одобрял.
— Но мне эта идея не нравится, — сказал как-то вечером Марк Эмилий, когда они с Макро вместе возвращались с собрания. — Совсем не нравится, даром что я как раз из тех угнетённых тружеников, про чьи права кричат мальчишки. В своё время мне дали надел, каменистое поле возле города. Я продал его патрону в засуху, когда мы остались без зерна. Сейчас я стар, пашут дети, и мы арендуем у Эмилия за часть урожая ту же самую землю. Если победят молодые, я могу получить поле обратно, и проиграет Эмилий; но если через пару лет устроят новый передел и с земли сгонят моих сыновей, чтобы отдать её ещё кому-нибудь. И потом, случись снова недород, некому будет купить землю. Один раз ограбишь богачей — и кто тебя потом выручит? По мне, лучше арендовать землю, которую никто не отнимет у патрона, чем распоряжаться прекрасным полем год-другой, до следующего передела.
— Чтобы чувствовать себя человеком, надо растить собственный хлеб, — согласился Макро. — У моего отца там, в Кумах, была земля, и на собрании он голосовал, как хотел. Моя каша растёт в поле Перпены, и я голосую, как он скажет.
— Вот именно. Без собственности нет свободы.
Здравомыслящих людей набралось достаточно, чтобы охладить пыл юных целеров. Вопрос так и не вынесли на собрание. Но передел земли поровну остался мечтой молодых, и от одного этого ветераны щетинились и во всём готовы были видеть покушение на свои права.
Молодёжь также хотела объявить войну всему Этрусскому союзу и захватить хорошие угодья за рекой, но тут Ромул был против. Хотя казалось странным, почему царь, наделённый таким невиданным счастьем, царь, который верит, что он любимый сын Марса, на протяжении стольких лет довольствуется миром. Ещё не забылись его подвиги в войне против Вей; кое-кто из ветеранов клялся, что царь тогда собственным мечом уложил четырнадцать сотен этрусков.
В это Макро не мог поверить и однажды спросил патрона. На душе у него при этом было скверно: вдруг до целеров дойдёт, что он сомневается в царской доблести.
Перпена отнёсся к вопросу спокойно.
— Сразу видно грека, — улыбнулся он. — Непременно надо испортить хорошую историю. Разве не лучше верить, что наш царь — герой, способный в одиночку расправиться с целым войском? Неужели эта вера тебя не греет, когда вспомнишь, какие к северу от нас страшные громадные этрусские города?
— Грела бы, но я не могу поверить. Никто не способен в одиночку убить столько врагов; значит, про царя рассказывают неправду, и мне это неприятно.
— Слова человека просвещённого и логически мыслящего. Между прочим, доля правды в этом всё-таки есть. Сам я не видел, участвовал в другой битве, под Фиденами — напомни как-нибудь про неё рассказать, — под Веями Ромул с особым отрядом подкрепления перехватил около четырнадцати сотен этрусков; они пытались зайти к римскому войску в тыл, а он их рассеял. Так что с полным правом можно утверждать, что царь победил тысячу четыреста человек. Не уточняя, конечно, что ему помогало много римлян.
— Благодарю, господин. Приятно слышать, что царь действительно великий воин. А как его любят боги, заметно с первого взгляда. Вот только хватит ли его могущества, чтобы защитить меня от погони? Мне всё ещё слишком часто снится брат.
— А насколько часто ему снится брат, дорогой Макро? В этом-то всё дело. Ромул убил Рема, когда основывал город, но живёт прекрасно, и у него даже хватает счастья, чтобы помочь другим от подобных бед; пока ты его подданный, царь тебя защитит. Но снять вину — нет, не такой он человек. Всё, что есть у Ромула, это счастье. Если хочешь спокойной старости, придётся искать царя, который никогда не посягал на родичей. Ещё, наверно, подошёл бы безупречный жрец, вот только в Риме жрецов нет вовсе. Но время терпит. Пока царствует Ромул, тебе нечего бояться.
— Правда, в Риме нет жрецов, даже я заметил. Господин, а почему бы тебе это не исправить? Люди здесь подходящие, с ними легко работать; они честны, добросовестно приносят жертвы, благодарят те силы, которые им помогают. Если они забывают о других, враждебных силах, то лишь по невежеству. А ты, по-моему, умеешь успокаивать эти силы.
— Что толку лезть вперёд, расстраивать моих милых неучей-сограждан? — спокойно ответил Перпена. — Кто будет жрецом? С тех пор, как умер бедный Лукумон, я единственный настоящий этруск в городе. Дети на четверть италики, хоть я и стараюсь, как могу, воспитать из них этрусков. Нет, Рим невероятно богат счастьем, все добрые боги к нему милостивы. Может быть, через много лет его уничтожат подземные боги — если их самих к тому времени не победит другая, более великая сила. Не знаю, почему я говорю всё это греку, который и в подвиги сына Марса не верит, но каждый гадатель знает, что подземные боги не вечны. Придёт день, когда они потеряют силу, и человек останется один на один со Вседержителем. Не завидую нашим потомкам, разве что им будет дарован посредник. Но это случится нескоро, через, много веков.
— Жутковатое будущее, мороз по коже, как представишь: только Бог и человек, а между ними никого... Но мы отвлеклись от моих бед и от Ромула. Думаешь, мне стоит оставаться здесь в надежде, что на мой век царского счастья хватит?
— Макро, Рим — счастливое место. В конце концов, за убийство брата надо как-то расплачиваться. Сейчас ты в безопасности, а там, может, найдётся кто-нибудь, кто смоет с тебя вину.
Размышляя потом об этом разговоре, Макро кое-что понял про патрона. В своём угрюмом спокойствии этруск словно знал, что хорошего в жизни ему не достанется, только сносное, но уж этого сносного решил не упускать. Его погоню за выгодой многие сабиняне с Квиринала считали дикой, да и латиняне говорили, что мужчине не подобает так рваться к богатству. Но Перпена был честен и не стыдился своих занятий — достаточно было взглянуть, с каким неколебимым достоинством он держался. Так же и с госпожой Вибенной, он словно не замечал, что она наполовину италийка. Они говорили по-этрусски, совершали этрусские обряды перед Ларом и пустыми урнами, означавшими предков, как будто она ровня мужу. Перпена знал: лучшей жены ему не будет. Вибенна не любила мужа, ненавидела Рим, но ей доставляла удовольствие мысль, что старшая дочь помолвлена с молодым Эмилием, внук возглавит когда-нибудь самый гордый латинский род.
Патрон был плохим римлянином, не уважал ни города, ни сограждан. Но от блага Рима зависело процветание его семьи, а ради семьи он был готов на всё.
Грек Макро, живя в доме этруска Перпены, так и не ставшего в душе римлянином, смотрел на город как бы со стороны. Ничего хорошего не видел. Ему было непонятно, зачем Рим вообще существует; жители вели себя как крестьяне, им явно было бы приятнее в родных деревнях среди леса.
Никакой городской собственности, которой бы все пользовались — ни бань, ни пиршественных залов, ни садов. Никаких общественных зданий, только странный домишко в долине, куда якобы заглядывает Юпитер Статор. Никаких развлечений, даже благодарственных молитв после сбора винограда, хотя у греков это отличный повод послушать новые песни о героях древности и сатиры на нынешнюю власть. Те обряды, что есть — просто предлог для шутовства и дури, вроде нелепой драки за конскую голову в октябре. Какому богу может такое понравиться? В остальном за весь народ приносил жертвы царь Ромул, словно он — единственный в городе глава семьи, а все подданные — его рабы.
В Риме не было ничего изящного, хотя изящества трудно ждать от италиков. Но если они не хотят создавать прекрасные здания, изысканные вещи или волнующие стихи, стоило ли собираться в кучу? Спрашивать у патрона, зачем основали Рим, было бессмысленно: тот сам оказался здесь потому, что другие города не принимали. Макро знал только одного человека, который пришёл сюда, хотя мог мирно сидеть дома, и стал римлянином, поскольку считал это за честь. Он снова отправился в домик Марка Эмилия.
— Зачем основали Рим? — повторил старик. — На это сложно ответить. По-моему, мы просто шли за Ромул ом и его братом Ремом; когда Рем погиб, я остался с Ромулом, он подавал большие надежды. Хотя, если подумать, это не всё. Основать город на этом месте близнецам велели боги, все сходились на том, что с Капитолия будут править миром. Знамения были яснее ясного — кровавая голова и коршуны. Вот мы и ждём, что ещё прикажут боги.
— Да, но зачем вы остались здесь все? Можно было оставить на Капитолии отряд, а остальным вернуться в Альбу, ведь там настоящий дом для латинянина.
— Альба Лонга — прекрасное место. Я никогда там не жил, но побывал и тебе советую, ты теперь свободен от погони и можешь входить в любой город. В Альбе есть почитаемые святыни, ровесники самого латинского народа. Но это крошечный городок, по сравнению с Римом просто деревня. Знаешь, что решил Латинский союз? Если придётся выставлять объединённое войско, одного полководца назначит Рим, другого остальные города, мы стоим их всех вместе взятых. Похоже, в этом и ответ: Рим был основан, чтобы стать могучим, и сейчас он могуч, так что выполняет своё предназначение.
— Странное предназначение собрать из разных чужеземцев огромное войско. Ну собрали, и что этому войску делать дальше?
— Наслаждаться покоем и диктовать условия врагам. Мы это уже делаем, разве не так? Ты хоть раз в этом городе испугался за свою жизнь? Мы собрались со всех концов света, это правда, но мы отлично ладим. Я доживу свой век спокойно, в собственном доме, и всё имущество перейдёт к сыну — мало где так бывает; не веришь, спроси патрона. Марс повелел своим детям жить в согласии и соблюдать законы, которые они сами составили. Я знаю: вы, молодёжь, хотите войны, но ведь и вам нужно надёжное место, где хранить добычу. Рим даёт нам мир, безопасность и закон, единый для всех — другого такого города нет на свете.
— Звучит очень гордо, и в этом есть своя правда — пока жив царь Ромул. Вот без него начнутся неприятности. Хотя всё равно тридцать шесть лет мира и процветания — это немало, даже если город не переживёт основателя.
Такого предположения старый Марк вынести не мог. Возмущённо фыркнув, он ушёл на кухню.
Но стало похоже, что неприятности начнутся ещё при Ромуле. Царь постоянно что-то делал — для блага Рима, как он объяснял задним числом. Однако в последнее время он всё больше и больше себе позволял, и меры, которыми он добивался этого общего блага, не всегда были по вкусу народу.
На собрания теперь мало кто ходил: прочный мир исключал вопросы внешней политики, а других важных событий просто не успевало произойти. Но Макро не пропускал ни одного. Всё равно ему было некуда девать время, а если вправду, как он подозревал, надвигалась гражданская война, к обстановке стоило присмотреться, чтобы правильно выбрать, к кому примкнуть. К тому же патрон являлся на все собрания, а он без нескольких крепких клиентов никогда не чувствовал себя спокойно в общественном месте.
Настоящего смысла в собраниях давно не осталось. Царь уже не восседал на троне из слоновой кости, теперь он покоился на ложе, словно статуя Юпитера Статора за священной трапезой. Он носил пурпурную мантию из дорогой заморской ткани, какой больше ни у кого нет. Башмаки его стоили не очень много, но так необычно выглядели, что простые граждане не решались подражать царской обуви. Вокруг постоянно толпились наглые, бесцеремонные целеры, готовые расправиться с недовольными; похоже было, что они прячут под одеждой кинжалы, хотя закон велел гражданам являться в собрание безоружными.
Перед собраниями всегда заседал Сенат, но Перпена сетовал, что и тот потерял былую силу.
— У нас теперь только одно преимущество: первыми узнать, что прикажет царь, — говорил он своим людям. — Обычай запрещает выносить вопрос на собрание, не обсудив в Сенате, по крайней мере, когда я стал сенатором, такого не было. А теперь царь рассказывает нам, что он сделал, мы соглашаемся, что это было правильно, передаём народу, и тот тоже одобряет. Никаких споров, все рот раскрыть боятся. Если дело важное, Ромул сначала добивается от нас согласия, а действует всё-таки потом, но на этом наша власть кончается. Он и так отчитывается перед Сенатом из чистой любезности: мы бы не смогли его остановить.
Но скоро царь перешёл и эти границы. Однажды городская гостиница посреди Квиринальского холма оказалась пуста. Десять лет там жили два десятка знатных этрусков из правителей города Вей. Римляне привыкли видеть, как они расхаживают по улицам, свысока наблюдают за обрядами, приглядывают на рынке италийские диковинки. Иногда их снисходительность трудно было вынести, зато они служили напоминанием, что их город побеждён. Пока заложники оставались в Риме, можно было не бояться, что этруски перейдут реку.
И вот они пропали, и никто не знал, куда. На собрании царь небрежно сказал, что этруски попросились обратно и он их отпустил. Хватит осторожничать, Вей уже доказали, что держат условия мира — или гражданам кажется, что десяти лет покорности мало? Дело сделано, теперь народу подобает утвердить решение, принятое для его же пользы.
Один сабинянин попытался возражать. Он влез бы на земляное возвышение, откуда только что говорил с толпой царь, но не смог протолкаться сквозь ряды целеров. Цветная кайма на его плаще обозначала должность сенатора; Макро узнал от соседа, что это Публий Таций, исконный сабинский поселенец.
— Квириты, царь зашёл слишком далеко! — закричал сабинянин с земли, когда понял, что целеры не пропустят его на возвышение. — Речь идёт о безопасности Рима, царь должен был спросить согласия граждан. Но даже если бы безопасности ничто не угрожало, царь не имеет права разбрасываться трофеями, которые совместно добывали все римляне. Может, жители Вей и доказали, что надёжны, хотя меня с детства учили никогда не верить этрускам. Всё равно заложников стоило оставить. Не так часто нам, сабинянам, удаётся одолеть этрусков. Приятно было посмотреть, как эти изнеженные самодовольные знатоки обрядов бродят по городу, потому что боятся нас ослушаться. К счастью, беда поправима. Если они отправились утром, то ещё не успели добраться до дому; пошлём за ними гонца. Пусть они объяснят, что случилось недоразумение — царь забыл, что дела войны и мира решаются только с согласия народа. Народ постановил вернуть заложников, так что им придётся идти обратно. Будем голосовать сразу, государь, или ещё кто-нибудь хочет высказаться?
— Высказываться не о чем, — отрезал Ромул, мрачно поднимаясь со своего полубожественного ложа. — Вы слышали оба мнения. Хочу добавить, что Публий Таций ошибся, когда приписал победу совместным усилиям римлян. Я один собственной рукой сокрушил четырнадцать сотен врагов, пока войско сражалось с остальными. Этот подвиг воспели поэты, о нём знает каждый ребёнок. Голосуйте. Либо вы утвердите моё решение и заручитесь дружбой сильного чужеземного города, либо вернёте ненужный трофей, от которого одни расходы, просто чтобы потешить тщеславие неотёсанных сабинян, которые только под латинским началом не боятся идти на этрусков.
Стоявший перед Макро Перпена негромко присвистнул, словно услышал что-то из ряда вон выходящее и не смог сдержать изумления. Другого отклика не было. Целеры принесли длинные верёвки и отгородили участки для голосования: один загон для тех, кто «за», другой — для тех, кто «против», каждый примерно на сотню граждан. Проголосовавшие уходили в дальний конец площади, но долго ждать не пришлось. На четвёртом подсчёте загон для несогласных был пуст. Царь спросил, не хочет ли ещё кто-нибудь голосовать «против», и объявил, что его решение одобрено.
Первый раз Макро видел настоящее голосование; обычно в знак согласия кричали или поднимали руки. Что ж, считать головы довольно справедливо, хотя, конечно, Ромул при этом увеличивал число своих сторонников за счёт воздержавшихся. И объявлять своё мнение приходилось перед царём, который видит и запоминает несогласных — хотя ему ведь и положено знать, кто из подданных «против». Результат умеренно завышен в его пользу, но если бы «против» оказалось явное большинство, ему пришлось бы уступить.
«Против» голосовали одни сабиняне; они столпились вокруг Публия Тация — это смахивало уже на организованное неповиновение. Но если мнения разделились, лучше, когда народ не затаивает недовольство, а протестует открыто.
Впрочем, спокоен остался один только Макро, привычный к греческой политике с её скандалами и публичными склоками. Остальных раскол подавил и испугал. Каждый второй покидал собрание хмурясь, а Перпена был так возбуждён, что принялся по дороге на Палатин обсуждать положение с клиентами.
— Публий с царём спорили из-за пустого, — сказал он. — Совершенно неважно, оставим мы заложников или отошлём. Публий прав, они всего лишь приятное напоминание. Вей всё равно будут верны, как справедливо заметил Ромул. Нет, спор — ерунда, меня беспокоит речь царя.
— А что в ней особенного? — спросил Макро. Остальные были, похоже, слишком подавлены, чтобы поддержать увлекательную беседу. — По-моему, он говорил дело и угрожал не больше обычного.
— Он добился своего, но совершенно не разбирая средств. Можно подумать, ему неважно, что будет завтра, лишь бы сегодня мы согласились. Притворяется, что все разумные люди должны быть «за», а его противники — незначительное меньшинство. Сейчас между делом он дал понять, что считает Публия Тация вождём сабинян и подавит их с помощью своих латинских сторонников. Дело пахнет гражданской войной, и тогда Риму конец. Пока что мы не уступаем всему Латинскому союзу, но что будет, когда целеры вырежут лучших воинов? Нынешнее собрание — тревожный знак. За Публием не пошли бы почти триста человек, если бы царь не оскорбил весь сабинский народ. Но хуже другое: Ромул уже не может здраво рассуждать. Похоже, если каждый вечер за вином слушать, как тебя воспевают поэты, начнёшь верить их вздору. Он заявил совершенно серьёзно, что может менять условия мира, не спросясь собрания, потому что победил Вей один. Действительно, песни о его подвигах знает каждый ребёнок, но даже дети в них верят не больше, чем в то, что сорока кашу варила. Мы все понимаем, что это ложь или по крайней мере грубая лесть — все, кроме Ромула. Если он верит поэтам, то скоро возомнит себя богом. Я считаю, дни его сочтены. Пора думать, что будет дальше.
— А что будет дальше, патрон? У него есть наследники? Сыновей, насколько я понимаю, нет.
— Он женился на этой дуре Герсилии за красивое личико, а она родила всего двоих детей. После её смерти он так и не удосужился жениться снова. Что за безответственность! Никакой заботы о будущем! Сын Авелий умер от болезни; не скажешь даже, что это была месть богов, хоть так и говорил кое-кто из старых воинов Рема. Просто лето стояло жаркое, мальчишка покрылся прыщами и умер, как многие другие. Дочь жива, но она не в счёт. Прима всегда была слегка тронута рассудком, она принялась служить богам и, как все латиняне, потеряла меру. Вбила себе в голову, что цель её жизни — следить, чтобы в старом царском доме не погас счастливый огонь. А чтобы не отвлекаться, дала обет безбрачия. Теперь у неё уже, наверно, детей быть не может. Надо было выдать её за кого-нибудь знатного, подающего надежды; у латинян зять наследует даже чаще, чем сын — это, видите ли, более счастливо, более естественно или ещё что-то подобное. А так преемника нет. Видимо, Ромул уверил себя, что сын Марса никогда не умрёт. Ошибается. Он умрёт, и очень скоро, на следующем же собрании, если не начнёт вести себя разумно. Оскорблять сабинян! Напускать своих нахалов на Публия Тация — да Публий глотки резал, когда их ещё на свете не было! Видно, в пурпурной мантии царь себе кажется богом Марсом; так нет же. Он не бог, а человек, как мы — и мы ему покажем.
Запыхавшись от долгой речи, Перпена замолчал и до самого дома только пару раз фыркнул.
Всю осень не прекращались стычки молодых сабинян, сторонников Публия Тация, с целерами. Обязанность целеров — не наказывать преступников, а брать их под стражу, и в священных стенах города они должны были ходить безоружными. Но все знали, что у них под плащами кинжалы; целеры могли схватить любого, кого царь захочет отправить под суд, ведь их триста, все молодые и сильные. Теперь сабинские юноши, тоже не одна сотня, начали то и дело отбивать жертву.
Чтобы наказать преступника, его надо осудить в собрании. Заочно судить человека нельзя, а обычай запрещает связывать и заковывать в кандалы гражданина, пока его не признали виновным. Поэтому чтобы избежать суда, достаточно прятаться где-нибудь на время собраний. Раньше никто так не делал, целеры не оставили бы подозреваемого в покое, и он либо согласился бы предстать перед судом, либо добровольно исчез бы из Рима. Теперь для всех, кого преследовали целеры, нашлась надёжная защита.
Едва среди граждан возникает насилие, а уважение к собственности пропадает, городу конец. Для Макро это было прописной истиной, так что он первым заметил опасность, но скоро дошло и до неотёсанных италиков. К счастью, беда назревала медленно. Преступлений в Риме всегда было мало, ворам и убийцам переселяться в город незачем, они живут в своё удовольствие в лесу. Но теперь стало пропадать ценное оружие и инструменты, и нашли зарезанным ревнивого мужа; подозреваемый как ни в чём не бывало расхаживал по улицам и сразу после похорон женился на вдове. И ничего было не сделать, разве что родне убитого начинать кровную месть и вносить в город ещё больший раздор.
— Священная стена не работает, — заметил Макро, когда патрон упомянул об этой истории. — Ведь она не должна пропускать внутрь раздор. Может, царское колдовство за тридцать лет ослабело? Не пропахать ли ему борозду заново?
— Дело не в борозде. Я слышал от стариков, как её проводили, всё было сделано правильно. Настоящий этруск не мог бы лучше исполнить обряд.
— Зато первым вошёл братоубийца.
— Вот именно, и мы это слишком легко забыли. Уже почти никто не помнит Ромула простым смертным, большинству кажется, что при основании города было какое-то особо впечатляющее человеческое жертвоприношение. В известном смысле пролитая кровь укрепляет стену, это ясно любому гадателю. Но Рим стоит на вражде и убийстве, так что вражда и убийство его не покинут. До сих пор город поддерживало только царское счастье. Я тщательно изучал знамения, но не могу понять, что с нами станет без него.
— Скажи, патрон, а что будешь делать ты, когда царь умрёт? — напрямик спросил Макро. — В кузнице я не отрабатываю еду, так что, надо полагать, ты держишь меня как наёмника. Собираешь воинов, чтобы стать следующим царём? Тогда набери больше и посвяти нас в свои замыслы; я одинок, свободен и пойду за тебя на любых врагов, но остальных, скорее всего, придётся подготовить, чтобы они согласились воевать с согражданами.
— Не надейся стать приспешником могучего тирана. Я не хочу быть римским царём. Для нищего беглеца я и так неплохо устроился; мне хочется основать знатный род, для этого надо удержать богатство — вот зачем наёмники. Пусть сыновья останутся богатыми. Но править Римом моя семья недостойна: я последний настоящий этруск, у мальчиков бабка италийка. Довольно с них земли и слуг. А что до меня, лучше быть простым воином, чем править этим буйным, беспокойным народом. В Риме хорошо быть богатым, но царствовать в таком диком, отсталом месте не стоит труда.
— Да, в Риме сносно — и только, — уныло согласился Макро. — Я больше всего на свете мечтал стать всадником, а тут они все из крестьян-италиков. Римским всадником мне не бывать. Зато можно не бояться погони, есть горячая еда, крыша над головой — чего ещё нужно? Когда начнётся война, я стану сражаться за Рим.
— Может, у тебя ещё будет не просто крыша над головой, а собственный дом, если мои дела пойдут удачно. Жалко, что у нас до сих пор не хватает женщин, но найдём тебе где-нибудь и жену. Прежде чем заводить семью, тебе надо ещё будет очиститься от злосчастного прошлого; в старые времена я мог бы и сам совершить этот обряд, у нас богам служили, как положено. А тут одни невежественные дикари, не удастся проделать всё по правилам. То, что для тебя сделал Ромул, вряд ли его переживёт, а знамения гласят, что ему осталось жить недолго. Ладно, не будем заглядывать далеко. Пока что нас приютил Рим; придёт беда, выкрутимся или поищем другое пристанище.
Зимой Макро одолела скука. Можно понять прелесть простой крестьянской жизни с размеренной чередой священных праздников, а по существу просто гуляний. Но в городской тесноте римляне не могли справиться с собственным убожеством. Бревенчатые дома смотрелись бы к месту среди полей, увитые плющом; здесь они превратились в унылый ряд коробок. На Палатине негде было просто собраться и поболтать, только сабиняне на Квиринале, как родичи, иногда заходили друг к другу от безделья. В долине, где когда-то процветал пресловутый Азил, теперь расположился трактир для путников, но еда и вино там были отвратительные, цены грабительские, а посетители — в основном разбойники на отдыхе. Когда ненастье не пускает в поле, истинный римлянин сидит дома, а если и выбирается в гости, то не к равному, а к патрону засвидетельствовать почтение.
Никто в городе, кроме Макро, за всю жизнь не бывал на корабле. Берег возле устья реки принадлежал Риму со времён победы над этрусками, там выпаривали морскую воду и добывали соль. Одно время солеварнями ведал Перпена. Римляне съедали изрядное количество рыбы, поэтому в свободное время рабочие и воины тамошнего гарнизона рыбачили с маленьких лодочек. Но ни у кого не хватило любопытства и сил построить настоящий корабль, который доплыл бы до заморских стран. Это в римлянах говорил италийский пахарь. Этруски кое-где начинали робко выбираться в море, подражая греческим кораблям, как всему греческому, но италики накрепко приросли к суше.
Были в Риме люди, которые повидали всю Италию, но Италия — скучная страна. Посередине на холмах воины строят деревни и растят ячмень. На севере живут этруски в каменных посёлках, почти городах, разве что управляют ими маленькие советы знати. Ещё севернее всю равнину у подножия высоких гор опустошают дикие кельты, которые украшают шлемы бычьими рогами в знак того, что сами не лучше скотов. На юге ещё хуже, там обитают совсем отсталые племена, и единственное их достоинство — что они не умеют сражаться строем. Металл у них редкость, и они ковыряются в своих жалких огородах каменными мотыгами.
Единственный на всю страну настоящий город — Кумы, первая греческая колония, а Макро и его считал глубинкой, глухим болотом. Ведь однажды он пересёк море и побывал в Дориде, на родине предков. Там он слышал об огромных восточных царствах, где могучие владыки правят с золотых тронов и тысячи мастеров возводят громады из обтёсанного, полированного камня. В Аргосе он знавал человека, который видел Сарды.
А здесь с благоговением говорят о домике для Юпитера Статора — великое дело построить для бога четыре стены и крышу, вместо того, чтобы оставлять его в святилище под открытым небом, на голой траве.
Но лучше убежища не найти, оставалось приспособиться и устроиться поудобнее. Про себя Макро был невысокого мнения об уме патрона: Перпена носился со своей жалкой варварской родословной и не мог найти занятия лучше, чем угождать богам. Но это даже лучше для клиента, которому боги так жестоко мстили. К тому же, этруску было легко польстить, достаточно слушать с вниманием его зловещие пророчества.
С неизбежностью холостой жизни Макро смирился. Он видел красивых мальчиков, но держался от них подальше: в Риме такие вещи запрещены под страхом смерти — как и во многих других городах, здесь закон действовал. А насчёт жены или даже рабыни не могло быть и речи, потому что в городе не хватало женщин. Все девочки были просватаны с колыбели, это был величайший подарок, какой может сделать отец сыну лучшего друга. Среди целеров и прочего сброда поговаривали, что если к римлянину с умом подступиться, он одолжит жену на пару ночей; это рассказывают о разных народах, но Макро ни разу не слышал, чтобы такой случай был на самом деле. А чтобы купить наложницу, нужна уйма серебра, столько ему не скопить до глубокой старости.
Тревожило его и другое. Лицо брата не тускнело и не стиралось из памяти, а снилось всё отчётливее. Вина всё ещё лежала на нём, хотя Ромул и сбил погоню со следа.
Потом в конце весны настал день, когда едва не вспыхнула гражданская война. На рассвете раздался топот — по улицам бежали триста царских целеров в доспехах, с мечами и щитами, словно никто не проводил вокруг города священной борозды. Вооружённые целеры выхватили прямо из постелей пятьдесят молодых сабинян и потащили с Квиринальского холма по крутой тропе на Капитолий. Там у алтаря Юпитера, Небесного отца, царь Ромул приносил в жертву козла (несмотря на процветание, Рим всё-таки не мог резать триста шестьдесят пять быков в год). Царь завершил обряд, потому что начатое священнодействие нельзя прерывать, и приказал сбросить пленников со скалы, которую по имени изменницы называют Тарпейской. Через пару минут всё было исполнено, и царь не спеша спустился посмотреть на изуродованные трупы.
Сабиняне толпой валили с Квиринала, все с мечами, а кое-кто и в доспехах. Жители Палатина приходили без оружия, потому что убитые не были им роднёй, но тоже кипели от возбуждения, одни ликовали, что латиняне побеждают, другие оплакивали свободу. И все спешили на площадь, где ждал царь.
Ромул был всё ещё в жреческом облачении, на лбу священная повязка, на ногах диковинные, приносящие счастье башмаки, конец длинного пурпурного плаща покрывал голову. В руке он сжимал резной посох авгура, хотя в постоянном святилище незачем размечать стороны неба. С головы до пят он был жрецом, правда, по обыкновению дразнил богов коротким железным мечом у пояса.
Вокруг царя стояли вооружённые целеры. Сабиняне замешкались, не решаясь начать битву на священной земле, на том самом месте, где когда-то отцы мстили за поруганных женщин. Но они были готовы развязать гражданскую войну и погубить Рим.
Их остановил царь Ромул — Ромул, любимый сын Марса, Ромул, основатель города, наследник праотца Энея, привёзшего в Италию святыни Трои и Самофракии. Помог и посох, и священная повязка; но главное — слава Ромула Счастливого, который знает волю богов. Неподвижно стоял он на возвышении и с покрытой головой молился о благе Рима, пока наконец последние крикливые воины не опустили оружие и не замолкли.
Тогда Ромул заговорил. Да, он нарушил закон и обычай города. Он убил без суда пятьдесят граждан. Но он сделал это, чтобы спасти Рим — в этом и состоит должность царя, ради города он вынужден брать на себя даже тяжесть преступления. Много лет назад он принял на себя вопиющую вину, убил брата. И поскольку он не дрогнул, стены города стоят и их не переступали воины врага. Он никогда не уклонялся от своего долга, и вот долг велел покончить с этими высокородными мерзавцами. Когда-то отцы этих злодеев убили послов священного Лавиния, что грозило городу страшной войной и ещё более страшной скверной. А теперь сыновья стали подрывать законы, выступали против честных целеров, которые эти законы охраняют. Нужно было показать пример, и царь из милости к подданным принял всю вину на себя. Пятьдесят негодяев мертвы, но пусть никто не боится кровной мести. Царь один совершил убийство, пусть его судит народ... Он рад, что законопослушные римляне в часы несчастья приходят на собрание, чтобы спокойно всё обсудить. Пусть голосуют сейчас же. Если решат, что он был прав, эта история будет забыта, если не прав — он уйдёт и оставит сабинян править Римом. Пусть никто не боится, он подчинится приговору своих верных воинов. Чтобы избегнуть гражданской войны, он сразу уйдёт в изгнание, ничего с собой не взяв, и ночевать будет один под кустом.
Речь понравилась, особенно потому, что царь давно уже не пробовал убеждать подданных. Он не трудился уговаривать, когда можно было приказать, и в собрании просто объявлял, что римлянам делать. Большинство слушателей забыли, как красиво он умеет говорить, когда захочет. Едва царь закончил, раздались одобрительные возгласы, и собрание утвердило его поступок, не голосуя.
Других дел не было; едва граждане выразили согласие, царь распустил их, закрыв собрание обычной фразой. Народ побрёл с площади — это не место обсуждать внезапную страшную смерть пятидесяти сограждан.
Клиенты толпой проводили Перпену и слонялись по залу, не решаясь уйти; вдруг патрон захочет что-нибудь объявить. Утреннее собрание перевернуло весь распорядок дня. Надо ли отдыхать или идти как ни в чём не бывало в поле? Но общественная жизнь ещё не затихла. К хозяину пришло несколько сабинских сенаторов, потом Перпена появился из внутренних комнат и обратился к клиентам:
— Сегодня работы не будет, это знак не радости, а скорби. Пятьдесят наших сограждан лежат непогребёнными. Вечером большие похороны. Согласно сабинским обычаям, покойников не сожгут, а закопают в землю, но даже если это кому-то покажется странным, я бы хотел, чтобы все мои клиенты пришли.
В долине сабиняне весь день рыли длинную вереницу могил. Пятьдесят чёрных свиней были освящены для жертвоприношения, огромные бочки лучшего вина выставлены для возлияний, самые ценные мечи собраны, чтобы положить в могилы. Весь Квиринал объединился против царя Ромула, а на поминальный пир пришло и больше половины жителей Палатина. Только царь со своими целерами сидел за палисадом, словно ничего не случилось.
Глава 13. СЕНАТ И ЦАРЬ
Лето перевалило за середину, настали самые жаркие дни. Макро почти всё время проводил в кузнице — как ни странно, там было прохладнее, чем в поле. Рабы, которые качали меха, каждый день неизменно теряли сознание, но Макро не подходил к раскалённому горну. В тени под навесом он маленьким молоточком чеканил узоры на бронзовых панцирях, иногда украшал и налобные пластинки для шлемов. Раньше он никогда не занимался чеканкой, но представлял, как должен выглядеть рельеф, и умел правильно нарисовать человека или бога, не то что дикие италики да этруски. В кузнице его всегда ждала работа, и никто не торопил. День за днём в палящий зной он просиживал в тени и при этом честно отрабатывал хлеб, который ел в доме патрона.
Все, кому это было по средствам, хотели, чтобы спереди на шлеме у них красовалась волчья морда — ведь они сражаются в войске волчицы. Сперва Макро ворчал, ему было скучно без конца повторять один и тот же полюбившийся согражданам рисунок, потом он заметил, что все зубастые морды получаются разными — то свирепая, то колдовская, то оберегающая. Молоточек словно жил сам по себе. Уж не боги ли направляют его руку, отражая в узоре судьбу воина, который наденет шлем?
Это была приятная игра воображения. Последняя морда вышла явно скорбной, не иначе, в следующей битве заказчик погибнет... «Копьё убивает, если не закрыться щитом, — пробормотал Макро. — Если отобьёшь удар, останешься цел. Если защищаешься, никакой бог тебя не убьёт, а если нет — не спасёт. Сражается человек с человеком, боги не вмешиваются».
Какой вздор, он же грек. Знает, что два и два — четыре, что все люди смертны, что огонь идёт вверх, а вода вниз, и всё равно фантазирует невесть о чём, словно слепой арфист на свадьбе. Должно быть, такой здесь воздух, в этом варварском италийском городе, который стоит только потому, что жители верят, будто он счастливый. Немудрено, что римляне всё время твердят о счастье и несчастье и живут по знамениям — они ведь и поселились в этом изгибе реки из-за того, что кто-то якобы выкопал на Капитолии окровавленную голову!
В воздухе и впрямь носились суеверные предчувствия. Город был расколот, почти на грани войны, но не слышалось ни возмущений, ни угроз, даже в собрании никто не защищал своих. Все ждали знамения, которое снимет гнёт, ждали приговора свыше.
Марк Эмилий, низкорослый, с усталым морщинистым лицом, кривыми от ходьбы за плугом ногами, никак не годился в провидцы, самый что ни на есть обычный пахарь, не привыкший витать в облаках. Но даже он, принеся как-то душным полднем в кузницу сломанный серп, заговорил с Макро, словно закоренелый толкователь знамений.
— Дурные настали времена, других таких в Риме не припомню, — уныло сказал он. — Собирается гроза, вот-вот разразится что-то ужасное: небо час от часу чернее.
Макро с недоумением взглянул вверх, где в ослепительной синеве пылало солнце.
— Да не это небо, а то, где живёт Небесный отец, наш Юпитер, ваш Зевс; там нависли тучи. Говорят, сегодня у жертвенных овец печень была вообще не похожа на печень. А у реки очень странно пищала цапля.
— Разве цапли пищат? Ты, наверно, слышал водяную крысу. Вот если бы крысы замолчали, это было бы знамение. А вчера мы ужинали не иначе как одной из твоих зловещих овец — старушка, похоже, страдала печенью последние пять лет своей долгой жизни. Марк, жара и южный ветер всех измотали, но ты ведь не думаешь, что от этого случится что-нибудь страшное? Даже если кругом знамения, почему они предвещают беду именно Риму? В Веях и в Альбе тоже жарко. Неужели наше захолустье — такая важность, что ради нас Небесный отец станет собирать все свои тучи?
— Разумеется. Когда Рим был основан, знамения обещали нашим детям власть над Италией, и царь у нас — любимый сын Марса. Так что мы самые главные служители богов, и когда Небесный отец меняет погоду, он думает о нас.
Марк схватил починенный серп и сердито вышел из кузницы.
Да, все так и считали, даже воины совсем без воображения. Боги заняты только судьбами Рима, а значит, и римляне должны думать только об одном божественном. Здравомыслящий грек, который приносит время от времени жертвы, чтобы высшие силы его не трогали, не мог разделять эти заблуждения.
Перпена вёл себя немного иначе. Он пытался узнать будущее, особенно волю богов, более истово, чем подобает разумному человеку, но судьба города его не слишком занимала. Казалось, он старается откупиться, чтобы несчастье, которое, как он ожидал, скоро обрушится на Рим, не задело его. В задних комнатах своего большого дома он в одиночестве совершал этрусские обряды.
В вопросах веры все искали его совета, даже царь попросил разрешить затруднения с очагом. Царский очаг был посвящён Весте, богине, которая следит, чтобы солнце восходило и заходило, и среди суеверных людей прошёл слух, что если ночью огонь погаснет, утра не будет. За огнём требовалось постоянно следить, и у бедной госпожи Примы, единственной царской дочери, уходило на это всё время.
Макро говорил себе, что эти варвары выдумывают трудности от безделья и сытой жизни. Он подозревал, что и царь того же мнения, а половина пышных обрядов устраивается, только чтобы успокоить толпу. Насколько в весь этот вздор верил Перпена, Макро не мог понять.
В любом случае, римляне так ждали божественного вмешательства, что чудес было не избежать: если небеса останутся безучастны, сработают напряжение и беспокойство. По-старому больше идти не могло, после казни пятидесяти молодых сабинян стало слишком много недовольных. Макро попробовал осторожно разузнать, как живётся в этрусских городах за рекой и не лучше ли отправиться дальше. Но то, что он выяснил, не обнадёживало. Похоже, лучше Рима жилища не найти. Этрусская знать не даст греку полного гражданства, а искусных ремесленников там столько, что его любительской чеканкой не прокормиться.
Потом, оставалась его вина — вдруг погоня ещё рыщет по следу? В Риме бояться было нечего, но только под защитой Ромула. Дружба царя с богом Марсом держала преследователей на расстоянии, однако братоубийца не может очистить от такого же преступления. Поэтому вставал неприятный вопрос: что будет, когда Ромул умрёт?
У Макро не было дома, не было надежд на богатство. Не было жены, и едва ли будет, настолько здесь мало женщин. Никакой надежды выдвинуться; похоже, всю жизнь придётся служить жалким наёмником у загадочного чужеземца. Оставалось поменьше думать о будущем, а искать утешения в маленьких радостях сегодняшнего дня.
Царя беспокоили настроения в городе, и он начал устраивать заседания Сената в особо священных местах. Перпена с усмешкой рассказывал клиентам, что на этих заседаниях сенаторы-латиняне спорят между собой, какими бы новыми обрядами отвести немилость богов; сабиняне молчат, они теперь ненавидят царя; молчат и луцеры, понимая, что латинян без толку учить настоящим священнодействиям.
— Не знаю, может, Ромул и правда сын Марса, — говорил Перпена, — Марс на всё способен. Дал же он этим нелепым римлянам победу. Но даже если царь — сын бога, сам он не бог, до такого ещё не додумался ни один болван, так что на заседаниях только зря тратят время. Он смертен и в один прекрасный день умрёт. Я думаю, что этот день уже близок.
Макро удивлялся, почему все так боятся за жизнь царя? Ромул был, конечно, немолод, но отличался отменным здоровьем, и он не мог понять, зачем гадатели и мудрецы придумывают обряды для продления его дней.
Один из этих обрядов устроили за городом, на берегу небольшой речушки, в месте, известном как Козье болото. Выбрали благоприятный день, девятый после полнолуния, в самый разгар жары. Всем гражданам велено было непременно явиться, тем более, что день и так праздничный. Ромул должен был принести в жертву быка, а Сенат, стоя вокруг в полном составе, просить у богов процветания для царя. После знати свою долю благих пожеланий полагалось внести простому народу, а целерам — проследить, чтобы присутствовали все свободные воины. Так нелюбимый царь получал молитвы всех подданных, разве что кто-нибудь открыто воспротивится его приказу.
Макро и так пришёл бы, ему было любопытно посмотреть на типично латинский обряд. Перпена тоже поддержал царскую волю и велел всем клиентам присутствовать. Накануне он угощал их в зале, но сам остался в маленьком святилище во дворе, постился, окуривался благовонным дымом и просил о помощи всех божеств, каких только может призвать учёный и набожный этруск. Это было ещё более странно: знамения предвещали опасность царю, но не было никакого намёка на угрозу сенаторам из трибы луцеров.
В назначенное время римляне торжественно прошествовали к пересохшему болоту. Шествие получилось длинным, за тридцать семь лет город изрядно разросся. Все шли без оружия, в длинных белых плащах, которые теперь утвердили как парадную одежду римского гражданина. Но нельзя было обойтись и без знаков различия — у сенаторов особые башмаки и пурпурная кайма на плащах, у знатных молодых всадников, которые идут следом, перстни. В толпе простолюдинов отцы семейств и ветераны великих сражений шагали перед теми, кто получил гражданство недавно. Толпа была построена так чётко по сословиям, что Перпена оказался далеко впереди своих людей, где едва ли мог рассчитывать на их помощь. Он так настаивал, чтобы клиенты были готовы ко всему, что явно ждал беспорядков — но не во время шествия.
На болоте царские пастухи держали белого быка. Однако рабы к священнодействию не допускались; они отступили, и на их место встали три видных сенатора, по одному от трибы. Публий Таций представлял сабинян, Перпена — луцеров. От латинян был Юлий Прокул, плохой воин, зато потомок легендарного Энея, а значит, родня Ромулу; он видел основание Рима, но за последние тридцать семь лет ничем не отличился. Лишний знак, что латиняне ценят происхождение выше заслуг.
Граждан выстроили вокруг алтаря по разрядам: в середине сенаторы, дальше всадники и все остальные. Макро мало что мог разглядеть поверх голов, но с первых рядов передавали, что обряд задерживается из-за быка. Тот вёл себя отвратительно и портил всё дело, никак не хотел вытянуть шею и опустить голову на алтарь, даже когда перед ним разложили вкусные лепёшки.
Было томительно жарко, но солнце всё-таки не било в глаза, с утра небо заволокло, и сейчас, к полудню, нависли тучи. Собиралась гроза. Если молния сверкает раньше, чем убьют быка, это к несчастью и обряд придётся отложить, а если наоборот — знак, что боги благодарят за жертву. Тем более важно было успокоить глупую скотину.
Макро тянулся на цыпочках. Наконец блеснул бронзовый топор, послышались удар и рёв быка. Все вздохнули с облегчением: жертвоприношение прошло раньше грозы, с молитвами можно было не торопиться.
И тут случилось нечто неожиданное. Пока в гуще толпы правители вскрывали быка, чтобы взглянуть на его печень, с берега потянулся туман. Туманы в Риме были редки, да ещё в полдень, но Макро не увидел в плотной белой пелене ничего сверхъестественного. Он знал, что это вода, которую поднимает солнечный жар; обмелевшая речка была рядом, а солнце, хотя и за тучами, светило вовсю.
Соседям дело представилось иначе. Туман поднялся как раз тогда, когда царь собирался читать знамения — страшный знак гнева богов. «Бежим, пока не ударила молния! — в ужасе завопил кто-то. — Нас защитит Юпитер Статор, спасайтесь в его святилище!»
Святилище с кирпичным домом для бога посередине было всего в полумиле от Козьего болота. Один римлянин помчался в долину, следом другой, и вот уже все заторопились вдоль реки. Макро поспешил с толпой, хотя и не боялся. Кто ушёл от Старух, того нелегко напугать дурными знамениями; обернувшись, он заметил, что сенаторы стоят тесным кольцом вокруг алтаря. Раз эти северные люди не бегут от самого опасного места, угроза не слишком велика. Однако новому гражданину не стоит идти вразрез с большинством; Макро совсем не хотел на всю жизнь прослыть неверующим чудаком.
Подул ветерок. Туман исчез, тучи тоже рассеялись, и вот уже солнце засияло в ясной, густой синеве. Лениво подали голос птицы, заискрилась речка, над Капитолием мелькнули пёстрыми крыльями две сороки. Если смотреть из святилищ, они летели направо, а две сороки сразу в любой части неба — хороший знак. Народ воспрянул духом, и самые смелые стали возвращаться.
Макро пришёл одним из первых. Удивительное дело: сенаторы по-прежнему стояли вокруг алтаря. Поистине, царь удачно выбрал советников, ни один не поддался северному страху, когда чернь разбежалась. И совсем странно, что с начала обряда никто не двинулся с места. Ни один не захотел размять ноги, не говоря уже о том, чтобы пойти ободрить перепуганный народ. Чем же они были заняты, пока простолюдины прятались от гнева небес?
Завидев граждан, сенаторы расступились. Взглядам толпы предстал грубый алтарь из камней, туша быка, сваленные кучей орудия жертвоприношения. Но царя, который должен показывать народу печень и оглашать знамения, не было.
Римляне остановились. Даже если обряд закончен, невежливо уходить, не простившись с царём. Где же он? Неужели улизнул тайком и не распустил верных подданных? Ромул любил почести, и не в его привычках было уходить с торжества незаметно.
Затем вперёд вышли представители триб. Говорил Юлий Прокул, но Перпена и Публий стояли у него за плечами, ища взглядом своих людей среди сабинян и луцеров. Отрывисто, словно заклинание, Юлий произнёс:
— Квириты, боги призвали нашего царя. Туман окутал его, и он исчез. Теперь он с Небесным отцом. Спокойно расходитесь и не оплакивайте его. Он жив и никогда не умрёт. Сенат проследит за безопасностью города, пока не придёт время созвать Народное собрание. Там мы определим форму правления. А пока идите с миром поодиночке, идите домой.
Потрясённые римляне молчали. Покорно, ничего не говоря, они по одному, по двое побрели по домам. Макро отправился в большой дом патрона; когда Перпена вошёл, он ждал на террасе.
— Ну что, грек, в наших знамениях всё-таки есть смысл? Печень, полёты птиц, всё предсказывало, что с Ромулом что-то случится, и вот оно случилось. Теперь слушай внимательно, я дам тебе много поручений. Сначала соберёшь всех моих клиентов и даже крепких рабов. Если соседи попросят защиты, пусть присоединяются. Каждому выбери меч и проследи, чтобы не снимали. Закон запрещает носить оружие в стенах города, так что пусть сунут мечи под одежду, но не надо прятать их слишком старательно — не беда, если люди увидят, что мы наготове. Когда всех соберёшь, отсчитай каждому по щиту и сложи в зале за дверью. Не раздавай их, пока не начнётся драка, иначе это будет совсем против закона. Но пусть щиты лежат под рукой, и чтобы люди знали, где. Скоро я выйду и дам указания поточнее, но сейчас у меня под плащом нечто — нечто очень священное, что надо убрать в надёжное место, пока оно не наделало бед.
Перпена накинул на голову край плаща, словно собирался общаться с богами, прошагал через зал, втиснулся в нишу с домашними святынями и затворил двери. Обычно они стояли настежь, а если закрыть, внутри как раз помещался человек. Макро услышал, как патрон выкрикнул заклинание по-этрусски, потом некоторое время было тихо, наконец он появился бледный и потрясённый, словно увидел что-то опасное.
Дверцы он оставил открытыми, и вещи на полках теперь были расставлены по-другому. На самом почётном месте появилась небольшая урна, старательно замазанная свежей глиной. На ней не было никаких рисунков, даже круга, каким обозначают лицо, которое не полагается изображать. Урна заключала что-то совершенно безымянное и очень могущественное.
— Пока что я его запер, — тихо пробормотал Перпена. — Если правы мои учителя, он никуда не денется. Да и место почётное, он должен остаться доволен. Хотя вдруг простые заклятья над ним не властны? Эй, люди, если кто сегодня увидит необычный сон, сразу дайте мне знать. Надо пойти вымыться, — продолжал он уже обычным голосом. — Не знаю, осквернён я прикосновением к трупу или, наоборот, держал нечто слишком священное для смертных рук. Но в любом случае от этого нужно очиститься.
Вибенна, по обыкновению хмурая и молчаливая, подошла и без слов повела мужа в баню за кухней.
Позже, за ужином, Перпена снова обратился к клиентам. После нескольких чаш крепкого вина он заметно воспрянул духом, то же средство подбодрило и его домашних.
— Я, — сказал он почти весело, — благодарю, что вы пришли защищать этот славный дом; но как видно, ваша помощь не понадобится. Этой ночью в Риме нет правителя, и я ждал погромов, а то и открытой гражданской войны, но наши сограждане, похоже, решили жить в мире. На следующем Народном собрании мы договоримся, как быть дальше. Сегодня надо запереть двери, вы будете по очереди сторожить, а наутро, если ничего не произойдёт, можете идти по домам.
— А что же случилось на самом деле? — спросил кто-то. — Мы знаем только, что царя Ромула не могут найти.
— Больше ничего неизвестно. Я был рядом, представлял нашу трибу на жертвоприношении. Спустился густой туман, а когда он рассеялся, царя не было. Мы все знаем, что знамения предвещали его конец — и вот он исчез. Не умер: нет и следов тела; я думаю, его забрал бог. Может, он ещё вернётся, а может, нет, но если мы хотим сохранить Рим, надо придумать формулу правления. Этим займётся Народное собрание.
— А зачем сохранять Рим? Что в нём хорошего, кроме войска? Сабиняне его ненавидят. Даже латиняне и луцеры не станут слишком жалеть, — сказал Макро шёпотом, выжидая, не поддержат ли соседи.
Но остальные, похоже, оказались верными римлянами, и в ответ на речь патрона послышались только замечания о счастье города. Макро ничего не добавил и тихонько пересел на другое место, чтобы не узнали, кто говорил.
Стоя в ту ночь на страже, он ломал голову, что же всё-таки случилось с Ромулом? Знамения, конечно, были, и доверять им мудро, по крайней мере в общественных делах. Но ничто не предвещало, что царь живым вознесётся на небо. Когда он исчез, гадатели растерялись не меньше прочих. Неужели правда вмешались боги?
Боги есть, они живут в небесах и под землёй. В этом Макро не сомневался, ведь подземные божества гнались за ним от Кум до самого Рима. Но разве хоть один человек был взят на небо живым? Рассказывают, что в древности это случилось, но Геракл, Ганимед — такие славные герои с самого начала были не простыми смертными. Трудно поверить, чтобы Ромул вознёсся, даже если он действительно сын Марса. А то, что его отец — Марс, известно только от матери, Реи Сильвии. Это Макро выяснил в первые же свои дни в Риме. Да, она убедила в этом жителей Альбы, но ведь они недолюбливали своего злодея-царя и, наверно, рады были поверить во что угодно, лишь бы не казнить знатную, всеми уважаемую жрицу.
Облако, в котором исчез царь, было обычным речным туманом, Макро помнил его вкус на губах. Ромул мог бежать под его прикрытием, в несколько шагов оказаться у реки и спрятаться в почти пересохшем русле. Но зачем? Очевидно же, что ему нравилось царствовать.
Рядом стоял Публий Таций, его заклятый враг. Если бы он убил царя, Перпена промолчал бы — патрон честолюбив, верен городу, но к Ромулу не питал никаких особых чувств. Представитель третьей трибы, ничтожество Юлий Прокул, поступил бы как ему скажут. Таций вполне мог убить царя; но где же тело? Убийство — это кровь, кровь, которая растекается по земле и взывает к подземным богам о мести. Макро знал это лучше всех в Риме. Если бы убийцы скинули тело в речку, всё равно на земле остался бы след.
И вдруг он понял всё так ясно, что едва не упал. Убийство было. Остались лужи крови. Граждане видели эту кровь, её никто и не пытался спрятать. Алтарь был весь залит кровью быка, скользкой кучей лежали вырезанные в поисках печени внутренности, комья жира с окороков, которые собирались сжечь в жертву Небесному отцу. Кровь царя смешалась с кровью быка, и никто ничего не заметил. Вероятно, среди кусков мяса лежали части царской плоти.
Да, так всё и было. Тело не рискнули бы оставить под низким берегом, там его некуда спрятать и каждую минуту кто-нибудь может увидеть. Макро знал теперь, что случилось на Козьем болоте и что какую-то часть тела царя принёс патрон в гладкой глиняной урне. Он беспокойно покосился на нишу с Ларами в глубине зала и с облегчением увидел, что дверцы закрыты.
Глава 14. МЕЖДУЦАРСТВИЕ
Настало время утренней жертвы, но принести её без царя было некому. Однако заведённый порядок, который не был нарушен ни разу за тридцать семь лет, держался. Десять целеров, дежурство которых приходилось на этот день месяца, привели к алтарю быка и встали в ожидании приказа Сената. Сенаторов собралось много, за последнюю беспокойную ночь у всех было время подумать о сложностях, которыми их встретит день. Они стояли и ждали, не отдаст ли кто-нибудь распоряжения; наконец Перпена понял, что вся их надежда на него, поскольку он и обряды знает, и на власть не претендует.
На миг им овладело искушение — просто выйти вперёд и объявить: «Рим был городом Ромула и стоял на его счастье. Земная жизнь славного сына Марса закончилась; пусть же закончится и жизнь его города. Сегодня жертвоприношения не будет, ибо больше не будет Рима». Скажи он так, большинство сабинян и латинян разойдутся, а луцеры вроде него найдут другое пристанище. В летописях Этрурии его запомнят как политика, который прекратил опасный опыт — попытку полудикого сброда жить по-городски.
Впрочем, искушение было не очень велико. Если Рим перестанет существовать, от этого, возможно, и выиграет Италия в целом, но только не род Домициев, для которого он не жалел трудов. Город должен жить, а значит, Юпитер получит положенную жертву. Проще всего, чтобы обряд исполнил самый видный сенатор. Перпена уже прикидывал, кто влиятельнее, как вдруг понял опасность: неосторожное слово, и в Риме появится новый царь. Пусть будет ясно, что жертва приносится от лица всего Сената. Он понял, что говорить.
— После должного обсуждения Отцы выберут нашему основателю преемника, и когда Народное собрание его утвердит, он станет новым царём. Но до тех пор Юпитер должен получать ежедневную жертву; предлагаю сенаторам приносить её по очереди. А чтобы было ясно, что это не даёт никому превосходства над другими, давайте начнём с самого младшего. Несколько месяцев назад на освободившиеся места в Сенате было назначено двадцать Отцов. Пусть сегодня жертву принесёт самый молодой из них, завтра следующий. Этого хватит на триста дней, — добавил он. — Надеюсь, мы выберем царя раньше, чем до всех дойдёт очередь.
Вперёд робко выступил юноша, целер подал ему секиру. Ничем не примечательный латинянин, попавший в Сенат только за отцовские заслуги — отлично; одно трудное место миновали, царь-жрец не получит в глазах народа права на власть. Перпена не стал дожидаться, пока вынут печень. В любом случае, она будет предвещать мир и достаток, а невежа-латинянин соврёт убедительнее, чем этруск, обученный читать послания богов.
Дома Перпена первым делом распустил клиентов; даже за один день они порядком опустошили кладовые. В Риме должен быть мир, хотя бы некоторое время, пока не соберут сторонников два-три популярных претендента на престол. Потом Перпена встал перед домашним алтарём и старательно отогнал все мысли, но внутреннего голоса не услышал. Это было правильно: он запечатал дверцы сильным заклинанием, а внутри, в конце концов, всего лишь одна часть тела. Может быть, со временем она станет приносить владельцу могущество, но сейчас останется там, где приказал учёный этруск.
До утреннего заседания Сената ещё было время отдохнуть. По дороге к себе, в заднюю комнату, он крикнул подать лепёшек и вина. Их принесла сама Вибенна и села рядом.
— Что-нибудь решилось? — спросила она. — Можем мы наконец бросить это гадкое место и вернуться на свой берег?
— Решилось, что Риму быть, и что мы и наши дети останемся здесь.
— Я надеялась на новую жизнь. Но ты, похоже, не в состоянии расстаться с богатством.
— И это тоже, — улыбнулся Перпена. — Я знаю, дорогая, тебе нелегко пришлось. Сначала отец выдал за незнакомца, потом в тот же день, как овдовела, появляется ещё неизвестно кто. Но хоть ты ведёшь дом и готовишь для чужака, тебе всегда есть что готовить. А я знавал и холод, и голод, и ходил в лохмотьях, и дрожал за свою жизнь. Теперь наконец добился довольства и безопасности и не хочу их бросать, даже чтобы вернуться в Этрурию.
— Безопасности? В городе, где мы чужеземцы?
— Я везде чужеземец, мой родной город разорён, и хорошей жизни не будет. А сносная — она вот; Рим силён, скоро мы выберем приличного царя и будем жить в мире и достатке, а после нас наши дети.
— Ненавижу латинян. Они отвратительны, алчны, жестоки, не умеют чтить богов.
— Настоящие этруски тоже алчны и жестоки и никогда не примут нас как равных. Не все римляне латиняне, ты могла бы подружиться с кем-нибудь из жён луцеров. В общем, наш дом будет в Риме. А теперь оставь меня, через час заседание Сената, где мне, скорее всего, придётся говорить; надо собраться с мыслями.
Вибенна вышла с церемонным поклоном, показывая, что подчиняется хозяину дома, а не следует совету мужа и друга. Перпена полежал пару минут, набрасывая в уме речь о дружбе и согласии, как вдруг кто-то принялся колотить в дверь, хотя в этой комнате его строжайше запрещалось тревожить.
На пороге стоял доверенный клиент, грек Макро. Перпена изобразил приветливую улыбку: такой рассудительный человек не станет врываться без причины.
— Патрон, плохие новости, — выпалил Макро. — Может быть, придётся скрыть от домашних. Я присматривал за твоими Ларами, когда пришла госпожа Вибенна, встала перед ними молиться и вдруг ударила себя ножом в живот. Когда я подобрал её, она ещё дышала, но такие раны не заживают. Я отнёс её в пустую комнату позади зала. Что будем делать, оплакивать внезапную кончину или скажем, что она исчезла? Если рассказать всё, как есть, люди могут подумать, что это ты её убил.
— Пускай думают что угодно, обвинить меня на собрании никто не посмеет. Бедная женщина, она ненавидела Рим. Я только что сказал ей, что она останется тут навсегда. Говоришь, перед Ларами? Странное место.
— Перед нишей с Ларами, патрон. Вчера ты добавил ещё одну святыню.
— И ты думаешь, кровь потребовала крови? Быстро же он отомстил! Надеюсь, этого ему хватит.
— Но что делать? Отнести тело туда, где она закололась, чтобы нашёл управляющий?
— Не сейчас. Мне хочется сегодня быть в Сенате, а Отцам не понравится, если я приду осквернённый насильственной смертью в своём доме. Пусть Вибенну найдут после заседания.
Макро повернулся уходить, и Перпена негромко добавил:
— Твоя осмотрительность заслуживает награды, но об этом позже. Я не покупаю твоего молчания и не хочу, чтобы ты так подумал.
К вечеру все римские граждане из ближайшей округи собрались на площади. Сенат совещался с утра, а собрание не полагалось начинать без Отцов. Марк Эмилий со своей скамеечки в первом ряду, отведённом для ветеранов, первых поселенцев, с беспокойством отметил, что молодёжь собралась по трибам. Сабиняне слева, латиняне справа, посередине разношёрстные луцеры. Любимый город скорее всего уцелеет: так долго сенаторы могут обсуждать только планы на будущее. Но похоже, это будет город какого-то одного народа, а не прежний Рим, населённый людьми всех племён, детище великого Ромула.
Марк, один из немногих, искренне скорбел о вожде. Он помнил Ромула могучим полководцем, мудрым законодателем, а не деспотом-самодуром последних лет. Убийство Рема отошло так далеко в прошлое, что уже вообще не вспоминалось.
А молодые люди не скорбели, они ждали, радостно и нетерпеливо. По прихоти судьбы они теперь высшая власть в свободном городе, и игра идёт на все римские земли. За земли стоит бороться, сперва голосами в собрании, а там, если понадобится, и мечом. Славное прошлое, сорок победоносных лет исчезли вместе с основателем.
Наконец, уже на закате, показалось шествие сенаторов. Они не встали, как обычно, в первых рядах народа, а остались позади возвышения, откуда обращался к подданным царь. Головы были покрыты, словно они совершали обряд.
Вперёд вышел Юлий Прокул и бережно положил какой-то длинный свёрток на возвышение, походившее сейчас на временный алтарь. Зажёг факел, будто собирался принести жертву подземным богам, и все увидели святыни Трои и Самофракии, привезённые в Италию праотцом Энеем, святыни, воплощавшие милость богов к Риму. Много лет их не касались смертные, кроме Ромула, сына Марса, и Примы, дочери Ромула. Теперь Прокул возложил на них руку.
Граждане закрыли головы плащами и прошептали священные слова, как перед жертвоприношением.
— Моя рука на самофракийских святынях, — заговорил Прокул. — Вот я втыкаю в землю копьё самого Марса, которое сын Марса держал у своего очага. Если я солгу, да поразят меня эти святыни, а если скажу правду, да будут поддержкой. Обращаюсь ко всем богам и всем римлянам. Вот что мне приказано сказать.
Сегодня рано утром я был на Козьем болоте. Мне явился Ромул, выше и прекраснее, чем при жизни, в сверкающих доспехах своего отца Марса. На совете богов решили, сказал он мне, что, побывав на земле, он вернётся на небо. И ещё сказал — я точно повторяю его слова: «Передай римлянам, что смелость и самообладание вознесут их на вершины человеческого могущества. Для них я останусь навеки богом-покровителем Квирином». Это всё. Поклонимся же Квирину в образе божественного копья.
Нагнув головы, все произнесли слова почитания. Привели барана, закололи перед воткнутым в дёрн копьём. Потом госпожа Прима с прислужницами забрали святыни, Прокул вернулся к сенаторам, а граждане, пробормотав молитву, открыли головы и приготовились перейти к делам посюсторонним.
Слово взял следующий сенатор, молодой сабинянин по имени Велес. Марк огорчился: сабиняне терпеть не могут латинян, Велес же был известен враждебным отношением к Ромулу, а вдобавок недостойным поведением и неуважением к святыням. Но порядок речей, должно быть, установили заранее, чтобы все стороны оказались представлены. В противовес латинскому ветерану Прокулу любимый народом молодой сабинянин. Как бы то ни было, лучше вежливо промолчать и потерпеть неприятного юнца, чем раздувать вражду в такой важный час. Марк сидел и тихо слушал.
Первые же слова Велеса резанули слух римлян.
— Ну, квириты, — сказал он, играя словами, — теперь вы знаете, что с небес нас хранит Квирин. Как положено сабинянину, я поклонялся ему всю жизнь, а отныне буду чтить ещё больше. Странно, не правда ли? Квирин был всегда, а царь Ромул ещё вчера ничем не отличался от прочих людей. Был ли Ромул Квирином, который ненадолго сошёл на землю, или его душа смешалась с душой бога, или он поверг прежнего Квирина, как некогда брата? Очень странно, но не слишком существенно. Квирин охраняет нас на небесах, а Ромул никогда не вернётся на эту площадь. Вот что действительно важно. Царь ушёл, мы знаем куда, и хватит гадать, что его к этому побудило. Мне прекрасно известно, что на этот счёт есть всякие толки; больше их не будет. — Он помолчал и продолжил: — Я говорил как сабинянин Помпей Велес. Это мои чувства, вы не обязаны их разделять. Но сейчас я передам вам взвешенное решение Сената. Мы обсуждали его с утра и наконец пришли к согласию. Если вы не поддержите его, это будет вызовом римским Отцам. Вот слушайте. Надо выбрать нового царя, это решено. Риму необходим военачальник, город развалится, если мы попробуем, как южные дикари, жить под управлением совета старейшин. В этом Сенат единодушен. Но мы ещё не сошлись во мнениях, как выбрать, поэтому пока что назначим группу правителей — собственно, уже назначили. Сенаторов триста человек. Мы разделились на тридцать декурий, десятков; каждая декурия управляет городом десять дней, её члены по очереди приносят утреннюю жертву вместо царя. На одиннадцатый день власть переходит к следующей декурии. Как видите, ничего сложного. Декурии выбирались по жребию, чтобы в них не попали сообщники, которые попытались бы захватить власть. А если за один день в этом городе можно стать тираном, то так нам и надо. Таким образом, на ближайшие десять месяцев порядок обеспечен, хотя новый царь у нас должен появиться раньше. Его выберет Сенат и, разумеется, утвердит Народное собрание. Согласны? Если нет, голосуем. Но сначала ещё кое-что. Целеров больше не будет. Целеры, попрошу вас немедленно сдать розги. Можете сложить их на алтарь Квирина, вашего бывшего начальника. В дальнейшем за голосованием будут следить старейшины от триб, а приводить на суд преступников отныне долг всех свободных граждан.
Под оглушительный рёв восторга Велес отступил назад, решив, что одобрение народа относится ко всему сказанному.
Когда Марк вскарабкался на холм, к дому, почти стемнело. Он был не слишком доволен тем, что решили, но могло выйти и гораздо хуже. Сабиняне, самая опасная часть римлян, как будто не возражали, чтобы всё шло по-прежнему. Придуманный сенаторами временный строй был довольно справедлив и не ущемлял свободу. Правда, он годился только для мирного времени, а случись большая война, и Рим окажется под угрозой, но сейчас, к счастью, войны не было, да и в любом случае Марк уже слишком стар для военной службы. Он доживёт свой век в городе, который сам основал, и не вернётся в родную деревню начинать после сорока лет изгнания новую жизнь...
Утром Перпена обнаружил, что на террасе его дожидается Макро. Поспешность, с которой грек пришёл за обещанной наградой, слегка рассердила.
— Госпожу Вибенну нашли сегодня в постели мёртвой, — холодно сказал он. — Пока её не возложат на костёр, это дом скорби; я не могу говорить о делах.
— Я не с делами, патрон. Мне нужен совет, который может дать лишь этруск и авгур. Ночью я видел брата — другие сны мне не снятся. Но на этот раз он был жив, стоял и угрожал мечом. Ты сказал, что я в безопасности, пока правит Ромул; теперь он — бог Квирин. Будет ли он и дальше меня защищать?
— Я знаю, а ты догадался, как Ромул превратился в Квирина, хотя не исключено, что он и вправду стал богом. Но кем бы он ни был, власти над Нижним миром у него не больше, чем прежде. На земле он владел счастьем и завещал его городу; я думаю, тебе нечего особенно бояться, пока ты в стенах Рима. Может быть, следующий царь сумеет тебя очистить.
— Собрания проводятся вне стен.
— Это место освятил царь Ромул. Он будет охранять тебя в любой части Рима, но снаружи ты в опасности. Не очень удобно, но ты ведь сам виноват, что убил брата.
— Понимаю, патрон... А кто сейчас смотрит за царской священной сокровищницей?
— Обрядов не совершают, ждут нового царя, а в чистоте её держит госпожа Прима.
— Тогда, пока царя нет, я попросился бы к ней в помощники.
Дом Публия Тация на Квиринальском холме был совсем не похож на роскошное, изысканное жилище Перпены. Здесь ключом била жизнь и царила полная неразбериха. По мере того как росла семья, прикупались соседние дома, перестраивались комнаты. Детская оказалась больше зала, построенного ещё в старые времена. Штукатурка внутри была выкрашена красным, без богов и героев в человеческий рост, без сцен охоты и пиршества. Кровля из тростника, очень плотно настеленного, свежего и золотистого. Только внутренний конец зала был покрыт черепицей: там перед нишей с Ларами и предками всё время горела лампадка.
Рабов в доме было мало, но постоянно толклось много народа. Хозяйничали в основном невестки, к ним приходило множество гостей, всюду бегали дети, по углам молодые люди ждали, не удастся ли взглянуть на незамужних девушек. Кому нечего было делать, подключали к стряпне и уборке, а кто хотел есть, садился за трапезу, как только еда наконец попадала на стол.
Но сегодня вечером Публий очистил комнатку в дальнем конце дома, это была свободная спальня. Перед закрытой дверью внук колол лучину, готовый с ножом встретить любое вторжение. В комнате расположился на полу Публий с полудюжиной видных сабинских сенаторов и огромной чашей вина.
— Настоящего кандидата у нас нет, — уныло сказал он.
— Один Помпей Велес, он по крайней мере хороший сабинянин. Положим, не царской крови, но в его родословной найдутся и цари, если достаточно глубоко покопаться. Главное его достоинство — это молодость. Сенат не хочет пожилого царя, чтобы не пришлось через несколько лет выбирать нового. Второе правление будет решающим, нельзя ожидать, чтобы у царя было столько же счастья, сколько у Ромула. Марс больше не поможет, мы должны сами следить, как бы город не распался. Главное не устраивать одни выборы за другими, от них только вражда в Сенате и раздоры в народе. Так что вот: нам нужен молодой человек, разумеется, сабинянин. Самый подходящий — Помпей Велес.
— Я слышал, Велес славный рубака, — вставил другой сенатор, — хотя никогда не командовал в бою. Насколько я знаю, он ничем особенным не знаменит. Не царского рода. Зачем латинянам и луцерам в правители такой непримечательный юнец?
— Затем, что его выдвигают сабиняне — другой причины нет, — ответил Публий. — Просто должно же хоть раз выйти по-нашему. Нас привёл сюда собственный царь. Когда Тация убили, следовало выбрать другого, но Ромул отговорил. Тогда ходили слухи, что Римом будут по очереди править латинский и сабинский цари, хотя, по-моему, соглашения на этот счёт не было. Тем не менее это справедливо: Ромул был латинянином, теперь наша очередь. Кое-кто из друзей предлагает в кандидаты меня, но я отказываюсь. Я слишком стар, нам нужен сабинянин, который правил бы хорошо и долго, чтобы уравновесить ромуловы тридцать семь лет.
— Латиняне выставили Прокула, а он ещё старше тебя, — заметил кто-то.
— Зато он сражался за Ромула в старые времена, в Альбе, и видел основание города. Этим не может похвастаться ни один сабинянин.
— Хорошо бы всё-таки найти кандидата повлиятельнее.
— Чтобы все его поддержали? Таких нет. Мы редко вспоминаем, что должны держаться вместе против латинян; каждый, кто что-то собой представляет, нажил врагов в своём же народе. Ну, может быть, «врагов» — слишком сильно сказано, но есть разногласия. А на Велеса никто не держит зла. Латиняне голосуют против просто потому, что не хотят царём сабинянина.
— А если дать им выбрать Прокула с условием, что когда умрёт, они признают Велеса?
— Я об этом думал, но тогда получится два латинских царя подряд. Так нельзя, а то все примут как должное, что третий тоже должен быть латинянином.
— Что ж, тогда Велес или Прокул, и нам надо сплотить ряды, — сказал старейший сенатор. — Есть ли опасность, что появится третий?
— Нет. По крайней мере, вряд ли. Я боялся, что Перпена попробует опереться на суеверных, скажет, что лишь настоящий этруск может умилостивить богов. Но у него не вовремя умерла жена; теперь его считают несчастливым. Бороться будут сабиняне и латиняне, а луцеры окончательно решат исход дела. Не думаю, чтобы они голосовали все вместе. Своего кандидата у них нет, они разделятся между нами. В сенате Велес может с первого же голосования получить небольшое преимущество.
— И ничего хорошего в этом не будет, — заявил другой сенатор. — Я хочу, чтобы Рим оставался великим городом, значит, царь не может представлять только половину граждан. Нельзя требовать, чтобы Прокул и его родичи сразу голосовали за Велеса, но ставить вопрос в собрание будет пустой тратой времени, если в Сенате не наберётся большого перевеса, хотя бы два к одному. Больше того, стоит показать народу, что Сенат расколот, как нашей власти конец. А сохранить власть сенатора я хочу больше, чем видеть сабинского царя.
— Ладно, — ответил Публий. — Тогда не надо торопиться. Пойдём в Сенат и все поддержим Велеса, латиняне предложат Прокула, и будем заседать снова и снова, пока не выдохнутся. Тем временем будут по очереди благополучно управлять сенаторы. Возражений нет?
Никто не назвал главного преимущества сабинян: все сенаторы знали, куда исчез царь Ромул, а значит, знали, что Прокул — приспособленец и лжец. Ничего себе Квирин, попал в боги после случайного, но зверского убийства. Чтобы утверждать такое, да ещё и клясться на самофракийских святынях, надо совсем не иметь совести... Разве что Прокул всё-таки говорил правду. Никому не понять божественного промысла, Ромул был убит, однако вполне мог сделаться богом. То же, несомненно, пришло в голову и латинским сенаторам, а то бы они не поддержали старого и опытного Публия.
За конскую голову в октябре боролись вяло, вполсилы; сенаторы так пристально наблюдали за борцами, что самые пылкие молодые воины не решались дать себе волю. Второй праздник проходил под началом назначенного на день царя-жреца; время шло плавно и незаметно, но ежегодный обряд напомнил гражданам, что вот уже полтора года, как в Риме нет настоящего правителя. Старый Марк Эмилий пожаловался на это своему приятелю, греку Макро. Каждый раз, когда устраивали интересный обряд, он заходил за юношей в Священную сокровищницу; бедняга так боялся богов, что иначе как на священнодействие его было не выманить из этого счастливого места. Зато выбравшись оттуда, он смотрел обряд с большим удовольствием и сравнивал с другими, которые повидал в разных странах.
— А ведь эти две команды должны были состязаться в борьбе, — вздохнул Марк. — Раньше бы синяков наставили без счета, могли и пару голов сломать. А сегодня они так боялись повредить друг друга, что вышел какой-то священный танец. Сенаторы не разрешают ничего, за что может начаться кровная месть. Наверно, сейчас так и надо, но Марсу не угодишь одним бегом да прыжками, он любит крепкие удары.
— И посылает хороший урожай? В Кумах борются за последний сноп; только тогда, конечно, праздник нельзя устраивать в октябре. А почему у вас не сноп, а конская голова?
— В октябре-то? Не ради урожая. Может, просто ради счастья, может, ради военной удачи. За этим долгая история, про колесницы и сабинянок, — и Марк рассказал всё от начала до конца, ничего не пропуская.
— Ясно, — кивнул Макро. — Но либо праздник не надо проводить совсем, либо делать всё как следует. От небрежных обрядов боги только гневаются. Неужели ты тоже считаешь, что если сабинянин подобьёт глаз латинянину, вспыхнет война?
— Это дурачье, сабиняне, непременно хотят поставить на своём. Велес — щенок, он никому не нужен, но они упёрлись и не желают голосовать за нашего Юлия Прокула, хотят все в его пользу. Ты, может, не знаешь, что Юлии ведут свой род от Энея, а значит, от богини Венеры. К тому же видел основание Рима, он один из старейших сенаторов и был близок к Ромулу.
— Но ты правда боишься гражданской войны? Дело в том, что патрон очень ценит твоё мнение, и я передал бы ему, если ты считаешь, что городу что-то угрожает.
— Не обязательно война, слишком уж мы устали от этого дурацкого спора, который идёт больше года и может тянуться ещё целое поколение. Скорее, мы без драки возьмём и уйдём. Сабиняне вечно грозятся, что если не сделать, как они хотят, они вернутся в свою лесную глушь. Они-то, конечно, останутся, привыкли жить удобно, а вот латиняне могут податься в Альбу — это прекрасный город, с вековой историей, и нам там будут рады. Так и скажи патрону, уйдём, но неотёсанного сабинского дикаря над собой не потерпим.
— А если оставить всё, как есть? Правящий сенатор не может нас притеснять, такая свобода не снилась подданным лучшего царя в мире.
— Сенаторов поставил Ромул, поэтому мы их и уважаем; но царь нужен, чтобы назначать новых. За прошлый год их умерло больше двадцати, откуда взять преемников? Предлагали сенаторам самим выдвигать новых членов, но тогда прощай наша свобода. Можешь сказать Перпене, что если Сенат собирается править лично, латиняне покинут Рим.
Дни начали прибавляться. В равноденствие исполнялось сорок лет, как основали город; вот только доживёт ли Рим до праздника? Царя всё ещё не выбрали. Пару раз войско выходило на границу показать жадным чужеземцам, что Рим по-прежнему силён, но никто пока не нападал, ждали, пока разбойники перессорятся и разбредутся сами. Все споры решались по трибам, правящий сенатор с трудом находил, чем занять единственный день власти. Никто не строил планов на будущее, починку укреплений забросили. Дела в городе шли скверно.
Как-то вечером Перпена пошёл к священной сокровищнице искать своего клиента Макро. Грек сидел внизу перед входом и с улыбкой смотрел, как заходит солнце.
— Рад видеть тебя довольным. Похоже, Старухи отстали? Спишь хорошо?
— Я всё выяснил, патрон: днём они не тронут меня в городе, а ночью в сокровищнице. Сны больше не снятся. Госпожа Прима разрешила ночевать здесь и даже была рада; ей надо следить за огнём в царской хижине, а обряды совершать больше некому. Правящий сенатор только приносит жертвы, жрецов нет — разве что я.
— А что, ты годишься в жрецы не хуже любого римлянина и с подземными богами знаком. Но сейчас я хочу поручить тебе дело, за которое тебя ожидает немалая награда.
— Благодарю, патрон, но сейчас мне ничего не нужно, — ответил Макро. Смотритель Священной сокровищницы, он жил независимо и наблюдал за миром со стороны; никто не завидовал его опасной работе, а прежние честолюбивые мечты прошли.
— По крайней мере кое-чего у тебя нет, — Перпена пропустил дерзость мимо ушей. — Тебе нужна жена. В следующем году брачного возраста достигнет моя младшая дочь, а юноша, с которым она была помолвлена, вчера умер. Не возьмёшь ли её в жёны?
— Патрон, ты предлагаешь мне величайшее сокровище в Риме! Кого прикажешь убить? Я исполню всё, что велишь — но разве мне можно жениться? Ведь я проклят.
— Это исправит царь. От времени проклятия слабеют, работа в сокровищнице тоже должна помочь. Выберем царя, он тебя очистит, ты женишься на моей дочери, и я сделаю из тебя настоящего жреца, научу строить мосты между миром земным и подземным. Так что помоги мне с выбором царя. Отправляйся к вождям сабинян, скажи, что от меня, и объясни мой план.
— Это последний выход, — обратился Публий Таций к влиятельным сабинским сенаторам. — Начать придётся с немалой уступки, но такая же предстоит латинянам. Мы отказываемся от Велеса, они — от Прокула.
— Пока мы в выигрыше, — заметил кто-то. — Велеса выбрали за то, что он сабинянин, а латинянам нужен именно Прокул.
— Чувствуют, наверно, что царём у них должен быть лгун и подхалим, который даже мёртвым льстит, — фыркнул Публий. — Если бы они раньше сняли своего кандидата, спор бы давно уладился. Так вот, Перпена обещает нам голоса всех луцеров и предлагает следующее. Нам ведь нужен сабинский царь, так? Но не Помпей Велес? Отлично. Надо пойти к латинянам и взять с них клятву: мы предоставим им выбирать царя при условии, что это будет сабинянин. Что скажете?
— А если они согласятся и выберут дряхлого старика? Горация, например. Он и месяца не протянет.
— Тогда мы сделаем так же, когда наступит наша очередь. Ты верно заметил, я прослежу, чтобы до них это дошло. Но вряд ли такое случится, даже у латинян хватит ума не рисковать будущим города. Неужели вы не понимаете? Им придётся выбрать одного из сенаторов; именно этого мы не можем сделать сами, потому что, сказать по чести, слишком друг другу завидуем. Если решать будут латиняне, нам обеспечен сабинский царь, да ещё способный. Может быть, даже кто-нибудь из сидящих здесь. Ну что, согласны?
— Мне пришла в голову потрясающая мысль! — молодого Эмилия просто распирало от гордости. — Я придумал, как утереть нос спесивым сабинянам!
Без этого юноши не обходилось ни одно важное совещание, слишком уж он был знатен. Но его блестящие планы оставались обычно без внимания.
— Вот, слушайте, вы помните, в чём именно мы поклялись? Выбрать сабинянина, и Публий Таций дал понять, что с честным именем и крепким здоровьем. Но ни слова о том, чтобы он был из нынешних римских граждан. Давайте отправим в горы разведчиков и найдём самого дикого, тёмного, невежественного деревенского царька, который ни колеса, ни черепицы с роду не видал. Тогда мы сдержим клятву и славно проучим почтенных сабинских сенаторов.
Невероятно, но все внимательно слушали: юноша участвовал в государственных делах, как подобает главе рода Эмилиев. Но вот поднялся старый зануда Прокул, зловеще прокашливаясь.
— Наш юный друг внёс в обсуждение весьма ценный вклад. Я ждал, когда кто-нибудь укажет на лазейку в словах клятвы, теперь и моё предложение прозвучит не столь необычно. Есть сабинянин, из которого выйдет прекрасный царь, хотя он ни разу не был в Риме. Не скрою, я остановился на нём не сам, мне подсказал этруск Перпена. Но когда я назову его, вы, конечно, вспомните: это тот сабинянин, за которого вышла дочь царя Тация.
Сенаторы возбуждённо зашумели. Те, что помоложе, не помнили свадьбы, которая состоялась двадцать лет назад, но все знали, что дочь — для латинян наследницу — царя Тация выдали за правителя какой-то глухой деревни.
— Он из хорошей царской семьи, — неторопливо продолжал Прокул. — Никогда не станет главой рода, потому что у него трое старших братьев, да и отец до сих пор жив, хотя уже не военачальник и в основном отошёл от дел. Отца зовут Помпилий, он глава рода Помпилиев, первого имени я не знаю. А этот младший сын зовётся Нума.
— Но если он зять царя Тация, почему сабиняне сами не вспомнили о таком претенденте на престол? — спросил пожилой латинянин.
— Муж дочери не обладает для них столь же бесспорным правом, как для нас, им важны только предки по мужской линии. Как бы то ни было, Тация умерла и не оставила сыновей, кажется, только дочь.
— Мысль сама по себе интересная и отлично собьёт спесь с сабинских сенаторов, — произнёс Эмилий. — Но кто знает, что представляет собой этот Нума?
— Мне известно лишь то, что сообщил Перпена, — ответил Прокул. — По его сведениям, Нума весьма посредственный воин, занят тем, что служит богам и ищет, как лучше заслужить их милость. Поэтому, я думаю, этруск его и предложил, он вечно ворчит, что в Риме обрядам уделяют слишком мало внимания.
— У Перпены нет счастья, — возразил Эмилий. — В нашем кругу осмелюсь напомнить, что царствование Ромула так резко оборвалось главным образом из-за его уговоров. За это он должен был потерять счастье; так и вышло. И со смертью жены дело было нечисто, никто не слышал, чтобы она болела. Не исключено, что он сам её убил.
— Дело, может, и нечисто, но эти разговоры ты брось, — заявил кто-то. — Во-первых, я думаю, что он её не убивал; Перпена суеверен: стало бы заметно, будь на нём скверна. А во-вторых, мы зависим от луцеров. Если с ними поссориться, они перекинутся к сабинянам, и для латинян в городе места не останется.
— Совершенно верно, — произнёс Прокул. — Перпену надо удержать на нашей стороне. Конечно, счастья у него нет, а то бы он не попал в Рим. Счастливы мы, основатели, разделившие счастье царя Ромула. Все остальные лишь искали здесь вынужденного убежища.
— Хватит про Перпену, он только нагоняет скуку, — твёрдо сказал Эмилий. — Все согласны, как провести сабинян? Может, для начала отправим посольство к Нуме, если, конечно, он и вправду такой, как говорят?
Глава 15. РИМ ЖИВЁТ
Посольство было небольшим, но почётным: Велес от сабинян, Прокул от латинян, Перпена как наблюдатель от луцеров, которым было нечего надеяться на царя из собственных рядов, советники да несколько рабов, чтобы нести подарки. Нелегко было найти нужную меру торжественности: посольство представляло могущественный город, но направлялось к частному лицу, а не к равному государству.
Затерянная в глухих лесах деревушка Куры ничем не выделялась среди прочих сабинских посёлков, хоть её иногда называли городом за то, что там жил глава рода. Как всякую сабинскую деревню, её переносили, когда род переселялся на новые земли. Ни одному дому не было более тридцати лет.
За большим частоколом держали скот, другой, поменьше, защищал дюжину хижин. Напротив единственных ворот находилась площадка, а за ней жилище главы рода, Помпилия — самый большой дом в деревне.
Дом был из серого некрашеного дерева, как и все остальные, только несколько столбов сияли среди потемневших брёвен ярко-алым цветом, отмечая маленькое святилище. Правый косяк, со счастливой стороны, тоже был выкрашен и вдобавок украшен сверху совиным ликом божества. Послы беспокойно покосились на эту святыню: даже Ромул, сын Марса, не ставил богов подпирать крышу. Здешние жители, должно быть, превосходно ладят с потусторонним миром.
Вокруг святилища собралось человек сто сабинян; наверно, все воины этого рода, известного больше древностью, чем мощью. Римлян впустили за частокол, но хозяева явно не хотели рисковать. Посольство выстроилось на священной земле, и целый час не происходило ничего, но так всегда поступают с послами, которым не рады, и римляне не отчаивались.
Наконец на крыльце показался Помпилий с четырьмя сыновьями и кучкой родичей. Глубокий старик, он был в простой серой шерстяной тунике, но для важности надел старинный бронзовый меч на красной перевязи. Помпилий смерил послов взглядом и, опираясь на руки двоих сыновей, подковылял к святилищу.
— Латиняне, — буркнул он. — Латиняне и всякий сброд. Живете кучей в помойке, потому что боитесь спать в лесу. Пришли, конечно, просить у рода Помпилиев жён. Вы всегда клянчите женщин или крадёте. Можете убираться, у всех наших девушек есть женихи. А если б не было, мы бы не обратились к латинянам.
— Мы не просим женщин и вообще ничего не просим, — возмутился Велес. — Наоборот, мы собираемся оказаться вам великую честь. Но это дело к твоему сыну Нуме. Можно поговорить с ним?
Человек средних лет, в белой льняной тунике и с посохом авгура вместо оружия, вышел вперёд, приятно улыбаясь.
— Отец не любит римлян, потому что не может забыть злодейства царя Ромула. Но это давние дела, и мы, молодые, не держим на вас зла. Я Нума Помпилий. Что вам нужно? Я был женат на римлянке и хотел бы оставаться вашим другом.
Прокул удивился. Почему-то он ждал, что четвёртый сын правящего главы рода окажется совсем молодым, хотя мог бы вспомнить, что Тацию выдали замуж целых двадцать лет назад.
— Сколько тебе лет? — спросил он и тут же смутился из-за неприличного вопроса.
Нума ответил непринуждённо, как что-то само собой разумеющееся:
— Двадцать первого марта исполнится сорок.
— Невероятно, — воскликнул Прокул. — Ты родился в тот самый день, когда Ромул основал Рим!
— В тот же день и, говорят, в тот же час. Гадатели нашли это знаменательным, они решили, кажется, что моя судьба связана с судьбой Рима. Я и на римлянке женился отчасти поэтому.
— Будь нашим царём! — охваченный внезапным волнением произнёс Велес.
— Что за странная прихоть? Но заходите, поговорим...
На торжественное приглашение на царство Нума ответил сразу. Он любезно улыбался и, похоже, изо всех сил старался не обидеть послов, но отказ его был твёрд.
— Я успел найти подходящий мне образ жизни. Зачем его менять? Я люблю покой, на досуге изучаю природу богов, ищу, как им угождать. У римского правителя на это не будет времени, ваш город вечно воюет. Конечно, стань я царём, я сделался бы богаче, но и сейчас у меня довольно еды и есть крыша над головой, а больше ничего и не надо. Кроме того, меня останавливает опасность. Царь Ромул был сыном Марса, в младенчестве его охраняла божественная волчица, боги всегда были за него. Но и ему когда-то угрожал мой тесть, царь Таций. О внезапном исчезновении царя Ромула ходят разные слухи, хотя, как вы отметили, всё к лучшему, раз он занял высокую должность на небесах. А я простой смертный, богов среди моих предков нет, и едва ли они станут так же защищать меня в трудную минуту. Вы ничем не можете меня соблазнить и не назвали пока никаких причин, которые бы вынудили меня согласиться. Я предпочитаю остаться здесь.
— Но мы насилу договорились, — взвыл в отчаянии Прокул. — Два года мы спорили, едва не дошли до гражданской войны, и вот наконец Сенат единодушно выбрал царём тебя. Мы не успеем найти другого: Рим распадётся.
— Взгляни на это спокойно и поймёшь, что ничего страшного нет. Все слышали о счастье царя Ромула, никто из смертных не мог с ним сравниться. Счастье это было так велико, что осталось и после его смерти, сейчас он блаженствует на небесах. С таким даром он правильно сделал, что основал город и поделился счастьем с другими; вы получили свою долю и тоже процветали. Но никто не может утверждать, что город был хорош сам по себе. Миру он ничего не дал. Рим был основан на счастье, теперь этого счастья нет, будьте же разумны. Он простоял сорок лет, тысячи воинов погибли за него в цвете лет, а теперь всё кончилось. Городская жизнь сделала вас богаче и опытнее, так разойдитесь мирно по своим деревням. Не играйте счастьем в новых кровавых битвах, пока оно не обернулось против вас, и ваших вдов не забрали в рабство. Без Рима Италия будет жить спокойнее и легче.
Прокул ответил немедленно, и спутники подивились его пылу.
— Ты говоришь, что служишь богам, Нума Помпилий. Но падение Рима не будет им угодно; пятьсот лет назад праотец Эней привёз из Трои самофракийские святыни, даже изображение Девы. Её храму положено стоять в сердце великого города. Пятьсот лет мы, латиняне, по деревням пахали землю и готовились основать город, достойный её. Соседи считают нас злодеями, но мы умеем обсуждать и решать вопросы в собрании и держаться того, что постановили. Мы придумываем хорошие законы и следим, чтобы они соблюдались. Наши жёны живут достойно, дети почитают родителей, на войне каждый, вставая в строй, знает, что товарищ прикроет его щитом. Этого города мы и ждали пять сотен лет; божественные знамения обещают ему власть над миром. Вспомни кровавую голову на Капитолии, коршунов среди бела дня. Боги непременно хотят, чтобы Рим выстоял, но ему не выстоять без тебя. Неужели ты разрушишь божественные замыслы и навлечёшь на себя несчастье потому только, что править великим городом тебе кажется слишком хлопотно?
— Хороший довод, — заметил Нума. — Я не хочу разрушать божественных замыслов. Но ведь разрушить их не под силу смертному; если Рим исчезнет, значит, боги всё-таки не хотят, чтобы он существовал, и только. Кто назовёт мне другую причину, кроме той, что такова якобы воля богов?
— Я, — сказал Велес. — Я сабинянин, как и ты, и не пойму, отчего богам угодно, чтобы одни латиняне жили в прекрасных городах. Рим в самом деле прекрасен, его стоит сохранить. Во времена моего отца наш род воевал с римлянами, нам было из-за чего враждовать, но потом царь Таций переселил нас в город, и латиняне обошлись с нами честно. Разве так обычно заканчиваются войны? Мы, римляне, заключаем справедливый мир и держим слово. Я родился в Риме, это мой дом, и пусть даже все уйдут, я никогда его не брошу. Мы постигли нелёгкое искусство жить вместе; разве где-нибудь ещё правят на равных два народа? Я думаю, в мире нет другого города, где любой беглец может найти себе место и его не спросят о предках. Говорили, сабинянам не привыкнуть к городской толчее — мы доказали, что это не так. Рим — единственный город, где сабиняне граждане. Отказываясь, ты губишь славу своего народа.
— Этот довод ещё лучше, но не думайте, что у меня есть какой-то долг перед сабинским народом. К тому же не исключено, что оставаться простыми селянами — наша судьба. Нет, Рим возник как разбойничий город, а я не люблю разбойников и не вижу, зачем он нужен.
— Может быть, я подскажу, — произнёс Перпена. — В юности я сам был разбойником, и Рим меня исцелил. Последние годы мы не воевали, а если ты согласишься царствовать, то и не будем. Но я хотел сказать другое. Рим — необычный, исключительный город, нельзя допустить, чтобы он исчез. Ему нет ещё сорока лет, а граждан десятки тысяч, и все они — римляне, потому что хотят быть римлянами. Мы — общество, где нет принуждения. И наш город открыт для всех: помимо латинян и сабинян есть ещё триба луцеров, куда принимают чужеземцев; я, например, настоящий этруск. Мы, луцеры, не родились в Риме, но равны римским уроженцам. Городу недостаёт лишь одного. Царь Ромул одарил нас своим удивительным личным счастьем, но мы не умеем правильно служить богам; ты бы наставил нас в этом сложном деле. Так что смотри: Рим счастливый, Рим гостеприимный, Рим, где правит закон, где люди живут в мире с чужеземцами, Рим, который в завоеваниях справедлив, а к побеждённым милостив — без тебя этот Рим погибнет.
— Ты сказал о милости, не продолжай: я согласен.
Пир по случаю свадьбы Макро и Домиции, дочери Перпены, был великолепен. Вокруг высокого стола стояли ложа, и царь Нума, почётный гость, изящно возлежал, словно у сабинян тоже так принято. Невеста, само собой, сидела выпрямившись на табурете. Макро ненадолго присел рядом, чтобы переломить с ней лепёшку из старинного счастливого зерна, которое богам нравится больше, чем нынешний ячмень. Эта священная пища так же непривычна этрускам, как и грекам, но в Риме переплелись обряды разных племён, ведь счастье никогда не бывает лишним.
Женщины удалились до того, как подали вино. Домиция отправилась ждать жениха в брачной постели и надеялась, что он не напьётся до бесчувствия. Но Макро пообещал пить поменьше, насколько позволит вежливость; ему действительно хотелось понравиться этой полузнакомой испуганной девушке.
Хозяин, как мог, облегчил ему эту задачу, щедро разбавив вино водой и проследив, чтобы жениху дали самую маленькую чашу. Но Макро не мог отказаться, когда подходили друзья и подсаживались на край ложа выпить с ним.
Первым пришёл старый Марк Эмилий, торопясь исполнить долг вежливости и вернуться домой пораньше. В его возрасте попойки до утра потеряли привлекательность. Он сел на край ложа и уставился на жениха, осовело моргая. Дома ему не разрешали много пить, и он уже набрался. С пьяной торжественностью он высказал свои мысли:
— Ты уверен, что можешь жениться? Было бы ужасно, если бы оказалось, что Старухи всё ещё тебя преследуют.
— Я совершенно свободен, — твёрдо ответил Макро. — Новый царь повелевает подземными силами, он меня освободил. Неужели патрон разрешил бы свадьбу, если бы оставалась хоть тень сомнения? Он много знает о богах и признает могущество царя Нумы. Кровь брата больше не взывает о мести, я могу жить спокойно.
— Приятно слышать. Что же ты теперь сделаешь, вернёшься в Кумы?
— Никогда. Мой дом здесь, в Риме. Ты не знаешь, насколько я счастлив; царь назначил меня понтификом, жрецом, наводящим мосты между миром живых и мёртвых. Я для этого подхожу, преступление посвятило меня подземным богам. Жреческий сан принесёт мне достаточно богатства, чтобы стать всадником. А уж с собственным конём я ни за что не брошу Рим.
— Прекрасно, что ты так говоришь, — Перпена тоже подошёл с поздравлениями. — Интересно выходит: почти все мы пришли в Рим, потому что больше было некуда податься, и не собирались поселяться тут навсегда, но всех нас что-то удерживает — может, благосклонность богов, а может, просто щедрые поля.
— Не то и не другое, — уверенно произнёс Макро. — Дело в нас, в римлянах. Здесь царит справедливость. Люди со всех концов света, мы живём дружно, а наши потомки будут править миром.
— Пока останутся справедливыми, — добавил со своего почётного места царь Нума.
ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
Авилий (или Аолий) — сын Ромула и Герсилии, упоминается Плутархом.
Акрисий — в греческой мифологии отец Данаи, возлюбленной Зевса, матери Персея.
Акрон — царь латинского города Ценины, убитый Ромулом в первом сражении римлян с врагами.
Анхиз — в греческой и италийской мифологии фракийский пастух, возлюбленный Афродиты-Венеры, которая родила ему сына Энея.
Асканий, или Юл, — в италийской мифологии сын Энея и Лавинии, дочери Латина, царя города Лаврента. Вергилий в «Энеиде» считает его сыном первой жены Энея Креусы, дочери царя Трои Приама.
Ахат — герой «Энеиды» Вергилия, ближайший помощник Энея.
Велес Помпей — римский сенатор, член посольства по приглашению на царство Нумы Помпилия от сабинян, упоминается Плутархом (без имени).
Веста — италийское божество огня и домашнего очага, соответствует греческой Гестии. Её служительницами могли быть только девственницы, которые поддерживали негасимый огонь.
Вергилий Публий Марон (70-15 до н.э.) — знаменитый римский эпический поэт, автор стихотворного собрания «Буколики», поэмы «Георгики» («О сельском хозяйстве») и «Энеиды», которую не успел закончить.
Геркулес, Геракл — герой греческой мифологии, почитался в Италии латинами, а также, под именем Геркле, этрусками.
Герсилия — жена Ромула. Согласно Плутарху, единственная из замужних женщин, захваченная при похищении сабинянок, бывшая жена Гостия Гостилия.
Гораций Флак Квинт (65 до н.э.-8 н.э.) — знаменитый римский поэт, автор стихотворных собраний «Беседы», «Послания», «Искусство поэзии», «Оды».
Гостилий Гостий — сабинянин, первый муж Герсилии, жены Ромула. Плутарх пишет, что некоторые считают его, а не Ромула, вторым мужем Герсилии и называют знатным римлянином. Внук Гостилия Тулл был царём Рима после Нумы Помпилия.
Даная — в греческой мифологии дочь Акрисия, возлюбленная Зевса, мать Персея.
Диана — римская женская богиня, соответствовавшая греческой Артемиде, считалась также богиней луны и покровительницей рожениц.
Диомед — в греческой мифологии сын бога войны Ареса, царь Фракии. В Илиаде описан его бой с Энеем, в котором мать Энея Афродита спасла сына, но сама была ранена.
Елена — в греческой мифологии красавица, жена царя Менелая, украденная другом Энея Парисом, из-за которой велась Троянская война.
Ил — в греческой мифологии сын Троса, внук Дардана, сына Зевса и Электры, основатель Трои, которую назвал в честь отца и которую в его честь называют также Илионом.
Илия — см. Рея Сильвия.
Клавс — мифологический основатель знатного сабинского рода клавдиев, к которому принадлежал император Клавдий.
Кульсу — в этрусской мифологии бог смерти.
Лавиния — в италийской мифологии дочь Латина, царя города Лаврента, вторая жена Энея, мать Аскания-Юла, основателя города Лавиния и знатного римского рода Юлиев, мать дочери Энея Эмилии.
Лары — италийские божества, охранявшие домашний очаг и хозяев вне дома.
Латин — в италийской мифологии, сын бога Фавна, царь города Лаврента, ставший союзником высадившихся в Лации троянских изгнанников во главе с Энеем.
Ливий Тит (59 до н.э.-17 н.э.) — римский историк, автор знаменитого труда « История Рима от основания города» в 45 книгах (частях), из которых до нашего времени дошли книги с 1-й по 10-ю и с 21-й по 45-ю. Один из главных источников материала романов.
Лимфы — в италийской мифологии духи деревьев и источников, соответствуют греческим нимфам.
Марис — в этрусской мифологии, видимо, божество возрождающейся природы, соответствует одному из аспектов римского Марса.
Марс — в италийской мифологии бог плодородия и войны, позднее был отождествлён с греческим богом войны Аресом.
Мезенций — в италийской мифологии царь этрусского города Цере, союзник царя города рутулов Ардеи, военных противников Энея и Латина.
Медуза Горгона — чудовищный персонаж греческой мифологии, одна из трёх сестёр, крылатых, змееволосых, клыкастых, покрытых чешуёй, со взором, обращавшим в камень.
Минерва — италийская богиня искусств и талантов, позже отождествлённая с греческой Афиной, входила в триаду главных римских богов вместе с Юноной и Юпитером.
Мин-рва — в этрусской мифологии женское божество, входившее в триаду главных богов вместе с Уни и Тином.
Нортия — в этрусской мифологии богиня судьбы, соответствовала италийской Фортуне, греческой Тюхе.
Нума Помпилий — второй царь Рима, свойственник царя Тита Тация (муж его дочери). Согласно традиции правил с 715 по 672 г. до н.э.
Овидий Назон Публий (43 до н.э.-18 н.э.) — знаменитый римский поэт, автор стихотворных собраний «Любовные элегии», «Героини», «Наука любви», «Средства от любви», поэмы «Метаморфозы». В конце жизни был сослан в Томы на Понте (Черном море) и там написал книги «Скорбные элегии» и «Письма с Понта».
Парис-Александр — в греческой мифологии старший сын царя Трои Приама и Гекубы, воспитанный пастухом, похитивший с помощью Афродиты Елену. Во время Троянской войны убил Ахилла и был убит стрелой Филоктета.
Пенаты — италийские домашние боги, почитались и частном культе вместе с ларами. Во внешнем культе почитались и храме Весты. Эней вынес троянских пенат из горящего города и привёз в Лаций.
Персей — в греческой мифологии сын Данаи и Зевса, совершивший множество подвигов, в том числе избавивший мир от Медузы Горгоны.
Плистин — брат пастуха Фаустула, воспитателя Рема и Ромула. Согласно Титу Ливию, был убит вместе с Фаустулом при ссоре между братьями во время основания Рима.
Плутарх (46-119 н.э.) — греческий писатель, автор «Сравнительных жизнеописаний», в которых сопоставляются биографии знаменитых греческих и римских деятелей. Один из главных источников материала романов.
Плутон — в италийской мифологии бог подземного царства, отождествлялся с греческим Аидом.
Полинур — герой «Энеиды» Вергилия, главный кормчий его флота.
Прима — согласно Плутарху, дочь Ромула и Герсилии.
Прок — Царь Альбы Лонги, прямой потомок Энея и Латина, из легендарного рода сильвиев, отец царей Нумитора и Амулия. Считается, что ранние римские историки, стремясь увязать хронологию местных преданий об Энее с греческой хронологией Троянской войны, ввели между сыном Энея Асканием и Проком вымышленную династию из 12 правителей.
Прокул Юлий — римлянин из Альбы, сенатор, объявивший, что говорил с исчезнувшим Ромулом в образе бога Квирина. Член римского посольства по приглашению на царство Нумы Помпилия от латинян, упоминается Плутархом.
Рем (ок. 770-753 до н.э. согласно традиции) — брат-близнец Ромула, основателя Рима.
Рея Сильвия (другое имя Илия) — мать Ромула и Рема, дочь царя Нумитора.
Ромул (ок. 770-716 до н.э. согласно традиции) — брат-близнец Рема и виновник его смерти. Гнёт этого древнего братоубийства отмечали многие римские деятели, особенно в эпоху гражданских войн.
Семон Санк — римский бог Договора.
Старухи — богини мести, в Греции — Иринии, в Риме — Фурии.
Тарпей Спурий — начальник крепости на Квиринальском холме, Тарпея — его дочь, которая предала римлян и открыла ворота нападавшим сабинянам.
Тит Таций — соправитель Ромула от сабинского рода тациев, воссоединившегося с первыми поселенцами города.
Тиберин — бог реки Тибра. Согласно Титу Ливию, имя четвёртого царя легендарной династии Сильвиев, который утонул в реке, называвшейся Альбулой и получившей после этого название Тибр. Тиберин считался спасителем Реи Сильвии; на острове с этим именем Тиберину был построен храм.
Тин — верховный бог этрусков, отождествлялся с Зевсом греков и Юпитером латинян.
Тори — в италийской мифологии царь города Ардеи, столицы рутулов; вместе с этрусским царём Мезенцием выступил против Энея и Латина. Согласно «Энеиде» Вергилия, причиной войны стала Лавиния, обещанная Латином ему в жёны, но отданная Энею.
Туран — этрусская богиня любви.
Тухулка — один из демонов смерти. Часто изображался змееволосым с лошадиными ушами, хвостом и вооружённым двусторонней секирой.
Фавн — в италийской мифологии божество плодородия, сын Пика (одного из воплощений Марса) соответствует греческому Пану.
Фортуна — италийская богиня судьбы, соответствовала этрусской Нортии и греческой Тюхе.
Xара — один из демонов смерти, близок по имени к греческому Харону. Изображался в виде крылатого человека с крючковатым носом, вооружённого молотом на длинной ручке или железным крюком.
Эндимион — в греческой мифологии прекрасный юноша, взятый Зевсом на небо. За попытку овладеть Герой был погружен в вечный сон в пещере. Но Селена (Луна, у римлян Диана) стала его возлюбленной и родила от него 50 дочерей.
Юнона — высшее италийское божество, жена Юпитера, отождествлялась с греческой Герой, считалась покровительницей брака. Близка к этрусской богине Уни.
Юпитер — верховный италийский бог, по преимуществу небесный, посылавший дождь, владевший молниями. Имел много имён: Диспатер (Отец дня), Иовис — патер (Отец-помощник) и др.
Юпитер Латиарис — объект поклонения древних латинов на плоской вершине Альбанской горы, где находился его алтарь.
Юпитер Статор (Юпитер Становитель) — римское божество, останавливающее отступление, которому Ромул построил храм. Три века спустя второй храм Юпитеру Статору построил после битвы с самнитами консул Марк Регул (в 294 г. до н.э.).
СЛОВАРЬ
Аврунки — народ, живший южнее Лация, не граничивший с латинами.
Альба Лонга («Длинная Альба») — город в Лации на юго-западном склоне Альбанской горы, родина Рема и Ромула. Располагался в 25 км северо-восточнее Рима.
Альбанская гора (теперь Монте Каво) — потухший вулкан высотой ок. 600 м. и окружностью около 60 км. Находится в центре Лация. Во времена Римской империи окрестности горы служили местом для загородных имений римской знати.
Альбанское озеро — озеро в древнем боковом кратере Альбанской горы шириной ок. 2 км на высоте ок. 300 м.
Аниен — сравнительно крупный левый приток Тибра, служил границей между латинами и сабинами.
Антемны — латинский город при впадении Аниена в Тибр, примерно в 5 км севернее Рима.
Аргос — греческий город в северо-восточной части Пелопоннеса.
Ариция — латинское поселение у подошвы острова Альбанской горы, недалеко от Неморейского озера (см.), которое также называли Арицийским.
Бовиллы — латинский город в 5 км западнее Альбы Лонги.
Вбивание гвоздя — этрусский новогодний ритуал, известный по изображениям на бронзовых зеркалах и упоминанию на золотых таблицах из Пирги.
Вей — этрусский город в 20 км севернее Рима. Центр одной из областей Двенадцатиградия.
Вольски — народ, живший юго-восточнее области латинов.
Габий — значительный латинский город в 20 км восточней Рима на пути из Двенадцатиградия на юг к греческим Кумам и этрусской Капуе.
Гадание по печени — один из главных способов этрусских гаданий, основанный на изучении строения печени жертвенного животного. Были востребованы в римском государстве даже в эпоху Империи.
Двенадцатиградие — союз 12 этрусских городов, точнее областей, управляемых этими городами. Располагалось вдоль моря между реками Арно и Тибром. Кроме основного Двенадцатиградия существовали ещё две подвластных этрускам области — Паданская, в районе реки По, и южная в Кампании, в районе современного Неаполя, которые заселялись этрусками из центра. Их население и число поселений было намного меньшим, но каждая из этих областей была также организована в виде союза именно 12 городов.
Дианы Неморейской (Лесной) культ — древний культ, отправлявшийся в роще на берегу Неморейского озера (см.) Его отличительными чертами были охрана Золотой ветви и сменяемость главных жрецов путём поединка. Этот культ существовал до первых веков н.э.
Ильва (теперь Эльба) — остров напротив этрусского города Популонии, в древности был важным центром производства меди.
Капуя — этрусский город на месте одноимённого современного, в древности центр этрусской области в Кампании.
Квиринал — холм в северной части Рима, заселённый сабинянами.
Коллаций — латинский город на Аниене в 5 км к северу от Габий. Стоял на пути из Двенадцатиградия на юг, в Кампанию к греческим Кумам и этрусской Капуе.
Конгий (kongius — кувшин) — римская мера объёма, 3,28 литра.
Крустумерий — латинский город на Тибре на 20 км выше Рима.
Кумы — греческая торговая колония в Кампании, располагавшаяся недалеко от современного Неаполя.
Куры — сабинский город, родина римского царя Нумы Помпилия. Плутарх называет Куры «знаменитыми».
Лабики — латинский город у северной подошвы Альбанской горы.
Лавиний — священный город латинян, в 30 км южнее Рима, по преданию основанный Асканием, сыном Энея и Лавинии, и названный им в честь матери. Археологи обнаружили на этом месте надпись «Лару Энею», датируемую VI в. до н.э., что говорит о древности культа Энея.
Ланувий — город вольсков на холме на 5 км южнее подошвы Альбанской горы.
Лаврент — латинский город на побережье Тирренского (Этрусского) моря. По преданию он стоял в месте высадки троянцев, прибывших в Лавиний под предводительством Энея.
Лаутни — этрусское название рабов, отпущенных на волю.
Лаций — область центральной Италии, в древности населённая латинянами. Современное название административной области, включающей Рим.
Луперкалии, Луперки (от латинского Lupus — волк) — праздник очищения и плодородия в Древнем Риме в честь бога Фавна Луперка. В ходе праздника жрецы-луперки пробегали по городу в шкурах, закланных на алтаре козлов. Праздновался до периода поздней античности.
Литуус — крючковатый жезл для гадания по полёту птиц. Им символически отмечались благоприятные и неблагоприятные секторы наблюдения за птицами.
Лукумон — этрусский аристократ, правитель (царь) или член правящего совета города-государства (олигарх).
Лупа (Волчица) — латинское прозвище женщин лёгкого поведения.
Марсово поле (Campus Martius) — ровное место в Риме между Квириналом и Тибром, где проходили народные собрания, спортивные состязания и военные смотры.
Меркурий — италийский бог торговли, купцов и прибыли, изображался в крылатом шлеме с жезлом, отождествлялся с греческим Гермесом.
Неморейское озеро — небольшое озеро на месте древнего кратера на южной террасе Альбанской горы. Другие названия — озеро Неми, Зеркало Дианы, Арицийское. На его берегу помещался храм Неморейской-Лесной) Дианы (см.).
Нумик — речка, пограничная между латинянами и рутулами, возле которой был похоронен павший в битве Эней. На левом берегу Нумика в нескольких километрах от моря находился главный город рутулов Ардея.
Пирга — этрусский город, в 35 км к востоку от Рима. Порт города Цере, соединявшийся с ним пятикилометровым судоходным каналом. При раскопках Пирги найдены двуязычные (на этрусском и пунийском языках) посвятительные надписи на золотых пластинах, важные для изучения этрусского языка. В них упоминается культ вбивания гвоздя (см.).
Популония — этрусский город, стоявший на месте нынешнего порта Пьембино на мысу напротив острова Ильвы (ныне Эльбы). Находился примерно в 80 км к северо-западу от Рима. Центр одной из областей Двенадцатиградия.
Регильское озеро — озеро на равнине у южной подошвы Альбанской горы. В конце XIX в. было спущено как рассадник малярии.
Рекс Неморенис (Царь Леса) — титул царя Дианы Неморейской.
Рутулы — народ, живший у моря в южной части Лация.
Сабины — народ, живший на севере Лация между Аниеном и Сабинскими горами.
Сарды — город в Малой Азии, столица Лидийского царства.
Священный источник — Вергилий в «Энеиде», описывая Лаций, упоминает серный источник, навевавший вещие сны. По-видимому, он находился в Священной Ферентинской роще.
Салии (от латинского salier — прыгун) — члены жреческих коллегий, из которых назначалось по 12 жрецов от Палантина и Квиринала, исполнявшие ритуальные танцы в честь Марса.
Секстарий (sextarius) — мера объёма, 1/6 конгия (кувшина), 0,55 литра.
Союз латинских городов — союз латинских городов-государств, в основном ритуальный, называвшийся «Союзом 30 городов», хотя в него в разное время входило их равное количество. У Рима с союзом были сложные отношения, от вхождения в него до военной конфронтации.
Таг — в этрусской мифологии ребёнок-мудрец, выкопанный из земли и давший людям знания о богах.
Тарквинии — этрусский город, стоявший недалеко от моря, в 30 км от Рима, центр одной из областей Двенадцатиградия. Выходцы оттуда основали в Риме царскую династию тарквиниев.
Тевкры-троянцы — слова из «Энеиды» Вергилия. В греческой мифологии герой Тевкр был дедом Троса, отцом его матери, и прадедом его сына Ила, основателя Трои.
Теллена — латинский город в 10 км к востоку от Альбы Лонги.
Тибур — латинский город, стоявший на месте нынешнего курортного города Тиволи, находился рядом со знаменитым каскадом на Аниене с перепадом высот около 100 м.
Трибы (от латинского tres — три) — обозначение групп жителей древнего Рима. Они делились по происхождению на три трибы: рамнов, тациев и луцеров. Позже на трибы стали делить жителей территориальных образований, и связь термина с числом три потерялась.
Троя — древний город на северо-западе Малой Азии, разрушенный в результате Троянской войны. Назывался также Илионом, а в клинописных хеттских источниках, современных Троянской войне, Труисой.
Турма — конный отряд примерно из 30 всадников в римском войске.
Туск (или туруск) — самоназвание этрусков. Название «этруск» является латинизированной формой этих слов. В Египте этрусков называли «туруша».
Трофеи — вооружение, снятое с убитого врага и часто приносимое в дар богам. Первыми трофеями римлян считаются доспехи царя Акрона, убитого Ромулом.
Тускул — латинский город у восточной подошвы Альбанской горы.
Урна (urna) — римская мера объёма, 13,10 литра.
Ферентинская роща — священная роща на склоне Альбанской горы, где, в частности, устраивались собрания представителей Союза латинских городов.
Фидены — латинский город на Тибре в 10 км севернее Рима.
Фламин — жрец определённого бога в Древнем Риме.
Флегрейские поля — плодородные равнины Кампании в районе современного Неаполя.
Фунданское озеро — озеро в Лации, на берегу которого стоял город Габий.
Ценина — латинский город в 15 км к северо-востоку от Рима.
Центурия (от латинского centuria — сотня) — отряд из сотни пеших воинов, основная единица римского войска. Позже — единица классификации римских граждан, по которой комплектовалось войско (центурия должна была давать в войско 100 бойцов).
Цере — этрусский город, стоявший недалеко от моря, в 35 км к востоку от Рима, центр одной из областей Двенадцатиградия.
Эквы — народ, обитавший в верховьях Аниена.
Энеида — знаменитая незаконченная поэма Вергилия, в которой поэт как бы повторяет «Илиаду» Гомера на другом мифологическом материале. В поэме он описывает гибель Трои, прибытие изгнанников-троянцев Энея через Карфаген и Сицилию в Лаций, заключение им союза с латинянами и войну с рутулами и этрусками из Цере.
Этеры — что-то вроде личной гвардии этрусских аристократов, напоминающих гейтаров Александра Македонского.
Этруски — наиболее значительный и культурный народ древней Италии, пришельцы с востока со сложной, не выясненной до конца историей переселения. Сыграли значительную роль в формировании культуры Римского государства, составили заметную часть римской аристократии. Последним знатоком этрусского языка считается римский император Клавдий, написавший не дошедшие до нас труды по истории и обычаям этрусков.
ХРОНОЛОГИЯ
(СОСТАВЛЕНА С. ЖИТОМИРСКИМ)
Следует заметить, что опубликованные вместе романы, подобно, например, книге Томаса Манна «Иосиф и его братья», излагают полулегендарные события. И я, автор «Ромула», и А. Дугган, автор «Отцов-основателей», пересказываем древние легенды, накладывая их на реальный исторический фон древней Италии. Естественно, их хронология весьма условна.
Предания об основании «Вечного города» Рима и его основателе Ромуле содержатся в произведениях трёх античных авторов — учёного энциклопедиста Марка Теренция Варрона (116-27 до н.э.), историка Тита Ливия (59 до н.э.-17 н.э.) и греческого писателя Плутарха (ок. 46 — позже 119 н.э.). В романе А. Дугган в основном следует античной традиции, сохраняя и главные традиционные даты — основание Рима (753 г. до н.э.), исчезновение Ромула (716 г. до н. э) и призвание Нумы Помпилия (715 г. до н. э). Эти даты определены на основе сохранившихся сведений о правлении римских царей долетописной эпохи. По-видимому, они близки к истине — археологические раскопки подтвердили, что поселение на Палантине действительно возникло около VIII в. до н.э.
Любопытные подробности относительно способа определения даты рождения Ромула приводит Плутарх. Он пишет, что некий астролог Таруций вычислил её по данным биографии геОлимпиады. Как считается, первая Олимпиада состоялась в 776 г. до н.э., и поскольку в Древней Греции Олимпийские игры, как и современные, проходили раз в четыре года, то первый год второй Олимпиады наступил в 772 г. до н.э. Ромул мог родиться, вероятно, в следующем. Нужно иметь в виду, что и дата первой Олимпиады была определена приблизительно только в IV в. до н.э.
Эта дата рождения братьев близка к той, которая получается из традиционной даты основания города и приводимых Плутархом времени жизни Ромула (55 лет) и времени его царствования (38 лет). При этом выходит, что Ромул основал город семнадцатилетним юношей. А. Дугган считает, что во время основания Рима он был лет на десять старше, но мне представляется, что сведения древних историков более правдоподобны. Сама авантюра с основанием нового города человеком, который имел законные права на власть в родном, говорит о молодости героя. Исходя из этого, я в романе придерживался мнения Плутарха.
А. Дугган, сохраняя последовательность событий ранней истории Рима, в ряде случаев несколько увеличивает промежутки между ними, исходя из логики событий. Так, Плутарх пишет, что похищение сабинянок произошло через три месяца после основания города, что, разумеется, маловероятно. Дугган отодвигает его на четыре года, в течение которых римляне успели обжиться на новом месте и наладить отношения с соседями.
В романе Ромул исчезает во время прохода грозовой тучи, но существует и другое толкование этого небесного знамения. Оратор и политик Цицерон (106 до н.э.-43 до н.э.) считает испуг зрителей церемонии результатом солнечного затмения и добавляет, что астрономы, вычислив время затмения, уточнили дату события.
ТАБЛИЦА
ОБ АВТОРАХ
ЖИТОМИРСКИЙ Сергей Викторович, 1929 г. рождения, основная профессия — инженер-конструктор. В настоящее время член редколлегии и один из редакторов тома «Вселенная» энциклопедии для школьников издательства «Российская энциклопедия».
В литературе начинал как научный журналист, публиковался в журналах «Техника — молодёжи», «Знание — сила», «Наука и жизнь».
В художественной прозе автор нескольких рассказов, вышедшей отдельной книгой исторической повести «Учёный из Сиракуз» и романа «Эпикур» (М., ACT,2001).
Роман «Ромул и Рем» — новое произведение писателя.
Альфред ДУГГАН (1903-1964) — родился в Англии, получил гуманитарное образование. В 1940 г. добровольцем ушёл на фронт, был десантником. Получил тяжёлое ранение, после выздоровления работал на военном заводе.
Писать начал после войны, имея за плечами значительный жизненный опыт, что придало глубину образам его героев. Автор 14 исторических романов, большинство из которых посвящено английскому Средневековью.
Роман «Отцы-основатели» неоднократно переиздавался в Англии, на русский язык переведён впервые.







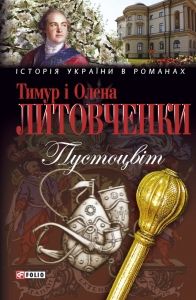
Комментарии к книге «Ромул», Сергей Викторович Житомирский
Всего 0 комментариев