Восхождение. Кромвель
Из энциклопедического словаря,
Изд. Брокгауза и Ефрона, т. ХXХХIII,
СПб., 1892
Кромвель Оливер-лорд-протектор Англии, родился в 1599 г. в Гентингтоне. Его род принадлежал к среднему дворянству и возвысился в эпоху закрытия монастырей при Генрихе VIII, получив благодаря покровительству Томаса Кромвеля, ценные конфискованные имения. Состояние это было значительно расшатано вследствие расточительного образа жизни ближайших предков К. Отец Оливера К., Роберт К., человек образованный, вёл скромный образ жизни, занимаясь хозяйством в своих имениях и принимая участие в местном управлении. Заботы его о многочисленной семье (он имел десять детей, из которых Оливер был пятым) разделяла жена Елизавета Стюард, женщина умная и энергичная, ревностная пуританка, имевшая большое влияние на воспитание своего знаменитого сына. В 1616 г. К. поступил в Кембриджский университет, но в 1617 г. умер его отец, и он оставил Кембридж, чтобы взяться за управление доставшимся ему имением. Впоследствии К. изучал некоторое время право в Лондоне, где и женился в 1620 г. на Елизавете Борчир, дочери богатого купца лондонского Сити; у них было восемь детей. Дом К. в Гентингтоне служил убежищем для лиц, терпевших преследования за религиозные убеждения. Про него говорили, что его хозяйство идёт плохо, потому что он два раза в день собирает вокруг себя рабочих, рассуждает с ними и молится. В 1628 г. он был избран членом палаты общин от Гентингтона, но только однажды (11 февраля 1629 г.) принял участие в дебатах, выступив в защиту свободы проповеди пуританских доктрин. В 1635-38 гг. К., переселившийся в Илей, принимал некоторое участие в борьбе против произвольного обложения корабельной податью, которую главным образом вёл Джон Гемпден, двоюродный брат и друг К. В так называемый «долгий парламент» был выбран депутатом от Кембриджа. Роль его, здесь с самого начала довольно активная, стала особенно возрастать с тех пор, как обострились отношения между королём и парламентом. Когда в начале 1642 г. Карл I покинул Лондон и гражданская война сделалась неизбежной, К. пожертвовал значительную, по его средствам, сумму в 500 фунтов стерлингов для защиты народных прав, а в июле того же года организовал в Кембридже два отряда волонтёров. В августе 1642 г. началась междоусобная война между королевской и парламентской армиями, и с тех пор в течение девяти лет К. всецело жил жизнью солдата. Не обладая специальной военной подготовкой, К., однако, вскоре обнаружил выдающиеся способности военачальника, стратега и тактика и сумел из своих волонтёрских отрядов образовать ядро регулярной армии, которая по дисциплине, искусству и мужеству достигла высокой степени совершенства. Успеху К. много содействовало систематическое проведение принципа, которого он держался при организации отрядов — набирать людей, сознательно относящихся к делу и исполненных религиозного воодушевления к задачам борьбы. Чтобы противодействовать соединению северных частей королевской армии с южными, К. образовал из нескольких смежных графств «восточный союз», сделавшийся основой индепендентского войска. Произведённый в полковники в марте 1643 г., К., со своим образцовым кавалерийским отрядом, одержал при Грантаме (в мае того же года) важную победу над вдвое сильнейшим врагом и в октябре вместе с графом Манчестером выиграл большое сражение при Войнсби. В феврале 1644 г. парламент назначил К. членом комитета для высшего руководства военными действиями. В качестве помощника графа Манчестера К. фактически являлся главным начальником восточной армии, состоявшей почти всецело из ревностных пуритан. В июле 1644 г. произошло решительное сражение под Йорком при Марстон-Муре. Одно время успех склонялся на сторону королевской армии, но К., командовавший левым крылом, врезался в неприятельское войско и обеспечил полное поражение его. Эта победа доставила К. огромную популярность, усилению которой помогли неудачи других предводителей парламентской армии. Поражение графа Манчестера при Ньюбери послужило для К. поводом к возбуждению в парламенте формального обвинения против Манчестера, который, со своей стороны, обвинял К. в неповиновении. Победа осталась за К.; по его мысли, парламент принял так называемый акт о самоотречении, по которому члены обеих палат (в том числе Эссекс, Манчестер и др.) должны были отказаться от командования. В то же время К. провёл новую организацию войска, по которой три иррегулярные армии были слиты в одну регулярную армию, под начальством Ферфакса. Для К. было сделано исключение: являясь как бы помощником Ферфакса, он играл руководящую роль в дальнейших событиях войны, особенно в сражении при Незби (в июне 1645 г.), окончившемся полным разгромом королевской армии. Теперь на первый план выступили вопросы политические, перенёсшие центр тяжести событий в парламент. С провозглашением республики и упразднением палаты лордов верховная власть сосредоточилась в палате общин, а высшая исполнительная власть вверена была совету из 42 членов под председательством Брэдшо. Наиболее влиятельным членом его был К., которого критические обстоятельства всё более выдвигали на первый план в положение диктатора. Этому особенно содействовали блестящие победы, одержанные К. в Ирландии, куда он был послан в августе 1649 г. для подавления восстания, и в Шотландии, где сын казнённого Карла I был провозглашён королём под именем Карла II. В течение 1650 и 1651 гг. К. нанёс шотландцам ряд поражений и провозгласил присоединение Шотландии к Англии. С другой стороны, и в парламенте К. принадлежало преобладающее влияние; одним из главных проявлений его было проведение (в окт. 1651 г.) «Навигационного акта», весьма много содействовавшего развитию морского могущества Англии. Когда мало-помалу обострился конфликт производства новых выборов, К. решился прибегнуть к силе и 20 апреля 1653 г., явившись внезапно в парламент, распустил его. Этот переворот, наделивший К. диктаторской и пастью, встречен был вообще сочувственно. Монархисты надеялись, что К. призовёт на английский престол Карла II, удовольствовавшись положением вице-короля Ирландии; другие полагали, что К. сам возложит на себя корону. Предоставленное К. парламентом звание генералиссимуса трёх королевств делало его единственным носителем власти; но для установления законного порядка управления необходимо было созвание нового парламента. Образование его совершено было не при посредстве общих выборов, а особым порядком. Сначала в графствах были составлены списки «благочестивых» людей, принадлежавших к различным диссидентским сектам, и уже из их среды избрано было 155 депутатов: 139 от Англии, 6 — Валлиса, 6 — Ирландии и 4 — Шотландии. Во вступительной речи К., передавая парламенту верховную власть, указал на значение пережитой гражданской войны: благочестивые люди освободили народ от монархического ярма, а теперь они призваны к тому, чтобы управлять народом. К. надеялся, что эти отборные представители пуританизма установят наиболее желательный ему строй жизни, но ему вскоре пришлось разочароваться в них. Малый, или «Бербонский», парламент обнаружил столь решительные стремления к самым радикальным реформам во всех частях общественного и политического строя, что вызвал в К., никогда не упускавшем из виду практической стороны дела, серьёзные опасения; занятиям парламента в декабре 1653 г. был положен конец. Вслед за тем К., не желая единолично нести бремя власти и её ответственность, созвал военный совет с участием некоторых других лиц. Этим советом составлен был проект конституции под названием Instrument of Government. Органам высшего управления в трёх соединённых королевствах являются общины Англии, Шотландии и Ирландии, созываемые в парламент на три года в составе 400 членов, затем «лорд протектор» и государственный совет в составе не менее 13 и не более 21 лица. Протектор осуществляет свою власть при содействии и под контролем государственного совета; ему принадлежит высшее командование сухопутными и морскими силами, право объявлять войну и заключать мир. Когда парламент не заседает, протектор и государственный совет могут издавать ордонансы, имеющие силу закона. Протектор избирается государственным советом пожизненно. Звание протектора было предложено Кромвелю, который 16 декабря 1653 г. и принял верховную власть. В силу Instrument of Government первый парламент должен был быть созван 3 сентября 1654 г., так что в течение девяти месяцев управление страною находилось всецело в руках К. За это время он проявил чрезвычайную энергию и законодательное творчество, издав 82 ордонанса, касавшихся самых важных предметов (и впоследствии одобренных парламентом) — упрочения связи Шотландии и Ирландии с Англией, регламентации церковного управления в Англии с предоставлением равных прав трём главным религиозным группам (пресвитерианам, баптистам и индепендентам), реформы суда с целью сделать его более доступным населению, пересмотра уголовных законов и пр. В области внутренней политики К. вскоре пришлось встретиться с большими затруднениями, В среде собравшегося нового парламента обнаружилось стремление подвергнуть коренным изменениям постановления Instrument of Government и, в частности, ограничить права протектора. К. настаивал на неприкосновенности важнейших оснований установленного порядка; когда же парламент принял постановления, нарушавшие религиозную свободу, восстал против налогов, установленных для содержания войска, и отсрочил с целью продлить сессию вотирование средств на армию и флот. К. в январе 1655 г. распустил парламент и в течение одного года и восьми месяцев не созывал нового. Instrument of Government предоставлял протектору право взимать без согласия парламента сборы, достаточные для покрытия расходов по управлению, и после роспуска парламента К. воспользовался этим правом. Многие, однако, отказывались платить, ссылаясь на то, что постановления Instrument’a , не одобренные парламентом, не обязательны. Некоторые судьи соглашались с этим; К. удалял их от должностей. В то же время резко стало обнаруживаться недовольство как в кругу передовых республиканцев, так и особенно в среде роялистов. В феврале 1655 г. проектировано было общее восстание; в Салисбери сделано было нападение на судей, прибывших на сессию. Тогда К. разделил Англию на десять военных округов и в каждом из них поставил генерала с неограниченными полномочиями по охранению порядка, а для содержания войска и полиции установил 10%-ный сбор с имений роялистов.
Весьма успешна была иностранная политика К., благодаря которой Англия заняла могущественное положение среди европейских государств, в особенности как морская держава. Ещё до учреждения протектората началась борьба Англии с Голландией; английский флот под командою пуританина Юлэка одержал блестящие победы; мирный договор с Голландией (15 апреля 1654 г.) упрочил за Англией преобладание на море. С Португалией, Францией, Данией и Швецией заключены были договоры, выгодные для морской торговли Англии. Значительный успех имела и борьба К. с Испанией. В общем, политическое искусство К. положило начало влиянию Англии на ход мировой политики. Необходимость в субсидиях на войну с Испанией побудила К. созвать новый парламент (в сентябре 1656 г.). Оппозиция имела на выборах большой успех; чтобы ослабить её, К. воспользовался предоставленным государственному совету правом проверки избраний и добился удаления из парламента около сотни своих противников. Таким путём было обеспечено благоприятное большинство, которое и вотировало военную субсидию в 400 000 фунтов стерлингов. Парламент отказался легализовать исключительные полномочия генералов, поставленных во главе военных округов, но ввиду заговоров роялистов против жизни К. принял некоторые меры для охраны безопасности протектора: для суда над заговорщиками установлены были специальные трибуналы. В январе 1657 г. на жизнь К. совершено было покушение, и избавление его от опасности праздновалось с большими торжествами. 25 марта 1657 г. большинством 123 голосов против 62 постановлено было просить К. принять титул короля Англии, Шотландии и Ирландии. К. медлил с ответом, зная, что армия не сочувствует восстановлению монархии. Генерал Ламберт и сто офицеров просили К. отказаться от короны, а 8 мая и в парламент была представлена подобная же петиция от многих офицеров. В тот же день К. объявил, что отказывается от короны. Между тем парламент выработал новую конституцию в монархическом духе, которая и была вотирована с заменою лишь слова «король» словом «протектор». 25 мая К. одобрил эту новую конституцию, которая наделяла его более обширными правами и, между прочим, правом назначить себе преемника. Вместе с тем восстанавливалась верхняя палата, члены которой назначались протектором. После издания новой конституции К. 26 июня 1657 г. снова был провозглашён в Вестминстерской церкви лордом-протектором; это было обставлено особенной торжественностью. Причём К. был уже не в гражданском платье, как в первый раз, а в пурпуровой мантии и со скипетром. С открытием в январе 1658 г. новой сессии парламента становится заметным усиление оппозиции, отчасти вследствие перехода некоторых приверженцев К. в верхнюю палату, отчасти вследствие возвращения удалённых в 1656 г. депутатов. Не выступая с нападками на самого протектора, оппозиция вела борьбу с верхней палатой и старалась изменить новую конституцию. Два раза К. обращался к парламенту с увещанием вести мирную законодательную работу, но обращения его остались без результата; тогда К. 4 февраля 1658 г. распустил парламент. Непрерывная борьба утомила К. и надломила его силы: 3 сентября 1658 г. он скончался. Похоронен он был с необыкновенной пышностью (на похороны его было израсходовано 80 000 фунтов стерлингов), в Вестминстерском аббатстве. Незадолго перед смертью К. назначил своим преемником сына своего, Ричарда К. (1626-1712), который и был провозглашён протектором, но, будучи человеком малоспособным и ничтожным, не мог справиться с трудностями положения и уже в мае 1659 г. вынужден был отречься от своего звания.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Вождь умирал. Воля к победе с прежней силой жгла его львиное сердце, а сердце с каждым днём всё замедляло и замедляло свой бег, вдруг замирало, порой пропадало и замирало так долго, что он слышал бесшумное приближение смерти и готовился встретиться с Господом, чтобы перед Ним оправдаться или получить законную плату за каждый свой грех, ведь только Господу и служил всю свою жизнь и только после Него отечеству и семье.
Полночь пробило. Не спалось. Уже несколько дней больной не покидал просторного кресла. Его заботливо обложили подушками, однако надевать ночную рубашку, колпак и ложиться в постель он пока не хотел. На нём были высокие сапоги и чёрный камзол. Он оставил и широкую, стянутую стальной пряжкой кожаную перевязь через плечо, готовый подняться и вложить свою шпагу. Его голова, тяжёлая, смутная, бессильно опиралась на высокую спинку. Седые, длинные, почти не поредевшие кудри были в беспорядке разбросаны по плечам. Только их беспорядок да мертвенная бледность лица выдавали недостойную для вождя слабость.
Рядом, по левую руку, на круглом столике выступала из полутьмы фамильная кружка и бутылка любимого хереса. Час, может быть, два назад бутылку откупорил молчаливый слуга, по его повелению задул все свечи в большом канделябре, оставив только одну, и удалился бесшумно, как смерть. Пламя одинокой свечи слабо освещало пространство громадного кабинета, и, когда оно вздрагивало, мрачные тени шевелились в углах. Тогда казалось, что они недовольно ворчат.
Умирающий едва прикоснулся к вину. Вино тоже изменило: оно утратило свой терпкий, бодрящий, обжигающий вкус. После вина сердце пускалось биться тревожно и так быстро, точно собиралось вылететь навсегда, а поясницу обжигала жестокая боль. И все изменили ему, теперь уже все. Дочери вышли замуж за кавалеров и венчались тайно по англиканским обрядам, хотя знали, что англиканскую церковь он объявил вне закона. Ему противились его генералы, среди них созревала и крепла мысль о предательстве. Ламберта, лучшего из его полководцев, пришлось отстранить и отправить в провинцию. Провинции волновались. Выпускались горы памфлетов, затевались заговоры, вспыхивали восстания, и если бы заговоры и восстания были делом рук одних кавалеров, этой недобитой монархической сволочи, которая во сне и наяву видела возвращение ненавистных Стюартов. Так нет, затевали смуту республиканцы, левеллеры[1], анабаптисты[2], какие-то люди пятой монархии, католики, во сне и наяву видевшие победу Испании, служили мессы в частных домах, от них не отставала англиканская церковь. Полиция сбивалась с ног, казни следовали одна за другой, генералы были по локоть в крови, а заговоров и восстаний становилось всё больше. Главное, давно опустела казна, никакие конфискации не могли наполнить её, никакие чрезвычайные меры, дефицит превышал годовой доход и перевалил за полтора миллиона. Солдатам не выдавали жалованье три месяца, ещё месяц-другой, и армия выступит против него. Что станется с ним? Ничего. Ему достанет времени умереть. Что станется с Англией? Англия захлебнётся в новой резне, Испания обрушится на неё, и от Англии ничего не останется, только пепел и тлен, это он своими глазами видел в Ирландии.
В этой жалкой стране никто не в силах понять или не желает принять священный закон, начертанный Господом: политик делает только то, что возможно. Левеллеры добиваются справедливости и видят её в установлении равенства — какая справедливость, когда немногие богаты, а многие бедны, какое равенство богатого с бедным, богатые и бедные испокон веку враги, и разве богатые откажутся от своих богатств без новой резни? Кавалеры жизнь отдают, чтобы воротились Стюарты — какие Стюарты, Стюарты приведут за собой разгневанных землевладельцев, которые потребуют воротить земли, раскупленные или раскраденные его генералами, его офицерами. Свои земли не получить им без новой резни, и разве могут управлять страной те, кто уже управлял и умудрился всё потерять? Республиканцы, вечные фантазёры и крикуны, требуют чистой республики. Какая республика? В последний парламент, предварительно очищенный его повелением от подозрительных элементов, избиратели направили монархистов, а монархисты потребовали восстановить палату лордов и власть короля, и разве смогут республиканцы со своей чистой республикой удержаться у власти без новой, ещё более жестокой резни?
Разбогатевшие воротилы торговли, разжиревшие финансовые магнаты, смирнёхонько засевшие в Сити, одинаково страшатся и республики, и Стюартов, и равенства. Оно и понятно, в любом случае их жадные головы первыми попадут под топор палача. Они тоже хотят палату общин, палату лордов и власть короля, своего короля, который не отдаст их на растерзанье ни левеллерам, ни республиканцам, ни кавалерам. Своим королём они видят его, невольного вождя революции. Они предлагают корону, наследственную власть и много денег на армию, ибо без армии он не сможет их защитить.
Оливер Первый — звучит довольно смешно. Он служил только Господу. Звания генерала, протектора, короля, придуманные людьми, наивными в своей слепоте, для него не дороже пера со шляпы. Всё-таки мог бы стать королём, если это воля Господня. Тогда наверняка получит деньги на армию, заплатит солдатам, и армия по-прежнему будет на его стороне. Кто же посмеет ему возразить? Возразят его генералы. Не успеет холодный металл коснуться его головы, они арестуют его, обвинят в измене, в отступничестве, в сношениях с дьяволом, не важно в чём, но своей смертью он тогда не умрёт.
Да и много ли нынче весит звание короля? Один звук, пустота. Кромвель и без королевского титула может передать власть по наследству. Но кому? Сыну Ричарду? Какой же он протектор или король? Ричард напрочь лишён государственного ума. В первый же день наделает столько ошибок, что власть сама собой выпадет из его слабых рук. Его политические взгляды расплывчаты, он лишён энергии действия, в его сердце не бьётся жажда победы, он не живёт только мыслью о Господе. Пока отец воевал и правил, правил и воевал, из сына вырос тихий, скромный сельский хозяин, любитель охоты и лошадей, убеждённый, что в этом мире ничего не придумано лучше сытой, спокойной, размеренной, непритязательной жизни в своём уголке, со своей конюшней, со своей сворой собак, с женой и детьми. Может быть, Ричард прав, однако за это генералы презирают его, армия не примет гражданского человека, финансовые воротилы деньги, конечно, дадут и станут вертеть им, как куклой, не у короля Ричарда, не у протектора Ричарда будет настоящая власть, настоящая власть будет у них. Неужели море крови пролито единственно ради того, чтобы страной управляли торгаш и банкир?
Господи, свой праведный гнев изливаешь за что?!
Он был убеждён, что сам Господь возвысил его, сам он этого не хотел, не просил, он всегда был покорен только воле Его.
2
Роберт Кромвель, отец, был простой сельский хозяин, землевладелец и пивовар, и он сам, Оливер Кромвель, его единственный сын, долгие годы тихо и мирно был сельским хозяином, землевладельцем и пивоваром. Оба они гордились тем, что варят пиво, разводят овец и коров и получают доход более трёхсот фунтов стерлингов в год. Роберт Кромвель любил повторять:
— Труд есть священный долг перед Господом, ибо Господь сказал, что тот, кто верит в него, должен в поте лица добывать свой хлеб, и потому всё лучшее на земле Создано трудом человека.
В любое время года, в любую погоду, в дождь и в жару Роберт Кромвель поднимался чуть свет, завтракал хлебом и молоком, сам отправлялся в конюшню, седлал своего гнедого конька, способного пройти без отдыха тридцать миль, в поношенной шляпе, в потёртых перчатках поднимался в седло и выезжал со двора, пропадал целый день, а домой возвращался с наступлением темноты, усталый, но спокойный, довольный собой.
Он объезжал стада коров, отары овец, осматривал маток, при случае сам принимал телят и ягнят; следил за созреванием трав и мог встать в один ряд с косцами или подавать вилами сено; с особенным вниманием наблюдал за стрижкой овец и сам брал ножницы в руки, чтобы помочь стригалям; проверял, хорошо ли вымыта шерсть, ровно ли щиплют её крестьянские ребятишки, одинаковой ли толщины нити прядут крестьянские девки, сколько нитей закладывают в основу ткачи, работающие на него в деревнях, ближних и дальних, проверял ширину и длину полученного куска, взвешивал каждый кусок, добиваясь, чтобы прядильщики и ткачи неукоснительно соблюдали закон; отправлял коров и бычков поблизости в Кембридж, а шерсть и сукно на лондонский оптовый рынок, подсчитывал прибыль и, если прибыль была высока, не без гордости говорил:
— Шерсть — вот истинное золото Англии. Испанское золото даровое, испанцы, паписты, еретики, льют кровь и грабят колонии, своё золото они промотают ещё быстрей, чем Оливер промотает наследство отца, а золото Англии будет всегда.
Если цены падали и Роберт Кромвель зарабатывал меньше трёхсот фунтов стерлингов в год, он долго ворчал, что испанцы, эти паписты, еретики, вытесняют английскую шерсть с европейского рынка, что у этих папистов, еретиков шерсть тоньше и сладу с ней нет. Тогда он вспоминал короля и бранился:
— Обязанность короля приумножать достояние подданных. Давно пора задать перцу этим папистам, еретикам.
Каждое воскресное утро, неизменно спокойный, сосредоточенный, во главе семейства, отправлялся в приходскую церковь. Правда, это была королевская епископальная церковь, она не удовлетворяла его. Королевская, англиканская церковь, по его словам, порвала с папистами только для виду. Его раздражали пышные одежды священников, роскошное убранство икон, языческие обряды, как он их называл. Роберт, как и многие горожане, считал, что церковь должна быть бедной и строгой, как в первые века христианства, когда она жила по заветам Христа, ибо сказано, что ни один богач не попадёт в Царство Небесное. Для него единственным и величайшим законом было Евангелие, только оно было компасом, который указывал верный путь к праведной жизни, только оно было якорем, спасавшим его в бурях переменчивой жизни, оно стояло выше его мысли, выше воли, он чтил только Евангелие и преклонял голову только перед этим законом, который был установлен не им и никем из людей, и если Кромвель исправно каждое воскресное утро посещал королевскую англиканскую церковь, то лишь потому, что пропустившего ждал епископский суд, а Евангелие предписывало покорность властям, праведным, справедливым властям, иногда прибавлял он, когда король отступал от истинной веры и причинял своим подданным вред, ведь не Господь существует для человека, но человек существует для Господа, вся жизнь человека не более чем служение и прославление Господа, из чего следует, что король так же должен служить Господу, как и простой смертный.
Возвращаясь из церкви домой, Роберт Кромвель объяснял трёхлетнему сыну, ведя его за руку, ступая медленно, осторожно, как человек, привыкший ездить верхом:
— Служение Господу, Оливер, не такое уж лёгкое дело, как может тебе показаться, ведь душа человека смущается дьяволом, а дьявол хитёр, ах как хитёр, он хитрее самого хитрого хитреца. Как ты думаешь, в чём его хитрость? Тебе уже пора это знать, потом будет поздно, мой мальчик. Дьявол смущает бедную душу легионом желаний. Смущённая ими, душа становится похожа на путника в чужой стране, среди неведомых зверей, может быть, лучше сказать, это город, осаждённый врагом. Слабая душа уступает дьяволу без борьбы, сдаёт город врагу, не сделав ни единого выстрела, тогда как душа того, кто служит Господу, подобна воину, выступившему в поход. Чтобы спастись, она вступает в борьбу с искушениями плоти, с соблазнами растленного мира, погрязшего в грехе и разврате, об этом ты узнаешь потом, когда станешь взрослым. Не уставай же в борьбе, мой мальчик, не останавливайся ни на минуту, иди вперёд и вперёд, выкажи мужество, закали сердце желанием победить.
Роберт знал, о чём говорил. Его борьба с кознями дьявола была давно позади. Он неукоснительно следовал правилам, которые, не зная усталости, внушал своему пока что несмышлёному сыну. Бережливость, скромность этого человека могли служить примером другим. Он всегда был одет в камзол простого сукна, вытканного его же ткачами. Камзол украшался только широким белым полотняным воротником, без кружев и иных финтифлюшек, какими ублажают свою пустоту бездельники и кавалеры, да стальной пряжка кожаного ремня. Его лицо бывало большей частью спокойно, взгляд сосредоточен, губы сжаты. Он был сдержан в обращении с женой и детьми, строг, но справедлив со своими работниками, немногословен с единоверцами, неразговорчив с приверженцами королевской церкви и всегда с презрением, даже с ненавистью говорил о папистах, которым, по его убеждению, не должно быть места на доброй английской земле. Он не любил церковных праздников, потому что в праздники запрещалось работать. Во время праздников Роберт выходил на площадь вместе с семьёй, не желая предстать перед судом, ведь всюду в толпе шныряли шпионы епископа, но не принимал участия в плясках, поскольку почитал эти пляски наваждением дьявола. Не прикасался к картам, не играл в кости, не бывал в театре, когда лондонские актёры давали представления в Гентингтоне, не участвовал в спортивных играх вроде футбола или ручного мяча, из чего следует, что Кромвель тщательно избегал искусно сплетённых сетей хитроумного дьявола.
Твёрдо уверенный в том, что отвращает козни дьявола от себя и своих домочадцев, Роберт воскресными вечерами усаживал жену и детей за большой дубовый обеденный стол. Они чинно рассаживались на длинные лавки, соблюдая строго заведённый порядок: дети ближе к концу, слуги на самом дальнем краю. Глава семейства опускался в просторное дубовое кресло с невысокой прямой спинкой, которой никогда не касался спиной, и раскрывал свою английскую Библию, отпечатанную на тончайшей бумаге небольшого формата, чтобы она всегда была под рукой, и в поле, и в путешествии, и на случайном ночлеге. Перед ним горела единственная свеча. Из тьмы слабый свет выхватывал нос, длинные пряди прямых рыжеватых волос, которые опускались на грудь, желтоватые страницы с чёрненьким бисером строк и застывшие в напряжённом внимании лица семьи. Мрак таинственно клубился за спинами. Стояла мёртвая тишина.
Единственную книгу Кромвель читал медленно, благоговейно, не так, как читают обычные книги. Отчётливо, ясно произносил низким голосом каждый стих, останавливался в раздумье, точно читает впервые, изъяснял его смысл и для лучшего понимания приводил всем известные истории из жизни родных, соседей, торговцев мясом и шерстью, пастухов и ткачей. К изумлению слушателей, среди них обнаруживались свои Иовы, Ионы, Иаковы, и те, кто зарывал талант в землю, и те, кто приумножал данный талант, и, конечно, Иуды, и стих оживал у всех на глазах, и смысл его становился понятен.
Всё-таки послания Петра привлекали его чаще других. Какое бы происшествие ни всколыхнуло маленький Гентингтон, разорись кто-нибудь из соседей, попадись торговец шерстью на жульничестве, проворонь коров или овец пастух, он аккуратно перебрасывал страницы ближе к концу, и голос его возвышался, точно сам он становился апостолом и обращался к пришельцам и избранным:
— «И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного ещё прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мёртвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога».
Часто останавливался, подолгу молчал, точно хотел молчанием усилить важность прочитанного, продолжал взволнованно, и голос его возвышался:
— «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?»
Заканчивал всегда растроганно, тихо:
— «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь».
Затем поднимал голову, долго смотрел перед собой, точно силился увидеть Его, осторожно закрывал единственную книгу и устало произносил:
— Ступайте с миром.
Если Роберт не читал единственную книгу и не рассуждал о ценах на мясо и шерсть, то вспоминал своих предков. Он любил подчеркнуть, что они были валлийцами, а валлийцы, по его убеждению, были лучшими из людей, трудолюбивые, гордые, независимые, не чета англичанам, которые только что не молятся на своего короля. Кромвели и Уильямсы, близкие родственники, испокон веку жили в Уэльсе. Они были овцеводами и суконщиками. Суконщиком был и Томас Кромвель, впоследствии прозванный Железной рукой. Перебравшись по делам в Лондон, он сумел сделать блистательную карьеру, со временем сделавшись правой рукой короля. Когда Генрих VIII решил порвать с католическим Римом, первым, кто поддержал это мужественное решение, был Томас Кромвель. Его стараниями был смещён с поста канцлера и казнён Томас Мор, истовый, непримиримый папист. В благодарность за эту услугу король Генрих сделал Томаса канцлером и поручил ему истребить в Англии самый дух католичества. Повинуясь высочайшему повелению, бывший суконщик громил монастыри и вешал папистов. Монастырские земли становились достоянием короля и его приближённых. Тогда многие аббатства перешли в собственность Томаса, но самым богатым человеком в Англии он стать не успел. По мнению Роберта, прадедушка, отступая от истинной веры, напрасно потакал греховным наклонностям короля. Он не был против развода его с первой женой, приветствовал второй брак с Анной Болейн, который отказался признать ненавистный папист Томас Мор, не возражал против третьей жены короля и сам ему выбрал четвёртую. Потакание чужому греху есть тоже грех, и Томас был жестоко, но справедливо наказан. Четвёртый брак короля не заладился, как и прежние. В этой неудаче король увидел тайные козни свата и канцлера. Его повелением Кромвель был обезглавлен.
Так случилось, что на празднествах, устроенных именно по случаю этого четвёртого брака, в рыцарских поединках отличился Ричард Уильямс, его верный помощник, близкий родственник, кажется, даже племянник. Говорят, на нём был белый бархатный плащ и он отразил все атаки противников и выбивал соперников из седла метким ударом копья. Король Генрих, быстро стареющий, уже неизлечимо больной, был восхищен, возвёл Ричарда Уильямса в рыцари, обнял его со слезами, подарил перстень с алмазом, тут же снятый с руки, и расслабленным голосом произнёс:
— Прежде ты был мой Дик, теперь будешь мой диамант.
Истинный валлиец, Ричард Уильямс после казни канцлера взял его имя и стал называться Ричардом Кромвелем. Король Генрих, жестокий деспот, но рыцарь в душе, не стал возражать. Ему нужны были верные слуги, а Ричард оказался верным слугой. Он раскрыл заговор папистов-еретиков и сам участвовал в его подавлении; довершил начатый дядей разгром папистских монастырей и проявил истинную доблесть в войне против французов, тоже папистов, посмевших поддерживать английских еретиков. В награду за подвиги король Генрих пожаловал новоявленному Кромвелю земельные владения в Лондоне и Уэльсе, отнятые у папистских монахов, а также доходы с одного приората и одного аббатства в графстве Гентингтон. Сделавшись богачом, Ричард женился на дочери лондонского мэра, вышел в отставку, поселился в своих владениях и зажил барином-белоручкой, что очень не нравилось его внуку Роберту.
Своё громадное состояние Ричард оставил, как полагается, сыну Генриху, а вместе с состоянием передал ему и дурные привычки расточительства и пустого препровождения времени, привычки, противные истинной вере. В наследственном поместье Хинчинбрук, бывшем католическом приорате, Генрих Кромвель построил роскошный замок, точно его предки не были простыми суконщиками, украсил его французскими гобеленами, картинами и вазами итальянских мастеров, женился опять-таки на дочери лондонского мэра, зажил барином, принимал у себя сотни гостей, стал верным прихожанином королевской англиканской церкви и благоговел перед королевой Елизаветой. Его благоговение было столь велико, он так громко распространялся о своём преклонении перед ней, что однажды Елизавета посетила его замок на зелёных берегах тихого илистого мутноватого Уза и под радостные клики гостей и придворных произвела своего почитателя в баронеты. С той поры сэра Генриха вся округа именовала Золотым рыцарем. Впрочем, его отличало не одно расточительство и наклонность к пустым развлечениям. В разное время его избирали членом парламента и шерифом сначала Гентингтона, а позднее и Кембриджа, и баронет послужил на общественном поприще с пользой для своих избирателей, что в своих рассказах особенно подчёркивал Роберт, его младший сын.
Счастливый отец, сэр Генрих вырастил шесть сыновей и пять дочерей. Замок Хинчинбрук на берегах Уза и громадные земли, как и подобает для сохранения родового богатства, получил старший сын Оливер, остатки поделили между собой младшие сыновья, дочери получили приданое. Как младшему сыну, Роберту из богатейших владений отца досталось очень немного, но он считал такое положение вещей справедливым и был доволен своей долей, повторяя своему сыну, что не наследство, а собственный труд и приумножение определяют истинное достоинство человека. Своего брата Оливера Роберт не любил, даже несколько презирал, но не оттого, что завидовал замкам, аббатствам и приоратам. Зависть — считал младший брат — один из тяжких и грязных грехов, несовместимых с истинной верой. Он осуждал безумное расточительство старшего брата, который не приумножал, а транжирил полученное наследство. Роскошные пиры, казалось, никогда не прекращались в Хинчинбруке, и если нынче заканчивался один, то назавтра начинался другой. Охота на кроликов сменялась охотой на лис. Бешеные кони охотников вытаптывали луга и пашни, принадлежавшие арендаторам и свободным крестьянам, нанося им без смысла, без цели непоправимый ущерб. Гремели праздники. Затевались турниры. Французское вино лилось рекой. Сэр Оливер веселился и разорялся, проматывал отцовское состояние. Читая Библию, Роберт частенько упоминал его имя в своих толкованиях, но не брата винил, а королевскую англиканскую церковь, которая, оставаясь наполовину папистской, своими роскошествами вводила в грех прихожан.
Однажды прискакал гонец и подал пакет. Сэр Оливер извещал своего старшего брата, что Яков Стюарт проездом из Шотландии в Лондон, где ему предстояло занять английский королевский престол, благосклонно согласился завернуть в Хинчинбрук и отдохнуть в его скромном замке несколько дней. По этому случаю готовятся грандиозные празднества. Разделить с ним высокую честь приветствовать столь необычного гостя сэр Оливер приглашает всех родных, друзей и соседей. Разумеется, и брата Роберта вместе с семьёй. Прибытие короля должно состояться двадцать седьмого апреля 1603 года.
Роберт ответил отказом: праздников он не любил, и его не приводила в восторг возможность лицезреть короля, по его мнению, тирана. Тихим весенним вечером следующего дня в его скромный каменный дом в два этажа пожаловал сам сэр Оливер, его сопровождали вооружённые слуги. Роберт и домочадцы мирно ужинали за общим столом. Старший брат тихо вошёл, промолвил приветствие, присел на край скамьи по правую руку от хозяина и негромко сказал:
— Тебе надо приехать. Это король.
Роберт поднял глаза. Тотчас на дальнем конце стола бесшумно поднялся мальчик-слуга, и перед сэром Кромвелем появилась оловянная тарелка, вилка и нож, а на тарелке ломоть хлеба и кусок варёной говядины. Продолжая ужинать, Роберт сказал:
— Угощайся. Зачем мне король? От короля я жду только беды.
— Какие же беды?
— Он сын папистки, Марии Стюарт.
— Он воспитан Ноксом и Бьюкененом, они приверженцы твоей истинной веры.
— Елизавета была протестанткой. Она казнила королеву Марию только за то, что у неё было больше прав на английский престол, чем у дочери Анны Болейн. Сын отомстит. Он не может не отомстить.
— Я оттого и зову тебя в Хинчинбрук. Увидев его, ты убедишься, что впал в заблуждение.
Роберт с сомнением покачал головой, отодвинул тарелку с обглоданными костями, сделал большой глоток пива и твёрдо сказал:
— Хорошо.
Младший брат сдержал слово: он отправился в Хинчинбрук всей семьёй. Роскошь Хинчинбрука вызывала у него отвращение. И замок, и конюшни, и псарни, и амбары, и склады, и площадка перед замком, и старинный монастырский разросшийся парк были приведены в образцовый порядок. Сигнальщики были расставлены по дороге на Лестер за несколько миль. Разодетые гости на дорогих скакунах толпились у въезда в усадьбу, готовясь выехать навстречу королевскому поезду. Между ними сновали не менее разодетые слуги. Впереди всех красовался сэр Оливер в модном камзоле зелёного бархата с высоким белым плоёным воротником, какие во всей Европе носят только паписты, в плаще белого бархата, в память о Ричарде Кромвеле, первом владельце бывшего приората.
Наконец прискакал сигнальщик на взмыленной лошади: едет! В тот же миг расфранчённые гости нестройной ватагой, победно крича и настёгивая плетьми дорогих скакунов, сорвались с места и скрылись из глаз. Они возвратились спустя полчаса, сопровождая раззолоченную карету на высоких рессорах, молчаливые, с торжественным выражением на раскрасневшихся лицах. Карета сделала круг и остановилась. Лакей в голубом кафтане и белых чулках распахнул дверцу и откинул ступень. Из кареты с трудом выбрался маленький человек, узкогрудый, тщедушный, с большой головой и лысеющим лбом, на кривых тоненьких ножках, удлинённых высокими красными каблуками, скорее сын молодого Дарнлея, чем Марии Стюарт, красивой и сильной, неутомимой наездницы, воинственной королевы Шотландии. С почтением, задерживая дыхание, маленького человека на кривых тоненьких ножках под руки отвели в покои, отведённые для него, обставленные с роскошью французского двора, где маленький человек на кривых тоненьких ножках мог переодеться и отдохнуть.
И грянули торжества. Они открылись турниром. Местные рыцари с тяжеловесным мастерством сельских хозяев смело разили друг друга тупыми длинными копьями, по счастью, никого не убив. Во время королевской охоты добрая сотня всадников под рёв труб и криков загонщиков затравила оленя, и последний удар, соскочив с коня, нанёс широким кинжалом король. Оленя ободрали, зажарили на вертеле и подали к обеденному столу. Прощальный обед начался в полдень великолепным шествием всех присутствующих, разбитых на пары, и продолжался до позднего вечера. Музыканты играли. Местные актёры представили комедию. Французские вина подавались без счета. Вино ударило в голову. Король стал говорить:
— Благодарю вас, джентльмены. Ваши приветствия я принимаю как одобрение. Я дам вам законы, да, я их вам дам. Под сенью моих законов, клянусь Господом, ваша страна достигнет благоденствия и процветания. Ибо...
Король пошатнулся и попытался строго взглянуть на весёлых гостей:
— Ибо шотландские короли были прежде сословий и рангов, прежде парламентов, прежде законов, это я подчеркну. Не кем иным, но королями была разделена земля между их верными слугами, королями были образованы сословия, королями были созданы рычаги управления. Короли были творцами законов, а не законы творили королей, это я подчеркну. Так было в Шотландии, отныне так будет и в Англии.
Веселье стало стихать. Сельские хозяева, здоровые, трезвые, крепкие на вино, с изумлением глядели на оратора, внезапно заслышав незнакомые речи. Внимание ободрило подпившего короля. Он заговорил вдохновенно:
— Ибо король — подобие Божие. Кто, кроме Бога, может быть судьёй между королём и народом? Я вам отвечу: никто! Ибо рассуждать, что может и чего не может Бог, есть богохульство, это, заметьте себе, стало быть, рассуждать о том, что может и чего не может король, есть бунт. А вы бунтовать? Ну, нет, я никому не позволю рассуждать о моей власти, никому и никогда! Монархический строй есть высший строй на земле, это вы должны твёрдо знать. Короли — наместники Бога. Короли сидят на Божьем престоле, это закон! Королей называет Богами сам Бог, это я где-то читал. Джентльмены, благодарю вас.
Король тяжело приподнялся и слабой рукой подал условленный знак. На середину залы выступил хозяин замка. Король приблизился к нему, ступая вразлад, качаясь на слабых тоненьких ножках, и опоясал его мечом старинного образца, с какими рыцари ходили в крестовый поход на язычников и мусульман, таким образом возведя его в рыцари, точно хотел показать, что он может всё, что ему позволено и что сомневаться в этом не смеет никто, однако уже не смог ничего сказать в ободрение нового рыцаря. Сэр Оливер преклонил колено и поцеловал его дрожащую руку. Король помедлил и милостивым жестом поднял его. В ответ сэр Оливер излил на короля свою щедрость. Он преподнёс ему тяжёлую чашу чистого золота. Во дворе короля ждал небольшой табун породистых лошадей, целая стая ловчих птиц и лучшая свора борзых. Одарив короля, хозяин замка одарил золотыми вещами и придворных. Пир был окончен. Стали собираться в дорогу. Отяжелевшего монарха под руки усадили в карету. Следом за ней потянулся бесконечный королевский обоз. На другой день, сев верхом на коня, чтобы ехать на пастбище, Роберт предрёк:
— Наступают тяжёлые времена.
3
И был прав. Едва сын Марии Стюарт, шотландский король Яков VI, превратился в английского короля Якова I, он созвал в Гемптон-Корте конференцию высшего англиканского духовенства и заявил:
— Если вы желаете собрания пресвитеров[3] по шотландскому образцу, то оно так же согласуется с монархической формой правления, как дьявол согласуется с Богом. Ведь в таком случае Джек и Том, Билл и Дик соберутся по своему желанию и станут поносить меня, мой совет и все наши дела, как они поносят в Шотландии.
Он был прав, испытав на себе непокорность шотландцев, учредивших свою протестантскую церковь на демократических, республиканских началах. Англиканские епископы колебались, не понимая, чего от них хочет король. Король разъяснял непонимающим смысл своей речи, колеблющихся запугивал тем, что они могут потерять власть и доходы, и между прочим произнёс знаменательные слова:
— Если не будет епископа, то не будет и короля.
Яков I потребовал, чтобы пуритане прекратили сборища и проповеди, в противном случае он угрожал им изгнанием или чем-нибудь хуже. На конференции он ещё колебался. Вскоре после неё решился на крайние меры: объявил в изданной прокламации вне закона все религиозные общины, не согласные с вероучением англиканской церкви, главой которой являлся король. Государь объявил:
— Реформация есть зло, потому что она провозглашает равенство, а равенство есть враг порядка, враг единства, отца порядка.
Открывая первое заседание палаты общин, король ещё более развил свою главную мысль:
— Пуритане отличаются от нас не столько религиозными убеждениями, сколько своей разрушительной политикой и требованием равенства, ведь они всегда недовольны существующим правительством, а чьё-либо превосходство не желают терпеть, что делает их секты невыносимыми ни в каком хорошо управляемом государстве.
В родной Шотландии он был так запуган и стиснут пуританскими проповедниками, что не смел рта раскрыть. За это он хотел отомстить пуританам в чужой и тайно ненавидимой Англии. Заявив своё непреложное право единолично решать духовную жизнь своих новых подданных, Яков с искренним пафосом заявил ещё более непреложное право распоряжаться по своему усмотрению их имуществом, материальным их бытием, а главное, объявил своим правом вводить столько налогов, сколько потребуется королевской казне, напомнив собравшимся представителям нации, что является их сюзереном[4].
Столь архаичные требования, высказанные тоном непреложным и агрессивным, не вызвали сочувствия и понимания у представителей нации. Более того, они вызвали откровенное несогласие и раздражение. Правда, пока что представители нации были настроены довольно миролюбиво. У них не возникло желания отдавать на поток и разграбление своё имущество и духовную жизнь, но не обнаружилось и желания крупно поссориться с королём, без которого они не мыслили порядка и благоустройства в стране. В наиболее серьёзных и трезвых умах вызрел целый трактат под названием «Апология палаты общин». Представители нации довольно деликатно попытались растолковать новому королю, к тому же шотландцу, к которым англичане издавна относились отчасти насмешливо, отчасти враждебно, что он несколько поторопился, что нынче он имеет честь править в Англии, а не в Шотландии, что у него не случилось времени правильно осведомиться о взаимоотношениях монарха и английского парламента. Они разъясняли, что английский король всего лишь делит законодательную власть с парламентом и что, стало быть, законодательная власть в Англии в равной мере принадлежит и королю и парламенту, они вместе управляют страной и не могут управлять отдельно один от другого. В особенности «Апология палаты общин» подчёркивала самую важную, принципиальную мысль: «Великое заблуждение думать, что привилегии парламента, в частности привилегии общин Англии, принадлежат ему по королевской милости, а не по праву. Мы получили эту привилегию в наследство от наших предков так же, как мы получили от них наши земли и всякое другое имущество, которым владеем ».
Составители изрядно покривили душой, с ложным пафосом утверждая, будто всё имущество и земли, которыми они владели на данный момент, они получили от предков. Естественно, как только речь заходит о праве владения, в конце концов всегда обнаруживается, что кто-то у кого-то что-то украл. В самом деле, наследственных владений в Англии осталось очень немного. Большая часть представителей нации, сельские хозяева, так называемое новое дворянство, получили от короля Генриха VIII и его преемников расхищенные монастырские земли, когда-то принадлежавшие разрушенным монастырям и казнённым монахам. По этой причине все они, подобно семейству Кромвелей, страшились эти владения потерять, иначе, как и безземельным крестьянам, безземельным дворянам придётся превратиться в бродяг, а бродяг в Англии вешают в соответствии с немилосердным законом, утверждённым парламентом. Кому же может доставить удовольствие столь печальный конец? А у представителей нации оказывалось достаточно оснований опасаться именно такого конца. Всем было известно, что король Яков — сын непримиримой католички Марии Стюарт, что сам он католик в душе, насмерть запуганный шотландскими протестантами, что он сочувствует католической церкви и весьма не прочь возвратить её на английскую землю. Что же в таком случае ждёт умеренных протестантов и пуритан? Катастрофа. Мало того, что духовная жизнь будет попрана, их имущество возвратится к монастырям, которые придётся восстановить все до единого. Чего доброго запахнет кострами, ведь святая инквизиция не простит ни разрушенных монастырей, ни казнённых монахов.
Взвесив столь грозные обстоятельства, представители нации предложили новому королю откровенную сделку. Пусть король Яков откажется как от духовной опеки, так и от произвольных поборов, которые действительно причитаются ему как сюзерену, поскольку золотое время сюзеренов безвозвратно прошло, семнадцатый век на дворе. В таком случае аристократия в обмен на эти права станет предоставлять королевской казне двести тысяч стерлингов в год. В результате сделки король получит гарантированный твёрдый доход, а знать за двести тысяч купит возможность спокойно заниматься своими делами, то есть пасти овец и коров на бывших монастырских угодьях, продавать мясо, выделывать шерсть и сукно, варить пиво и мыло, изготавливать иголки, замки, якоря и канаты, торговать всей полученной благодатью и богатеть. Таким образом, и Англия станет богаче, сумма налогов повысится сама собой, королевская казна, тоже сама собой, увеличит доход.
Маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками, единственно вследствие давней игры родственных отношений и связей названный английским королём Яковом I, был, конечно, самовлюблён, что нередко случается с владетельными особами, слабыми по натуре, самолюбив, упрям и не очень умён. И всё-таки, будь он один, он мог бы согласиться на эту довольно выгодную торговую сделку, жить себе на двести тысяч фунтов стерлингов в год, держать хороших поваров, хороших лошадей, хороших собак и украшать свои замки в подражание тщеславным королям Испании и Франции. Однако ж беда, пока малоприметная, была именно в том, что он был не один.
К любой власти, как известно, липнут, как мухи на мёд, множество охочих до сытой жизни людей. Различие эпох, времён и правлений лишь в том, кто именно пристаёт в данный момент к щедроты дарующей руке. Слабый человечек должен был содержать большой двор и потому, что он был новым, пришлым королём, и потому, что ему нравилась лесть, и ещё потому, что ему не давал покоя соблазнительный пример пышных дворов испанского и французского владык.
Королевский двор, как полагается, составляли аристократы, представители известнейших, знатнейших фамилий. Они владели громадными землями, которые, в отличие от многих средних и мелких сельских хозяев, получили по старинному праву или в награду за кровавые подвиги в крестовых походах, в Столетней войне или в войне Алой и Белой розы. Если бы каждый из этих крупных землевладельцев с утра до вечера, подобно трудолюбивому Роберту Кромвелю, возделывал свои пашни, пастбища и луга, он имел бы неисчерпаемый источник доходов, которые вполне могли превзойти довольно ограниченные доходы королевской казны. Но дело в том, что всё это большей частью последыши известнейших, знатнейших фамилий. Они знать не знают, ведать не ведают, как возделывается пашня, как пасётся скот, как обрабатываются луга и куда деваются полученные урожаи, шерсть и сукно. Потомки известнейших, знатнейших фамилий умели только пировать и охотиться и тратили родовое наследие с ещё большей непринуждённостью, чем этот делал сэр Оливер, расточительный брат трудолюбивого Роберта. Правда, на эти разнообразные удовольствия бездельного жития средств в худых карманах оставалось всё меньше и меньше. Что ж, они отдавали свои земли в аренду, рассчитывая на трудолюбие арендаторов, и арендаторы, следуя заветам Христа, трудились в поте лица, исправно выплачивая арендную плату. И всё было бы замечательно хорошо, но деньги так стремительно обесценивались, что арендная плата чудесным образом превращалась в гроши.
Чтобы с привычной беспечностью пировать, охотиться и швырять деньги без счета, аристократы толпами устремились ко двору короля. Они стали его опорой, советниками, верными слугами, поддерживали короля во всех его начинаниях. Они усердно прославляли его. Они на все лады внушали ему, что он величайший, славнейший, сильнейший из королей, и получали за свою поддержку, за свои советы, за свои услуги, за свою бесконечную лесть новые привилегии, новые должности, новые жалованья, новые пенсии, новые выплаты из казны. Натурально, чем щедрее расплачивался с ними король, тем преданней становились они своему владыке. Наконец между государем и аристократией установилось трогательное согласие, какого не было в Англии со времён Ричарда Львиное Сердце. С позорным крушением заговора несчастного Эссекса угасла бунтарская прыть английских баронов, не раз колебавших шаткий трон королевы Елизаветы, укрощавшей их железной рукой. Пожалования и выплаты оказались вразумительней кровавых казней и жестокого подавления мятежей. Чем щедрей бесчувственная королевская рука сеяла пенсии и привилегии, тем смирнее, покорнее становились придворные.
Само собой разумеется, эту ораву жаждущих дарового золотого дождя паразитов были не в состоянии ублажить какие-то двести тысяч фунтов стерлингов ежегодного пенсиона, которые остальные сословия были готовы выдавать своему королю, лишь бы он позволил им спокойно производить, спокойно торговать, спокойно обогащаться и медленно, но верно обогащать Англию и казну. Маленькому человеку с большой головой и кривыми тонкими ножками и его окружению были нужны миллионы, однако миллионы были непосильны, убыточны, разорительны для представителей нации. Понятно, что представителям нации оставалось только твёрдо стоять на своём и не позволять королю Якову вводить новые налоги по своему усмотрению, без их одобрения. Не менее понятно, что упорное сопротивление приводило короля Якова в бешенство. Аристократы со всех сторон твердили ему, что он великий король, что ему не пристало повиноваться этому сборищу сельских хозяев и торгашей, к тому же в большинстве своём пуритан, готовых до основания разрушить королевскую англиканскую церковь, что он должен править независимой, самодержавной рукой.
Тем временем, в ожидании, когда маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками вовсе не железной, а, очевидно, слабой, капризной рукой усмирит заартачившихся помещиков и негоциантов и установит налоги, какие заблагорассудится, достаточные для их прокормления, бароны, графы и лорды, стоявшие особенно близко к нему, с чистой совестью продавали интересы Англии испанским и французским католикам. Главное, с чистой совестью, даже с сознанием, что спасают Англию от внутреннего врага.
Тотчас после кончины королевы Елизаветы, усердной защитницы английского протестантизма, страну наводнили тайные агенты испанского и французского королей, которым очень хотелось завербовать как можно больше сторонников среди английских аристократов и перетащить Англию на свою сторону в тяжёлой, кровопролитной, кропотливой борьбе за господство на континенте. Тайные агенты щедро выкладывали вечно сидевшим без денег баронам, графам и лордам испанское или французское золото в виде единовременных выплат и пожизненных пенсионов. Английские бароны, графы и лорды принимали выплаты и пенсионы, рассчитывая с помощью испанцев или французов восстановить католическую церковь и стереть с лица земли пуританство, в котором они видели ядовитый источник всех своих бед, то есть прежде всего сломить сопротивление представителей нации новым королевским налогам.
Первым успел завлечь в свои сети маленького человека с большой головой и кривыми тонкими ножками французский король Генрих IV Бурбон, в молодые годы бывший воинственным протестантом, а в зрелые годы бестрепетно принявший католичество ради приобретения французской короны. Прибыв в Лондон, раздав некоторое количество золота при дворе, его представитель герцог Максимилиан де Сюлли склонил короля Якова к оборонительному союзу, направленному против Испании. Тридцатого июля 1603 года король Яков подписал договор о союзе в своём замке Гемптон-Корт на Темзе, близ Лондона. Договор предусматривал взаимную военную помощь в том случае, если агрессивно настроенная Испания нападёт на одну из сторон или предпримет решительные военные действия против протестантов в Голландии, причём в отдельных статьях подробно определялись условия, размеры и виды помощи с обеих сторон.
Разумеется, договор о союзе с французами не был согласован с парламентом. Этим договором король бросил парламенту вызов. Немудрено, что это очень не понравилось представителям нации. Они почуяли в договоре запах ладана и наступление на сторонников истинной веры, как ни смягчался договор тем, что к нему присоединились протестантские князья Германии и короли Дании и Швеции, и тем, что договор предусматривал защиту протестантской Голландии. В королевском вызове они услышали предупреждение: государь не собирается с ними считаться. Стало быть, им следовало ждать с его стороны ещё большей беды.
Ошибиться было нельзя. С чувством растерянности и страха они наблюдали, как под воздействием испанского золота при дворе ширится и набирает силу испанская партия и во главе её один за другим становятся первые советники короля: государственный казначей граф Томас Саквил Дорсет, один из победителей Непобедимой армады адмирал граф Чарлз Ноттингем, граф Чарлз Блоунт Девоншир, граф Уильям Говард и адмирал лорд Эдуард Сесил, он же виконт Уимблдон. Войдя в сношения с испанским послом графом Жуаном Таксисом Вилла Медина и миланским сенатором Алессандро Ровида, они убедили короля Якова начать переговоры с Испанией. Короля Якова и не надо было особенно уговаривать: испанский король был его идеалом.
Всё-таки и король и его советники опасались парламента. Переговоры проводились тайком. Напуганные стремительным усилением Франции и возникновением антигабсбургской лиги, в которую только что была втянута Англия, посланцы испанского короля опрометчиво предложили англичанам, пока что не позабывшим Непобедимой армады, не только оборонительный, но и наступательный военный союз, разумеется, направленный против Франции, Голландии и протестантских государей Европы. Даже маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками, даже подкупленные испанским золотом казначеи, адмиралы и лорды оторопели, ознакомившись с таким предложением. Столь резкий поворот во внешней политике даже им показался слишком крутым.
Переговоры затянулись, но не надолго. Миланский сенатор Алессандро Ровида, быстро сообразив, что и в самом деле толковать о наступательном союзе было и бестактно и несвоевременно, предложил ограничиться заключением мира между чересчур давно воюющими державами с прибавлением к нему оборонительного союза, который обязывал бы обе стороны в случае нападения неприятеля на одну из подписавших соглашение стран. Довольные неожиданным сближением именно с испанской короной, главным оплотом католицизма в Европе, казначеи, адмиралы и лорды согласились на эти условия. Нисколько не смутившись тем обстоятельством, что всего год и месяц назад был подписан такой же договор с Францией, направленный против Испании, маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками с тем же удовольствием от сближения с горячо чтимой испанской короной подписал с Испанией точно такого же содержания договор, направленный теперь против Франции и всей протестантской лиги в составе шведского короля, датского короля и северных немецких князей. Документ возвещал в возвышенном тоне, что после длительного и страшного пожара войны, которым христианские державы были охвачены много лет, милосердие Божие принесло им день мира и спокойствия. Договор провозглашал, что о столь великом событии должны знать все, однако о столь великом событии далеко не сразу узнал парламент, созванный королём Яковом полгода назад.
Далеко не сразу узнали представители нации и о торговых статьях, которые занимали едва ли не половину текста, заверенного подписью короля. Разумеется, статьи девятая и десятая тем же возвышенным слогом трактовали о свободном мореплавании и свободной торговле, общественное мнение требовало этих предосторожностей, и общественное мнение получило именно то, что требовало. Однако свобода мореплавания и свобода торговли не касались так называемых Соединённых провинций, то есть Голландии и Зеландии, интересы которых по прежним договорам находились под покровительством Англии, им запрещалось отправлять в Испанию, в испанские владения, даже во Фландрию, родственную им по крови и вере, но оккупированную испанцами, корабли, повозки, деньги, товары или что-либо иное, другими словами, Испания руками Англии душила торговлю Соединённых провинций.
Уже этот беспощадный ущерб, нанесённый дружественной протестантской державе, должен был возмутить парламент, тем более должны были привести в негодование статьи договора, которые касались собственно английской торговли, поскольку они затрагивали интересы каждого англичанина, который стриг шерсть, ткал сукно, торговал скотом и занимался ремёслами. Понятно, что прямо, откровенно английские интересы в договоре не ущемлялись, испанцы разрешали англичанам торговать где им вздумается, во всех испанских владениях, в том числе на островах Карибского моря и с американскими поселенцами, англичанам всего лишь ставилось непременным условием регистрировать в Испании свои корабли и товары и уплачивать за право торговли тридцатипроцентную пошлину, что делало английскую торговлю с островами Карибского моря и американскими поселенцами невозможной. Но испанцам и этого было мало. Испанские военные корабли продолжали грабить и забирать как трофей всех английских полупиратов-полуторговцев, которые пытались проникнуть на запад без регистрации и без уплаты обозначенной, прямо разорительной пошлины.
Подписанный договор, которым английский король так нерасчётливо предавал интересы английской торговли, можно было достаточно долго скрывать от представителей нации, трудней было скрывать бесчинства испанских военных властей, продолжавших истребительную войну с английскими купцами и каперами. В конце концов парламент потребовал разъяснений у самого короля. С разъяснениями в палате общин выступил Фрэнсис Бэкон, канцлер, гениальный учёный, отец экспериментального метода, родоначальник новейшей науки. Во-первых, он объявил, что королевское правительство не признает прав Испании на те территории, на которые не распространяется её контроль и на которых не имеется её поселение. Во-вторых, он сказал, что всякий, кто отправляется торговать на острова Карибского моря и с поселенцами на восточном побережье Америки, действует на свой страх и риск, и по этой причине королевское правительство не считает себя обязанным защищать их.
Договор имел и худшие последствия. В Англию возвращались католики, иезуиты. Разумеется, иезуиты приезжали нелегально и действовали исподтишка. Они выступали против англиканской церкви, объявляя её еретической. Нападки иезуитов таили в себе угрозу возвращения католицизма на английскую землю. Возвращения католицизма желал и маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками, причём желал вопреки тому обстоятельству, что он являлся главой англиканской церкви и, следовательно, по своему положению должен быть противником и ненавистником католицизма, а нападки иезуитов на англиканскую церковь являлись, таким образом, нападками на него самого и направлялись не только против новой английской религии, но и против государственного строя Англии, как он сложился после упразднения католической церкви. Выходило, что английский король сочувствовал подрывной пропаганде, направленной против него самого как главы церкви и главы государства. Большей чепухи и придумать было нельзя.
Испания лишь прикрывалась договором о мире и оборонительном военном союзе. Испанское посольство в Лондоне превратилось в центр разрушительной пропаганды. Испанский посол оказывал денежную помощь английским иезуитам и служил посредником между ними и иезуитскими организациями в Испании и Италии. Несмотря на соответствующую статью договора, испанские власти с распростёртыми объятиями принимали ирландских, шотландских и английских католиков, вынужденных бежать от преследований, которые на них продолжала обрушивать англиканская церковь. Испанский генерал маркиз Амброзио де Бальбазес Спинола, наместник Фландрии, устраивал пышные приёмы вождям ирландских повстанцев. Он переправлял их в Милан. Им оказывал милости испанский король Филипп III. На средства испанской казны для их детей учреждались семинарии, в которых воспитывалась фанатичная преданность католической вере и ненависть к английскому пуританству. Римский папа обращался с посланиями к английским католикам, которые отказывались присягать на верность английскому королю, и призывал их во имя Христа идти на муки и смерть.
Возвращение католиков, тем более возвращение иезуитов грозило Англии жестокими бедами. Замшелые старики ещё помнили безумный террор, учинённый королевой Марией Кровавой. Из Фландрии и Брабанта, залитых кровью, которую без счета, без меры проливали испанцы, продолжали прибывать купцы и ремесленники, сумевшие выскользнуть из цепких лап святой инквизиции и добраться до спасительной Англии. Беглецы не уставали рассказывать о бесчинствах, творимых испанскими генералами, и о том, как озверевшие испанцы-католики врываются в дома, как сжигают еретиков, хорошо если по особой милости на соломе, но чаще без милости на хворосте у столбов, как дворянам и зажиточным горожанам головы рубят мечом из уважения к их положению, крестьян просто вешают, женщин закапывают в землю живьём, а доносчики получают половину имущества, если оно не превышает ста золотых монет, вторую половину наследует испанский король.
Новые налоги и новая политика короля Якова стали для нации чем-то вроде медленного убийства. Она сопротивлялась семь лет, осуждали все попытки короля править вопреки воле парламента, наконец, исчерпав все аргументы, обратились к маленькому человеку с большой головой и кривыми тонкими ножками с прошением, в котором требовали отменить все налоги, введённые королём и королевским правительством без их утверждения в палате общин. В то же время, уверив его, что им чуждо инакомыслие, пуританский дух и уклонение в пресвитерианство, они отказали королю в праве вносить какие-либо изменения или каким-либо иным образом реформировать существующую англиканскую церковь. Тем не менее пришедший в бешенство маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками, обвинив представителей нации в том, что они сочувствуют богопротивному пуританству, объявил палату общин распущенной.
Правда, без палаты общин королю легче не стало. Помыкавшись года три, не сумев убедить торговцев, ремесленников и сельских хозяев, что они обязаны платить любые налоги, введённые королём, и безмолвно мириться с возвращением ненавистных католиков и иезуитов, он созвал новый парламент, питая надежду, что печальная судьба первого парламента пойдёт представителям нации впрок. Король глубоко заблуждался. Введение новых налогов и возвращение католиков и иезуитов затрагивали самые коренные, жизненно важные интересы большей части населения Англии, и новый парламент именно в двух этих вопросах ни под каким видом не мог пойти на уступки. Всего два месяца спустя после первого заседания палата общин потребовала, чтобы Яков прекратил собирать налоги, которые прежде были ею отвергнуты. В ярости король повелел сжечь представленный палатой меморандум в камине, несколько человек, особенно ему не угодных, попало в тюрьму, парламент был снова распущен и не собирался семь лет.
4
Тем временем Оливер вырастал в благочестивом тепле скромного отцовского дома на окраине провинциального городка Гентингтона. Пришла пора учиться английскому чтению и письму — пуритане осуждали латынь, традиционный язык, который был обязательным для паписта. Первые уроки дала ему мать. Её звали Элизабет. Когда Роберт Кромвель женился на ней в 1591 году, она была молодой вдовой по фамилии Лайонс, но её девическая фамилия была Стюард, и, хотя иные шутили, что она из королевского рода шотландских Стюартов, она не имела никакого отношения ни к шотландским королям, ни к маленькому человеку с большой головой и кривыми тонкими ножками. Её отец был честный англичанин из Норфолка, такой же сельский дворянин и хозяин, как и его зять Роберт Кромвель, владелец бывших монастырских земель. Он жил в Или, неподалёку от Кембриджа. У Элизабет было десять детей, трое из них скончались в младенчестве, выжил один сын и шестеро дочерей.
Она воспитывалась в такой же строгой пуританской семье и была точно вылеплена по евангельским заповедям. Мало того, что у неё был сильный характер, ум и практичность, Элизабет была в высшей степени добродетельна, почтительна с родителями, любила мужа и навсегда осталась верной ему, обожала детей, была с ними строга, но нежна. На ней лежали все заботы по дому. Из дома молодая женщина выходила только на рынок и в ближайшую церковь Иоанна Крестителя. Она не любила праздников, как их не любили муж и отец, и когда другие горожане плясали и пели, брала рукоделье, которое служило тихим отдыхом от домашних хлопот и воспитания семерых здоровых, подвижных детей. Она знала наизусть многие рассказы из Библии и жития святых мучеников и в свободное время часто со свойственной ей поэтичностью пересказывала их разыгравшимся детям, чтобы утихомирить их без окриков и шлепков и воспитать в их восприимчивых душах благочестивые чувства.
Элизабет учила сына и девочек старинным способом обучения, принятым в Англии с давних пор. Для первых уроков использовалась овальная дощечка с приделанной к ней рукояткой. К дощечке прикреплялся лист. На листе был каллиграфически выведен Отче наш, первейшая молитва всех христиан, и английская азбука с новым изображением букв, без толстых нажимов и закорючек, введённых когда-то католиками. Ученик и учительница плотно прижимались друг к другу. Ученик держал рукоятку. Учительница указывала на буквы и произносила их вслух. Так заучивался весь алфавит. После этого учились складывать буквы в слога. Потом читалась молитва. После этого приступали к письму.
Оливер рос крепким мальчиком, был энергичен, подвижен, его энергии требовался простор, однако Кромвели жили замкнуто, игры со сверстниками были ему недоступны, поневоле приходилось проводить всё своё время с сестрёнками. Брат верховодил, они любили его, но нередко изводили капризами, свойственными женщинам. Фантастические повествования матушки и сумрачные чтения отца тёмными воскресными вечерами рано пробудили воображение, которым ребёнок не умел управлять, после этих повествований и чтений он спал беспокойно и видел необыкновенные сны. Мальчик становился нервным, нередко беспричинные слёзы наворачивались у него на глаза. Ему трудно было сидеть неподвижно и неотрывно следить, на какую из закорючек указывал матушкин розовый палец. Но Элизабет проявляла ангельское терпение. Она не выходила из себя, не кричала, не обрушивала на голову непоседы разнообразные наказания, а Оливер оказался сообразительным и очень неглупым учеником. Правда, особенных талантов в нём не проснулось, но он без труда научился читать и писать.
В тот год, когда Томас Бирд, доктор богословия, учитель и проповедник, друг семьи, подарил Роберту Кромвелю свою первую книгу «Театр Божьих кар, переведённый с французского и снабжённый более чем 300 примерами», в которой выпускник пуританского колледжа в Кембридже доказывал, что за все свои прегрешения смертный понесёт достойное наказание не только в небесной, но и в земной жизни, пришла пора учиться серьёзно. Отныне Оливер поднимался чуть свет вместе с отцом, чтобы успеть в местную школу зимой к семи, а летом к шести часам. Он выходил из дома, ёжась от холода, часто под дождь или снег, с удовольствием наблюдал, как бодрый, ловкий отец неторопливо и аккуратно седлал гнедого конька, спокойно, без суеты поднимался в седло и, направляясь на север, выезжал из ворот. Оливер долго смотрел ему вслед, мечтая о том, как было бы хорошо на старой, смирной кобыле, на которой отец уже позволял ему ездить, ехать рядом с ним на пастбище и в луга, осматривать стадо коров или сбившихся тесно овец и говорить с пастухами о погоде, о выбитой или невыбитой траве пастбища, о созревании трав или о сене, которого должно хватить на всю зиму, если, Бог даст, ранней будет весна. Он стоял под аркой ворот до тех пор, пока круп лошади не скрывался в густом или редком тумане, сквозь который виднелась разбитая дорога, пересекавшая однообразную низменную равнину с редкими кустами и острой осокой стоялых болот.
Проводив глазами прямую спину отца, Оливер поворачивал к югу, накинув на голову мешок от дождя, и шагал грязной улицей вдоль старых потемневших домов с островерхими крышами, крытыми черепицей. Впереди поднимались к небу шпили церквей. На две тысячи жителей Гентингтона их было четыре. Между ними выделялась неуклюжая, тяжёлая прямоугольная башня, венчавшая старое кирпичное здание с высокими узкими окнами с частыми свинцовыми переплётами и мелкими стёклами, построенное три или четыре века назад. В этой башне с уходившим ввысь потолком помещалась начальная школа, не зависимая как от монахов, которых давным-давно часть разогнал, часть перевешал король Генрих VIII, так и от окружного епископа, которому жители Гентингтона не желали Доверять воспитание своих сыновей. Школа находилась в ведении городской корпорации. Корпорация приглашала учителя и оплачивала его труд, правда, оплачивала не особенно щедро, так что на всех учеников от семи до пятнадцати лет учитель был только один.
В большой классной комнате ученики рассаживались по возрасту на деревянных скамьях, отполированных до тёмного блеска. Одним учитель давал задание на весь урок, с другими занимался сам, за третьими присматривал кто-нибудь из лучших старших учеников. У мальчиков не было учебников, каждое слово учителя им полагалось вытверживать наизусть, повторяя хором за ним, так что в классе постоянно стоял однообразный гул. Гул стихал ровно в девять часов, чтобы мальчики могли позавтракать тем, что приносили из дома, в зависимости от вкусов и достатка семьи, и возобновлялся до одиннадцати часов. В одиннадцать ребята расходились по домам на обед. В час они возвращались и занимались до трёх. В три устраивался ещё один перерыв. Последний урок заканчивался в пять часов вечера. По четвергам и субботам занимались только до полудня. Каникулы устраивались три раза в году, на Рождество, на Пасху и на Троицын день — всего сорок дней в течение учебного года.
Ученье открывалось «Изречениями для мальчиков», выбранными из сочинений известных писателей. Изречения содержали догмы морали на все случаи жизни. Заучивали их наизусть. Затем шли псалмы, переложенные для лёгкости усвоения на стихи. После псалмов читали Евангелие, Катехизис, жития святых и молитвенник. Томас Бирд не пренебрегал и латынью. При всей лютой ненависти к папизму обойтись без латыни образованному англичанину было нельзя, однако, по мнению доктора богословия, было достаточно, если ученики с грехом пополам переводили кое-какие басни Эзопа, отрывки из писем и речей Цицерона, в которых прославленный римский оратор давал наставления своим адресатам и слушателям, и некоторые сценки из Плавта. Светские науки тоже не пользовались его уважением. Томас Бирд знакомил учеников с четырьмя действиями арифметики и с кое-какими начатками английской истории и географии, вполне достаточными для того, чтобы гордиться своей протестантской страной и разъезжать по торговым делам. Главной его заботой была вседневная, неустанная проповедь истинной веры, как он её понимал. На помощь себе он постоянно призывал апостола Павла и блаженного Августина. То и дело приводил их суровые наставления и разъяснял внимающим ученикам их тайный, неизреченный, однако для него вполне очевидный смысл.
Среднего роста, с широкой грудью, облачённый в чёрное одеяние пастора, с высоким лысеющим лбом, твёрдым подбородком, мясистыми губами, бледным лицом и сверкающими глазами того, кто обладает истиной и готов жизнь положить, чтобы принести её людям, он начинал с того, что душа человека изначально и неотступно жаждет, стряхнув с себя земной прах, войти в Царствие Небесное и, вкусив, насладиться вечным блаженством. Единственно в этом бесконечном стремлении к Богу состоит смысл и цель бытия. Однако не каждая душа достигнет Царствия Небесного, не всем суждено насладиться вечным блаженством. Достичь его не помогут ни пышные богослужения, ни запах ладана, ни горящие свечи, ни отпущение грехов, данное одному человеку другим человеком, ни купленный за деньги клочок обыкновенной бумаги, который у презренных папистов именуется индульгенцией, ни так называемые святые врата, которые антихрист, то есть римский папа, открывает в Риме по праздникам и сквозь которые может пройти каждый грешник, чтобы напрочь очиститься от всех своих прежних грехов. Голос Томаса Бирда гремел как голос пророка:
— Нет, нет и нет!
Он вздрагивал, простирал бледную руку, и пальцы её шевелились, точно отделяли души одну от другой:
— Божественное Провидение прежде создания Вселенной присудило одни души к вечному блаженству, другие к проклятию вечному. «Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу Мою и чтобы проповедано было имя Моё по всей земле. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Ты скажешь Мне: за что же ещё обвиняет? Ибо кто противустанет воле Его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал?»
Голос его падал, сникал. Томас Бирд продолжал негромко, задумчиво, точно сам поражался той истине, которую им открывал, медленно обводя пристальным взглядом притихших учеников:
— В «Послании к римлянам» апостол Павел так рассуждает о бесконечной власти Бога над каждым из нас: «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почётного употребления, а другой для низкого?» Так и Предвечная Воля, подобно горшечнику, имеет власть над людьми: одних превращает Она в сосуды честные, предназначенные для почестей, а других превращает в сосуды низкие, предназначенные для посрамления. Над кем хочет Предвечный Горшечник, над тем Он и смилуется, а кого хочет, того и погубит!
Оливер застывал, весь превращался вслух. Он слышал почти то же самое, что воскресными вечерами говорил справедливый, добрый отец, слышал те же слова и те же тексты апостолов, но те же слова звучали иначе, те же тексты апостолов наполнял новый смысл. Мальчик ощущал, будто сама истина со всей очевидностью открывалась ему. Да, это так, несокрушима и всеобъемлюща власть Господа над людьми, предвечна сила Его, милость и наказание неотразимы. Воображение мальчика рисовало горшечника в его мастерской, которую он видел не раз, когда сворачивал направо от дома и пробирался узенькой тропкой вдоль огородов, видел его влажные красноватые руки и такую же влажную сочную красноватую глину, ровно бегущий круг, который приводила в движение босая нога, и возникший из бесформенной массы горшок. И он был горшком, и в этом сходстве не было ничего унизительного, напротив, жаркая гордость наполняла его: ведь этот горшок вылепил Бог! Но тут же гордость сменялось горьким отчаяньем: для чего, для какого употребления вылеплен он, Оливер Кромвель, для посрамления или для почестей? Ведь знать эту тайну не дано никому, ведь изделие не может спросить Предвечную Волю, на что Она вылепила его, что должно над ним совершиться, то совершится, всенепременно, неотразимо, бесспорно, однако же что?!
Его вопросы были безмолвны, но они каким-то образом были известны учителю, может быть, потому, что они нестерпимо жгли беспокойную душу учителя. Томас Бирд рассуждал как о чём-то само собой разумеющемся, что милость Господня безмерна, что Господь всё-таки не оставляет своё создание в полном неведении, Он делает намёк, даёт знак, да поймёт Его понимающий. Каждый истинно верующий этот знак усмотреть может в том, как ведутся его земные дела, преуспевает ли он, крепка ли крыша над головой, обилен ли стол, полны ли закрома, звенят ли золотые монеты в кошельке, или всё валится из вялых рук, всё идёт прахом, крыша течёт, миска пуста, в закромах одни мыши и в кошельке хоть шаром покати. Вот указание, вот путеводная нить! Спасён будет лишь тот, кто преуспевает в делах, а тот, кто ленится, кто не добывает хлеб свой в поте лица, кто оставляет в публичном доме или в пивной отцовское достояние, тот лишён милости и будет низринут во мрак. Что же из этого следует, джентльмены? А из этого следует: будь трудолюбив, своему поприщу отдай все свои силы, не прелюбодействуй, не пьянствуй, не расточай, и если такие поступки тебе по плечу, стало быть, ты избран и вознесён, именно тебя отметил на вечное блаженство Господь!
Бирд хмурился, говорил резко, отрывисто, с глубоким презрением, его пальцы стискивались в костистый кулак, его лицо мелко дрожало, в его серых глазах загорался зловещий огонь:
— Ибо учит нас святой Павел: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь».
Он останавливался, точно сдерживал праведный гнев, бледнел, ноздри короткого, крепкого носа негодующе раздувались, и продолжал:
— «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противуестественным; подобно и мужчины, оставивши естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют»!
Проповеди учителя пробуждали энергию, которая прежде таилась где-то в глубинах его существа, не раскрытая, не знаемая никем. Оказалось, что в душе гнездятся неукротимые страсти, которым требовалось указать только цель, чтобы взвихриться, выплеснуться наружу и понести его только вперёд, обходя или сметая преграды, способная, как он вдруг ощутил, моря переплыть и горы свернуть. Цель была указана, цель была определённой и ясной, как летний солнечный день: найти своё поприще, твёрдо встать на него и отдать ему без остатка все свои силы. Стало быть, где его поприще, в чём оно состоит, в каком направлении ему указующий перст?
Понадобилось немного времени, чтобы понять, что Оливер не обладал ни великим, ни сильным умом, ни испепеляющей жаждой познания. Учёба ему не давалась, видимо, иной путь был предназначен ему. Учиться он не хотел. Латынью он овладел кое-как, на этом мёртвом, малоупотребительном языке всего лишь был в состоянии поддержать нетрудный, бытовой или деловой разговор, с грехом пополам переводил обязательные две-три басни Эзопа, отрывки из речей Цицерона, кое-что из Вергилия и Овидия, из Горация, Плавта и Ювенала, отнюдь не забираясь в дебри их сочинений, а о том, чтобы посягнуть на философские системы Аристотеля или Платона, как уже было принято в лучших школах и университетах континентальной Европы, и помыслить не мог, тем более что Бирд не жаловал ни того, ни другого.
На уроках чаще всего бывал невнимателен, размышлял о чём-то своём, вдруг впадал в мрачность, то смех нападал на него, то сыпались из глаз беспричинные слёзы. Он рос физически крепким, верховодил в мальчишеских играх и драках, воровал яблоки в соседских садах, любил во всю прыть скакать на коне, так что ветер свистел и шляпа готова была слететь с головы, возился с охотничьими собаками и ловчими птицами, охотился на лис, играл в кегли и в мяч, вопреки тому, что отец, Томас Бирд и все окружающие осуждали эти занятия как греховные и порочные, не достойные человека истинной веры.
Томас Бирд был настоящим наставником. Он не только вдалбливал в детские головы четыре действия арифметики и латынь, не только произносил перед ними жаркие проповеди и без конца цитировал на память Евангелие, он искал пути к детскому воображению, к детскому сердцу, сочинял короткие пьески на евангельские или бытовые сюжеты с обязательным нравоучительным смыслом и разыгрывал их вместе с учениками, понимая, что игра лучше учит детей, чем сухие, скучные наставления. Когда же все педагогические средства были исчерпаны, прибегал к последнему доводу воспитания и вколачивал школьную премудрость и правила нравственной жизни берёзовыми прутьями по мягкому месту.
Сила проницательного учителя состояла именно в том, что он не оставлял своих питомцев ни в школе, ни в церкви, ни дома. Правда, в церкви он был связан по рукам и ногам. Англиканская церковь во главе с королём следила за каждым своим проповедником, как заправская полицейская служба, с одинаковыми последствиями для провинившихся. Высшая комиссия под руководством епископа действовала с неменьшей строгостью, с неменьшей ретивостью, чем Звёздная палата под руководством министра полиции. Королевская администрация предписывала содержание проповедей в каждой церкви страны. И тайная и явная служба епископа следила за неукоснительным исполнением этого предписания, отслеживала и оценивала каждое слово, каждый намёк на политику короля. Епископские суды преследовали строптивых проповедников точно так же, как преследовали прихожан за уклонение от десятины, от воскресной службы, за ересь или порочное поведение. Церковная цензура процеживала каждое печатное слово и выпалывала из книг и брошюр самый слабый намёк на критику правительства или церкви. Не только сознательная критика королевских предначертаний и церковных распоряжений, не только открытая проповедь пуританских идей, даже оговорка, невольная ошибка в евангельском тексте могли стоить проповеднику кафедры и навлечь на него судебное разбирательство и гонение со стороны не только церковных, но и королевских властей.
Однако Бирд владел искусством проповедника ничуть не хуже, чем мастерством педагога. Известно, что запреты неодолимы для дураков и до острия бритвы оттачивают творческий ум, который без преград и запретов, угрозы суда и гонений чахнет и плесневеет и теряет свой творческий пыл, ведь в основании всякого творчества лежит яростный спор, равнодушная, вялая мысль не способна произвести ничего. Если нельзя прямо выступить против насилия церкви и несправедливости короля, а люди, оскорблённые в своей вере, стеснённые и ограбленные своеволием государя, только и ждут таких выступлений, иначе они отвернутся от своего священника, значит, умный проповедник должен прибегнуть к таким неотразимым намёкам, которые поймёт любой прихожанин и к которым не сможет придраться никакая полиция.
Томас Бирд с удивительной ловкостью выходил из трудного положения. Он не осуждал короля Якова за его погибельное стремление искоренить пуританскую веру, которую исповедовали едва ли не все торговцы, ремесленники, сельские хозяева, арендаторы и свободные земледельцы, а приводил из его речей и трактатов самые глупые, самые заносчивые, самые вызывающие места, и возмущённые прихожане, расходясь по домам, сами находили все те негодующие слова, которые не имел возможности произнести вслух священник, а проповедник всего лишь подливал масла в огонь, приводя подходящее место из Библии:
— Ибо сказано: «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона, и пусть он читает его во все дни жизни своей и старается исполнять все слова закона сего, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пробыл на царстве своём»!
Яков, разогнав несговорчивых представителей нации, защищавших интересы тех, кто производил богатство страны, пустился во все тяжкие налагать незаконные штрафы, вводить новые пошлины, торговать должностями и титулами, что многих его подданных приводило в негодование, но Томас Бирд не нападал на штрафы, на пошлины, на продажу титулов и должностей, он раскрывал Библию и гремел:
— Ибо сказано: «Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол»!
Королевские пожалования, на которые уходили все эти штрафы и пошлины, развращали двор. Придворные перенимали испанские и французские моды, испанские и французские нравы, испанские и французские танцы, без конца веселились на балах и маскарадах, развлекались фейерверками и охотами, изощрялись в интригах, сгорая от жажды попасть в фавориты, которых король ублажал баснословными суммами, опять-таки полученными от штрафов и пошлин, и Бирд раскрывал верную Библию и сокрушался:
— «Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь — убийцы. Серебро твоё стало изгарью, вино твоё испорчено водой, князья твои законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздой, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них»!
Но по мере того, как наступление короля Якова на права и кошельки своих подданных умножалось и ширилось, а бесчинства властей переходили предел не только справедливости, к чему довольно быстро вырабатывалась спасительная привычка, но и пределы разумного, чего подданные ни понять, ни простить не могли, рассерженным прихожанам становилось мало прозрачных намёков, они жаждали прямых обличений, чтобы в обличениях отвести свои скорбящие души, полные гнева и желания мести.
С церковной кафедры прямые обличения были слишком опасны и — грозили неосторожному тюрьмой, плетьми, лишением ушей и клеймом. Тогда прихожане приладились собираться в небольшие кружки и приглашать в свои дома проповедников со стороны, взявших обыкновение бродить по стране с молитвой, с истинной верой, с новостями из Лондона и уже с откровенно крамольными обличениями церкви и короля.
Всё-таки самым любимым священником в Гентингтоне был Томас Бирд. Непреклонная преданность истинной вере, честность и ум, образованность и дар слова, истинный гнев и умение обходиться с людьми сдружили его с многими из прихожан. Не прочь послушать пришлого человека, они тем не менее предпочитали задушевные беседы своего наставника и часто приглашали Томаса запросто отужинать с ними, выпить крепкого пива и потолковать о том да о сем, что противного Господу творилось на свете, ведь на свете всегда творится много противного Господу. Бирд никому не отказывал, без церемоний, по-дружески входил в каждый дом, ужинал с аппетитом, со смаком пил крепкое пиво и толковал обо всём, что противного Господу творилось на свете.
Чаще других он бывал в доме Роберта Кромвеля. Вступив в большую столовую, Бирд сбрасывал чёрный плащ с капюшоном, закрывавшим до половины лицо, и усаживался за стол, точно был членом семьи. Вдали от церкви и школы он вёл себя проще, глаза его реже вспыхивали огнём, гораздо чаще в них светилась печаль и усталость, он не грозил, не стискивал кулаков и реже вспоминал грозные изречения апостолов и пророков. Он негромко и ясно говорил о насущном. Этим насущным была необузданная власть короля, который на каждом шагу нарушал английскую конституцию, к сожалению, не записанную, как был записан Билль о правах, но несколько веков подряд существовавшую в предании, в сознании английского общества.
В особенности заволновался весь Гентингтон, когда в апреле 1614 года король Яков, всё-таки обнищавший, несмотря на постоянно вводимые штрафы и пошлины, торговлю должностями и титулами и продажу патентов на монополии, принуждён был созвать новый парламент. Парламент собрался, после проделок короля настроенный более решительно, чем предыдущий. Король потребовал введения новых налогов, необходимых для содержания прожорливого, ненасытного штата придворных, число которых год от года росло. Представители нации были возмущены. Они не признавали своего долга в том, чтобы кормить толпы трутней, собиравшихся вокруг престола и королевской казны. Они наотрез отказали королю в новых налогах. Они составили меморандум, в котором изложили принципы справедливого и разумного обложения, и подали его королю. Едва узнав об отказе, Яков не стал читать меморандум и швырнул бумагу в огонь, давая понять, что не ставит представителей нации ни во что. Буря негодования по этому случаю готовилась разразиться, но не успела. В июне того же года король Яков разогнал неудобный парламент. Несколько парламентариев, резко выступавших против него во время дебатов, попали в тюрьму. Вспыхнувшие было надежды горожан Гентингтона сменились унынием. Бирд, точно был не проповедником, а купцом, доказывал своим внимательным слушателям, указывая на всем известные живые примеры соседей из ближней и дальней округи, что ещё несколько лет такого правления — и все они разорятся, превратятся в нищих бродяг.
Немного сведений вынес Оливер Кромвель из школы, зато он твёрдо усвоил главнейшие положения истинной веры и общественной жизни, как понимали их пуритане. Никогда в жизни он не поколебался в том убеждении, что всеблагой и всемогущий Господь управляет всем миром, народами, войсками, лично им, Оливером. Какое бы решение ни приходилось ему принимать, он прежде пытался понять веление Господа, и, что бы он ни совершил, он искал знамения свыше, верно ли он уразумел волю Того, Кто ещё до рождения определил его земной путь и расчертил всю его жизнь, не сомневаясь, что будет жестоко наказан за каждую ошибку, за каждое отступление от того, что предначертано свыше. Никогда во всю свою жизнь он не поколебался и в том, что правитель обязан управлять в интересах народа и в полном согласии с ним, а если государь нарушает эту святую обязанность, он должен быть осуждён, как постоянно в своих неторопливых беседах осуждают короля его отец и учитель. И тем более он не имел причин поколебаться в том убеждении, что все придворные кавалеры не более, чем паразиты и тунеядцы, бесполезно и нагло пожирающие плоды его рук, горожан Гентингтона, всей страны.
Кого-кого, а тунеядцев и паразитов он видел своими глазами и с самого детства проникся презрением к ним. Его дядя сэр Оливер часто приглашал в Хинчинбрук младшего брата с семьёй. С утра до вечера занятый коровами, овцами, пастбищами, покосами, выделкой сукон и продажей скота, Роберт редко его посещал, но считал своим христианским долгом видеться со старшим братом по большим праздникам и непременно на Пасху и Рождество. Он приезжал в своём простом суконном камзоле и привозил подраставших детей. Вместо богослужений и чтения Библии в эти дни, священные для каждого верующего, в Хинчинбруке устраивали рыцарские турниры и фейерверки, роскошные пиры и охоты. Серебряные блюда и кубки загромождали праздничные столы, не переводились французские вина, наряды из шёлка и бархата менялись по три, по четыре раза на дню, игрища одно другого бесстыднее сменяли друг друга. Сэр Оливер не переставал улыбаться и осушать кубки с вином под шутливые тосты, произносимые им самим или кем-нибудь из пьяных гостей. Он всё толстел и становился похож на бочонок. Жирное лицо лоснилось от пота, дряблые щёки тряслись, слова были отрывисты, пусты, не запоминались. Будущие наследники Хинчинбрука часто потешались над бедным кузеном из Гентингтона и зло шутили над ним. Тогда оскорблённый Оливер пускал в ход кулаки. Они были слишком изнежены, слабы, чтобы справиться с ним, и отступали, бормоча угрозы и хныча. Раза два или три король навещал сэра Оливера в полюбившемся замке. Тогда празднества становились ещё пышней и развязней. Маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками быстро старел, с годами на его жёлтом лице всё чаше появлялась злая усмешка, глаза не смеялись. Он и сам по себе был мало приятен, для Оливера Кромвеля он был неприятен вдвойне, ведь этого человечка с большой головой и кривыми тонкими ножками проклинал весь Гентингтон.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Так Оливер Кромвель воспитывался, учился и рос. В семнадцать лет он был юношей несколько выше среднего роста, плечистый и крепкий, с некрасивым, но мужественным лицом. В тот год, когда Томас Бирд, доктор богословия, учитель и проповедник, друг семьи, подарил Роберту Кромвелю свою новую, крайне злободневную книгу, в которой он обрушивался на безбожных папистов и доказывал, как дважды два, что антихрист есть папа римский и, стало быть, другого не надо искать, и таким образом осуждал опрометчивое сближение короля Якова с католической Испанией и католической Францией, пришло время продолжить учение. Роберт Кромвель выбрал Кембридж, в котором сам не учился, но который ставил выше всех английских университетов, как он говаривал, вместе взятых. По совету Бирда, доктора богословия, знакомого с миром английских учёных этого профиля, предпочтение было отдано Сидни-Сассекс-колледжу, самому чистому, самому пуританскому среди всех.
В день отъезда Оливер поднялся до света. Он сошёл вниз. За большим столом его ждал отец. Они молча позавтракали. Обтерев губы салфеткой небелёного полотна, не поднимая глаз, Роберт сказал неторопливо, негромко, точно рассуждал сам с собой, только лицо его было строже обычного:
— Древо познания растёт не вне, а внутри человека, преобразуя ум и приготавливая его к приобретению знаний, которые не должны быть ни чересчур теоретическими, ни чересчур практическими. Насколько будет подготовлен твой ум, зависит исключительно от тебя самого, от того, какой будет твоя внутренняя жизнь, я лишь надеюсь, что ты не отступишь от благочестия. А что до меня, то я хотел бы видеть тебя человеком практическим, деловым. Познакомься с историей, изучи космографию и математику, это необходимо для того, чтобы познать благословенный порядок, установленный Господом. Главное же, главнейшее в том, что эти науки необходимы для дел общественных, в которых участвовать должен каждый. Борись с ленью, с тщеславием, не гоняйся за удовольствиями, это мать всех пороков.
Они молча вышли во двор, оба крепкие, в одинаковых домотканых камзолах с белым воротником, в высоких шляпах и сапогах. Здесь они обнялись, без слов, без слёз, по-мужски. Оливер поднялся в седло и тотчас выехал из ворот. Денег в его кошельке было немного, в перемётные сумки поместилось всё его достояние. Молодой жеребец с белым пятном и длинной чёлкой на лбу бойко шагал по пыльной дороге. Роса уже пала и прибила потемневшую пыль. Ехать было приятно. Иногда для большего удовольствия он переводил жеребца на рысь.
Была середина апреля. Стояла в полном разгаре весна. Он ехал плоской равниной, покрытой изумрудно-зелёной травой. Иногда на равнине возникали холмы, невысокие, точно срезанные и сглаженные чьей-то могучей рукой. То здесь, то там на равнине были разбросаны небогатые фермы арендаторов и богатые фермы свободных крестьян и таких же сельских хозяев, как его отец, как он сам, как десятки горожан Гентингтона. Вблизи ферм паслись отары овец и стада рыжих коров. Это была его Англия. Он любил её просто, без пафоса, без громких обещаний и клятв. Он ехал учиться, чтобы потом ей служить, в должности мирового судьи, как отец, или депутата парламента, если король образумится и снова его созовёт.
Двадцать третьего апреля он увидел перед собой странную смесь старинных и новых строений из красного и белого кирпича. Когда-то на этом месте располагался католический монастырь Серых братьев, с величавым собором поздней английской готики, с обширной трапезной, кельями и кладовыми, в которых монахи держали запасы хлеба, колбас и вина. Повелением Генриха VIII монастырь был разрушен. Нынче от монастыря почти ничего не осталось, даже фундаментов, на месте собора была разбита лужайка, где человек десять студентов, здоровых и шумных, гоняли мяч, набитый старым тряпьём. Одна низкая массивная трапезная напоминала о том, что здесь когда-то стоял монастырь, рассадник папизма. Двадцать лет назад устроители колледжа превратили её в домовую церковь, в которой должны были молиться по-протестантски и слушать проповеди студенты.
Оливера провели в кабинет ректора с невысокими узкими окнами. Он вручил немолодому, но моложавому человеку в пасторском одеянии рекомендательное письмо от Томаса Бирда. Ректором колледжа был Сэмюэль Уорд, доктор богословия, переводчик Библии на родной английский язык, правоверный из правоверных среди пуритан. Бирд хвалил своего ученика за примерное благочестие, обходя стороной его успехи в учёбе. Такой рекомендации было довольно. Оливер Кромвель бы занесён в списки студентов. Ему выдали табель. В табеле он отметил лекции богословия, истории и математики, которые решил посещать, следуя наказу отца. Его поселили в небольшой комнатке с железной кроватью, полкой для книг и столом для письма. В углу помещался комод для белья. Он разложил пожитки и стал учиться.
Устав Сидни-Сассекс-колледжа был самым суровым из всех колледжей Кембриджа, а Кембридж ещё со времён королевы Елизаветы славился на всю Англию как рассадник пуританского духа. Из молодых людей, в него поступавших, колледж готовил будущих проповедников. Учащиеся должны были служить образцом нравственной жизни, а потому им запрещалось отращивать длинные волосы, тем более их завивать, как это вошло в моду среди придворных папистов. По той же причине им запрещалось носить пышные кружевные воротники и короткие бархатные штанишки, какие предписывала придворная мода. Они не имели права посещать бои быков, медвежьи травли и театральные представления, заходить в городские таверны, тем более посещать дома, где содержались девицы лёгкого поведения, им возбранялось играть в кости, в карты и во все иные азартные игры, изобретённые дьяволом.
Сэмюэль Уорд держал своих воспитанников поистине в ежовых рукавицах. Мало того, что он устранял от них полную соблазнов светскую жизнь, но также неукоснительно требовал внимания и прилежания. Дисциплина в колледже должна была быть образцовой. Присутствие на проповеди считалось священной обязанностью, а чтобы разного рода ленивцы и разгильдяи не могли ускользнуть от его неумолимого ока, они должны были пересказывать проповеднику в мельчайших подробностях содержание проповеди, на которой присутствовали, так что молодым людям поневоле приходилось ловить каждое слово и застывать наподобие статуи. Стоило проворонить нить рассуждений наставника, стоило хоть в чём-нибудь отступить от предначертанных правил, и преступник подвергался наказанию розгами в присутствии всех остальных.
Само собой разумеется, что профессора Сидни-Сассекс-колледжа на все лады проклинали безбожных папистов. Почти так же мало устраивала их и новая, реформированная, англиканская церковь. Постоянно ощущая нарастающую угрозу гонений, неистовые проповедники пуританства улавливали обострённым чутьём, что церковная организация, какого бы толка она ни была, жестоко подавляет отдельную личность, требует рабского исполнения уставов и предписаний, навязывает свои догмы и частные мнения священнослужителей. Теоретически они уже опровергли англиканскую церковь. Если Господь своим предвечным решением определяет всё наше будущее ещё до рождения, то никакая церковь уже не в состоянии ничего изменить, а её утверждение, будто она служит посредницей между верующим и Господом, ложно, как ложны все действия и речи во время богослужения и вся церковная иерархия.
Каждый верующий сам лично обращается к Господу, чтобы уразуметь своё земное предназначение по намёкам и знакам, из милости или особого расположения ниспосланным Им. Следуя этому доводу, пуританские проповедники предлагали заменить церковь обыкновенным собранием верующих, которые сами избирают себе духовного руководителя и пресвитера. Этот избранный самими верующими пресвитер управляет делами общины, настолько несложными, что они по плечу любому из верующих. Понятно, что в таком случае власть епископа теряет свой смысл. Проповедники и пресвитеры данной местности составляют совет-консисторию и совместно решают дела своих общин. Если понадобится, из тех же проповедников и пресвитеров избирается общенациональный синод, который на своих съездах разрешает назревшие проблемы вероисповедания.
Некоторые из пуритан шли ещё дальше. Они угадывали, что в пресвитеры сами верующие станут избирать только самых богатых, ибо земная сила богатства неодолима, богатство застилает глаза жирным блеском, подавляет волю невидимой властью над умами и душами и покупает чужую волю за деньги, стало быть, не что иное, как богатство, станет навязывать свою волю собранию верующих в делах веры, а, что там ни говори, богатство исходит от дьявола. Всем известно, что богатство противно воле Христа, ибо легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Истинная вера внутри нас, и потому никто не имеет права предписывать веру другому. Каждый верующий и община верующих подвластны только Христу, из чего следует, что верующие сами управляют своей общиной, им принадлежит последний, решающий голос в её духовных делах. В вопросах веры община верующих должна быть независима от любых властей, церковных и светских.
В железных тисках Сэмюэля Уорда юный Оливер учился много прилежней, чем под надзором Томаса Бирда. Конечно, и в Сидни-Сассекс-колледже его не могла удержать никакая узда. Он был слишком норовист, физическая сила, энергия так и переливалась в нём через край. Юноша и в Кембридже с увлечением практиковался в стрельбе из большого тугого английского лука, не раз решавшего победы англичан в Столетней войне, и с удовольствием скакал на своём молодом жеребце, стоявшем в общей конюшне, примыкающей к колледжу. Его нередко видели за игрой в кегли и в мяч. Он плавал и фехтовал, точно готовился не в проповедники, а в солдаты.
Молодой человек лишь давал выход своим жизненным силам. В солдаты он не готовился, точно так же, как не собирался стать проповедником. Его отец был сельским хозяином, и он тоже должен был стать сельским хозяином, в этом Оливер видел предназначение, определённое свыше. Железные тиски Сэмюэля Уорда имели мало отношения к его прилежанию. Он повзрослел, осознал своё назначение и сознательно отбирал только то, что могло ему пригодиться в городской общине, на пастбищах и в лугах. Молодой человек исправно посещал проповеди, у него обнаружилась крепкая память, он хорошо запоминал их содержание, Сэмюэль Уорд был им доволен, но этим и ограничивалось его богословское рвение, в глубины и тонкости вероучения он не вдавался. Зато в математике он стал одним из первых студентов, его в особенности увлекла геометрия, ведь без геометрии нельзя обойтись, когда имеешь дело с землёй. Он познакомился с начатками астрономии, без которой в сельских работах тоже не обойтись, но по-прежнему оставался равнодушен к логике и риторике, а его латынь стала немногим лучше, чем была в гентингтонской начальной школе. Чтобы приготовить себя для общественных дел, о чём напоминал ему перед отъездом отец, Оливер увлёкся историей, и величие и разнообразие событий, потрясавших греков и римлян, произвели на него такое сильное впечатление, что он ушёл в неё с головой. Ему попала в руки «Всемирная история», составленная Уолтером Рэйли, в которой старый адмирал и пират, славный дерзкими налётами на колонии испанцев в Америке, каждому историческому событию старательно подбирал соответствие в Библии. Студент основательно проштудировал и полюбил эту книгу, найдя в ней не разрозненные отрывки, как всякий раз отчего-то получалось на лекциях по истории, а связующую нить, которая придавала историческим событиям осмысленную цельность.
Его ум явным образом пробуждался для серьёзных занятий, но так и не успел пробудиться для них. В Сидни-Сассекс-колледже ему суждено было провести только год. Мать вызвала его в Гентингтон: внезапно скончался отец. Не успел Оливер возвратиться домой, как умер отец Элизабет, его дед. Он становился главой семьи, дома, хозяином коров и овец. На его юные плечи ложились заботы о матери и о сёстрах. Слава Богу, старшая из них уже вышла замуж, но самой младшей было только шесть лет. Предначертание свыше обозначалось само собой: не труды проповедника, не уже завлекавшее его поприще светских наук предстояли ему, он должен был пасти коров и овец, продавать мясо и шерсть и кормить большую семью.
Без сожаления склонил Оливер голову под указующий перст Провидения. Как прежде отец, он отныне поднимался со светом, завтракал ломтём хлеба и молоком, садился верхом на своего любимого повзрослевшего жеребца с белым пятном и длинной чёлкой на лбу, объезжал пастбища и луга, своим усердием удивляя соседей, которые помнили его непоседой, забиякой и драчуном, возвращался с вечерними сумерками, ужинал вместе со всеми за большим, от времени потемневшим столом и читал Библию воскресными вечерами. Сын заместил отца, и это также было предначертано свыше.
Король Яков смотрел на дело иначе. Оливеру шёл девятнадцатый год, а по королевским законам совершеннолетие наступало в двадцать один. Только в двадцать один год он имел право вступить во владение отцовским наследством, до этого в собственном доме он не являлся хозяином. Его дому, его коровам, его овцам, пастбищам и лугам угрожала опека. Опека означала только одно: владельцем его достояния становился король, его сюзерен, и в качестве сюзерена король мог делать с ним всё, что хотел. А чего мог хотеть Яков, казна которого была вечно пуста? Король хотеть мог только денег и денег. Чтобы получить как можно больше денег с опеки, чиновники придумывали всевозможные штрафы, платежи и повинности, и, когда Оливер наконец достигнет двадцати одного года и уплатит пошлину за право наследования, ему скорее всего не за что и нечем будет платить: своей ненасытностью королевские чиновники далеко превосходили голодных волков.
По счастью, Роберт Кромвель некоторое время служил мировым судьёй по выбору горожан Гентингтона и не понаслышке знал об ужасах королевской опеки. Предчувствуя близкую смерть, умный хозяин до совершеннолетия сына завещал всё своё движимое и недвижимое имущество верной жене Элизабет Кромвель, в девичестве Стюард. Конечно, столь изощрённая изворотливость его подданного очень не понравилась королю Якову. Решительно противное королевским интересам завещание было оспорено в суде. Чтобы Элизабет Кромвель, в девичестве Стюард, могла вступить в права наследования, ей, по мнению чиновников, следовало заплатить выкуп королю, который как-никак был также и её сюзереном, а сумма называлась такая, что проще было всё движимое и недвижимое имущество передать без суда королю или сжечь.
Всем известно, что чиновники падки на мзду, и мзда была дана, на что ушла некоторая часть небольших сбережений Роберта, который не был расточителен, подобно старшему брату: сэр Оливер к тому времени не только прожил в пирах и забавах родительское достояние, но и запутался в неоплатных долгах. К делу о наследстве привлечена была также родня, которая имела влияние и в Гентингтоне, и в Кембридже, и в Лондоне, главным образом в среде торговцев и сукноделов, поставщиков двора, были приглашены хорошие адвокаты, и общими усилиями удалось доказать, что раз Роберт Кромвель наследовал своё имущество от Генриха и уже уплатил выкуп в казну короля, то никакой сюзерен не обладает правом получать выкуп за одно и то же имущество дважды. Нетрудно заметить, что была допущена явная юридическая натяжка, поскольку сюзерен имеет право на выкуп при каждой смене владельца, однако королевские судьи, убеждённые взяткой, признали этот довод вполне обоснованным, и вдова вступила в права наследства без выкупа.
Без сомнения, судебное разбирательство тоже было указанием свыше. В день совершеннолетия Оливера король вновь предъявит свои права сюзерена, и дело о наследстве вновь дойдёт до суда, и мало ли судов предстоит в жизни тому, кто владеет движимым и в особенности недвижимым, хоть и довольно средних размеров имуществом, недаром же говорят: кто с землёй, тот с войной. Оливер не мог не понять этого указания так, что ему надлежит изучить те законы и те юридические науки, которые понадобятся ему для защиты своих прав и в день совершеннолетия и впоследствии, во время неизбежных столкновений с королевскими чиновниками и с владельцами соседних участков земли. Другими словами, ему было необходимо учиться, но теперь уже не в Кембридже, не в Сидни-Сассекс-колледже у Сэмюэля Уорда, который пытался сделать из него проповедника, а в Лондоне, в Линкольн-Инне, на судебном подворье, где обучаются и проходят судебную практику будущие юристы. Что ж, так должно быть, если это необходимо. Пришлось вновь седлать жеребца, набивать пожитками перемётные сумки и отправляться в путь, а хозяйство пока что придётся вести маме Элизабет, всё равно, пока он не вступит в права наследства, он не может заключить никакой сделки, не может шагу ступить.
2
Лондон с первого взгляда стал ему неприятен. Громадный сумрачный королевский дворец, неприветливые дворцы кавалеров, рядом с которыми замок дяди Оливера в Хинчинбруке представлялся скромным жилищем, а его собственный дом в Гентингтоне выглядел чуть не курятником, роскошь нарядов, карет, драгоценные кружева, редкие перья на шляпах вельмож, разодетые слуги, кучера, рядом с которыми он, сельский хозяин, выглядел нищим, расточительство на каждом шагу, противное заповедям Христа, непереносимое для человека истинной веры, а к этому времени Оливер был с головы до ног пуританин.
Слава Богу, в этом бесовском вертепе он не был оставлен судьбой. В Лондоне у него оказалась многочисленная родня. Одна из его тёток была замужем за Баррингтоном, другая была женой Гемпдена, третья оказалась замужем за Уолли. В ближнем и дальнем родстве он состоял с Сент-Джонами, с Гоффе, с Хэммондами, с Инголдсби и кое с кем из богатых и влиятельных людей в лондонском Сити. В этих домах он принят был как родной. Его окружили его сверстники, двоюродные, троюродные братья и сёстры. На Судебном подворье юноша бывал вместе с Оливером Сент-Джоном, который был всего на год старше его. Оливер Сент-Джон познакомил его с Дензилом Холлзом, с Эдмунтом Уоллером, с Артуром Гезлригом, с Томасом Ферфаксом, тоже студентами, учёными-книжниками, будущими юристами. Оливер ни с кем не подружился: по натуре был нелюдим. Молодые люди хоть и приняли его в свой тесный круг, но тоже близко с ним не сходились. Всё же они были товарищи, знакомили родню из провинции с жизнью столицы, от них он узнавал последние новости, приятели разжигали в душе дух недовольства, живший с детских лет, когда мальчиком слушал сетования отца на глупости нового короля и проповеди Бирда, который не уставал повторять, что добрые государи случаются до крайности редко во все времена, что даже величайшие, могущественнейшие из них не избавлены от карающей десницы Всевышнего и что они должны быть подчинены гражданским законам точно так, как и последний из подданных.
Казалось, королём был недоволен весь лондонский Сити. Причина и предмет недовольства были для всех очевидны. Как ни тщился маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками, уже получивший оскорбительное имя Вонючки, наполнить казну, торгуя решительно всем, получалось плохо. Он продавал титулы рыцаря и баронета и принуждал купцов покупать не нужные им титулы, контролировал ремесленников, считая своим долгом определять сроки ученичества подмастерьев, и размер заработной платы, и добротность сукна, вывозимого за рубеж, и требовал за непрошеное усердие неумеренную плату. Ему не помогало ничто: казна не только не наполнялась, но становилась год от года бедней. За пятнадцать лет, прошедшие с несчастного дня его коронации, государственный долг вырос в три раза и перевалил за два миллиона, потери же сельских хозяев, владельцев сукновален и других мастерских, в особенности потери торговых людей были неисчислимы. Главным же бедствием для всех тех, кто своими трудами наращивал богатство страны, всё-таки растущее несмотря ни на что, была продажа патентов на монополию: без сомнения, монополия обогащала владельца патента, однако разоряла всех тех, кому не досталось этой королевской бумажки, ведь бумажка на этот вид деятельности продавалась только одна.
Самые громкие речи, направленные против грабительских выходок маленького человека с большой головой и кривыми тонкими ножками, Оливер слышал в доме тётки, вышедшей замуж за Гемпдена. Джон Гемпден, молодой человек двадцати пяти лет, успевший выдвинуться в лидеры парламентской оппозиции, с бледным высоким лбом, с хищным носом на узком лице, с тонким маленьким ртом, с презрительно выпяченной нижней губой, тонким голосом, привычно, чётко перечислял:
— Мы обязаны жить в доме, построенном из кирпича, который продан нам монополией, окна этого дома должны быть застеклены монопольным стеклом, наш дом должен отапливаться монопольным углём, который горит в монопольном камине, мы спим в монопольной постели, расчёсываем волосы монопольными щётками и монопольными гребнями, мы носим монопольное бельё, монопольные ремни, застёгиваемся на монопольные пуговицы, закалываемся монопольными булавками, едим монопольное масло, монопольную селёдку, приправляем свою пищу монопольной солью, монопольным перцем и монопольным уксусом, мы пьём монопольное вино из монопольных бокалов, мы пьём монопольное пиво, приготовленное из монопольного хмеля, хранившееся в монопольных бочках и продаваемое в монопольных пивных, мы в монопольных трубках курим монопольный табак, пишем монопольными перьями на монопольной бумаге, при свете монопольных ламп читаем сквозь монопольные очки монопольную Библию, мы ловим мышей в монопольные мышеловки и заверяем свои завещания у нотариуса-монополиста. В сущности, только продажа хлеба не стала ещё монополией. Это большое упущение со стороны короля. Мы платим штрафы за то, что у нас нет монополии. Мы даём взятки министрам, придворным, секретарям, чтобы купить монополию, а когда нам удаётся за взятку приобрести патент на монополию, мы должны взять министра, придворного, секретаря в долю, выделить ему пай и выплачивать ему часть своего дохода. Мы должны платить даже за то, что чуть не каждый день нас досматривают налоговые агенты и проверяют, не нарушаем ли мы монополию. С того дня, как был распущен парламент, королём продано около семисот патентов на монополию. Разве они обогатили его? Общим счётом продажа патентов на монополию принесла ему около ста тысяч фунтов стерлингов, зато владельцы патентов, взвинтив цены, положили в свой карман приблизительно полтора миллиона. Попросту говоря, у нас эти деньги украли.
Недовольство перерастало в негодование, как только под руку подворачивался испанский посол. Все знали, что в Испании не оставляли преступных замыслов возвратить будто бы заблудшую Англию в лоно римской католической церкви и что Испания различными средствами препятствовала английской торговле и английскому мореплаванию. Вопреки соглашению, испанские суды никак не защищали интересы английских торговцев и капитанов, а на предложение создать особый, апелляционный суд Испания неизменно отвечала отказом, английские консульства не открывались, продолжался досмотр английских судов. Все ждали, что король Яков защитит интересы английской торговли и не допустит, чтобы испанский посол вмешивался во внутренние дела королевства. Ничуть не бывало. Ожидания очень скоро были рассеяны самим королём. Тот, кто считался и сам себя величал главой англичан, очень скоро сделал испанского посла Диего Сармиенто графа Гондомару не только своим близким другом, но и советником по всем делам управления и внешней политики, чего не может быть и не должно быть ни в каком независимом государстве, тем более не может быть и не должно быть с иноземным послом, который представляет недружественную державу.
Граф Гондомара был яростным сторонником и одним из вождей возобновления истребительной войны с протестантством и возвращения всей Европы в лоно римской католической церкви, уже пролившей реки протестантской крови и в Германии, и во Фландрии, и во Франции. Предполагалось, что новая истребительная война вновь подчинит голландских мятежников их законному, то есть испанскому королю, лишит французских гугенотов политического влияния, подчинит австрийским Габсбургам немецких протестантских князей, в протестантской Швеции возведёт на престол верного католика польского короля, возродит католичество в Англии и составит из католиков такой парламент, который станет беспрекословно исполнять любые пожелания короля. Таким образом в Европе должен возникнуть новый порядок, который будет поддерживаться железной рукой испанских и австрийских Габсбургов.
Не успели предприниматели и денежные воротилы лондонского Сити глазом моргнуть, как испанский посол овладел всеми помыслами маленького человека с большой головой и кривыми тонкими ножками. Граф Гондомара с благосклонным вниманием выслушивал его слезливые жалобы на несговорчивость представителей нации, соглашался, что если парламент и представляет собой большое тело страны, то без полного и беспрекословного повиновения королю это тело остаётся без головы, поддакивал, что так называемые прения в палате общин не что иное, как беспорядочные крики, бессмысленные возгласы и хулиганский шум, и вполне одобрял его убеждение, что раз он король, то ему принадлежит неотъемлемое право созывать и распускать это чудовищное учреждение по своему усмотрению или даже капризу.
Главное же, граф Гондомара внушил маленькому человеку с большой головой и кривыми тонкими ножками неосторожную мысль, будто одни католики способны составить непоколебимую опору английского трона. Дальнейшее уже не составляло труда. По его настоянию Яков не только с каждым годом всё теснее сближался с Испанией, тем самым предавая английские интересы, но и освободил прежде арестованных за подрывную деятельность иезуитов и служителей католической церкви, он разрешил им выехать на континент или оставаться в стране. Понадобилось немного времени, чтобы испанский посол стал смещать и назначать английских министров. Из правительства шаг за шагом удаляли тех, кто был правоверным сторонником англиканства, и один за другим назначались католики или те, кто сочувствовал им. Вокруг короля усилиями Гондомары создавалась испанская партия, которая готовилась начать наступление на английских протестантов, в особенности на пуритан.
Родственники Оливера, которых он посещал, были растеряны. Джон Гемпден вопрошал, растерянно улыбаясь:
— Как это стряслось, что в правительстве, в королевском совете, в армии, в казначействе, в портах, в адмиралтействе главные должности оказались в руках людей, которых держит в руках испанский посол? Поразительно, но они служат испанскому послу даже тогда, когда это противоречит намерениям самого короля!
Масла в огонь подливали действия испанского флота. Каждый день приходили известия, что ещё один английский корабль, идущий в Вест-Индию, остановлен испанскими капитанами по обвинению в пиратстве и контрабанде, осмотрен или задержан, а товары захвачены, причём английских моряков принуждают покидать свои суда и служить испанскому флагу. Брожение в лондонском Сити усиливалось. Растерянные владельцы кораблей и торговые люди с недоумением вопрошали друг друга, с каких это пор испанцы установили суверенитет над всеми морями, а самые сведущие припоминали, что назад тому лет сто римский папа своей буллой поделил весь земной шар между католической Испанией и католической Португалией. Во всех бедах винили католиков, прежде всего ненавистного испанского посла Гондомару. Стоило его карете появиться на лондонских улицах, как ей вслед раздавались оскорбления. Возмущение заходило так далеко, что граф Гондомара пожаловался маленькому человеку с большой головой и кривыми тонкими ножками на недостойное поведение его скверно воспитанных подданных, и королевский Тайный совет обратился с письмом к лорду-мэру, в котором потребовал, чтобы предприниматели и торговые люди относились к испанскому послу так же, как английский король к испанскому королю.
Угадывалось по всему, что католическая Испания перешла в наступление. Война уже вспыхнула, правда, пока что на другом конце континента. Австрийские Габсбурги, поддержанные испанскими Габсбургами, усилили в Чехии гонения на протестантов, права которых всего несколько лет назад были гарантированы так называемой императорской Грамотой величества. Страсти накалились мгновенно. Вооружённая толпа ворвалась в королевский дворец Пражского града. Нескольких ставленников австрийского императора в чешском правительстве поймали и вышвырнули в окно. Правда, жертвы насилия каким-то чудом, свалившись с восемнадцатиметровой высоты, остались живы, однако восстание за независимость началось, чешский сейм избрал новое, национальное правительство, были изгнаны отовсюду иезуиты, вооружённые силы были приведены в боевую готовность, начались переговоры с соседними, тоже порабощёнными славянскими землями о создании независимой федерации. Не дожидаясь, пока соседи ответят согласием, пользуясь замешательством в стане противника, чешская армия, поддержанная отрядом добровольцев из Трансильвании, двинулась к Вене и нанесла чувствительные поражения растерявшимся австрийским войскам. Воодушевлённый победами, чешский сейм провозгласил своим королём протестанта, курфюрста пфальцского Фридриха, не только главу Евангелической лиги, но и зятя английского короля, рассчитывая на широкую поддержку со стороны всех протестантских держав.
Расчёты повстанцев оказались ошибочными. В Лондоне вскоре стало известно письмо, направленное десятого октября 1618 года лордом Бекингемом, фаворитом и первым министром маленького человека с большой головой и кривыми тонкими ножками. Письмо было адресовано испанскому послу Гондомару. В письме говорилось:
«Его величество обещал сделать всё, что он может и что в его власти, и закончить дело мирно и спокойно, если богемцы захотят его слушать и пожелают следовать его совету. С другой стороны, если он найдёт, что богемцы упорствуют и твёрдо держатся своего, он будет просить своего зятя и других князей Германской унии не давать им никакой помощи и поддержки».
Восставшая Чехия не в состоянии была следовать его советам и наставлениям, даже если бы этого захотела. Против малочисленного народа, в бою завоевавшего независимость, ополчилась вся католическая Европа. В казну австрийского императора хлынул поток денег от римского папы и от Католической лиги, во главе которой утвердился баварский курфюрст Максимилиан. На эти средства австрийский император нанимал войска. На помощь ему шли армии из Испании, свою помощь обещал польский король. Чешские протестанты ждали ощутимой помощи единоверцев, однако их помощь оказалась ничтожной. Английский король ограничился советами и наставлениями. Его зять Фридрих не имел средств, чтобы навербовать достаточное количество наёмных солдат, а бесплатно за веру никто из протестантов воевать не хотел. Несколько германских князей из Евангелической унии спешно набрали в северных территориях рейтар и ландскнехтов, имевших военный опыт, и выступили на помощь чешским повстанцам. Если бы им удалось соединиться с отрядами нового чешского короля, они могли бы достаточно долго сопротивляться католическим армиям: немецкие солдаты уже прославились во всей Европе отличной подготовкой, выносливостью и наклонностью к опустошительным грабежам, которая делала ожесточённым и напористым их наступление.
Однако им не суждено было отличиться на этой войне. Трусливый пфальцский курфюрст Фридрих, внезапно превратившийся в чешского короля, был крайне напуган одними слухами о многочисленности католических войск. Он заранее пошёл на такие уступки Католической лиге, которые вели и в конце концов привели его к поражению. Надеясь задобрить уже ощетинившегося врага, бывший курфюрст согласился вести военные действия только в пределах крохотного своего королевства и с помощью своих немногих славянских союзников и ни в коем случае не переносить их в германские княжества. Трудно сказать, соображал ли он что-нибудь в тот день, когда принимал это губительное, прямо самоубийственное решение. Фридрих собственной волей разъединил протестантские силы. В соответствии с этим решением отряды германских князей из Евангелической унии не имели права соединиться с его слабой, малочисленной армией. Его ошарашенные советники предлагали поднять чешских горожан и крестьян, славных потомков протестантского вождя Яна Гуса и его героического сподвижника Яна Жижки, вооружить их и создать большую, боеспособную армию. Это предложение королю Фридриху показалось химерой. Он полагал, что времена Гуса и Жижки давно миновали и что мирным горожанам и землепашцам не одолеть профессиональных солдат.
Решающее сражение произошло у Белой Горы. Чешские повстанцы были наголову разбиты. Католические отряды растеклись по Чехии и Моравии как саранча. Следом за ними шли иезуиты и суды инквизиции. Они хватали всех, кто ещё пытался сопротивляться. Пленных и арестованных подвергали изощрённым пыткам и казням. Чешские святыни, напоминавшие о легендарных подвигах Гуса и Жижки, были осквернены. Богослужение в духе Мартина Лютера было запрещено. Восстанавливались католические монастыри. Лютеране бежали на север Германии, других изгоняли насильно. Земли казнённых и изгнанных передавались местным и пришлым католикам. Чешское ремесло и торговля были подорваны. Чехия была унижена и стремительно погружалась в нищету. Чешским королём стал Фердинанд Габсбург. Испанские войска овладели Нижним Пфальцем. Фридрих, кузнец собственного несчастья, лишился не только чешской короны, но и собственных пфальцских владений. Евангелическая уния вскоре распалась.
Почтенными людьми, с которыми успел познакомиться Оливер, овладевало отчаяние. В родственных домах его всё чаще встречали растерянные взгляды, тревожные лица, отрывочные, несвязные речи. Без исключения все пуритане, все предприниматели и воротилы из Сити, парламентские ораторы и владельцы земель понимали, что маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками, ставший их королём, вёл Англию не только к позору, который после бесславного поражения его зятя Фридриха стал очевиден, но и к таким же беспощадным гонениям на протестантов, к такому же хищному переделу земель, известия о которых с необыкновенной скоростью достигали английского берега, проникали в самые отдалённые уголки королевства и, обнадёживая и радуя тайных и явных католиков, приводили в замешательство протестантское население.
Замешательство парализовало и самые дерзкие, самые находчивые умы. Никто не мог толком сказать, можно ли что-нибудь предпринять, какими средствами отвратить грядущие бедствия, которые многим представлялись неотвратимыми. В семействах Гемпденов, Баррингтонов, Гоффе, Сент-Джонов, Уоллеров, Хэммондов время от времени зарождалась в испуганных душах и осторожно выступала наружу пока что робкая, неопределённая мысль: надо бежать! Но куда? Самые богатые соблазнялись, хотя бы на время, переправиться в Гамбург, где с некоторых пор обосновалась английская «Компания купцов-авантюристов», превратившая этот было заглохший ганзейский город в оживлённый торговый порт, однако их останавливала опасность, грозившая и Гамбургу, и Любеку, и всей северной протестантской Германии со стороны воинственной Католической лиги. Самые смелые предпочитали навсегда переселиться в Америку, где на восточном побережье уже завелись крохотные английские поселения, однако и ими овладевала робость, когда они представляли себе те нетронутые, может быть, погибельные места и постоянные набеги краснокожих.
У Оливера оставалось довольно много свободного времени. Его наклонности обозначились окончательно. Юноша мало интересовался отвлечёнными, теоретическими науками. Его ум приобретал всё более и более практический склад. На лекциях в Линкольн-Инне он усваивал только то, что могло и должно было пригодиться ему, когда он вернётся домой, получит в наследство земли и хозяйство отца и столкнётся с той массой будничных, мелких проблем, которые изо дня в день придётся решать самому, не прибегая к помощи адвокатов, во-первых, не существующих в его захолустье, а во-вторых, слишком для него дорогих. По этой причине он основательно познакомился с английским законодательством, тогда как римское право и юриспруденция как таковая оставили его вполне равнодушным.
Странные склонности маленького человека с большой головой и кривыми тонкими ножками, которого он видел раза два или три в Хинчинбруке, и по его вине всё более очевидное, более наглое оживление английских католиков, особенно иезуитов, было дело другое. Возвращение католиков означало возврат монастырей, монастырских земель и неистовое, может быть, кровопролитное искоренение истинной веры, а он был пуританин и владел бывшими монастырскими землями, и уж тогда никто не посмотрит, что эти земли его дед, и его отец, и он сам получил по наследству: известия из Чехии о кровавой резне и насильственной перемене владельцев на этот счёт не оставляли сомнений ни его родне, ни ему самому.
Оливер был не из пугливых, и в случае необходимости был готов за себя постоять, разумеется, за себя одного. О судьбе Англии он мало думал, только пристально наблюдал, как пала Чехия, как чёрная католическая чума расползалась всё дальше и дальше на север и запад, так что на стороне протестантов оставались только разрозненные отряды графа Мансфельда. Ему нетрудно было предвидеть, что удачливому полководцу Тилли понадобится немного труда, чтобы загнать куда-нибудь в угол и перебить эту горстку отчаявшихся бойцов. Тогда вся Европа, ставшая вновь католической, если не произойдёт чуда, обрушится на протестантскую Англию. В таком случае Англии не устоять. Тогда у семьи отнимут всё достояние, а у него на руках стареющая мать и пятеро малолетних сестёр. Чем их кормить?
С той поры его прельстила мысль переселиться в Америку. Этот далёкий континент манил: казалось, там всё было возможно, туда звало дело, которое было бы ему по плечу, там его семейство было бы обеспечено, он верил в себя, уже ощущал, что только бескрайний простор удовлетворил бы его. С разочарованием слушал юноша путаные речи в знакомых домах. С удовольствием проводил он часы на берегу Темзы, вниз по течению, где громоздились причалы, склады товаров, конторы известных торговых компаний, сомнительные толчки, на которых тёмные личности нанимали матросов и грузчиков, таверны с азартными играми в кости и карты, притоны, шхуны и бриги с высокими мачтами, свёрнутыми парусами и густой паутиной снастей. Оливер любил наблюдать, как эти шхуны и бриги снимались с якорей, поднимали на носу косой парус, осторожно, медленно, словно бы крались свинцовыми водами Темзы к выходу в море, уже там поднимали все паруса и, как белые призраки, уходили к невидимой цели, полагаясь только на Бога и компас.
Утомлённый, он входил в одну из грязных таверн, присаживался к замызганному столу и заказывал себе кружку пива. Вокруг него бесновались, кричали хриплыми голосами, курили крепкий испанский табак, пили пиво и ром, дрались, выхватывали кривые ножи или матросские кортики, бесстрашно, беспечно проливали кровь, свою и чужую, падали мёртвыми, вытаскивали за ноги трупы и бросали на пустыре или в Темзу, и до того иной раз кипели неукротимые страсти, что и он обнажал свою шпагу и, спасая жизнь, наносил удары плашмя или жалил противника её остриём.
Крики, драки и кровь не смущали его. Он с куда большим удовольствием посещал эти места, чем юридический факультет, и, без сомнения, приобретал в этих притонах преступления и разврата куда более разносторонние и полезные знания, чем в Линкольн-Инне и на Судебном подворье. Он слышал фантастические рассказы о дальних походах, о смелых налётах на испанские порты и корабли, о стычках с индейцами и узнавал, что в Карибском море, на побережье, на островах, на всех океанских дорогах промышляют пираты, голландские, французские и английские, грабят испанские галионы, везущие золото и серебро, грабят друг друга, занимаются контрабандой, торгуют рабами, с одинаковым безразличием обращая в рабство и чёрных, и красных, и белых. Он слышал не менее фантастические рассказы о поселенцах, которые ставили деревянную крепость, защищавшую их от индейцев, чьи земли они захватили, вырубали девственный лес, охотились, пасли скот и сеяли хлеб. В тех неведомых землях зарождались какие-то новые, ещё не понятные, несколько странные отношения. Там грабили и убивали, там разбоем создавались громадные состояния, там возделывали земли, прежде не знавшие пашни, и жили так, как хотели, не спрашивая согласия или несогласия своего короля. Однажды будущие поселенцы, именовавшие себя пилигримами, собрались на «Майском цветке», отплывавшем в Америку, и составили договор, в котором постановили и торжественно поклялись, что по своему усмотрению станут учреждать законы и органы власти в своём поселении. Во главе пилигримов шли проповедники-пуритане. В тех языческих, стало быть, диких местах никто не стеснял, не преследовал поборников истинной веры, напротив, там они неустанно сражались с язычниками и где примером нравственной жизни, где убеждением, где огнём пушек обращали их в христианство, чем спасали их заблудшие, непросвещённые души.
Оливер видел толпы желающих переселиться в Америку. Они были обездолены, гонимы и нищи. Больше всего среди них было крестьян-арендаторов; огораживания[5], начатые полтора века назад, продолжались. В Англии становилось невыгодно сеять хлеб и выращивать скот. Ощутимые доходы владельцам земли давали только овцы и шерсть. Для овец нужны были пастбища и луга, и будущий овцевод, едва дождавшись окончания арендного договора, сгонял арендатора с его участка земли, чтобы обратить пашню в пастбище и сенокос. Арендатор с семьёй, внезапно потеряв всё, что имел, становился свободным, как ветер, но идти ему было некуда. Обездоленные, они бродили в поисках работы и пищи. К ним присоединялись безработные ткачи и суконщики, ставшие жертвой монополий и спада в английской торговле. Они превращались в бродяг, а бродяг ждал кнут палача или виселица. Они собирались на побережье, скрывались от полиции и жаждали поскорее переселиться в Америку, но у них не было денег, чтобы заплатить за место на корабле. Тогда им помогали уехать общины пуритан, собиравших для пилигримов пожертвования.
Однако Оливеру уехать было не суждено. Провидение распорядилось иначе. Совершеннолетие уже наступило. Пришла пора утверждаться в правах наследования, без чего всё равно нельзя было ничего предпринять, ведь на переезд и обзаведенье в Америке нужны были деньги. Провидение явило свой знак через тёток. Тётки пошушукались, посовещались и постановили, что для племянника настала золотая пора обзаводиться семьёй, нельзя же здоровому, крепкому парню обходиться без женщины, долго ли до греха. У тётки Гемпден имелись владения в Эссексе. Её соседом был торговец из Тауэр-Хилла рыцарь Бушье, человек состоятельный и почтенный. Дочь Бушье давно засиделась в невестах: Элизабет шёл двадцать четвёртый год. Эта вторая Элизабет была точной копией матери Оливера. Она была воспитана в духе строжайшей пуританской морали, решительно во всём полагалась на Бога, была покорна родителям, любила добро и сама была добродетельна в той высшей степени, какой отличались все пуритане, редко выходила из дома и никогда не сидела без дела. К тому же девушка была привлекательна, высокий лоб, излучавший невинность, обрамляли пышные светлые волосы, широко расставленные прозрачные огромные глаза лучились юмором и умом, на губах нередко появлялась насмешливая полуулыбка, а на здоровых свежих щеках появлялись милые ямочки. Добродетели и приятная внешность дополнялись солидным приданым, и если она долго не выходила замуж, то единственно оттого, что папаша Бушье искал для неё подходящего жениха.
После непродолжительных закулисных переговоров Оливер был представлен папаше Бушье. На этот раз разборчивый отец нашёл жениха, достойного руки дочери, в порочной жизни молодой человек не был замечен, его добродетели были признаны безукоризненными, его состояние было хоть и не очень большим, однако вполне достаточным для того, чтобы горячо любимая дочь не нуждалась ни в чём. Двадцать второго августа 1620 года жених и невеста обвенчались в церкви святого Джайлса на Криппос-гейт, вблизи дома Бушье. Живя в Лондоне, часто бывая в домах богатых людей, Оливер так и не приобрёл ни расшитого бархатного камзола, ни плоёного воротника, ни перьев на шляпу, и торжество, по обычаю пуритан, было скромным. Вскоре молодожёны покинули Лондон, и Оливер возвратился в родной Гентингтон.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Он возвратился с женой. В старом тесноватом доме отца появились две женщины. Человек семейный, привязанный к доброй добродетельной матери, он спрашивал себя, как-то старая Элизабет уживётся с молодой и не станет ли молодая Элизабет относиться пренебрежительно к ней, почувствовав себя в доме хозяйкой. Одинаково воспитанные в строгом духе христианской морали, обе женщины легко и просто поладили. Такая же добродетельная и добрая, спокойная и уступчивая, деловитая и неболтливая, как и старая, молодая Элизабет взяла на себя все заботы и хлопоты о домашнем хозяйстве, а старая, рано поседевшая Элизабет без упрёков и возражений отошла в сторону и занялась воспитанием подрастающих дочерей в том же духе строгой христианской морали, в каком воспитала её в свою очередь добродетельная и добрая мать. Рождение внука, названного в память о дедушке Робертом, окончательно их примирило. Молодая Элизабет часто рожала, старая Элизабет принимала на руки нового внука или новую внучку, и чем больше разрасталась семья, тем она становилась дружней.
Оливер оказался необыкновенным отцом, был нежен с детьми, привязан к ним так, что готов был отдать им всё, что имел. Он оказался таким же верным и преданным мужем. Элизабет любила его той непритязательной кроткой любовью, от которой таяло и замирало его беспокойное сердце и сильные, не находившие выхода страсти рядом с ней утихали хотя бы на время. Глядя на заботливое, сосредоточенное лицо жены, отвечая на её быструю нечаянную полуулыбку, он с каждым годом чаще, уверенней думал о том, что нет у него на свете существа дороже и ближе милой Элизабет.
На самом деле этот счастливейший человек был глубоко несчастен и не находил себе места. Оливер с утра до вечера не покладал рук, бился как рыба об лёд, бывал на пастбище и на покосе, следил за каждым шагом наёмных рабочих, а дела шли вполовину хуже, чем у отца, и с каждым днём всё ухудшались. Конечно, наследство он получил небольшое: пахотный надел под зерно, пастбище не более десятины и лугов около двух десятин. Он выращивал хлеб, у него было дойное стадо и отара овец. Всё было как у отца, однако у отца в доме был прочный достаток, а у него концы едва сходились с концами, и, если принять во внимание, что семья беспрестанно росла, им грозила неприкрытая бедность.
Он старался и мог бы себя оправдать. Случались неурожайные годы; медленно, но неуклонно понижались цены на мясо, на хлеб, англичан с внешних рынков всюду вытесняли испанцы, голландцы, французы, с победой Католической лиги были потеряны и восточные рынки, правительство короля запретило вывозить необработанное сукно, надеясь высоким качеством вернуть стране рынки, однако деревенские прядильщики и ткачи в своём мастерстве далеко отставали от европейцев, к тому же они не имели красителей, которые европейцы, в особенности испанцы, везли из колоний, производство сукна сразу упало, спрос на шерсть сократился, у многих, не у него одного, доходы катились стремительно вниз. Отец не ограничивался своим скромным владением. Имея большие доходы, он арендовал соседские и общинные земли и благодаря этому упрочивал своё состояние. Оливер зарабатывал мало, аренды ему были не по карману.
Это было зловещее указание, ибо избран лишь тот, кто успешен в делах. Оливер впал в беспокойство. Он мало ел, мало спал, много думал, разъезжая верхом по делам и ночами, когда вдруг просыпался и нередко уже не в состоянии был уснуть до утра. Тогда он тупо глядел в немой, невидимый потолок и с раздражением слушал ровное дыхание Элизабет. От непривычки и несклонности к размышлению его мысли разбегались и своей неопределённостью ещё больше пугали. Будущее представлялось глухим и бездомным. Вновь единственным выходом представлялось переселение на американские обильные вольные земли, со своими законами, с истинной верой, которую там никто не стеснял. Оливер верил, что там, на просторе, не стеснённый никем, он развернётся, покажет себя, преуспеет в делах, оправдает себя перед Господом, однако препятствия возникали и тут. Эти препятствия едва ли можно было преодолеть. Как он выяснил, слоняясь по лондонским портовым тавернам, место на корабле стоило дорого, а ему надо бы было купить десять мест, если согласятся ехать незамужние сёстры и матушка, ещё больше денег требовалось на обзаведение в новых, незнакомых, почти безлюдных местах, под вечной угрозой нападения строптивых индейцев. Где ему взять столько денег? Даже если продать землю и дом, едва ли наберётся и половина нужной суммы.
Не видя проку в собственных размышлениях, он всё чаще отлучался из дома. Верхом на верном коне колесил по грязным осенним и зимним дорогам, укрываясь под тяжёлым плащом с капюшоном от непрестанных, тягучих, моросящих дождей, навещал приятелей, вместе с которыми в Сидни-Сассекс-колледже гонял мяч и слушал проповеди Сэмюэля Уорда. Знакомые были владельцами таких же крохотных пастбищ, покосов и пашен и, проводя дни в неустанных трудах, тоже бились как рыба об лёд. Они радовались его появлению, друзья подолгу сидели за столом, пили пиво, вспоминали весёлые времена ранней юности и толковали об урожаях, овцах и ценах, и, с кем бы он ни встречался, выходило всегда, что дела идут плохо, что суровая бедность стучится в окно, что нечем становится жить и никому не известно, что предпринять.
Несколько раз побывал в Хинчинбруке. Дядя всё так же шутил и кутил, но его толстое лицо пожелтело и взгляд с каждым годом становился печальней. Пышный замок ветшал, Хинчинбрук разорялся, сэр Оливер жил в долг, лавина долговых расписок и закладных всё нарастала и нарастала и готовилась его раздавить.
Оливер пробовал искать спасения в Лондоне, но только больше запутывался и мрачнел. Рыцарь Бушье, его тесть, торговец мехами, жаловался на трудные времена. Шведы, голландцы, французы хозяйничали на северном торговом пути и на Балтике, их пираты грабили английские корабли, драгоценные меха из Московии поступали всё реже и становились дороже, а у лордов и кавалеров, главных его покупателей, денег становилось всё меньше. Только те сколачивали громадные состояния, кто содержал пиратов и снаряжал их корабли или занимался контрабандной торговлей, особенно солью, которая становилась ценнее мехов. По мнению тестя, Англии была необходима сильная и умная власть, чтобы на рынках, на всех торговых путях защищать её интересы либо выгодными союзами, либо силой оружия, а король Яков, похоже, трус и круглый дурак.
У Гемпденов, Баррингтонов, Сент-Джонов и Хэммондов толковали о том же. Для людей, мыслящих трезво, пример европейских, католических стран убедительно демонстрировал необходимость сильной власти. Единоличная самодержавная власть торжествовала в Испании, в королевствах и княжествах Католической лиги, а в самое последнее время укрепилась во Франции. Результат был налицо. Во всех этих странах никем и ничем не ограниченная монархия служила интересам дворянства и горожан, под сенью её процветали ремесла, торговля, горожане обогащались неслыханно и вместе с ними богатело дворянство. Королевская администрация работала превосходно, обеспечивая строгий порядок, во все времена необходимый для процветания. Королевская армия, большей частью наёмная, обеспечивала победы Испании, победы Католической лиги, а в последнее время и Франции на континенте, на всех морях и в колониях, так что Испания, одержав полную победу над Португалией, нынче владела половиной мира, и куда бы ни направился английский корабль, он всюду бывал атакован двумя или тремя испанцами или французами.
Во всех домах, в которых Оливер бывал как близкий родственник или хороший знакомый, сходились на том, что Англию нельзя относить к семье европейских держав. Её история выпускникам Оксфорда, Кембриджа и Линкольн-Инна представлялась слишком самобытной, своеобычной, во всём не похожей на прошлое континентальной Европы, в особенности ближайших соседей и неутомимых врагов, в первую очередь, разумеется, Испании и Франции. Они находили, что именно в Англии невозможно единоличное, никем и ничем не ограниченное самодержавие, которое пытался установить маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками, постоянно указывая на пример испанского и французского королей. В Англии издавна сильная власть устанавливалась только тогда, когда достигалось согласие между королём и парламентом. Старшее поколение отлично помнило счастливое правление королевы Елизаветы и упрекало её только в том, что упрямая девственница так и не пожелала обрести мужа и произвести на свет принца-наследника, на чём безуспешно настаивали министры, не пожелала из страха потерять власть, как только рядом с ней появится соправитель-мужчина. Не будь она так труслива и так упряма, теперь Англией управлял бы протестантский король, а не плюгавый сынок проклятой папистки, шотландской королевы Марии Стюарт, с которым, как ни старайся, ни о чём договориться нельзя.
В самом деле, сколько бы ни провозглашал себя маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками абсолютным монархом, с какой бы настойчивостью ни убеждал его испанский посол Гондомар, что это именно так, без парламента власти у этого слабого человека оказывалось очень немного. Он должен был, по всем своим обязательствам, и хотел помочь пфальцскому курфюрсту Фридриху, протестанту, женатому на его дочери, только что наголову разбитому под Белой Горой и выгнанному из собственных владений войсками Католической лиги, однако ему нечем было помочь, не было ни армии, ни денег, чтобы навербовать наёмных солдат. В его отуманенном Гондомаром уме возник поразительный план воротить протестанту утраченные владения руками католического испанского короля. Он шёл на уступки, ради сближения он решился женить своего сына Карла, наследника, на Изабелле, испанской инфанте, яростной католичке, Гондомар усердствовал, переговоры велись, его обнадёживали и уже не просили, а требовали, как всегда приключается со слабым правителем, всё новых и новых уступок.
Нечего делать, семь лет спустя король Яков созвал новый парламент, лишний раз подтвердив непоколебимое мнение большинства, что в Англии никакому правителю без парламента не обойтись. Королю нужны были деньги. К его немалому удивлению, представители нации довольно спокойно обсудили плачевное состояние королевской казны, положение Англии, её международные обстоятельства, на которые король особенно напирал, испрашивая согласия ввести новый налог, и вотировали семьсот тысяч фунтов стерлингов. Сумма была поистине чрезвычайная.
Однако маленького человека с большой головой и кривыми тонкими ножками в дальнейшем ожидало глубокое разочарование. Заплатив королю столь серьёзные деньги, парламентарии нашли справедливым потребовать от него скорейшей и полной отмены всех монополий. Охваченный благородным негодованием, монарх наотрез отказался, а затем отверг почтительную просьбу предать суду тех министров, которые патенты на монополию продавали за взятки. Тогда парламент, пренебрегая мнением упрямого короля, подверг самых наглых монополистов и самых отъявленных взяточников собственному суду, таким образом возвратив себе старинное право, как-то само собой заглохшее при последних Тюдорах. В число обвиняемых попал и королевский канцлер Фрэнсис Бэкон барон Веруламский. Это было уж слишком. Король возражал, ссылаясь на то, что судить королевских министров имеет право только палата лордов. Однако и с этой стороны его ждал внезапный и сильный удар: палата лордов, ненавидевшая Фрэнсиса Бэкона за его неродовитость, поддержала обвинение, выдвинутое палатой общин.
Маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками не успел прийти в себя после такой неслыханной дерзости, а представители нации уже принялись сокрушать его внешнеполитические хитросплетения. В жарких прениях двадцать шестого и двадцать седьмого ноября 1621 года тридцать семь ораторов высказались категорически против внешней политики короля, причём кое-кто из самых решительных выступил дважды. Сближение с Испанией отвергалось самым категорическим образом, брак английского принца с испанской инфантой признавался несовместимым с коренными интересами Англии. По мнению многих, с Испанией предстояла война. Джордж Гастингс предлагал без промедления направить в испанские Нидерланды на помощь протестантским повстанцам от двадцати до тридцати тысяч солдат. Его предложение взбудоражило всех. В самых горячих головах возник план морской экспедиции против испанской Вест-Индии, откуда рекой текут несметные богатства Испании, которым куда как приличней течь в английские закрома. В речах ораторов вновь и вновь вспыхивало ярким светом благородное имя нынче боготворимой королевы Елизаветы, которая не страшилась противодействовать претензиям католической Испании и давать отпор ненавистному папскому Риму.
Одного упоминания римского папы оказалось достаточно, чтобы разразилась буря протеста. Е Англии становится слишком много папистов, испанский посол наглеет день ото дня и вмешивается во внутренние дела королевства. Престарелый Эдуард Кок, юрист, главный королевский судья, объявил, что Англия кишмя кишит внутренними врагами, которых тайно поддерживают испанцы, сокрушался о том, что испанский посол установил тесные связи кое с кем из влиятельных англичан, и с особенным ударением упомянул о троянском коне. Томас Уентворт, будущий граф и министр, пробовал умиротворить представителей нации:
— Король и народ друг от друга не отделимы, цель настоящего собрания связать короля и народ теснейшими узами.
Его не хотели слушать. Большинством голосов было принято решение подать петицию королю. Петиция была составлена в несколько дней. Члены комиссии испросили аудиенцию. Король согласился принять депутацию третьего декабря. Иронически улыбаясь, он приказал перед началом приёма:
— Приготовьте двенадцать кресел: я буду принимать двенадцать королей.
Двенадцать депутатов разместились на двенадцати креслах. Председатель комиссии в полной тишине зачитал категорические требования представителей нации. Отвергая сближение с Испанией, парламентарии именовали это сближение дьявольскими ухищрениями папизма. Возражая против предполагаемого брака английского принца с испанской инфантой, представители нации настаивали, чтобы принц Чарлз, в русскую историю вошедший под именем Карла, своевременно и счастливо женился на принцессе, которая исповедовала бы не католическую, а его собственную религию. Они предлагали королю неукоснительно исполнять принятые королевой Елизаветой суровые законы против папистов, которые отказывались признать государственную англиканскую церковь.
Бешенством исказилось угрюмое личико самодержца. Король закричал истерически, брызжа слюной, проглатывая слова, так что удавалось не без труда разобрать, что он запрещает общинам совать свой нос в дела столь глубокой государственной важности, как его сношения с французскими Бурбонами или испанскими Габсбургами, тем более касаться такого сугубо личного дела, как брак наследного принца. Выплеснув давно копившийся гнев, он поднял брови и растерянно замолчал. Не найдя, что возразить, сомневаясь, нужно ли это делать, двенадцать депутатов молча поднялись и так же молча, гуськом, один за другим покинули тронный покой.
Довольный, что задал общинам перцу, Яков всё-таки некоторое время оставался растерянным. Семьсот тысяч фунтов стерлингов он получил. Такая значительная, даже непомерная сумма лучше всяких доводов разума и признания незыблемости английских традиций доказывала ему, что с общинами куда выгоднее дружить, чем враждовать, что именно дружба с ними принесёт ему весьма ощутимый доход и покой. К несчастью, разум монарха был слишком слаб, взамен здравого смысла природа и воспитание наделили его непомерным упрямством. Даже понимая выгоды взаимных уступок, он никак не мог и не хотел согласиться дружить с теми, в ком видел только бунтующих подданных, обязанных покоряться королю. Он жаждал их подмять под себя, заставить исполнять своё любое желание, платить тогда, когда ему нужны деньги, и платить столько, сколько он изволит им указать.
Он бросился плакаться к испанскому послу Гондомару. Испанец не мог и представить себе, чтобы какие-то людишки чего-то не то чтобы требовали, а хотя бы о чём-то робко просили своего короля, тем более чтобы испанский король стал выслушивать кого бы то ни было. В Испании нация благоговейно молчала, купаясь в награбленном золоте и серебре, чтила своего монарха, организатора великих открытий и завоеваний, с готовностью исполняла любое его повеление, и вот неоспоримый результат этого единственного, без сомнения, справедливейшего порядка вещей: нынче Испания первая, самая сильная, самая богатая, самая непобедимая из европейских держав. Понятно, что Гондомара, указав на благой пример своего короля, только что не приказал английскому самодержцу без промедления наказать мятежные общины, в противном случае пригрозил навсегда покинуть эту варварскую страну:
— Моим долгом было бы так поступить, ведь вы перестали бы быть королём, а я не имею здесь войска, чтобы самому наказать этот народ.
Восемнадцатого декабря, две недели спустя, не подозревая о тайных совещаниях короля с испанским послом, палата общин подавляющим большинством приняла протестацию, в которой представители нации ещё раз недвусмысленно указали, что брак английского принца с испанской инфантой грубо нарушает интересы Англии и подрывает авторитет самого короля. Тридцатого декабря маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками внезапно явился в парламент, объявил, что немедленно распускает его, и дрожащей рукой вырвал из протоколов парламента лист, на котором было записано постановление о протестации. Едва ли отдавая себе отчёт о последствиях, он повелел арестовать самых видных парламентариев, а несколько менее видных из них были отправлены в ссылку в Ирландию, в полной уверенности, что тюрьма и ссылка приведут ослушников в чувство и превратят конституционную монархию в неограниченную.
Крутые меры удовлетворили одного Гондомара. Гордый новым подвигом на службе своему королю, он пышными красками расписал происшествие в многословном, хвастливом письме к одной из инфант. На радостях посол именовал роспуск английской палаты общин лучшим событием, которое служит интересам Испании и католической вере, лучшим с той, пожалуй, печальной поры, когда сто лет назад безбожный Лютер начал проповедь ереси. И он поспешил ещё больше послужить интересам Испании, втянув Англию в войну Испании против мятежных нидерландских провинций. Пользуясь тем, что король Яков наконец попал в его руки, он выхлопотал у него разрешение вербовать среди его подданных солдат на испанскую службу, один полк в Шотландии, другой в самой Англии. Английские и шотландские католики с восторгом ринулись в эти полки. Войска были сформированы и переброшены в мятежную Фландрию, что ухудшило и без того натянутые отношения между протестантской Англией и протестантской Голландией.
Вырвав лист из протоколов парламента, маленький человек с большой головой и кривыми тонкими ножками внезапно уверовал в то, что с этого дня он неограниченный монарх по образцу испанской или французской монархии и может поступать, как захочет. Вопреки ясно выраженному мнению представителей нации, он продолжил переговоры о браке между своим сыном и дочерью испанского короля. В марте 1623 года принц Карл в сопровождении легковесного, пустоголового и потому верного придворного герцога Бекингема отправился в Мадрид. Пять месяцев тянулись переговоры о брачном контракте. Испанская сторона вытягивала из первого министра и жениха уступки одну за другой, усиливая испанское влияние. Вскоре в переговоры ввязались представители Ватикана. Папа потребовал восстановить в Англии свободу католического вероисповедания, с этой целью в Англии должно было учредиться епископство, которое подчинялось бы непосредственно Риму. Испанская инфанта, став женой английского принца, должна была иметь право учредить в своих покоях католическую капеллу, при ней должен был находиться испанский епископ со своей юрисдикцией. Герцог Бекингем согласился на все эти невозможные требования. Двадцать пятого июля принц Карл бестрепетной рукой подписал этот ни с чем не сообразный брачный контракт. Правда, в Испании не поверили, что все эти нелепости можно будет исполнить. Испанский король решил подождать, как будут приняты условия в Англии, и предложил на год отложить заключение брака, причём на всё это время инфанта оставалась в Мадриде.
Как ни держал Яков содержание брачного контракта в строжайшем секрете, оно вскоре стало известно. Возмущение охватило лондонский Сити и покатилось из города в город. Едва ли недовольство нации могло его испугать, к этому злу он был безразличен, да вот беда, семьсот тысяч фунтов стерлингов, преподнесённые ему третьим парламентом, который он разогнал, истаяли, как снег по весне, казна опустела, и сам король стал догадываться, что никакой он не абсолютный монарх, а конституционный король, не способный прожить без парламента. Нужда заставляла унижаться и просить подаяния.
Унижаться, естественно, не хотелось, и король Яков стал отступать, понемногу, не торопясь, делая вид, будто перемена во внешней политике была давно им задумана. На счастье, Гондомар был отозван в Мадрид для внутренних надобностей. Брачный контракт без особенных церемоний был отодвинут на неопределённое время. Отношения с коварной Испанией стали охладевать. Граф Джон Дигби Бристоль, английский посол, ярый приверженец союза с Испанией, был из Мадрида отослан. Граф Генри Вир Оксфорд, попавший в тюрьму за слишком непочтительные нападки на испанского посла Гондомару, был выпущен после двух лет отсидки в сыром каземате на свободу. В правительстве короля начались разговоры о действенной помощи голландцам против Испании, о сближении с Францией, которая враждовала с Испанией, о возможном браке принца Карла с французской принцессой, младшей сестрой короля Людовика XIII.
Почва кое-как была подготовлена. Двенадцатого февраля 1624 года король собрал свой четвёртый парламент. На этот раз стало намечаться некоторое согласие, между монархом и парламентом: Якову уж очень нужны были деньги, представителям нации уж очень осточертели интриги Испании, грозившие возрождением католицизма, восстановлением монастырей и возвращением монастырских земель. И король попросил денег, а парламентарии набросились на происпанскую политику. Одиннадцатого марта разразились самые бурные прения. В течение одного рабочего дня умудрилось выступить двадцать четыре оратора, и все как один осудили внешнюю политику короля. Депутаты были единодушны: не союз с Испанией, даже не мир, но война, как в славные времена великой королевы Елизаветы Тюдор, война прежде всего за возвращение Пфальца её законному владельцу курфюрсту Фридриху. Престарелый Эдуард Кок назвал такую войну более чем справедливой, поскольку это война на стороне обиженного, ограбленного, против обидчика и грабителя, причём, утверждал он, англичанам стыдно страшиться этой справедливой войны, ибо:
— Англия никогда не была более богатой, чем тогда, когда воевала с Испанией!
Его призыв вызвал бурю аплодисментов. Ораторы один за другим обещали поддержку не только внешней, но и внутренней политике короля, если монарх станет следовать советам парламента. Двадцать девятого марта Яков пригласил испанского посла, сменившего Гондомару, и объявил, что переговоры с его королём прерываются, поскольку все его предложения слишком туманны, чтобы стоило их обсуждать. Едва испанский посол удалился, с трудом скрывая своё возмущение, теряясь в смятении, как и что он станет докладывать своему королю, Яков демонстративно тут же принял давно томившихся в Лондоне без всякого дела уполномоченных Соединённых провинций, как в то время прозывалась Голландия, и выразил желание выслушать их предложения о военной помощи с его стороны и согласился помочь, как только эти предложения будут представлены.
В те же дни он с неожиданной энергией выразил желание укрепить отношения с Францией, которая под руководством кардинала Армана де Ришелье выступила против испанских и австрийских Габсбургов, стремясь отвоевать себе первое место в Европе, а в мае, точно позабыв о брачном контракте с испанской инфантой, начал переговоры о браке наследника Карла с принцессой Анриеттой-Марией, сестрой французского короля. Он повелел своим дипломатам обсудить с французским послом, насколько могут совпадать интересы Англии и Франции в Пфальце, в какой мере обе стороны могут поддержать протестантскую армию Мансфельда, возможно ли английскому и французскому монархам проводить единую политику в разгорающейся войне, которая впоследствии станет называться Тридцатилетней, каким статусом будут пользоваться католики в Англии. Пятого июня был продлён оборонительный союз между Англией и Соединёнными провинциями, к которому был добавлен пункт о совместных усилиях по восстановлению возлюбленного зятя пфальцского курфюрста Фридриха в его владениях.
Представители нации не могли не смягчиться, наблюдая, с какой готовностью король идёт навстречу их пожеланиям. Трижды в этом году парламент вотировал денежные субсидии, так что в конце концов они выросли до трёхсот тысяч фунтов стерлингов. Заплатив деньги, депутаты обратились к насущным проблемам внутренней жизни. Вновь был поднят проклятый вопрос о вреде и недопустимости монополий. Королю предложили выпустить ордонанс[6] об отмене всех патентов на монопольное право производства, продажи, покупки и потребления чего бы то ни было в королевстве. Министр финансов граф Лайонел Кренфилд Мидлсекс был привлечён к судебной ответственности. Правда, Яков не выпустил ордонанса и не утвердил приговор, но страсти начинали стихать, в растревоженные умы членов парламента будто закрадывалась здравая мысль, что с монархом можно найти общий язык, особенно если давать почаще, но понемногу субсидии, и тот как будто готов был смириться с необходимостью выслушивать, обсуждать и принимать не такие уж глупые советы. Жизнь английского королевства как будто готовилась войти в мирное русло, но тут король Яков скончался и на английский престол взошёл его сын.
2
Радость охватила все слои английского общества. Возрождалась надежда на лучшее будущее. Многие были убеждены, что грязные нравы двора, болтливое высокомерие, вялая, малодушная и непоследовательная внутренняя и внешняя политика, наносившая Англии тяжёлый ущерб, навсегда останутся в прошлом, что отныне политика короля будет тверда и благоразумна и страну ждёт процветание.
В самом деле, сын выглядел прямой противоположностью отца. У него были достоинства, которых тот не имел. Карл отличался искренним благочестием, высокой нравственностью и склонностью к аскетизму, впрочем, весьма далёкому от пуританского фанатизма, был хорошо образован, беспечная расточительность отца вызывала у него отвращение, в его покоях царили приличие и порядок, он держал себя с достоинством, был важен, но добр, его манеры вызывали почтительность и уважение, он представлялся другом правды, человеком прямым и возвышенным, серьёзно относился к своим обязанностям, занимался государственными делами, был чуток к изящному, умел ценить полотна великих художников, многие часы проводил за чтением Ариосто и Тассо, но в особенности увлекался Шекспиром. Все решили, что английский престол занял достойный, чуть ли не идеальный монарх.
Первым же своим действием король подтвердил общие ожидания: после его коронации истекло только шесть дней, когда был обнародован ордонанс о созыве парламента. Зато вторым своим действием молодой человек показал, как мало он готов или способен считаться с коренными устремлениями английского общества: всего два месяца спустя женился на французской принцессе, дочери Генриха Наваррского и Марии Медичи, ревностной католичке, верной последовательнице римского папы. Его новый брачный контракт мало чем отличался от брачного контракта с испанской инфантой. Вместе с пятнадцатилетней королевой в Лондон прибыли католические священники и молодые придворные, для которых протестантская религия была ненавистна. Понятно, что первая радость несколько потускнела, протестантская Англия встретила королеву-католичку холодно и настороженно. Многие опасались, что королевский двор рано или поздно превратится в рассадник папизма.
Тем не менее нация продолжала верить новому, такому обаятельному, такому добропорядочному монарху. Депутаты парламента съехались в Лондон восемнадцатого июня. Двадцать второго июня Бенджамен Редьяр, только что в предыдущем парламенте горячо осуждавший порочную практику короля Якова созывать общины, когда ему вздумается, с той же горячностью призвал представителей нации поддержать то долгожданное, безусловно плодотворное согласие, которое с такой очевидностью наконец установилось между королём и английским народом. С энтузиазмом, поразительным для зрелого мужа на пятьдесят третьем году жизни, он возгласил:
— От короля, который нами управляет отныне, мы вправе ожидать всевозможного блага и всевозможных щедрот для нашей страны!
Парламентарии дружно согласились с оратором. Всё-таки они сочли своим долгом прежде очистить королевскую власть от прежних ошибок. Ораторы, сменившие Редьяра, поднимались один за другим и обстоятельно изъясняли, какой серьёзный ущерб нанесли стране необдуманные соглашения с королями-папистами, какой тяжёлый ущерб понесли английская промышленность и торговля от злонамеренного сближения с папистской Испанией, к каким злоупотреблениям привели монополии и налоги, вводимые помимо воли парламента, какие оскорбления наносились истинной вере послаблениями папистам в самой Англии, до какой степени недостойно поведение королевского духовника, который защищает римскую церковь, и с каким равнодушием глядит королевский флот на те бедствия, которые терпит английская торговля на всех морях от своих вооружённых до зубов конкурентов.
Собственно, новый король не успел совершить ни одного из перечисленных прегрешений. Представители нации, разгорячённые собственными речами, всего лишь предупреждали его, чтобы он не совершал горьких и непростительных ошибок упрямого, занозистого отца. Предупреждения были не только уместны, но и понятны, ведь король Карл не имел ещё опыта управления, был молод, ему едва-едва исполнилось двадцать пять лет, все эти годы он только учился, читал умные книги, наслаждался живописью и музыкой, а с делами, с порядком и, главное, с тонкостями государственных дел, от которых зависит благо или разорение подданных, не имел случая познакомиться близко и представлял их себе в самом неверном, фантастическом свете. Он обладал пылким воображением, посещал Мадрид и Париж, и всё великолепие, пышность и непрерывное чествование единовластного короля представлялись ему единственно возможными почестями и образом жизни, единственно достойными его самого. Неприметно для всех и прежде всего для себя самого наследник успел превратиться в идеалиста монархического самодержавия, в коронованного мечтателя, которому одному дано знать, в чём состоит благо подданных, а потому он один обязан и может это благо устроить по своему образцу. Монарх был убеждён, что знает и любит народ, что тот бесконечно и преданно любит его и что каждым своим появлением он делает свой народ безусловно счастливым, благодарным и сытым. На самом деле молодой король не знал ни народа, ни истинного положения Англии, фантастические образы, наполнявшие его сознание, не имели ни малейшего отношения к действительности.
Парламентарии всего-навсего предостерегали его от пагубных ошибок отца, а для него их горячие речи звучали как несносимое оскорбление. Мудрый политик и ухом бы не повёл, польстил бы охваченным патриотическим жаром ораторам, покаялся бы в грехах, которых не совершал, и своим представителям в палате общин строго-настрого наказал бы молчать или при случае поддакивать обличениям, в которых он сумел бы найти справедливость и пищу для размышлений, после чего получил бы от представителей нации всё, что хотел, ведь в большинстве случаев они вполне удовлетворяются самой пылкостью собственных обличений. Королю Карлу были чужды эти обычные хитрости и увёртки прожжённых политиков. Эдуард Кларк, представлявший в парламенте короля, просидев два месяца в ненарушимом молчании, вдруг взорвался благородным негодованием и объявил, что многие ораторы употребляют неприличные выражения, которые оскорбляют величество. Тотчас вскочил с места Роберт Коттон, знаменитый учёный, из вполне умеренных, и разразился филиппикой, полной ещё более благородного негодования и чрезмерной учёности:
— Мы не просим у короля удаления дурных советников, как это делал парламент при его предшественниках, Генрихе Пятом и Генрихе Шестом. Мы не желаем вмешиваться в выборы, как это было при Эдуарде Втором и Ричарде Втором, при Генрихе Четвёртом и Генрихе Шестом. Мы не желаем, чтобы те, кого выберет король, были обязаны присягать перед парламентом, как это делалось при Эдуарде Первом, Эдуарде Втором и Ричарде Втором. Не желаем мы и того, чтобы парламент заблаговременно предписывал им образ действий, которому они должны следовать, как парламент считал своей обязанностью делать это при Генрихе Третьем и Генрихе Четвёртом. Мы не желаем даже того, чтобы его величество дал обещание, как давал обещание Генрих Третий, делать всё с согласия верховного народного совета и ничего не предпринимать без его приговора. Напротив, как верные подданные мы только высказываем наши скромные пожелания. Мы хотим всего лишь того, чтобы король, окружив себя советниками мудрыми, почтенными и благочестивыми, исцелил с их помощью бедствия государства и никогда не руководствовался какими-либо личными мнениями или советами неопытных, недостойных людей.
Это была спокойная, однако искусная речь, в которой таился жестокий упрёк молодому монарху. С одной стороны, просвещённый оратор давал понять, что нынешний парламент своей умеренностью значительно отличается от всех прежних парламентов, что на этот раз представители нации настроены мирно и готовы сотрудничать с ним, если он действительно возьмётся исцелять бедствия государства, с таким единодушием указанные в предыдущих речах. С другой стороны, он указывал королю, что английский парламент, в силу давней традиции, обладает непререкаемым правом не только советовать самодержцу, но и требовать от него определённых гарантий, когда тот нарушает традицию.
Не успел тихий учёный из самых умеренных депутатов опуститься на место, как весь зал заседаний вскочил. На Эдуарда Кларка обрушилась буря негодования. От него требовали без промедления объяснить, что именно в обличении бедствий народных показалось ему неприличным и оскорбительным, но не давали ему говорить. Когда вспышка гнева понемногу угасла, этот верный приверженец короля повторил свои обвинения. Буря негодования вновь подняла представителей нации на дыбы. Самые непримиримые потребовали, чтобы Эдуард Кларк покинул зал заседаний. Он всё же остался, поддержанный незначительным большинством.
Раскол в рядах депутатов стал очевиден. Согласие между королём и парламентом всё ещё оставалось возможным. Оценив по достоинству это новое обстоятельство, Карл сделал неожиданный хитрый дипломатический ход. Вы ненавидите Испанию, вы хотите войны, я готов воевать, — приблизительно такова была его мысль, — вотируйте налог на войну. Король недаром учился, его логика была безупречной. Однако у представителей нации была своя логика, не менее основательная. Да, мы хотим войны с ненавистной Испанией, но ещё больше мы хотим устранить бедствия, причинённые Англии вашим отцом, устраним бедствия и отправимся на войну. Устранять бедствия, учинённые неудержимым отцом, королю не хотелось. Рассчитывая, по всей видимости, вызвать сочувствие, он представил в палату общин ясный отчёт о состоянии королевской казны. Из отчёта следовало, что казна также находится в бедственном состоянии и начинать следует с королевской казны. Эта своеобразная мысль представителям нации не пришлась по душе. Понимая, что король всё-таки должен на что-то существовать, они вотировали кое-какие субсидии, однако лишь одним годом ограничили королевские пошлины, прозрачно указывая, что сперва народные бедствия, а после них бедственное положение королевской казны. Палата лордов отказалась утвердить такое решение палаты общин, признав его оскорбительным, к тому же и в палате лордов нашлись неглупые знатоки королевских ордонансов и хартий, а по ордонансам и хартиям выходило, что прежде королевские пошлины утверждались на всё время правления короля, а не на какой-либо ограниченный срок. Тем не менее парламентарии объявили, что не отступятся от своих прав. В ответ король объявил, что он уважает права представителей нации, но сумеет обойтись и без них. Двенадцатого августа он распустил парламент.
Всё-таки он не решился идти напролом. Чтобы несколько посгладить дурное впечатление от женитьбы на ревностной католичке, Карл распорядился провести долгожданные процессы против папистов. Отныне католикам запрещалось без особого разрешения отлучаться от своего дома более чем на пять миль, им запрещалось носить оружие, их обязывали вызвать в Англию тех сыновей, которые обучались в католических странах. Это делалось явно. Тайно католикам разрешалось откупаться от охочих до денег духовных властей или испрашивать милость у самого монарха.
Король начал двойную игру. Очень скоро это вышло наружу. Впечатление сгладить не удалось. Карла открыто обвинили в двуличии. Его репутация стала стремительно ухудшаться особенно после того, как Тайный совет предписал лордам-наместникам в графствах учинить принудительный заем с зажиточных подданных, которые будто бы по первому требованию обязаны помогать своему королю. Несмотря на угрозу Тайного совета разобраться с каждым, кто откажется делиться своими доходами с королём или хотя бы промедлит заявить свою преданность значительной суммой, жаждущих ни с того ни с сего помогать монарху оказалось немного, суммы займа были собраны смехотворные, а о Карле стали отзываться презрительно.
Тогда в пустой голове Бекингема созрела дурацкая мысль. Всем известно, что испанцы истребляют и грабят туземцев в колониях и награбленное добро, большей частью в слитках золота и серебра, отправляют в Испанию морем. Что из этого следует? Из этого следовало, по мнению первого королевского лорда, что не может быть ничего дурного в том, чтобы грабить испанские порты и испанские корабли, пополнять королевскую казну награбленным у испанцев золотом и серебром, на эти сокровища снаряжать корабли, вербовать солдат и матросов, чтобы снова нападать на вражеские порты и корабли и наполнять королевскую казну. Стоит только начать, и замечательный процесс непрерывного наполнения королевской казны покатится сам собой, без малейших усилий со стороны короля, Тайного совета, министров, первого лорда и представителей нации, стало быть, процесс надобно начинать не откладывая.
Дурацкая мысль имела только один недостаток, но весьма существенный: требовалась первоначальная, довольно крупная сумма. В казне такой суммы не обнаружилось. Зажиточные подданные отказывались давать в долг. Кое-какие деньги всё-таки наскребли и сделали так: наняли несколько английских пиратов, славившихся своей жестокостью, с тем чтобы они тайно делились добычей с казной, снарядили несколько кораблей королевского флота и отправили их пиратствовать в Атлантический океан, затем на последние деньги укомплектовали флотилию сбродом, слонявшимся без дела по портовым тавернам, и нагрянули на Кадикс.
В самые сжатые сроки Карлу и его прислужнику Бекингему пришлось убедиться, что ничего нельзя организовать на медные деньги, тем более захватить хорошо укреплённый, подготовленный к длительной обороне испанский порт. Эдуард Сесил виконт Уимплдон оказался плохим адмиралом, офицеры никуда не годились, солдаты и матросы, набранные большей частью из безработных пиратов, не знакомые с дисциплиной, пьянствовали и не повиновались командирам. Флотилия втянулась в Кадикский залив, рассчитывая своим манёвром отрезать все подступы испанскому флоту, высадить экспедиционный корпус и захватить порт, однако никаких подступов не отрезала, никого не высадила и ничего не взяла. От длительного стояния на якорях команды разложились, продовольствие подходило к концу, солдаты и матросы умирали от голода и болезней, и шестнадцатого ноября 1625 года Эдуард Сесил виконт Уимплдон отдал приказ о поспешном возвращении к родным берегам. Так же печально завершились и предприятия королевских пиратов. Руководимые столь же скверными офицерами, они редко вступали в схватки с испанцами, ограбить никого не смогли или, возможно, скрывали добычу и возвращались в английские порты потрёпанными, с порванными снастями и парусами, с поломанными мачтами, с разбитыми надпалубными постройками вследствие бурь и с уменьшенными наполовину командами вследствие болезней и беспробудного пьянства. Одни подкупленные Бекингемом пираты по-прежнему свирепствовали на торговых путях и в колониях, однако по не понятным для Бекингема причинам отказывались по-братски делиться с казной.
Шестого февраля, всего полгода спустя после начала самостоятельного правления, пришлось созвать новый парламент. На этот раз по совету герцога Бекингема король решил получить только самых покладистых, самых верноподданных депутатов. Графу Джону Дигби Бристолю, самому непримиримому противнику всевластия Бекингема, было отказано в приглашении, а Эдуарда Кока, Роберта Филиппса, Томаса Уентворта, Френсиса Сеймура, Грея Палмера, Уильяма Флитвуда и Эдуарда Элфорда, самых сильных и самых опасных ораторов распущенного парламента, назначили шерифами в графствах, и право быть избранными ими было утрачено. И король и его первый министр наивно полагали, что одна эта жалкая кучка обозлённых смутьянов портит всё дело, без них депутаты будут покладисты и королевская казна, которую не удалось наполнить грабежом, благополучно наполнится новыми налогами и повышением пошлин.
Однако спустя всего несколько дней пришлось убедиться, что передряги с финансами приключаются вовсе не по вине жалкой кучки обозлённых смутьянов. Впрочем, и представители нации, тоже по своей невинности в делах государства, считали, что все разногласия между королём и парламентом возникают единственно по вине дурных, озлобленных и непримиримых советников, какими себя по неопытности окружает монарх. Самый недостойный, самый несносный советник, лишённый малейших проблесков государственного ума, был у всех на виду. Виновником всех бедствий, неурядиц и несуразностей и родовитые лорды, и менее родовитые представители нации, и последний из горожан называли герцога Бекингема. Достаточно было перечислить все титулы, звания и должности этого жадного до почестей, тщеславного, ничтожного человека, чтобы понять, что он присосался к королевской власти единственно ради того, чтобы безмерно возвеличить себя: Джордж Вильерс герцог, маркиз и граф Бекингем, виконт Вильерский, барон Уэлдонский, генерал-адмирал Англии и Ирландии, главный командир кораблей и морей, генерал-лейтенант-адмирал, генерал-капитан и начальник флотов и армий его величества, обер-шталмейстер, лорд-телохранитель, канцлер и адмирал над пятью портами, констебль дуврского замка, судья в управлении королевскими лесами и охотами на юге от Трента, констебль виндзорского замка, камергер, кавалер ордена Подвязки, тайный советник и ещё с десяток менее важных званий и должностей, которые в общей сложности, вместе с другими подачками короля, приносили ему доход около 284 395 фунтов стерлингов из вечно пустой королевской казны. Терпеть и кормить этого, сибарита и бонвивана[7], тем более продолжать держать его около короля депутаты считали недопустимым, и двадцать первого февраля они вошли в палату лордов с ходатайством начать против герцога Бекингема судебный процесс.
Правда, обвинить первого министра на законном основании было нельзя, ведь он никаких законов не нарушал, ничего не украл, никого не убил, а всё, чем он владел, было ему добровольно даровано королём. Под рукой у представителей нации были только разнообразные слухи, легенды, молва. Среди парламентариев было немало юристов, они понимали, что этакую дребедень невозможно в качестве доказательств вины представить суду. Они и не хотели суда. Им было достаточно опорочить первого министра и любимчика короля и таким недостойным путём принудить его отправить Бекингема в отставку. Двадцать второго апреля на основании сплетен было зачитано обвинение. Нечего удивляться, что герцог Бекингем без труда опроверг все статьи.
Тем не менее разразился скандал, на который, собственно, и рассчитывали представители нации. Граф Джон Дигби Бристоль подал в палату лордов жалобу на то, что его не пригласили в парламент. Палата лордов признала жалобу справедливой. Королю пришлось послать опальному приглашение, однако видеть его в парламенте он не хотел, и следом за приглашением отправил приказ, запрещавший графу покидать свои замки. Граф сочинил новую жалобу. Карл обвинил строптивого графа по самой скользкой статье: оскорбление величества. Верно сообразив, что тучи сгущаются, настойчивый граф обвинил герцога Бекингема в злоупотреблении властью, что подбросило жару в скандал, поскольку граф Бристоль был старым придворным и не понаслышке знал проделки генерал-адмирала, лорда-телохранителя и обер-шталмейстера. Теперь герцог Бекингем был обвинён с двух сторон. Его положение при дворе повисло на волоске. Не считаться с этим было нельзя. Монарх попытался урезонить разгорячившихся депутатов. Самых непримиримых он пригласил к себе для беседы. Вновь были поставлены кресла. Вновь приглашённые вступили в тронный зал один за другим и в строгом молчании сели, приготовившись слушать, ожидая, что король наконец осознает свои заблуждения и пойдёт на уступки. Карл им сказал:
— Я должен объявить вам, что не потерплю, чтобы вы преследовали кого бы то ни было из моих слуг, тем менее тех, которые поставлены так высоко и так близко ко мне. Бывало, спрашивали: что мы сделаем для человека, которого почтил король? Теперь находятся люди, которые ломают себе голову, придумывая, что бы сделать против человека, которого королю угодно было почтить. Я желаю, чтобы вы занялись делом о моих субсидиях. Если же нет, тем хуже будет для вас самих. И если из этого выйдет какое-нибудь несчастье, я, конечно, почувствую его после всех.
Депутаты всё в том же строгом молчании поднялись со своих кресел, отдали поклон королю и удалились один за другим. Молчание было зловещим. Опасаясь, что жалобы графа Бристоля будут уважены, Карл запретил судьям отвечать на запросы палаты лордов. Тогда против герцога Бекингема объединились обе палаты. Представители лордов и общин собрались на совместное заседание, чтобы выработать общие требования. Не успело закончиться их совещание, как повелением короля Дадли Диггс и Джон Элиот были арестованы за дерзкие речи и отправлены в Тауэр. Собравшиеся обязали представителей короля передать, что не станут заниматься никакими субсидиями, пока арестованные не получат свободу. Узники были освобождены. Со своей стороны палата лордов потребовала освобождения несколько ранее арестованного графа Эрундела. Король освободил и его.
Колебания повредили ему. Он всем показал, что нерешителен, слаб, сам не ведает, как ему поступить. Окрылённые замешательством короля представители нации изготовили генеральную ремонстрацию. Карл распустил слух, что разгонит парламент. Вновь против него ополчились и лорды, что лишало его всякой опоры. В палате лордов изготовили адрес, в котором советовали королю воздержаться от столь несообразного обращенья с парламентом, и все лорды вызвались войти в депутацию, которой поручалось передать адрес по назначению. Королём овладела паника. Он заспешил. Пятнадцатого июня парламент был объявлен распущенным. Карлу показалось этого мало. От его имени была распространена прокламация, в ней говорилось, что представители нации не имеют права привлекать к суду королевских министров, что единственно от воли и желания короля может зависеть, когда и на какой срок созывать парламент и когда его распускать, и что отчёт в своих действиях король даёт только Богу. Текст генеральной ремонстрации был изъят и сожжён публично на площади. Лорд Эрундел был посажен под домашний арест. Граф Бристоль попал на излечение в Тауэр. Туда же был во второй раз отправлен Джон Элиот.
Откровенная вражда ничего хорошего не принесла королю. Он повелел собирать налоги, которые отказались утвердить парламентарии, — многие налогоплательщики увидели в его повелении ,грубое попрание своих прав, записанных в Великой хартии вольностей[8], и на этом основании отказывались платить. Его лорды-наместники вновь получили приказ обложить горожан принудительным займом — горожане всюду были возмущены и не повиновались властям. Власти прибегали к арестам — насилие не возымело успеха. Королевской казне перепадали жалкие крохи, которых не хватало даже на подачки придворным.
Между тем война с Испанией продолжалась. Без денег и талантливых полководцев она велась вяло, ограничиваясь отдельными скоропалительными стычками на море, более похожими на внезапные налёты пиратов, чем на умело организованные сражения. Становилось ясно, что пора заканчивать эту бессмыслицу, а Бекингем умудрился затеять другую. Будучи сватом в Париже, этот тщеславный красавец, известный множеством любовных интриг, заварил наполовину искренний, наполовину искусный любовный роман с королевой Анной Австрийской. Роман тлел кое-как. Любовникам, разделённым Ла-Маншем, редко удавалось встречаться. Разумеется, их быстрые короткие встречи окружала строжайшая тайна, однако во Франции не могло быть таких тайн, о которых рано или поздно не узнавал кардинал Ришелье. Его агенты дежурили в портах. Поездки Бекингема сделались невозможны. Герцог пригрозил великому кардиналу войной. Ришелье не мог поверить в эту очевидную глупость, но он был истинный, прирождённый политик, государственный человек, и должен был принять надлежащие меры. Его трудами началось укрепление прежде слабого королевского флота, его тайные посланцы вступили в переговоры о союзе с Испанией. Эти приготовления не могли укрыться от английских шпионов, Бекингему нетрудно было убедить легковерного Карла, что война неизбежна. Третьего декабря 1626 года последовал указ, которым предписывалось захватывать в английских территориальных водах французские корабли и товары. Великий кардинал не остался в долгу, французские власти арестовали около двухсот английских и шотландских торговых судов, вышедших из Бордо с грузом вина, а двадцатого апреля 1627 года ему удалось заключить с Испанией военный союз о взаимной помощи на случай войны с какой-либо из трёх держав, и война стала действительно неизбежной.
Запугав короля французской опасностью, Бекингем надумал приманить англичан религиозной идеей. Всенародно провозглашалось благородное нападение на проклятых папистов во имя защиты и спасения притеснённых и униженных гугенотов, нашедших своё последнее прибежище в Ла-Рошели. На благое дело был объявлен принудительный заем, причём оказалось, что сумма займа каким-то образам равна сумме как раз тех субсидий, которые палата общин соглашалась утвердить только ценой низвержения герцога Бекингема. Лордам-наместникам было предписано расследовать каждый случай отказа, дознавая, почему отказался, кто подучил, какими речами и с какими намерениями, чем опять-таки грубо попирались права англичан. Набранных наспех солдат размещали на постой в частных домах. Это стоило мирным подданным дороже любого королевского займа. Портовым городам вменялось в обязанность поставлять на свой счёт королевскому флоту военные корабли с полным вооружением и экипажем. Жителей Лондона обложили двадцатью кораблями, столько на отражение непобедимой армады с них не потребовала и королева Елизавета. Лондонцы попытались протестовать, указав на её достойный пример, и получили в ответ, что прошедшие времена должны подавать пример повиновения, а не протеста. По всем церквям рассылались обязательные проповеди о благости слепого повиновения данному Богом монарху, а когда кентерберийский архиепископ Джордж Эббот запретил в своих приходах эти явным образом корыстные проповеди, его отрешили от должности и сослали в дальний приход.
Для возбуждения народного негодования ничего лучше придумать было нельзя. Англичане негодовали. Недовольных вербовали в матросы или в солдаты или отправляли в тюрьму. Ни один деспот в прежние времена не решался на столь суровые и несправедливые меры, попиравшие национальную гордость каждого англичанина и Великую хартию вольностей. Немудрено, что негодование не только не пошло на убыль, но продолжало расти, точно кучи сухого хвороста подбрасывались в костёр.
Герцог Бекингем не смущался ничем. Он не стал объявлять французам войну, рассчитывая на успех вероломного нападения. Двадцать седьмого июня 1627 года из Портсмута вышел кое-как сколоченный флот из девяноста разношёрстных кораблей с наспех навербованными солдатами и матросами. Малые корабли сдерживали большие, и флотилия почти целый месяц тащилась до Ла-Рошели, так что великий кардинал успел получить донесения своих шпионов и принять меры для обороны. Правда, казна французского короля тоже оказалась пуста, и численность его армии была незначительной. Однако Ришелье был не чета великому адмиралу, как не стеснялся сам себя величать Бекингем. Он тотчас пожертвовал на войну полтора миллиона ливров из собственных средств. Его достойный пример вдохновил зажиточных горожан. Без вымогательств, без лживых проповедей, без арестов и тюрем и без парламента казне был открыт кредит в четыре миллиона ливров. Не успел великий адмирал войти в залив Ла-Рошели, высадиться на острове Ре, запирающий порт, и осадить форт Сен-Мартен, как великий кардинал реквизировал все торговые корабли на атлантическом побережье Франции, вооружил их, набрал десять тысяч солдат и перебросил их к Ла-Рошели. Нападение замялось и затопталось на месте, дисциплина падала, солдаты начинали голодать, появились больные, а к острову Ре проскользнули французы и доставили в форт Сен-Мартен продовольствие и боеприпасы. Только двадцатого октября адмирал решился на приступ. Нестройные ряды атакующих были отбиты с большими потерями. Пользуясь замешательством англичан, Ришелье высадил на остров десант. В ночь с пятого на шестое ноября адмирал скомандовал новый приступ. И этот приступ был с успехом отбит. Англичане потеряли только убитыми около шестисот человек, армия разваливалась. Адмиралом овладела трусливая паника. Паника передавалась солдатам. Он поспешил скомандовать отступление, солдаты и офицеры, сбивая друг друга, бросились на корабли. Французы преследовали их по пятам. Герцог потерял ещё около двух тысяч солдат. На торжествующем острове были брошены пушки, лошади, почти всё снаряжение и знамёна. Английские корабли поспешно выбрали якоря, подняли паруса и вышли в открытое море. Посреди этой паники, вероятно, не отдавая отчёта в своих словах, Бекингем пообещал гугенотам, запертым в Ла-Рошели, доставлять продовольствие и боеприпасы, и ничего не доставил; поклялся вскоре вернуться, и не вернулся.
3
Оливер слушал внимательно и молчал. Его сведения, полученные в Сассекс-Сидни-колледже и в Линкольн-Инне, были слишком не велики, чтобы осмелиться высказать и своё мнение среди учёных-юристов, почитателей Фрэнсиса Бэкона, знатоков Платона, любителей Сенеки и Цицерона, которые чаще беседовали с книгами, чем с людьми, а если вступали в беседу, то по каждому поводу ссылались на авторов, имени которых он прежде не слышал, а их трудов и в глаза не видал, да и по натуре он не был склонен к праздным дискуссиям, отвлечённые, теоретические проблемы вовсе не занимали его.
У него был цепкий практический ум, а его убеждения сложились сами собой из наставлений отца, из проповедей Томаса Бирда и Сэмюэля Уорда. Они были просты и непоколебимы. Оливер не сомневался ни на минуту, что вся истина в Боге, что та вера, которую он исповедует, единственно истинная, что он обязан по мере сил и возможностей её защищать. Кромвель ненавидел папизм и жаждал его истребления. Его до глубины души оскорблял позор Кадикса и Ла-Рошели, не столько потому, что это был позор англичан, сколько потому, что это был урон, нанесённый папистами истинной вере. Он считал, что королевская власть должна быть сильной и умной и что король должен всеми средствами, данными ему Богом, служить благу подданных, и его возмущало, что монарх слаб и не очень умён, потакает католикам, больше следует советам глупца Бекингема, чем слушает советы представителей нации, что он не только не служит благу подданных, трудолюбивых и честных, но и наносит их достоянию серьёзный ущерб. Он не нуждался в тех обличениях, которые постоянно слышал и у Баррингтонов, и у Гемпденов, и у Сент-Джонов, и у Хэммондов. Молодой человек размышлял только над тем, как сделать так, чтобы торжествовала истинная вера, чтобы королевская власть была сильной и умной и служила благу своих трудолюбивых и честных подданных. Он этого не знал. Этого не знали и те, кто так горячо обличал папистов, Бекингема и короля.
Странным образом его особенно увлекали экспедиции в Кадикс и Ла-Рошель и военные действия Католической лиги на континенте. Казалось, он стремился понять, отчего паписты, эти еретики, богоотступники и слуги Антихриста, всюду одерживают победы, на приверженцев истинной веры насылаются одни поражения. Его изумляла та бесчеловечная наглость, с которой действовал новый, только что появившийся полководец католиков Альбрехт Валленштейн. Этот Валленштейн был онемеченный чех, тип в тех местах довольно распространённый. Когда после победы под Белой Горой паписты избивали и сгоняли лютеран с насиженных мест, он скупал по дешёвке имения, рудники и леса, так что отныне ему принадлежал чуть ли не весь северо-восточный угол Богемии. Он стал несметно богат, однако собственных денег на армию не давал. У австрийского императора казна пустовала, а истребить лютеран до последнего колена и тому и другому очень хотелось. Тогда онемеченный чех придумал вернейшее средство: всюду, куда Валленштейн приводил свою армию, он взимал с населения громадную контрибуцию, которая шла на содержание его наёмных солдат и обогащала его самого. Благодаря такому приёму ему удалось в кратчайшие сроки набрать около тридцати тысяч солдат всех национальностей и разных вероисповеданий. Командующий выплачивал им очень высокое жалованье и выдавал его вовремя, но за свои деньги требовал первоклассной выучки и безукоризненной дисциплины. Как только его армия разоряла до нитки округу, он вёл её дальше. Его солдаты дрались как дьяволы, лишь бы не оставаться в голодном краю. Немудрено, что очень скоро Валленштейн разгромил датского короля и протестантских князей, овладел Мекленбургом и Померанией и стал хозяином северной, прежде протестантской части Германии.
Оливера поражали такие приёмы, успехи врага не давали покоя. В этом мире происходило что-то неладное. Кромвель твёрдо верил, что избран лишь тот, кто успешен в делах, и вот выходило, что избран папист и грабитель, а он, честный труженик, преданный истинной вере, верный муж и добрый отец, обречён. Сомневаться в своей вере он не умел, его ум не был способен распутать эту невероятную путаницу. Как только Оливер углублялся в загадку, которую ему задал Господь, у него всё валилось из рук, он плохо слышал то, что ему говорят, и не спал по ночам.
Ему всё чаще хотелось забыться. Кромвель устраивал многодневные охоты на лис. Ему полюбились ловчие птицы. Он сажал сокола на толстую кожаную перчатку и целыми днями пропадал на болотах, выслеживал уток или гусей и с замирающим сердцем следил, как пернатый охотник, сложив крылья, падал камнем и наносил смертельный удар. По зимам, когда кончались охоты, ему становилось скучно. Библия больше не привлекала. Воскресными вечерами всё чаще отправлялся в таверну. Там ждала его дружеская компания, доброе пиво и бестолковая, но приятная болтовня. Ему нравились тяжеловесные деревенские розыгрыши, он сам любил пошутить, порой прибегая к тем разудалым намёкам и выражениям, которые совестно ляпнуть при дамах. Порой его веселье становилось судорожным, крикливым, точно он отгонял от себя какую-то неприятную мысль. Неприметно пиво заменилось на херес, но и херес только больше его веселил, и пьян он никогда не бывал. Оливер стал поигрывать в кости и в карты, чего Роберт Кромвель не желал своим детям как последнего зла. Он оказался азартен, но его разум всегда оставался холодным, и он обыкновенно выигрывал, сначала мелкие суммы, которых хватало на пиво и херес, потом страсть к игре стала одолевать, и порой он выигрывал и тридцать, и сорок, и пятьдесят фунтов стерлингов, громадные деньги для Гентингтона, где годовой доход горожанина редко доходил до трёхсот.
Так прошло несколько лет, года два или три. Оливер очнулся внезапно. Его как будто ударило, как будто бездна растворилась под ногами. Одна простая мысль сверкнула в его голове: истинно сказано, что избран лишь тот, кто успешен в делах, но ведь избран лишь тот, кто успешен в добрых делах, а он какой уже год успешен только в бесовских забавах, ибо охоты, кости, карты, вино даны нам не Богом, но дьяволом. Как он живёт?! Как попал во мрак и как свет праведной жизни стал ненавистен?! Как превратился в грешника и стал, может быть, первым из них?!
Настало чёрное время беспросветных мучений. Оливер тяжко страдал оттого, что сбился с пути, и ещё больше страдал оттого, что не знал, как ему воротиться на праведный путь, на который наставляли его и отец, и Томас Бирд, и Сэмюэль Уорд, и бродячие проповедники, на день ли два заходившие в Гентингтон. Он снова не спал по ночам, а если ненадолго погружался в полусон-полубред, ему снились страшные сны. То из кромешной тьмы выступал поганый Тофит, скалил редкие зубы и тянулся к нему когтистыми лапами, то он видел чёрный громадный крест, воздвигнутый на главной площади Гентингтона, и был тот крест так необъятно-высок, что не было видно домов, а церковь Иоанна Крестителя представлялась детской игрушкой, но самое ужасное таилось в том, что крест был пуст, он же знал, что это крест, на котором язычники распяли Спасителя, он силился увидеть Его, и видел одну перекладину, которая вдруг отступала и таяла вдалеке, на месте креста вырастали дома, и в окнах домов не светились огни.
Оливер кричал, пробуждался и вскакивал, ошалело глядя перед собой. Следом за ним вскакивала взъерошенная Элизабет, причитала, тормошила его, гнала служанку за доктором и рыдала. Добрый доктор осматривал его с должным вниманием, считал пульс, трогал голову мягкой рукой, что-то изъяснял об ипохондрии, о неподобающей меланхолии, прописывал пить на ночь отвар зверобоя, валерьяны и мяты, качая головой и вздыхая, и как было доктору не вздыхать и не качать головой, когда больной был высок ростом, широк в плечах и в груди, с мясистым лицом и крепкими кулаками, под которые лучше не попадать, откуда тут привязаться болезням, более свойственным истерическим женщинам в обычный период кровей.
Он пил отвар, засыпал и по-прежнему видел кошмары: то хмурое небо, пологий берег, свинцовые воды реки и кругом ни души, то безлюдное мрачное поле и на нём одинокое дерево с кривыми ветвями и на ветвях ни листа, то отвесный обрыв — он стоит на самом краю и чувствует, что может упасть, всем телом гнётся, гнётся назад и вдруг просыпается в холодном поту. Ужасным тут была именно пустота, безлюдье, эта возможность упасть с высоты, хотя он не падал ни в одном сне, и это тоже было ужасно, потому что сам твёрдо знал, как низко пал.
Оливер худел, тяжёлые морщины набегали на лоб, вокруг рта залегали глубокие складки. Он думал о смерти, и чем чаще думал о ней, тем становился уверенней в том, что скоро умрёт. Элизабет тоже поверила в его близкую смерть и тоже стала худеть. Кромвель стал готовиться к смерти. Душа его была грязна и черна, с такой душой нехорошо умирать, им овладела страсть покаяния. Он припоминал свои бесовские игрища, свои постоянные выигрыши, чужие деньги жгли ему руки, при встрече он затаскивал к себе своих бывших партнёров по картам или костям и, человек небогатый, подчас нуждавшийся в лишней копейке, трясущимися руками совал остолбеневшему приятелю несколько фунтов и торопливо шептал скрипучим срывавшимся голосом:
— Это ваше, это вам, это я у вас выиграл в карты, эти деньги мне достались греховным путём, мой грех, мой грех, простите меня, ради Христа.
Оливер находил себя до того недостойным, что перестал посещать воскресные службы в церкви Иоанна Крестителя. Томас Бирд знал всех своих прихожан, их тревоги и беды и спешил подать руку помощи даже тогда, когда они его ни о чём не просили. Однажды, окончив проповедь о неизреченной милости Господней, он пришёл в дом своего покойного друга Роберта, сел как обычно к столу, принял с благодарностью пищу и, когда хозяин и гость остались одни, снял с полки потёртую Библию, раскрыл её и просто сказал:
— Это наше всё.
И Оливер стал читать с того места, которое намеренно или случайно открыл для него Бирд:
— «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: вы знаете, что через два дня будет Пасха и Сын Человеческий предан будет на распятие...»
Так он читал до позднего вечера, а с позднего вечера до утра, и мир, тишина, спокойное созерцание вошли в болящую, усталую душу. С того дня Оливер читал только эту потёртую Библию, с которой при жизни не расставался отец. Библия стала для него не только единственной книгой, но и его единственным другом, указывала ему правильный путь, и преображение началось.
Он тесно сошёлся с Томасом Бирдом, старым другом отца, своим первым учителем и наставником веры. Им обоим становилось тесно и душно в стенах церкви Иоанна Крестителя, которая находилась под явным и тайным надзором епископа. С её кафедры разрешалось читать только казённые слова, а казённые проповеди не могут исходить из души. Эти проповеди писались верными слугами короля и присылались из Лондона. И Оливеру, и Томасу Бирду, и многим из прихожан хотелось живого, честного, задушевного слова. Его ждала, искала вся Англия, не желавшая платить королю, если налоги не утвердили её представители, она ждала, искала живого, честного, задушевного слова о Боге, об избрании и спасении, о праве короля и праве народа. Ничего подобного не было в казённой церкви, которая находилась под наблюдением, ничего подобного не было в казённых проповедях, в которых за каждым словом слышалась ложь.
Живое, честное, задушевное слово разносили по Англии вольные проповедники. Очень скоро им запретили говорить в церкви. Они приспособились проповедовать в тавернах, на площадях городков, как две капли воды похожих на тихий, приветливый Гентингтон. Вольных проповедников стали преследовать. Самые популярные, самые непокорные попадали в тюрьму. Им пришлось именовать себя лекторами, в наивной надежде, что название обманет епископа и лорда-наместника, верных слуг, верных псов короля. Лекторов продолжали преследовать. Они стали скрываться. По всей Англии появились тайные пристанища и молельни. Наставники появлялись под разными именами, в разных обличиях, нигде не задерживаясь, произносили проповедь и уходили неизвестно куда, в другое пристанище, в другую молельню, где их ждали.
Томас Бирд оказался непримиримым бойцом. Как только в Гентингтоне появился Бернард, королевский чиновник, и принялся загонять истинных пуритан в епископальную церковь, которую они с некоторых пор посещали неохотно и редко, он открыто выступил против гонителя истинной веры. Оливер с готовностью присоединился к нему. Знание законов и некоторое знакомство с юридическими науками, полученное в Линкольн-Инне и на Судебном дворе, послужили доброму делу.
Наконец его творческая энергия нашла себе применение. Он превратил свой дом в прибежище окрестного пуританства. Кромвель укрывал у себя пуритан, которых преследовали епископы и король. Он помогал им из своих скудных средств и переправлял в надёжное место. Этого было мало. В своём саду, выходившем на общественный выгон, Оливер приспособил большой сарай под молельню. Ранним воскресным утром, сквозь плотный туман или под мелким дождём, сюда шли за пять, за шесть, за семь миль свободные фермеры, арендаторы, пастухи, прядильщики, ткачи, сапожники, бакалейщики, кузнецы, шли мужчины, женщины, дети, рассаживались на длинных деревянных скамьях, в ненарушимом суровом молчании слушали нового проповедника, спорили, пели псалмы и в сумерках расходились по своим ближним и дальним домам, чтобы в течение недели поразмыслить над тем, что узнали, и ранним воскресным утром снова вернуться сюда, снова слушать и узнавать.
Оливер тоже слушал с напряжённым вниманием. Преображение его совершилось. Он жаждал как можно больше узнать о Боге, о жизни, о том, как он должен жить, а вольные проповедники, которых он укрывал от ока епископа, раскрыв Библию, читали каждый свою любимую притчу и принимались толковать её так, что именно неустроенная смутная английская жизнь вдруг представала перед слушателями как на ладони. Они возвещали от имени Господа, что ждать им осталось недолго, что время перемен уже близко. Наставники редко касались предопределения, избрания, успеха в делах, который служит указанием избранности. Они утверждали, что дорога спасения открыта для всех, что судьба верующего вручена ему самому, а кое-кто из них брал на себя смелость учить, что в своё спасение надо уверовать, и это всё, что требуется от верующего, чтобы спастись. Учителя говорили, что достоверное слово Господне открывается каждому истинно верующему и уж конечно не мудрствующим всуе учёным мужам, ибо истинно верующий в своём сердце знает об Иисусе Христе много больше, чем доктора университетов вычитывают о Нём в своих книгах, в которых извращаются истины Библии, лишь бы доказать то, что угодно их авторам, которые не заботятся об открытии истины. А самые смелые возглашали с горящими гневом глазами:
— Кто те святые, которые призваны управлять, когда придёт Господь, если не бедные! Глас Иисуса Христа первым раздастся из уст простого народа, ибо Господь пользуется простыми людьми, чтобы провозгласить грядущее царство Своё. Евангелие получили не мудрые, не знатные, не богатые, а только бедные, ибо Господь вознамерился воспользоваться ими в великом деле проповеди Царствия Божия, дорогу в которое указал Его распятый Сын. Так возвысьтесь и возвысьте свой голос во имя Иисуса Христа! Только вы заслужили блаженство на земле и спасение после смерти!
Очень скоро Оливер Кромвель, вернейший из пуритан, превратился в одного из самых уважаемых граждан маленького английского городка Гентингтона, и когда весной 1628 года поиздержавшийся король был принуждён из-за пустовавшей казны созвать третий парламент, горожане единодушно избрали его представителем нации.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
1
Карл не мог выбрать худшего времени, но у него уже не было возможности выбирать: заставляла злая нужда. Под Ла-Рошелью англичане понесли большие потери, в беспорядке бежали и возвратились с позором. Многие корабли королевского флота нуждались в ремонте, в экипажах не хватало матросов, морской пехоте требовалось несколько тысяч новых солдат. Англия негодовала. Вдовы носили траур, отцы и братья бесславно погибших стискивали зубы и сжимали кулаки. В сердцах пылала жажда отмщения. А причинённое зло умножалось день ото дня. Стремясь закрепить свою первую победу под Ла-Рошелью, великий кардинал бросил свой флот против английских торговых судов. Их захватывали на северных и на южных торговых путях, товары конфисковывали в пользу французской казны, вплоть до окончания войны их команды оставались в плену. Торговые суда страшились покидать английские порты. Матросы шатались без жалованья и ругательски ругали проклятого герцога. Торговые обороты стремительно сокращались, купцы несли большие убытки, а тут бесстыдный король собирает парламент, который дважды сам разогнал, чтобы потребовать новых субсидий и продолжать с тем же успехом разорительную войну.
Понятно, что возмущённая нация избрала в палату общин лишь самых известных, самых стойких, самых проверенных противников короля. Среди этих двадцати семи человек были опытные ораторы, неисправимые узники Тауэра, неплательщики незаконных налогов и непримиримые сторонники истинной веры. В палате общин вновь появился Эдуард Кок, семидесятилетний седовласый старик, ещё полный энергии, знаток законов, сильный оратор и умелый политик, из Норфолка. Вновь оказался в парламенте Томас Уентворт, тридцати пяти лет, красноречивый оратор, пылкий проповедник скорее заимствованных, чем личных идей, к сожалению, слишком честолюбивый, слишком любящий власть, из Лондона. Были избраны Дензил Холлис, младший сын лорда, товарищ детства короля Карла, слишком гордый, чтобы повиноваться такому ничтожеству, как Бекингем, непримиримый сторонник идеи пресвитерианства[9], тридцати одного года, из Ноттингема, и Джон Пим, сорока четырёх лет, учёный-юрист, знаток истории английских парламентов, их традиций и прав, человек смелый, но хладнокровный, из Сомерсета, и, разумеется, Джон Гемпден, приходившийся Оливеру двоюродным братом.
Король скоро понял, что оппозиция сильна и непримирима. Ему предстояло решить, бороться с ней или пойти на уступки, запугать её или попробовать приручить. После позорнейших поражений в двух войнах, только что с Францией и прежде с Испанией, ему следовало бы смириться, принести парламенту повинную голову, поскольку за эти поражения вина лежала только на нём, и для начала уволить герцога Бекингема в отставку. Но он был Стюарт. Все Стюарты отличались монаршей гордыней и непримиримостью, как только затрагивалась их королевская честь и право на единоличную, абсолютную власть. Эта непримиримость, эта гордыня привели его бабку Марию Стюарт под топор палача[10].
Теснимый обстоятельствами, он выбрал средний путь, который хуже всего. Семнадцатого марта, в тот день, когда открывался парламент, Карл вступил в зал заседаний в пышном наряде испанского гранда, в сопровождении так же пышно разодетого Бекингема, что само по себе было вызовом оппозиции, и во вступительной речи попытался и умилостивить, и запугать представителей нации. Он сказал:
— Джентльмены! Отныне пусть каждый действует в соответствии с совестью. Если бы случилось, от чего сохрани нас Господь, что вы, презрев свои обязанности, усомнились бы доставить мне то, что требуют теперь нужды нашего государства, моя обязанность повелевает мне принять другие меры, которые вручил мне Господь, чтобы спасти то, что могло бы погибнуть от безумства немногих. Не примите моих слов за угрозу. Я не унижусь до того, чтобы угрожать кому-либо, кроме равных. Это всего лишь предупреждение, которое вам даёт тот, кому природа и долг вверили попечение о вашем благе и счастии. Он надеется, что ваше нынешнее поведение позволит ему одобрить ваши прежние советы и что он в благодарность за это примет на себя обязательства, которые дадут мне повод чаще вас созывать.
После короля с краткой речью выступил лорд-хранитель печати:
— Его величество счёл своим долгом обратиться к парламенту для получения субсидий, но не как к единственному средству, а как к наиболее приличному, потому, что оно более согласуется с его благими намерениями и с желанием его подданных. Если это окажется безуспешным, необходимость и меч врага заставят нас принять другие меры. Не забывайте предостережения его величества, не забывайте!
Представители нации тоже должны были выработать свою линию поведения. Кое-кому из них показалось, что король готов пойти на попятную и заключить с парламентом мир, которого всегда хотели и сами депутаты. От их имени выступил Бенжамен Редьярд:
— Джентльмены, я умоляю вас тщательно избегать всякого повода к пустым возражениям. Сердца и сан королей так высоки, что им приличествует уступать. Дадим королю возможность возвратиться к нам, как будто это произошло само собой. Я убеждён, что он нетерпеливо ожидает этого случая. Употребим все усилия, чтобы расположить монарха в нашу пользу, и получим всё, чего только можем желать.
Однако большинство представителей нации расслышало в речи короля не смирение, но угрозу, особенно глубоко оскорбившую тех, кого уже отрезвляли в каменных камерах Тауэра. От имени бывших узников высказался Джон Элиот, заклятый враг Бекингема:
— Джентльмены! Здесь оспариваются не только наши земли и наши имущества, но и всё то, что мы называем самым важным своим достоянием, оспариваются наши права, оспариваются те привилегии, которые сделали наших отцов и дедов свободными.
Прения разразились. Очень скоро парламентарии обнаружили, что им предстоит выбирать между патриотическим долгом и своими правами. Права по их понятиям были бесценны, в борьбе за них они были готовы отправиться в Тауэр, однако в Портсмуте готовилась к выходу в море вторая флотилия, чтобы на этот раз разгромить католические войска и спасти осаждённую Ла-Рошель, а не все корабли были готовы к отплытию, не все команды укомплектованы, матросы не получали жалованье уже десять месяцев, со дня на день на кораблях мог вспыхнуть бунт, и Карл просил денег на укрепление флота. Деньги надо было дать, но нельзя было их давать герцогу Бекингему, самозваному великому адмиралу, терпевшему одно поражение за другим. Представителям нации предстояло пройти по лезвию ножа, проголосовав так, чтобы и дать и не дать субсидии, и после пятнадцати заседаний они довольно успешно прошли столь головоломной тропой. Второго апреля депутаты вотировали значительные суммы, но лишь предварительно.
Король не тотчас уловил эту тонкость. Шестого апреля он спешно созвал большой королевский совет, сообщил о счастливом исходе и с простодушным хвастовством объявил:
— Когда я вступил на престол, я парламент любил, потом они как-то мне надоели. Теперь я возвращаю им мои прежние чувства. Я их снова люблю и буду рад совещаться с моим народом как можно чаще. Да, по правде сказать, этот день даёт мне в христианском мире такой кредит, какого я не получил бы, выигравши десяток сражений!
Министры его поздравляли. Бекингем старался особенно и, пользуясь случаем, похвалил и себя:
— Это важнее субсидий. Это целый родник субсидий, который вы открыли в сердцах ваших подданных. Позвольте, ваше величество, и мне присовокупить несколько слов. Признаюсь, моя жизнь была долго печальной, сон не приносил мне покоя, богатство не радовало меня, так горько было мне слыть человеком, который ссорит короля с народом и народ с королём! Теперь становится ясно, что только предубеждённые умы хотели выдать меня за злой дух, который вечно становится между монархом и его верноподданными. Пользуясь бесконечными милостями вашего величества, я приложу все старания, чтобы всем доказать, что я благодетельный гений, думающий беспрестанно только о том, чтобы оказывать всем услуги, услуги мирные, хочу я сказать.
Всеобщее ликование было ответом на его хвастовство. Все выражали готовность служить королю. Государственный секретарь поспешил в зал заседаний и объявил парламенту; какое благоволение готов оказать им великий король. Всеобщее ликование охватило и представителей нации. Казалось, мир был заключён, прочный, основанный на общем доверии. Но тут государственный секретарь совершил грубый промах: он упомянул о речи герцога и принёс депутатам заверения о самых добрых намерениях также и от него. Воцарилось молчание. Только минуту спустя поднялся Джон Элиот и в мёртвой тишине произнёс:
— Неужели есть человек хотя бы и самого высокого сана, который дерзает думать, что его благоволение и слово нужны нам для исполнения наших обязанностей относительно его величества? Или полагают, что кто бы то ни было может внушить его величеству больше расположения к нам, чем король сам захочет нам оказать? Я так не думаю. Я готов хвалить, даже благодарить всякого, кто употребляет своё значение и силу для общего блага, но такие притязания противны обычаям наших предков и нашей чести. О них я не могу слышать без удивления, не могу пропустить их без порицания. А потому я желаю, чтобы подобное вмешательство больше не повторялось. Будем служить королю. Но я надеюсь, что мы сами сможем сделаться полезными ему и не нуждаемся ни в какой посторонней помощи для приобретения его любви.
Королю такое заявление не могло не показаться чересчур дерзким, а герцог Бекингем не мог не понять, какая серьёзная опасность подстерегает его со стороны представителей нации, однако оба предпочли промолчать, ожидая полной победы под Ла-Рошелью, чтобы после неё расплатиться с депутатами железной рукой. Тем не менее уже ничто не могло исправить совершенной ошибки. За три дня перед тем члены парламента предложили верхней палате совместными усилиями определить коренные, неотделимые права граждан и потребовать, чтобы король торжественно их подтвердил. Теперь они сами, не дожидаясь ответа верхней палаты, принялись вырабатывать эти права. Тут уж Карл не смог промолчать. Двенадцатого апреля он отправил в палату общин одного из министров. Тот от имени короля объявил парламенту, чтобы они не тратили попусту драгоценного времени и как можно скорее приняли закон о субсидиях, а от себя лично решился прибавить:
— К прискорбию своему, я должен вам доложить, что до сведения его величества дошло, будто бы вы желаете действовать не только против злоупотреблений власти, но и против самой власти. Это затрагивает его величество, а также и нас, тех, кто пользуется его высоким благоволением. Будем говорить его величеству о злоупотреблениях, которые вкрадываются в исполнение его высоких предначертаний, он нас выслушает охотно, но не будем посягать на пределы его власти: он готов исправлять её уклонения, но не захочет урезать своих прав.
Вскоре после этого заявления более смирные лорды усомнились посягать на пределы королевской власти и предложили представителям нации испросить у короля декларацию, которой монарх должен бы был подтвердить, что он почитает неприкосновенной Великую хартию вольностей и ненарушимыми древние статуты, что все льготы и привилегии английского народа сохраняются, как и в прежние времена, и что король будет пользоваться правами, которые предоставлены верховной власти, единственно для блага своих подданных.
Со своей стороны, стремясь предотвратить появление на свет крайне нежелательной для него петиции о правах, Карл собрал обе палаты на совместное заседание и заявил, что он полагается как на Великую хартию вольностей, так и на статуты, которые её подтверждают. Что же касается иных каких-либо прав, король просил парламент положиться на его честное королевское слово, поскольку в честном королевском слове они найдут более твёрдые гарантии, чем в любом новом предложенном ими законе.
Представители нации не были склонны отныне полагаться именно на колеблемое ветром честное королевское слово соблюдать Великую хартию вольностей, тем более соблюдать их права, множество раз нарушенные за истекшие двадцать пять лет, срок для проверки честности королевского слова достаточный. Ведь и король Яков и его наследник ни разу не поколебались отринуть и Великую хартию вольностей, и статуты, и права парламента, и права своих подданных, когда взимали незаконные налоги и пошлины, вымогали деньги взаймы, обременяли постоями и отправляли в тюрьму тех, кто отказывался исполнять их незаконные требования. Обсуждение петиции о правах пошло полным ходом. Совместными усилиями были выработаны фундаментальные права, которые впоследствии назовут правами человека и гражданина: верховная власть не имеет права принуждать своих подданных к выдаче займов и к уплате налогов, не утверждённых парламентом, никто не может быть лишён имущества и свободы иначе как по законам страны и по приговору суда, в мирное время никто не может подвергаться аресту по законам военного времени и никто не может быть обременён армейскими постоями без согласия.
Восьмого мая 1628 года палата общин передала эти статьи на утверждение палаты лордов. Так случилось, что в тот же день из Портсмута вышла флотилия в составе тридцати трёх боевых и двадцати вспомогательных кораблей и взяла курс на Ла-Рошель. На этот раз король не решился поручить командование герцогу Бекингему. Флотилию возглавил лорд Денбиг. Он должен был прорваться к Ла-Рошели, доставить осаждённым протестантам продовольствие и боеприпасы и тем заставить французского короля снять осаду и заключить с протестантами мир. Таким образом судьба петиции о правах была отдана в руки адмирала Денбига, и все ждали, чем закончится его экспедиция.
По существу, петиции о правах лордам было нечего возразить, поскольку злоупотребления короля, министров и лордов-наместников вызывали уже всеобщее возмущение, однако они колебались. Карл, на этот раз уверенный в полной победе под Ла-Рошелью, которая, бесспорно, возвысит и укрепит его власть, направлял лордам и членам парламента послание за посланием, призывая ограничиться ещё одним королевским указом, которым он был готов подтвердить Великую хартию вольностей; но пока флотилия адмирала Денбига только плыла и разворачивалась под Ла-Рошелью, он себя сдерживал, тон его посланий был довольно миролюбив, он продолжал заверять, что не допустит ущемления собственных прав, но впредь не станет употреблять их во зло своим подданным.
Прислушиваясь к заверениям короля, сами не склонные к разногласиям с ним, лорды принялись трудиться над неразрешимой задачей: с одной стороны, они желали обеспечить фундаментальные права англичан, которые лишат короля возможности злоупотреблять своей властью, а с другой стороны, не меньше желали ничем не стеснять королевскую власть. Для начала они попробовали смягчить петицию о правах во всех отношениях сомнительной, уклончивой оговоркой:
«Мы подносим вашему величеству это всенижайшее прошение с тем, чтобы обеспечить наши собственные права, по в то же время с подобающим уважением к полной неприкосновенности верховной власти, которой облечено ваше величество для покровительства, безопасности и счастья ваших подданных».
С этой бессмысленной поправкой и одобрением лордов петиция о правах была получена палатой общин семнадцатого мая. Едва представители нации успели с ней ознакомиться, как последовал взрыв возмущения. Первым вскочил с места малоизвестный депутат Мэтью Элфорд и закричал, возбуждённо размахивая руками:
— Откроем наши протоколы, посмотрим, что заключается в них! Что такое верховная власть? Как утверждает Боден, это власть, не связанная никакими условиями. Следовательно, мы будем принуждены признавать две власти: одну законную, другую королевскую! О нет, дадим королю только то, что ему даётся законом, и больше не дадим ничего!
Оглядывая зал заседаний насмешливым взглядом, Джон Пим подтвердил:
— Я не в состоянии обсуждать этот вопрос, поскольку представить себе не могу, в чём, собственно, он состоит. Наше прошение ссылается на законы Англии, тогда как в поправке, сделанной лордами, дело идёт о власти, отличной от власти законов. Где же она? Её нигде нет, ни в Великой хартии вольностей, ни в каком-либо статуте. Где же нам её взять, чтобы мы могли её дать?
Томас Уентворт, печальный, с вытянутым лицом, негромко сказал:
— Если мы примем эту поправку к нашей петиции о правах, мы оставим дела в гораздо худшем положении, чем то положение, в каком мы их нашли, мы запишем в число законов такую верховную власть, которой никогда не знали наши законы.
К депутатам незамедлительно присоединился торговый и ремесленный Лондон, который от петиции о правах ждал защиты от королевского произвола, больно бьющего по его кошелькам. Никаких открытых выступлений пока не последовало, слышался только ропот, неразличимый, глухой, что-то вроде отдалённого подземного гула, да в гостиных богатых торговцев и финансистов оживлённо, настойчиво обсуждался вопрос, будет или не будет принята королём петиция о правах, и слышалось недовольство непоследовательной, уклончивой позицией лордов. Этого оказалось довольно. Лорды сами отозвали свою несостоятельную поправку. Обе палаты утвердили петицию о правах, и двадцать восьмого мая она была представлена королю.
Для монарха это был самый неподходящий момент. Мало того, что королевский флот под Ла-Рошелью потерпел новое поражение. О таком позоре в Англии давно никто не слыхал. Погода в середине мая выдалась славная. Крепкий попутный ветер надувал паруса, и уже неделю спустя англичане увидели французские берега. Однако там их ожидал неправдоподобный сюрприз. Великий кардинал, весьма начитанный в античной истории, припомнив славные подвиги Александра Великого, повелел перегородить вход в залив Ла-Рошели плотиной. В течение нескольких месяцев солдаты и окрестные жители трудились не разгибая спины, и когда английские корабли попытались приблизиться к Ла-Рошели и выгрузить осаждённому городу продовольствие и боеприпасы, изумлённым взорам адмирала и офицеров, солдат и матросов открылось сооружение из камней и песка, которое возвышалось метров на двадцать, а в длину простиралось километра на полтора. Обойти это сооружение было нельзя, нельзя было и пройти сквозь него. Потоптавшись на месте, лорд Денбиг отдал единственно разумный приказ: все корабельные пушки открыли шквальный огонь, направив его в одно место, в надежде пробить достаточно широкий проход и прорваться в залив. Им ответила французская артиллерия, причём у одной из пушек простым канониром стоял сам французский король. Разрушить плотину не удалось: основанием ей служили остовы затопленных кораблей. Зато вражеские ядра наносили английским кораблям ощутимый урон. Всё ещё не теряя надежды исполнить повеление своего короля, лорд Денбиг бросил против плотины специальную команду морских пехотинцев на шлюпках и начиненный порохом брандер[11], рассчитывая мощным взрывом проложить себе путь к Ла-Рошели, однако меткие французские канониры отбили и эту атаку. Ещё можно было высадить десант севернее или южнее невероятного заграждения и попытаться прорваться по суше. Сделай в таком случае осаждённые протестанты встречную вылазку, и победа могла бы быть обеспечена. Вдруг два дня спустя английские корабли подняли все паруса и ушли, своей трусостью вызвав в стане французов изумлённое ликование.
Сам лорд Денбиг впоследствии объяснял своё странное бегство досадной неувязкой в действиях своих подчинённых. Неверно истолковав приказ адмирала, поднятый на флагманской мачте, несколько кораблей, подняв паруса, ходко вышли в открытое море, тогда адмирал, испугавшись, что ослабленная флотилия может сделаться лёгкой добычей французов, тоже вывел её в открытое море, не имея понятия, что происходит. Объяснение довольно правдоподобное, ведь его офицеры были плохо обучены и вполне могли перепутать сигналы, однако многим англичанам это объяснение показалось слишком наивным. Хорошо, рассуждали и в Портсмуте, и в Лондоне, и в других городах, офицеры что-то там перепутали, опасность попасть в лапы французов была велика, однако в открытом море флотилия снова соединилась, недоразумение выяснилось, отчего же адмирал не отдал приказ возвратиться и продолжить битву за Ла-Рошель?
Поползли скверные слухи. Одни уверяли, что коварный Ришелье попросту подкупил лорда Денбига, на эти штуки великий кардинал был неподражаемый мастер. Другие передавали, что великий кардинал затеял интригу и вынудил Людовика XIII так круто побеседовать с Анной Австрийской, своей неверной супругой, что она написала герцогу Бекингему письмо, которое было исправно передано в руки её любовника шпионами великого кардинала, и герцог Бекингем, известный распутник, сам отдал приказ флоту бросить Ла-Рошель на произвол судьбы, иначе его любовнице грозила чуть ли не гибель.
Всё это были злые, зловещие сплетни, доказательств против Денбига и Бекингема не было никаких, но король вынужден был с этим считаться. Поначалу он ответил неопределённо, уклончиво: мол, дело серьёзное, надо подумать, а там поглядим. Нерешительность короля только распалила представителей нации пуще, чем самый определённый, самый грубый отказ. Они продолжили прения. Вновь впереди недовольных встал Джон Элиот. Раскрасневшийся, с нахмуренным лбом, он в сильных выражениях перечислил самые вопиющие нарушения прав, допущенные королевской властью за последние двадцать пять лет. В мгновение ока явилось решение изложить приведённые факты письменно и подать самодержцу порицание, причём оформить это решение было поручено тому комитету, который готовил закон о субсидиях, этим Карлу прямо давали понять, что без петиции о правах он не получит ни пенса.
Положение стало критическим. С минуты на минуту между королём и парламентом мог разразиться непоправимый конфликт. Внезапно откуда-то пополз слух, будто монарх готовится арестовать всех парламентариев и в полном составе отправить в тюрьму. Взрыв негодования потряс зал заседаний. Страх поразил большинство, которое вечно колеблется и склоняется на сторону сильного, кто бы он ни был. Предводителям возмущения не дали говорить. Их встречали криками ярости. Джона Элиота, которого только что слушали с одобрением, внезапно обвинили в недостойной личной вражде к Бекингему, Томасу Уентворту поставили в упрёк безрассудство, Эдуард Кок оказался повинен в упрямстве и грубости.
Впрочем, грязные страсти кипели недолго. Всё-таки слишком многих глубоко оскорбил неопределённый, уклончивый ответ короля, но они терялись в догадках, что предпринять. Вскоре на представителей нации опустилось уныние. Наконец поднялся только что жестоко обруганный Джон Элиот и сказал:
— Должно быть, очень велики наши грехи. Богу известно, с какой любовью, с каким усердием мы старались смягчить короля! Нет сомнения, неудовольствие с его стороны навлекли на нас чьи-то доносы. Говорят, что мы бросили какую-то тень на некоторых министров, однако, как бы ему ни был дорог министр, король не может...
Председатель вскочил и умоляющим голосом закричал:
— У меня повеление короля заставлять замолчать любого и каждого, кто станет дурно говорить о королевских министрах, молчите!
Джон Элиот посмотрел на председателя с удивлением и медленно сел на скамью. Председатель упал в своё кресло и истерически зарыдал. Когда он оправился и вытер слёзы платком, Дадли Диггс раздражённо заметил:
— Если в парламенте нельзя говорить об этих вещах, встанем и уйдём или останемся сидеть праздными и немыми!
Ему громко возразил Натаниэл Рич:
— Нет, мы должны говорить, должны говорить теперь или никогда! Депутатам в такую минуту неприлично молчать! Да, я согласен, молчание нас может спасти, но оно спасёт только нас и погубит государя и государство! Направимся к лордам, объявим им о нашей опасности, наше порицание представим королю сообща!
Перелом наступил. Уныние внезапно сменилось негодованием. Парламентарии разом вскочили, завопили разом, перебивая друг друга:
— Король добр, никогда ещё не было такого доброго короля! Это враги отечества вооружили его против нас! Пусть Господь пошлёт нам непоколебимость сердца, верность шпаги и твёрдость руки, чтобы перерезать всех врагов, наших и нашего короля!
— Это не государь, это Бекингем говорит нам, чтобы мы не вмешивались в государственные дела!
— Бекингем! Бекингем!
— Это он! Это он!
Председатель снова вскочил, но его голоса не было слышно. Беспорядок усиливался. Не нашлось никого, кто бы остановил бесполезный, беспорядочный крик. Молчали и Элиот, и Уентворт, и Кук. Именно те, кто только что их обвинял в поджигательстве, во вражде, предлагали самые немыслимые, самые жестокие меры. Председатель неприметно покинул зал заседаний и поспешил во дворец. Не успел он донести о случившемся, как смятение в свою очередь охватило короля и министров. Страх сковывал мысли, трусость подвигала идти на любые уступки. Лишь на другой день пробудилось благоразумие. В палату общин было направлено объяснение, что представителям нации не возбранялось обсуждать государственные дела и порицать королевских министров.
Карл отступал, но отступал как слабый человек, а не как сильный и мудрый политик. Его слабость тотчас уловили в парламенте. В зале заседаний не ослабевало волнение. Вновь поползли зловещие слухи. Передавали, будто герцог Бекингем уже навербовал немецких наёмников, известных своей кровожадностью и безрассудной жестокостью, превосходящей даже неумолимую жестокость испанских папистов, и готовится перебросить их в Англию. Именно, один из депутатов не далее как вчера видел двенадцать немецких офицеров на улицах Лондона! Тотчас стало известно, будто два корабля королевского флота получили приказ доставить немецких солдат и готовятся выйти из Портсмута. Кое-кто в самом деле стискивал рукоять своей шпаги, готовясь к кровавой борьбе.
Тем временем во дворце смятение усиливалось. Король и герцог совещались два дня подряд. Бекингем настаивал на новом походе под Ла-Рошель и выражал готовность снова возглавить флотилию. Он убеждал окончательно потерявшего самообладание монарха, что только победа сможет восстановить и укрепить его власть, однако о новом походе нечего было и думать, ведь закон о субсидиях так и не утверждён, а чтобы вырвать этот закон, следует успокоить представителей нации, необходимо швырнуть им петицию о правах, как швыряют кость голодной собаке, после славной победы будет нетрудно отказаться. На седьмое июня было назначено заседание лордов. На него пригласили депутатов. Явился король, в испанском наряде, с испанской бородкой и по-испански подстриженными усами, и начал он с оправданий:
— Напрасно в нашем ответе предположили какую-то заднюю мысль, там её нет. Мы готовы ответить так, чтобы рассеять всякие подозрения.
Старший из лордов громко, отчётливо зачитал петицию о правах. Все взоры обратились на короля. Карл прикрыл на мгновенье глаза, поднял бессильно пальцы и медленно произнёс:
— Быть по сему.
Представители нации ликовали. Они одержали свою первую и значительную победу. Ею открывалась новая, ещё никогда не бывалая страница в истории отношений верховной власти с народом. Они спешили её закрепить. Для этого было необходимо оповестить всю страну. Палата общин постановила без промедления напечатать петицию о правах вместе с заключительным словом короля «быть по сему». Пока текст сверялся и рассылался по лондонским типографиям для скорейшего распространения в королевских судах, был единодушно принят закон о субсидиях. Своей сплочённостью депутаты давали королю понять, что они готовы к сотрудничеству, к взаимным уступкам. Монарху оставалось только деожать данное слово. Казалось, он и сам склонялся к сотрудничеству. Получив закон о субсидиях, он произнёс:
— Я сделал всё, что зависело от меня. Если этот парламент кончит плохо, он будет в этом сам виноват. Отныне меня не могут ни в чём упрекнуть.
Он ошибался. Петиция о правах пока что была только бумагой. Записанные в ней права человека и гражданина ещё только предстояло соблюдать и защищать. Кто станет их исполнять и кому предстоит защищать? Ясно, что соблюдать права человека и гражданина предстояло самому королю и его министрам во главе с Бекингемом, а защищать должны будут представители нации. Ни один из них не доверял герцогу, да и сам король Карл пока что не отказался забирать в казну пошлины, в которых парламентарии ему отказали. Стало быть, сам государь без малейшего угрызения совести продолжал нарушать те права, которые его только что вынудили признать. Чего же после этого ждать от ненавистного Бекингема?
Было понятно, что депутаты не должны останавливаться в борьбе за права, да и остановиться они уже не могли, победа кружила их возбуждённые головы. Тринадцатого июня они подготовили протест против Бекингема и направили его королю, прямо не требуя, но решительно подталкивая его дать отставку своему ненавидимому всеми любимцу. Двадцать первого июня был подготовлен протест против взимания неустановленных пошлин, поскольку все сборы, согласно петиции о правах, могли взиматься только в том случае, если их узаконил парламент. Двадцать шестого июня Карл явился на совместное заседание обеих палат и, ещё не решившись вовсе обойтись без парламента, распустил и лордов и представителей нации на каникулы.
2
На этот раз король предоставил палате общин на борьбу с ним сто два дня. Это были знаменательные, бурные, яркие дни. И все эти дни Оливер Кромвель, неприметный депутат от неприметного Гентингтона, сидел на задней скамье и угрюмо молчал. Страсти кипели, выступали ораторы, знаменитые и никому не известные, настроение менялось, внезапно переходя от уныния к ликованию, его сердце учащённо колотилось в груди, кровь приливала к голове и стучала в висках, кулаки сжимались сами собой, рука искала рукоять шпаги, но он вынужден был молчать, он не рождён был оратором, у него не было слов, к тому же, проведя тридцать лет в деревенской глуши, он не всегда понимал, отчего волнуются соратники, о чём так громко толкуют ораторы и по какой причине им возражает король.
Оливер снова худел, терял аппетит, плохо спал по ночам и видел страшные сны. Отвары, прописанные доктором в Гентингтоне, перестали ему помогать. В желудке появлялись боли спустя три часа после еды, и никакая диета не приносила ему облегчения. Стали появляться боли в левом боку. Он точно усыхал, а тело его становилось горячим. Он хотел отдохнуть, съездить домой, успокоиться, но не мог оторваться от Лондона. Череда всё новых и новых событий парализовала его.
Объявив парламентские каникулы, король поначалу делал уступки, продолжая задабривать представителей нации. Им были приняты некоторые меры против папистов, которые в последнее время проникали повсюду и проповедовали чуть ли не открыто. Его повелением англиканская церковь прекратила безобразные проповеди о слепом повиновении королю и министрам. Он всё ещё колебался. Вновь его собственная судьба, судьба парламента, судьба петиции о правах и судьба Англии зависели от победы в войне.
Не находя более достойного адмирала, он вновь назначил командовать флотом своего фаворита. Бекингем выехал в Портсмут. Он нашёл, что повеления короля не исполнены, что флотилия не готова к выходу в море, что ремонт кораблей тянулся вяло и проводился только для вида, что матросы не хотят воевать, что кругом саботаж и подрывная деятельность французских шпионов. Герцог с энтузиазмом взялся за дело, может быть, понимая, что наступают последние дни: он должен либо победить, либо умереть. Подготовка флотилии пошла побыстрей, офицеры подтягивали дисциплину в командах. Бекингем чувствовал себя всё уверенней. Двадцать третьего августа он обедал весело и с аппетитом. Наконец допил вино, вытер влажные губы, смял и бросил салфетку, потянулся и поднялся из-за стола. Вдруг из рядов его стражи твёрдо выступил молодой офицер, Джон Фелтон, лейтенант королевского флота, и уверенной рукой нанёс самозваному адмиралу два неотразимых удара кинжалом. Бекингем успел выхватить шпагу, но тут же, обливаясь кровью, упал, коснеющим языком прошептав:
— Да ты убил меня, экая сволочь!
Офицер стоял неподвижно. На него набросились с криками:
— Это француз! Это француз!
Кто-то припомнил, что был канун ужасной Варфоломеевской ночи, когда неистовые паписты перерезали уйму безоружных сторонников истинной веры. Офицер не сопротивлялся, не возражал. Он был англичанин, больше того, придерживался истинной веры, спокойно отвечал на вопросы. Был ли у него личный мотив для убийства? Да, у него был личный мотив, он участвовал в первом походе под Ла-Рошель, отличился на острове Ре, ему по праву следовал чин, он дважды обращался с прошением к герцогу, и Бекингем дважды ему отказал, причём оскорбил честь офицера, тогда как другие получали награды за деньги. Однако, продолжал арестованный, он убил не только личного врага, но врага королевства, человека низкой морали, распутника, взяточника и казнокрада. В доказательство своей правоты Фелтон указал на свою шляпу. Её исследовали, вспороли подкладку, под подкладку была зашита записка, которую Фелтон написал, когда готовился к покушению. В записке было написано:
«Тот позорный трус и не заслуживает звания дворянина или солдата, кто не готов положить свою жизнь за честь своего Бога, своего государя и своего народа. Пусть никто не хвалит меня за мой поступок, но каждый пусть скорее обвиняет себя самого, поскольку был причиной тому, что сделал я, ибо если бы Бог, в наказание за наши грехи, не отнял у нас сердца, Бекингем не оставался бы безнаказанным так долго».
Джон Фелтон умер с достоинством и спокойно. Англия ликовала, восхищалась убийцей и признавала герцога Бекингема достойным именно такого возмездия. Король был возмущён столь дерзким поведением подданных, ведь он лишился любимца, советника, своей правой руки, без Бекингема он почувствовал себя сиротой и предпочёл мстить, однако не одному человеку, а нации. Первым делом Карл исподтишка отобрал у неё те права, которые только что даровал. Его агенты проникли во все типографии, где набиралась или печаталась петиция о правах. Все наборы были рассыпаны, все отпечатанные экземпляры были изъяты и сожжены. Владельцам типографий было приказано заменить это королевское «быть по сему» первым ответом, неопределённым, уклончивым, ничего не решающим, который возмутил представителей нации, после чего петиция о правах была отпечатана всего лишь как пожелание депутатов, без утверждения короля.
Этой подлости ему было мало. Он стремился оскорбить и унизить парламент, разрушить его изнутри; возвратил свою милость доктору Монтегю, которого все ненавидели, назначил на доходное место доктора Меноринга, осуждённого лордами, архиепископ Уильям Лод, ярый гонитель проповедников пуританства, был поставлен на епархию в Лондон, Томас Уентворт, самый пылкий, самый красноречивый оратор, но и самый честолюбивый из депутатов получил титул барона и был принят на королевскую службу, за ним последовали Дигген, Литлтон, Ной, Уондесфорд и некоторые другие. Не утверждённые парламентом пошлины взимались ещё неукоснительней, ещё строже, чем прежде, вновь заработали трибуналы, судившие непокорных по законам военного времени.
Не только слепая жажда мести толкала короля на скользкий путь подлога, насилия и вызывающей наглости, он по-прежнему с непоколебимым упрямством рассчитывал на громкую победу под Ла-Рошелью, уверенный в том, что победа заткнёт и самые непримиримые рты. На место убитого Бекингема был назначен граф Роберт Берти Линдсей. Семнадцатого сентября 1628 года третья флотилия вышла из Портсмута и спустя одиннадцать дней была на подступах к Ла-Рошели. Ла-Рошель приветствовала английские паруса праздничным перезвоном колоколов. У осаждённых подходило к концу продовольствие. Измождённые голодом люди понемногу начинали охоту на кошек, собак и мышей. С появлением англичан у них появилась надежда, но она с каждым днём угасала.
Граф Линдсей наткнулся на ту же плотину, которую возвёл в заливе кардинал Ришелье. Несколько дней он простоял перед ней в недоумении и раздумье. Он попытался выманить более слабый французский флот, чтобы разгромить его в генеральном сражении и предъявить осаждающим ультиматум, однако французы уклонились от прямого столкновения. Оставалась единственная возможность — высадить на берег десант и разгромить врага на суше, но, подсчитав силы, он вынужден был отказаться от этой возможности, поскольку против двадцати тысяч французских солдат он мог выставить не более шести тысяч морских пехотинцев.
Собственно, графу Линдсею оставалось только не солоно хлебавши возвратиться к родным берегам. Он был опытный морской волк и попытался хотя бы спасти свою честь. Третьего октября граф начал бомбардировку плотины, пытаясь пробить в ней проход для своих кораблей, зная заранее, что это невозможно. Он бил по плотине, французские пушки палили по его кораблям, причём Людовик XIII вновь обслуживал одну из них простым канониром. В первый же день с обеих сторон было выпущено не менее пяти тысяч ядер. Итог столь интенсивной пальбы был довольно печальным: английские ядра не причиняли французской плотине никакого вреда, тогда как французские наносили неподвижно стоящим английским судам немалый урон. Пальба продолжалась и четвёртого октября. К вечеру сломанные мачты, простреленные борта, разрушенные надпалубные постройки со всей очевидностью показали графу Линдсею, что очень скоро он может остаться вовсе без флота. Утром пятого октября он отправил к великому кардиналу парламентёра. Тот просил пощадить обречённую Ла-Рошель. Ришелье, убедившись в полнейшем бессилии вражеского флота, согласился только на то, чтобы англичане уговорили осаждённых сложить оружие и сдаться на милость законного владыки. Посчитав, что честно исполнил тяжкий долг, граф Линдсей приказал поднять якоря и взять курс к родным берегам. Три недели спустя, прикончив всех кошек, собак и мышей, осаждённая Ла-Рошель отворила ворота. Площади, улицы, общественные места и дома горожан были завалены трупами, причём тела были до того иссушены страшным голодом, что не поддавались гниению. Оставшиеся в живых уже не способны были держать оружие и хоронить умерших братьев по несчастью и вере.
Оливера душило негодование. Коварные выходки короля, провал третьего похода английского флота, падение Ла-Рошели и торжество папистов над приверженцами истинной веры в его страстной душе вызывали бессилие гнева. Он был призван к активному действию, однако это по-прежнему оставалось для него невозможным. Здоровье стремительно ухудшалось, наконец его худоба вызвала беспокойство родни. К нему пригласили известнейшего лондонского доктора Майерна, своим врачеванием заработавшего крупное состояние, что в глазах многих служило наилучшей рекомендацией. Доктор осмотрел его с должным вниманием и поставил диагноз, уже поставленный бедным лекарем из Гентингтона: крайне подвержен меланхолии, и прописал всё тот же отвар из валерьяны, зверобоя и мяты, которому надлежало привести расшатанные нервы исхудавшего пациента в должный порядок и возвратить ему крепкий сон, радость жизни и аппетит.
Оливер продолжал пить целебный отвар, но едва дождался конца каникул, установленных королём. Заседания палаты общин возобновились двадцатого января 1629 года. Наслышанные о том, до какой степени вызывающе в эти шесть месяцев вёл себя король, представители нации на другой день приступили к расследованию. В первую очередь их волновала судьба петиции о правах. Ими был официально допрошен владелец королевской типографии Нортон. Типографщик показал, что заседания парламента прекратились семнадцатого июня, а уже восемнадцатого он получил повеление заменить утвердительный ответ короля, преступно подделанная прокламация была доставлена в зал заседаний, были подняты протоколы голосования, и все убедились, что монарх тайно, трусливо и подло пошёл на подлог и отменил петицию о правах.
Это казалось невероятным. Карл так низко уронил свою честь, как себе не мог бы позволить и простой дворянин. Представители нации были поражены. Словно стыдясь своего короля, они сняли вопрос с обсуждения и перешли к текущим делам. Первым был вопрос о таможенных сборах. В пользу короля приходилось платить с каждого фунта любого товара, который вывозился на внешние рынки, отчего английские товары существенно дорожали, а положение английской торговли и без того ухудшалось. Стремясь сохранить прибыли и престиж государства, депутаты три раза подряд отказывались вотировать закон о пошлинах в пользу ненасытной королевской казны. На этот раз, не желая вновь и вновь повторять свои доводы, они лишь подтвердили, что такие поборы не имеют законной силы.
Второй вопрос касался религии. В ноябре прошедшего года Карл, после гибели Бекингема попавший под влияние архиепископа Лода, объявил, что считает себя выше церковных соборов, что впредь не допустит так называемых учёных изысканий по вопросам религии, поскольку в разного рода толкованиях и дискуссиях видит корень зла и семя всех смут и что все верующие обязаны безоговорочно подчиняться единой и незыблемой англиканской церкви, во главе которой государя поставил сам Бог.
Напротив, всё большее число англичан становилось пуританами. Они и в палату общин направили самых испытанных, самых проверенных единомышленников. Естественно, эти люди не могли снести новой выходки короля. Страсти наконец закипели. Представители нации выплеснули весь свой чрезмерно накопившийся гнев. Депутаты от общин обрушились на короля, обвинив его в том, что он покровительствует папистам, они указывали, что католикам привольно живётся при королевском дворе, что с ведома короля они наводнили Ирландию, что среди высшего англиканского духовенства всё больше становится соглашателей, которые готовы уступить папизму не только в богослужении, но и в основах вероучения, и всё это творится в то время, когда католицизм побеждает в Европе, когда во Франции по вине английского короля пал последний оплот истинной веры, когда кровавые собаки Валленштейна добивают протестантов в Германии, а испанцы подбираются к протестантам Соединённых провинций, как не понять, что не сегодня так завтра очередь дойдёт и до Англии.
В разгар прений на задней скамье поднялся неприметный, до сей поры угрюмо молчавший депутат из провинции, в простом домотканном камзоле, с болезненным видом, с измождённым бледным лицом, с зловещим блеском в глазах. Это был Оливер Кромвель. Он ощутил в первый раз, что может сделать реальное дело. В его родном Гентингтоне преследуют старого учителя Томаса Бирда. Он обязан его защитить. Он заговорил нескладно, но горячо:
— Доктор Алабастер в церкви святого Павла проповедовал открытый папизм. Достопочтенный доктор Бирд хотел урезонить его, тогда епископ винчестерский вызвал его к себе и приказал не перечить доктору Алабастеру.
Для начала и этого было довольно. Оливер вернулся на место. Он был весь в поту. Выступления продолжались. Более опытные ораторы громили наглый папизм и предлагали подать новый протест королю. Протест против чрезвычайного распространения католицизма в Англии, Ирландии и Шотландии был принят подавляющим большинством голосов. Естественно, за него отдал свой голос и Оливер. Собственно, любые протесты парламентариев не имели никакого значения. Король мог произнести «быть по сему», и в этом случае протест получал силу закона, а мог попросту промолчать, и протест оставался всего лишь сотрясением воздуха и мёртвой бумагой. Стало быть, не от чего было расстраиваться, однако беда состояла именно в том, что болезненно щепетильный Карл каждый протест представителей нации воспринимал как личное оскорбление, как возмутительное посягательство на его неограниченные права, данные Богом, чего не должен делать истинно государственный человек. Протест против чрезвычайного распространения папизма он ещё стерпел кое-как, но протест против взимания не утверждённых парламентом пошлин в пользу королевской казны возмутил его до глубины души. Поистине пошлины — это святое. Он благополучно собирал эти неутверждённые пошлины уже пятый год, представители нации протестовали, а он продолжал наживаться и мог бы так же благополучно делать это до конца своих дней, не раздражая парламент ненужным, бессмысленным, бесполезным негодованием. Он же вознегодовал, потребовал утверждения пошлин, пробовал убеждать, угрожал, а в сущности суетился без малейшего смысла. Представители нации ответили тем же: они извинились, но отказали, на этот раз просто-напросто не желая привести никакого резона. Они саботировали, они издевались, ничего иного они предпринять не могли.
Король понял: они не хотят с ним говорить. Он мог бы вернуться к петиции о правах, ведь однажды он её принял и лишь задним числом, неприлично, тайком, её отменил. Возвращение к ней остудило бы праведный гнев парламентариев, монарх добровольно возвратился бы на путь чести, сотрудничество короля и парламента могло бы возобновиться. Но коса уже нашла на камень. Король мог сколько угодно по своей прихоти ронять свою честь, но не мог позволить, чтобы ему на это указывали. Второго марта он послал объявить, что заседания парламента прерываются на неопределённое время. Карл откровенно заявлял своё право: даю вам говорить, когда мне это нравится, и не даю вам говорить, когда мне это не нравится.
Раздор ещё только занимался и тлел — король плеснул масла в огонь. Представители нации точно взбесились. Они повскакали со своих мест и закричали, заорали, завопили все разом, в этом гаме невозможно было ничего разобрать. Когда же первая волна бешенства улеглась, не потерявший хладнокровия Джон Элиот предложил не покидать этого зала до тех пор, пока не будет принят протест против всей незаконной, противной интересам нации политики короля. Вторая волна бешенства потрясла зал заседаний. Со всех сторон посыпались предложения, одно другого решительней, непримиримей и злей, которые могли только усилить вражду между парламентом и королём. Заслышав возмутительные призывы, председатель Джон Финч объявил, что в полном согласии с повелением короля он не может допустить ни прений, ни тем более голосования. Ожесточённые споры продолжались. Он встал, что означало конец заседания. В порыве негодования его окружила возбуждённая толпа депутатов. Холе и Валентайн силой усадили Джона Финча на место, крепко держа его за руки, Холе при этом кричал:
— Клянусь Богом, вы будете сидеть до тех пор, пока мы не позволим вам встать!
Кое-кто из верных сторонников короля втихомолку покинул зал заседаний. Карла известили о поднявшейся буре. Монарх повелел своему представителю покинуть палату, что также означало конец заседаний. Представителя короля тут же схватили и удержали. У него отобрали ключи. Двери были заперты изнутри. Король прислал объявить, что распускает парламент, но в зал заседаний невозможно было войти. Государь вызвал капитана гвардейцев и приказал ломать дверь. Тот бросился исполнять его повеление, но, верно, не очень спешил.
Парламентарии успели сообразить, что зашли чересчур далеко и что времени у них остаётся в обрез. Все замолчали. Джон Элиот, единственный, кто сохранил присутствие духа, стал громко читать по исписанным наспех клочкам главнейшие пункты протеста, о которых за гамом и стычками с председателем и подумать никто не успел:
— Всякий, кто стремится привносить папистские новшества в англиканскую церковь, должен рассматриваться как главный враг королевства.
В ответ прогремело единодушно:
— Да, это так!
— Всякий, кто советует королю взимать пошлины и налоги без нашего одобрения, должен рассматриваться как враг народа!
— Да, это так!
— Всякий, кто платит не утверждённые нами налоги, должен быть объявлен предателем Англии!
— Да, это так!
От дверей кто-то испуганно крикнул:
— Солдаты!
Кто-то в ужасе подхватил:
— Король применяет против нас силу!
Лица вытянулись, депутаты застыли. Джон Элиот поторопился поставить протест на голосование. Паника окончательно улеглась, не успев разразиться. Протест приняли большинством голосов. Раздался грохот в дверях. Страшась отдать бумагу в руки врага, Джон Элиот запалил клочки от свечи и дал им догореть. Холе лихорадочно твердил только что принятые статьи, чтобы впоследствии их не забыть, едва ли соображая в тот миг, что сожжённый протест уже не документ, а смрадный дым от сгоревшей бумаги. Председателя отпустили и отдали ему ключ от дверей. Решив, что честнейшим образом исполнили долг перед родиной, депутаты в гордом молчании вышли из зала и проследовали мимо гвардейцев, которые глядели на них с молчаливым недоумением.
Десятого марта король вступил на заседание лордов, мрачный, но полный решимости, и укоризненно произнёс:
— Никогда не входил я сюда при обстоятельствах более неприятных. Джентльмены, я вынужден объявить парламент распущенным. Единственная причина моего решения вам, я полагаю, известна: это возмутительное поведение нижней палаты. Я не хочу и не могу обвинить всех. Я знаю, что среди них много честных и верных подданных. Они обмануты или запуганы несколькими мерзавцами. Что ж, злоумышленники получат то, что они заслужили. Что касается вас, джентльмены, вы можете рассчитывать на покровительство и милость, какую добрый король должен оказывать своему верному дворянству.
Несколько дней спустя на оградах, на стенах домов был расклеен рескрипт от имени короля:
«Неблагонамеренные лица распускают слух, будто бы скоро будет созван новый парламент. Его величество король ясно доказал, что он не питает ни малейшего отвращения к парламентам, однако их последние выходки вынудили его переменить образ действий. Отныне он будет считать за личное оскорбление всякие речи, всякие поступки, клонящиеся к тому, чтобы предписывать ему какой бы то ни было определённый срок для созыва новых парламентов».
Казалось, было произнесено последнее слово. Король недвусмысленно заявил своё неоспоримое право созывать и распускать парламент, когда ему вздумается. Представители нации мирно и тихо разошлись по домам, правда, под занавес приняв какой-то протест, но тут же сожгли его, статьи протеста остались только в памяти Элиота и Холса, а в их памяти они не имели никакого значения, не приносили никому пользы, никому не причиняли вреда, ведь многие англичане и без этих сожжённых статей считали незаконными налоги и пошлины, вводимые королём против воли парламента. Следовало остановиться, но Карл остановиться не смог. Его мелкая натура, недальновидный ум требовали мести, и он отмстил. Вскоре были арестованы семеро представителей нации, среди них, разумеется, Элиот, Холе и Валентайн. Они не признали себя виновными и отказались уплатить штраф, к которому их присудили. Джон Элиот так и умер в тюрьме три года спустя. Остальные в конце концов получили свободу. Не стоит прибавлять, что арест и тюрьма не сделали их более верными подданными, чем они были.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Оливер возвратился в родной Гентингтон. Вновь хлопотал по хозяйству, которое несмотря на все усилия медленно, но верно приходило в упадок, воспитывал старшего, любимого сына, баловал крошку Элизабет, занимался другими детьми, едва ли отдавая отчёт, что уделяет им меньше внимания.
Он был не один, кого призвал к себе привычный, скромный удел. Многие депутаты разогнанного парламента возвратились в провинциальные городки средней Англии, к своим пашням и пастбищам, коровам и овцам и вновь зажили той тихой жизнью, которую вели до бурных сражений в парламенте, а самые энергичные среди них, Джон Пим, Джон Гемпден, Оливер Сент-Джон, Френсис Баррингтон, обратились к торговым делам и с особенным увлечением занялись обустройством английских колоний на Барбадосе и на восточном побережье Америки.
Однако всё это была только видимость. Они стали другими людьми. Жаркие речи, протесты, отвергнутая петиция о правах заронили в них беспокойный дух мятежа, непокорности. Он ждал только повода, только предлога, чтобы вырваться наружу и запылать с новой, на этот раз разрушительной силой.
К несчастью, таких предлогов и поводов король давал слишком много. Правда, он поспешил заключить мир с Францией, некоторое время спустя, сумел помириться с Испанией, хотя морская война в океане и на островах Карибского моря не прекращалась. Военные расходы были сокращены, а казна всё равно пустовала, придворные паразиты опустошали её с неимоверным проворством. Карл продолжал взимать торговые пошлины, но их не хватало: английская торговля топталась на месте, к тому же многие купцы, возмущённые разрушительной политикой короля, отказывались платить те налоги и пошлины, которые палата общин отказалась вотировать. Неплательщиков преследовали, подвергали арестам и штрафам, отправляли в тюрьму. Естественно, эти незаконные, главное, бестолковые меры не прибавляли денег в казне, ведь арестанты не могут платить, а возмущение умов нарастало, место арестованных неплательщиков занимали другие.
Новые советники короля оказались сообразительней покойного Бекингема. Они занялись более прибыльным, но не менее возмутительным делом, стали рыться в пропылённых архивах, откапывать в них пожелтевшие от времени, давным-давно отжившие старинные установления и требовали их исполнения. Среди прочих был введён в действие древний статут, согласно с которым каждый владелец земли, дающей доход более сорока фунтов стерлингов в год, прямо-таки обязан стать рыцарем, то есть заплатить королю за посвящение в рыцари и впредь вносить ежегодно в казну особый рыцарский сбор.
Однажды повеление обратиться в рыцари получил и Оливер Кромвель из Гентингтона. Тотчас вырвался наружу затаившийся дух мятежа. Король не имел права его принуждать, стало быть, он не мог и не должен был повиноваться. Оливер отказался от посвящения в рыцари. Тут монарх ничего не мог возразить, однако дело об отказе неприметного гентингтонского джентльмена купить себе почётное звание рыцаря отправилось в королевский суд, и суд приговорил неприметного гентингтонского джентльмена к штрафу в сумме десяти фунтов стерлингов за сопротивление державной воле.
Оливер штраф заплатил и вскоре продал за восемнадцать тысяч фунтов стерлингов все свои земли, лишь бы не подвергаться непристойным, оскорбительным посягательствам короля. Неожиданно в его руках оказались серьёзные деньги. На них можно было благополучно переселиться в Америку, где никакой король не в силах был побеспокоить его. Мысль бежать от королевского произвола в неспокойный, неустроенный, но независимый мир американских колоний в очередной раз смутила его. Что-то и на этот раз ему помешало. Может быть, старая матушка Элизабет не решилась подвергнуть себя и маленьких внуков устрашающим опасностям путешествия по бурным морям, может быть, Оливера остановила очередная наглая выходка короля.
Маленькие английские городки издавна управлялись общинным советом из двадцати четырёх наиболее уважаемых горожан, которые избирались на один год, и двумя представителями короля, которых именовали бейлифами. Пятнадцатого июля 1630 года появилась на свет новая королевская хартия под изумительным предлогом «для предотвращения беспорядков», вызвавшая именно многочисленные беспорядки в провинции. Хартия отменяла ежегодные выборы. Горожанам предоставлялось куцее право избирать двенадцать олдерменов. Олдермены должны были избираться пожизненно. Раз в год эти двенадцать олдерменов избирали мэра. В маленьких городках устанавливалась власть олигархии, власть имущих людей, неимущие теряли свои давние, обычаем установленные права и становились беззащитными перед произволом имущих. О потерянных правах неимущих король Карл думал меньше всего. Смысл затеянного им переворота в управлении городками был в том, что городки должны были хартию покупать и могли приступать к новым выборам, только заплатив королю.
Гентингтонские богатеи приобрели хартию в числе первых и с ещё большей поспешностью провели выборы олдерменов. В распоряжение этих двенадцати человек попали общинные земли, расположенные вокруг городка и принадлежавшие безраздельно всем горожанам. На общинных землях горожане пасли скот, заготавливали корма, собирали ягоды, охотились, ловили рыбу, запасались хворостом на зиму. Горожане забеспокоились. Из них никто не сомневался, что олдермены, избранные пожизненно, очень скоро заберут общинные земли в свои жадные руки и что наступит конец и выпасам, и кормам, и ягодам, и охотам, и рыбалкам, и хворосту, после чего последует недоедание и холод зимой.
Возмущение, естественно, нарастало. Во главе недовольных встал Оливер Кромвель, для которого общинные земли становились единственной возможностью прокормить большую семью, не растрачивая полученный капитал. На первом же общем собрании он обрушился на нового мэра. Страсти его закипели. Справиться с ними он не сумел, кричал, бранился и топал ногами, точно всё ещё сидел в зале заседаний, где обсуждалась петиция о правах.
Понятно, что крики, топот и брань ничего не могли изменить. Хуже того, оскорблённые олдермены сочинили жалобу о позорных и непристойных речах и отправили её в Тайный совет. Второго ноября Оливер был арестован. Его под конвоем отправили в Лондон. Граф Манчестер, лорд-хранитель печати, разобрал дело и выразил арестованному своё порицание. Арест, позорное путешествие под конвоем и разбирательство дела остудили непокорные чувства. Оливер признал, что погорячился, причём погорячился необоснованно и беспричинно, и согласился принести оскорблённому мэру извинения. Граф Манчестер нашёл это достаточным и дело закрыл. Вернувшись домой, Оливер сдержал данное в Лондоне слово.
Он попал в невыносимое положение. Без сомнения, Оливер поступил как порядочный человек, принеся извинения за крики и брань в общественном месте, ибо никакое доброе дело нельзя защитить оскорблением должностного лица. Тем не менее он защищал доброе, благородное дело. Признав себя виноватым, Кромвель вынужден был от него отступить. Он горел от стыда, не в силах был глядеть горожанам в глаза, и многие, уважавшие его, стали относиться к нему сдержанно, холодно, некоторые даже с презрением. Он решил, что должен бежать.
Оливер собрал своё большое семейство, состоявшее из матери, жены, незамужних сестёр и шестерых детей, и перебрался в графство Кембридж, в небольшой городишко Сент-Айвс. Здесь купил себе дом, поменьше и победнее, чем в Гентингтоне, и взял в аренду обширные луга миль на пять ниже по течению мутноводного Уза, который по зимам разливался, так что его луга становились непроходимыми, а от летней жары почти высыхал. Оливер, как и прежде, разводил в Сент-Айвсе коров и овец. Работы прибавилось. На зиму приходилось заготавливать больше кормов, приходилось больше хлопотать о продаже шерсти и мяса и вести себя так, чтобы ещё раз не попасть под арест.
Его душевное состояние снова ухудшилось. Он продолжал страдать от стыда за себя, ещё больше страдал от бессилия что-нибудь изменить.
2
Вдобавок наступало тёмное время. Энергия созидания всё истощалась, энергия разрушения всё нарастала. Самые благоприятные обстоятельства внезапно сводились на нет, вызывая горечь и озлобление. Казалось, мир пришёл на английскую землю, а мир не может не вести к благоденствию, к процветанию. Вчерашние враги точно сговорились искупить вину за нанесённые поражения. Испания и Франция готовились вступить в Тридцатилетнюю войну и вскоре вступили в неё, война втягивала в свой кровавый водоворот одну страну за другой, пока не овладела Европой. Бойня требовала сукна для мундиров, прочных кож для колетов[12], портупей и сапог, хлеба и мяса для вечно голодных солдат. Всё это Англия могла дать в изобилии. Сельские хозяева оживились, ремесленники взялись за работу, купцы нанимали сотни кораблей, на них вывозили товары из Англии, перебрасывали снаряжение и солдат из Испании в испанские Нидерланды и в германские княжества. Торговые дома процветали. Английские векселя во всей Европе превращались в главное, в самое надёжное платёжное средство. В обмен на них из Испании в Лондон хлынули слитки золота и серебра, награбленные в американских колониях. Казалось, ещё несколько таких лет, и разбогатевшая Англия сможет прокормить самого прожорливого из королей и его ещё более прожорливый двор.
А Карл шёл напролом, бестолково, бездумно вытаптывая и самые первые ростки процветания. Лично он не был расточительным человеком, безнадёжным прожигателем жизни. Его сбивала с толку идея абсолютизма, победившего во всех странах Европы, соблазнял пример австрийского императора, испанского и французского королей, утопавших в неслыханной роскоши. Блеск двора представлялся ему верным свидетельством непререкаемой власти неограниченного монарха. Монарх усердно возрождал многодневные пышные празднества, охоты и развлечения, восстанавливал старинные обычаи придворной жизни, точно ничего не изменилось в Англии за последнюю сотню лет. Расходы увеличивались с катастрофической быстротой. Он раздавал пожалования и пенсии, и в сравнении с правлением бережливой королевы Елизаветы они возросли в семь или в восемь раз, издержки увеличились вдвое, возросли расходы на гардероб королевы, а ведь и Елизавета любила пышно и разнообразно одеться, собственные расходы выросли втрое. Немудрено, что государственный дефицит помчался вперёд на всех парусах, и если при Елизавете он достигал четырёхсот тысяч фунтов стерлингов, то при Карле он вырос в три раза.
Громадные расходы были бы простительны, если бы правление короля Карла блистало победами, дипломатическими успехами, достижениями во всех областях, если бы за ними ощущалась государственная необходимость, а государь мог предъявить своим подданным одни прорехи и поражения. Ни пенса, ни шиллинга из этих громадных расходов не пошло на самые крайние нужды, на защиту торговли, на борьбу с конкуренцией со стороны европейских держав. С оживлением торговли оживились пираты. Они хозяйничали в Ла-Манше, проникали в пролив Святого Георгия, терроризировали прибрежное население, грабили деревни и города, пленяли сотни англичан и обращали в рабов. Тем временем королевский флот бесславно гнил в гавани Портсмута. Одни фрегаты серьёзно пострадали от метких выстрелов под Ла-Рошелью, другие были потрёпаны осенними бурями на возвратном, постыдном пути, третьи были источены временем, офицеры и матросы не получали законного жалованья и предпочитали, благоразумно оставив бездоходную королевскую службу, переквалифицироваться в пираты, так что ни один фрегат после бегства от Ла-Рошели не выходил в открытое море. Укроти король свою гордыню, обрежь собственные расходы хотя бы на треть, разгони придворных паразитов на службу, передай в адмиралтейство сотню-две тысяч фунтов стерлингов, проведи адмиралтейство капитальный ремонт хотя бы полтора десятка фрегатов и выплати жалованье, очисти они от пиратов Ла-Манш и пролив Святого Георгия, охраняй королевские конвои торговые суда от грабежа и захвата, вся трудовая, торговая Англия благословила бы своего короля.
Вместо этого страна с каждым днём всё больше его ненавидела, вопреки даже тому, что Карл вовсе не был жестоким тираном. Он был всего лишь глубоко, неискоренимо несправедлив, не щадил древних нравов, оскорблял уже укоренившиеся права, которыми многие англичане дорожили много больше, чем имуществом, не обращал внимания на действующие законы, легкомысленно нарушал собственные обещания, скреплённые честным словом. В желании поживиться и угодить своему монарху его новые помощники наглостью всё новых и новых поборов возбуждали негодование. Вдруг обнаруживалось, что королевские леса во многих местах были сведены лет сто или двести назад, а земли розданы или проданы крупным землевладельцам, однако на старинных картах они всё ещё оставались лесами, принадлежащими королю, и по его повелению землевладельцев, во втором, в третьем, в четвёртом поколении не видевших никакого леса, штрафовали за незаконное посягательство на леса короля. Также вдруг королевский лес разрастался в несколько раз, захватывая чужие леса, и в один ненастный день ни о чём не подозревавший владелец получал постановление королевского суда, которым на него налагался штраф в две, в три, в пять, в десять, даже в двадцать тысяч фунтов стерлингов за пользование собственным лесом, который ни с того ни с сего стал принадлежать королю, что не могло не выглядеть как откровенный грабёж. Также вдруг обнаруживалось, что в Англии уже второе столетие шли огораживания, что пахотные земли обращались в луга и в пастбища для овец, что арендаторов сгоняли с земли, те превращались в бродяг, и население земледельческих графств стремительно сокращалось, и постановлениями тех лее королевских судов на скотоводов, трудами которых обеспечивалось благосостояние Англии, накладывались непомерные штрафы. В общей сложности сумма столь удивительных штрафов достигала двух миллионов. Эта цифра и сама по себе была чрезвычайно значительной, однако оскорбительней всего было то, что штрафы ничего не меняли: пастбища и луга не обращались в пашню, леса не возобновлялись, объявленные королевскими леса так и оставались у прежних владельцев, и король оставлял за собой безобразное право, если вздумается, наложить новый штраф.
Англичанам начинало казаться, что король просто-напросто превратился в разбойника. Они отказывались платить по грабительским до нелепости искам — их отдавали под суд. Не каждый судья соглашался признать законными претензии короля, не каждый судья был чист на руку и невинен душой как дитя, безвинные страдальцы королевского произвола сплошь и рядом предпочитали умаслить судью и тем отбиться от бесстыдного штрафа, это всё-таки обходилось дешевле, а самолюбие меньше страдало от нанесённого оскорбления. Однако спасения не находилось и на этих исхоженных тропах взаимного беззакония. Отклонённые иски без промедления передавались чрезвычайным судам вроде Высокой комиссии или Звёздной палаты, учреждённой при короле Генрихе VII. Этим милым заведениям закон не был писан. Они арестовывали, пытали, штрафовали, подвергали зверским увечьям.
Негодование росло, а денег всё равно ни на что не хватало. Вновь на свет божий выплыли монополии, которые дважды осудили и отклонили представители нации. Торговля патентами возобновилась и пошла полным ходом. В монополии превращались все мыслимые, а потом и немыслимые промыслы, торговля и ремесло. Разорялись все, приходили в запустение мастерские свободных ремесленников, пропадали мясо и шерсть свободных сельских хозяев и арендаторов, закрывались конторы мелких торговцев, росла безработица, одни безработные грабили на дорогах или поступали в пираты, другие переполняли окраины Лондона, голодали и бедствовали, постепенно созревая для мятежа. Отставные ораторы распущенного парламента возмущались, проклиная монополистов:
— Эти люди точно египетские лягушки овладели нашими жилищами, и у нас не осталось ни одного места, свободного от них. Они пьют из наших чаш, едят из наших блюд, сидят у наших каминов, мы находим их в нашем красильном чане, в умывальнике, в кадке с солёными огурцами, они устраиваются в нашем погребе, они покрывают нас с головы до ног своими клеймами и печатями!
Своеобразную монополию на человеческое достоинство получили английские лорды. Нетитулованное дворянство под разными предлогами и по любым поводам ставилось в униженное положение в сравнении с ними. Под предлогом борьбы с расточительностью было запрещено покидать свои поместья сельским дворянам, и без того, по обычаю пуритан, бережливых до скупости. Зато с крайней суровостью наказывалось малейшее неуважение с их стороны, проявленное или будто бы проявленное в отношении знатного человека. Достаточно было сказать в тесном кругу, что такой-то из высших придворных несколько глуп, такой-то на руку нечист и хромает по части морали, порой было довольно посмеяться над длинным носом и некоторым сходством с ослом, чтобы в Звёздной палате завелось уголовное дело, которое обыкновенно завершалось серьёзным штрафом в несколько тысяч с присовокуплением плетей или выставления к позорному столбу на главной площади Лондона.
Карл едва ли подозревал, что его легковесный, легкомысленный деспотизм порождает тысячи мелких, но разнузданных деспотов. Если сам король под видом своих неотъемлемых привилегий творил безобразия, то лорд-наместник творил их вдвое, а его комиссары превращались в голодных волков, напавших на отару овец. Комиссары разъезжали по графствам и выискивали самые нелепые, самые фантастические предлоги для наложения штрафа, причём оставалось неясным, какая доля из этого штрафа добиралась до казны короля. Ложное обвинение становилось делом обычным. Брали с богатых, обдирали бедных как липку на том основании, что бедные всегда беззащитны и безответны. Когда же недовольство становилось слишком опасным, в беспокойное графство направляли солдат, которых жители обязаны были разбирать по домам и содержать, даже одевать за свой счёт, после чего предлагали людям угомониться и кое-что подарить высшим властям, великодушно освобождая их от постоя. Когда все средства бывали исчерпаны, сажали в тюрьму за долги кого-нибудь побогаче, зная прекрасно, что никаких долгов за ним нет, и томили его до тех пор, пока не сообразит, кому и за что он должен платить. Когда же до канцелярии короля всё-таки доходили кое-какие жалобы на безобразия и бесчинства лордов-наместников и их комиссаров, со своей стороны лорды-наместники и их комиссары тоже вынуждены были платить, чтобы в канцелярии короля замяли неприятное дело. Однажды лорд-наместник Ирландии, приговоривший к смерти ни в чём не повинного человека, поскольку в тот день просто-напросто находился в дурном настроении, умудрился всучить шесть тысяч фунтов стерлингов самому королю, и преступление сошло ему с рук.
Злоупотреблениям высших властей сопротивлялись упорней остальных англичан пуритане. Следовательно, их было необходимо усмирить, обуздать, чтобы беззаконные налоги и штрафы поступали бесперебойно. Усмирение пуритан король Карл поручил Уильяму Лоду. В 1633 году Уильям Лод, шестидесяти лет, был возведён в сан архиепископа кентерберийского, что превращало его в главу англиканской правительственной церкви. Государь был человек верующий, но над теологическими вопросами не задумывался, его вера оставалась неясной, расплывчатой, он как будто исповедовал лютеранство и как будто склонялся к католицизму, пышность обрядов его развлекала и утешала, власть римского папы была бы для него нежелательна, согласно закона он должен был управлять своей церковью сам, как должен был управлять сам всей внутренней и внешней политикой, раз уж он возомнил себя абсолютным монархом, однако не управлял своей церковью, как не управлял ни внутренней, ни внешней политикой.
Уильям Лод стал полновластным хозяином во всех церковных делах. С высоко поднятыми бровями над выпуклыми глазами, с круглым сытым лицом, с кокетливой седовласой бородкой и аккуратными усиками, он был образцовым, самым опасным, самым страшным тираном, потому что был глубоко честен, отличался чрезвычайной строгостью нравов, вёл простой образ жизни и был бескорыстен, что превращало его в человека непримиримого. Он служил не столько Богу, сколько высшей, неограниченной власти как таковой, то есть не личной власти, или собственной власти примаса, но символу, философскому принципу власти. Его убеждения были простыми и прочными: высшая власть обеспечивает порядок и таким способом поддерживает справедливость и правосудие, тогда как малейшее отступление от предписанной нормы есть беспорядок и, стало быть, торжество несправедливости и неправосудия, обеспечить порядок высшая власть может единственно бестрепетной строгостью и неотвратимостью наказания за нарушение предписанных норм.
Его заветной мечтой было водворить в англиканской церкви строжайший порядок, и он его водворял. Он упрочил церковную иерархию, возвысил епископов, отдал приходы в их полную, безраздельную, неоспоримую власть, обязал их обеспечивать полнейшее единообразие культа и примерную нравственность прихожан. Епископы должны были преследовать и наказывать, наказывать и преследовать, а всё, что было связано со смыслом и формой вероучения, он брал на себя.
Его самоуверенность не знала границ. В ослеплении собственной непогрешимостью мнилось ему, будто власть в руках честного человека всегда справедлива, сам он был честен, действительно честен, из чего следовало, что каждая мысль, зародившаяся в его голове, каждое им изречённое слово были истинны, вели к справедливости и потому получали силу закона. На этом основании Лод не искал ничьей дружбы, не нуждался ни в чьём одобрении, бывал одинаково резок и строг с важным придворным и с простым горожанином и от всех равно требовал беспрекословного повиновения своим предписаниям. Малейшее возражение, тем более сопротивление его высоким предначертаниям в его глазах было бунтом, который он обязан был жесточайшим образом пресекать.
Необыкновенно деятельный, неутомимый, он составлял циркуляры, расписывал церковные обряды до мельчайших подробностей и требовал неукоснительного их соблюдения. Ему было дорого всё, что служило усилению и возвышению власти, и Лод увеличивал пышность обрядов, возвратил в англиканскую церковь крестное знамение и преклонение колен, сочинял проповеди, в которых прославлялось безусловное повиновение высшим властям, независимо оттого, что требовала от верующих эта высшая власть. Его усердием церковная организация должна была превратиться в полицейский участок.
По милости честного, бескорыстного Уильяма Лода пуритане изведали неумолимую жестокость террора. При малейшем подозрении в пуританстве проповедников изгоняли из англиканской церкви. Сердобольные прихожане назначали им пенсии — их отбирали. Сельские хозяева, фермеры, богатые горожане брали изгнанных проповедников в дом капелланами или наставниками детей — ищейки местных епископов добирались до них и лишали их места, а значит, хлеба насущного. Они становились бродячими проповедниками — их настигали в тавернах, на городских площадях или в тайных убежищах. Цензура запрещала новые книги, если в них обнаруживалась хотя бы тень отступления от официально утверждённого вероучения, отыскивала и истребляла изданные в прежние годы труды по подозрению в том же грехе. В церкви и дома запрещалось рассуждать о смысле вероучения или обрядов, а также о тайнах человеческого, тем более вселенского бытия. Все виновные в нарушении новых порядков представали перед церковным судом, который превосходил светский суд своим изуверством. Обвиняемых унижали и оскорбляли прямо в зале суда, их именовали идиотами, дураками, наглецами, подонками, приказывали молчать, как только они пытались себя защитить, их зверски пытали, в лучшем случае присуждали к немыслимым штрафам, в худшем — подвергали публичному бичеванию, ставили на лоб клеймо, вырывали ноздри, резали уши, точно они, проповедуя свою веру, совершали уголовное преступление. Десятки, сотни тысяч озлобленных, обессиленных, потерявших надежду пуритан бежали в Америку — неусыпные ищейки честного, бескорыстного Уильяма Лода и за океаном пытались преследовать их по пятам.
3
Оливера и на этот раз вернула к жизни судьба. Кромвеля до глубины души возмутило преследование проповедников истинной веры. Его долг перед Богом — взять под своё покровительство хотя бы одного из этих мучеников, этих безвинных жертв произвола. В 1635 году он просил своего приятеля в Лондоне подыскать для церкви в Сент-Айвсе толкового проповедника, ибо, прибавлял он с убеждением: «Постройка больниц снабжает удобствами тело, постройка храмов считается делом благотворительности, однако настоящим благотворителем, даже благодетелем является тот, кто заботится о снабжении пищей души — строит храмы духовные».
Теперь о строении духовного храма он часто беседовал со своим приятелем Генрихом Даунхоллом, который появился в Сент-Айвсе и занял Должность викария в местном приходе. О строении духовного храма Оливер размышлял долгими зимними вечерами, творя беспощадный суд над собой, перебирая грехи молодости, перебирая в памяти вольные и невольные отступления от истинной веры. Он принялся серьёзно и обстоятельно строить духовный храм внутри себя, без чего не может быть ни истинно верующего, ни истинной веры. И Бог не оставил его. Шаг за шагом душа возрождалась к новой, осмысленной жизни, выздоравливало тело вслед за душой, оставляли бессонницы, исчезали боли в желудке. Он ощущал, что Бог наконец снизошёл в его сердце, будто в каменистой безводной пустыне дал испить каплю росы. Теперь смысл жизни был в том, чтобы прославить Творца, прославить словом и делом своим: «Душа моя с первенцами Его, в надежде покоится тело моё, и, если мне выпадет честь прославить Бога моим делом или страданием, я буду счастлив».
И доброе дело нашлось, ибо тот, кто ищет, всегда находит его. Случилось так, что в 1636 году скончался его дядя Томас Стюард, родной брат старшей Элизабет. Он умер бездетным и всё состояние оставил племяннику. Оно оказалось немалым. В месте Или он владел довольно обширной усадьбой, и Оливер вдруг получил большой дом, с конюшней, амбарами и огородами, десятин сорок бывшей церковной земли, десятины четыре под пастбища и луга и право собирать церковную десятину. Бережливость и старательный труд могли принести с этих угодий от четырёхсот до пятисот тысяч фунтов стерлингов в год. Для Оливера это было настоящим богатством. Он перебрался в Или вместе со старшей Элизабет, средней Элизабет и младшей Элизабет, незамужними сёстрами и детьми.
Или располагался неподалёку от Сент-Айвса и Гентингтона. Имя Оливера Кромвеля уже было известно в округе, не успел обжиться на новом месте, как пришли к нему люди и попросили защиты от грабежа. Подобно многим горожанам и фермерам восточных и северо-восточных графств, жили они на болотах, которые принадлежали городским или сельским общинам и не подлежали отчуждению в частную собственность, подобно ближним и дальним соседям по сухим прогалинам между трясинами они пасли скот и запасались сеном на время холодов и дождей, когда болота становились опасны для жизни, ловили рыбу в протоках, стреляли болотную птицу. Алчные лорды нашли способ накладывать лапу на эти будто бы бесхозные, ничейные земли. В одиночку или составив компанию, вложив немалые земли, они прорывали каналы, очищали старые русла заболоченных речек и ручейков, сооружали дамбы и насыпи, прокладывали дороги, наводили мосты, то есть давали новую жизнь целому краю, однако делали они это исключительно для себя, бесстыдно объявляли своей собственностью эти осушенные, чрезвычайно плодородные земли, лишая всю окрестную бедноту не только скромных доходов, но и самого пропитания, так что целые селения, прежде понемногу торговавшие зерном и скотом, опускались до нищеты, просили милостыню, покидали жилища, скитаясь в поисках работы, которую трудно было найти, оседали в трущобах Лондона, в портовых притонах, что представляло прямую угрозу общественному спокойствию и порядку.
Король, почуяв добычу, нашёлся и тут. Все пространства, отвоёванные у моря, он объявил своей собственностью и взял на себя осушение всех болот на равнине, ссылаясь на свои привилегии, давно устаревшие и позабытые. Он не обременял себя головоломными трудами правления, ни тем более хлопотной осушкой топких болот, но широко и прибыльно торговал патентами на осушку болот, а чтобы подданные его не артачились, назначал своих комиссаров, которые помогали покупателям укрощать недовольных этой чрезвычайно выгодной для одних и чрезвычайно разорительной для других операцией. Патенты охотно раскупали крупные землевладельцы, причём как преданные сторонники короля, так и вожди парламентской оппозиции. Комиссары принимали посильные даяния как от покупателей, так и от подданных и процветали. Кое-что доставалось и королю. Одни подданные неизменно теряли привычные, веками освящённые средства к существованию.
На окрестности Или патент приобрёл граф Френсис Рассел Бедфорд, в палате лордов один из самых говорливых противников короля. Нанятые рабочие прокладывали дренажные канавы по наиновейшей голландской системе, ставили изгороди и сгоняли с пастбищ пастухов с их отарами овец и стадами коров, утверждая, что отныне это уже не общинные земли, а земли графа Френсиса Рассела Бедфорда. Горожане и окрестные фермеры возмутились, вооружились косами и двинулись толпой на захватчиков с вполне очевидными намерениями. К Оливеру бросились за советом и помощью, поскольку он стал самым крупным землевладельцем в округе и тоже терял права на общинные выгоны. Он вовремя прискакал на поле возможного кровопролития и неожиданным красноречием, которого не обнаружил в парламенте, сумел успокоить толпу. Оливер взял на себя беспокойный труд судиться с бессовестным графом, а через него, стало быть, с королём. На нужды процесса он собрал по одному пенсу с каждой коровы и подал иск в местный суд. Местный суд предоставил городской общине Или отсрочку по передаче земли графу Бедфорду на пять лет, в течение которых могли явиться новые обстоятельства или отыскаться иные зацепки в законах. Граф Френсис Рассел Бедфорд подал жалобу королю. Карл рассердился и намылил голову своему комиссару. Комиссар бросился к Оливеру, требуя, чтобы он забрал свой иск из суда. Кромвель твёрдо доказывал свою правоту и обличал бессовестность графа. Комиссар вынужден был донести королю:
«Его нарочно избрали те, кто всегда стремится подорвать королевскую власть, в качестве своего заступника в Гентингтоне перед королевскими уполномоченными по делу осушения в противовес достославным намерениям его величества».
Король оказывался бессилен. Округа торжествовала. Оливер Кромвель в её глазах был герой, хозяин болот. Он мог гордиться собой, но недолго пребывал в этом противном и тяжком грехе. Бог вовремя послал ему испытание, жестокое испытание, по правде сказать, видимо, соразмерив его с прегрешением. В 1639 году его поразила смерть семнадцатилетнего Роберта, любимейшего старшего сына, юноши честного, чистого, любящего и умного, главное, верного Богу, преданного истинной вере. Он был надеждой отца, и Оливер ощутил, словно в сердце вонзился кинжал. Вновь потерял Он себя, вновь был растерян и не находил себе места. В смятении он отправился в Лондон. Он встречался с родными, ходил из одного дома в другой, но не искал утешения. Казалось, ничего не искал. Он действовал как во сне. Его двоюродные братья входили в компанию, которая приобретала земли в американской колонии Провиденс. Он в неё тоже вошёл, внёс какие-то деньги. Мысль бежать, переселиться в Америку вновь тревожила его отуманенный мозг. Однако храм его души уже строился. В конце концов Оливер бросился за помощью к Богу, как и должно было быть, обратился к единственной книге, перечитывал целые главы, открывал её наугад. Однажды скорбящий отец прочитал:
«Я не говорю о нужде и лишениях, ибо выучился быть довольным тем, что имею. Я знаю, что значит быть превознесённым; всегда и везде я сумею и насытиться и быть голодным, терпеть нужду и быть вполне удовлетворённым. Я на всё готов и всё могу, с помощью Иисуса Христа, который укрепляет меня».
Он воскрес и был убеждён, что эти строки спасли ему жизнь. Было самое время воскреснуть и возвратиться. Наступала пора новых, неведомых и чудовищных испытаний.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Король наступал, а его казна оставалась пустой. Конечно, королевская казна всегда была ненасытной, удивляться тут нечего, никто и не удивлялся. Монарха и его приближённых тревожило только то, что все наскоки на достояние подданных, не поддержанные парламентом, были одноразовыми, ограниченными во времени поборами или патентами на монополию и осушку болот, ведь одно болото можно осушить только раз и нельзя заставить приобрести патент на монополию дважды. Для спокойного, безбедного существования короля и двора необходимо было изобрести солидный и постоянный побор, который не нуждался бы в том, чтобы его утвердили представители нации. Лет через семь или восемь после разгона парламента такой побор удалось отыскать. В древлехранилище был найден акт, учреждавший корабельные деньги, которые тратились на борьбу с опустошительными набегами пиратов на английские берега. Правда, корабельные деньги собирались всего лишь с прибрежных городов и посёлков, да и акт учреждён был слишком давно, ещё до Вильгельма Завоевателя и вскоре после него был отменен. Так и что из того? Разве такой вздор может остановить монарха? Государя не могут остановить и более серьёзные препятствия. В этом Карл был более чем убеждён: идея неограниченной монархии была его сущностью. А потому, не задумываясь о последствиях этого шага, подсчитывая только ближайшие поступления в пустую казну, он ввёл корабельные деньги, сперва осторожно, только в прибрежных городах и посёлках, может быть, из желания поглядеть, что из этого выйдет. Оказалось, ничего зловредного не стряслось. Разумеется, возбудилось общее недовольство, пассивное сопротивление охватило графства Оксфорд, Эссекс и Девоншир, да какой-то лондонский купец отказался платить. С этими пустяками быстро справились лорды-наместники. Самых злостных смутьянов посадили в тюрьму. В лондонской тюрьме оказался и недовольный торговец. У него достало наглости обжаловать своё заточение в Суде королевской скамьи. Судьи не могли не понять, что заточение купца и в самом деле противоречит законам. Но они были королевскими судьями. Когда им приходилось выбирать между королём и законом, они принимали сторону короля.
Монарха устраивало, что принятые меры несколько успокоили налогоплательщиков и из прибрежных городов и посёлков стали поступать корабельные деньги. Тотчас корабельная подать была введена во всей Англии. Отныне этот налог должны были вносить даже те далёкие от моря местечки, которые испокон веку не видели ни пиратов, ни моря. Особенно же приятно было то обстоятельство, что подать можно было ввести на все времена. Таким образом, в Англии вводился один общий и постоянный налог, не спрашивая разрешения у представителей нации, ведь необходимость борьбы с пиратами была очевидна для всех.
Нашёлся всего один человек, который попытался доказать, что закон существует для всех. Это был Джон Гемпден, приходившийся Оливеру Кромвелю двоюродным братом. В парламенте, как и Оливер, он сидел на скамьях оппозиции, выступал, правда, чаще, чем он, однако его речи были умеренны и не представлялись опасными ни королю, ни правительству. Как и Оливер, после разгона парламента он удалился в провинцию. В графстве Бекингемшир Гемпден владел богатым поместьем, жил скромно, избегая пышности и расточительства, не позволительных пуританину. Он был ровен и весел, любезен с соседями и никому не навязывал своих убеждений. За это соседи уважали его. Они считали его человеком достойным и умным, который, как всякий порядочный человек, не может одобрять политики короля, но относится к ней философски, не подрывает устоев и не зовёт к мятежу. Такое поведение не было хитростью со стороны Джона Гемпдена. Он в самом деле смотрел философски и не призывал к мятежу, поскольку по натуре не был мятежником. Человек мирный, умный и образованный, он много путешествовал по Англии и Шотландии, изучал нравы, заводил многочисленные знакомства и везде находил повсеместно миролюбивые настроения и недовольство налогами, которые вводились королём с вызывающей бесцеремонностью и с попранием английских обычаев и законов, но не самим монархом.
Корабельные деньги вывели из себя даже этого философски настроенного, мирного человека. Лично он не пострадал, кроме того, все в Бекингемшире так хорошо к нему относились, что лорд-наместник, исключительно из уважения к человеку скромному и достойному, определил для него корабельную подать всего в двадцать шиллингов. Гемпден не поднял шума, не призвал к мятежу. Он посчитал, что подать введена незаконно, и отказался платить. Также без шума его препроводили в тюрьму. И в тюрьме узник вёл себя доброжелательно и спокойно. Он всего лишь требовал суда, особенно налегая на то, что в этом суде заинтересован также король, ведь приговор суда узаконит корабельную подать.
Неожиданный довод убедил государя. Король разрешил судить Гемпдена на основании английских законов. Суд начался, обвиняемому было разрешено иметь адвокатов. Адвокаты держались благоразумно. Они не задирали ни судей, ни тем более самого короля пустозвонными обличениями. Напротив, уважительно отзывались о короле, о судьях, о самом институте суда, опирались только на законодательство и историю Англии и готовы были признать те привилегии короля, которые предусматривались законом. В своём смирении и покорности адвокаты зашли так далеко, что несколько раз, прервав речь, просили суд извинить, если некоторые выражения покажутся ему слишком резкими, и вовремя останавливать их, если им случится перейти определённые законом границы. В общем, суд над Джоном Гемпденом походил на идиллию. Судьям не в чем было упрекнуть ни подсудимого, ни его адвокатов, а между тем в течение тринадцати дней в зале суда обеими сторонами обстоятельно и серьёзно обсуждались основные законы страны и самый принцип законности.
Наконец присяжные удалились на совещание, и так странен, так необычен был этот суд, так скромен и благороден был обвиняемый, что присяжные колебались, и только семеро из них отдали свои голоса обвинению, тогда как пятеро признали его невиновным. Джон Гемпден должен был уплатить штраф, и было бы хорошо, если бы суд казначейства остановился на этом. Суд, видимо, сознавая, что осуждён невиновный, счёл необходимым обстоятельно обосновать свой приговор. В постановлении говорилось, что никакие законы не могут помешать королю пользоваться его привилегиями, что государь может не считаться с теми законами, которые лишают его возможности заботиться о защите страны, что в случае необходимости он может отменять те законы, которые мешают ему, и сам имеет право решать, какому закону следовать, а какой отменить. Другими словами, Суд казначейства во всеуслышание узаконил беззаконие английского короля. Король Карл был чрезвычайно доволен. Решение Суда казначейства он с полным правом воспринял как утверждение и оправдание своей неограниченной власти.
Если бы Суд казначейства не вынес этого опрометчивого решения, дело Гемпдена закончилось бы так же без последствий и тихо, как закончилось подобное дело безвестного лондонского купца: ну, отсидел бы положенное, уплатил бы штраф, никто бы больше и не вспомнил о нём. Попытка узаконить беззаконие короля возмутила даже придворных. Нация теряла доверие и к личности короля, и к самому принципу монархической власти, которая бесцеремонно топтала традиции и оскорбляла национальные чувства. Одни непреклонные приверженцы монарха пытались неубедительно, робко защищать правомерность такого решения. Их не слушал никто. Имя Гемпдена было у всех на устах. Оно произносилось с любовью и гордостью, превращалось в символ национального бедствия. Многие, конечно, молчали. Немногие протестовали открыто. Обстановка до того накалилась, что сами судьи что-то мямлили в своё оправдание, надеясь спасти лицо. Самые умные, самые образованные из лордов покидали двор и затворялись в наследственных замках. Короля поддерживала только англиканская церковь и жалкая кучка его прихлебателей.
Правда, на кровопролитие, на мятеж по-прежнему не было даже намёка. Народ оставался спокоен. Волновались только люди свободных профессий. Королева Елизавета, стремясь придать своему двору особенный блеск, привлекала к себе актёров, поэтов, писателей, философов и учёных. При ней умные разговоры стали модными. Празднества и театральные представления следовали одно за другим. Придворные от души развлекались. Актёры блистали талантами, поэты представляли на суд высокой публики свои вирши, большей частью заказанные и оплаченные этой же публикой, с удовольствием излагали мысли учёные и философы, и все вместе с ещё большим удовольствием принимали щедрые подачки двора.
Теперь они покинули двор и собирались в домах лордов и богатых купцов. Усадьба и парки виконта Люциуса Кери Фокленда, молодого человека двадцати семи лет, сделались знамениты, поклонники древности не считали преувеличением сравнивать их с платоновской академией[13]. Здесь поражал учёностью слушателей Джон Селден, знаменитый юрист, а блистающий красноречием Чилингворт излагал сомнения в англиканском символе веры, обсуждалось положение общества, преподносились философские и этические теории, заводились споры о пресвитерианстве и пуританстве, появлялись серьёзные, деятельные умы, обилие новых идей влекло сюда юношей, изучавших право в колледжах Темпла. Первой мишенью для этих вольнодумцев было неистовое усердие архиепископа Лода, в особенности его стремление возвысить епископов, объявив их сан таким же божественным, как сан короля. Всех возмущала свобода, которой пользовались паписты при явном попустительстве Лода, и те гонения, которые обрушивались на всех, кто поднимал свой голос против его желания возвратить англиканскую церковь к пышной обрядности. Отсюда выходили памфлеты, едко обличавшие привилегии, которые себе присвоил король, развращённость двора, открытую пропаганду папизма, деспотические замашки архиепископа Лода и ту полицейскую власть, которой наделялись епископы.
Звёздная палата трудилась бесперебойно, вылавливая авторов памфлетов, резала уши, ставила клейма, публично наказывала плетьми. Вольная мысль точно не замечала этих трудов. Насилие только раззадоривало, разжигало её. Обличительных памфлетов становилось всё больше. Дерзость авторов нарастала. Авторов почитали, их сочинения расхватывали, с увлечением читали, перечитывали, пересказывали друг другу. Контрабандисты тысячами привозили их из Голландии, где царила свобода печати, разумеется, только для иностранцев. Их разбрасывали по улицам городов, завозили в деревни.
Архиепископ Лод усилил репрессии. Отдельные приговоры случайным, малозначительным авторам уже не удовлетворяли его. Ему пришла в голову недостойная мысль. Желая насмерть перепугать своих обличителей, он приказал устроить судилище над самыми известными, самыми даровитыми памфлетистами, любыми средствами применить к ним статью о государственной измене и приговорить их, как гласила эта статья, к смертной казни. По его приказу аресты произвели церковные власти. В тюрьме оказались Уильям Принн, уже побывавший под ножом палача, Генрих Бертон, пресвитерианец и богослов, пятидесяти восьми лет, и Джон Баствик, врач, сорока трёх лет. Даже заматеревшие в беззакониях судьи Звёздной палаты устрашились такой кровожадности. Этих уважаемых людей они согласились обвинить только в измене, правда, не разъяснив, что они имеют в виду.
Всё-таки это были судьи Звёздной палаты. Они не смогли отказать себе в удовольствии не только унизить и оскорбить обвиняемых, но и вдоволь поиздеваться над ними. Им предложили без промедления представить заявления, в которых они должны были сами себя защитить, в противном случае суд посчитает, что они признали вину. Арестованные были согласны и напомнили, что им забыли предоставить бумагу, чернила и перья. Некоторое время спустя письменные принадлежности были доставлены с прибавлением, что их оправдание должно быть подписано адвокатом. Они и тут согласились и наняли адвоката, хотя сам Принн был известным юристом. В течение трёх дней адвоката не допускали в тюрьму. Адвокат ли выбран был неудачно, проведена ли была с ним устрашающая беседа, только три дня спустя, когда его наконец впустили к его подзащитным, он отказался подписать их заявления, признавшись открыто, что не имеет охоты ставить себя под удар. Его примеру последовали другие, и обвиняемые остались без адвоката. Узнав об этом, Принн произнёс:
— Милорды требуют от нас невозможного.
Когда их ввели наконец в зал заседаний, Джон Фордвич Финч, лорд-хранитель печати, пожилой уже человек, глядя на Принна засмеялся: полагая, что у милорда Принна уже нет ушей.
И по его знаку служитель поднял волосы почтенного человека, обнажив обрубки ушей. Принн не смутился:
— Милорды, я молю Бога, чтобы Он даровал вам уши, и вы могли меня выслушать.
Их никто слушать не стал. Приговор был несоразмерно жесток. Все трое должны были уплатить штраф по пять тысяч фунтов стерлингов каждый, выстоять целый день у позорного суда на самой людной площади Лондона и лишиться ушей. Таким приговором архиепископ Лод рассчитывал всех запугать. Он просчитался. В день казни площадь затопил народ, но это не была толпа любопытных, сбегавшаяся на казни уголовных преступников. Это были сочувствующие. Стража попыталась их оттеснить. Бертон попросил офицера так громко, чтобы слышали все:
— Не гоните их. Им надо учиться страдать.
Офицер был смущён. Женщина крикнула:
— Вы никогда не говорили проповеди лучше, чем эта.
Бертон ответил, по-прежнему отчётливо, громко:
— Дай Бог, чтобы она обратила вас на пути истины.
Палач приблизился. Какой-то молодой человек побледнел. Бертон ободрил его:
— Сын мой, отчего ты бледнеешь? В моём сердце нет слабости, и если бы мне понадобилось больше сил, милосердный Господь, конечно, дал бы мне их.
Толпа теснилась всё ближе. Лица мужчин и женщин, старых и молодых выражали сострадание и сочувствие. Юная девушка вложила в руку Баствика букет цветов. В этот момент на цветы села пчела. Баствик сказал:
— Посмотрите на эту бедную пчелу: она высасывает мёд даже у позорного столба, отчего же и мне не вкусить здесь мёда Христова?
Перед тем как ещё раз подставить обрубки ушей под нож палача, Принн в свою очередь обратился к людям:
— Христиане, если мы дорожили своей личной свободой, нас бы не было здесь. Мы пожертвовали ею ради вас. Берегите независимость. Стойте крепко. Будьте верны делу Господню и делу отечества, иначе вы и ваши дети впадёте в вечное рабство!
В ответ по площади прокатились клики торжества и согласия.
Восторги толпы точно подстегнули архиепископа Лода. Убеждённый, что только голая сила и неоспоримая власть обеспечивают должный порядок, он смириться не мог. Громкий голос был ему нипочём. Насилие сменялось насилием. Вскоре последовал суд над Джоном Лильберном, возглавлявшим левеллеров, юношей двадцати лет, никогда не изучавшим ни философию, ни логику, ни риторику, не видевшим, как он выражался, университета в глаза, не имевшим понятия о латыни, древнееврейском и греческом и, может быть, по этой причине особенно ненавистным для образованного архиепископа.
Молодой человек приговорён был к позору и бичеванию. Его везли в убогой тележке по улицам Лондона. Палач хлестал плетью обнажённое тело. Народ бежал вслед за ним вдоль Вестминстера. Лильберн проповедовал, несмотря на нестерпимую боль, продолжая говорить, когда его привязали к столбу:
— Бог избрал не очень богатых, не очень мудрых, но бедных, презренных и низких мужчин и женщин, только они получили Евангелие и заслужили блаженство на земле и спасение после смерти.
Ему приказали молчать, но страдалец продолжал:
— Не плачьте, не жалейте меня, я остаюсь в Боге бодрым, потому что опираюсь на собственные слабые силы, но сражаюсь под знаменем великого и могущественного генерала — Иисуса Христа. Его силой я вынесу любые страдания, и победа будет за мной!
Ему заткнули рот, но не сообразили связать руки. Узник выхватил из кармана несколько памфлетов и бросил в народ. Их с жадностью расхватали. Тогда связали и руки. Он не мог двигаться, не мог говорить. Толпа тем не менее не расходилась. Простые люди, ремесленники и обыватели, смотрели на мученика, и не в силах отвести взгляда. Кое-кто из судей, осудивших его, стоял у окна, как будто желая понять, в самом ли деле достанет сил у юнца достойно вынести все истязания.
Насилие не возымело успеха. Напротив, под его непрестанным давлением усиливалось брожение в толщах английского общества. Среднее и мелкое дворянство, ещё недавно преданное короне, возмущалось необузданным деспотизмом, давившим всех без разбора. Английская аристократия угасала, древние роды исчезли ещё во времена затяжной войны Алой и Белой розы[14]. Теперь все дворяне считали себя потомками прежних баронов, отвоевавших у королей Великую хартию вольностей. Они не предавались философским прениям о преимуществах и пороках единовластия, олигархии и демократии, стояли за Великую хартию, хотели свободно и регулярно посылать в палату общин своих представителей, поскольку одна палата общин защищала их свободу в давние времена и она одна, по их убеждению, могла её возродить. Дворянство видело её полновластной, издающей законы, обязательные для королей. Епископальная церковь им не мешала, вера этого сословия никогда не была чрезмерной, но полицейская власть епископов их раздражала. Они предпочитали поставить церковные власти на место. Пусть пасут паству и не вмешиваются в светские отношения, в особенности в дела управления. Во всём остальном пусть она будет такой, какой её сделал архиепископ Лод.
Другие настроения копились среди горожан, сельских хозяев, арендаторов и свободных крестьян. Они меньше высших сословий страдали от налогов и штрафов, деспотизм короля и епископа обходил их стороной, поскольку не высказывали своего недовольства вслух и не писали памфлетов, готовы были мириться с неограниченной властью короля, но их до глубины души возмущала епископальная церковь. Эти люди ненавидели всё, что напоминало проклятый папизм. Они держались Евангелия, первоначальная простота, первоначальная церковь, не знавшая пышных обрядов, служили им образцом, отвергали всё, что напоминало Рим, а Рим проник всюду: непомерная власть епископов, их жажда богатства и власти, страх перед чистыми проповедями, их развращённые нравы, их заказные молитвы. Всё это было излишним, противным заповедям Иисуса Христа.
Им мешали церковные полицейские власти. Их арестовывали в тайных молельных домах и отправляли в тюрьму. Люди сопротивлялись, о серьёзном сопротивлении королевским и церковным властям тогда не думал никто. Предпочитали бежать из нелюбезной страны. Поначалу пуритане в Голландию, где родственные протестанты победили и вытеснили католиков, там возникали английские поселения, однако англичане из-за своей особенности, замкнутости не могли ужиться в Европе. Им было неуютно среди европейцев. Выход подсказал Джон Уайт из Дочестера, пуританский проповедник, сорока пяти лет. Он был связан с дочестерскими купцами, торговавшими с Новой Англией. Для успехов торговли им было выгодно заселить своими соотечественниками восточный берег Америки.
Джон Хемфри, их казначей, выхлопотал у графа Уорвика земельные владения, где вскоре была основана колония Массачусетс, и вдохновенный Уйат принялся призывать угнетённый народ Божий, как он именовал пуритан, селиться в свободном, независимом Массачусетсе и воздвигать там бастион против царства Антихриста, которое презренные иезуиты создают во всём мире.
Начался великий исход. Тысячи пуритан, распродав поспешно имущество, устремились за океан, одни прямо из Англии, другие, опасаясь гонений, сначала перебирались в Голландию и отплывали оттуда. Они создавали религиозные братства по примеру первых, тоже гонимых и неприкаянных, христиан. В складчину покупали корабль. Проповедник произносил проповедь, укрепляя дух отъезжающих, испрашивая у Господа помощи в опасном плавании по неизвестному и бурному морю. Пастор той общины, которой пока что не удавалось уехать, служил напутственный молебен, и все вместе пели псалмы.
Исход был и в самом деле великим. На американском берегу и на островах английские колонии возникали одна за другой, уступая по численности только испанцам. За Вирджинией, Бермудами, Плимутом, Барбадосом, Массачусетсом последовало поселение Провиденс на Род-Айленде, Коннектикут, Девенпорт, Итон и Нью-Хевен. Их население росло с головокружительной быстротой. Число поселенцев, людей Божьих, строителей бастиона против Антихриста, достигает тридцати тысяч, около двадцати тысяч английских пуритан заселяют острова святого Христофора и Невис. В общей сложности в это десятилетие гонений и жестоких расправ, учинённых архиепископом Лодом, Англию покидает приблизительно восемьдесят тысяч человек.
Всё это наиболее решительные, энергичные, трудолюбивые и бережливые люди, которые кропотливым, неусыпным трудом закладывали основание для процветания Англии. Это важное обстоятельство нисколько не беспокоило ни короля Карла, ни архиепископа Лода. Напротив, некоторое время они поощряли переселение, архиепископ Лод бессмысленными гонениями, а король Карл ненасытной жаждой схватить деньги всюду, где только можно, не утруждая себя размышлением о печальных последствиях: он продавал переселенцам патенты на американские земли, которыми не владел и не мог по праву владеть. Монарх спохватился только тогда, когда казначейство доложило ему, что за последние десять лет эти проклятые переселенцы вывезли из Англии около двенадцати миллионов фунтов стерлингов, хотя бы часть из которых могла оказаться в пустой королевской казне. Такого безобразия не должен терпеть и самый несмышлёный, самый слабый правитель, тем более этого не мог потерпеть король Карл, считавший себя неограниченным, а потому великим государем. Тотчас постановлением Государственного совета переселения были запрещены, торговля королевскими патентами на чужие владения прекратилась. Восемь кораблей, готовых к отплытию, стоявших у причалов Темзы на якоре, были задержаны.
Слишком поздно. Великий исход уже набрал силу. Пуритане покидали Англию тайно и основывали поселения уже на новых началах. Теперь они не зависели от короля. До этого времени пуританство было демократическим, республиканским только в религиозных делах. Отныне оно стало демократическим, республиканским и в политической, государственной жизни. В январе 1639 года вырабатывается конституция с выборными властями в Коннектикуте, в том же году такую неё конституцию принимает Нью-Хевен.
Очень многим не удалось выскользнуть из Англии тайно. Они по-прежнему подвергались гонениям. Их энергия, их республиканский дух не могли найти выхода, недовольство накапливалось. Король и архиепископ своими руками наполняли тот пороховой порох, который мог в любую минуту взорваться, попади в него любая шальная искра. Пока же он не взрывался, и Англия оставалась спокойной.
2
Карлу и Лоду долгое время сходили с рук и жестокость, и насилие, и противоправные действия, и бесцеремонное вмешательство в духовную жизнь, может быть потому, что англичане на редкость консервативны, они всегда боялись перемен. Была и другая причина такого долготерпения. На английской земле вот уже полтора столетия не было войн. Мирная обстановка благоприятствовала благополучию, церковная десятина перестала поступать в Рим, оставаясь в стране, церковные богатства, конфискованные королём Генрихом, в особенности монастырские земли, послужили мощным толчком для развития сельского хозяйства, торговли и ремесла. Как бы ни досаждал англичанам король своими поборами, они были бессистемны, случайны и больше оскорбляли национальное самосознание, чем наносили ущерб экономике. Экономика продолжала развиваться, медленней, чем могла бы, но всё-таки развивалась. В сравнении с европейскими странами, опустошёнными затяжными религиозными войнами, доведёнными до нищеты последней, ещё не законченной, Тридцатилетней войной, Англия богатела и процветала. Она могла бы ещё долго терпеть и короля Карла, и архиепископа Лода, если бы и тот и другой обладали государственным умом. Но они действовали опрометчиво и бездумно, убеждённые в том, что им позволено всё, что любое их действие не только сойдёт с рук, но укрепит безграничную власть и упрочит порядок в стране.
Они ошибались. Ошибка проявилась, как только им пришла в голову мысль навести порядок в Шотландии. Шотландия действительно нуждалась в порядке, в благоустройстве, в укреплении власти. Страна была бедной. В горной, северной части ютились в жалких хижинах пастухи и кое-как перебивались со своими стадами овец. В равнинных, южных провинциях только-только зарождались ремесла, кое-как налаживалась торговля. Города всё ещё напоминали средневековые крепости. Как все горские племена, шотландцы были непокорны и чрезмерно воинственны. Они жили кланами. Во главе кланов стояли бароны. Кланы постоянно враждовали между собой. Бароны не признавали королевскую власть. Заговоры были делом обычным. Королей свергали, королей убивали, королей крепко держали в руках. Источники прогресса, развития иссушались анархией на корню, и если в южных провинциях кое-как пробивались первые ростки ремесла и торговли, то лишь потому, что сюда медленно, но верно проникали английские поселенцы и приносили с собой не знакомую шотландцам культуру земледелия, торговли и ремесла.
Шотландцев объединяла только религия. Шотландские короли были ревностными католиками. Вечно противодействуя им, шотландцы легко и поспешно увлеклись идеями протестантизма. Как все горские племена, они были неистовы в своих увлечениях. Идеи Мартина Лютера представлялись горцам жидковатыми, пресными. Им по вкусу пришлись крутые, ожесточённые, фанатичные проповеди Жана Кальвина, создавшего в мирной Женеве, в противовес духовной империи римского папы, республику верующих, в которой церковная власть подмяла под себя и довела до ничтожества все выборные светские власти и установила жестокий террор против инакомыслящих.
Первым и выдающимся проповедником кальвинизма в Шотландии явился Джон Нокс. В его пламенных проповедях очень рано вера сплелась с политикой в нерасторжимый клубок. Он обличал королевскую власть со страстью истинного фанатика. Каждое воскресенье из месяца в месяц, из года в год Нокс клеймил королеву Марию Стюарт как папистку, убийцу и потаскуху, духовно вооружал и поднимал Шотландию на борьбу с растленной монархией и гордился тем, что в конце концов изгнал распутницу из страны, толкнув её под топор палача. Его проповедями католическая церковь в Шотландии была низведена до ничтожества. В ней ещё оставались епископы, однако они не имели никакой власти и никакого влияния. Шотландская протестантская церковь сама собой устроилась по республиканскому образцу. В ней не было единого центра, который руководил бы духовной жизнью страны подобно римским папам или константинопольским патриархам. Каждое селение, каждый клан из своей среды выбирали своего проповедника. Он формировал и направлял духовную жизнь своих верующих так, как сам её понимал. Шотландцы гордились своей вольной, независимой церковью, которая с такой полнотой соответствовала их анархическому сознанию.
Английский король Карл Стюарт оставался наследственным королём Шотландии. По его поручению государственными делами в Шотландии занимался Тайный совет. Это поручение оставалось всего лишь благим пожеланием. В действительности Тайный совет был не в состоянии чем-нибудь управлять. В отсутствие короля в Шотландии окончательно воцарилась анархия. Бароны враждовали между собой, кланы с трудом переносили друг друга, церковная власть перестала существовать, её заменили синоды, которые верующие избирали и переизбирали в каждом приходе, и общешотландская Генеральная ассамблея, которая собиралась раз в год.
Король и архиепископ не могли мириться с таким положением. Они учреждали в Англии неограниченную королевскую и церковную власть. Такая же неограниченная власть должна была установиться в Шотландии. Оба действовали постепенно и осторожно. В ход пускались лживые обещания, угрозы, запреты и подкуп. Мелким землевладельцам предлагали по дешёвке выкупать церковную десятину; оказавшимся лишними, абсолютно безвластным епископам предлагали высшие должности и вводили их в Тайный совет. Почуяв подвох, проповедники обрушились с обличениями на короля и архиепископа, возрождая традиции Нокса, — их перемещали, отзывали или попросту изгоняли за пределы страны. Шотландский парламент, постыдно бессильный, под влиянием оскорблённого национального чувства иногда выражал недовольство, — из-за прений парламент распускали, а выборы надолго откладывали и затем подтасовывали результат в свою пользу. С помощью подкупа или насилия ограничивали собрания верующих, затрудняли работу синодов и в конце концов запретили созывать Генеральную ассамблею. Казалось, шотландским вольностям приходит конец.
Тогда архиепископ Лод решился нанести последний удар. Его распоряжением в Шотландии вводилось единообразное богослужение, принятое в англиканской церкви, а все молитвы должны были совершаться по одному молитвеннику, который составил сам Лод.
Таким образом, шотландская церковь соединялась с английской под контролем и властью архиепископа Лода. Синоды и Генеральная ассамблея переставали бы существовать навсегда. Так представлялось архиепископу Лоду. Но он ошибался.
Шотландия взорвалась в тот самый день, когда в эдинбургском соборе прошла первая литургия по англиканскому образцу и был впервые раскрыт пресловутый молитвенник. Со стороны молящихся не было дано никакого сигнала, не последовало никакого призыва — Шотландия поднялась и пошла в Эдинбург. Несколько недель по горным тропам и каменистым дорогам верхом, в тележках, пешком двигались к центру страны землевладельцы, арендаторы, свободные земледельцы, горожане и кое-кто из баронов. Они быстро расселились в домах знакомых и родственников, заполнили улицы, расположились вдоль городских стен. Все они в один голос требовали отменить литургию и выбросить на свалку молитвенник, оскорбляли епископов, на городской площади пуританские проповедники, сменяя друг друга, обвиняли епископов в идолопоклонстве и тирании. Наконец, было составлено формальное обвинение, подписано проповедниками, дворянами и некоторыми баронами и передано в Тайный совет. Тайный совет именем короля потребовал, чтобы люди разошлись. И они разошлись по домам, чтобы обдумать случившееся.
Люди возвратились месяц спустя. На этот раз проповедники не говорили обличительных проповедей, толпа не оскорбляла англиканских епископов, не угрожала ворваться в Тайный совет. Несколько тысяч возмущённых, до глубины души оскорблённых людей соблюдали спокойствие и полнейший порядок. На центральной площади Эдинбурга они избрали Высший совет, который должен был руководить сопротивлением новым церковным порядкам. В каждом графстве, городе, сельской общине создавались местные советы по его образцу. Они добровольно обязывались безоговорочно подчиняться всем распоряжениям Высшего совета как новой государственной власти в стране. Шотландия была готова к борьбе, если король и архиепископ станут продолжать.
Мудрость политика состоит в том, чтобы вовремя отступить, затаиться и хладнокровно обдумать своё положение, тогда как бездарный политик идёт на рожон. Седьмого декабря 1637 года король Карл направил в шотландский Тайный совет прокламацию, которой утверждал в Шотландии англиканскую литургию, молитвенник архиепископа Лода и запретил все народные сборища, грозя обвинять собравшихся в оскорблении величества, однако повелел до официального объявления хранить всё в тайне.
При его дворе тоже были шотландцы. Национальная солидарность подвигла их на предательство. Содержание прокламации тотчас стало известно в Шотландии. Король рассчитывал запретами и угрозами добиться полной, безгласной покорности, но вместо покорности вспыхнул мятеж. Высший совет призвал на помощь пока безоружный народ. Представители короля, от страха утратив остатки здравого смысла, девятнадцатого февраля 1638 года поспешили обнародовать прокламацию. Едва глашатай начал читать, лорды Юм и Линдсей от имени всех шотландцев зачитали протест. Так происходило в каждом городе, в каждом селении: глашатай читал прокламацию короля, в ответ от имени народа объявлялся протест.
Возмущение нарастало. Каждый шотландец горел желанием отдать жизнь за свободу и веру. По шотландским обычаям оставалось скрепить это желание клятвой. Александр Гендерсон, один из самых уважаемых проповедников, и Арчибальд Джонсон, знаменитый юрист, составили договор. Первого марта 1638 года он был просмотрен и одобрен лордами Бальмерино, Лоуденом и Ротсом.— Документ чётко и ясно излагал пуританское исповедание веры, осуждал новый церковный устав, новую литургию и новый молитвенник и предлагал защищать до последнего вздоха свою веру, права, законы и короля. Гонцы, сменяя друг друга в каждом селе, в несколько дней разнесли документ по Шотландии, вплоть до самых дальних горных лачуг. Договор был исполнен веры и гнева, суровой непреклонности и жара протеста. Он громил папизм и родственное ему англиканство с таким презрением и отвращением, с такими проклятиями, с какими сам Рим громил ненавистное лютеранство и кальвинизм. Проповедники, дворяне, ремесленники, торговцы, арендаторы, свободные земледельцы и пастухи с жёнами и детьми заполняли храмы, толпились на площадях, с восторгом выслушивали громокипящие слова договора и слаженным хором давали суровую клятву. Полтора месяца спустя вся Шотландия встала под знамёна сопротивления. Жалкая кучка отказалась признать договор: королевские чиновники, город Абердин и несколько тысяч католиков.
Король жаждал видеть себя всевластным, неограниченным, сильным монархом, но был он слабым, нерешительным человеком, малоспособным к делам управления. Пока Англия и Шотландия сохраняли спокойствие, он угрожал и обманывал, разгонял парламенты и вводил налоги по своему произволу, прибегал к насилию и не останавливался перед жестокими казнями, но как только ему сообщили о беспорядках в Шотландии, Карл растерялся. Как водится, придворные ласкатели утешали его, уверяя, что, мол, это, ваше величество, так, ничего, всего лишь скопища бессмысленной черни, справиться с ней будет легко. Ему советовали поманить её каким-нибудь обещанием, она тотчас поверит и успокоится, ведь чернь непостоянна и легковерна. Карл воспрял духом. Он поручил Джеймсу Гамильтону, маркизу, впоследствии герцогу, вернейшему из своих самых верных приверженцев, немногим старше тридцати лет, съездить в Шотландию, разобраться в происходящем на месте и что-нибудь посулить грязной черни, лишь бы она успокоилась, однако посулить от себя самого, не связывая обещаниями короля, который ничего не хотел уступать.
Это была большая ошибка. В этом Гамильтон убедился, едва переступил границу Шотландии. Всюду его встречали толпы народа. Стояли ясные июньские дни, но со всех сторон на маркиза глядели возмущённые и мрачные лица. В Эдинбурге сторонники договора отслужили молебен и с пением псалмов вышли навстречу. Хитрый, но недальновидный политик, Гамильтон сделал вид, что готов простить недовольных, если они примут кое-какие поправки к правам англиканских епископов и к литургии. Было поздно, возмущённый народ уже не верил обманам. Его предложения были отвергнуты с оскорбительными насмешками. Гамильтон вынужден был вернуться в Лондон с пустыми руками и доложить королю, что это не скопища бессмысленной черни, а весь шотландский народ.
Король повелел готовить армию для подавления мятежа. Гамильтон возвратился в Шотландию, чтобы любыми средствами протянуть необходимое для этого время. Шотландцы мало верили королю и не шли на уступки. В Англии между тем приготовления к военным действиям затянулись. Попустительством самого монарха, ещё более попустительством и мотовством министров королевские вооружённые силы были доведены до жалкого состояния. Без должного ухода, без ремонта флот гнил, стоя без движения на якорях. Матросы пьянствовали на берегу, пока у них были деньги, или разбегались в поисках заработка. Генералы были бездарны. Армейские офицеры назначались на должность без выучки. Денег по-прежнему не было. Королю пришлось отрывать средства от своих развлечений. На эти жалкие крохи набрали солдат. Этого показалось довольно. Гамильтон получил повеление во всём уступать: отменить канон, литургию и суды верховной комиссии, восстановить Генеральную ассамблею и шотландский парламент, разрешить в этих учреждениях обсуждение любых насущных вопросов и вершить суд над епископами. Однако ему вменялось в обязанность тормозить и откладывать все решения до тех пор, пока королевская армия не подступит к шотландской границе.
Маркиз пустился интриговать. Как он ни таился, как ни хитрил, его намерения вскоре стали понятны. Ощутив противодействие, он распустил Генеральную ассамблею, заседавшую в Глазго. Проповедники, направленные в неё от всех приходов Шотландии, отказались повиноваться.
Гамильтон поспешил возвратиться. Тогда стало известно, что королевские войска движутся к Бервику и что армия, созданная Томасом Уентвортом для упрочения порядка в Ирландии, как он называл свою политику усмирения непокорных ирландцев, готовится высадиться в Шотландии. Генеральная ассамблея тотчас отвергла все королевские попытки учредить англиканскую церковь в пуританской Шотландии, отменила епископство и поддержала национальный договор. Шотландские купцы отплывали в Европу, чтобы закупать оружие, боеприпасы и военное снаряжение. Шотландским наёмникам во все европейские армии был отправлен текст национального договора, своего рода молчаливое приглашение спешно возвратиться на родину. Александер Лесли, лучший из них, был призван возглавить шотландское сопротивление. Денег тоже не оказалось, но шотландцы тотчас ввели добровольное самообложение. На собранные средства была организована армия, которая насчитывала около двадцати двух тысяч солдат, прославленных своей доблестью на всех полях сражений Европы. Наконец, было составлено обращение к английским единоверцам, в котором объяснялись причины и цели движения.
В течение нескольких месяцев Шотландия изготовилась достойно встретить врага.
Неверно оценив обстоятельства, враг проявил легкомыслие. При английском королевском дворе раздавались насмешки, издевательства. Королевские лизоблюды именовали шотландцев не иначе, как дикарями и варварами. Они убеждали впавшего в заблуждение Карла, будто и без боя можно считать победу одержанной, что шотландские пастухи разбегутся при одном приближении самого государя, а главное, твердили они, с этим сбродом не стоит и воевать, страна слишком бедна, чтобы королевская армия могла обогатиться добычей. Король был до крайности возбуждён. Ему представлялась невозможной самая мысль о мятеже, ведь он желал им только добра и, вводя англиканское богослужение, спасал их заблудшие души. Толки придворных ещё больше подстрекали его как можно скорей начать военные действия. Он объявил:
— Пока остаётся в силе этот возмутительный договор, мне принадлежит в Шотландии не большая власть, чем какому-нибудь венецианскому дожу. Я скорее умру, чем стану это терпеть.
Он двинул войска. Набранные кое-как, из разного сброда, не обученные, не знакомые с воинской дисциплиной, королевские солдаты бесчинствовали и грабили местное население, точно шли по земле неприятеля. И в самом деле, они оказались во враждебной стране. Шотландская декларация, направленная английским единоверцам, произвела сильнейшее впечатление на умы, и без того враждебные королю. Английские пуритане увидели свои беды в бедах Шотландии и относились недоброжелательно к проходившим королевским войскам. Всюду обнаруживалось сочувствие восставшей стране. Шотландцы так же мало похожи на англичан, как англичане мало похожи на жителей континента, и король рассчитывал в этой войне опереться на старинную ненависть англичан к строптивым соседям. Он просчитался. Единство вероисповедания оказалось сильнее национальной вражды. Английские пуритане приветствовали шотландских последователей истинной веры. Их тайные союзники находились даже при королевском дворе. Они сообщали шотландцам о количестве, состоянии и передвижении войск, и в то же время запугивали короля многочисленностью и стойкость шотландского ополчения.
Тем не менее Карл прибыл в Йорк. Он явился туда с нарочитым шумом и пышностью, в слепом убеждении, что одного величественного вида будет достаточно, чтобы укрепить дух своих войск и обратить в бегство мятежников. Ему представлялось, что будет достаточно одного королевского слова, чтобы разрушить действие декларации, с которой шотландцы обратились к своим английским единоверцам. Он обратился с воззванием к английским дворянам, напомнил им, кто их сюзерен и что согласно этому старинному праву они обязаны его поддержать в любых его действиях, и призвал их явиться в Йорк для достойного наказания бунтовщиков. На его призыв откликнулись крупные землевладельцы и совсем немного средних и мелких дворян. Вместо военного лагеря Карл вскоре увидел в полном составе лондонский двор, готовый к забавам, турнирам и празднествам. Покорность и внимание льстили монарху, но вскоре он обнаружил, что никто из них не склоняется к героическим подвигам, тем более никто из них не жаждет жизнь отдать за него. Он потребовал от своих лордов клятвы на верность. Некоторые из них отказались. По старинному феодальному праву их ждала тюрьма или казнь, ведь это была измена во время войны. Карл часто обращался к этому старинному, угасшему праву, но не умел его исполнять. Он не осмелился арестовать и казнить непокорных, в всего лишь повелел им удалиться из Йорка.
И вновь король не расслышал голоса свыше. Он двинул войска навстречу шотландцам. Лорд Генри Рич Голланд перешёл границу. Генерал Лесли на континенте воевавший под началом Густава Адольфа, искусно расположил своих солдат на высотах. Неопытный Голланд увидел вдвое больше врагов, чем их было в действительности, испугался и отступил. Его солдаты в панике разбегались. Королевские войска таяли на глазах. Шотландцы с поразительной быстротой, нигде не встречая сопротивления, заняли весь север Англии от Бервика до Йорка. Под угрозой был сам король. В сущности, защищать его было некому.
Шотландцы остановились. Они восстали не против личности короля, а против королевских указов, насаждавших ненавистную англиканскую веру. Даже поднимая мятеж, горцы безоговорочно признавали монархическую власть. Они не решились напасть на королевскую ставку, только направили послания военачальникам, прося заступиться за них и умолять государя вернуть им свою милость. Несколько дней спустя они обратились к самому королю, выражая почтительность и покорность, но ни на шаг не отступая от своих требований восстановить парламент и оставить в неприкосновенности богослужение по своим, пуританским канонам.
Король капитулировал: продолжать войну было не с кем. Он даровал помилование бунтовщикам, возвратил шотландцам парламент и не только разрешил им созывать Генеральную ассамблею, которую составляли ненавистные пуританские проповедники, но и разрешил судить на ней англиканских епископов, причём в знак примирения обе стороны обязывались распустить свои вооружённые силы.
Казалось, тяжёлый, неразрешимый конфликт был улажен. Наступающий мир единодушно приветствовали шотландцы и многие англичане, не желавшие воевать со своими единоверцами. Беда была только в том, что Карл Стюарт не желал исполнять условия им же подписанного в Бервике мирного договора. Он распустил свою никуда не годную армию и без промедления объявил набор в новую, рассчитывая довести её до тридцати тысяч. Он отправил в Шотландию своих эмиссаров с инструкциями англиканским епископам любыми средствами сорвать Генеральную ассамблею, в особенности настаивая на том, что она будто бы неправильно избрана, срочно вызвал из Ирландии Томаса Уентворта личным посланием:
«У меня есть много, очень много других причин желать, чтобы вы пробыли со мной некоторое время. В письме я могу сказать вам только следующее: шотландский договор принимает большие размеры».
Шотландцы действительно не отказывались от своего национального договора. Карл обманывал их так много и часто, что они перестали ему доверять. Они слишком скоро увидели, что их повелитель готовится к новой войне. Им приходилось быть начеку. Свою армию они распустили, но сохранили своих офицеров, выплачивали им часть офицерского содержания и просили их быть наготове.
Король рассчитывал на таланты Уентворта. Тот прибыл в Лондон с твёрдым намерением покончить с мятежниками, отзывался о них с величайшим презрением и сравнивал шотландцев с ирландцами, которых усмирил за несколько лет. Уентворт лелеял намерение разделаться с английскими пуританами, как он разделывался с католиками в Ирландии. Он разъяснял придворным и королю, что нынешнюю войну они проиграли от слабости, клялся вложить в новую войну свою энергию и все свои силы и рассчитывал на твёрдость слабого, безвольного короля.
Он обольщался. Карл пал духом и томился в безысходной печали. Придворные встретили его с тайной враждой. Двор тихр, неприметно, но опасно бурлил. Офицеры обвиняли друг друга в предательстве, в трусости, в нерадении. Вокруг самого талантливого из королевских военачальников графа Роберта Деверье Эссекса, сорока восьми лет, заплелись такие интриги, что он, оплёванный и обиженный, удалился в свой замок. Любимчики королевы, ревностной католички, поспешили воспользоваться придворной смутой и занимали высокие посты и выгодные места. По её настоянию в пику Уентворту государственным секретарём был назначен его кровный враг сэр Генри Вен. Слухи о том, что Уентворт намеревается расправиться с английскими пуританами, намеренно распространялись придворными, и недовольство проникло в народ. Королева настраивала короля быть непримиримым и жёстким. Под видом непримиримости он делал глупости. Его повелением палач публично сжёг все бумаги, в которых шотландцы выставили предварительные условия мира. Шотландцы расценили этот ненужный поступок как провокацию. Парламент и Генеральная ассамблея выработали ещё более жёсткие требования. В частности, парламент потребовал, чтобы король созывал его не реже одного раза в три года и гарантировал независимость выборов и парламентских прений. В этом требовании монарх увидел посягательство на свою верховную власть. Уентворт его поддержал, объявив:
— Этих людей надо образумить кнутом!
Благодарный король возвёл его в звание графа Страффорда. Война была решена. В сущности, это решение было безумием. Казна была абсолютно пуста, истощился даже личный кошелёк государя. Большая часть англичан, не довольных войной, отказывалась платить пресловутые корабельные деньги и любые налоги, которые король самовластно вводил помимо парламента. В отчаянии Карл действовал очертя голову, не считаясь с последствиями. Лондонские финансисты хранили в Тауэре слитки золота и серебра, которые получали в залог от своих континентальных партнёров, — король повелел конфисковать эти слитки на сумму в сто тридцать тысяч фунтов стерлингов, не понимая или не желая понять, что наносит непоправимый удар по репутации собственных торговцев и финансистов. В ответ возмутился лондонский Сити. Нечего было и думать начинать войну, когда против тебя готовы выступить самые богатые люди страны. Монарх снова капитулировал. Слитки были возвращены. Впрочем, кое-что уже успели разворовать. Король стал просить в долг в самых неподходящих местах, ставя себя не только в неловкое, но и в глупое положение. Он просил денег у испанского короля — ему отказали. Он просил денег у генуэзских купцов — ему отказали и тут. Наконец, он дошёл до того, что решился просить денег у своего заклятого врага, римского папы, рассчитывая уже неизвестно на что, — ему оскорбительно-вежливо отказали.
Делать было нечего: после одиннадцати лет бессмысленного упрямства король призвал на помощь парламент. Выборы должны были состояться весной 1640 года. Тем временем новоиспечённый граф Страффорд возвратился в Ирландию, чтобы скомплектовать там новую армию, которая могла бы и угрожать оппозиции, и двинуться против Шотландии.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Оливер Кромвель под воздействием этих событий становился мирным, но непримиримым противником политики короля. Он открыто сочувствовал шотландским единоверцам и демонстративно отказывался посещать англиканскую церковь, несмотря на опасность преследования со стороны церковных властей, а когда к нему на постой привели офицеров, шедших сражаться с шотландцами, он открыто выражал своё недовольство и в их присутствии молился о победе шотландцев.
Как только глашатай прочитал на площади Или рескрипт короля, извещавший о новом парламенте, горожане единодушно высказались за то, чтобы их интересы в нижней палате представлял честный хозяин и преданный пуританин Оливер Кромвель. Правда, Или был небольшим городком и не имел своего места в парламенте. Тогда Оливер спешно оформил нужные документы и превратился в жителя близлежащего Кембриджа. Кембридж имел право выбрать двух депутатов. Одним из них подавляющим большинством голосов был избран Оливер Кромвель, пришелец, достоинства которого были хорошо известны целой округе.
Заседания открылись тринадцатого апреля 1640 года. Вместе с молчаливой, строго настроенной толпой депутатов в одинаковых скромных чёрных одеждах Оливер вступил под гулкие своды Вестминстера. Вокруг него были знакомые лица. Оппозиция окрепла за прошедшие одиннадцать лет. Не все дожили до этого счастливого дня. Скончался непримиримый Эдуард Кук. В тюрьме умер доблестный Джон Элиот. Многие, поселившись в глуши, подальше от короля и двора, об этом не знали. Теперь стало известно, что король Карл умудрился надругаться даже над мёртвым. Когда сын Элиота испросил разрешения перевезти бренные останки отца в семейный склеп в Корнуэле, ему было грубо отказано. Король повелел «похоронить тело сэра Джона Элиота на кладбище того прихода, в котором он жил», и вождь оппозиции был похоронен в одной из часовен мрачного Тауэра, тюремного замка, в котором он будто бы жил, а в действительности был заточен без суда.
Опустевшее место павших борцов занял Джон Пим. Он был не менее последовательным и преданным защитником законности и справедливости, чем Джон Элиот, но рассудительней, сдержанней, у него было острое политическое чутьё и государственный ум. Молодого Джона Гемпдена, которого сделало известным позорное дело о двадцати шиллингах, оппозиция заслуженно ставила рядом с ним. Имя кембриджского сельского дворянина Оливера Кромвеля по-прежнему оставалось никому не известным. Он сидел на одной скамье рядом с Гемпденом, но не как вождь, не как известный политик, а всего лишь как его единомышленник и двоюродный брат.
Тринадцатого апреля заседания парламента открыл сам король. Пока в Лондон съезжались представители нации, его секретная служба перехватила письмо, адресованное шотландцами одному из европейских монархов. Повстанцы просили о помощи, что король не мог не расценивать как преступление. Однако имя монарха в послании из понятной предосторожности не называлось, что делало всё несколько затруднительным, тогда как королю очень хотелось воспользоваться этой благоприятной случайностью, обвинить шотландских повстанцев в измене и разжечь давнюю неутихающую национальную рознь. Тем не менее его придворные и министры посовещались и дружно постановили, что письмо адресовано именно французскому королю, который только что нанёс англичанам несколько чувствительных поражений под Ла-Рошелью, что должно было особенно возмутить представителей нации. Король выступил с обличением проклятых шотландцев, предъявил парламенту довольно сомнительный документ и потребовал на войну с ними двенадцать субсидий в течение трёх лет.
К его изумлению, парламентарии не возмутились, не прокляли ненавистных соседей и, главное, отказались предоставить субсидии. С ответной речью выступил невозмутимый Джон Пим. Он начал так:
— Шотландское вторжение менее опасно, чем произвол в стране. Первая находится далеко, а та опасность, о которой я буду говорить, находится дома!
В этом духе он проговорил два часа, спокойно и вразумительно доказал, что прежде субсидий следует обсудить вопрос о правах. В каком направлении следует этот вопрос обсуждать? Оно представлялось ему очевидным: необходимо наказать дурных королевских советников, то есть его министров и прихлебателей, прекратить все злоупотребления, которые совершались ими в течение одиннадцати лет беспарламентского правления, остановить политику насилия и арестов, возвратить парламенту нарушенные права и возвести в силу закона обязательный ежегодный созыв парламента.
Требования были серьёзные, но справедливые. Выполнение их останавливало произвол деспотизма, восстанавливало равновесие между парламентом и королём и в то же время ни в коем случае не ущемляло законных, неузурпированных прав короля. Тем не менее король, возомнивший себя абсолютным монархом в духе испанского и французского королей, счёл себя оскорблённым. Когда к нему явился представиться председатель палаты, как этого требовал этикет, он принял его без должного уважения и всем видом и тоном давал понять, что ни на йоту не уступит парламенту.
Это была глупая, детская выходка, не достойная короля. Представителям нации следовало бы над ней посмеяться и не придавать ей никакого значения, но они были больше ораторы, чем политики, грубый приём председателя их оскорбил и вызвал недобрые чувства к самому королю. Прения полились и нередко затягивались до самого вечера, и председатель не считал нужным в положенный срок их прерывать. Впрочем, они были пылкими лишь на словах и вполне мирными по существу. Лишь немногие пытались накалить обстановку и вместо министров и прихлебателей обвинить самого короля. Их останавливали сами представители нации. Порочить монарха они не считали уместным. Больше того, спокойно выслушивали речи приверженцев короля, которые настойчиво требовали сначала обсудить вопрос о субсидиях, а потом заняться правами нации и парламента. Им вежливо отвечали, что права превыше всего, и продолжали настаивать на своём.
Прения явным образом заходили в тупик. Король и парламентарии не уступали друг другу. Собственно, Карл, прислушайся он к английским традициям, должен бы был уступить, но, утверждая абсолютизм, он должен был их отрицать и по этой причине не в состоянии был пойти на компромисс. К тому же у него был легковесный, нетерпеливый характер. Ему следовало подождать, пока ораторы выговорятся и к ним возвратится способность рассуждать хладнокровно. Но государь возмущался, с каждым днём чувствовал себя всё более оскорблённым неуступчивыми речами и торопился сломить сопротивление представителей нации всеми доступными и недоступными средствами.
Прежде всего потребовал вмешательства лордов. Лорды пригласили парламентариев на совместное заседание и настаивали на том, что вопрос о субсидиях необходимо рассматривать прежде вопроса о правах нации и парламента, как того хочет король. Те молча возвратились к себе и единодушно постановили, что лорды превысили свои полномочия и нарушили привилегии общин, поскольку они имеют права заниматься субсидиями только после того, как постановление о субсидиях будет вынесено нижней палатой.
Король чувствовал своё бессилие, раздражался и наконец решил сделать вид, что готов пойти на уступки. Его представитель в палате общин дал обещание: если субсидии будут даны, король на всё время субсидий откажется собирать корабельные деньги, которые отказался утвердить ещё предыдущий парламент. Это была только хитрость. Она без нужды раздразнила парламент. С новой силой в палате общин вспыхнули прения. Вновь полились речи Джона Пима, Джона Гемпдена и Оливера Сент-Джона. Они в один голос потребовали признать незаконным сбор корабельных денег не только в прошедшие времена, но и в будущем.
Таким образом возбуждение всё нарастало. Представители нации решили самостоятельно, за спиной короля вступить в переговоры с шотландцами, принять и выслушать в палате общин их депутатов и выяснить из первых уст, что заставило их поднять восстание против законного короля. Пока их гонцы спешили в Шотландию и возвращались обратно, они согласились обсудить вопрос о субсидиях. Сумма представилась им чрезмерной, неисполнимой. Кое-кто из ораторов объявил прямо, что таких денег нация не имеет. Это мнение было поддержано большинством. Поступило предложение субсидии дать, но не определять их количество, пока король не подтвердит права нации и парламента. Присутствовавший на заседании Генрих Вен, государственный секретарь, ставленник королевы, потребовал слова и объявил, что король может принять только то, что просил. Генеральный прокурор Эдуард Герберт тут же его поддержал. Собравшиеся сперва изумились, потом пришли в благородное негодование. Теряя благоразумие, они решили не дожидаться депутации от шотландцев. В тот же миг общность интересов Англии и Шотландии стала для них очевидной. Поступило предложение подготовить петицию, которая осуждала бы войну короля с его шотландскими подданными. Правда, ночь уже наступила. Прения пришлось отложить.
О намерении представителей нации тотчас было доложено королю. В шесть часов утра король собрал Государственный совет. Совет единодушно постановил немедленно распустить и этот парламент, причём впоследствии утверждали, что постановление было принято исключительно по настоянию Томаса Уентворта графа Страффорда. Не успели депутаты пятого мая 1640 года собраться на заседания и открыть желанные прения, как им было объявлено, что парламент распущен. Его малоплодотворная деятельность продолжалась чуть более трёх недель. По этой причине он был прозван Коротким.
Спустя час Эдуард Хайд, будущий лорд Кларендон, тридцати двух лет, из Дейтона, встретил случайно Оливера Сент-Джона. Жизнерадостный Хайд был печален. Напротив, всегда меланхоличный, угрюмый Сент-Джон был весел и оживлён. Он спросил печального Хайда, что так сильно угнетает его. Хайд ответил с упрёком:
— То же, что и многих честных людей: ведь распущен столь мудрый парламент, от которого все мы ждали помощи в нашем горестном положении.
Оливер Сент-Джон неожиданно рассмеялся:
— Полно! Прежде чем делам пойти хорошо, они должны идти всё хуже и хуже. Этот парламент никогда не сделал бы того, что должно.
К вечеру беспокойство охватило и короля. Он начал раскаиваться, говорил своим приближённым, что ему в ложном свете донесли о намерениях парламентариев и что Генрих Вен никогда не получал от него полномочий говорить в палате общин от его имени.
Шестого мая по Лондону прокатилась волна возмущения. Толпа, состоявшая из подмастерьев и того безработного люда, который, копя злобу на всё и на всех, ютился в трущобах предместий, бросилась в Ламбет, к дворцу архиепископа Лода, пыталась поджечь его и захватить самого «Уильяма Лиса», как именовали его оскорблённые пуритане. Архиепископ бежал в Уайт-холл. Рассерженная неудачей толпа повернула назад и ворвалась в собор святого Павла, прямо на заседание комиссии церковного суда, и приступила к перетрусившим судьям с грозными криками:
— Долой епископов! Долой церковные суды!
Толпу отогнали, под видом зачинщиков арестовали первых попавших под руку крикунов и препроводили в тюрьму. Казалось, с возмущением было покончено, однако король был испуган. Он пригласил в свой кабинет самых доверенных лиц и с обречённым видом вопрошал, нельзя ли как-нибудь отменить столь поспешный роспуск парламента и возвратить депутатов в Вестминстер. Ему отвечали, что этого сделать нельзя. Карл вдруг изменился, точно вспомнив, что он абсолютный монарх, и стал действовать с удвоенной безоглядностью.
Эту безоглядность поддерживал в нём только Страффорд. Он только что возвратился из своей поездки в Ирландию и сразу слег, не в состоянии двигаться, с воспалением в груди и сильной подагрой. Его страсть очень скоро преодолела болезнь. Страффорд получил в Ирландии субсидии, солдат и пожертвования. Едва встав на ноги, он потребовал пожертвований и от англичан, и в течение всего трёх недель в казначейство поступило около трёхсот тысяч стерлингов, и ни короля, ни тем более неразборчивого в средствах Страффорда не обеспокоило то, что большую часть этих денег на борьбу с шотландскими пуританами дали паписты.
Четырнадцатого мая в Лондоне повторились волнения. На этот раз негодующая толпа осадила тюрьму, стремясь освободить своих случайных собратьев. Страффорд проявил твёрдость. Толпу разогнала полиция. Следом за простонародьем в Тауэр отправили нескольких депутатов распущенного парламента по обвинению в том, что они оказали сопротивление королю. Со всего духовенства была взята клятва ни под каким видом не соглашаться на изменения, если их станут вносить в церковное управление. Возобновились насильственные сборы налогов, не утверждённых парламентом, принуждение к займам и взимание корабельных денег. Кое-кто из министров предлагал чеканить монету пониженной пробы, но, по счастью, король не решился на эту безумную меру. Во всём остальном он соглашался с чудовищными предложениями и советами Страффорда, а тот становился с каждым днём всё необузданней. Когда несколько сельских дворян графства Йорк отказались от принудительных платежей, он объявил Государственному совету:
— Их может образумить только одно: этих людей необходимо вызвать и заковать в кандалы.
Шерифы и сборщики податей сбивались с ног, но им удавалось направить в казну только жалкие крохи. Страффорд настоял, чтобы король потребовал денег, разумеется, в долг, у торговых и финансовых воротил. Ему отказали демонстративно и грубо. Надеясь их устрашить, лондонских олдерменов посадили в тюрьму. Это не помогло. Сити, сопротивляясь беззакониям, давно превратился в оплот пуританства, и все угрозы только укрепляли их суровый дух. Истощаемый гневом и жаждой победы, Страффорд вновь оказался в постели. Казалось, дни его сочтены, однако кипение безрассудных страстей и на этот раз победило болезни. Едва возможность двигаться возвратилась к нему, он в сопровождении короля отправился к армии, уже двинутой к шотландской границе, и лично возглавил её, надеясь применить в Шотландии принуждение и насилие с тем же успехом, что и в Ирландии.
Он опоздал. Двадцать первого августа шотландцы перешли Тайн, беспрепятственно вторглись в Англию и уже двадцать восьмого августа разгромили при Ньюбори плохо дисциплинированную, ещё хуже вооружённую и одетую, а главное, не желавшую воевать королевскую армию. Нигде не встречая сопротивления, они двинулись дальше. Без промедления выяснилось, что бестолковая, но упрямая политика короля успела сделать своё чёрное дело: англичане с распростёртыми объятиями встречали шотландцев. Рекрутов, завербованных в королевскую армию, оскорбляли на улицах, презирали друзья, с осуждением встречали в семье. Случалось, что некоторые из них уродовали себя, лишь бы отказаться от службы. Пуритане, попавшие в армию, расправлялись с офицерами по одному подозрению в их приверженности папизму. Сближаясь с шотландцами, они издалека слышали бой барабанов, которые призывали на проповедь, запрещённую в Англии. Там были их братья по вере. Многим начинало казаться, что их гонят на войну против Бога. С таким настроением они не могли воевать. Королевская армия разваливалась на глазах Страффорда и короля. Шотландцы без боя овладели Ньюкаслом и подступили к Дорхему. Остатки королевской армии сосредоточились в Йорке, но уже было понятно, что горцы не встретят сопротивления и в Йорке. Больше того, их ждали в Лондоне, надеясь, что Страффорд и король образумятся только с падением Лондона.
Страффорд выходил из себя. Он плохо скрывал гнев, презирал офицеров и строго наводил дисциплину. Его презрение настраивало офицеров против него, его строгости раздражали, но не устрашали солдат. Воевать никто не хотел. Из графств приходили петиции, в которых короля вежливо, но непреклонно просили заключить с шотландцами мир. Двое лордов заговорили о мире в лагере короля, Страффорд приказал арестовать их и судить военным судом за измену. Открыв суд, он потребовал приговорить обвиняемых к смерти и расстрелять их перед строем как зачинщиков бунта. Судьи молчали. Страффорд выходил из себя. Его угрозы не действовали. Наконец лорд Гамильтон задал вопрос:
— Милорд, когда мы утвердим приговор, ручаетесь ли вы за солдат?
Страффорд задрожал, отвернулся и ничего не ответил. Обвиняемые были освобождены. Это было полное поражение, однако этот человек не сдавался и попробовал привлечь на свою сторону архиепископа Лода, этого главного виновника неурядиц в Англии и Шотландии. Он писал: «Королю стоит произнести своё веское слово, и я выгоню отсюда шотландцев скорее, чем они вошли сюда, отвечаю головой. Нужно только, чтобы распоряжения шли от кого-нибудь другого, а не от меня».
Всё было напрасно. Карл растерялся. Он более трусил, чем сознавал, что собственным легкомыслием и неумением управлять готовит восстание, отстранился от Страффорда, крутые меры которого запоздали и вызывали обратное действие: неповиновение и негодование. Монарх с недоумением наблюдал, как из казны исчезают последние деньги, солдаты не подчиняются офицерам, дезертируют толпами, народ волнуется, заговоры плетутся прямо в лагере короля.
Между тем шотландцы избрали мудрую тактику. В захваченных графствах вожди повстанцев удерживали солдат от грабежей, неизбежных во время войны, щадили пленных, уважали честь оказавшихся среди них офицеров, пользовались каждым случаем выразить свою преданность королю, говорили о мире и в качестве платы за него просили только парламент.
С каждым днём становилось всё очевидней, что государю следует отступить и примириться с парламентом, который пока что не посягает на его власть, а только пытается ограничить её в полном согласии с английской традицией. Но Карл упрямился и не желал уступать. Он всё ещё искал способ как-то выйти из затруднительного положения и при этом сохранить власть.
Казалось, он такой способ нашёл. В далёкие времена английский король в затруднительных случаях собирал на совет лордов всего королевства. Правда, советы лордов не собирались уже четыреста лет. Это обстоятельство не смущало. Карл предложил лордам спешно съехаться в Йорк, не имея ясного представления, что бы хотел от них получить, думая только о том, что те окажут ему должное уважение и тем успокоят народ. Кроме того, ему представлялось, что совет лордов заменит ненавистный парламент и без проволочек и прений утвердит субсидии на войну.
От аристократов монарх получил ещё один и, может быть, самый жестокий урок. Если общество не способно к развитию, то может остановиться, закиснуть, загнить, но никакой социум не может возвратиться назад на четыреста лет. За истекшее столетие лорды стали другими. Не успели они съехаться в Йорк, как двенадцать наиболее влиятельных, наиболее известных предложили королю вместо совета созвать всем привычный парламент, указав на слишком тяжёлое экономическое и политическое положение Англии. Почти в те же дни о том же просил короля лондонский Сити, представив петицию от имени жителей Лондона, под которой стояло около десяти тысяч подписей.
Узнав об этом, Страффорд заторопился и двинул преданные ему части. Нападение было столь неожиданным, что шотландцы понесли потери и отступили. Страффорд намеревался развить этот незначительный и частный успех, однако получил повеление возвратиться на исходные рубежи. Стало очевидно, что война окончена и что его политика потерпела полное поражение. Он воскликнул, всё ещё с чувством превосходства:
— Я имею честь состоять членом Тайного совета его величества, но я не состою членом совета всемогущего Бога, чтобы заранее предсказать ход войны.
На него уже не обращали внимания. Совет лордов собрался двадцать четвёртого сентября. Король объявил, что созывает парламент, а от лордов ждёт только совета о том, как начать и вести переговоры с шотландцами.
Переговоры без промедления начались. Шестнадцать лордов представляли английскую сторону. С первых же слов договорились о том, что Англия и Шотландия сохраняют свои войска и что английские и шотландские солдаты жалованье будут одинаково получать из королевской казны. Правда, казна пустовала. Выход скоро был найден. Король и лорды под своё честное слово испросили заем в лондонском Сити, и двести тысяч фунтов стерлингов были получены. Тотчас в Риппоне были получены предварительные статьи. Король поспешно выехал в Лондон. Он искал утешения у королевы, а точнее бежал в Уайт-холл от стыда.
Переговоры о мире с шотландцами продолжились в Лондоне. По всей стране шли выборы в новый парламент. Повсюду в графствах терпели поражение представители короля. В палату общин нация почти без исключения избирала вождей оппозиции. Открытие было назначено на третье ноября 1640 года.
Эта дата вызвала панику у людей суеверных. При короле Генрихе VIII в этот день началась английская реформация, казни монахов и разрушение монастырей. Такое совпадение не могло не представиться роковым. Кое-кто из влиятельных лиц бросился к архиепископу. Его уговаривали перенести открытие парламента на день раньше или позже. Лод равнодушно выслушал эти советы. Как и Томас Уентворт граф Страффорд, он устал от напрасной, безуспешной борьбы, разуверился в собственных силах, разуверился в короле и был не в состоянии что-нибудь предпринять.
Между тем третье ноября стремительно приближалось.
2
Король на этот раз был растерян и сломлен. Благоразумие подсказало ему отказаться от пышности, с какой он обыкновенно являлся в парламент. Утром третьего ноября Карл подплыл к Вестминстеру в простой лодке по Темзе, почти без свиты, в скромном наряде, намеренно избегая показываться на улицах Лондона, где толпа вместо привычных приветствий могла встретить его проклятиями и бранью: видимо, помнил о десяти тысячах подписей под петицией торговых и финансовых воротил. Открывая заседание палаты общин, говорил нерешительно, произносил ни к чему не обязывавшие общие фразы, обещал рассмотреть те требования, которые в этот парламент принесли с собой представители нации. Однако он продолжал именовать шотландцев бунтовщиками и считал необходимым изгнать их из королевства, будто они не были его подданными. Мир ещё не был подписан, и не мира с шотландцами в первую очередь желали многие в Англии.
Его неискренние, путаные, уклончивые слова были выслушаны в холодном молчании. С ответной речью выступил председатель палаты Уильям Лентолл. Как и было положено, она была полна лести и уверений в преданности представителей нации своему королю. Но и председатель не смог до конца выдержать этого дежурного тона, так накалена была обстановка в палате. Он закончил свою речь двумя просьбами. Во-первых, королю следует даровать свободу слова членам парламента. Во-вторых, королю следует согласиться с теми реформами, которые парламент намерен представить ему в соответствии со своими старинными привилегиями.
Однако, едва король, не снискав ни громких приветствий, ни бурных аплодисментов, покинул сурово молчавший зал заседаний, вспыхнули бурные прения. И немудрено. Из пятисот одиннадцати избранных депутатов двести девяносто находились в оппозиции, причём многие из них заседали ещё в предыдущем, Коротком парламенте и были непримиримы, а на стороне монарха оказалось только двести двадцать один депутат. Большинство оппозиции принадлежало мелкому дворянству, тем сельским хозяевам, которые владели бывшими монастырскими землями и производили шерсть на вывоз и хлеб и мясо на внутренний рынок. К ним примыкало более шестидесяти юристов, выпускники Оксфорда, Кембриджа и Линкольн-Инна, в сущности, весь цвет тогдашней английской интеллигенции. Их поддерживали такие известные аристократы, как Бедфорд, Эссекс, Манчестер, Дигби и некоторые другие. Все они привезли в Лондон наказы, петиции и жалобы своих избирателей. Они ощущали себя представителями народа и были крайне возбуждены.
Прибывшие из дальних, глухих уголков сельские хозяева, торговцы, предприниматели одинаково чувствовали, одинаково мыслили, когда затрагивались их интересы, но были разъединены. Они могли возмущаться сколько угодно, с утра до вечера изливать праведный гнев на голову короля, его министров и руководителей церкви, но всё это были только слова, всегда гневные, но часто пустые. Не привыкшие к открытой общественной жизни, не имевшие опыта в делах государства, эти люди путались в выводах, слабо представляли себе выход из действительно сложного положения, уже походившего на тупик, и не были готовы к серьёзным решениям.
Они нуждались в вожде, и вождь у них был. Снова Джон Пим встал во главе оппозиции. Он стал толще, но его боевой дух укреплялся день ото дня. Пим собрал вокруг себя самых преданных, самых мыслящих, самых непримиримых противников короля. Он направлял их во время заседаний, а после собирал у себя на совет в собственном доме недалеко от парламента. Здесь каждый день вместе обедали в складчину Джон Гемпден, Артур Гезлриг, убеждённый индепендент[15], и Оливер Сент-Джон, учёный-юрист. К ним часто присоединялись Строд и Холлз, Файнес и Вен, известные смелыми взглядами. Оливер Кромвель чувствовал себя здесь своим человеком, и недаром: среди парламентариев оказалось семнадцать его родственников и близких друзей, а Джон Гемпден был его двоюродным братом. Пим обладал острым чутьём и был отличным оратором, Гемпден был умней и находчивей, за что многие считали его истинным предводителем оппозиции. Под руководством этих двух в столовой дома за Вестминстер-холлом во время обеда, в дружеской неторопливой беседе, пополам с шутками и житейскими новостями, вырабатывалась генеральная линия нападения на позиции короля и обсуждались решения, которые затем предлагались депутатам. Оливер слушал, набирался ума и большей частью молчал. Джон Пим, ожидая нового блюда или попивая вино, не уставал повторять:
— Теперь мы должны держаться не того направления, какого держались в прошлом парламенте. Мы должны смести всю паутину, которая висит сверху и по углам, чтобы в палате не разводилось пыли и грязи. Теперь у нас появилась возможность сделать страну счастливой, искоренить все обиды и вырвать причины, породившие их, если только все будут честно исполнять принятый на себя долг.
Джон Пим царил, потому что многие явились исполнить свой долг и выразить обиды, нанесённые стране королём и его прихлебателями, в особенности Страффордом и архиепископом Лодом. Они горели жаждой как можно скорее увидеть обновлённую Англию, а Пим только подливал масла в огонь. Положение в стране ухудшилось до того, что лидер уже не просил, а обвинял и требовал перемен, но в рамках закона. Английскую конституцию Пим считал лучшей в мире, твёрдо защищал монархический принцип, настаивая хотел, чтобы король признавал конституцию, уважал парламент и управлял, опираясь на одобрение представителей нации. Самое большее, что предлагалось: упрочить конституцию, очистив её от тех наслоений и новшеств, которые в последнее время вводили Бекингем, Страффорд и менее значительные прихлебатели и советники короля.
Когда схлынула первая волна возмущения и накал первых, стихийно вспыхнувших речей стал остывать, именно он изложил продуманную программу, по которой должен был, по его мнению, работать парламент. Пим определил три направления. Прежде всего напал на высокомерное, явно наплевательское отношение короля к прежним парламентам и потребовал в полном объёме восстановить его традиционные привилегии. Затем перечислил все попытки архиепископа Лода возвратить англиканскую веру в лоно католической церкви и призвал возвратиться к её первоначальным основам, также в духе традиций, принятых большинством англичан. Наконец, он обрушился на произвольность и незаконность налогов, на корабельные деньги, на штрафы, на высокие пошлины, на аресты, нарушавшие Великую хартию вольностей, и потребовал гарантий как личной свободы каждого англичанина, так и свободы предпринимательства и торговли, для чего прежде всего необходимо обеспечить неприкосновенность прав частной собственности.
Его поддержали. Новая волна возмущения подхватила представителей нации. Каждый из них привёз в Лондон петиции и жалобы своих избирателей и спешил рассказать о бесчисленных злоупотреблениях. Речи этих сельских дворян не отличались ни богатством стиля, ни стройностью, зато в них громко звучали гнев и негодование того большинства, которое там, далеко, в небольших городках и на фермах, заждалось гарантий личной свободы, свободы предпринимательства и вероисповедания.
Одним из ораторов был Оливер Кромвель. Его выступление врезалось в память Филиппа Уорика, кавалера, приверженца короля, привыкшего оценивать человека по покрою камзола и ленты на шляпе, отчего его свидетельство вдвойне любопытно:
«Джентльмен, произносивший речь, был немалого роста и одет очень просто, в платье, сшитое домашним портным, в грубое и не особенно чистое бельё, местами запачканное кровью; его шпага плотно прилегала к телу; голос — резкий, но глухой. Джентльмен так энергично орал и бранился, что его поведение значительно понизило моё уважение к собранию, позволявшему так с собой обращаться... »
Естественно, Филипп Уорик не обратил никакого внимания, по какому случаю этот джентльмен немалого роста орал и бранился, зато разглядел на его белье пятна и отчего-то решил, что это пятна крови. Иначе оценил Кромвеля менее предвзятый современник:
«Рост его — средний, телосложение — крепкое, а голова таких размеров, что в ней мог поместиться большой запас всевозможных даров природы. Темперамент у него чрезвычайно горячий, но умеренный, в большей части случаев благоразумен. По натуре он до женственности склонен к милосердию при виде любого несчастья. Хотя Бог лишил его сердце страха перед чем-либо, кроме Своего гнева, но вложил в его душу нежность к страдающим...»
Ещё один наблюдатель был явным образом покорен его красноречием, суровым и своеобычным:
«Когда Кромвель говорил в палате, то его слова всегда были проникнуты силой и мужеством, которые показывали, что он скорее мог убедить других, чем переубедиться сам. Его выражения были резки, мнения определённы, доказательства глубоки, серьёзны, перемешаны с текстами Священного Писания, так что имели большой вес и сильно действовали на слушателей. Он убеждал свойством говорить страстно, но сдержанно и благодаря этому овладевал вниманием палаты, вёл её за собой. Кто не находит в его речах ничего особенного, тот пусть судит по впечатлению, которое они производят на слушателей...»
С силой резко, прибегая к просторечиям, резавшим ухо аристократа, часто приводя по памяти тексты Писания, Кромвель говорил о драматической судьбе торгового ученика Джона Лильберна. Этот юноша проповедовал пуританство вопреки запретам архиепископа Лода и открыто распространял тайно отпечатанные трактаты, в которых отстаивалась свобода религиозных общин и выборы пасторов собранием верующих. Назначенные архиепископом Лодом судьи Звёздной палаты присудили его к публичному бичеванию и тюремному заключению на срок, какой «заблагорассудится королю». Эта история стала символом беззакония и произвола, неизбежных в том случае, когда власть выходит из-под контроля парламента. Кромвель говорил всего лишь о судьбе одного несчастного юноши, почти мальчика, а в умах и сердцах его слушателей крепло убеждение в том, что только в парламенте, который созывается регулярно, по закону, а не по капризу, спасение Англии и англичан.
Выслушав эту необычную речь, граф Джордж Бристоль Дигби, спускаясь по лестнице, спросил своего случайного спутника:
— Кто этот человек? Он сегодня так горячо выступал. Я несколько раз видел его рядом с вами.
Его спутником оказался Джон Гемпден, приходившийся Оливеру двоюродным братом, который, естественно, знал его лучше других. Тот ответил многозначительно:
— А, этот неряшливый малый, который никак не украсил свою речь? Так вот, если мы когда-нибудь порвём с королём, от чего Боже нас упаси, этот неряха станет одним из величайших людей!
Предсказание Гемпдона начинало сбываться уже в те первые дни. Требование Кромвеля поддержали другие ораторы. Представители нации потребовали от короля освободить всех безвинно осуждённых, не одного Джона Лильберна, но и Джона Баствика, Генриха Бертона и Уильяма Принна. Они не успокоились до того счастливого дня, когда узники совести, избитые, измождённые, с отрезанными ушами, наконец получили свободу.
3
Между тем поток петиций и жалоб всё возрастал. Казалось, вся Англия поднялась и кипела негодованием. Простые горожане, свободные крестьяне и арендаторы ехали и шли пешком в Лондон. Они приносили и сдавали в Вестминстер полные горя послания от своих округов, городов, графств. В каждом обличались злоупотребления и беззакония короля, министров, лордов-наместников, шерифов, епископов и крупных землевладельцев, все они требовали справедливости и взывали о помощи. Духом обличения охвачен был Лондон. Каждый желающий мог стать оратором, взойти на кафедру или подняться на любое возвышение и предъявить обвинение своему притеснителю. Их сочувственно выслушивали.
Представители нации оказались не в состоянии справиться с этим потоком. Для оглашения всех обличений не хватало времени заседаний. Тогда постановили создать более сорока комитетов и туда переправили весь поток народных страданий и слёз. Оливер Кромвель был избран в комитет, который рассматривал бесчисленные земельные споры. Он тотчас возбудил дело об осушении болот. Осушенные земли, принадлежавшие жителям Сомерсхэма, близ Сент-Айвса, около тысячи акров, были огорожены и проданы графу Манчестеру без согласия общины. Изгороди были сломаны под барабанный бой возмущёнными земледельцами. Теперь их представители явились к своему депутату и потребовали восстановить справедливость. Оливер не только с гневной речью выступил сам, но и привёл на заседание комитета своих земляков и добился, чтобы им дали слово. Спокойствие тотчас было нарушено. Простые земледельцы из окрестностей Сент-Айвса выражали свои мысли почти так же коряво, как выражался сам Кромвель. Язык простого народа оскорбил председателя Хайда, как перед тем он оскорбил Филиппа Уоррика. Впоследствии граф Кларендон, советник и министр короля, ставший на досуге историком, передал атмосферу этого заседания со слов председателя Хайда, который под благовидным предлогом пытался либо закрыть заседание, либо решить дело в пользу графа Манчестера:
«Кромвель представил комитету подателей петиции и очень горячо выступил в поддержку их жалоб. Это весьма грубый народ. Они ругались и прерывали как докладчика, так и свидетелей, когда те говорили что-нибудь, что не нравилось им. Председатель должен был, наконец, остановить их и пригрозил штрафами и удалением из зала заседаний, если они продолжат мешать рассмотрению дела. Кромвель вступился за земляков и в резких выражениях попрекнул председателя в очевидном пристрастии, в запугивании свидетелей и истцов. Мистер Хайд обратился к комитету, который признал его вполне правым, что ещё более раздражило и без того озлобленного Кромвеля. Когда же лорд Мэндвил весьма скромно стал излагать обстоятельства дела, которого он был свидетелем, то Кромвель прерывал его и отвечал в высшей степени грубо, нахально, в выражениях, между джентльменами не допустимых. В конце концов председатель должен был призвать его к порядку и заявить, что если Кромвель будет продолжать вести себя так бурно и нагло, то он, мистер Хайд, должен будет закрыть заседание комитета и жаловаться на другой день парламенту...»
Сам Кромвель иначе оценивал своё поведение:
«Из двух величайших обязанностей, возложенных Богом на человека, первой является охрана религии и её проповедников, которым должны быть даны полная свобода и подобающее уважение, дабы они хранили правду Божию; второй обязанностью является охрана гражданской свободы и национальных интересов. Хотя эти последние и стоят на втором месте, однако после религии они суть величайшие блага, данные нам Господом Богом, так как лучше всяких скал ограждают наше земное существование. Если кто-нибудь признает интересы религии и национальности неважными, то я желал бы, чтобы моя душа навсегда отверглась от этого человека...»
В те дни многие разделяли это его убеждение. Постановлением представителей нации власть комитетов, которым поручалось рассматривать жалобы, не могла быть никем ограничена, никто не имел права противиться рассмотрению дел хотя бы молчанием, члены Государственного совета были обязаны предоставлять им любые сведения. Представителей короля, уличённых в злоупотреблениях и беззакониях, нарекали преступниками и врагами народа. В каждом графстве составлялись целые списки тех, кого считали достойными столь презренного имени, но их не преследовали, не подвергали их никаким наказаниям. Эти списки отправлялись в парламент, и только этот орган при малейшем подозрении в противодействии или в тайных кознях против него имел право подвергнуть виновного штрафу, конфискации имущества или тюремному заключению.
Ужас объял приверженцев короля, поскольку повинны в злоупотреблениях и беззакониях были многие. Их обвиняли со всех сторон, никто не брался или не решался их защищать. Король бездействовал, не зная, что предпринять, более надеясь на то, что в таком случае о нём позабудут.
Судьи не решались выносить оправдательных приговоров тем, кого молва именовала врагами народа. Епископы в полном молчании взирали на то, как всюду упраздняются новшества, введённые архиепископом Лодом. Оксфордский епископ от волнений и страха скоропостижно скончался. Пуританские проповедники возвращались на церковные кафедры. Представителей власти пока что никто не преследовал, но власть сама собой перестала действовать на всей территории Англии.
4
Однако гонения начались, и начались очень скоро. Король был беспомощен. На помощь себе он спешно призывал графа Страффорда, который всё ещё находился при армии в Йорке и спешно собирал улики против вождей оппозиции, вступивших в сношения с вождями шотландских повстанцев. Лондонские друзья предупреждали его, что парламентарии уже образовали комитет для расследования его деятельности в Ирландии, что все видят в нём главного виновника постигнувших Англию бедствий, как прежде видели виновника в Бекингеме, и что по этой причине ему угрожает опасность, быть может, смертельная, если он возвратится. Он и сам понимал, что на карту поставлена его карьера, свобода, быть может, самая жизнь, и писал королю:
«Для вашего величества я буду там бесполезен, моё присутствие усилит опасность вашего положения и выдаст меня врагам. Позвольте мне удалиться в Ирландию, в армию, куда вам будет угодно: там я могу ещё вам пригодиться на что-нибудь и спасти себя от погибели...»
Король метался, не имея понятия, что предпринять, королева понимала не больше, чем он, тем не менее она настаивала на возвращении Страффорда, едва ли представляя, на что вызывает его, и король вынужден был настаивать на своём:
«Я не могу обойтись здесь без ваших советов. Бояться вам нечего, это так же верно, как верно то, что я английский король, на вашей голове никто не посмеет тронуть и волоса...»
У Страффорда хватало ума сомневаться в твёрдости королевского слова, которое переменчивей английского снега, Йоркские друзья удерживали его, однако он был решительный человек, под давлением опасности его энергия возрастала, граф предполагал нанести удар первым, предъявив обвинение в государственной измене самым опасным вождям оппозиции, и девятого ноября прибыл в Лондон. Он тотчас явился в Уайт-холл на приём к королю. Карл принял ласково своего любимца, согласился со всеми его предложениями и поклялся ещё раз, что не позволит врагам разделаться с ним.
В самом деле, спасение было только в одном: Страффорд должен был выступить первым. В его распоряжении был всего один день, даже один вечер девятого ноября, пока представители нации ещё не узнали о его возвращении и не успели принять свои меры. В сущности, это был роковой, решающий день, и Страффорд его упустил. Видите ли, он был больной человек. Дорога от Йорка до Лондона утомила графа, возвратилась обычная лихорадка, и он провёл в постели весь день десятого ноября, вместо того чтобы уже утром явиться в палату лордов, хотя бы на носилках, и произвести благоприятное впечатление если не уликами против вождей оппозиции, не своим красноречием, то болезненным видом.
В палате лордов он появился только утром одиннадцатого ноября и был принят с подобающей честью. Времени оставалось в обрез. Страффорд умудрился упустить и эти два-три часа. Он думал, что ещё не располагает всеми уликами, и не стал предъявлять обвинение, которое могло стать для Джона Пима и его приверженцев роковым. Вместо этого граф вскоре встал и отправился совещаться с королём в Уайт-холл.
Этого промедления было достаточно. Весть о том, что Страффорд вернулся, в несколько минут попала в нижнюю палату из верхней. Вскоре после полудня Пим вдруг поднялся и потребовал закрытого заседания по важному, не терпящему отлагательства делу. Галерея тотчас была очищена от праздно глазеющей публики, дверь заперта и ключ положен на стол председателя. Пим, тоже не располагавший всеми уликами, выступил с длинной речью, в которой пространно и ярко обрисовал общее положение в Англии, несмотря на то что это всем давным-давно было известно. Он говорил о монополиях, о непомерных и произвольных налогах, о несправедливости судей и несоразмерности наказаний, о жестокости палачей, о разорении честных скотоводов и производителей шерсти, о пустующих деревнях. Все видят, восклицал оратор, что неумелым управлением жители Англии доведены до крайности, их терпение подходит к концу. Тут он нашёл нужным оговориться: он не собирается обвинять короля, ибо тот не повинен в перечисленных злоупотреблениях и беззакониях. Ясное дело, во всех злодеяниях виноваты дурные советники, которые втёрлись в доверие и извратили благие повеления монарха. И главный среди этих преступников, без сомнения, — первый министр, главнокомандующий, генерал-лейтенант Ирландии Томас Уентворт граф Страффорд. Куда бы его ни направил государь, он всюду сеет несчастье, насилие, страх и страдания. Его действия пагубны для Английского королевства, и в ту же минуту Джон Пим предъявил Томасу Уентворту графу Страффорду обвинение в государственной измене:
— На основании вышеизложенного я предлагаю без промедления представить палате лордов это обвинение Томаса Уентворта графа Страффорда. Предлагаю на всё время ведения следствия заключить его под стражу как государственного преступника.
Один Люциус Кери Фокленд решился ему возразить, предложив отложить дебаты и провести расследование по этому действительно важному делу. Пим с должной твёрдостью ему возразил:
— Малейшее промедление испортит всё. Если граф успеет договориться с королём, парламент будет распущен. К тому же мы не судим, мы лишь обвиняем.
Обсуждение началось. Депутаты один за другим возмущались действиями Страффорда в Ирландии и на посту председателя Государственного совета. Битых пять часов ушло на эти уже не имевшие никакого значения разглагольствования, однако Страффорд умудрился упустить и это последнее время, отпущенное ему милосердной судьбой.
Пим первым сообразил, что понапрасну уходит драгоценное время. Он поднялся и во главе трёхсот депутатов, поддержавших его, вышел из зала. Перед решёткой палаты лордов стояла толпа, прослышавшая о том, что в парламенте происходит что-то из ряда вон выходящее. Представители нации молча прошли сквозь неё и вступили в зал заседаний верхней палаты. Пим и тут предложил запереть дверь и, когда это было исполнено, без колебаний и громко предъявил обвинение в государственной измене Томасу Уентворту графу Страффорду. Прирождённые аристократы, заседавшие в верхней палате, презирали этого выскочку и тоже без колебаний поддержали выдвинутое им обвинение, не понимая в этот момент, что за этим последуют и другие. Тогда Пим потребовал заключить графа под стражу на время, которое понадобится на установленное законом расследование, из чего следовало, что у обвинителей не было на руках никаких доказательств. Тем не менее лорды утвердили арест.
Только теперь Страффорду стало известно то, о чём давно догадывались лондонские зеваки. Не умея атаковать, он решился с достоинством выдержать натиск противника, поднялся и вежливо сказал королю:
— Пойду взгляну в лицо моим обвинителям.
Однако сделать это оказалось непросто. Дверь была заперта. Страффорд с возмущением в неё постучался. Пристав, так называемый хранитель Чёрного жезла, не торопился открывать. Граф начал браниться. Когда же ему наконец отворили, он весело, как ни в чём не бывало вступил в зал заседаний и направился к своему обычному месту, тогда как ему оставалось только ввести сюда гвардию и немедленно арестовать вождей оппозиции как бунтовщиков и смутьянов. Но королевскому любимцу тотчас указали, как жестоко он заблуждался, раздались голоса:
— Вон! Вон!
Страффорд остановился, растерявшись. Он ещё мог пройти на своё место, потребовать, чтобы обвинения были предъявлены ему лично, поскольку он не первый встречный, а лорд, и попробовать публично себя защитить. У него не достало на это решимости. Граф отступил и молча покинул зал заседаний. Больше того, граф не бросился к королю, не потребовал указ о разгоне парламента, который Карл дал бы ему с большим удовольствием, не направил в Вестминстер гвардейцев, чтобы они, не теряя минуты, исполнили этот указ. Вместо того чтобы гордо и прямо взглянуть в лицо врагам, как только что напыщенно пообещал королю, он остался униженно ждать у закрытых дверей и тем подписал себе обвинительный приговор.
Целый час совещались лорды и представители нации, и целый час лорд смиренно ждал с потупленной головой. Час спустя его позвали в зал заседаний, приказали встать у решётки и пасть на колено. Он встал, где указано, и коленопреклонённым выслушал слова председателя: палата лордов утвердила постановление нижней палаты и согласилась, по её предложению, заточить его в Тауэр. Только теперь Страффорд попытался опровергнуть все обрушенные на него обвинения, однако ему не дали говорить. Стража явилась. Первый министр, главнокомандующий, генерал-лейтенант Ирландии, ещё вчера ворочавший судьбами двух, даже трёх государств, ещё до наступления вечера оказался в каменном мешке самой суровой, самой мрачной тюрьмы королевства. Вскоре он писал оттуда жене:
«Несмотря на то что против меня были приняты все возможные строгие меры, какие злоба и коварство только могут придумать, душой я спокоен и верю твёрдо, что Бог от дальнейших бедствий избавит меня. Чем больше я вдумываюсь в моё положение, тем больше надеюсь и верю, что жизнь моя не может быть в опасности, если на земле ещё остались справедливость и честь. Что же касается каких-либо иных неприятностей, то время загладит ими оставленный след. Поэтому не отчаивайтесь, заботьтесь о доме и детях, молитесь за меня, верьте, что избавление так же неожиданно придёт к нам, как неожиданно разразился этот удар, который, надеюсь, сделает нас только лучше и возвеличит перед Богом и перед людьми...»
Он недолго ждал, чтобы проверить, остались ли на земле справедливость и честь. Король, дважды, трижды дававший своё королевское слово, что ни один волос не упадёт с его головы, промолчал и тем окончательно развязал руки парламентариям. Тайному комитету, наделённому неограниченной властью было поручено исследовать всю жизнь Томаса Уентворта графа Страффорда и обнаружить доказательства государственной измены в каждом его слове, в каждом совете, который он давал королю, независимо от того, были или не были приняты королём эти советы. Другой комитет с той же задачей был создан в Ирландии. Поощрённые таким поворотом событий, вожди шотландских повстанцев обратились к английскому парламенту с декларацией, в которой клялись оставить свои войска на территории Англии до тех пор, пока их заклятому врагу не воздадут по заслугам. Обвинение в государственной измене было предъявлено Джорджу Редклифу, помощнику Страффорда, лорду-хранителю печати Джону Фордвичу Финчу и государственному секретарю Френсису Уиндбанку. Френсис Уиндбанк без лишних раздумий бежал. Джон Фордвич Финч был вызван в парламент и произнёс там в свою защиту речь, прибегнув к самым униженным выражениям. Его отпустили и дали время бежать. Говорили, будто бегство министров спровоцировали сами вожди оппозиции, Пим и Гемпден, в расчёте на то, что именно бегство без судебного разбирательства, на котором им было нечего предъявить, будет свидетельствовать против них.
Они готовы были преследовать лишь главных виновником неурядиц. После дел государственных настала очередь дел церковных. За арестом Страффорда последовал арест архиепископа Уильяма Лода, ненавистного всем пуританам. Архиепископ был искренне удивлён. Он был непоколебимо твёрд в своих убеждениях, не понимал, в чём его обвиняют. Призванный на заседание парламента, он воскликнул с изумлённым лицом:
— Ни один член нижней палаты не может считать меня изменником в глубине своего сердца!
Граф Эссекс нашёл его слова обидными для всех депутатов и потребовал извинений. Лод, сбитый с толку этой нелепостью, тотчас принёс извинения и просил почтенное собрание только о том, чтобы его судили по старинным обычаям, которых издавна придерживался английский парламент. Он и тут не нашёл понимания. Лорд Сэй возмутился, что кто бы то ни было, тем более церковная власть, смеет предписывать свои правила представителям нации, которые, стало быть, в таком случае сами становятся высшим законом. Архиепископ смешался и умолк. В состоянии полного недоумения его и вывела стража.
5
Король казался парализованным. Государственная власть сама собой перешла к парламенту. Королевский совет был составлен из прихлебателей, людей заведомо жалких. Он не смел принимать решений не только по важным, но и по самым пустячным делам. Когда начались гонения на католиков и был осуждён на смерть священник Гудман, король, располагая правом помилования, не решился собственной волей сохранить ему жизнь и передал его жизнь в руки парламента. Негодующая толпа изо дня в день окружала королевский дворец и осыпала мать королевы Марию Медичи, приехавшую к дочери погостить, оскорблениями, угрозами и проклятиями. Тогда король обратился к нижней палате с запросом, может ли сия дама остаться в Лондоне, а если может, какие меры можно принять для её безопасности. Нижняя палата потребовала, чтобы Мария Медичи без промедления покинула Англию, и выдала ей десять тысяч фунтов стерлингов. Король подчинился и тут, и Мария Медичи вскоре выехала во Францию.
Тем не менее король Карл так же непоколебимо был убеждён в незыблемости своей власти, как и архиепископ Уильям Лод. Государь хорошо понимал, что не может быть власти без армии. Его армия была расквартирована в Йорке. Он был от неё далеко и не мог на неё опереться. Эта армия колебалась и была готова перейти на сторону представителей нации. Там же, захватив несколько северных графств, стояла шотландская армия, дружественная парламенту. Имея такую поддержку, парламент поистине становился всесильным.
Не решаясь сопротивляться открыто, король попробовал хитростью ослабить парламент. В его казне не было денег на содержание армии, которой он всё равно не мог управлять. По этой причине он попросил депутатов распустить обе армии, ведь солдаты, так долго не получавшие жалованья, способны на открытое возмущение, даже на бунт. Денег действительно не было, но эти армии были необходимы парламенту, и представители нации без труда разгадали коварный манёвр короля. Уильям Строд возразил:
— Филистимляне пока ещё слишком сильны, и мы не можем обойтись без союзников.
Необходимо было найти деньги не только на содержание армии, но и на текущие нужды, без которых никакая власть не в состоянии обойтись. Единственным источником могли быть только пошлины и налоги, но именно пошлины и налоги, вводимые королём, возмущали народ, который только по этой причине и поддерживал своих представителей в нижней палате. Нижней палате пришлось решать известную задачу о волках и овцах, которая не имеет решения. На этот раз она сумела эту задачу решить, введя самые умеренные налоги, которые не покрывали и самых насущных ежедневных расходов, а пошлины утвердила лишь на два месяца, с тем чтобы позднее продлить этот срок. Главная ставка была сделана на кредит. Брали в долг у своих единомышленников, заправлявших финансами в Сити, брали у самих депутатов, ведь многие из них были богаты, а в залог давали обещание заплатить. Обещание было неосмотрительным. С каждым займом представители нации подкатывали новую бочку пороха под основание собственной власти, ведь долги когда-нибудь придётся платить. Пока что об этом не думали: времени было в обрез.
Добытыми деньгами расплатились с солдатами, причём шотландцы получили больше, чем англичане, поскольку английским солдатам, в особенности английским офицерам, представители нации не доверяли с полным на то основанием. Больше того, было решено, что шотландцы, разгромив королевскую армию и захватив несколько северных графств, оказали английскому народу поистине неоценимую помощь и потому должны быть ещё особо награждены. В качестве награды им выплатили триста тысяч фунтов стерлингов, которые нижняя палата также получила взаймы. После этого начались переговоры о мире. Переговоры вели представители короля, однако с той же целью нижняя палата создала собственный комитет, и очень скоро переговоры с шотландцами само собой сосредоточились в нём. Направление переговоров было предрешено. Бенжамин Редьярд заявил, не дожидаясь их окончания:
— Мы заключили самый тесный и прочный союз между этими двумя нациями, имея в виду прежде всего истинную религию, стремясь поднять величие короля, обеспечивая Мир королевству, несмотря на зависть всех его зложелателей и врагов.
Комитеты создавались один за другим, главным образом из сторонников Пима и Гемпдена. В них передавались на рассмотрение неотложные вопросы государственной жизни и церкви. Кромвеля не оставляли без внимания оба вождя оппозиции. Его ввели в комитет по разбору жалоб на осушителей болот, в комитет по пересмотру приговоров, в смутные годы неограниченной власти короля Карла и архиепископа Лода вынесенные Звёздной палатой и Высокой комиссией, и в подкомитет по делам религии. Все три были чрезвычайно важны для него. Оливеру предоставлялась возможность исполнить обе обязанности: защищать правду Господню и охранять национальные интересы. Он с энтузиазмом исполнял и ту, и другую.
Именно правда Господня в те дни приводила в смятение и смущала умы. Национальные интересы были ясны. Оппозиция горела желанием искоренить злоупотребления и беззакония, которые одиннадцать лет творились королём и его окружением, и в своём желании была едина и неколебима. Монарх и его клевреты, не проявляя должной энергии, хотели, напротив, сохранить прежний порядок вещей. О правде Господней договориться не могли.
Одни стояли за сохранение в полной неприкосновенности епископальной церкви и власти епископов, другие выступали против этого. Самые искренние, самые фанатичные приверженцы епископальной церкви, последователи и ученики архиепископа Лода, ни на минуту не сомневались, что эта власть покоится на божественном праве. Менее убеждённые, веровавшие более по привычке или в силу необходимости, никакого божественного права в этой власти не видели, по их мнению, власть епископов была учреждением человеческим и важнейшей опорой абсолютизма, стало быть, её надо поддерживать всеми возможными средствами, чтобы сохранить неограниченную монархию в Англии, а вместе с ней свои привилегии и приятное положение при дворе. Не меньше было и тех, кто предлагал отстранить епископов от общественных и государственных дел, но в соответствии с обычаями, принятыми законами и нуждами государства, во всей полноте сохранить их духовную власть.
Куда более острые разногласия раздирали сплочённые ряды оппозиции. Люди обеспеченные и титулованные поддерживали епископов не по убеждению, а по лености ума и привычке, стало быть, поддерживали без большого энтузиазма. Люди образованные прежде всего нападали на божественное право, которое якобы осеняет каждое движение, каждое слово епископа. Они не находили в нём философской основы. Его невозможно, по их мнению, доказать, опираясь на достижения науки и доводы разума, из чего следует, что всякая церковь, как земное учреждение, не обладает ни божественным правом, ни абсолютной законностью. Оно изменялось в зависимости от места и времени, следовательно, может изменяться и впредь. Право реформировать церковь они предлагали передать представителям нации. Именно они должны, исходя из общественных интересов, решить, уничтожить или сохранить власть епископов в Англии. Пуритане и пуританские проповедники все эти досужие разглагольствования встречали в штыки. В епископальной церкви они видели противное Господу идолопоклонство и не искоренённое наследство папизма. С фанатичным упорством, таким же непреклонным, как фанатическое упорство приверженцев архиепископа Лода, они отвергали литургию и пышность богослужения, которые, по их непреклонному убеждению, осуждались Евангелием. Им мила была евангельская простота первоначального христианства и свободные выборы самой общины своих проповедников.
С каждым днём борьба течений становилась всё жарче. Из лондонского Сити в начале декабря поступила петиция, которую будто бы подписали около пятнадцати тысяч финансистов и торговых людей. Для процветания ремесла и торговли им нужна была дешёвая церковь, и они требовали полного упразднения самого института епископства, этого «древа прелатства с корнем и ветвями». Почти в те же дни приблизительно семь тысяч служителей церкви предложили, тоже петицией, ограничить светскую власть, которой епископов наделили архиепископ Лод и король, в особенности пресечь их самовластие в церковных делах и устранить их от распределения церковных доходов, которые они распределяют главным образом между собой. Как только об этих предложениях стало известно, из девятнадцати графств поступили петиции, под которыми стояло будто бы сто тысяч подписей: графства требовали оставить епископов и епископальную церковь в неприкосновенности. Судя по всему, эти подписи были организованы самими властями, светскими и духовными. Они пытались сохранить свои доходы и положение. Далеко не все верующие соглашались их поддержать. В графствах возникли волнения. Пуритане пытались разрушить предметы идолопоклонства, как они именовали иконы и ризы. К епископам и проповедникам, поставленным ими, применялось насилие. Их избивали и изгоняли из храмов.
Палата лордов в подавляющем большинстве стояла стеной за епископальную церковь. В нижней палате царил разброд. Как только там возникали прения по церковным вопросам, возникала сумятица. Мнения одних и тех же лиц ежедневно, порой ежечасно менялись. Во всём прочем единая оппозиция тотчас разваливалась. Её вожди колебались. Пим и Гемпден публично выражали своё предпочтение пуританам и нередко поддерживали их самые радикальные предложения, однако в душе они противились переменам в церковном устройстве и готовы были оставить епископам одну духовную власть. Только раз обе палаты сумели объединиться, осудив стихийные, противозаконные нападения разгневанных прихожан на епископальные церкви. Однако два дня спустя стало известно, что во многих местах индепенденты открыто возобновляют собрания верующих. Тотчас лорды, не поставив в известность представителей нации, вызвали к решётке их представителей и сделали им замечание. Тогда спустя несколько дней, оскорбившись этим, как им представлялось, самоуправством, парламентарии отправили в графства своих эмиссаров, поручив им выносить из церквей иконы, распятия, жертвенники и все прочие предметы идолопоклонства. Эмиссары, не имея решения обеих палат, возглавили стихийное движение верующих. Под их руководством началось массовое разорение и разграбление епископальных церквей, что не могло не вызвать возмущения лордов и впавших в уныние приверженцев короля.
Кромвель, один из немногих, не ведал ни малейших сомнений в любом вопросе, который касался правды Господней. Он горел лютой ненавистью к тем церковным порядкам, которые много лет насаждались архиепископом Лодом. Оливер требовал, чтобы в подкомитете по делам религии со всей тщательностью разбиралась каждая жалоба со стороны пуритан и чтобы виновные в их притеснениях понесли наказание, и защищал проповедников, изгнанных с кафедр властью епископов, рассматривал их жалобы на притеснения и гонения, обрушивался в гневных речах на их притеснителей. По этой причине активно поддерживал жалобы против епископа Мэтью Брена и безоговорочно поддержал петицию о корнях и ветвях, которая требовала без промедления упразднить епископство и всё, что связано с ним, чтобы без промедления учредить правильное управление церковью, «в согласии со словом Божиим». Во время обсуждений «Акта об отмене суеверий и идолопоклонства и о лучшем поддержании истинного богослужения», который разрешал прихожанам любого прихода самим избирать проповедника по своему усмотрению, разгорелись, пожалуй, самые жаркие споры. Вопрос всем казался слишком принципиальным. Королевская власть так тесно была связана с епископской, что одна не могла обойтись без другой. На это важное обстоятельство обратил внимание один из приверженцев монарха:
— Если мы установим равенство в церкви, мы должны будем прийти и к равенству в государстве, ибо епископы являются одним из трёх сословий, составляющих государство, к тому же они имеют свой голос в парламенте.
Взрыв ярости точно подбросил Кромвеля с места. Он убеждён, что епископы такие же слуги Господа, как любой англичанин. Срывающимся голосом Оливер закричал:
— Как бы не так! Откуда выкопал этот джентльмен резон для столь нелепых предположений и выводов? Я такого резона не знаю!
Ярость Кромвеля возбудила палату. Его противники вскакивали с мест и тоже кричали, едва ли слыша друг друга:
— Как смеет он так говорить! Это язык, не допустимый в парламенте! К решётке, к решётке его! Пусть принесёт нам свои извинения!
Председатель напрасно стучал своим молотком. Шум нарастал. Тогда со своего места поднялся Джон Пим. Его авторитет был так велик, что гул стал понемногу стихать. Дождавшись тишины, ощутив, что внимание обратилось к нему, он веско, уверенно объявил:
— Если джентльмен произнёс что-то, что вызывает у вас возражения, пусть он объяснится, но не у решётки, а со своего места.
Тотчас Холз его поддержал:
— Чего ради вызывать к решётке по малейшему поводу? Пусть оправдается с места!
Кромвель легко впадал в ярость, но умел вовремя себя обуздать. Краска сошла с лица, теперь ярость жгла сердце, но он заговорил рассудительно:
— Я не понимаю, почему джентльмен, который только что выступал, заключает о равенстве в государстве из равенства в церкви. Я также не вижу необходимости в высоких доходах епископов. Больше того, сейчас я больше, чем когда бы то ни было, уверен в том, что не существует права, по которому епископу предоставляется решающий голос в делах веры. Впрочем, понятно, что епископы защищают себя: они, как и римские иерархи, не могут отказаться от своего положения!
Пуритане одобрительно зашумели. Их противникам не к чему было придраться. Нижняя палата приняла резолюцию, которая разрешала верующим избирать своих проповедников. Палата лордов отказалась одобрить её.
С тем же энтузиазмом, с той же непримиримой горячностью восставал он за возвышение власти парламента, который один мог поставить предел злоупотреблениям и беззакониям со стороны монарха. Оппозиция настаивала на том, чтобы обе палаты король созывал каждый год. Оливер был среди выступающих, поддержавших эту идею, которая должна была привести к равновесию обеих властей. Её сторонники множились. Законопроект о ежегодном созыве парламента был внесён девятнадцатого января 1641 года. Казалось, за него готово было проголосовать большинство.
Этому помешали интриги. Приверженцы короля скоро заметили, как едина, сплочённа и сильна оппозиция в обсуждении государственных дел и как она раздроблена и слаба в религиозных делах. Карлу посоветовали привлечь на свою сторону вождей оппозиции, предложив им высокие посты в государстве, как в своё время было проделано с Томасом Уентвортом графом Страффордом. Если они согласятся, нижняя палата будет парализована новыми сварами, и закон о ежегодном созыве парламента не будет принят.
Роль посредника принял на себя граф Френсис Рассел Бедфорд, лидер оппозиции в палате лордов. Он был человеком умеренным и поэтому пользовался большим уважением в обществе и влиянием в обеих палатах, большинство которых не было склонно к крайним, решительным мерам. В его доме часто собирались представители оппозиции и в непринуждённой беседе обсуждали те предложения, которые считал возможным сделать монарх.
Король предлагал поставить во главе нового министерства самого графа Френсиса Рассела Бедфорда. Канцлером казначейства мог бы стать Джон Пим, вождь оппозиции нижней палаты. Джона Гемпдена, ещё одного лидера оппозиции, готовы были пристроить в воспитатели принца Улльского. Холзу предназначалось место государственного секретаря, а Оливера Сент-Джона ещё до заключения сделки назначили генеральным прокурором. Таким образом, вся верхушка оппозиции оказывалась на королевской службе и была бы вынуждена покинуть ряды оппозиции, как одиннадцать лет назад это сделал Томас Уентворт.
Соблазн был слишком велик. Реальная власть уже принадлежала парламенту, однако она была зыбкой, поскольку не могла опереться на закон. Согласившись занять предложенные им посты в министерстве, вожди оппозиции могли получить законную власть, а это всегда лучше самозахвата и самозванства. Да и сами по себе министерские портфели были заманчивы для многих из них: ведь власть чарует тем более, чем менее у претендента прав на неё.
И Бедфорд, и Пим, и Гемпден, и Холз вступили в переговоры и были не прочь принять предложение короля. Но их одолевали сомнения. Поступив на службу, они теряли власть над парламентом, который счёл бы их поступок предательством, а без парламента министерские портфели уже не имели смысла. Кроме того, предлагая посты, монарх ставил условия, в сущности, не исполнимые: им вменялось в обязанность спасти Страффорда и епископальную церковь, тогда как Страффорд был обречён, а власть епископальной церкви таяла с каждым днём под давлением пуритан. А главное, они не верили слабому, безвольному государю, который, вопреки обещаниям, уже позволил арестовать и заточить в Тауэр своего самого преданного и самого активного приверженца Страффорда.
Вожди оппозиции были умные люди и попытались найти приемлемый выход из затруднения и нашли его. Они согласились смягчить законопроект, уже поступивший на обсуждение нижней палаты: пусть парламент созывается не позднее трёх лет после роспуска своего предшественника, однако он должен будет собраться даже в том случае, если король откажется созвать его или станет противиться его созыву. Представители нации спорили почти месяц, спорили бурно, до хрипоты, и пятнадцатого февраля 1641 года всё-таки приняли этот основополагающий акт. Теперь вожди оппозиции в любом случае могли рассчитывать на поддержку парламента или возвратиться в него в случае расхождения с королём. Теперь они могли войти в министерство, и, видимо, вошли бы в него, если бы в это самое время король не попытался их обмануть.
Армия стояла в Йорке и была недовольна, однако возмущалась она не королём, который долгое время не платил жалованье солдатам и офицерам, а парламентом, который им заплатил. Солдаты, конечно, молчали. Офицеров оскорбило предпочтение, отданное шотландцам, их победителям, что уязвляло вдвойне. Они говорили:
— Если шотландцам стоит только попросить денег, чтобы их получить, то мы сумеем взять их сами.
Заговор не мог не возникнуть. Недовольные офицеры были готовы предложить королю свои услуги против парламента, они только не знали, что предложить. Заговор ограничивался общим неопределённым брожением, пока об этом брожении не узнал фаворит королевы. Самых недовольных он пригласил в Уайт-холл и представил их государыне. Та пожаловалась на тяжкое положение короля, ловко выразила сожаление о той несправедливости, которую совершил парламент в отношении армии, безоглядно льстила рядовым офицерам, которых возносило до небес само присутствие королевы, для них это была высшая честь. Она вверяла им судьбы монарха государства.
Офицеры были готовы взять их в свои руки, только королева не знала, какую команду подать. Этого не знал ни её фаворит, ни сам король. Потянулись переговоры, опасные, но бесплодные. Тайные агенты обеих сторон скакали из Йорка в Лондон и из Лондона в Йорк. Между солдатами ходили возмутительные памфлеты; самые решительные предлагали единственный сколько-нибудь действенный выход из положения, которое пока что не стало критическим: армия идёт в Лондон и разгоняет парламент, ведь парламент не имеет армии и не сможет себя защитить.
Карл мог распустить парламент одним словом: оно всё ещё было законом. У него не хватало мужества это слово сказать, отдать приказ офицерам, которые были готовы его поддержать. Король по-прежнему колебался. Ему очень хотелось избавиться от парламента, но так, чтобы он остался ни при чём.
После долгих раздумий монарх принял самый бестолковый, самый глупый проект, который в этих обстоятельствах можно было придумать. Армия не выступает из Йорка, не разгоняет парламент, а всего лишь направляет петицию, в которой угрожает это сделать, если депутаты не оставят в покое Церковь и короля и не разъедутся по домам. Карлу чрезвычайно понравился именно этот глупый проект. Больше того, под текстом петиции он собственной рукой начертал начальные буквы своего имени в знак полного одобрения.
Впрочем, и буквы не помогли. Заговорщики транжирили бесценное время в пустых разговорах. Пьяные офицеры болтали о деле в тавернах, и слухи стали доходить до парламента. В нижней палате тоже были младшие офицеры, которые кое-что знали о заговоре или принимали участие в нём. Наконец один из бунтовщиков, не выдержав страха разоблачения, явился к графу Беддфорду и всё ему рассказал.
Теперь вожди оппозиции были оскорблены. Король привечал их, предлагал им портфели, а сам плёл интриги, которые ставили под удар не только их положение, но свободу и жизнь. Им поневоле приходилось выступить первыми. Они открыто перешли на сторону пуритан, самых решительных и фанатичных противников церкви и короля. Это обеспечило им полную поддержку нижней палаты. Графу Страффорду, сидевшему в Тауэре, было предъявлено обвинение в государственной измене. На двадцать второе марта был назначен открытый судебный процесс.
Война ещё не была объявлена, но она уже началась.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Суд над лордом был в ведении верхней палаты, однако обвинение в государственной измене было выдвинуто нижней палатой, и представители нации не пожелали оставаться в стороне. С пяти часов утра у входа в Вестминстер стала собираться толпа любопытных. К семи часам в зале заседаний восемьдесят лордов расселись по своим местам. Депутаты от общин присоединились к ним в полном составе. Вместе с ними оказались неизвестно кем приглашённые представители Ирландии и Шотландии, поддержавшие обвинение. На галереях для зрителей и на верхних ступенях амфитеатра толпились мужчины и женщины — почти всё высшее общество Лондона, возбуждённые необычностью обвинения или увлечённые сюда любопытством. Спустя полчаса появился король в сопровождении королевы. Карл был в тоске и смятении. На лице королевы было одно любопытство. Оба в молчании миновали место, предназначенное для монарха, если он соизволял почтить своим присутствием заседание лордов. Супруги поместились в закрытой ложе, отведённой для почётных гостей, желая своим выбором продемонстрировать, что они посторонние на этом процессе, и многие поняли, что король публично отрёкся от своего первого министра и тот обречён.
Заседание началось с большим опозданием. Из Тауэра в Вестминстер Страффорда доставили в лодке только к восьми часам под конвоем мушкетёров и алебардщиков, их задержал сильный ветер, дувший с моря. Страффорд был истощён и ослаблен болезнью, но всё-таки сохранял достоинство и осанку большого вельможи, в глазах блестел молодой задор, на лице была написана гордость. Он был отличный юрист, внимательно изучил все улики, из которых было составлено обвинение, и был уверен, что выиграет процесс. Увидев его, толпа зевак расступилась. Шляпы снимались точно сами собой. Почтительное молчание сопровождало графа к его месту. Когда же ему зачитали обвинительный приговор, состоящий из неопределённых, зато высокопарных обличений, а не из ясных, юридически обоснованных доказательств, первый министр, на радостях преступив осторожность, громко произнёс надменным, уверенным тоном:
— Надеюсь без труда опровергнуть клевету моих коварных врагов.
Ему не следовало говорить ни о клевете, ни о коварных врагах. Эти слова ещё более накалили и без того нездоровые страсти. Тотчас со своего места вскочил Джон Пим, главный обличитель и преследователь Страффорда, и возмущённо вскричал:
— Нижней палате этими словами нанесено оскорбление! Упрёк в коварной вражде уже есть преступление!
В то же мгновение Страффорд осознал, как глубоко ошибся. Он побледнел. В знак смирения упал перед судом на колени, прося прощения. С этой минуты подсудимый овладел собой и стал совершенно спокоен, не обнаруживая ни гнева, когда его начинали травить, ни законного нетерпения, когда ему мешали защищаться. Все восемнадцать дней, пока длился этот необходимый, но юридически провальный процесс, он не произнёс ни одного лишнего слова, которое коварные враги могли бы обратить против него.
В течение этих восемнадцати дней перед высокими судьями выступило около тридцати обвинителей, главным образом сторонников Пима и Гемпдена. Они напомнили, более присутствующим, чем судьям, многие факты несправедливости, даже тирании, уже одиннадцать лет приводившие в негодование нацию. Страффорд не мог с ними не согласиться, но ему не стоило труда доказать, что под обвинение в государственной измене они, к сожалению, не подходят. Разгорячённые обвинители обращались к фактам сомнительным, опускались до скрытой или прямой клеветы. Ему нетрудно было их опровергнуть. Страффорд в самом деле был опытен и умён. Он вёл себя обдуманно и благородно, открыто говорил о своих слабостях и недостатках, ошибках и просчётах, совершенных на службе королю; сумел взвешенно и спокойно, не прибегая к оскорбительным выпадам, избегая резких выражений, обнажить пристрастие, бездоказательность и нарушение закона со стороны обвинителей.
Граф был слишком силён, чтобы свалить его в прямом поединке. Тогда ему разными способами затруднили защиту. Он потребовал адвокатов — ему долго их не давали, а когда их всё же назначили, им не позволяли опрашивать свидетелей со стороны обвинения и обсуждать приводимые обвинением факты. Когда же Страффорд испрашивал разрешения пригласить своих свидетелей, которые могли бы легко опровергнуть вымыслы и клевету обвинителей, ему долго отказывали и позволили вызвать их за три дня до начала прений, тогда как большинство этих свидетелей жило в Ирландии.
И обвинители, и судьи, и зрители в зале не могли не понять, что в этом судебном процессе против ненавистного для всех человека систематически нарушался закон, однако никто не подал протеста, не высказал возмущения. В сущности, Страффорду всего лишь платили той же монетой, к какой он сам прибегал одиннадцать лет. Десятки, сотни, тысячи таких же судебных процессов, в которых откровенно, цинично нарушался закон, велись против всех, кто отказывался платить незаконные сборы или осмелился выступить против власти епископов. Всем были памятны позорные столбы на площади Лондона, публичное бичевание, отрезанные уши и клеймёные лбы, всем было памятно, как приветствовала толпа несчастных узников, освобождённых из Тауэра. Мало кто сомневался в том, что на этом процессе господствовали не юридические нормы, не государственные установления, а древнейший и неискоренимый закон: око за око, зуб за зуб. Оливер Сент-Джон, выступавший в числе обвинителей, однажды открыто об этом сказал:
— Зачем мы будем стесняться законами, осуждая того, кто сам никогда законами не стеснялся? У нас выработались известные правила относительно охоты на оленей и зайцев, потому что они животные мирные, но существуют ли какие-либо правила для охоты на волков и лисиц, вообще на хищных животных? Мы просто убиваем их там, где встречаем.
В самом деле, все эти дни никого, кроме Страффорда, не занимал вопрос о законности обвинения. Постоянно у дверей, ведущих в зал заседания, слышался шум, и никто не призывал его прекратить. В промежутках между речами ораторов лорды поднимались со своих мест, подходили друг к другу, переговаривались бесцеремонно и громко, точно речь не шла о жизни и смерти того, кто управлял ими одиннадцать лет. Представители нации постоянно болтали друг с другом и во время речей, после десяти часов на утреннем заседании многие из них принимались закусывать хлебом и мясом, появлялись бутылки с пивом, с вином, ходили по рукам и опорожнялись прямо из горла.
Король молчал, сидя в ложе для почётных гостей, он бездействовал, но вокруг него собирались тёмные, тайные силы, толкавшие его к государственному перевороту. Мятежные офицеры, несмотря на слабые возражения монарха, не оставляли мысли о том, чтобы ввести армию в Лондон и разогнать парламент. Французский король обсуждал возможность направить войска на помощь сестре, вышедшей замуж за этого недотёпу. Принц Оранский, зять Карла, предложил ему деньги, которыми он мог бы расплатиться с мятежными офицерами и окончательно переманить на свою сторону военных. Ходили упорные слухи о том, что сторонники Карла готовили Страффорду побег из тюрьмы. Наконец, сам король, со всех сторон принуждаемый к действию, мог произнести своё слово и распустить парламент ещё до того, как суд над Страффордом будет закончен. Да, государь был нерешителен, слаб, но этот титул обладал огромной силой.
Опасаясь угроз, которые надвигались с разных сторон, страшась королевского слова, вожди оппозиции дважды предлагали лордам ускорить процесс, ссылаясь на то, что представители нации теряют драгоценное время, которое могли бы использовать с пользой для государства. Лорды дважды им отказали. Страффорд вежливо выразил им свою благодарность и отвечал обвинителям, торопившим его:
— Надеюсь, у меня столько же прав защищать мою жизнь, сколько имеют другие нападать на неё.
Прения подошли к концу и, несмотря на усилия оппозиции, не принесли положительных результатов: доказать государственную измену Страффорда не удалось. Прения были прекращены. Созданный из лордов обвинительный комитет должен был признать его невиновность, видимо, с большим облегчением, поскольку многие из лордов, спасая ненавистного Страффорда, спасали себя. Ничего не поделаешь, после такого решения Страффорда должны были освободить.
Что это могло означать? Только одно: дело парламента было проиграно. Страффорд возвращался к своим обязанностям первого министра. Он вновь становился командующим разложившейся английской армии и дисциплинированной и боеспособной армии, которая находилась в Ирландии. Руководимый графом король становился вдвое, втрое сильней. Под его нажимом Карл не замедлил бы распустить парламент далее без применения силы, а если бы тот не подчинился, армия уже на законном основании могла и должна была прийти на помощь королю. Тогда был бы отменен Акт о трёхгодичном созыве парламента, тогда о нововведениях пришлось бы забыть, тогда должна была бы начаться новая, более жестокая, более непримиримая эпоха злоупотреблений и беззаконий, против которых, а вовсе не против института монархии, и выступили представители нации. Но и этим бы дело не кончилось. Уже не раз и не два вожди оппозиции после роспуска парламента оказывались в тюрьме. На этот раз им едва ли удалось бы отделаться обыкновенным арестом и камерой в Тауэре. Все знали, что Страффорд мстителен и жесток, беспощаден к врагам короля и особенно к своим личным врагам. Вожди оппозиции хотели его головы — с освобождением Страффорда должны были пасть головы и Пима, и Гемпдена, и Сент-Джона, и Холза, и многих других. В их распоряжении оставалось несколько минут, не более получаса, чтобы спасти свои жизни, а вместе с ними нововведения и, главное, Акт о трёхгодичном созыве парламента, даже в том случае, если этого не захочет король.
Они сумели воспользоваться этой возможностью. Не успел председатель обвинительного комитета объявить о невиновности Страффорда, как со своего места поднялся Генрих Вен, юный аристократ, с бледным лицом, глубоко запавшими глазами религиозного фанатика и прорицателя, и объявил, что случайно, на днях разбирая бумаги отца, тоже Генриха Вена, бывшего государственного секретаря, он обнаружил документ чрезвычайной государственной важности. Тут же Вен-младший передал документ Джону Пиму, который, вероятно, и подготовил этот эффектный ход. Пим зачитал вслух полученный документ. Это оказалось письмо, собственноручно написанное Страффордом. В этом письме граф призывал короля действовать против парламента решительно, непреклонно и в случае надобности использовать против англичан, не желающих покориться своему государю, ирландскую армию, которая находится в полном его подчинении.
Это был всего лишь совет, которым король не воспользовался, побуждение к действию, но не самое действие. Тем не менее, не давая лордам опомниться, со своего места встал Артур Гезлриг и предложил без промедления принять против Страффорда Акт об опале, или Акт о государственном преступлении, который предполагал открытое голосование по вопросу виновности и осуждение на смерть простым большинством.
Прения вспыхнули вновь. К письму, обнаруженному в архиве Генриха Вена, присоединились голословные обвинения в том, будто бы Страффорд не только писал королю, но и в полном собрании совета министров предлагал использовать ирландскую армию для усмирения Англии, что не могло не вызвать всеобщего возмущения. Правда, это обвинение легко опровергалось показаниями бывших министров, но уже никто не желал слушать никаких показаний: в данном случае в глазах большинства истина подтверждалась самим характером Страффорда, образом его мыслей и действий.
Тринадцатого апреля настал решающий день, когда, казалось, настроение парламента ещё можно было переломить. Острым чутьём опытного юриста Страффорд уловил этот ускользающий миг. Не успели обвинители продолжить свои доказательства, а адвокаты произнести хотя бы слово в его оправдание, как он поднялся с печальной скамьи подсудимого и заговорил с неожиданным красноречием. Это была хорошо продуманная, длинная речь. Вновь и вновь граф отсылал судей к законам, которые знал наизусть, и приводил доказательства, что он может быть обвинён в чём угодно, но только не в том, что преступил закон и совершил государственную измену. Речь произвела сильное впечатление. Судей вновь охватило сомнение, стоит ли жертвовать законом для правосудия и правосудием ради спасения государства. Страффорд почувствовал колебания и заключил:
— Милорды! Эти господа утверждают, что они защищают общественное благо против моего самовластия и произвола. Позвольте мне указать, что это я защищаю общественное благо против их произвола. Мы, слава Богу, живём под сенью законов. Так неужели мы должны умирать по законам, которых не существует? Ваши предки предусмотрительно включили в наши статуты страшные наказания за государственную измену. Так не пытайтесь превзойти их искусством убивать, не опирайтесь на кровавые примеры, — не ройтесь в старых протоколах, изъеденных червями и забытых в архивах. Не будите заснувших львов, которые впоследствии могут точно так же растерзать не только вас, но и ваших детей. Что касается меня, создания жалкого, смертного, то если бы не ваши светлости и те залоги, которые оставила мне святая, живущая ныне на небесах, я не стал бы так хлопотать о защите этого полуразрушенного тела, которое обременено столькими болезнями.
На глазах подсудимого появились слёзы. Он остановился, собираясь с мыслями, справился с волнением, поднял голову и продолжал:
— Милорды! Кажется, я что-то ещё хотел сказать вам, но мой голос, силы ослабевают. Почтительнейше вручаю вам судьбу мою. Каков бы ни был ваш приговор, принесёт он мне жизнь или смерть, я заранее добровольно принимаю его.
Он лукавил, конечно. Без сомнения, подобно древним римлянам, граф был готов умереть, но не желал ничего принимать добровольно. Этот человек был истинный воин и не сдавался, боролся против своих врагов до конца. Эта речь была для них почти смертельным ударом, многие были потрясены и готовы его оправдать.
Джон Пим, испытанный боец, был смущён чуть ли не в первый раз в своей жизни. На него глядели холодные, угрожающие глаза обвиняемого. Угроза ощущалась в самой неподвижности Страффорда, переставшего говорить, нижняя губа, всегда выдававшаяся вперёд, казалась бескровной, и потому в линии рта читалось презрение, Пим должен был в последний раз его обвинить, но руки дрожали, он не сразу нашёл свои заметки, лежавшие перед ним, в которых были наброски заключительной речи. Когда же стал читать, слова обвинения точно застревали у него в горле, он мямлил, комкал, его не слушал никто, выступающий поторопился закончить и сел.
Оппозиция почувствовала себя неуверенно. Её вожди, Пим и Гемпден, колебались какое-то время, Фокленд, Селден и Хайд стали противниками Акта о государственном преступлении. Спорили несколько дней, однако доводы разума ничего не решали. Сильнее был страх перед Страффордом, перед королём. Освобождение Страффорда означало разгон парламента, тюрьму или смерть для многих из них. С каждым днём это чувство становилось преобладающим, и когда колебавшийся Хайд предложил заменить смертную казнь изгнанием, граф Эссекс резонно ему возразил:
— Нет лучшего изгнания, чем смерть.
Пим и Гемпден, самые стойкие, скоро опомнились. Четыре дня спустя они потребовали второго чтения Акта. Селден предложил сначала выслушать адвокатов. Тотчас посыпались возражения со стороны оппозиции. Возбуждение вновь нарастало. Посыпались требования отдать под суд самих адвокатов за то, что они осмелились защищать человека, которого представители нации обвинили в государственной измене. Адвокатов всё-таки выслушали, но на это время многие представители оппозиции в знак протеста вышли из зала. Впрочем, адвокаты ничего нового уже сказать не могли, а главное, никто не мог поручиться, что Страффорд не станет мстить. Акт о государственном преступлении был окончательно принят. За него проголосовало двести четыре депутата нижней палаты, только пятьдесят девять голосов было подано против, Селден был среди них. Фокленд и Хайд воздержались.
Но это была всего половина пути. Акт о государственном преступлении ещё должно было утвердить собрание лордов. Затем он должен был поступить на утверждение короля: без его подписи ни один документ не мог иметь законной силы. Наступило тревожное ожидание. Многие сомневались в согласии лордов, ещё больше было сомнений в согласии монарха. Всем было известно, сколько раз он клялся, что обеспечит Страффорду безопасность. Один Эссекс открыто смеялся над этими опасениями. Они ему казались наивными. Он говорил:
— Мысли и совесть короля в конце концов сообразуются с мыслями и совестью парламента.
Карл был растерян. После того как суд лордов отклонил обвинение в государственной измене, стал успокаиваться. Ему представлялось, что свободе и жизни Страффорда уже не угрожает ничто. Теперь его поразила изворотливость оппозиции, к которой государь не был готов. Карл писал Страффорду в Тауэр:
«Даю вам честное слово короля: ни жизнь, ни состояние, ни честь ваша не потерпят никакого ущерба».
В самом деле, в эти дни его клевреты сманивали самых неустойчивых лордов уступками и обещаниями. Кто-то, оставшийся неизвестным, предложил коменданту Тауэра двадцать тысяч фунтов стерлингов и в придачу дочь Страффорда в невестки, если он организует побег, причём на Темзе беглеца ждал корабль, готовый поднять паруса. Второго мая в ворота Тауэра вновь постучали. Капитан Биллингслей вручил коменданту приказ короля впустить в крепость двести солдат, которые должны были усилить гарнизон и обеспечить надёжную охрану заточенных преступников. После первого предложения комендант Белфор не поверил приказу, солдат отказался впустить и донёс о случившемся вождям оппозиции. Тогда король собрал обе палаты, прибыл в парламент и публично признал, что Страффорд виновен; клялся, что впредь не предоставит ему никакой должности в королевстве, даже если это всего лишь должность патрульного полицейского; заявил, что никакие силы, доводы или угрозы не заставят его подписать вынесенный Страффорду смертный приговор. Этим он давал понять лордам, что того же ждёт и от них. В самом деле, среди лордов с каждым днём становилось всё больше противников приговора.
Вновь лидерам оппозиции приходилось спешить. Всё время, свободное от заседаний, в доме Пима совещались представители нации. Здесь постоянно бывали финансисты из Сити. Парламент был необходим им не меньше других: другие рисковали свободой и жизнью, финансисты — деньгами, которые они опрометчиво дали парламенту в долг.
В конце концов кто-то из них, непреклонный Пим или изворотливый Гемпден, отыскали верное средство, которым впоследствии в критические моменты будут пользоваться все революции. В доме Пима стали появляться тёмные, плохо одетые личности. Это были представители подмастерьев, которым слишком мало платили за труд владельцы мануфактур. Ещё больше было представителей окраин, трущоб, населённых жертвами огораживаний, осушений болот, безработицы, которые стекались в Лондон в поисках заработка и не находили его, — неиссякаемый резерв революций.
Результат этих совещаний был ошеломляющим для сторонников короля. Листовки с именами тех депутатов нижней палаты, которые проголосовали против акта о государственном преступлении, были прибиты к тумбам, к оградам, к стенам домов, под именами жирными буквами было написано:
«Вот страффордцы, изменники отечеству!»
Пуританские проповедники, захватившие англиканские церкви, читали проповеди и молили Бога, чтобы великий преступник был сокрушён. У въезда в Вестминстер каждое утро собиралась толпа подмастерьев и голодных людей. Кое у кого в руках сверкали шпаги, ножи, другие вооружились палками или досками, утыканными гвоздями. Лордам, не желавшим утвердить приговор, грозили расправой. Толпа кричала на разные голоса:
— Правосудия! Правосудия!
Распространились тревожные слухи, что против парламента составился заговор, что армия готова двинуться на парламент. Были названы имена заговорщиков. Некоторые из них, не дожидаясь, пока будет доказано, что они не имеют отношения к заговору, бежали во Францию. Их бегство было представлено как доказательство, что заговор существует. В тот самый день, когда в палате лордов началось обсуждение Акта о государственном преступлении, распространился тревожный слух, будто под залом заседаний нижней палаты сделан подкоп и её должны с минуты на минуту взорвать. Вооружённая толпа взволновалась. Один из депутатов прибежал впопыхах и объявил о том, что готовится взрыв. Два самых толстых депутата вскочили на ноги с такой прытью, что раздался грохот. Кто-то бросился бежать. Кто-то истошно вопил:
— Взрыв! Взрыв!
В суматохе был создан союз для защиты истинной веры и гражданской свободы. Члены союза приняли тут же присягу, потребовав, чтобы каждый гражданин вступил в союз, и направили своё предложение лордам. Лорды не приняли его. Тогда было объявлено, что каждый, кто откажется вступить в этот союз, не может состоять в должности, церковной или гражданской. Страсти в нижней палате накалились настолько, что без обсуждения подавляющим большинством голосов был принят закон, по которому никто не мог распустить настоящий парламент без его собственного согласия, и тотчас направлен на утверждение в палату лордов. Возникла идея призвать на помощь шотландскую армию, которая могла бы защитить парламент от роспуска. Тем временем в палату общин поступила петиция от жителей Лондона. В петиции говорилось о тяжёлом положении, в котором находится Англия: упадок торговли, разорение предпринимателей, недостаток наличных денег, обнищание низов, общее расстройство порядка и дел. В связи с этим указывалось, как опасно затягивать дело Страффорда, у которого в королевстве немало сторонников, готовых его поддержать. Документ был рассмотрен с поразительной быстротой. Опираясь на него, депутаты потребовали от короля распустить ирландскую армию, разоружить всех католиков и удалить их от двора.
В этом кипении страстей лорды не могли устоять. Седьмого мая они приняли Акт о государственном преступлении и передали его на утверждение королю. Карл попросил на размышление один день. Ему было позволено поразмышлять, однако возмущённая толпа, огромная, грозная, окружила Уайт-холл и бесновалась весь день и всю ночь, освещая тьму зажжёнными факелами, что наводило ужас на государя и на стражу. Солдаты в ожидании штурма заваливали входы в дворец мешками, подушками, креслами. В кабинете собрался военный совет. Королева, страшась разоблачения неприглядных поступков, если Страффорд останется жив, умоляла подписать приговор, то рыдала, то угрожала, что немедленно бросит его и вернётся во Францию. На том же настаивали министры. Их поддержали епископы. Король хотел уступить и не мог. В нём была уязвлена гордость, этим приговором унижалось его достоинство. Власть явным образом уплывала из рук. Он растерянно твердил что-то о данном слове, о совести. Один из епископов ответил ему:
— У королей должно быть две совести: одна совесть частная, человеческая, для самого себя, для личных дел, другая совесть — общественная, для его подданных, для государственных дел. И если ваша частная совесть оправдывает графа Страффорда, то ваша общественная совесть обязана его осудить, ведь депутаты и лорды признали его виновным, стало быть, ваша частная совесть может оставаться спокойной.
Сам Страффорд в своём каземате догадывался, что, несмотря на все колебания, заверения, клятвы, монарх утвердит приговор. Истомлённый болезнью, многодневной борьбой и ожиданием смерти, он решил облегчить едва ли не смертельные муки его совести и отправил из стен Тауэра мужественное послание:
«Милорд! После долгой и тяжёлой борьбы я принял решение, единственно приличное в моих обстоятельствах. Любым частным интересом должно жертвовать для счастья вашей священной особы и государства. Умоляю вас принятием этого Акта устранить препятствие к благополучному миру между вами и вашими подданными. Моё согласие, милорд, оправдает вас перед Богом лучше, чем иные, человеческие средства. Никакое действие нельзя назвать несправедливым, если оно относится к тому, кто ему хочет подвергнуться сам. Моя душа, готовая оставить тело, с бесконечной радостью прощает всё и всем. Прошу вас об одном: удостойте моего бедного сына и его трёх сестёр такой же благосклонности, не менее, но и не более, какой будет заслуживать их несчастный отец, смотря по тому, будет ли впоследствии он найден виновным или невинным».
Ещё сутки колебался жалкий король, ублажая свою совесть. Всё-таки государственная совесть, как её назвали епископы, должна была победить. На другой день Карл подписал смертный приговор своему единственному преданному слуге, который одиннадцать лет служил ему верой и правдой, все его злоупотребления и беззакония бесстрашно брал на себя и тем оберегал его от гнева народного, потерял на этой службе здоровье своё и теперь с его согласия терял самую жизнь.
За что?
Не теряя времени даром, король отправил в Тауэр другого верного слугу, Карлтона, государственного секретаря.
Карлтон зачитал ему приговор парламента и сообщил о согласии монарха. Зная своего повелителя как облупленного, Страффорд всё-таки был удивлён. Вместо ответа он поднял руки к небу и произнёс:
— Не питай надежды на князи земные!
Король обещал парламенту объявить о согласии лично, однако не решился прямо взглянуть в глаза подданным, набросал несколько строк и поручил принцу Уэлльскому передать это послание представителям нации, приписав в самом конце:
«Если он должен умереть, то парламент оказал бы ему великую милость, отложив казнь до субботы».
Дважды прочитали в заседании палаты это послание, стремясь проникнуть в тайный смысл этого внезапного, неуместного, во всех отношениях невероятного «если». Означало ли оно то, что король окончательно потерял голову и уже не ведает, что говорит? Или он всё ещё надеялся освободить того, кого только что сам обрёк смерти, и до субботы приготовить побег? Парламентарии так и остались в недоумении, однако решили на всякий случай проявить осторожность и назначили казнь на другое же утро.
Страффорд принял это решение с достоинством. Он попросил только о том, чтобы архиепископ Лод, сидевший поблизости от него, завтра утром встал у окна и своим присутствием укрепил его дух. В день казни из последних сил он сохранял мужество и казался спокойным. Комендант Тауэра, видимо, всё ещё опасаясь побега, предложил ему ехать до места казни в карете, ссылаясь на то, что разъярённый народ может разорвать его на куски. Он отказался, сказав:
— К чему? Я не страшусь смотреть в глаза народа и смерти.
И прибавил, видимо, догадавшись, что беспокоило сердобольного коменданта:
— Будьте спокойны, я не сбегу, а для меня решительно всё равно, умереть от гнева народа или от руки палача.
Он пошёл пешком, за ним — конвой, и по его виду можно было подумать, что всего-навсего офицер идёт впереди своих солдат, чтобы сменить караул. Проходя под окном, у которого действительно стоял Лод, он поднял голову и твёрдым голосом попросил:
— Милорд, вашего благословения и молитв!
Слабодушный архиепископ протянул было руку, чтобы в последний путь проводить его крестным знамением, и тут же повалился без чувств. Страффорд не смутился, не изменился в лице. Он отпустил служителю Бога его грех:
— Прощайте, милорд, пусть защитит вашу невинность Господь!
С тем же спокойствием граф поднялся на эшафот, со всех сторон окружённый любопытным народом. Здесь его ждал брат, несколько самых близких, видимо, бесстрашных друзей и обязанные присутствовать служители церкви. Он на мгновение опустился на колени, но тут же встал и звучным голосом обратился к народу:
— Я желаю этому королевству всех земных благ. Целью моей жизни было счастье отечества. Счастье отечества остаётся моим единственным желанием перед смертью. Но я умоляю каждого, кто слышит мои слова, хорошенько подумать, положа руку на сердце, должно ли начало государственных реформ писать кровавыми буквами? Подумайте об этом, воротясь домой! Дай Бог, чтобы ни одна капля моей крови не пала ни на кого из вас! Я всё же боюсь, что вступили на дурной путь.
Приговорённый снова пал на колени и долго молился, затем простился с друзьями, каждому из них пожав руку, говоря им:
— Я почти всё сказал. Один удар, и моя жена будет вдовой, а мои бедные дети станут сиротами, мои бедные слуги останутся без господина. Господь да будет с вами и со всеми ими! Да благословит Он меня!
Он стал раздеваться, чтобы обнажить шею для топора, продолжая беседовать скорее всего сам с собой, спасаясь от смертного страха:
— Благодаря Господа, смерти я не боюсь. Я снимаю теперь мой колет, как будто снимаю его перед сном.
Он подозвал и простил палача, последнюю молитву прочитал про себя, положил голову на плаху и сам подал знак. Ещё миг — и палач показал народу его мёртвую голову, держа её за волосы. Раздался крик ужаса. Все стали расходиться. Одна часть торжествовала победу справедливости и добра над несправедливостью, злом и насилием, другая была подавлена тем, что увидела. Придя в себя, архиепископ Лод произнёс в философском раздумье:
— Его несчастия зависели оттого, что он возбудил зависть вельмож и служил чересчур слабому королю, который не умел ни сделаться великим, ни удержать величие, когда оно ему было дано.
2
Представители нации на этот раз победили, король был побеждён. Больше того, парламентарии провели закон, следуя которому только они сами могли себя распустить, и Карл дал согласие на него, точно так же, как согласился на казнь Страффорда. Этим законом он был связан по рукам и ногам, но лишь до тех пор, пока парламент сам себя не распустит и депутаты не разъедутся по домам. Тогда вся полнота власти вновь перейдёт к. королю. Что тогда станется со страной? Где гарантии, что монарх не найдёт себе нового Страффорда, ещё более решительного и жестокого, не отменит всех постановлений парламента и злоупотребления и беззакония вновь не обрушатся на страну?
Гарантий не было, никто не решался на эти запросы дать положительного ответа. Все знали, что Карл упрям, жестоко страдает от сознания собственного бессилия, люто ненавидит всех, кто вынуждал его это бессилие проявить, никому этого не простил и готов был мстить всеми доступными средствами за унижения, за нанесённые оскорбления. Не успеет вся полнота власти вернуться, уж он не остановится ни перед чем, и вряд ли кто сомневался, что тогда вожди оппозиции заплатят своими головами за одного Страффорда.
По правде сказать, большинство депутатов были люди посредственные, ординарные. Творческих идей они не имели и не были способны к государственному строительству. Насколько нерешителен и слаб был король, настолько многие из них были трусливы. Возбуждённая толпа возле Вестминстера и Уайт-холла, вооружённая шпагами, ножами и палками, их испугала. Казнь Страффорда представлялась им неизбежной, необходимой всё то время, пока её добивались, и возмутила их души, когда она совершилась. Кое-кто стал роптать и молча отодвигаться от оппозиции в сторону короля. Кое-кто высказывал своё мнение вслух.
Оппозиция была готова рассыпаться и потерять свою силу в парламенте, которая заключалась в сплочённости, в единомыслии, в способности принять любое решение, которое могло понадобиться в борьбе с злоупотреблением и беззаконием короля. Её вожди тотчас поняли, что любые колебания необходимо в корне пресечь, и они пресекали всё, что грозило единству, с не меньшей бесцеремонностью и жестокостью, чем и Страффорд прежде пресекал их недовольство. Стоило одному из депутатов в частном разговоре сказать, что мечом правосудия было совершено душегубство, как его имя вычеркнули из списков нижней палаты, а его самого отправили, без суда и следствия, для протрезвления в Тауэр. Стоило графу Джорджу Бристолю Дигби издать на свои средства собственную речь, с которой он выступал против Акта о государственном преступлении, как решением нижней палаты она была сожжена рукой палача, точно так же, как прежде тот же палач публично сжигал памфлеты, написанные пером Джона Лилльберна. Чувствуя, что почва понемногу уходит у них из-под ног, что в дальнейшей борьбе они не смогут опереться на тех, кто заколебался и попятился назад, лидеры оппозиции всё определённей выражали сочувствие самым левым парламентариям, среди которых всё заметней становился Оливер Кромвель. Более умеренные депутаты им возражали:
— Ради чего сомнительными вопросами затруднять политическую реформу? В деле богослужения, в деле устройства церкви мнения явно разделены, тогда как против произвола абсолютизма единодушно выступает вся Англия. Вот единственный враг, которого следует преследовать без пощады!
На это вожди оппозиции не возражали, они только не знали, что делать дальше, какие именно политические реформы надлежит провести, чтобы произвол абсолютизма был искоренён навсегда. Они медлили. По всей видимости, один Кромвель знал, что надо делать. Он всегда был всей душой предан истинной вере. Во всём, что касалось её, Оливер не ведал сомнений и колебаний. Истина Божия всегда стояла у него впереди национальных интересов, впереди политических реформ, впереди государственных дел. Может быть, он был даже рад, что политические страсти после казни Страффорда на какое-то время угомонились. Наступило время истины Божией, было пора повести борьбу.
Кромвель и прежде не терял времени даром. У него появились единомышленники. Самыми преданными были Беринг, Артур Гезлриг и Генрих Вен. Пользуясь затишьем в работе парламента, они вчетвером ещё раз просматривали петиции, направленные в комитет по религии верующими Лондона, Мидлсекса и других графств. Верующих страшило возвращение папизма. Они указывали на потворство папизму со стороны архиепископов и епископов, нападали на ленивых, невежественных и нравственно далеко не безупречных прелатов, которые сами не верят в предопределение Божие и не позволяют излагать эту непреложную истину независимым проповедникам. Кромвель с друзьями то и дело находили в этих бумагах искренние жалобы сельских хозяев и простых горожан:
«Власть епископов есть источник и главная причина многих бедствий, притеснений и оскорблений, которые наносятся совести, вольностям и имуществу подданных...»
«В университетах процветают взятки. Почти всюду среди народа господствует громадное и прискорбное невежество. Во многих местах не ведутся проповеди из-за отсутствия проповедников...»
«Учреждено множество патентов и монополий, которые создают почву для злоупотреблений. Чрезмерно увеличились налоги и пошлины на предметы первой необходимости и корабельные деньги, под этим бременем стонет народ...»
«Наша церковь не только сохранила, но и увеличила большое сходство и подобие с церковью римской: в одеяниях, во внешнем оформлении, в обрядах и порядке управления... »
«Прелаты с помощью специальных лиц, которые находятся в их распоряжении, арестовывают и задерживают людей всякого звания. Они штрафуют и сажают в тюрьму, врываются в их дома и в помещения для занятий, уносят их письма и книги, захватывают имущество, устраняют от должностей, против их воли разъединяют мужей и жён. Даже судьи страны запуганы властью и могуществом церкви, и людям негде искать от неё защиты...»
Не могло оставаться сомнений в том, что «членов антихристова клана» необходимо изгнать и таким решительным способом превратить церковь епископальную, королевскую в истинную и народную. Оливер Кромвель смело возглавил это движение. Именно он подготовил знаменитый законопроект «О корнях и ветвях». Как всегда и во всём, в борьбе за него он готов был идти до конца, однако по каким-то причинам по-прежнему оставался в тени. В конце мая законопроект на обсуждение нижней палаты был вынесен Берингом, а защищал его Генрих Вен:
— Епископат состоит в родстве с папством. В качестве членов верхней палаты епископы больше всех остальных способствовали ухудшению несчастного положения нашего гражданского строя. Пока епископы остаются в стране, в ней не может установиться прочного гражданского мира.
В сущности, его доводы, которые были и доводами самого Кромвеля, не вызывали никаких возражений. Все знали о возмутительной тирании, обрушенной епископами не только на души, но и на имущество верующих. Все знали о незаконных поборах в пользу церковных властей и о бесчинствах церковных судов. Все считали, что епископов надо каким-то образом укоротить. В верхней палате уже перестали считаться с епископами, которые заседали в ней на положении лордов и прежде занимали в ней первое место. Их имена не упоминались отдельно от всех в начале любого закона, который рассматривался палатой, отныне служитель, читавший постановления, к скамье епископов становился спиной, в публичных церемониях главенствовали светские лорды.
Правда, всё это была только внешне. Положение епископов нисколько не было поколеблено, и большинство лордов и представителей нации не решалось на него посягнуть. Епископы стояли горой за государя, без короля они не могли существовать точно так же, как король не мог существовать без епископов, а парламент был монархическим весь целиком, до последнего депутата, ни один из них и помыслить не мог, что страна может остаться без главы, даже Кромвель, подготовивший законопроект «О корнях и ветвях».
Этого было мало, чтобы окончательно усложнить и запутать насущный вопрос о епископах. На их плечах держалась не только королевская власть, но и собственность, а собственность несравненно серьёзней не только монарха, но и парламента. Сами епископы были крупнейшими собственниками и освящали крупную земельную собственность лордов. В Англии ещё помнили, как с разрушением монастырей беззаконием и насилием шёл раздел монастырских земель. Кто же мог поручиться, что с низвержением епископов не начнётся новый раздел, от которого пострадают не только епископы, но и лорды? За это не мог поручиться никто, так же как и то, что возвращение епископальной церкви к папизму не кончится возвращением монастырских земель.
Опасения крупных землевладельцев ясно и чётко высказал Эдмунд Уоллер, депутат от Корнуолла, причём этот образованный человек почёл нужным углубиться в историю, не только английскую, но и римскую, и потревожил печальные тени Гая и Тиберия Гракхов. Речь получилась пространной, однако её смысл уместился в немногих словах:
— Наши законы и современное устройство церкви перемешаны, как вино и вода. Я смотрю на епископов, как на внешнее укрепление, защитный вал, и я говорю себе, что если им овладеет народ, тогда мы должны будем взять на себя тяжкий труд защиты нашей собственности, подобно тому, как мы только что отстаивали её от притязаний короля. Если с помощью всего лишь поднятия рук и представления в парламент петиций ему удастся добиться равенства в церковных делах, его следующим требованием будет аграрный закон, точно так же как и равенство в светских делах. Милорды, моё мнение таково: необходимо реформировать епископат, но его нельзя отменять!
Угрозы Уоллера не были пустыми словами. Он делился с представителями нации не плодами досужих размышлений в тиши своего кабинета, согреваемый теплом из камина. Многим казалось, что устами этого мало кому известного депутата глаголет сама бунтующая действительность. Там, за стенами Вестминстера, на лондонских площадях, простые ткачи, свечники, торговцы солью, сапожники, плотники открыто проповедовали равенство в церковных делах, а придя в церковь Христа, грубо вмешивались в ход церковной службы прямо во время богослужений. Там, ещё дальше, в маленьких городках и глухих деревнях, горожане, арендаторы и свободные фермеры отбивали общинные земли у захвативших их осушителей и возвращались на земли, отнятые у них путём огораживаний, и палата лордов уже обсуждала специальное постановление, направленное против тех, кто нарушал права на земельную собственность.
Естественно, законопроект «О корнях и ветвях», подготовленный Кромвелем, вызвал раскол. Палата лордов выступила против него почти в полном составе, и немудрено: почти треть её составляли епископы. Немало крупных собственников оказалось и среди депутатов. Хайд, Фокленд и Селден, не поддержавшие Акт о государственном преступлении, теперь окончательно отклонились от Пима и Гемпдена и принялись создавать свою, более умеренную, хотя и либеральную оппозицию. Пим и Гемпден, не желая ослабить свой лагерь, не решились окончательно рассориться с ними, тем более им не хотелось ссориться с лордами, которыми утверждались законы. Законопроект «О корнях и ветвях» вызвал жаркие прения, но так и не был принят нижней палатой.
Отвергая преобразования, из опасения, как бы новшества не привели к народному взрыву и переделу имуществ, парламент продолжал наводить должный порядок и шаг за шагом возвращал короля к старинным обычаям, на которых держался английский парламентаризм и которые вот уже двадцать семь лет попирались Яковом и Карлом Стюартами. В июне была распущена армия, которая так и простояла всё это время в бездействии в Йорке. Чтобы успокоить её, был принят акт, который гарантировал скорейшую выплату жалованья. Тем не менее солдаты и офицеры отказывались разойтись по домам, имея все основания не верить этой бумаге. Парламент обратился к сознательным гражданам. Сознательные граждане сдавали на нужды армии серебряную посуду, её переплавляли и чеканили новые деньги. В Сити были сделаны новые займы. Денег всё-таки не хватило. Пришлось сделать то, что обыкновенно делал король: недостаток покрыли сбором новых налогов.
Армия медленно, но всё-таки расходилась. Мало того, что монарха оставили без военной поддержки, от него потребовали наказать офицеров, которые плели заговоры против парламента в смутные майские дни, когда велась борьба вокруг Акта о государственном преступлении, и Карл вынужден был уступить, уступил и тогда, когда парламент в конце июня потребовал от него удалить тех дурных советников, которые ещё продолжали его окружать. По требованию парламента он удалил папистов, свивших себе гнездо при дворе. Отныне на руководящие офицерские должности монарх мог назначать только тех, кто получил поддержку обеих палат. Королева собралась погостить к брату во Францию. Представители нации заподозрили её в том, что она едет просить у него военной помощи против парламента, и запретили поездку. Король вынужден был согласиться, и государыня не покинула Англию. Сам Карл просил несколько раз разрешить ему поездку в Шотландию, и ему несколько раз отказывали.
В июне парламент пошёл на отмену таможенных пошлин. В июле были упразднены Звёздная палата и Высокая комиссия, эти чрезвычайные суды, наводившие ужас на англичан. В августе были отменены рыцарские штрафы, лесные налоги, преимущественные права королевских закупок по заниженным ценам и корабельные деньги. С этого дня парламент мог контролировать все государственные финансы, в том числе расходы на содержание самого короля.
Только после столь решительного освобождения от ненавистных злоупотреблений и беззаконий, уже в сентябре, сторонникам Кромвеля удалось провести в нижней палате постановление, которым предполагалось очистить англиканскую церковь от ещё более ненавистных родимых пятен папизма. Этим постановлением церковные власти обязывались во всех церквях Англии отодвинуть алтари от восточной стены и безжалостно истребить следы проклятого идолопоклонства, то есть уничтожить все украшения, в том числе изображения Святой Троицы и Богоматери. По всем епископальным церквям прокатились погромы. Стены их оголились, цветные витражи были разбиты, статуи выбросили и пережгли на извёстку, иконы кромсали и разламывали на части. Этим неистовством пуритане приближали английскую церковь к истинной вере. Религиозная вражда, более опасная и неистовая, чем вражда политическая, расползалась по стране, уже и без того взбудораженной.
Кромвель ещё успел поставить жгучий, болезненный вопрос о молитвеннике, составленный и навязанный верующим властным, фанатически настроенным архиепископом Лодом. Этот молитвенник уже с возмущением отвергли шотландские пуритане. Английские относились к нему с некоторой долей терпимости, но только не Кромвель. Он потребовал, чтобы депутаты особенным актом запретили его на всей территории Англии. Под руководством архиепископа Лода англиканские епископы превратили этот молитвенник в духовное оружие в борьбе с пуританами. Естественно, они стали его защищать. В общей сложности эти люди имели в парламенте двадцать шесть голосов, настойчивость и запальчивость Кромвеля только прибавляли им новых сторонников. Вопрос о молитвеннике был снят с обсуждения. Кромвель уже готовил новое наступление на епископов, однако не успел ничего предпринять.
Парламент уже, видимо, раскалывался на сторонников и противников короля. Хайд и Фокленд окончательно перешли в стан непримиримых врагов оппозиции. Если по внешности единство всё ещё сохранялось, то лишь потому, что все стали уставать.
Год был чересчур напряжённым. Внезапно депутаты разрешили королю поездку в Шотландию, скорее всего для того, чтобы тот удалился из Лондона, и десятого августа тот отправился, как гласила официальная версия, знакомиться с положением в северных графствах. Следом за ним в Эдинбург отправился Гемпден, назначенный эмиссаром, который должен был наблюдать за поведением и связями высочайшей особы. Главнокомандующим южнее Трента был оставлен граф Эссекс, однако король не счёл нужным уточнять его полномочия. Исполнительная власть фактически перешла к парламенту, зато с отъездом короля он лишился законодательной власти, ведь ни один закон, принятый представителями нации и одобренный лордами, не мог вступить в силу без его утверждения.
Отсутствие государя точно отняло у депутатов энергию. Его не стало, и заседания обеих палат становились бессодержательнее, бессмысленнее день ото дня. Наконец всем стало ясно, что время уходит впустую. Многие вспомнили, что дома остались дела, что уже год они не видели своих жён и детей. Представителям нации хотелось отдохнуть. В лучшем случае они, более для отвода глаз, считали необходимым отправиться в графства, чтобы выслушать жалобы и мнения своих избирателей. Решение было принято без проволочек: десятого сентября парламент ушёл на каникулы.
Однако Лондон нельзя было оставлять без надзора. Депутаты образовали особый комитет из семи лордов и сорока восьми рядовых парламентариев, что-то вроде Временного правительства. Его председателем был назначен Джон Пим.
3
Парламент недаром подозревал, что Карл отправился в путешествие по северным графствам и по Шотландии с какой-то каверзной целью, и отправил последить за ним Джона Гемпдена и ещё несколько своих эмиссаров. Пока представители нации наслаждались домашним покоем и выведывали настроение своих избирателей, король трудился не покладая рук, впрочем, в строжайшей тайне от всех. По видимости, прибыл мириться с шотландцами, своими вздорными подданными. С первых же дней он раздавал им милости одну за другой, пока они не получили даром всё то, за что поднялись на войну. Он распространил на Шотландию с таким трудом принятый Акт о трёхгодичном созыве парламента, чего прежде безуспешно требовали повстанцы, отказался от древнейших привилегий шотландского короля и разрешил шотландскому парламенту участвовать в формировании Тайного совета, который веками формировался одним государем; с должной скромностью являлся на пуританские богослужения, приходил на молебствия, которые по своему усмотрению устраивали общины верующих, искусно делая вид, будто напрочь забыл, что сам же с неумолимой жестокостью эти собрания запрещал, терпеливо выслушивал длинные проповеди. Предводители восстания получили его полное и окончательное прощение. Больше того, он раздавал им титулы, должности, обещания и награды.
По всему было видно, что Карл старается изо всех сил переманить Шотландию на свою сторону, чтобы использовать её в борьбе с английским парламентом. Главной же тем не менее была тайная жажда во что бы то ни стало отомстить за смерть Страффорда вождям оппозиции. Он ещё раньше догадывался, что те не только сочувствовали шотландским повстанцам, но и вступили с ними в предательский сговор, поддержав их военное нападение на Английское королевство. Он предполагал, что на этот счёт в Шотландии имеются какие-то документы, скорее всего тайная переписка с предводителями восстания. В его глазах эти документы были бесценны. Предъяви он их в английском суде, обвини лидеров оппозиции, в первую очередь Пима и Гемпдена, в государственной измене, как они обвинили Страффорда, ничего не надо было бы доказывать, такие документы были бы сами по себе доказательством, неопровержимым и смертоносным.
Расточая милости и ласково улыбаясь, Карл на самом деле под маской смирения охотился за столь важными документами, надеясь заплатить врагам смертью за смерть. В этом деле ему помогал шотландский маркиз Джеймс Грэхем Монтроз, храбрый воин, богатый аристократ, предводитель не тронутых английской цивилизацией, чрезвычайно воинственных горных северных кланов. Некоторое время этот маркиз склонялся к тому, чтобы поддержать шотландских повстанцев, и пользовался полным доверием их предводителей, но вскоре перешёл на сторону короля и превратился в ярого роялиста.
Монтроз слишком старался завоевать доверие монарха и в своём рвении был не всегда осторожен: писал письма, звал в Шотландию и обещал выложить о предводителях восстания всю подноготную. Письма были шифрованные, однако это обстоятельство не спасло молодого маркиза. Его противники внимательно следили за ним. Одно из посланий попало к ним в руки. Ничего особенно опасного для себя они в нём не нашли, но на всякий случай арестовали Монтроза и заключили в тюрьму. Король явился в Шотландию как раз в тот момент, когда эти нити были оборваны, доступ к секретным документам для него был закрыт.
Однако, как видно, военные победы не пошли шотландцам на пользу. Теперь в самой Шотландии разгоралась внутренняя вражда. Сторонники Монтроза вступились за своего предводителя. Ему был устроен побег. Однажды ночью он внезапно явился в комнату короля и открыл известные ему тайны повстанцев. Монтроз обвинил маркиза Арчибальда Кемпбела Аргайла и герцога Джеймса Гамильтона в том, что они потакали словом и делом, посоветовал королю немедленно арестовать их, чтобы взять их бумаги, в которых наверняка хранится непозволительная переписка с вождями парламентской оппозиции, а если они станут противиться, попросту их умертвить. Из столь решительных предложений государю надлежало понять, что вражда в Шотландии заваривалась нешуточная.
Королю предлагалась явная авантюра, ведь у него в Шотландии не было надёжных людей. Он не должен был соглашаться, хотя бы из соображений собственной безопасности, но согласился. Подготовка к внезапному аресту Аргайла и Гамильтона тянулась трудно и медленно. К тому же венценосец был у всех на виду. Его секреты оказались слишком прозрачными. Кто-то предупредил Аргайла и Гамильтона. Внезапно они вышли из парламента вместе со своими сторонниками и укрылись в замке Киннель, который принадлежал брату Гамильтона герцогу Ланарку, объявив, что они спасаются от ареста и насильственной смерти.
Шотландские лорды поступили разумно. Поднялся шум. Ведь не могли же уважаемые люди бежать ни с того ни с сего, не могли же они без всякой причины прятаться в горной крепости? Значит, им угрожала опасность. Но какая? Ни у кого не находилось сколько-нибудь разумных ответов. Загадочность происшествия только подливала масла в огонь. Любопытство росло. Король ещё одним необдуманным поступком ещё больше накалил обстановку. Он жаловался, считал себя оскорблённым, хотя добровольные затворники вовсе не обвиняли его, и вдруг потребовал, чтобы Гамильтон был исключён из парламента, пока с его чести не будет снято это пятно.
Никого исключать не стали. Благоразумие и тут взяло верх. Была назначена следственная комиссия. Она проработала очень недолго и, судя по всему, спустя рукава, лишь бы как-нибудь погасить конфликт. Вскоре комиссия донесла, что чести короля не нанесено никакого ущерба и что сбежавшим лордам ничто не угрожает. Беглецы вернулись. Карл свернул свою подпольную деятельность, так и не получив никаких документов против ненавистных вождей оппозиции, а чтобы окончательно замять это тёмное дело, явил беглецам свою милость: Гамильтон получил титул герцога, Аргайл стал маркизом, а Ланарк, имея от роду двадцать пять лет, получил право именоваться графом Левенским.
Казалось, неловкие происки монарха закончились пшиком и никому не причинили вреда. Однако обстановка в Англии была уже до того накалена, что и самая ничтожная глупость с любой стороны могла иметь трагические последствия. Так и случилось.
Каникулы пролетели. Парламент возобновил заседания двадцатого октября. Не успели представители нации заняться делами, как из Эдинбурга поступило донесение Гемпдена, которому стали известны истинные причины загадочных происшествий в Шотландии. Почти тотчас обнаружилось, что королева ведёт тайную переписку с католическими монархами на континенте и просит у них военной помощи для упрочения пошатнувшейся власти супруга. В нижней палате случился переполох. Шутка сказать: заговор короля! заговор королевы! Пока они отдыхали, наслаждались домашним уютом, супружеская чета готовила им темницы и топор палача! Вне себя были, конечно, лидеры. Волнения охватили также умеренно настроенных депутатов, которые испугались, как бы террор не обрушился и на них, испугались на всякий случай, поскольку умеренные потому и умеренные, что несколько трусоваты. В волнение пришли даже те, кто уже начал склоняться на сторону короля: с таким несерьёзным, склонным к смешным авантюрам правителем можно было всего ожидать. Когда в одном из переходов Вестминстера Эссекс и Голланд, явные роялисты, взволнованно обсуждали это нелепое происшествие, подошедший к ним Хайд попробовал высмеять их, напомнив, что год назад они именовали негодяями и Аргайла, и Гамильтона, предводителей шотландских повстанцев, Эссекс задумчиво заметил в ответ: «Уж очень всё изменилось с тех пор, и король и народ».
В тот же вечер руководители обеих палат собрались на совещание в Кенсингтоне и Голланда. Все были встревожены. Никто не знал, что следует предпринять. Лорд Ньюпорт решился напомнить:
— Если король вступает против нас в заговоры, то ведь его жена и дети в наших руках.
Это соображение мало кого успокоило. Представители нации потребовали у графа Эссекса, назначенного главнокомандующим в отсутствие короля, чтобы он дал парламенту стражу, и стража была дана. Понятно, что депутаты не ограничились обороной. Они немедленно перешли в наступление. Сторонники Кромвеля обвинили англиканское духовенство в том, что во время богослужений исполнялись каноны, принятые общим собранием архиепископов и епископов в прошлом году. Джон Пим внёс одновременно два законопроекта, которыми англиканскому духовенству запрещалось заседать не только в палате лордов, что ему полагалось по конституции, но также и в нижней палате. Кромвель его поддержал. В своей жаркой, но отрывочной речи он упирал в особенности на то, что епископам нельзя позволять своими двадцатью шестью голосами тормозить любые законы, принятые большинством обеих палат. Как только это решение стало известно, король тотчас демонстративно заместил пять свободных епископских кафедр именно теми прелатами, которые приняли осуждённые нижней палатой каноны. Кромвель с жаром напал на него, обвиняя в желании вернуть епископам прежнее положение и прежнее место в парламенте. Король вновь заупрямился. Он необдуманно горячился в письме к своему государственному секретарю:
«Повелеваю вам уверить моих подданных, что я остаюсь верен учению англиканской церкви в том его виде, как оно было установлено королевой Елизаветой и моим отцом, и что я, по милости Божией, решился умереть за него».
Не следовало бы ему отдавать таких повелений, время было не то. Для представителей нации это прозвучало новой угрозой их безопасности, может быть, жизни. Казалось, они уже были готовы, назло королю, обвинить всех епископов в государственном преступлении, когда грянул гром. Самое страшное было в том, что это произошло внезапно и вовсе не с той стороны, с какой ожидалось.
Первого ноября распространилось известие: восстала Ирландия! Подробности были чудовищны. Ирландия требовала свободы отечества и свободы религии, причём именем короля и королевы, от которых они будто бы имели тайные поручения освободить Ирландию, а затем и Англию от засилия пуритан. Заговор зрел в течение нескольких месяцев, однако ни король, ни парламент, увлечённые взаимной враждой, не следили за ним. В Дублине его успели раскрыть только накануне восстания и благодаря этому смогли спасти от разгрома резиденцию английских властей. Все английские поселенцы, все ирландские протестанты были застигнуты врасплох. Началась резня, бесчеловечность которой сравнима лишь с безумствами Варфоломеевской ночи или Сицилийской вечери. Всюду ирландских протестантов и англичан, независимо от пола и возраста, выбрасывали из жилищ, изгоняли из владений, истязали и унижали, изобретали самые изощрённые пытки, какие только может придумать религиозная и национальная ненависть, и убивали, убивали, убивали, в гневе, без жалости, без тени раскаяния, точно резали скот. Напротив, ожесточившиеся ирландцы жаждали в один день отомстить за вековые страдания и обиды, причинённые, тоже без жалости и тени раскаяния, англичанами, и с радостью, с гордостью, точно это был подвиг, преследовали врага. Графства, захваченные повстанцами, украсились виселицами. Неубранные тела повешенных раскачивал ветер. Изувеченные трупы плыли по течению рек, валялись по улицам селений и городов, по обочинам проезжих дорог. Горели дома. Полураздетые, голодные беженцы погибали на подступах к Дублину, где ещё сохранялась английская власть, не способная их защитить. Католические патеры провозглашали анафему английским еретикам и в торжественных молебнах благословляли убийства. Успевшие спастись англичане, прибежавшие в Лондон, со страхом рассказывали о таких неистовствах злобы, которые приводили лондонцев в ужас. Говорили о десятках, о сотнях тысяч убитых, в одном только Ольстере это число доходило до двадцати пяти тысяч, а по всей Ирландии жертвами насилия считали сорок, пятьдесят, до двухсот тысяч ирландских протестантов и английских захватчиков. Возмущение было всеобщим. О причинах жестокости не задумывался никто. В таких случаях англичанину и в голову не может прийти, что он сам кругом виноват.
Между тем корни ирландского возмущения глубоко уходили в историю, в двенадцатый век. Ещё при короле Генрихе II англичане впервые с оружием в руках вступили на землю Ирландии. Они нашли здесь иную цивилизацию, решительно не похожую на английскую. В Ирландии обитал народ пастушеский и земледельческий, экономически слабый, однако своеобычный и гордый, независимый, мирный, несмотря на свою бедность, не склонный грабить соседей. На этом основании англичане нашли, что ирландцы варвары, дикари, и уже тогда отхватили у них изрядный кусок их исконных земель. Захваченные земли они считали своими, ирландцев изгнали, а их владения поделили между собой. Если же кто-нибудь из ирландцев переходил на английскую службу, он должен был своё наследственное владение передать английскому королю, чтобы затем получить его от английского короля в виде пожалования.
Так и шло. Англичане понемногу продвигались вперёд. При первых Тюдорах они установили своё господство над Пелем. При Генрихе VIII они решили, что парламент в Дублине может созываться только с соизволения английского короля и обсуждать только те законы, которые им разрешат обсуждать. Ему показалось этого мало. Он провозгласил себя ирландским королём и ввёл в Ирландии пост вице-короля, который был, разумеется, англичанином. Английская реформация распространилась и на Ирландию. Ирландские монастыри разрушались так же, как и английские, монастырские земли переходили во владение англичан. Нечего удивляться, что большинство ирландцев остались католиками, и вражда национальная соединилась с религиозной враждой. На этом достаточно простом, но веском для англичанина основании при королеве Елизавете у ирландских католиков отбирали их земли и передавали английским поселенцам, которые были, естественно, протестантами. Ирландцы время от времени восставали. Самым крупным, самым упорным было восстание в Ольстере. Повстанцы разгромили армию Эссекса, любимца Елизаветы. Елизавета направила в Ирландию новую армию во главе с Маунджоем. Маунджой поработал на славу. После окончания карательной экспедиции он с гордостью доносил своей королеве: «В этой стране вашему величеству больше не над чем повелевать, как только над трупами и грудами пепла». Пожиная плоды этой кровавой победы, король Яков Стюарт конфисковал в Ольстере земельные владения шести графств. Страффорд успокоил Ирландию новой жестокостью. Ирландцы его боялись и ненавидели. Когда он был казнён, Ирландия осталась без вице-короля. Парламент, занятый борьбой с королём, передал власть над Ирландией двум судьям, ничтожным и слабым, зато протестантам. Кулак разжался, власть развалилась, и новое восстание вспыхнуло само собой.
Парламент был в панике. Ни лорды, ни представители нации не считали нужным, да и не были в состоянии раскапывать глубокие корни. Все обвиняли короля, королеву. Она папистка! Её окружают паписты! Это они устроили заговор, это по их почину поднялся ирландский мятеж, чтобы сначала перебить английских протестантов в Ирландии, сформировать там сильную армию и пройти по Англии огнём и мечом, чтобы разогнать парламент, истребить протестантизм и возвратиться к папизму. Король не участвовал в заговоре, но он и тут сумел навлечь на себя подозрения. Он не только не делал ничего, чтобы прекратить резню и залить восстание кровью, на что у него просто-напросто не было сил, а действительно ждал, что теперь парламентарии станут потише. Желая поставить их на колени, монарх с лицемерной любезностью поручил парламенту разобраться с мятежной провинцией, зная прекрасно, что и у этого органа не было для этого сил. В одном из писем он имел неосторожность писать:
«Я надеюсь, что дурные вести из Ирландии помешают совершению некоторых безумств в Англии».
В сущности, парламент только тем и занимался в течение года, что обессиливал короля, не подумав о том, что вместе с монархом обессиливает себя и страну. Армия была распущена, офицеры озлоблены. Казна пустовала. Поневоле оставалось кричать от ужаса и в панике проклинать ненавистный папизм.
Кажется, первым пришёл в себя Оливер Кромвель, скотовод из Сент-Айвса, человек невоенный. Отправляясь в Шотландию, король назначил графа Эссекса главнокомандующим в южных графствах. Шестого ноября Кромвель потребовал, чтобы под командование графа Эссекса были переданы все вооружённые силы, которыми располагает парламент, он уже понимал, что отныне и победа над мятежом, и положение в Англии, и продвижение реформ зависит от того, в чьих руках окажется меч, на чьей стороне будет военная сила. Предложение это прошло, но оно представлялось бессмысленным, поскольку графу Эссексу некем было командовать: парламенту подчинялось не больше полка, собранного из осколков королевской армии и охраны. Это открытие усилило панику среди представителей нации. Кромвеля оно не смутило. Он потребовал, чтобы палата лордов распорядилась создать экспедиционный корпус и отправила его против мятежников. Лорды, владевшие в Ирландии обширными землями, с готовностью согласились. Оставалось найти деньги, чтобы этот экспедиционный корпус снарядить и нанять. Грозящая опасность пробудила в мирном скотоводе неожиданные, прежде дремавшие, невидимые таланты. Совместно с Генрихом Веном он разработал законопроект, по которому после победы экспедиционного корпуса в Ирландии будет конфисковано два с половиной миллиона акров земли, но уже теперь эта земля должны быть отдана под залог каждому, кто внесёт деньги в казну, по одному фунту стерлингов за два акра ещё не отвоёванной, но желанной земли. По обстоятельствам минуты законопроект был замечателен. Он заранее оправдывал ограбление покорённой Ирландии, наполнял пустую казну живыми деньгами и вместо идей давал английским солдатам несокрушимый стимул пороха не жалеть и пленных не брать.
Сам он по-прежнему оставался в тени. Оба, Кромвель и Вен, поручили, для авторитета и верности, представить законопроект Эдуарду Дерингу. Законопроект был принят подавляющим большинством голосов. Со всех сторон рекой потекли фунты стерлингов. Под будущую ирландскую землю давали деньги торговцы и финансисты из Сити, богатые лорды, богатые представители нации, сельские хозяева и горожане из графств. И Оливер Кромвель внёс свой годовой доход, пятьсот фунтов стерлингов, рассчитывая получить за них тысячу акров ирландской земли.
Законопроект безоговорочно поддержали и Джон Гемпден, и Джон Пим. Его защите вождь оппозиции посвятил пространную речь. Но, странное дело, указав на страшную опасность ирландского мятежа, разоблачив коварство и жестокость мятежников, он большую часть речи посвятил королю и мнившимся ему заговорщикам при дворе. Главную опасность для гражданских свобод видел он не в ирландских мятежниках. Монарх и его окружение представлялись ему намного опасней. Он говорил:
— Это наибольшее зло — внешнюю опасность можно предусмотреть, можно предупредить, но болезни, которые гнездятся внутри организма, лечить труднее всего. Советы дурных советников разрушают всё государственное устройство. Вы это видите на примере Ирландии.
Против английского короля и мятежной Ирландии ему грезился военный союз всей протестантской Европы:
— В Испании, в Риме сговорились сообща погубить нас. Однако, если у нас будут хорошие королевские советники, мы сумеем подготовить мир и союз и заслужить уважение Голландии.
В первые дни после осенних каникул был создан парламентский комитет, которому было поручено составить Великую ремонстрацию. Комитет заседал очень вяло, составление документа не двигалось. Теперь, под давлением Пима, комитету было поручено закончить Великую ремонстрацию в несколько дней: народ должен знать, кто виновен в его бедах и разорении, что гнев парламента направлен против дурных советников короля и папистов, наконец, народ должен знать, чего хочет парламент, и активно поддержать своих заступников и представителей, избранных им.
В самом деле, Великая ремонстрация была готова спустя несколько дней. В ней было двести четыре статьи. Это была мрачная картина злоупотреблений и беззаконий, разоривших страну, это было повествование о заслугах парламента, о тех препятствиях, которые он уже одолел, о тех опасностях, которые угрожали ему впереди. Великая ремонстрация требовала ответственности королевских советников перед парламентом, свободы предпринимательства, свободы торговли, неприкосновенности собственности, единообразия вероисповедания, причём Кромвель принял активное участие в составлении этого важного документа, он был автором статьи 32:
«Большое количество общинных земель и отдельных участков было отобрано у подданных без их согласия и вопреки им».
Заседание не откладывали. Прочитали, громко и вслух, все двести четыре статьи. Несколько часов было потрачено только на это слишком беглое знакомство с их содержанием. Едва ли не одни составители имели возможность вникнуть в смысл и значение каждой статьи. Большинство депутатов нации улавливало всего лишь общий смысл документа, который осуждал прошлое и должен был определить будущее страны. Этого оказалось довольно. Возмутились чуть ли не все.
В нижней палате сидели сторонники и противники короля Карла, однако не было ни одного представителя нации, который выступал бы против самого принципа монархической власти. В этом смысле все они считали себя роялистами. Вот почему многие были возмущены чрезмерными нападками на государя, которые составляли большую часть ремонстрации. Со всех сторон понеслись недовольные крики, посыпались вопросы недоумения и осуждения. С какой стати нынче напоминать нации и королю о неудачах под Ла-Рошелью, о позорно провалившемся нападении на Кадис? Чего ради, вновь негодовать на роспуск парламентов, на произвольные аресты и штрафы, на корабельные деньги? Ведь всё это в прошлом, ведь парламент уже осудил и исправил злоупотребления и беззакония прошлого и король согласился с ним! Одних оскорбляли слишком сильные выражения, другие протестовали против грубого обращения к королю, третьих настораживали те неясные намёки на будущие действия представителей нации, о чём прямо не говорилось, но что слышалось тем, кто считал перемены законченными и теперь желал мира с лордами, с церковью и с монархом. Что за опасности ожидают страну? Какого добра можно ждать от этого документа, если он предназначается королю? Если же с ремонстрацией парламент намерен обратиться к народу, то ведь конституция не даёт ему этого права. На все эти вопросы вожди оппозиции не давали прямых и ясных ответов, то ли что-то скрывая, то ли сами не зная, что отвечать, и твердили только о том, что в виду чрезвычайной опасности ирландского мятежа хотят постращать короля, чтобы тот отказался от мысли использовать ирландских мятежников против парламента. Они заверяли, что не намерены обращаться к народу и что не станут публиковать ремонстрацию. Их заподозрили в неискренности, даже в обмане. Чем больше они говорили, тем сильней закипали страсти.
Двадцать первого ноября договорились до хрипоты. Все устали. Кое-кто из пожилых депутатов зашевелился, стал подниматься. Несколько голосов предложили закрыть заседание и разойтись по домам, утро, мол, вечера мудренее. Терпение Пима и Гемпдена, видимо, лопнуло. Они потребовали голосования. Открытые сторонники короля промолчали. Умеренные во главе с Фоклендом, Хайдом, Палмером и Колпеппером выразили протест и предложили перенести голосование на другой день. Большинство оказалось на их стороне. Обращаясь к Фокленду, возмущённый Кромвель воскликнул:
— Почему вы так желаете этой отсрочки?
Фокленд невозмутимо ответил:
— Потому что теперь уже поздно, а это дело не обойдётся без прений.
Искренне Кромвель вскричал:
— Полно вам, прения будут недолгими!
Но палата в самом деле слишком устала. Все разошлись. Двадцать второго ноября заседание началось только в три часа пополудни. Тотчас начались ожесточённые споры, и все втянулись в водоворот новых сомнений, возражений, соображений и оскорбительных криков. Все как будто почувствовали, что в жизни парламента наступает новая эра. В продолжение целого года напряжённой работы представители нации были, в общем, едины. Они единодушно осуждали злоупотребления и беззакония дурных советников и самого короля. Они единодушно принимали законы, которые, как им представлялось, устранили злоупотребления и беззакония монарха, и предоставили парламенту право назначать королевских советников, то есть министров, по своему усмотрению.
Теперь в первый раз они встали лицом к лицу и ринулись в междоусобную борьбу. Только теперь обнаружилось, что одинаково парламентарии смотрели только на прошлое, тогда как будущее им представлялось по-разному. Они уже опасались друг друга, больше гневались, чем спорили, сжимались кулаки, сыпалась брань, ладонь самых ожесточённых не раз опускалась на рукоять шпаги. Казалось, один Оливер Кромвель застыл и не вступал в эти прения, в его душе в этот день решалась не только судьба ремонстрации, но и собственная судьба.
Уж ночь опускалась на Лондон. Самых уставших смаривал сон. Старички и кое-кто из самых равнодушных потихоньку ушли. Никлас, представитель короля, государственный секретарь, тоже исчез, когда Бенжамин Редьярд кричал потерянным голосом:
— Это будет приговор голодных присяжных!
В самом деле, пора было остановиться, решили голосовать. Сто пятьдесят девять голосов было подано за, сто сорок восемь представителей нации оказались против. Прошло большинством всего в одиннадцать голосов. Но всё же прошло. Больше не было смысла браниться. Близилось утро. Пора было спать. И тут со своего места поднялся Джон Гемпден и потребовал напечатать Великую ремонстрацию. Это было прямым нарушением конституции, так как этот документ ещё не стал законом. Прежде он должен был получить одобрение лордов, затем его надлежало передать на утверждение королю, только тогда эта бумага могла получить или не получить законную силу. Представители нации точно заново родились на свет. Усталости как не бывало. Руки сами собой потянулись к шпагам. Они стояли за конституцию! Это уж слишком! Рассудительный Фокленд, возглавлявший умеренных депутатов, возразил:
— Вы что же, хотите возмутить народ и освободиться от содействия лордов?
Хайд его поддержал:
— Не в обычае нижней палаты таким образом обнародовать свои акты. По моему мнению, это решение незаконно и будет губительно. Если оно будет принято, я требую, чтобы мой протест был занесён в протокол.
Палмер закричал:
— Протестую!
Со всех сторон понеслось:
— И я протестую! И я!
Оппозиция кричала, что такого рода протесты позволительны лордам, но не депутатам. Джон Пим попытался доказать их незаконность и указал на опасность раскола. Ему ответили бранью. Он продолжал. Его остановили угрозами. Триста человек были уже на ногах и готовы были ринуться в драку. В этот крайний, решающий миг Джон Гемпден предложил закрыть заседание и отложить окончательное решение до завтра. Триста человек облегчённо вздохнули и двинулись к выходу. Толпа стиснула, понесла и прибила Фокленда к Кромвелю, молчаливому и суровому. Фокленд с задором спросил:
— Что скажете, были ли прения?
Кромвель точно проснулся и негромко сказал:
— В другой раз буду вам верить.
И вдруг склонился к его уху и прерывисто зашептал:
— Если бы ремонстрация не прошла, я завтра же распродал бы всё имущество и больше никогда не увидел бы Англии! Я не шучу. Я знаю многих честных людей, которые сделали бы то же самое.
4
Оппозиция прибегла к насилию, торопясь застать своих новых противников, умеренных депутатов, врасплох. Не успели усталые представители нации разойтись по домам, как был арестован и помещён в Тауэр Палмер. Искали Хайда, но не нашли. Умеренные вернулись на заседание в страхе, что каждый из них может быть арестован. Фокленд потребовал объяснений. Они были даны, до того неубедительные и путаные, что им не поверил никто. Обстановка час от часу становилась всё напряжённей. Видимо, этого и добивались вожди оппозиции. Они вновь предложили обнародовать Великую ремонстрацию. На этот раз парламентарии, не вдаваясь в подробности, стали голосовать. Предложение получило большинство в двадцать три голоса. Палмер был выпущен на свободу. Преследование Хайда было прекращено. Умеренные затаились, однако насилия над собой ни забыть, ни простить не могли.
Двадцать пятого ноября в Лондон возвратился король. В Шотландии ему не удалось получить помощь против парламента, однако слух о том, какие уступки он сделал вчерашним шотландским повстанцам, быстро распространились по Англии. Они вселили надежду, что он возвращается, чтобы такие же уступки сделать парламенту в Лондоне. Всем хотелось, чтобы распря наконец прекратилась и был восстановлен мир. Начиная с Йорка в ожидании мира простые люди восторженно встречали своего монарха. В Лондоне толпа зажиточных граждан, в блестящем вооружении и верхом, с распущенными знамёнами мэрии и цехов, выехала навстречу ему и, радостно приветствуя, изъявляя любовь, проводила до Уайт-холла. Король со своей стороны повелел выкатить бочки вина для простых горожан. Пьяные люди до утра бродили по улицам с криками:
— Да здравствует король Карл! Да здравствует королева Мария!
Голова венценосца закружилась. От него ждали уступок и мира — он принял восторги и крики как благословение на борьбу и пошёл в наступление. На другой день отобрал у парламента стражу, которая была учреждена по решению оппозиции, демонстративно принял послов Испании и Франции и вёл с ними переговоры об ирландских делах. Оба, от имени своих католических величеств, предложили ему военную помощь против мятежников. Карл заверил, что в Ирландии происходят лишь мелкие стычки, которые скоро улягутся сами собой, поскольку мятежников не поддерживают порядочные люди, но прямо от военной помощи не отказался. Рассчитывая привязать к своей колеснице лондонский Сити, пожаловал звание рыцаря лорду-мэру и нескольким ольдерменам. В честь своего возвышения лорд-мэр устроил банкет в Гилд-холле, здании лондонской мэрии, и пригласил на него государя. Тот принял приглашение. Крупные торговцы и финансисты были польщены столь высоким вниманием. Король вообразил, что они на его стороне и повёл себя вызывающе. Одиннадцатого декабря депутация от нижней палаты представила ему Великую ремонстрацию. Он выслушал её с насмешливым выражением лица, точно дразнил тех, кто пытался его оскорбить, хотя попытка, в сущности, выглядела невинной. В самом деле, злоупотребления и беззакония, которые ему ставила в вину ремонстрация, давно были в прошлом. Нынче он был чист перед парламентом и народом. Правда, тон документа был вызывающим, но благоразумие требовало оставить это в стороне, принять ремонстрацию и благодаря этому шагу примириться с парламентом. К несчастью, королём владела гордыня, этот человек не думал о том, что играет собственной жизнью и судьбой страны. Он был убеждён, что он всегда прав, потому что он помазанник Божий, думал только о том, что ему представился случай оборвать зарвавшихся подданных, и Карл, не скрывая презрения, их оборвал:
— Неужели вы хотите её обнародовать?
Депутации следовало откровенно, без недомолвок поставить монарха в известность о том, что решение уже принято, но бес уже вселился и в представителей нации, и руководитель депутации высокомерно ответил:
— Мы не уполномочены отвечать на этот вопрос.
Король точно ждал этой глупости и парировал с ядовитой иронией:
— В таком случае, я надеюсь, и вы не станете ожидать от меня немедленного ответа. Я пришлю его вам так скоро, как только мне позволит важность этого дела.
Он был доволен своим остроумием и отпустил зарвавшихся подданных оплёванными. Те доложили о своём унижении нижней палате. Нижняя палата точно с цепи сорвалась. Законы, противные королю, посыпались один за другим.
Карл любыми средствами пытался спасти власть, желая править бесконтрольно, единодержавно, как и надлежит помазаннику Божию. Парламент стремился любыми средствами ослабить королевскую власть, желая обезопасить страну от злоупотреблений и беззаконий, к которым не может не склоняться единодержавие, а также из страха, что монарх, вернув себе абсолютную власть, тотчас разгонит парламент и расправится с неугодными депутатами.
Как только король отобрал у парламента стражу, депутаты стали являться на заседания не только со шпагами, которые полагалось носить каждому дворянину, но также с кинжалами и пистолетами под полой, а с ними приходили вооружённые слуги. Как только монарх сменил коменданта Тауэра и повелел направить пушки крепости на Вестминстер, представители нации обратились в лондонский Сити к торговым и финансовым воротилам, которые всего несколько дней назад так славно и от души приветствовали возвращение своего короля. Городской совет нашёл нужным разъяснить, распространив специальную декларацию, что в споре короля и парламента лондонский Сити ни в коей мере не намерен встать на сторону государя и выступить против парламента. Карлу пришлось вернуть в Тауэр прежнего коменданта и поставить пушки на прежнее место.
В этой ежедневной борьбе двух сил палата лордов всё откровенней переходила на сторону короля. Лорды саботировали законы, принятые нижней палатой. Их не отклоняли, но и не находили удобного времени их рассмотреть, и законы оставались лежать без движения, а епископы продолжали являться на заседания верхней палаты вопреки тому, что нижняя палата лишила их этого права. Парламентарии несколько раз напомнили лордам, что законы должны быть рассмотрены в установленные традицией сроки. Лорды отмалчивались или отговаривались пустяками. Тогда представители нации заявили, что, собственно говоря, только они располагают законно избранной законодательной властью, тогда как лорды являются всего лишь частными лицами, которые собираются на частные совещания, и если они не склонны защищать интересы народа, то народ может обойтись и без них.
И народ в самом деле смог без них обойтись. Вооружённые толпы вновь стали собираться у входа в Вестминстер. Епископов, которые шествовали на заседание, не хотели пропускать, больно толкали, мяли и рвали на них одеяние, чуть ли не били. Со всех сторон неслись возмущённые крики:
— Долой епископов! Долой лордов-папистов!
Дело дошло до того, что однажды их просто-напросто не пропустили в зал заседаний. На помощь подошло несколько офицеров с солдатами стражи. Народ возмутился. Обнажилось оружие. Правда, до кровопролития это первое столкновение не дошло. Всё ограничилось перебранкой. Толпа вопила, потешаясь над завитыми волосами и кружевными манжетами, которые закрывали офицерам глаза и стесняли движение рук:
— Кавалеры! Кавалеры!
Офицеры презрительно отвечали:
— Круглоголовые!
На этом противники разошлись, не причинив друг другу вреда, а клички прилипли и остались в истории.
Епископы, естественно, не могли мириться с таким положением. Но что они могли сделать? Закон об их изгнании из верхней палаты был принят, высшая церковная власть после ареста архиепископа Лода перестала существовать, король не был в состоянии их защитить. Тогда им пришла в голову не самая умная мысль издать прокламацию. Она имела бы смысл, если бы епископы спокойно и ясно разъяснили народу свои права, намерения и отношение к интересам народа. Но нет, в этой бумаге епископы объявили, что все постановления палаты лордов, принятые в их отсутствие, не могут считаться законными. Епископов, как возмутителей спокойствия, арестовали и отправили в Тауэр. Самые горячие предложили обвинить их в государственном преступлении, поскольку они отказались подчиниться постановлению нижней палаты, и расправиться с ними, как расправились с Страффордом. Однако более разумные объяснили, что казнь епископов ничего не изменит, поскольку король тотчас заместит свободные кафедры своими сторонниками. Теперь же, пока они живы, палата лордов лишается шестнадцати голосов, ведь Тауэр не предоставляет возможности голосовать.
В Уайт-холл понемногу стекались сторонники короля. Большей частью это были дворяне старинного склада. Они не занимались хозяйством и жили в своих замках без трудов и забот, веселясь и охотясь; подобно своим дедам и прадедам, считали за честь служить своему королю, но никогда не занимались политикой; шли в стан государя главным образом потому, что презирали этих мещан, пивоваров и скотоводов. В особенности эти люди презирали пуританскую веру, запрещавшую праздники, игры, вино и предписывающие носить простые костюмы и причёски. Как и представители нации, они были вооружены, и время от времени обнажали клинки в знак того, что в любой момент готовы их применить, видимо, подбадривая себя бряцаньем оружия. Охрану Уайт-холла удвоили, не то делая вид, не то в самом деле страшась нападения. Королевская армия была распущена постановлением нижней палаты, но король всё ещё имел право набрать новое войско и бросить его на парламент. Депутаты решили лишить короля этого священного права, не в первый раз нарушив основанную на традиции конституцию. В постановлении о наборе экспедиционного корпуса с предельной ясностью говорилось, что король «ни в коем случае, кроме вторжения чужеземцев, не может предписывать принудительного набора своих подданных на военную службу, ибо...», это «ибо» замечательно своей демагогической логикой, «...это право несовместимо со свободой граждан». Заодно его лишили права собирать ополчение и назначать его командиров. Теперь это право переходило к парламенту.
Король ещё раз попытался обезглавить парламент. Он завёл тайные переговоры с Эдуардом Хайдом, одним из вождей умеренной части нижней палаты, который явно был склонен перейти на сторону монарха. Хайда возмущали реформы. Он был предан официальной религии. Преследование епископов ему было противно. При случае он уже давал почтительные, но благоразумные советы королю, которыми, впрочем, тот воспользоваться не сумел или не захотел. Монарх предложил ему возглавить правительство. Хайд не доверял Карлу, считал его слишком слабым и отказался. Он растолковал государю, что, сохранив независимость, оставшись в нижней палате, где имеет значительный вес, сможет оказать больше услуг, и пообещал соблазнить столь пленительной должностью своего соратника Фокленда.
Люциус Кери Фокленд был человеком высокой морали, твёрдых, обдуманных убеждений. Он всем сердцем поддерживал то, что могло принести свободу каждому англичанину и процветание Англии; убеждения с самого начала привели его в стан оппозиции. Злоупотребления и беззакония рождали негодование в этой безукоризненно честной душе. Он презирал двор за любостяжание и эгоизм и недолюбливал Карла за слабость характера и недалёкость ума, долгое время поддерживал Пима и Гемпдена, пока те боролись за восстановление справедливости, но его стало коробить, когда оппозиция стала нарушать конституцию. Отдалившись от них, стал ближе королю и двору. На предложение Хайда он поначалу ответил отказом, главным образом из соображений морали. Он не хотел прибегать ко лжи, шпионажу и подкупам, может быть, средствам полезным, говорил он, в политике даже необходимым, но которыми тем не менее не мог себя замарать. Возражения Фокленда оскорбляли самолюбие короля, но такой человек был нужен ему для тайных целей, и он обещал ничего не решать, прежде не спросив его мнения. Фокленд согласился, но неохотно, чувствуя, что совесть его неспокойна, оправдывая себя только тем, что намеревается служить не одному владыке, но всей стране. Король назначил его на должность государственного секретаря. Его соратник Джон Колпеппер, личность менее яркая и менее совестливая, был назначен канцлером казначейства.
Какие-то предложения были сделаны и Джону Пиму, вождю оппозиции, разумеется, через посредников. Однако у Пима было несравненно больше политического чутья, чем у Хайда и Фокленда, он понимал, что королю ни в чём верить нельзя. Больше того, он догадывался, что за этими переговорами таится какой-то подвох, что, заигрывая с людьми оппозиции, монарх, как и прежде бывало, готовит какой-то предательский, внезапный удар из-за угла. В этом его каждый день убеждала молва. Носились слухи, что самой жизни Пима угрожает опасность, что ирландские мятежники идут или готовы прийти на помощь королю, что непременно закончится расправой с парламентом. Люди с улицы то и дело доносили о заговорах, которые затевают сторонники Карла. Толпа, вставшая на защиту депутатов, вооружённая ножами и палками, с каждым днём становилась всё гуще.
Казалось, какая-то опасность висела в воздухе. Представители нации нервничали и тридцать первого декабря потребовали вернуть стражу, которую полтора месяца назад король отозвал. Государь отказался решать этот важный вопрос до тех пор, пока не получит от нижней палаты письменного запроса. Письменный запрос был отправлен в Уайт-холл, а пока вожди оппозиции приказали внести в зал заседаний запасы оружия на случай, если на них будет совершено нападение.
Возможно, эта мера остановила тех, кто бряцал оружием в Уайт-холле. Три дня спустя монарх отказал предоставить парламенту стражу, но объявил:
«Я обязуюсь торжественно и ручаюсь честью короля охранять вас, всех и каждого, от всякого насилия, с таким же тщанием, какое я мог бы употребить для моей собственной безопасности и для безопасности моих детей».
Ему никто не поверил. Он несколько раз давал Страффорду точно такое же честное слово, а тот был мёртв. Не мешкая ни минуту, парламент разослал распоряжение лорду-мэру, шерифам и городскому совету держать наготове ополчение лондонских горожан и во всех уязвимых местах Сити выставить сильные караулы.
Приказ был отдан в самое время. К вечеру в тот же день, когда король давал честное слово, на заседание верхней палаты явился Эдуард Герберт, генеральный прокурор, и обвинил в государственной измене именем короля лорда Эдуарда Монтегю-Кимболтона, а также Пима, Гемпдена, Холза, Строда и Гезлрига. Генеральный прокурор предложил образовать комитет для разбора выдвинутых королём обвинений и тут же, пока суть да дело, арестовать депутатов.
Лорд Кимболтон встал и твёрдо сказал:
— Я готов повиноваться всем повелениям, которые последуют от палаты, но, так как против меня выдвинуто публичное обвинение, я требую, чтобы публичным было и моё оправдание.
Тем временем в нижнюю палату пришло сообщение, что, ещё не предъявив обвинение, король направил в дома подозреваемых своих представителей, те обыскивают, отбирают бумаги и накладывают печати, не имея постановления суда. Права граждан и привилегии депутатов были откровенно нарушены, точно король бросал вызов депутатам, и представители нации тотчас потребовали арестовать тех, кто этот незаконный обыск провёл. Происшествие ещё волновало умы, когда из палаты лордов явился герольд и объявил:
— Именем короля, моего государя, я пришёл требовать, чтобы господин председатель выдал мне пятерых джентльменов, членов этой палаты, которых его величество повелел мне арестовать по обвинению в государственной измене.
Герольда выслушали в полном молчании. Никто не двинулся с места. Обвинённые в государственной измене не шевельнулись. О выдаче их на расправу не могло быть и речи. Председатель предложил герольду покинуть палату. В тишине и спокойствии, не свойственным представителям нации, составили комитет, в состав которого включили Фокленда и Колпеппера, новых королевских министров. Их положение было глупейшим: король клялся, что не станет ничего делать, не советуясь с ними, а они ничего не знали о том, что готовится обвинение, несвоевременное, нерасчётливое, более опасное для короля, чем для парламента. Его члены тотчас отправились к монарху и доложили, что на столь важное обвинение представители нации могут ответить только после серьёзного обсуждения.
Обсуждение состоялось совместно с палатой лордов и было коротким. Разногласия между палатами на время исчезли. Король явным образом зашёл чересчур далеко, не взвесив обстоятельств, не рассчитав сил. Парламент единодушно постановил снять печати с домов обвиняемых. К королю отправился герцог Ричмонд и от имени обеих палат потребовал вернуть парламенту стражу. Король нахмурился и с ядовитой усмешкой сказал:
— Я дам ответ завтра.
Ночь была беспокойной. По улицам Лондона ходили усиленные патрули, составленные из горожан. Ночная тьма то здесь, то там нарушалась тревожными бликами факелов. Из дома в дом переносились беспокойные слухи. Говорили, будто король собрал вокруг себя кавалеров и приказал им быть наготове, а в Уайт-холл доставили из Тауэра пушку и две бочки пороха. Все понимали, что происшествие требует чрезвычайных мер. Пуритане всю ночь молились, роптали и плакали. Многие кавалеры были подавлены: глупость происшествия была для них очевидна.
Король в самом деле собрал вокруг себя три или четыре сотни вооружённых дворян. Это была вся его военная сила, которую он мог противопоставить трём или четырём сотням депутатов парламента, таких же дворян, которые были так же вооружены и с таким же мастерством владели оружием, и толпе горожан, которые с утра до вечера охраняли Вестминстер. Он всё ещё заблуждался, что достаточно одного имени, чтобы верные подданные без сопротивления, без ропота повиновались ему. Карл решил лично явиться в парламент и, не прибегая к силе, одним своим видом смирить непокорных. И обещал заплаканной королеве возвратиться победителем через час.
Та тоже сохраняла наивную веру в сияние королевского имени. Она действительно считала минуты и ждала своего Карла с часами в руках. Под её окнами раздавался сдержанный шум, негромко звенело оружие, стучали подковы и камень двора. Государь в шляпе с перьями, с орденом на груди выехал за ворота. Его сопровождали три или четыре сотни гвардейцев, кавалеров и студентов-юристов, которые издавна пользовались монаршим покровительством и теперь явились, чтобы его поддержать.
Депутатов предупредили. Палата решила без промедления, что пятеро обвиняемых должны покинуть Вестминстер. Четверо тотчас вышли через заднюю дверь, пятого, ещё продолжавшего верить в порядочность короля, пришлось вытолкать силой. Они спустились к реке, сели в лодку и нашли убежище в Сити, на помощь которого всё ещё полагался король.
Гвардейцы, кавалеры и студенты-юристы двумя рядами выстроились перед входом в большой Вестминстерский зал. Карл прошёл в сопровождении телохранителей и поднялся по лестнице. Здесь они должны были оставить его. Он один вступил в зал заседаний. Его сопровождал только племянник, сын несчастного пфальцского курфюрста Фридриха V. Монарх прошёл сквозь решётку подошёл к председателю и со своим неизменным высокомерием повелел:
— С вашего позволенья, милорд, я на минуту займу ваше кресло.
Тотчас опустился в него и только теперь снял шляпу. Депутаты стояли с непокрытыми головами. Он заговорил таким тоном, точно перед ним были слуги, плохо обслужившие его за обедом:
— Милорды, я огорчён этим происшествием. Я вчера к вам отправил герольда, которому поручил арестовать несколько лиц, обвинённых в государственной измене по моему повелению. Я ожидал от вас повиновения, а не протеста. Ни один король Англии не заботился о ваших привилегиях так, как я желаю заботиться, тем не менее вы должны знать, что в случаях государственной измены привилегий не может существовать ни для кого. Я прибыл сюда, чтобы видеть, нет ли здесь кого-либо из обвиняемых, и требую, чтобы мне выдали их, где бы они ни находились. Милорд председатель, где они?
Председатель, испуганный, растерянный, полный почтения, пал на колени:
— Всеподданнейше умоляю ваше величество простить мне, что я не могу дать вам другого ответа на то, о чём вы изволили меня спрашивать.
Карл вспыхнул, губы его побледнели от гнева, но он сдержал себя и медленно, со значением роняя слова, произнёс:
— Очень хорошо. Мои глаза видят ясно, что птицы уже улетели. Я жду, что вы пришлёте мне их, как только они возвратятся. Словом короля уверяю вас, что никогда не имел намерения употребить силу. Нет, я буду действовать законными средствами. Повторяю, однако, я очень надеюсь, что вы пришлёте мне их, в противном случае я приму свои меры, чтобы их отыскать.
Он поднялся и двинулся к выходу, всё ещё держа шляпу в руке. Представители нации застыли в молчании, но едва король приблизился к выходу, из их рядов раздался один-единственный, но яростный крик:
— Привилегию!
И тогда в спину ему точно ударил нестройный хор голосов, раздражённых и хриплых:
— Привилегию! Привилегию!
В Уайт-холл он возвратился точно оплёванный. Королева, бледная, с безумием пережитого страха в глазах, бросилась на шею мужу и разрыдалась. Придворные встретили побеждённого гробовым, смешанным с презреньем молчанием. Хайд, Колпеппер и Фокленд, доверчивые, несчастные, только что гнусно обманутые своим повелителем, которому согласились служить в надежде спасти монархию, сторонились его. Он ещё нашёл в себе силы продиктовать прокламацию, в которой он повелевал своим верным подданным запереть двери домов и запрещал предоставлять убежище обвиняемым в государственном преступлении. Прокламацию отпечатали и распространили, но все понимали, что это всего лишь пустая бумага, которая лишний раз продемонстрирует Лондону и всему королевству, как бессилен король и какую силу отныне приобретают представители нации. В самом деле, все знали, где скрываются беглецы, номер дома, название улицы, однако никто не решался послать по этому адресу сотню гвардейцев: король и двор уже были побеждены.
Депутаты пока что об этом не знали. Не успел Карл спуститься по лестнице, как было решено закрыть заседание. У выхода волновались их вооружённые слуги, на которых напирала бушевавшая толпа. Со всех сторон из неё неслись возбуждённые крики, одинаково враждебные представителям нации и королю:
— Я не дам промаха, пусть только укажут мне цель!
— К чёрту нижнюю палату!
— Зачем нам нужны эти люди? Пусть их приведут и повесят!
— Когда привезут приказ?
— Привилегию! Привилегию!
Горожане вооружались и бродили всю ночь, освещая улицы факелами. Одни кричали, что кавалеры идут, другие подхватывали, что кавалеры получили приказ поджечь Сити, третьи были уверены, что во главе кавалеров идёт сам король. Сумятица была страшная, стихийно рождалась ненависть к кавалерам и к королю, который решился прибегнуть к насилию, когда для этого не было причин.
Карл всё ещё надеялся на магический звук монаршего имени. Пятого января, часов в десять утра, он выехал из ворот Уайт-холла без конвоя, совершенно один, всем видом показывая, что он повелитель и потому никого и ничего не боится. Толпа окружала его, но она уже была другая. В день возвращения в Лондон его сопровождали поклонение и восторг. Теперь он всюду встречал холодные, мрачные лица, молчаливое свидетельство тому, сколько непростительных глупостей успел натворить ослеплённый гордыней, слабый человек. Кто-то, оказавшись рядом, умолял примириться с парламентом, кто-то подал памфлет, содержавший призыв к мятежу. Время от времени раздавался клич:
— Привилегию! Привилегию!
Он вступил в городской совет поколебленный, если не усмирённый. Казалось, Карл и в самом деле готов примириться с парламентом, если в одном этом деле городской совет согласится ему уступить. Ласково, даже кротко попросил выдать преступников, клятвенно заверял, что предан протестантизму и далёк от папизма, обещал впредь во всём поступать согласно с законами. Но время было упущено. Государь столько раз клялся и столько раз нарушал самым бесстыдным, бессмысленным образом клятвы, что ему уже никто не верил. Его не приветствовали, не рукоплескали, как прежде. Депутаты городского совета молчали, и по этому молчанию нетрудно было понять, что обвинённых в государственном преступлении он не получит. Видимо, Карл растерялся. Нарушая молчание, обратился к шерифу, на которого случайно упал его взгляд, и сказал, что хотел бы у него отобедать. Шериф поклонился и принял у себя короля как подобало, с торжеством и почётом, но без той благодарности, которую наверняка испытывал месяц назад. Несолоно хлебавши возвратился венценосец в Уайт-холл. Ему хотелось рвать и метать, но он уже начинал понимать, что ни гнев, ни насилие не смогут помочь.
Опасаясь произвола со стороны короля, нижняя палата распустилась на несколько дней, до получения от монарха гарантий безопасности, но рук она не сложила. На время невольных каникул был образован комитет из самых уважаемых представителей нации. Он должен был заседать непрерывно в том доме, рядом с которым скрывались вожди оппозиции. Комитету было поручено провести расследование, насколько юридически обоснованы обвинения в государственном преступлении и, что важнее всего, рассмотреть положение королевства и те меры, которые необходимо как можно скорее принять для подавления ирландского мятежа. Члены комитета постоянно являлись на совет к лидерам оппозиции, те несколько раз являлись на заседания комитета. Вооружённые горожане окружали оба дома плотной стеной и каждый раз приветствовали рукоплесканиями своих не склонивших головы представителей. Натурально, обвинение в государственном преступлении было признано необоснованным. Седьмого января городской совет передал петицию королю. Петиция была составлена комитетом нижней палаты. В ней повторялись жалобы на дурных советников, на кавалеров, на папистов, на коменданта, ещё раз сменённого в Тауэре. После жалоб отвергалось обвинение в государственном преступлении, что для Карла было горше всего. В заключение требовалось беспрепятственно и безотлагательно провести те реформы, на которые указала Великая ремонстрация.
Положение государя было невыносимо. Первыми его покинули советники, которых он обманул. Он этого почти не заметил, потихоньку своего господина стали покидать те, кто отчаялся или струсил. На его глазах в Уайт-холле таяла толпа кавалеров и студентов-юристов, ещё вчера с видом победителей бряцавших оружием и клявшихся положить жизнь за своего владыку. Он попытался кое-как ответить на петицию городского совета, вновь потребовал арестовать обвинённых им в государственном преступлении, но его уже не слушал никто. Комитет постановил возобновить заседания нижней палаты. Вожди оппозиции должны были как ни в чём не бывало возвратиться в Вестминстер, открыто игнорируя приказ об аресте. Горожане готовились проводить их из убежища в Сити с вызывающим почётом, с торжеством, оскорбительным для короля. Лодочники Темзы объявили, что устроят по этому случаю праздник. Узнав об этом, Карл с досадой воскликнул:
— Как! Даже эти водяные крысы оставляют меня!
Испытание превышало душевные силы. Королева то билась в истерике, то дрожала от страха. Она умоляла его бежать. Но куда? Куда глаза глядят, но только подальше от этого вертепа головорезов и бунтарей. Роялисты, сохранившие власть в северных графствах, обещали ему военную поддержку. Бежавшие из Лондона кавалеры хвастались своим влиянием в дальних городках и местечках. Немногие приверженцы, отказавшиеся покинуть его, внушали ему:
— Король свободен вдали от парламента, а на что способен парламент без короля?
Десятого января монарх в сопровождении жены, детей, немногих слуг и охраны покинул ставший ненавистным Уайт-холл. На короткое время королевская семья остановилась в Гемптен-Корте. Вскоре она поселилась в Виндзоре.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Одиннадцатого января в Лондоне был праздник, всенародный и красочный. Вожди оппозиции, можно сказать, вырванные из лап короля, с триумфом возвращались в парламент. Их везли Темзой в нарядно украшенной лодке, под празднично убранным балдахином. За ней следовали разодетые в лучшие одежды перевозчики, лодочники и прочие труженики реки в шлюпках, лодках, баркасах и яликах. По левому и правому берегам стройной линией шли вооружённые ополченцы в боевом снаряжении. Их сопровождали толпы ремесленников, подмастерьев и мелких торговцев. Настроение было победное, бодрое. От полноты чувств ополченцы стреляли в воздух. Проходя мимо Уайт-холла, толпа остановилась с вызывающими насмешками, с потешными выкриками:
— Где нынче король? Где нынче его кавалеры? Что с ними сталось?
Вновь водворившись в Вестминстере, вожди оппозиции воздали благодарение гражданам Лондона, властям Сити, шерифам, введённым в зал заседания. Не успели представители нации приготовиться к заседанию, как явилась депутация от четырёх тысяч сельских хозяев и свободных крестьян из графства Бекингэмшир, родины Гемпдена. Они представили нижней палате петицию, в которой обвиняли лордов-папистов и дурных советников короля. Вторая петиция предназначалась верхней палате. Третью петицию они должны были передать государю. На лентах простых чёрных шляп была написана клятва: жить и умереть вместе с парламентом, кто бы ни оказался его врагом.
Праздник закончился. Джон Пим, самый прозорливый, раньше и точнее других оценил положение, в которое король своим отъездом ставил страну. С одной стороны, вся полнота власти, законная и неоспоримая, следовала за монархом и теперь находилась в Виндзоре, а парламент без короля, согласно обычаю и конституции, терял законную силу. С другой стороны, из Виндзора исходила угроза войны. Сторонники парламента, готовые умереть за короля, доносили ежедневно, чуть ли не ежечасно, что туда стекаются вооружённые кавалеры, что не прекращаются тайные совещания, на которых уже решено отправить в Голландию королеву с драгоценностями короны, чтобы закупить оружие и военное снаряжение и добиться помощи английскому владыке от европейских монархов-папистов.
Перед этой угрозой парламент был безоружен. Он не имел права набирать армию, несмотря на то что его поддерживал вооружённый народ. Масса ремесленников, подмастерьев, мелких торговцев, сельских хозяев, свободных фермеров и арендаторов, действительно готовы были умереть за короля, однако призыв к народу, в соответствии с конституцией, был мятежом, который король не только был должен, но обязан истребить огнём и мечом. Таким образом, все преимущества оказывались на стороне монарха.
Необходим был решительный шаг, и Джон Пим без колебаний сделал его. Уже тринадцатого января по его настоянию нижняя палата приняла декларацию. Декларация объявляла королевство в состоянии обороны. Парламент по-прежнему не хотел разрывать с королём, он только хотел управлять вместе с ним, и потому декларация определяла, что набирать войска, назначать комендантов крепостей и начальников складов имеет право государь, но после утверждения его распоряжений парламентом. Это была мудрая и мирная декларация. Она могла примирить венценосца и парламент. Прими её лорды на своём заседании, скрепи её король своей подписью и печатью, и гражданская война была бы исключена.
Ни у лордов, ни у короля не обнаружилось ни благоразумия, ни тем более мудрости. Палата лордов отказалась утвердить декларацию, поскольку она противоречила конституции, по которой монарх обладал единоличным правом набирать войска и назначать командиров, начальников и комендантов. Лорды строго соблюдали букву закона, но тем самым вынуждали представителей нации действовать помимо закона. Декларация была напечатана и распространена. Народ познакомился с ней и встал на сторону парламентариев, страшась, что, обладая единоличным правом набирать войска, Карл не сегодня-завтра разгонит парламент и народ останется без защиты от его произвола.
Парламент становился комитетом по управлению государством. Джон Пим определял его очередные задачи. Его политическое чутьё подсказывало ему, что с государем невозможно достичь соглашения, что этот человек всё равно откажется или обманет. По этой причине его деятельность двигалась по двум направлениям. Он продолжал обращаться к монарху, каждое постановление отправлял на его утверждение, точно надеялся, что тот наконец осознает неизбежность происходящего и понемногу начнёт управлять вместе с парламентом, и конфликт окончится миром. В то же время он понимал, что парламенту придётся себя защищать. Ему представлялось необходимым подготовиться к обороне, и подготовиться как можно скорей, чтобы король и его кавалеры не застали парламент врасплох. Но сам он был только искусный политик, превосходный оратор, человек кабинетный, далёкий от практической жизни. Ему нужен был надёжный помощник, способный вникать в каждую мелочь, умелый и расторопный исполнитель его политических замыслов и государственных распоряжений. За годы парламентской борьбы Пим успел присмотреться к простоватому на вид сельскому хозяину, малоприметному скотоводу из Сент-Айвса, который все эти годы держался в тени, редко брал слово для выступления, всегда говорил страстно, но кратко он разглядел в этом простом скотоводе редкий талант организатора и дельца, который тот, может быть, и сам в себе пока что не замечал. Он выдвинул его из безвестности, поставил его рядом с собой и поручил ему оборону парламента. С этого дня Оливер стал его правой рукой.
Кромвель преобразился. Уже четырнадцатого января он предложил нижней палате проект обороны и охраны порядка, а Гемпден, тоже по указанию Пима, потребовал передать парламенту Тауэр и народное ополчение. Представители нации не откладывая приняли эти серьёзные предложения. Принятые решения тотчас отправились в Виндзор на утверждение короля. Между парламентом и монархом завязалась и на семь месяцев протянулась так называемая бумажная или памфлетная война. Парламент принимал законы, акты, постановления с удивительной быстротой. Король их получал, откладывал в сторону, делал вид, что изучает, взвешивает, обдумывает, и отказывался их утверждать. Большей частью его отказы бывали разумны и справедливы и с каждым днём ухудшали его положение. По поводу предложения управлять Англией совместно с парламентом он отвечал, что не позволит изменять законы страны. Государь был прав, но и парламент был прав и стал управлять без него. На предложение добровольно отказаться от верховного командования английской королевской армией Карл отвечал ещё резче:
— Клянусь Богом, ни на одну минуту! От меня требуют того, чего не требовал никто, никогда, ни от одного короля и чего я не доверю даже жене и детям!
Он и тут был кругом прав, но и парламент не мог доверить королю армию, которой тот без промедления прикажет разогнать парламент и перевешать половину депутатов, если не всех, с полным на то основанием, применив к ним закон о мятеже, и армией стал командовать Кромвель.
Он заседал в комитете по делам Ирландии, которая всё ещё бунтовала, и вёл переговоры с комендантом Тауэра о безопасности Лондона. По его инициативе на время переговоров вокруг Тауэра стояла вооружённая стража и велось наблюдение за всеми подходами. Комендант Портсмута получил грамоту, которой запрещалось без приказа парламента впускать в крепость какие-либо войска. Комендантом в крепость Гулль, которая являлась главным опорным пунктом на севере Англии, был назначен свой человек. Он вёл переговоры с лордом-мэром Лондона и в палате лордов, когда там отказывались утверждать законы, принятые нижней палатой. Когда в парламент поступали петиции, в которых говорилось о военной угрозе со стороны Ирландии или со стороны короля, Пим или Гемпден набрасывали решение и делали надпись для секретарей: «Послать мистеру Кромвелю». Оливер становился известен, на него начинали смотреть как на исполнительного и надёжного человека. Дела, которые ему поручали, становились всё ответственней и важней.
Напряжение всё нарастало. Пуританские проповеди, произносившиеся в парламенте на библейские тексты, звучали призывами к бою:
— Будь проклят каждый, кто удержит руки свои от пролития крови!
Бумажная война была в самом разгаре. С каждым днём представители нации уясняли себе, что невозможно ни в чём убедить короля. Всё-таки они продолжали к нему обращаться с посланиями, с разъяснениями и памфлетами, но прежде чем переправить в Виндзор или Йорк, куда вскоре король перенёс свою ставку, их отпечатывали, расклеивали по Лондону, продавали в мелочных лавках, десятки гонцов развозили по графствам и городам и таким способом непосредственно обращались к народу. В них перемешивались в качестве доказательств законы и хартии, религия и политика, история и последние новости, грубые нападки на упрямство и несговорчивость короля и пуританские проповеди.
Монарх считал себя несправедливо обвинённым и правым во всём. Он должен был отвечать, но не умел. Самые умные из его приближённых ещё колебались и не решались уехать из Лондона. Хайд, один или в соавторстве с Фоклендом, составлял красноречивые, изящные, полные иронии ответы. С этой важной бумагой в кармане тайный гонец мчался в Йорк и доставлял её королю, тот по ночам переписывал своим почерком, чтобы никто, даже в самом близком его окружении, не угадал руку автора. Ответ немедленно отпечатывался, но вместе с предложением, разъяснением, памфлетом или ответом парламента, и также распространялся гонцами по графствам и городам. Королевские прокламации производили сильное действие на умы, нередко доводами, подобранными отлично, красотой стиля и блеском ума превосходя прокламации, которые в парламенте составлялись грубо и просто, как пуританские проповеди. Лагерь монарха стал быстро расти. В Йорк стекались богатые землевладельцы и кавалеры. В скором времени к нему из Лондона перебралась палата лордов почти в полном составе и чуть ли не половина нижней палаты. Добровольные пожертвования приходили из графств.
К королю возвращалась уверенность. Он осмелел и принял решение действовать: двадцать третьего апреля, имея всего триста всадников, направился к Гуллю и потребовал от его коменданта, чтобы тот добровольно вручил ему городские ключи. Комендант был связан приказом парламента: в город никого не пускать. Он растерялся. Перед ним был государь, которому повиновались все его предки и которому должен был подчиняться и он. Однако страх перед парламентом, к которому уже перешла реальная власть, оказался сильнее. Комендант просил короля подождать, пока он свяжется с парламентом. Монарх был непреклонен. Мэр и группа зажиточных горожан направились к воротам, чтобы впустить своего повелителя. Комендант силой отправил их по домам, вышел на вал, пал на колени, моля о пощаде. Кавалеры снизу кричали, обращаясь к офицерам:
— Сбросьте его с вала! Убейте его!
Офицеры были на стороне своего начальника. Король стал уступать. Он просил впустить его одного, в сопровождении конвоя из двадцати, даже десяти человек. Комендант отказал и в этой просьбе, казалось бы безобидной, рассудив, что в таком случае город был бы потерян. Карл объявил его изменником, но удалился и в тот же день направил в парламент жалобу, требуя правосудия за нанесённое ему оскорбление. Представители нации полностью оправдали коменданта и разъяснили в ответном послании, что все арсеналы и крепости не являются личной собственностью его величества, а лишь временно вверены ему для безопасности государства, из чего следует, что и парламент, исходя из безопасности государства, может взять их под своё управление. Разъяснение было не только логично, но и законно. Королю было нечего возразить. Тем не менее он увидел в нём объявление уже не бумажной, а настоящей войны и принял меры, чтобы выйти на поле боя во всеоружии.
Свои меры приняли и депутаты. Второго мая они направили в Йорк своих комиссаров, местных уроженцев, из крупных землевладельцев, пользующихся уважением в графстве. Они получили приказ: во что бы то ни стало находиться при короле и доносить обо всём, что в его ставке будет происходить. Посланцы с должной почтительностью представились Карлу, но тот встретил их неприветливо:
— Милорды, я повелеваю вам воротиться. Если вы откажетесь повиноваться, если останетесь, то берегитесь. Чтобы с вашей стороны не было никаких происков или интриг. В противном случае мы очень скоро разочтёмся друг с другом.
Они остались. Их оскорбляли. Им угрожали, не позволяли выйти из дома, но они всё-таки умудрялись получать верные сведения и отправляли донесения вождям оппозиции. Отчёты день ото дня становились тревожнее. Королю нужна была армия. Он ещё не смел открыто её набирать. Пятнадцатого мая он собрал в Йорке окрестных дворян, уверенный в том, что они с радостью согласятся сражаться за своего владыку.
Старое дворянство явилось в полном составе. Собрание было многолюдным и шумным. Призыв короля был встречен криками одобрения. Явившихся комиссаров парламента встретили свистом и шиканьем. Казалось, государь уже получил первых волонтёров. Однако слух о собрании уже распространился по графству. После обеда в Йорк стали съезжаться сельские хозяева, так называемое новое дворянство, и свободные фермеры, которых намеренно обошли приглашением. Они кричали, что имеют законное право вместе со всеми обсуждать дела графства. Их не хотели пускать, эти люди собрались в другом месте. Когда же король наконец решился открыто объявить набор в свою гвардию, около полусотни этих сельских хозяев, новых дворян, ответили твёрдым отказом; составили список, каждый из них расписался в знак своего противодействия монарху, и первым свою подпись поставил Томас Ферфакс из Дентона, самый смелый и откровенный патриот Йоркского графства.
Король был смущён, но не хотел и не мог отступать. На третье июня он назначил новый сбор, на этот раз всех владельцев земли, от знатного лорда до свободного фермера. Они собрались на равнине под Йорком. Говорили, что собралось тысяч сорок конных и пеших, в их числе оказались и горожане, которые тоже были владельцами окрестных земель. Комиссаров парламента к ним не пустили, опасаясь агитации с их стороны. Собрание всё-таки раскололось, несмотря на эту необходимую меру. Сельские хозяева, свободные фермеры и горожане не хотели войны. Кто-то из них составил петицию, в которой королю предлагалось помириться с парламентом. Чтобы собрать подписи, она пошла по рукам. Он явился. От его имени герольд прочитал декларацию, в которой прямо не говорилось о войне, но не было ни слова о мире. Король, увидя недовольство на многих лицах, поспешил удалиться. Тогда Томас Ферфакс, расталкивая толпу, внезапно упал перед монархом на колени и положил на луку седла петицию о мире с парламентом. Король в гневе пустил на него свою лошадь. Она больно толкнула его. Ферфакс продолжал стоять на коленях и смело глядел в глаза всадника.
Непримиримость сельских хозяев, свободных фермеров и горожан самого монархического из графств, в особенности решительность и твёрдость Ферфакса, произвели на роялистов сильное впечатление: спокойная, грозная сила на этой равнине под Йорком впервые столкнулась с растерянностью и смятенностью слабости. Король тщетно искал поддержки среди своего окружения. Ему не удалось быстро набрать армию среди йоркцев, а потому он обвинил парламент в том, что тот стал незаконным, собрал тех, кто перебежал из Лондона в его стан, и потребовал, чтобы они объяснили своё бегство насилием со стороны представителей нации. Беглецы оказались в драматическом положении. Убеждения, привычки, традиции, происхождение или богатство привязывали их к королю, подобно пуповине, которая связывает ребёнка и мать, однако благоразумие ясно указывало на то, что они выбрали слабую, заранее побеждённую сторону. Они подписали декларацию, составленную в канцелярии короля, и тут же объявили своему повелителю, что будут вынуждены от неё отказаться, если он прикажет её отпечатать. Государь возмутился:
— Что же я стану с ней делать?!
В сущности, делать ему было нечего. Кавалеры кричали, что нечего медлить, что врага надо предупредить, и задирали всех, кто пытался их образумить. Чтобы нападать, не хватало людей, мало оружия, мало военных припасов и продовольствия и совсем не было денег не то что на содержание армии, а на содержание двора. Королева, уехавшая в Голландию, кое-как продала бриллианты короны и не могла найти надёжного человека, чтобы переправить полученные средства в Йорк, поскольку не находила сочувствия проигранному делу.
Король вынужден был постоянно юлить, лицемерить и лгать. Он требовал, чтобы его приверженцы в монархических графствах объявили набор в ополчение, которому предстояло защитить законного владыку, и в то же время запретил парламенту набирать и возглавлять ополчение в графствах, которые поддерживали парламент. Он готовился к войне против парламента и уверял, что даже не думает о войне. По его настоянию, лорды, прибывшие в Йорк, составили декларацию, в которой чёрным по белому заявляли, что они не нашли никаких приготовлений к войне. Он дошёл до того, что выражал недоумение и разводил руками, будто бы не понимая, чего требует от него парламент, от него, человека доброго и мирного, неизменно соблюдавшего все статуты Английского королевства?!
Парламент действовал откровенней, прямей. Его требования, предъявленные королю, были понятны, необходимость их была очевидна: монарх и парламент должны править совместно. Соответственно он отвергал все несогласованные распоряжения короля. Его постановлением уже семнадцатого мая гражданам было запрещено вступать в ополчение, которое Карл решился созвать в монархических графствах. Двадцать пятого мая потребовал, чтобы возвратились те лорды и представители нации, которые, покинув свой пост, отъехали в Йорк или отсиживались из осторожности дома, и второго июня повторил своё требование. Всё ещё надеясь, что можно избежать военного столкновения с королём, что благоразумие возьмёт верх, если всё обстоятельно и спокойно ему разъяснить, нижняя палата создала комитет, который должен был разработать и подать на рассмотрение монарху так называемые «Девятнадцать предложений», или «Протестацию второго июня». Тридцать первого мая она создала другой комитет, который должен был выработать условия нового займа и получить его в Сити.
«Девятнадцать предложений» были составлены очень быстро, в течение нескольких дней. Это неудивительно. С одной стороны, все эти предложения в той или иной форме не раз передавались королю, он каждый раз их отвергал, и они вновь и вновь обдумывались в парламенте. С другой стороны, среди депутатов было немало и учёных-юристов, которым была досконально известна история законодательства в Англии. Им не составляло труда заглянуть в так называемые «Провизии», то есть постановления, принятые в 1258 году в Оксфорде на съезде баронов, поднявших мятеж против самовластия короля. Недаром эти «Девятнадцать предложений» иногда называли «как бы новым изданием Оксфордских провизий».
«Девятнадцать предложений» закладывали фундамент будущей конституции. В них последовательно и твёрдо говорилось одно: все важнейшие решения государственных дел король имеет право принимать только после того, как их одобрили обе палаты. Парламент одобряет, а король назначает членов Тайного совета и всех высших чиновников, в том числе и послов, причём Тайный совет становится всего лишь совещательным органом при короле, тогда как все государственные дела обсуждаются «исключительно в парламенте, который является Вашим великим и высшим советом». На всякий случай, во избежание кривотолков, третья статья перечисляла двенадцать высших постов, которые замещаются только теми людьми, против которых не возражает парламент. Парламент берёт на себя воспитание наследников престола и их вступление в брак. Парламент настаивает на своём требовании принять строжайшие меры против иезуитов и папистских священников. Он настаивает на необходимости исключить из верхней палаты лордов-папистов. Король должен утвердить закон о созыве ополчения поставить комендантами всех крепостей только тех, кого ему представит парламент. Он должен распустить любые военные соединения, набранные без согласия нижней и верхней палат. У него отнимается право назначать и смещать судей, а парламент получает право суда над врагами парламента. Наконец, парламент получает право определять внешнюю политику Англии, а семнадцатая статья прямо указывала на необходимость вступить в военный союз с протестантской Голландией, направленный против папистских монархий. Любопытно, что во вступительной части представители нации настаивали на том, что эти предложения продиктовала им лишь «забота о наиболее верном исполнении долга перед королём и королевством». Они были правы. Прими король Карл Стюарт эти девятнадцать статей, Англия избежала бы кровавых войн и борьбы политических партий, на которые ушло два столетия, пока эти девятнадцать статей не вошли в основной закон государства.
«Девятнадцать предложений» были приняты нижней палатой первого июня. Второго июня была образована депутация, которая должна была передать этот документ королю и получить ответ. В её составе был Оливер Кромвель. Видимо, представители нации мало верили в то, что монарх пойдёт на уступки. Они продолжали работать так, будто эти «Девятнадцать предложений» стали законом и без высочайшего одобрения. Четвёртого июня, опираясь на девятую статью этого документа, они направили в графства постановление о формировании ополчения, его командующим назначили графа Эссекса и приказали перевезти в Лондон военные арсеналы из Гулля. В тот же день был объявлен сбор пожертвований на расходы парламента. Первыми должны были внести посильную лепту сами депутаты. Как только была открыта подписка, Оливер Кромвель внёс триста фунтов. Вожди оппозиции приглашали на собеседование каждого депутата и требовали, чтобы тот объявил, на чьей стороне он намерен бороться. Большинство тех, кто ещё не бежал в Йорк, перешло в лагерь парламента. Лишь немногие отказались от прямого ответа. Их имена стали скоро известны. На улицах Лондона им не давали прохода, их оскорбляли, их жизни угрожала опасность. Тем не менее они не поехали в Йорк, а вернулись домой, в свои графства, заявив лидерам оппозиции, как это сделал Генрих Киллингрю: «Если представится случай, я возьму добрую лошадь, хорошие латы из кожи буйвола, пару добрых пистолетов и не затруднюсь отыскать своё дело».
Семнадцатого июня «Девятнадцать предложений» были представлены королю. В этот день от него одного зависела судьба страны, о чём он, правда, не знал. Прими их — история Англии пошла бы по другому пути. Беда была в том, что Карл не только не мог согласиться на это, но и на самое малое ограничение абсолютной власти. Каждая статья документа, которую ему торжественно вручили депутаты парламента, вызывала в его душе благородное негодование, праведный гнев. Государь готов был скорей умереть, чем примириться на этих условиях с мятежным парламентом, заговорил раздражённо, с недоумением, как будто растерянно:
— Если я соглашусь на то, чего требуете вы, что же тогда останется у меня? Пожалуй, вы станете представляться мне с непокрытой головой, целовать мне руку и называть меня «ваше величество», даже, может быть, сохраните формулу «воля короля, возвещаемая палатами», и станете в неё облекать ваши приказы. Возможно, передо мной ста нут носить жезл или шпагу и позволят мне забавляться скипетром и короной, этими бесплодными ветвями древа, которые недолго будут цвести, если засохнет ствол. Но что касается настоящей, действительной власти, я стану тенью, внешним знаком, пустым призраком.
Король отказал. Настал черёд представителей нации. У них оставалась возможность обдумать своё положение, положение монарха и королевства, представить хотя бы на миг, к чему приведёт вооружённое столкновение. С этой стороны беда заключалась в том, что обдумывать и представлять было некогда. Король вооружался, готовился к нападению, а парламент всё ещё был безоружен. Страх гнал их вперёд. Они должны были защищаться, а не раздумывать Четвёртого июля парламент образовал из пяти лордов и десяти представителей нации комитет общественной безопасности, которому вменялось в обязанность обеспечить оборону и добиться исполнения всех постановлений парламента. Графствам было направлено предписание вооружаться, запасать порох и приготовиться по первому сигналу выступить на защиту парламента. Девятого июля ставится на голосование предложение набрать в Лондоне десять тысяч добровольцев. Парламенту предстояло сделать ещё один решающий шаг, который приблизит войну. В нём царит всеобщее возбуждение. Большинство готово жизнь положить за идеал свободного общества, тем более что воевать придётся другим. Однако в нижней палате оказались и те, кто способен вовремя испугаться предстоящих событий. Бенджамин Редьярд в серьёзной, обдуманной речи выразил мнение благоразумных людей:
— Милорд председатель, я до глубины души проникнут и объят чувством того, чего требует честь палаты и успех этого парламента. Однако, чтобы верно судить о том положении, в каком теперь мы находимся, перенесёмся на три года назад. Если бы тогда кто-нибудь нам сказал, что королева убежит из Англии в Голландию, что король от нас удалится из Лондона в Йорк, говоря, что в Лондоне ему угрожает опасность, что мятеж охватит Ирландию, что государство и церковь сделаются добычей раздоров, которые их терзают теперь, наверное, мы затрепетали бы при одной мысли о таком положении. Поймём же всю его тяжесть теперь. Если, с другой стороны, нам сказали бы, что три года спустя у нас будет парламент, что будут уничтожены корабельные пошлины, что будут упразднены монополии, церковные суды, Звёздная палата, подача епископами голосов, что круг действий Тайного совета будет определён и ограничен, что у нас будет парламент каждые три года... Что я говорю?! У нас будет постоянный парламент, распустить который не имеет права никто, кроме нас самих! Наверное, всё это нам показалось бы не более, чем приятной мечтой. И что же? Мы действительно получили всё это, но не умеем применить это к делу. Мы хотим новых гарантий. Действительное обладание этими благами составляет лучшую из гарантий: они обеспечивают сами себя. Будем же осторожны: домогаясь какой-то полной безопасности среди всякого рода случайностей, можно подвергнуть опасности то, что мы имеем. Положим, что мы достигли бы всего, чего нынче желаем, всё-таки мы не сможем наслаждаться безопасностью математически верной: ведь все человеческие гарантии подвергнуты порче и с течением времени становятся несостоятельными. Божественный промысел не терпит цепей. Он хочет, чтобы успех был в Его руках. Милорд председатель, нынче всем нам следует вооружиться благоразумием, к какому мы только способны, потому что пожар скоро вспыхнет, тогда повсюду воцарится хаос. Стоит начаться кровопролитию — и мы впадём в неминуемое бедствие, в ожидании неверного успеха, которого достигнем бог знает когда, и ещё бог знает какого успеха! Всякий человек обязан сделать крайнее усилие, чтобы помешать кровопролитию, ибо кровь есть грех, который вопиет об отмщении, я не говорю уж о том, что кровь запятнает всех нас. Станем спасать свои права, своё имущество, но таким образом, чтобы вместе с тем спасти и наши души. Итак, я исполнил долг совести, выступая перед вами. Предоставляю каждому спросить свою совесть и поступить в согласии с ней.
Возможно, каждый из депутатов и спросил свою совесть и действовал в полном согласии с ней, однако многим совесть говорила иное, чем она говорила Бенджамину Редьярду и тем, кто был на его стороне, потому что король не бездействовал в Йорке, а не бездействовал он именно потому, что парламент вырвал у него всё то, о чём Бенджамин Редьярд так верно повествовал. Голосование было объявлено. За немедленный набор добровольцев было подано сто двадцать пять голосов. Против высказалось всего сорок пять депутатов нижней палаты, а в значительно поредевшей верхней против набора был только лорд Портленд.
Однако на этом останавливаться было нельзя. В графствах уже тайно действовали представители короля и вербовали добровольцев в королевскую армию. Чтобы ослабить её, необходимо было без промедления подчинить себе графства. Двенадцатого июля парламент постановил создать свою армию «для безопасности личности короля и защиты трёх королевств», то есть Англии, Шотландии и Ирландии. С этой целью графства должны выставить двадцать полков пехоты, по тысяче человек в каждом полку, и семьдесят пять эскадронов, в каждом эскадроне по шестьдесят лошадей. Главнокомандующим, как в Вестминстере, так и в поле, был избран граф Эссекс.
В тот же день Оливер Кромвель внёс предложение установить жёсткий контроль за производством вооружений. С этой целью корпорация оружейных дел мастеров была обязана еженедельно предоставлять парламенту сведения, сколько мушкетов, сабель, луков, копий и седел было изготовлено ими и кем они были куплены. Его предложение было принято в тот же день.
В своих решениях парламент опирался на поддержку народа. Она была налицо. Народ требовал вооружения парламентской стороны, не желая возвращаться к злоупотреблениям и беззакониям короля. Призыв к добровольным пожертвованиям имел невероятный успех. Каждый день с церковных кафедр пуританские проповедники призывали оказать помощь парламенту, и каждый день к помещению городского совета стекались толпы желающих внести свою посильную лепту. Богатые несли золотые вещи, серебряную посуду и деньги, бедные отдавали обручальные кольца, женщины снимали с себя заколки для волос, подвески и серьги из золота и серебра. В городском совете не хватало людей, чтобы принять приношения, не хватало места, чтобы сложить горы ценных вещей. По улице тянулась длинная очередь, и в ней подолгу стояли, лишь бы сдать на оборону свои безделушки.
Соблазнённый народным энтузиазмом, Карл объявил сбор пожертвований на королевскую армию. Его представители объезжали поместья и замки, однако богатые монархисты отказывались что-нибудь оторвать от своего достояния, которым они были обязаны королю, или уделяли так мало, что их неприличная скаредность вызывала насмешки. Только в Оксфорде и Кембридже правление университетов приняло решение передать королю всё серебро, которое хранилось в их кладовых. Узнав об этом, парламент отправил в оба университета распоряжение, которым запрещалась эта акция. Оксфорд не обратил на него никакого внимания, и целый обоз серебряной посуды и подношений благодарных студентов отправился в Йорк. Такой же обоз готовился в Кембридже.
Кромвель не смог терпеть такого предательства. Это был его университет, в котором он когда-то учился, его избирательный округ, его родные места, в которых он много лет боролся против осушителей болот и епископов. Он бросился к вождям оппозиции, которые ведали обороной парламента, и получил полномочия действовать от его имени. Оливер поскакал в родной Гентингтон. На городской площади кратко, но страстно призвал к оружию простых горожан, никогда прежде не державших в руках ничего, кроме охотничьих ружей, никакого оружия. В его отряд влилось шестьдесят добровольцев, не обученных, не имевших ни малейшего понятия о войне. Он кое-как вооружил их из своего кошелька и двинул на Кембридж. Знамя было поднято. Под нестройный бой барабана он вступил на территорию Кембриджа. Обоз, груженный серебром, стоимостью до двадцати тысяч фунтов стерлингов, был готов к отправке. Охраной командовал Генрих Кромвель, сын дяди Оливера, с которым в детстве они иногда вместе играли. «И встанет народ на народ и брат на брата», но на этот раз двоюродные братья друг на друга не встали. Серебро досталось парламенту, а Кромвель закупил для своего отряда шестьдесят лошадей и вскоре присоединился к армии Эссекса.
Тем временем Карл I Стюарт свою ставку перенёс в Ноттингем и повелел поднять над городом королевский штандарт: огромное знамя, по углам которого вытканы королевские гербы, в центре корона, а с неба указующий перст и надпись готической вязью «Воздайте кесарю должное ему». Это означало, что в стране поднят мятеж и что король призывает вассалов на его подавление. Таким образом, парламент был открыто обвинён в мятеже.
2
Зрелище выдалось довольно печальное. С утра гремела гроза, на землю обрушился проливной дождь, было не по-летнему холодно. Только к шести часам вечера, когда дождь прекратился, король смог выехать на центральную площадь. Его сопровождали восемьсот всадников в пёстрых одеждах q кружевными манжетами, в широких шляпах с плюмажами, при шпагах и пистолетах и небольшой отряд ополченцев в однообразных тёмных костюмах горожан и крестьян. Дул сильный ветер, трепал длинные завитые волосы кавалеров и полы плащей. Полотнище знамени вырывалось из рук. По небу неслись низкие серые тучи. Монарх был печален. Слабым движением он передал прокламацию офицеру охраны. Герольд развернул её, выступил вперёд и начал читать. Государь тут же остановил его, подозвал тем же слабым движением бледной руки и, положив трепетавший лист на колени, исправил несколько мест. Герольд снова начал читать, запинаясь, с трудом разбирая нетвёрдую королевскую руку:
— «Мы выполним наш долг с подобающей нам полнотой, и Господь снимет с нас вину за ту кровь, которую при этом должно будет пролить...»
Кавалеры сорвали и подбросили шляпы. Сотни голосов, относимых в сторону ветром, прокричали нестройно и слабо:
— Да здравствует король! На виселицу круглоголовых!
Взвизгнули трубы. Знаменосец вышел вперёд. Только тут оказалось, что старинный обычай обращения монарха к своим подданным всеми забыт. Никто не знал, где именно должен быть поднят призывный королевский штандарт. Растерянная свита озиралась по сторонам. Нигде не находилось подходящего места. Кто-то вспомнил Ричарда III. Следуя его примеру, едва ли удачному, штандарт под бой барабанов внесли внутрь крепостных стен и укрепили на крыше бани.
Наутро полотнище было сорвано ветром. Когда королю доложили об этом, он раздражённо спросил:
— К чему было поднимать знамя туда? — И только теперь указал приличное случаю место: — Следует водрузить его на открытом пространстве, так, чтобы каждый мог свободно к нему подходить, а вы поставили его как в тюрьме.
Стяг вынесли в парк. Земля была твёрдой. Кинжалами выдолбили ямку, но древко не хотело стоять, и несколько часов его держали руками. Все нашли, что это плохое предзнаменование. В Ноттингеме царило уныние. В окружении короля предчувствовали беду, Карл был подавлен. Меланхолическое настроение несколько дней не покидало его.
К несчастью, в его жизни дурное предзнаменование не было первым. Они начались с коронации. В тот торжественный, но нерадостный день по непонятным причинам, сам плохо отдавая себе отчёт в своих действиях, он облачился в белоснежный костюм, тогда как ему полагалось предстать в пурпурных одеждах. Многие были поражены: как мог он сменить цвет символа величия на символ невинности?! Придворные в недоумении шептались, что король в борьбе с будущими бедствиями, которые неминуемы на пути всякого человека, верно, более полагается на свои добродетели, чем на могущество сана. Какое заблуждение! Какая ошибка! Невинность из века в век подвергается клевете, добродетель нередко приводит к погибели.
Точно в подтверждение справедливости их опасений проповедник избрал для проповеди странный, как многим показалось, мрачно-пророческий текст из Писания:
«Будь верен до смерти, и Я дам тебе венец жизни».
Многим тогда показалось, что ангел смерти незримо пролетел над головой короля, точно панихиду служили по живому в предвидении того, что по мёртвому панихиды не будет.
И в самом деле штандарт был как-никак поднят, парламент обвинён в мятеже, вассалы призваны на защиту государя, но не торопились отозваться на призыв. Собираясь небольшими отрядами, по пять, по шесть человек, они по дороге в ставку грабили фермы, вламывались в дома горожан, подозревая их в приверженности парламенту и ненавистному пуританству, хватали деньги и ценности, отбирали лошадей и оружие и хвастались между собой, словно уже одержали победу.
В Ноттингеме вокруг короля собралось не более тысячи кавалеристов и ополченцев, в сущности, горстка задир, хвастунов и грабителей, которым было не под силу защитить монарха, даже если бы они были первоклассными воинами, а они были воинами далеко не первого, скорее третьего или четвёртого класса, битые и перебитые испанцами под Кадисом, французами под Ла-Рошелью. На кого было рассчитывать королю в белых одеждах невинности? Не на кого. И когда ему донесли, что в Нортгемптоне, в десятке миль от его скудного лагеря, набирается ополчение в пользу парламента, что к Нортгемптону стекаются сотни людей и что два или три полка уже готовятся к бою, он растерялся. Ещё больше растерялись его приближённые. Генерал-майор Джекоб Эстли признался своим офицерам:
— Если они решатся напасть на нас и застанут врасплох, я за безопасность короля не ручаюсь. Пожалуй, его захватят прямо в постели.
Члены совета предложили попробовать счастья в переговорах с парламентом. Он был поражён:
— Как! Уже? Ещё прежде начала войны?!
Конечно, это было безумие, однако очевидность сразила его. Эстли согласился. Четверо лордов отправились в Лондон. Их отказались принять. Они воротились ни с чем. По счастью, стало известно, что западные графства с большей охотой встают на сторону короля. Ему не хотелось на такое расстояние удаляться от Лондона, но делать было нечего, Карл перенёс ставку в Шрузбери.
В самом деле, в Шрузбери его войско стало довольно быстро расти, хотя и не так быстро, как желалось бы. Большинство англичан ещё не сделали выбора. Они раздумывали, колебались, ведь люди рисковали имуществом и жизнью. На фермах и в городских советах, в тавернах и в лавках, на больших дорогах и ярмарках шли бесконечные споры о том, кто прав. Читались памфлеты, приводились библейские тексты, смутно припоминалась история, которая могла бы служить ключом к настоящему, если бы спорщики её знали. Порой доходило до драки, поскольку инстинкты, человеческие и социальные, оказывались сильней. Всё-таки многие, как и должно быть, не хотели войны. Они разделяли, кто ясно, кто смутно, мнение, однажды высказанное Джоном Гетчисоном, членом парламента, человеком благоразумным, каких в парламенте, как известно, оказалось немного:
— Я слишком почитаю религию, для того чтобы ставить её в зависимость от исхода войны. Я также люблю свободу настолько, что не решусь отдать её в руки того, кто победит. Как бы я ни любил короля, я всё-таки не хочу, чтобы он одержал верх над парламентом, если даже парламент не прав. Я желал бы, чтобы никто никого не побеждал.
Однако государь поднял королевский штандарт, и к нему потянулись вассалы, которым надлежало исполнить свой долг. Это были осколки родовитой аристократии, уничтоженной ещё в кровопролитной войне Алой и Белой розы, крупные землевладельцы и старое дворянство северных и западных графств. Они жили патриархально. Рыночные отношения не затронули их. Владея землёй, они не обрабатывали её, а жили арендной платой. Арендная плата и сама по себе была небольшой, а при их беспечном, расточительном образе жизни её не хватало даже на кружева и на перья на шляпу. Главным-то образом они состояли на содержании у короля и потому поневоле оставались вассалами. По этим же причинам им мила была епископальная церковь с её пышностью, красочными богослужениями и внешней религиозностью, которая освобождала от трудных мыслей о Боге, о смерти, о предназначении человека.
Все они прекрасно владели холодным оружием, много охотились, упражняя верность глаза и меткость руки, большую часть жизни проводили верхом и были лихими наездниками. Аристократы приводили своих слуг, верных участников их развлечений, егерей, конюших, лесничих, псарей, которые так же отлично владели оружием и конём. Люди праздные, ловкие в турнирах, охотах и развлечениях, они высокомерно презирали всех этих мещан, копивших пенс за пенсом в своих тёмных лавках и дурно пахнувших мастерских, терпеть не могли всех этих червей, с утра до вечера и круглый год копошившихся в чёрной, липкой земле. Люди без твёрдой веры и морали, они ненавидели пуритан, которые требовали от каждого служить только Богу, и служить не за страх, а за совесть.
Истинная беда была в том, что всё это были нахлебники, большую часть доходов получавшие из королевской казны, а она пустовала, тогда как армию необходимо было кормить, снаряжать, содержать. Как на грех, короля поддерживали только бедные графства с малодоходным неповоротливым натуральным хозяйством, почти без торговли, без мастерских, без тех мещан и червей, которые пенс за пенсом прятали в свои сундуки. Налоги с этих полупустынных западных и северных графств составляли едва одну пятую от того, что прежде поступало в казну. Других источников ни у короля, ни у его сторонников не имелось.
С большим трудом королеве удалось переправить в Шрузбери небольшую сумму от проданных в Голландии бриллиантов короны. Католики из графств Стаффорд и Шроп дали королю пять тысяч фунтов стерлингов в долг. Один дворянин заплатил шесть тысяч фунтов стерлингов за титул барона. Кое-какие копейки тайные приверженцы монарха окольными путями пересылали из Лондона. В сущности, столь жалких сумм едва могло хватить на содержание самого государя, а что было делать с армией, которая постепенно дошла до двенадцати тысяч солдат?
В известном смысле Карла выручил его племянник, принц Руперт, второй сын его сестры и пфальцского курфюрста Фридриха V, молодой человек двадцати трёх лет, писаный красавец, с великолепными локонами, породистым надменным лицом, породистыми руками, блестящий кавалер, стремительный воин, вкусивший на континенте драгоценный опыт Тридцатилетней войны. Он прибыл в Шрузбери в начале сентября и, не обременяя себя знакомством с положением дел и с английскими нравами, с жаром юности заверил растерянного дядюшку в том, что одним махом разделается с подлым сбродом, который осмелился бунтовать против законного владыки.
Главное же, на континенте принц Руперт усвоил безжалостную доктрину онемеченного чеха Альбрехта Валленштейна, который был убеждён, что армию должно кормить завоёванное им население, и накладывал на него контрибуцию. Правда, принц Руперт завоевать пока что никого не успел и контрибуции ни на кого не накладывал. В первый же день его появления в Англии дядюшка поставил уверенного в себе красавца-племянника во главе всей кавалерии. В восторге от столь внезапного возвышения, он носился по несчастному графству с конным отрядом и с холодной жестокостью пришлого человека реквизировал в пользу короля ценности, продовольствие, лошадей и фураж, то есть немилосердно грабил окрестное население, чем в самое короткое время заслужил его справедливую ненависть и уважение короля.
Уже двадцать восьмого сентября ему удалось стремительным внезапным налётом потеснить ополченцев парламента у Поуик-Бридж близ Вустера. Этот скромный успех привёл дядюшку в восхищение, и он пожаловал племяннику орден Подвязки. До этого дня не уверенный, поникший, король вдруг осмелел. Ему, как и Руперту, стало казаться, что ничего не стоит разнести в пух и прах этот сброд, не умевший держать в руках ни меча, ни копья. Он решил с налёту овладеть Лондоном, чтобы одним разом свернуть шею смутьянам, и двинул армию на юго-восток.
Парламент не пугала вражеская армия, пока она стояла на месте. Его поддерживали все южные и восточные графства и все крупные города, в том числе расположенные в северных и западных графствах, перешедших на сторону короля, в его руках была вся промышленность и торговля, он владел портовыми городами и флотом, прежде на этих территориях собиралось более четырёх пятых налогов, поступавших в казну. Представители нации, большей частью сельские хозяева, предприниматели и торговцы, знали на практике, что в новом мире торговли и прибылей слишком многое зависит от денег, если не всё, а деньги были на их стороне. Уильям Лентолл, председатель нижней палаты, так прямо и заявил в сентябре, что через неделю, самое большее через две, король Карл, оставшись без денег, запросит пощады и принесёт в Лондон повинную голову. Правда, у парламента были два недостатка: он не решался объявить правильный сбор всемогущих денежных средств через налоги и пошлины, а более рассчитывал на добровольные даяния граждан, так дружно поддержавших его, однако добровольные даяния не покрывали расходов, и парламент, разжигавший войну, не знал, что это такое, и не умел воевать.
Движение войска привело в волнение парламент и Лондон. Никто не ожидал от короля такой прыти. Сторонники парламента были в недоумении. Горожане были испуганы, резонно ожидая от кавалеров грабежей и резни. Тайные монархисты были обрадованы, сносились друг с другом и готовились с тыла поддержать своего короля.
Мало понимая в войне, представители нации тем не менее были люди решительные. Они посчитали необходимым принять строгие меры ко всем, кто колебался или не выразил прямой поддержки делу парламента, то есть делу свободы личности, свободы собственности и свободы предпринимательства. Все, кто отказался от добровольных даяний, тотчас были обложены принудительной данью, которая в случае ослушания взималась насильственно, что, естественно, значительно пополнило парламентскую казну. Самых откровенных и непримиримых отправили в Тауэр, самых подозрительных разоружили. Дома их обыскивали. Из всех конюшен вывели лошадей, годных к строевой службе, не стесняясь ни свободой собственности, ни свободой личности. Лондонское ополчение было приведено в боевую готовность. Горожане, мужчины и женщины, дружно укрепляли подступы к Лондону. На улицах возвели баррикады. Графу Эссексу был отдан приказ без промедления отправиться к армии, сконцентрированной северней Лондона, и ударить королевской армии в тыл.
Эссекса проводили торжественно. Его сопровождал комитет из депутатов нижней палаты. Комитету было поручено просить короля, чтобы он распустил армию и добровольно вернулся в Лондон. Если же монарх ответит отказом, комитет должен был употребить любые средства, чтобы «каким бы то ни было образом, битвой или иными средствами, вырвать его величество из лап его коварных советников, а вместе с ним и его сыновей, принца Уэлльского и герцога Йоркского, и привезти их в Лондон, чтобы вновь возвратить их парламенту».
Весь Лондон был твёрдо уверен в скорой и лёгкой победе, кроме Эссека. Он выступил из Лондона девятого сентября. В его обозе везли хорошо оформленный гроб, расшитый саван и фамильные гербы, не то из суеверия, не то и знак того, что он в этом походе должен непременно погибнуть. В поисках неприятеля граф так круто забрал на север и так мало заботился о разведке, что его армия прошла мимо неприятельского войска и потеряла его. Истомив своих непривычных к походам солдат бессмысленным переходом, он спохватился, что парламент вменил ему в обязанность защищать Лондон, и повернул назад.
Двадцать второго сентября Эссекс всё-таки догнал армию короля и сделал остановку в нескольких милях. Его солдатам нужен был отдых. Противник, ждавший нападения с тыла, тоже остановился, у него было около двенадцати тысяч солдат, в армии парламента — не менее двадцати, и королевские генералы предпочли ждать неприятеля на удобной позиции, чем получить внезапный удар с тыла на марше.
Эссекс выжидал. Перед ним был король, и одно это вызывало смятение в душе верноподданного, который не имел права поднимать руку на венценосца, ведь и парламент вооружился, чтобы его защитить, как говорилось во всех прокламациях. Он осматривал своё войско, которое видел впервые. Это было жалкое зрелище. Солдаты были плохо одеты, ещё хуже вооружены, никак не обучены, не имели ни малейшего представления о построениях и манёврах на поле сражения, дисциплина отсутствовала. Только безумец мог с таким воинством ринуться в битву, да ещё со своим монархом, с которым был прочно связан традицией и присягой.
Так и стояли они три недели друг против друга. Понял ли король, что его верноподданный не осмелится напасть на него, надоело ли ему в бездействии топтаться на месте, только он отдал приказ, и его армия кратчайшей дорогой двинулась к Лондону. Эссекс поплёлся за ним, едва ли представляя себе, каким образом станет защищать Лондон, смутно надеясь, что Карл не осмелится атаковать городские укрепления, имея позади численно превосходящее войско.
Двадцать второго октября армия Эссекса расположилась на привал у деревушки Банбери в графстве Уорвик, не заметив, что в какой-нибудь миле на привал расположилась неприятельская армия. Оба войска мирно проспали всю ночь. Только утром они обнаружили, что нечаянно столкнулись нос к носу и что уже невозможно отступать. Пришлось срочно строиться в боевой порядок у подошвы холма Эджхилл. Позиция была неудобной. Местность пересекалась невысокими холмами, низким кустарником и перелесками. Стояла чистая английская осень. Холмы ещё зеленели травой, но было сумрачно, сыро, копыта вязли в земле, пехоте было трудно стоять при стрельбе, а кавалерии ещё трудней было атаковать.
Обе армии построились по старинке: в центре — сомкнутыми рядами пехота, кавалерия — на флангах. Так и стояли до полудня. Эссекс не решался начать сражение первым. Его воинство двигалось так медленно, так безалаберно, что от него отстала почти половина полков и с ними вся артиллерия. Утром двадцать третьего октября у него под рукой оказалось не более десяти тысяч солдат, тогда как королевская армия шла в полном порядке, и под королевским штандартом перед ним стояло тысяч двенадцать, может быть, даже четырнадцать, на расстоянии мили это нетрудно было определить и невооружённым глазом.
Королевские генералы тоже видели, что противник слаб, к тому же стоит не так стройно и твёрдо, как полагается, и ждали, когда подсохнет земля, не сомневаясь, что в два счета разделаются с презренным сбродом, возомнившим о себе чёрт знает что. Ожидание было томительным. Около полудня полк Фортескью перешёл на сторону короля и ослабил правый фланг парламентской армии. В два часа пополудни принц Руперт выхватил шпагу и бросил всю кавалерию на этот ослабленный фланг. Необстрелянные ремесленники и наёмники из босяков, сидевшие на тяжёлых крестьянских лошадках, были смяты в течение часа и ударились в паническое бегство. Руперт устремился за ними. Тем временем королевская кавалерия правого фланга стала теснить левый фланг парламентской армии. Казалось, победа уже была в руках короля.
Но только казалось. В лихой погоне конница Руперта налетела на брошенный без охраны обоз. В мгновение ока с кавалеров спала вся спесь, как шелуха. Под расшитыми камзолами и шляпами с перьями таились гнусные мародёры. Вместо того чтобы добить неприятеля, они бросились грабить с таким увлечением, что совершенно утратили чувство реальности. Тем временем к Эджхиллу подтянулся полк Гемпдена с артиллерией. Его солдаты были утомлены переходом. Всё-таки решительному, смелому Гемпдену удалось найти верные слова призыва и ободрения. Его полк сомкнутыми рядами ударил по распоясавшимся, разрозненным кавалерам, смял их и обратил в неприличное бегство, причём славный Руперт мчался в первых рядах.
На поле сражения, которое так глупо оставил, он нашёл полный хаос. Парламентская пехота, состоявшая из лондонских простолюдинов, сохранила полный порядок и поддержала кавалерию своего левого фланга. Кавалеристы Эссекса выдержали атаку и перешли в наступление. Королевская пехота была разбита, рассеяна и бежала. Главнокомандующий Линдсей был смертельно ранен и взят в плен. Королевский штандарт был захвачен. Монарх был брошен на произвол судьбы и был момент, когда он мог оказаться в плену. Отставшие полки Эссекса подошли и выстроились в должном порядке.
Появление Руперта ободрило короля. Дядюшка и племянник бросились уговаривать рассеянные эскадроны построиться и продолжить сражение. Кавалеры плохо подчинялись их надрывным приказам. Офицеры не знали, где их солдаты, солдаты не находили и не спешили найти своих офицеров. Люди устали, устали и лошади, те и другие чуть не падали с ног. Атака парламентской армии могла быть смертельной, немногим из кавалеров удалось бы спастись, однако было поздно, ночь надвигалась, Эссекс не решился атаковать, не надеясь на своих добровольцев, храбрых, но неумелых, и приказал считать потери, ужинать и отдыхать, полагая, что победа одержана и Лондон спасён.
Ранним утром король объехал свой лагерь. Оставшиеся в строю офицеры докладывали о состоянии вверенных им частей. Армия потеряла около трети пехоты, эскадроны были сильно потрёпаны и расстроены, продовольствия было мало, холод и голод подавляли кавалеров морально, они были слишком изнежены своей прежней жизнью, под покровом ночи несколько сотен отправилось по домам. Тем не менее государь повелел строиться. Он решился дать второе сражение, чтобы добить парламентских негодяев и беспрепятственно двинуться на покорение Лондона. Вскоре вид его воинства показал, что ни кавалерия, ни пехота не способны сражаться.
Парламентская армия потеряла много кавалеристов и почти полностью сохранила пехоту. Начальники ополчения и депутаты нижней палаты, в особенности горячий Гемпден и рассудительный Стептлтон, требовали, чтобы Эссекс командовал атаковать. Они уверенно твердили:
— Король не в состоянии выдержать нападение, а к нам подошли три свежих полка. Либо он попадёт в наши руки, либо мы заставим его согласиться на наши условия. Только скорая победа может спасти государство от несчастий междоусобия, а парламент оградить от неприятностей случая.
Эссекс не соглашался. Он по опыту знал, что пехота хороша в обороне, однако не способна атаковать кавалерию. Его мнение разделяли офицеры, побывавшие на полях сражений Тридцатилетней войны и видевшие вопиющие недостатки парламентской армии. Они возражали:
— Достаточно и того, что столь славное сражение выиграно войском, состоящим почти целиком из новобранцев. Лондон пока что спасён. Тем не менее успех обошёлся нам дорого. Солдаты из новичков от победы приходят в восторг, но и напуганы видом первой крови и павших товарищей. Сегодня они не хотят и не могут сражаться, их нелегко будет повести за собой. К тому же парламент располагает только одной армией. Прежде всего её надо научить воевать, а не рисковать ею в один день.
Эссекс приказал отступать. Он остановился в Уорвике, чтобы по-прежнему угрожать вражеской армии с тыла, дать отдохнуть новобранцам и пополнить их ряды новым призывом. Офицеры ополчения и депутаты парламента, понюхавшие в первый раз пороху, были недовольны этим решением. Они ворчали и открыто осуждали своего генерала. По их мнению, верная победа была упущена из-за нерешительности графа, если не из трусости или предательства. Однако ни среди новобранцев, ни среди тех, кто участвовал в Тридцатилетней войне, не нашлось ни одного офицера, который задумался бы над тем, в чём главная слабость парламентской армии, которая в конечном счёте не может не привести её к поражению. Громче всех возмущался пылкий, решительный Гемпден. Устроившись на постой, за кружкой вечернего пива, он убеждал своего двоюродного брата, ставшего неожиданно для себя капитаном, командиром кавалерийского эскадрона, что одной решимости, смелости достаточно для полной победы над кавалерами, которые показали себя при Эджхилле грабителями, разбойниками, а не храбрыми воинами. Оливер Кромвель, его двоюродный брат, такой же неопытный офицер, как и Гемпден, зато, в отличие от него, обладавший твёрдой верой, практическим опытом и трезвым умом, единственный во всей парламентской армии увидел то главное, чего не видел никто. Попивая пиво, при свете одинокой свечи, как, бывало, делал отец, он размышлял:
— Наши войска состоят из прислуги, из ремесленников разного рода, ими командуют старые, одряхлевшие вояки и пьяницы, а королевская армия состоит из джентльменов, знатных людей. Неужели вы думаете, Джон, что всякий сброд, лишённый настоящей твёрдости духа, эти низкие, подлые души будут когда-нибудь в состоянии помериться силами с джентльменами, которых вдохновляет честь, наделёнными смелостью и решимостью? Ответ очевиден. Чтобы победить, мы должны набирать людей, которые ни в чём не уступили бы джентльменам. Иначе нас будут бить постоянно.
Гемпден был человек умный и образованный, но далёкий от реальности, и потому он сказал:
— Вы, должно быть, правы, кузен. Тем не менее ваше предложение мне представляется неисполнимым. Джентльмен есть джентльмен. Где мы найдём людей, которые обладали бы смелостью и решимостью, а главное, честью, если это не джентльмены?
Кромвель нахмурился и только сказал:
— Надо искать, если мы хотим победить.
События подтвердили, что парламентской армии было далеко до побед. Король двинул кавалеров на Лондон. По пути к нему присоединялись его дезертиры, в страхе бежавшие с поля боя при Эджхилле, теперь они избавились от страха и подкормились в поместьях и фермах и вновь пылали ненавистью к круглоголовым. Король, не встречая сопротивления, вступил в Оксфорд, ставший его ставкой.
Это известие вызвало в Лондоне панику. Трусливые депутаты требовали немедленных переговоров о мире. К ним присоединились благоразумные, которые с самого начала доказывали, что худой мир лучше войны. Депутация была сформирована. В Оксфорд направили своего представителя, который просил для неё охранные грамоты. В Уорвик поскакал другой гонец, который передал Эссексу строжайший приказ без промедления вести свою армию на выручку Лондона.
В самом деле, положение было серьёзное. Кавалеры рассыпались по окрестностям Оксфорда, нигде не встречая сопротивления, и беспощадно грабили горожан и крестьян. Малые городки в направлении к Лондону, казалось, безусловно преданные парламенту, покорно сдавались королевским отрядам. Комендант Ридинга, друг Кромвеля, бросился в постыдное бегство, едва завидев несколько эскадронов противника. С честью у сторонников парламента и у самого парламента было худо, хотя там заседали главным образом джентльмены. По счастью, седьмого ноября к Лондону приблизилась армия Эссекса. У депутатов прибавилось мужества. Переговоры с королём были прерваны, ещё не начавшись. Восьмого ноября лорд-мэр собрал в помещении городского совета собрание горожан. На собрание явились два члена парламента, Роберт Гревил Брук и Генрих Вен, чтобы вселить в лондонцев мужество и призвать их под знамёна парламентской армии. Лорд Роберт Гревил Брук начал бесстыдным, безудержным хвастовством:
— Генерал Эссекс одержал неслыханную доселе победу. У неприятеля убито две тысячи человек, тогда как наши потери не превысили сотни. Что я говорю?! Наши потери составили менее сотни, если не считать женщин, детей, возчиков и собак, потому что кавалеры убивали их всех, не щадя и собак. С ними у нас выбыла не сотня, а по крайней мере две! Джентльмены! Генерал завтра выступает в поход. Он решился сделать много больше того, что уже сделал. Он идёт в поход ради вас, не для своей выгоды, не для себя. Джентльмены, он человек свободный, вельможа, который волен идти, куда ему вздумается. Так помните, что единственно ради вас генерал Эссекс идёт завтра на битву. Итак, лишь только вы услышите бой барабанов, а вы их услышите непременно, умоляю вас, не говорите тогда: «Мне что? Я не служу в ополчении», и то, и другое, и третье, о нет! Выступайте в поход, бейтесь храбро и помните, что от этого зависит ваше спасение.
Эту выспренную речь зал встретил аплодисментами, однако она не могла вселить мужество в этих мирных людей, которые по одному призыву красноречивого лорда должны были под бой барабанов шагать на войну и храбро биться, впервые взяв в руки мушкет и копьё. Король наступал. Кавалеры вступили в Колбрук, в пятнадцати милях от Лондона. Депутаты, сами лишённые мужества, поспешили вступить в переговоры о мире. Одиннадцатого ноября депутация была милостиво принята королём. Король велел передать, что готов вступить в переговоры в любом случае, даже перед воротами Лондона. Утром двенадцатого ноября его ответ прочитали в верхней палате. Эссекс поднялся и задал вопрос, что ему делать. Ему приказали остановить военные действия. Лорды направили Питера Киллигрю вести с королём переговоры о мире. Он нашёл Карла в Брентфорде, в семи милях от Лондона,
Монарх не имел намерения сообразовываться с пожеланиями парламента, у которого было семь пятниц на неделе. Он продолжал наступление и подступил к Брентфорду, рассчитывая захватить его с ходу врасплох и внезапно овладеть Лондоном. К его удивлению, слабый гарнизон Брентфорда отказался сдать город и храбро его защищал. Заслышав выстрелы, на помощь вовремя подошли полки Брука и Гемпдена и несколько часов выдерживали атаки всей неприятельской армии. Звуки выстрелов долетали до Лондона. Горожане были в смятении. Эссекс покинул палату лордов, собрал, сколько успел, добровольцев и поспешил им на помощь. Он опоздал. Солдаты парламента отступили. Король занял Брентфорд и оказался в шаге от Лондона.
Горожане были испуганы. Со всех сторон Карла обвиняли в жестокости и вероломстве. Многие горожане были уверены, что город будет взят штурмом и монарх не задумается отдать его на поток и разграбление кавалерам. Прежние приверженцы войны возроптали. Только убедившись, что в такой обстановке переговоры о мире бессмысленны, парламент поспешил возобновить приготовления к обороне. Его именем в ряды парламентской армии были призваны ученики мастерских, причём им обещали время военной службы засчитать как время учёбы. Город призвал новое ополчение. В его ряды вступило около четырёх тысяч мастеровых. Генералом этого спешно вооружённого воинства был назначен Филипп Скиппон, стойкий пуританин и решительный человек. Он выстроил своих неумелых солдат и сказал им:
— Ну, ребята, сперва от всего сердца помолимся Богу, а потом будем драться от всего сердца. Я с вами буду делить все опасности. Не забывайте, что вы защищаете дело Божье, своих жён и детей, самих себя. Итак, ребята добрые, ребята храбрые, говорю вам ещё раз: помолитесь Богу от всего сердца и деритесь храбро, и Бог не оставит вас.
Отряд Скиппона вошёл в состав парламентской армии, которая уже насчитывала двадцать четыре тысячи ополченцев. Четырнадцатого ноября Эссекс сделал им смотр. Он пытался вселить в солдат мужество, но сам колебался. Казалось, атаковать короля было свыше его нравственных сил. Настойчивей всех в его штабе атаки требовал Гемпден:
— Вы никогда не найдёте в народе такой непоколебимой уверенности в победе и твёрдого убеждения, что ему непременно нужно победить.
Ему возражали старые офицеры, хоть и пьяницы, по отзывам Кромвеля, однако имевшие опыт сражений. Всё-таки Эссекс подчинился необходимости что-нибудь делать. Он выстроил своё воинство в виду вражеского войска. Всё было так безобидно, так мирно, что его сопровождали сотни праздных зевак, которым сражение представлялось занимательным зрелищем. Вдруг они заметили в рядах кавалеров движение. Зрители приняли это за начало атаки и без оглядки, в панике поскакали по дороге на Лондон, точно за ними гнались. Этого было довольно, чтобы парламентское воинство дрогнуло. По рядам понеслись зловещие слухи. Многие ополченцы были готовы бежать по домам. Когда выяснилась ошибка, а солдаты получили из города вино и табак, они успокоились, но Эссекс отказался атаковать короля с такими волками. У кавалеров в тот день не хватало пороха и свинца. Король испугался атаки, которой страшился и Эссекс, и отвёл свою армию сначала в Ридинг, потом в Осксфорд, где расположился на зимние квартиры, что означало конец кампании этого года.
3
Наступила неразбериха. Крупные торговцы и финансисты уже хотели скорейшего примирения с монархом, опасаясь, что затяжная война принесёт большие убытки, если парламент не сможет платить по долгам. Девятнадцатого декабря они подали петиции в обе палаты, дельцы проклинали папизм, нападали на злоупотребления и беззакония короля и требовали вступить с ним в мирные переговоры. Двадцать второго декабря такие же петиции поступили из нескольких графств. В противовес им в парламент поступили прошения от городского совета, от подмастерьев и рабочего люда, которые требовали продолжить войну до тех пор, пока король не согласится править совместно с парламентом. Благоразумные и трусливые депутаты настаивали на переговорах, последовательные и решительные оставались непримиримыми. Чтобы не рассориться окончательно, представители нации договорились, что на переговоры в Оксфорд отправится депутация от городского совета и прощупает почву. Второго января 1643 года депутация прибыла и просила короля возвратиться в Лондон, обещая своими силами подавить мятежи. Карл улыбнулся:
— Вы там не способны поддерживать мир и между собой.
В этом духе он составил ответ и отправил его в Лондон со своим представителем. Горожане собрались в помещении городского совета и встретили его недружелюбными криками. Он испугался и отказался читать послание короля, говоря, что у него слабый голос. Читать всё же пришлось. К несчастью, оно оказалось слишком длинным, скучным и путаным, полным упрёков парламенту и народу, из чего следовало, что он не намерен мириться. Ему отвечали Джон Пим и Эдуард Монтегю-Кимболтон. Их поддержали со всех сторон:
— Будем жить или умрём вместе с ними!
Тем не менее боевые действия прекратились. Борьба сама собой переместилась в графства. Там противники на свой страх и риск набирали отряды, нападали и отступали, но большей частью ограничивались мелкими стычками.
Все враждующие были родственниками или соседями, до начала раскола дружно жили между собой, бывали в гостях, крестили друг у друга детей. Они сражались не друг против друга, а только за идею, за принцип, и потому не прерывали добрососедских и родственных связей, между стычками мирно встречались между собой, а пленных отпускали под честное слово, с условием больше не воевать ни на той, ни на другой стороне. Кавалеры были склонны к грабежам, но редко прибегали к жестокости. Круглоголовые чтили законы, данные Богом, и считали своим долгом быть человечными и с врагами своими. Один принц Руперт снискал худую известность зверствами в разбойных набегах, но его все презирали и третировали.
Постепенно графства объединялись. В середине февраля королева возвратилась в Йорк. Её восторженно встретили кавалеры. На переговоры с государыней из Шотландии прибыли тамошние монархисты Гамильтон и Монтроз. Толпы католиков стекались под её знамёна, что было нарушением законов королевства, запрещавших католикам брать в руки оружие. Графства Дергем, Нортумберленд и Уэстморленд перешли на сторону монархини. Во главе объединённых отрядов севера встал герцог Уильям Кавендиш Ньюкасл. Очень скоро его армию прозвали армией папистов и королевы. Он с презрением относился к нареканиям как со стороны парламента, так и со стороны короля. Его высокомерие, независимость вызывали почтительное уважение, и армия быстро росла.
Усиление этого войска пугало парламент намного больше, чем армия короля, стоявшая в Оксфорде. Среди горожан носились слухи о заговорах. Благоразумные и трусливые депутаты вновь заговорили о мире. К ним тайно примкнули богатые и знатные представители нации, которые прежде рассчитывали на быстрый успех и теперь предпочитали долгой войне мир с Карлом на более или менее пристойных условиях. Вновь было внесено предложение вступить в мирные переговоры с тем условием, что перед началом переговоров обе стороны распустят свои войска. Вновь заговорил Бенджамин Редьярд:
— Я долго страшился, что чаша ужасов, которая на наших глазах обошла все народы на континенте, минует нас, и вот она наконец здесь. Может быть, нам суждено испить её до конца. Да сохранит нас от этого Бог! Нам осталась одна надежда, а именно: наши несчастья не могут быть продолжительны, потому что на нашей земле мы не можем сражаться так, как это делается в Германии, где на обширном пространстве война ведётся и всё-таки нет недостатка в мирных полях, которые засеваются и дают урожай, достаточный для пропитания жителей и солдат. Напротив, наша земля со всех сторон сжата морем. Она похожа на место, достаточное только для петушиного боя. Нам нечем отгородиться от наших врагов, кроме собственных рёбер и черепов. Уже было сказано в этой палате, что совесть заставляет нас не оставлять без внимания невинно пролитой крови, которая потечёт, если мы не сможем добыть мир, приступив безотлагательно к переговорам. Многие говорили о надежде на Бога. На Бога можно полагаться при заключении мира точно так же, как и в войне. Бог дарует мудрость в переговорах, равно как и мужество в битвах. И в том и в другом случае Бог тому посылает успех, кто угоден ему. Кровопролитие есть грех, который вопиет о возмездии. Этот грех уже пятнает страну. Так поспешим окончить его!
Предложение было отвергнуто, но только тремя голосами. Сомнения, колебания продолжались, а это приводит к частым, нередко непоправимым ошибкам. Понятно, в конце концов всё закончилось сговором между вождями оппозиции, с одной стороны, и благоразумными и трусливыми, с другой. Двадцатого марта в Оксфорд отправилась ещё одна депутация из пяти человек, чтобы сначала договориться о перемирии, а потом и о мире. Разумеется, ничего нового она предложить не могла: король должен управлять совместно с парламентом. Монарх тоже ничего нового ответить не мог: править совместно с парламентом он не желал. Правда, Карл не мог взять Лондон, но и парламент не мог выбить его из Оксфорда. В переговорах этого рода последнее слово остаётся за силой, а подлинной силой не обладал ни тот, ни другой. Поговорили немного. Государь, казалось, готов был отдать парламенту сбор ополчения, однако царственная супруга пригрозила покинуть Англию навсегда, и этого было довольно, чтобы король отказался от каких бы то ни было уступок.
Депутация возвратилась ни с чем. Эссекс возобновил военные действия. Гемпден требовал похода на Оксфорд. Эссекс по-прежнему не рассчитывал на стойкость своих ополченцев. Он едва-едва решился осадить Ридинг. Ридинг сдался спустя десять дней. Гемпден потребовал осадить Оксфорд. Эссекс отверг этот, по его мнению, слишком рискованный шаг. Его армия оставалась в бездействии, стала разлагаться. Начались перебои с продовольствием, с жалованьем, с одеждой и обувью. На солдат напали болезни. Граф требовал от комитетов парламента денег. В комитете засели сторонники мира. Они предпочитали уморить армию голодом и таким бессовестным образом добиться прекращения ненужной, уже ненавистной войны. Самые умные из представителей нации начинали догадываться, что парламенту нужна новая армия и новый главнокомандующий, но, кроме Эссекса, никакого другого главнокомандующего не было под рукой, и ни один из них не имел ни малейшего представления, какой должна быть эта новая армия и где её взять.
Во всей Англии это знал один человек: Оливер Кромвель. Когда с начала зимы стало складываться объединение восточных графств Норфолк, Суффолк, Кембридж, Гентингтон, Бедфорд, Эссекс, Линкольн и Гертфорд — самых развитых и богатых, он получил от парламента полномочия и выехал в родные края. В Гентингтоне, в Кембридже, в Или, в Сент-Айвсе Оливер прожил сорок два года и знал здесь чуть ли не каждого человека, если не лично, то хотя бы в лицо. Это были такие же сельские хозяева, скотоводы, торговцы, пивовары, ткачи, как и он. Вместе с ними он учился и пил пиво в трактире, вместе с ними ходил в церковь и обсуждал цены на скот и виды на урожай, слушал проповеди и развлекался охотой на лис.
Ему ничего не надо было искать. Новой армии нужны были люди, сильные духом, которые шли бы сражаться не ради славы, не ради наживы, даже не ради той чести, которая девала сильными джентльменов, а из одного непреклонного желания служить верой и правдой Богу, из желания справедливости и добра. Такими и были его родственники, его друзья и соседи, свободные фермеры и городские ремесленники Гентингтона, Кембриджа и других графств, объединившихся для борьбы с королём на востоке страны. Как и он, они напитывали свой дух Священным Писанием, слушая изгнанных проповедников. Для них он устраивал молельню в дальнем углу своего сада, сидел рядом на широкой скамье, вместе толковал библейские тексты, верил, как и они, в предопределение свыше. За истинную веру, как и земляки, Оливер отдал бы жизнь. Как и они, он не страшился смерти, твёрдо веруя в Царство Небесное. Дело парламента, как и эти люди, считал правым делом и готов был поднять оружие на кавалеров и короля. Именно их, свободных, сильных духом и телом, глубоко нравственных и благочестивых, призывал в свой полк. Каждому Кромвель говорил приблизительно так:
— Какой бы враг ни стоял передо мной, будь это сам король, я застрелю его, как любого другого. Если сделать то же самое вам запрещает совесть, идите в другое место.
Оливер мог на них полностью положиться, только для победы мало было одной силы духа. Это его практический ум успел разглядеть при Эджхилле. Англия давно не вела сухопутных войн. Постоянной армии у неё не было. Солдаты были не обучены, и никто из офицеров не знал, чему их надо учить. Высшие офицеры не имели никакого понятия ни о тактике, ни о стратегии, в походе не имели даже разведки. Армии передвигались вслепую, случайно встречались, выстраивались в линию, имея на флангах кавалерию, а в центре пехоту, наваливались друг на друга и в ожесточении резались чем попало, пока одной стороне не удавалось обратить в бегство другую. Считалось, что победил тот, кто остался на поле сражения, а когда обе армии оставались на поле сражения, каждая считала, что победила она.
Вооружение мало помогало победе. От металлических доспехов давно пришлось отказаться: как смеялся король Яков Стюарт, они защищали рыцаря от удара противника, но не позволяли нанести ответный удар. Кавалеры обычно надевали только латы и шлем, а ополченцы парламента сражались в рубашках. Пехотинцы всё ещё пользовались луком и стрелами. Лук был привычней и эффективней мушкета. Стрела попадала в цель чаще пули, дальше летела, а главное, противник видел её, пытался уклониться, лошади пугались, всё это расстраивало ряды. Порох был слаб. Мушкеты были фитильными. Мушкетёр выходил на поле сражения с мешочком пороха, с запасом пуль во рту и с горящим фитилём в руке. Чтобы перезарядить мушкет, он тратил две, три, даже четыре минуты. Зная его огнестрельную немощь, опытные офицеры советовали разряжать мушкет, только приставив его к телу противника, лучше всего под кирасу. Главным оружием оставались пика и меч. По этой причине сражение очень походило на свалку, где, как в уличной драке, не всегда отличали чужого от своего. Исход сражения часто решался одной кавалерийской атакой, если кавалерии удавалось вовремя развернуться и первой нанести противнику мощный удар, как принц Руперт и поступил при Эджхилле.
Что мог противопоставить Кромвель этой беспомощности и неразберихе. Выучку и дисциплину, великолепную выучку и беспрекословную дисциплину, чтобы каждый солдат владел оружием безукоризненно, не путал рядов и мгновенно и точно исполнял приказ офицера. И ещё ему нужна была кавалерия и кавалерия, лучше, дисциплинированней и выносливей, чем кавалерия короля.
Следовательно, он, сельский хозяин и скотовод, должен был учиться военному делу, о котором до этого дня имел самое смутное представление. В свои сорок четыре года Оливер твёрдо сидел на коне, был страстным охотником и отличный стрелок, большего ему в его сельской жизни не требовалось. Казалось, теперь, в его возрасте, было поздно браться за трудную и сложную науку построений и перестроений, атак и отходов, длительных маршей и внезапных бросков, когда он и в молодости не пылал жаром познания ни в Кембридже, ни в Линкольн-Инне, но видел в этом новом занятии веление Господа, это был его долг.
Чтобы убедить его в том, что это именно веление Господа, к его полку прибился офицер из Голландии, довольно поскитавшийся по полям сражений Тридцатилетней войны. Он начал с элементарного: обучил Кромвеля управлению лошадью в военном строю и главным манёврам кавалерийской массы, как в походе, так и в бою, что опытный наездник усвоил довольно легко.
Поражённый способностями давно перезревшего ученика, офицер пошёл дальше и познакомил Кромвеля с новейшими достижениями военной науки, которые приносили победы шведскому королю. Во всех европейских армиях разные роды оружия действовали отдельно, многочисленными и сплочёнными массами, что затрудняло движение, отчего им приходилось маршировать на поле сражения, как на параде, и подставлять себя под удар неприятеля. Густав Адольф произвёл революцию. Шведская армия стала подвижной и гибкой. Если прежде кавалерию строили перед атакой в пять, даже в восемь рядов, так что передние не давали простора задним рядам и принуждали их отставать, растягивая кавалерийский полк чуть не на милю, то у него кавалерия строилась только в три ряда, сразу за ними он ставил пехоту и артиллерию. Преимущества новой тактики противник очень скоро испытал на себе. Когда кавалерия действовала удачно, пехота, идущая следом, при поддержке артиллерии закрепляла успех. В том случае, когда кавалерийская атака срывалась и расстроенная конница в беспорядке откатывалась назад, сплочённые ряды пехоты при поддержке артиллерии останавливали контрнаступление, отбрасывали неприятеля, позволяя своим всадникам прийти в себя, перестроиться и снова атаковать.
Однако решающее преимущество шведской армии, по словам офицера, было в другом. Европейские армии были наёмными, в них шёл всякий сброд, который не любил дисциплины, зато любил грабежи. Густав Адольф вербовал в свою армию свободных шведских крестьян, воспитанных в духе протестантской религии с твёрдой моралью, сильных столько же телом, сколько и духом, сознательно принимавших строгую дисциплину. Такая армия была обречена побеждать.
Таких же свободных крестьян и горожан набирал Кромвель в свой полк. Оставалось их обучить военной премудрости, первые азы которой только что познал сам, и он их учил, с утра до вечера занимаясь этим. В сущности, он взял на себя нечеловеческий труд. Кто были его новобранцы? Пахари и пастухи, чесальщики шерсти, прядильщики, ткачи, мясники, сапожники, портные, пивовары, трактирщики и торговцы, привыкшие размеренно идти за своим плугом, долгими часами сидеть в лавке или в мастерской. А что у него были за лошади? Его добровольцы не имели кровных скакунов, на которых красовались приверженцы короля, они являлись к нему на тяжеловесах, привыкших тянуть плуги и повозки, с толстым брюхом и спокойным нравом, никогда не слыхавших ни пушечной, ни мушкетной пальбы. Один из его современников недаром писал:
«Требуется великое искусство от человека, который командует конницей и обучает её. Трудно заставить диких людей и ещё более диких лошадей повиноваться строго определённым правилам и совершать в порядке самые сложные движения...»
Никакой труд не страшил, в этом была его настоящая сила. Оливер не стеснялся вместе с новобранцами встать в строй, держать вместе с ними равнение и по команде разом делать поворот направо или налево, учил их заряжать мушкет, показывал, как держать пику, когда наносишь удар или отражаешь атаку вражеской кавалерии, учил их чистить оружие, ухаживать за лошадьми, чтобы они хотя бы отчасти походили на исправных кавалерийских коней, делать длинные переходы и спать, если понадобится, под открытым небом, положив под голову вместо подушки седло. Недовольный распространёнными в тогдашней кавалерии кирасирами, которых он впервые наблюдал под Эджхиллом, Кромвель занялся драгунами, которые могли быстро спешиться и превратиться в пехоту, что делало их более подвижными и предприимчивыми в бою.
Он понимал, что этого мало: умелый солдат с плохой дисциплиной ещё не солдат, и сознательно набирал в свой полк исключительно людей истинной веры, неподкупных и честных, непритязательных и суровых, Божьих людей, что ставили ему в вину недоброжелатели и чем гордился сам. В полку дела благочестия занимали не меньше времени, чем военное ремесло. Солдаты молились и слушали проповедника с тем же усердием, с каким стреляли или бросались в атаку и выполняли приказы офицеров. Перед началом боя они громко распевали псалмы. И то и другое было для них велением Господа, ибо сказано: «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа».
Кромвель требовал от своих солдат абсолютного повиновения офицерам, искоренил пьянство, драки, брань, воровство. Даже привычная для простого народа божба изгонялась как неприличная человеку истинной веры, за это полагался двенадцатипенсовый штраф. Если солдат напивался, его сажали в колодки. Если называл товарища круглоголовым, как бранили их кавалеры, его исключали из службы.
В соответствии с такими рядовыми подбирал офицеров; не считался с происхождением и разновидностью верований, которых в протестантских кругах становилось всё больше. Чтобы получить в его полку офицерскую должность, были необходимы безусловная преданность делу парламента и твёрдость веры в Господа нашего Иисуса Христа, а не знатность, не благородство происхождения, крепкий смекалистый ум, твёрдость характера и находчивость в самых неожиданных обстоятельствах, а не образование, полученное в Кембридже, Оксфорде и Линкольн-Инне. Офицер его полка должен быть талантливым командиром, который знает манёвр, ведущий к победе, и замечательным проповедником, который в нужный момент находит слово, идущее из самого сердца, и поднимает дух замявшегося или струсившего простого ратника. Он сам был таким: решительным и храбрым, выносливым и умелым, сам любил беседовать со своими солдатами о царстве вечной справедливости, о торжестве истины над ложью, о победе истинной веры над ложным и лицемерным идолопоклонством, о свободе и собственности, о долге, о служении общему делу.
Его убеждения настораживали и отталкивали далее тех джентльменов, которые вступали в ряды парламентской армии. Тем более они отталкивали тех джентльменов и знатных людей, которые колебались, ещё не решив, на чью сторону встать. Когда Джон Хотэм, не впустивший короля в крепость Гулль, стал распространяться о том, что, продлись эта война, нуждающийся народ непременно восстанет и позаботится сам о себе, Кромвель отказался взять его в полк и предпочёл ему капитана Уайта, в прошлом свободного фермера. Он как в воду глядел: вскоре Джон Хотэм перебежал на сторону короля. Когда Ралф Марджери набрал отряд кавалерии, но чванливые власти графства Сэфолк не утвердили его капитаном на том основании, что Ралф Марджери не был джентльменом, Оливер направил им отповедь:
«Я предпочёл бы иметь капитана, одетого в грубошёрстный кафтан, но знающего, за что он сражается, и любящего то, в чём он убеждён, тому, кого вы называете джентльменом, но кто из себя ничего больше не представляет. Я почитаю джентльмена, который на деле является джентльменом. Прошу вас, будьте внимательны при выборе капитанов, гонитесь не за количеством, а за качеством. Если вы изберёте честных и благочестивых людей на должность капитанов кавалерии, за ними последуют другие честные и благочестивые люди. Не беда, если они будут из низкого сословия, хотя бы это и возбудило толки. Хорошо бы, конечно, поручать эти должности людям благородного происхождения, но откуда же взять их, если они к нам не приходят? Кто им мешает пристать к нашему делу? Главный вопрос в том, чтобы шло вперёд наше дело, а потому назначайте людей любого звания, лишь бы они были непритязательны, стоили доверия и были искренне преданы общему делу».
Когда один из его подчинённых сместил подполковника Ли только за то, что тот принадлежал к секте анабаптистов, он попытался его вразумить:
«Сэр, право же, вы поступили нехорошо, уволив человека, столь преданного делу и столь хорошо вам служившего. Разрешите мне заявить вам, что я не согласен с вами. Вы утверждаете, что он анабаптист? Но уверены ли вы в этом? Да наконец если даже это и так, разве это делает его неспособным служить государству? Я думаю, сэр, что государство, выбирая себе на службу людей, на их религиозные воззрения внимания обращать не должно. Если они готовы ему верно служить — этого довольно вполне. Я и прежде советовал вам быть терпимее и думаю, что вы избежали бы многих ошибок, если бы послушались моего совета. Берегитесь дурно обращаться с людьми, виноватых только в том, что не разделяют ваших религиозных убеждений».
Над ним посмеивались. Благородные джентльмены не желали служить в его полку наравне с бывшим котельщиком Джоном Фоксом, бывшим извозчиком Томасом Прайдом, бывшим сапожником Хьюсоном или бывшим шкипером Ренсборо. Положением в его полку был недоволен Эдуард Монтегю-Кимболтон граф Манчестер, председатель палаты лордов, назначенный главнокомандующим войсками объединения восточных графств. Познакомившись с его офицерами, он отправил возмущённое донесение в Лондон:
«Полковник Кромвель выбирает офицеров не из тех, у кого много поместий, а из простых и бедных людей, которые не отличаются родовитостью, только бы это были благочестивые и честные люди. Если вы посмотрите на его собственный конный полк, то вы увидите там множество таких офицеров, которые называют себя Божьими людьми. Некоторые из них заявляют, что им являются видения и что они могут пророчествовать».
Возмущение благородного графа можно бы было понять и принять, если бы его собственные полки превосходили конный полк Кромвеля. Когда его полк вошёл в состав войск объединённых восточных графств, он нашёл солдат графа Манчестера буйными, недисциплинированными и развращёнными, несмотря на то, что им исправно платили жалованье, тогда как его воинам парламент давно не присылал ни гроша. Он всегда сознавал свою правоту и не без гордости говорил незадолго до смерти:
«С тех пор как я сделался капитаном конного отряда, я старался исполнять свои обязанности как можно лучше, и Господь благословил мои старания, потому что они были угодны Ему. Вместе с тем я искренне и в простоте душевной, как это признано честными и умными людьми, хотел сделать и всех моих помощников такими же верными рабами правды Господней».
Оливеру верили, к нему со всех сторон шли добровольцы, полк разросся сначала до тысячи, потом до двух тысяч кавалеристов. Все были соединены истинной верой и сплочены дисциплиной в одно непобедимое целое. Они сражались так, как никто ни с той, ни с другой стороны не сражался в этой войне. Это признавали даже враги. Эдуард Хайд граф Кларендон, монархист, ставший ближайшим советником короля Карла, писал:
«Королевские войска, очень сильные в атаке, трудно было вновь собрать в строй, в то время как войска Кромвеля, побеждали они или нет, тотчас соединялись вновь и стояли в полном порядке до получения нового приказа».
Роберт Рич граф Уорвик, адмирал флота, презиравший в своих солдатах религиозный фанатизм и преданность долгу, тем не менее отмечал: «Они предпочитали смерть бегству, от страха их отучила привычка к опасности».
Бальстрод Уайтлок записал в своём дневнике: «Они сражаются сплочённо, как один человек».
Всё-таки истинной веры, суровой дисциплины и выучки было ещё недостаточно. Солдат было необходимо вооружать, одевать, обувать и кормить. Казалось, они защищали дело парламента, и парламент обязан был их содержать, но у него не было для этого средств. В течение многих лет не позволяя королю вводить налоги и пошлины, вожди оппозиции так и не решились ввести постоянные налоги и пошлины и по этой причине никому не платили. Не давали они денег и Кромвелю, самому преданному защитнику, ограничившись тем, что отметили его заслуги чином полковника.
На содержание своего полка Кромвель истратил все свои сбережения, приблизительно полторы тысячи фунтов стерлингов. Это была капля в море. Он искал денег повсюду, не для себя, о себе он не думал, а для полка, засыпал письмами комитеты графств, которые делали вид, будто руководят военными действиями, вымаливал:
«Я прошу денег не для себя. Если бы речь шла обо мне, Я бы и рта не раскрыл в такое время. Но другие не будут удовлетворены. Умоляю вас, поспешите с присылкой ассигнований. И не забудьте о проповедниках».
Он убеждал:
«Джентльмены, дайте возможность жить и содержать себя тем, кто желает пролить кровь свою ради вас».
Ни убеждения, ни просьбы не помогали. Комитеты были беспомощны и не отвечали. Дело дошло до того, что Кромвелю следовало без промедления выступить на выручку отряда Ферфакса, осаждённого в Гулле, но для этого не было средств. Полковник обратился в Лондон, к кузену Оливеру Сент-Джону, одному из вождей оппозиции. Это был крик отчаяния:
«Из всех людей я меньше всех желал бы беспокоить Вас денежными делами, если бы тяжёлое положение моих отрядов не побуждало меня к этому. Я теперь готов выступить против врага, осадившего город. Многие отряды лорда Манчестера прибывают ко мне в состоянии очень плохом и мятежном. Наличных средств совершенно недостаточно для их содержания. Мои отряды растут. У меня прекрасные товарищи: если бы Вы их узнали, Вы бы со мной согласились. Они не анабаптисты, а умеренные, честные христиане; они ожидают, что с ними будут поступать по-человечески. Из трёх тысяч фунтов стерлингов, выделенных мне, я не могу получить часть, которая причитается с графств Норфолк и Гертфорд. Я прошу не для себя самого. Мои средства крайне незначительны, чтобы помочь солдатам. Я беден, но надеюсь на Господа и готов пожертвовать своей шкурой так же, как и мои солдаты. Положитесь на их терпение, но не злоупотребляйте им».
Всё было напрасно. В отличие от вождей оппозиции, Кромвель был решителен и непримирим. Ему нужны были деньги на великое, доброе деньги. Таково было веление Господа, на волю которого он всегда полагался. Стало быть, он должен был эти деньги найти. Полковник стал реквизировать имущество кавалеров, сражавшихся против него.
4
Пришлось выступить, когда полк ещё не был готов. Кромвеля не могло смутить столь ничтожное обстоятельство, ведь он всегда и во всём полагался на Господа. Сторонники короля неожиданно овладели Ньюарком, сильной крепостью в западной части графства Линкольн. Разрозненные парламентские отряды осаждали её, но кавалеры держались стойко, тогда как круглоголовые не умели взяться за дело, и под видом осады вокруг Ньюарка время от времени происходили мелкие стычки. Им на помощь двинулся Кромвель. Поздним вечером тринадцатого мая 1643 года он подходил со своими необстрелянными солдатами к местечку Грентем. В чистом поле Оливер внезапно натолкнулся на отряд кавалеров. Их было до двадцати эскадронов кирасир и до четырёх рот драгун, тогда как у него было не более двенадцати рот, тоже драгун, ещё плохо обученных и плохо вооружённых, к тому же утомлённых дневным переходом.
Похоже, кавалеры, первыми увидев ненавистных круглоголовых, забили тревогу и выстроились в привычную линию на другом конце обширного зелёного поля, удивительно удобного для конной атаки. Заслышав звуки тревоги, увидев плотные и стройные ряды неприятеля, полковник ни на минуту не усомнился, что его горсточку необстрелянных новобранцев сам Господь бросил на чашу весов и построил своих драгун на расстояние выстрела. Началась перестрелка, длившаяся около получаса, не принеся особенного ущерба ни той, ни другой стороне. Несмотря на явное преимущество в численности, кавалеры не решались атаковать.
Это был первый самостоятельный бой Кромвеля. Решение зависело от него одного. Было довольно этого получаса, чтобы правильно оценить обстановку, и он, сельский хозяин и скотовод, оценил её вернее и лучше, чем кавалеры, прирождённые воины, наследственные солдаты английского короля: когда враг стоит в нерешительности или трусит, его необходимо стремительно атаковать, таков непреложный закон войны, который моментально уловил его практический ум. Кромвель отдал приказ и двинулся впереди крупной рысью, вслед ринулась кавалерия, ещё плохо обученная, но уже привыкшая к беспрекословному повиновению. На другой день он кратко закончил свой отчёт для парламента:
«Они держались стойко, но мы с Божьей помощью их опрокинули. Неприятель бежал, и мы преследовали его две или три мили».
Так Оливер Кромвель одержал свою первую и решительную победу на поле брани, тем более важную, что в те дни это была едва ли не единственная победа парламентских войск. Армия Эссекса, стоявшая на подступах к Лондону, имела жалкий вид и медленно разлагалась. Жалованья не платили, одежда изнашивалась, заканчивались продовольствие и фураж. Напрасно граф Эссекс, подобно Кромвелю, забрасывал комитеты посланиями, в которых описывал своё неприглядное положение и просил выслать деньги. Его призывы оставались такими же безответными, как призывы Кромвеля и других командиров. Он было начал наступление на армию короля, но вскоре вынужден был отступить, расположил своих солдат лагерем и оставался в полном бездействии.
Вероятно, граф простоял бы так до самой зимы, если бы чрезвычайные обстоятельства неожиданно не пробудили парламент. Тридцать первого мая, во время поста, когда обе палаты стояли обедню в церкви святой Маргариты, расположенной тут же, в Вестминстере, Джону Пиму передали записку. Он тут же её прочитал, перемолвился вполголоса с соратниками, и все они вышли, не дожидаясь окончания службы. Бумага извещала о заговоре, в котором участвовали не только именитые горожане, но многие из лордов верхней палаты и даже кое-кто из парламентариев. Предполагалось, что заговорщики замыслили спешно вооружить приверженцев короля, захватить Тауэр и склады вооружения, занять подступы к парламенту, арестовать вождей оппозиции и впустить в Лондон вражескую армию, причём днём выступления было назначено именно тридцать первое мая.
Чрезвычайная комиссия тотчас была образована. Следствие началось и велось так энергично, что к концу дня заговорщики были изобличены, зачинщики арестованы и предстали перед судом. Суд был скорый, но странный. Перед военными судьями предстало всего семеро зачинщиков заговора, они осудили всего пятерых, к смертной казни были приговорены только двое из них, вопреки тому, что военные суды во все времена отличаются особой жестокостью приговоров. Эти двое оказались тоже какими-то необычными заговорщиками. Они не только раскаялись в несовершенном преступлении, но и радовались, что их остановили. Взойдя на эшафот, один из них обратился к народу:
— Я молил Господа, чтобы Он вразумил нас, если этот замысел не должен был послужить к Его славе. Господь услышал мою молитву.
Другой обречённый вторил ему:
— Я очень рад, что заговор наш был раскрыт: он не кончился бы добром.
Вожди оппозиции не захотели обнаружить истинные размеры открытого заговора и намеренно отнеслись милосердно к виновным. Двумя казнями они как будто надеялись запугать монархистов, укрывшихся в Лондоне, и смутить короля, который и без того не предпринимал решительных действий, а своим великодушием они намеревались прекратить разногласия, которые не только уже разъединили обе палаты, но и рассорили между собой самих представителей нации. Им нужен был мир, они стремились к нему и не могли не понимать, что на карте по-прежнему стоит их свобода и жизнь.
Были собраны пожертвования, проведены займы и реквизиции, Эссекс получил кое-какие деньги, продовольствие и фураж. Ему был отдан приказ наступать, но так, чтобы не победить, а только попугать короля. Впрочем, граф не нуждался в разъяснениях этого рода. Он не только продолжал хранить преданность государю как главе государства, его начал настораживать тот восторженный энтузиазм, с которым простолюдины вступали в ряды парламентской армии. Командующий уже серьёзно задавался вопросом, является ли подлинной свободой та, которую взялся он защищать, проливая свою кровь и кровь соратников. Ответ у него каждый раз получался печальный. Ему приходило на ум, как бы потомки не упрекнули его в том, что ради их освобождения от королевского гнёта он подчинил их гнету народа.
Он двигался медленно и умело уворачивался от неприятельской армии, ограничивая военные действия мелкими, ничего не решавшими стычками. Восемнадцатого июня на равнине Чалгров, близ Оксфорда, принц Руперт смелой атакой, как он это делал обычно, опрокинул отряд парламентской армии. В этой стычке, бессмысленной и бесполезной, был смертельно ранен Джон Гемпден. Все видели, как этот самый смелый и решительный вождь оппозиции вопреки обыкновению удалился с поля сражения в разгар битвы, причём голова его была низко опущена, он плохо держался в седле и обхватывал руками шею коня.
В ставке короля не хотели верить этой удаче. Карлу представлялось, что ранение Гемпдена образумит его, что теперь можно попытаться перетянуть этого человека на свою сторону, поскольку влияние Гемпдена было так велико, что от него во многом зависело, продолжится ли война, или парламент пойдёт на уступки. Король тотчас вызвал к себе доктора Джилса, соседа Гемпдена по имению, и приказал:
— Пошлите узнать, будто бы от себя, каково состояние раненого. Если при нём нет хирурга, он может располагать моим.
Человек благородный, Джилс колебался:
— Милорд, на это дело я не гожусь. Как-то раз я попросил его, чтобы он приказал преследовать разбойников, которые обокрали меня, и как только мой слуга вошёл к нему, мистер Гемпден получил известие о смерти своего старшего сына. В другой раз я обратился к нему с просьбой, уже не припомню с какой, и в то же мгновение ему доложили о смерти его любимой дочери. Вы не можете не видеть, милорд, что наши свидания всегда становились символами несчастья для мистера Гемпдена.
Однако монарх не принимал его возражений, может быть, потому, что неблагоприятный исход был желателен для него. Джилсу пришлось подчиниться. Как и следовало, его помощник уже не мог ничего изменить. Гемпден был ранен в плечо. Две пули раздробили его, началось заражение крови, раненый ужасно страдал. При нём находилось двое священников, один англиканский, другой полковой. Он признался, чувствуя приближение смерти:
— Я боролся против епископальной церкви, но всё же я думаю, что её основания вполне согласуются со словом Господним, изложенным в Священном Писании.
В свой последний час оппозиционер молился о том, чтобы Господь посрамил тех, кто стремится лишить короля свободы и законных привилегий, но также просил, чтобы милосердный Господь вразумил государя увидеть собственные ошибки, и чтобы сердца его порочных советников очистились и обратились к истине. Когда же сказали ему, кто и зачем прислал узнать о здоровье, умирающим овладело волнение, казалось, он хотел что-то сказать, но уже силы и жизнь оставляли его, несколько мгновений спустя он скончался.
Кромвель потерял двоюродного брата и близкого друга, парламент — может быть, самого выдающегося вождя оппозиции, осторожного и дальновидного, неизменно встававшего на борьбу с любыми опасностями, нация — одного из самых преданных представителей, пользовавшегося всеобщим доверием. Вокруг его личности объединялись самые разные люди. Умеренные верили в его мудрость, решительные ценили в нём патриотическую самоотверженность, честные уважали за прямоту, а любители окольных путей уповали на его находчивость и ловкость. Даже ему не удавалось предотвратить разъединение, которое уже началось и подрывало силу парламента, без него этот институт стал рассыпаться на мелкие группы, которые враждовали не столько с королём, сколько между собой.
Карл недаром обрадовался, когда узнал о кончине такого противника. При дворе заговорили о преступлениях, которых покойный не совершал, с недостойным злорадством указывали на то, что он был убит в том самом графстве, возле того самого места, где он впервые созвал ополчение и начал военные действия против своего законного владыки. И королю, и его приближённым казалось, что с гибелью Гемпдена погибло дело парламента, и погибло, благодарение Господу, навсегда.
В самом деле, приверженцы монарха в течение лета 1643 года одержали несколько крупных побед, которые могли и должны были окончательно погубить пошатнувшееся дело парламента. Герцог Уильям Кавендиш Ньюкасл, человек умный, богатый, любимый соседями, считавший графство Йорк своей вотчиной, набрал в графствах Йорк, Нортумберленд, Дерхем и Вестморленд довольно сильную армию. В неё вступали роялисты из крупных землевладельцев и служилых дворян старинных фамилий. Их оказалось немного. Тогда герцог призвал в свои ряды английских католиков, которым по закону запрещалось владеть оружием. Они не только пополнили его армию, но и укрепили её дух своим фанатизмом, накопившейся ненавистью ко всем протестантам, в особенности же к пуританам, которые благодаря усилиям Кромвеля становились костяком парламентской армии. К лету под его знамёнами сражалось до шести тысяч пехоты и до шестидесяти рот кавалерии, что делало его полным хозяином на севере Англии.
Ему противостояли Фердинанд и Томас Ферфаксы, отец и сын, но в северных графствах, неразвитых, полупатриархальных, у них было немного сторонников. Всего набралось не более трёх тысяч пехоты и девяти рот кавалерии, постоянно ощущался недостаток денег, продовольствия и вооружения, тогда как Ньюкасл тратил на свою армию серьёзные средства. Силы были неравные во всех отношениях. Ферфаксы терпели одно поражение за другим. Герцог обосновался в Ньюкасле на Тайне. Это был единственный порт, через который король мог получать помощь от своих континентальных сторонников. Имея столь сильную базу, Ньюкасл последовательно овладел Бредфордом, Вексфилдом, Лидсом, старинным центром производства шерсти на севере Англии. К середине лета в его руках были все города графства Йорк. Тридцатого июня герцог наголову разбил Ферфаксов при Эдойлтоне. У Ферфаксов не оказалось ни пороха, ни свинца, ни фитилей для мушкетов, их армия сокращалась, она разлагалась и не могла оказывать серьёзного сопротивления. Остатки пехоты и кавалерии Ферфаксам удалось провести через холмы и болота в Гулль, ещё верный парламенту, однако и положение было тревожным, Джон Хотем, его комендант, готов был тайно передать город и крепость сторонникам короля.
Не лучше шли дела на юге и западе, особенно в Корнуэле. Эти места были ещё более патриархальны, чем север. Сельские хозяева разводили овец и производили шерсть на продажу только вблизи больших городов, только там процветали ремесла и производство сукна на европейские рынки. Старинные дворянские роды из поколения в поколение владели землёй, не соблазнялись высокими доходами с пастбищ, которые требовали внимания и труда, не озлобляли крестьян огораживанием и довольствовались более скромными доходами с долгосрочной аренды. Старинные семьи крестьян-арендаторов, считавшие себя потомками бриттов[16], также из поколения в поколение нанимали в аренду одни и те же дворянские земли, вносили одну и ту же арендную плату, уважали своих хозяев и были преданы им.
Эти люди стали несокрушимой опорой Для монархистов. Из них составлялась пехота, поражавшая стойкостью и дисциплиной. Казалось, не было той преграды, которую они не могли бы преодолеть, не было той крепости, которую они не могли захватить стремительным приступом. Недаром королевские войска в течение нескольких месяцев одержали столько блестящих побед.
Лорд Стэмфорд, имевший приблизительно семь тысяч пехоты и кавалерии, был разбит при Страттоне и отступил. Роялисты овладели всем юго-западом, за исключением Плимута, который пока что оставался верен парламенту. Пятого июля при Лансдауне королевская пехота ринулась на штурм батареи, которая считалась офицерами неприступной, овладела ею, и парламентский генерал Уильям Уоллер с позором и в беспорядке отступил. Четырнадцатого июля при Раунд-Уейдауне его армия была полностью уничтожена. Солдаты, оставшиеся в живых, разбежались. Сам Уоллер вернулся в Лондон без армии, с горсткой офицеров. В том же месяце, спустя несколько дней, королевские войска с такой отвагой пошли на приступ Бристоля, что преданный парламенту гарнизон был парализован, и Бристоль, крупный порт, окружённый отличными пастбищами, крупнейший центр производства сукна, бесславно пал, укрепив положение монарха и открыв с юга дорогу на Лондон.
Наступление Эссекса в направлении Оксфорда захлебнулось. Дело парламента висело на волоске. Стоило королю двинуться к Лондону долиной Темзы, а Ньюкаслу ударить с севера, чтобы Лондон пал. Парламент был распущен, а его вожди оказались на эшафоте. Растерянный генерал обратился к парламенту:
«Я думаю, что лорды поступят нехудо, если заблагорассудят просить у короля мира при условии, что он обеспечит исполнение законов, права граждан и права веры, а также обещает заслуженное наказание главных виновников стольких государственных бедствий. Если же эта попытка не приведёт к мирному соглашению, то, по моему мнению, следует умолять его величество, чтобы он удалился с театра кровопролития, тогда обе армии в один день разрешат все раздоры».
Лорды и без того не раз заявляли о своей преданности государю. Получив послание генерала, они тотчас принялись вырабатывать новые условия мира. Представители нации всё ещё возражали, но они тоже были растеряны. Казалось, ещё несколько дней, и палаты объединятся и заявят свою преданность венценосцу, только из приличия выдвинув при этом кое-какие условия. Королю надо потерпеть, подождать, пока обеспеченный военными победами естественный ход событий не сломит парламент, находящийся в смятении.
Правда, для этого необходим был глубокий государственный ум, а у Карла его не было, его действиями руководили упрямство, гордыня, нелепое убеждение в своём божественном праве на непререкаемую, абсолютную власть. Не успели отдышаться гонцы, принёсшие весть о первых, ещё слабых победах на севере и на юге, как он во всеуслышанье объявил, что лица, заседающие в Вестминстере, отныне не составляют палат, поскольку многие члены отсутствуют. По этой причине он не станет считать парламентом это собрание и запрещает своим подданным повиноваться этому скопищу изменников и бунтовщиков.
Монарх рассчитывал одним голословным заявлением поразить представителей нации и утвердить власть, не умея представить себе, что декларации этого рода обычно имеют обратное действие. Парламент встрепенулся, заслышав угрозу, обе палаты снова были едины, предложения мира были отложены в сторону. Генералу Эссексу, без всякого смысла топтавшемуся на месте, парламент выразил своё уважение. Разбитому в пух и прах генералу Уоллеру была выражена благодарность и оказан почёт, которого он, конечно, не заслужил. Графу Манчестеру было приказано набрать в восточных графствах новую армию. Двадцать второго июля его помощником был назначен полковник Оливер Кромвель, по этому случаю возведённый в чин генерал-лейтенанта. Джон Хотэм был арестован и заключён в Тауэр. Командование в Гулле было передано Фердинанду Ферфаксу, парламентская депутация отправилась просить помощи у шотландцев, в церквях служили молебны, призывая благословение на всех тех, кто посвятил себя защите законов, парламента и отечества, мужчины и женщины работали на укреплениях Лондона.
5
Впрочем, успех этой деятельности был невелик. Назначение графа Манчестера должно было укрепить военное положение в восточных графствах, бывших единственным оплотом парламента, но этого не произошло. Подобно Эссексу, он меньше опасался победы над простолюдинами, которых презирал и боялся, чем победы черни над королём, который как-никак оставался его сюзереном.. Граф набирал в свою армию исключительно джентльменов и наёмников, которые неплохо владели оружием, но не подчинялись никакой дисциплине, и открыто осуждал своего заместителя Кромвеля, который набирал в свой полк простых горожан и свободных крестьян.
Тем не менее в восточной армии полк Кромвеля был самым боеспособным. Тридцать первого июля недалеко от Гейнсборо, на западе графства Линкольн, он случайно вышел на отряд неприятеля, стоявший на вершине крутого холма. Представлялось, что в отряде не более сотни кавалеристов. Правда, его позиция была очень удобной. Если бы неприятель вздумал атаковать, ему пришлось бы взбираться по крутому травянистому склону, что крайне неудобно для кавалерии: лошади станут скользить и быстро устанут.
К счастью, у Кромвеля были драгуны. Не раздумывая, они двинулись на врага, чтобы в пешем строю опрокинуть его. Не успели спешиться, как были отбиты нападением сверху и отошли, а кавалеры вновь построились на вершине холма. Кромвель бросил в атаку несколько эскадронов. Кавалеры сопротивлялись, однако натиск был слишком силён, и они отступили. Когда же полк Кромвеля достиг вершины холма, оказалось, что на той стороне в засаде стоит ещё целый полк.
Это не испугало ни Кромвеля, ни его людей. Он отдал приказ и занял место на правом крыле. Они перестроились в виду неприятеля и устремились в атаку в тот самый миг, когда враг начал атаковать. Две кавалерийские лавины сошлись во встречном, самом трудном, самом опасном бою, перемешались и долго бились мечами. В таких обстоятельствах победу приносит сила духа, а не мечи. Первыми дрогнули приверженцы короля, драгуны Кромвеля поднажали и заставили их отступить в беспорядке.
Это было только начало. Засадный полк продолжал стоять в полном порядке. Драгуны снова построились, как он их учил. Кромвель присоединил к ним три эскадрона резерва, которые держал поблизости наготове, и четыре эскадрона ополченцев графства Линкольн, людей храбрых, но необученных. Кавендиш, командир приверженцев короля, опытным взглядом военного человека тотчас заметил разницу в выправке и построении и свои главные силы бросил против линкольнцев. Линкольнцы держались недолго и побежали. Кавендиш преследовал их. Такая опрометчивость его погубила. Кромвель с тремя свежими эскадронами, взятыми из резерва, ударил во фланг. Он действовал по всем правилам военной науки. Это больше всего смутило Кавендиша, который смешался и стал отступать, несмотря на численное превосходство своей кавалерии. Кромвель приказал атаковать командира, сбросил его с холма и загнал в болото с кучкой солдат. Там в пылу схватки Кавендиша зарубил один из капитанов, простолюдин, не задумавшийся о том, что нарушил правила джентльменства.
Неприятель бежал в разные стороны, но Кромвель не успел насладиться победой. В четверти мили от поля сражения показалась вся армия лорда Ньюкасла. Драгуны Кромвеля отступили. Армия графа Манчестера не выдержала удара и побежала. Кромвелю было приказано собрать разрозненные отряды пехоты и конницы. Он стал исполнять приказание. Люди Манчестера плохо повиновались и своим офицерам, тем более не желали слушать чужого. Ньюкасл приблизился, дал несколько залпов и стал наседать. Пехота и кавалерия парламентской армии бросилась отступать. Лошади были измотаны. Казалось, о сопротивлении нечего было и думать.
Только два капитана, Уолли и Эйско, сохранили спокойствие. С четырьмя эскадронами они выдвинулись против всей армии лорда Ньюкасла, маневрировали и, кажется, именно в этом бою применили новую тактику, незнакомую и неожиданную для монархистов: не отвечали на огонь неприятеля, ждали сближения, стреляли в упор, нанося большие потери, и отступали, сохраняя порядок, чтобы встретить новую атаку таким же залпом, чуть ли не приставляя мушкет к животу. Пользуясь этим прикрытием, Кромвель собрал воедино главные силы, навёл кое-какой порядок в пехоте и кавалерии и отступил, не потеряв ни одного человека.
Победа и на этот раз не досталась ни той, ни другой стороне, как при Эджхилле. Парламентская армия отступила, армия Ньюкасла её не преследовала, хотя могла уничтожить, имея несомненное превосходство. Причиной этой слабости было своеволие лорда Ньюкасла. В ставке короля был разработан план осенней кампании, обещавший полный и окончательный разгром всех парламентских сил. По этому плану государь должен был двинуться с запада на восток, тогда как армия лорда Ньюкасла одновременно пошла бы с севера на юг, разбив по пути войско лорда Манчестера. Две силы сошлись бы под Лондоном, и город должен был сдаться без боя, а если бы вздумал сопротивляться, его ополченцы были бы уничтожены в первой же стычке.
План был превосходный. Дело было за Ньюкаслом. Ньюкасл отказался его исполнять только потому, что был лордом. В старой Англии король имел право призвать лорда к оружию, но не имел права приказывать, где, когда и с кем тот должен сражаться. Лорд Ньюкасл прекрасно себя чувствовал в родных северных графствах. Ему не хотелось тащиться на юг, и он объявил, ничуть не смущаясь, что поможет монарху, как только возьмёт Гулль, в его владениях единственный город, удерживаемый парламентскими войсками. Таков был закон. Карлу оставалось только смириться, его армия не сдвинулась с места.
Лондон стал успокаиваться. По предложению графа Нортумберленда палата лордов решила начать новые переговоры о мире. На этот раз предложения, с которыми парламентская депутация должна была отправиться к королю, были не только крайне умеренными, но и позорными. Обе армии немедленно распускались, хотя парламенту, в сущности, уже было некого распускать. В верхнюю палату возвращались лорды, изгнанные из неё за то, что перешли служить своему сюзерену. Парламенту оставалось право собирать ополчение, а вопросы церкви должны впредь решаться синодом.
Утром пятого августа лорды передали свои предложения нижней палате. При этом они были надменны, точно на всех фронтах одержали победу. Лорды объявили, что пора положить конец бедствиям, которые раздирают отечество. Им возражали, что постыдно и глупо терять преимущества, которые парламент успел получить, и убеждали подождать с переговорами хотя бы до того дня, когда станут известны результаты переговоров в Шотландии. Лорды настаивали:
— Наши дела пошли плохо, правда, в Лондоне простолюдины готовы вести войну до конца, однако богатые и знатные горожане не расположены к ней, это можно понять из того, что они отказываются от новых налогов, которые необходимы для содержания армий. К тому же какая беда, если мы начнём переговоры на разумных условиях? Если король примет их, будет мир. Если он их отвергнет, его отказ тотчас доставит нам больше солдат и денег, чем в состоянии дать все приказы парламента.
Постановили, что спор разрешится голосованием. Против предложения лордов было подано всего шестьдесят пять голосов, тогда как за него девяносто четыре. Меньшинством овладела растерянность, ведь оно теряло не только права, уже завоёванные парламентом и ограждавшие страну от злоупотреблений и беззаконий, но и надежды на дальнейшие преобразования, которые должны были обеспечить свободу собственности и личности. Меньшинству надлежало действовать как можно скорей, чтобы переломить настроение лордов. Но как?!
Ответ на запрос не пришлось долго ждать. В тот же день слухи о предполагаемом мире распространились по Лондону. Крупные торговцы и финансисты, успев успокоиться и подсчитать прибыли, пришли в благородное негодование. Они давали парламенту деньги взаймы и хотели их получить с процентами. Дельцы наживались на военных поставках и желали обогащаться и впредь. Если бы это зависело только от них, война продолжалась бы вечно. На этот раз их поддержали городские ремесленники и подмастерья, которых беспокоили не прибыли, а низкие налоги и свобода вероисповедания.
В лондонском Сити были приняты срочные меры. Шестого августа, в воскресенье, городской совет собрался на спешное заседание, хотя этот день предназначался для отдыха и усердных молитв. Тем же вечером по городу распространились памфлеты, призывавшие народ к возмущению. Совет заседал сосредоточенно и плодотворно. Наутро была готова петиция.
Наутро, седьмого августа, один из олдерменов внёс в нижнюю палату этот документ. К ней был приложен предварительный текст постановления. Постановлением предусматривалось создание особого комитета, который наделялся властью набирать добровольцев в армию и принимать пожертвования на их содержание. У входа в Вестминстер его приветствовала воинственно настроенная толпа. Она осыпала бранью членов верхней палаты, которые собирались на заседание. Им угрожали расправой. Оскорблённые лорды протестовали, объявив представителям нации, что отложат свои заседания на несколько дней, если мятежные сборища не прекратятся.
Депутаты на их угрозы не обратили внимания, они в бурных прениях обсуждали петицию. Сторонники войны и сторонники мира оказались непримиримы. Вопрос был поставлен на голосование. В пользу мира высказался восемьдесят один депутат, семьдесят девять голосов было подано против. Разница в два голоса довела до крайних пределов возбуждение представителей нации и толпы у входа в Вестминстер.
Стоящие за мир не стали терять времени даром. Они подняли женщин, этих вечных противниц войны, не желающих терять сыновей и мужей. Те собрались девятого августа у входа в Вестминстер, с белыми лентами на шляпках. Их было тысячи две или три. Жёны и матери со своей стороны внесли в парламент петицию:
«Ваши бедные просительницы хотя и принадлежат к слабому полу, тем не менее слишком ясно предвидят, какое бедствие готово разразиться над этим королевством, если только каким-нибудь искусным способом ваша честь не позаботится о скором его прекращении. Почтенные представители нации подобны врачам, которые при помощи чудесного благоволения Божия могут возвратить здоровье этому томящемуся народу, королевству Ирландии, которое находится почти при последнем издыхании. Нам нет нужды указывать вам, обладающим орлиным зрением, какие меры должны вы принять. Наше единственное желание в том, чтобы слава Божия продолжала сиять в истинной протестантской религии, справедливые привилегии короля и парламента были сохранены, истинные права и имущество подданных были им обеспечены согласно известным законам страны, и были употреблены, наконец, все честные пути и средства для достижения скорого мира.
Итак, да благоволят почтенные представители нации принять какую-либо быструю меру для восстановления во славу Божию истинной протестантской религии и возвращения, к великой радости подданных, торговле прежнего процветания, потому что в этих двух вещах заключается душа и тело королевства.
А ваши просительницы, вместе со многими миллионами страждущих душ, стонущих под бременем бедствий, будут по своему долгу молиться за вас».
К ним вышли, заверили, что парламент желает мира и в скором времени надеется его заключить, и просили их разойтись. Просительницы отказались. К середине дня их набралось тысяч пять. В толпе появились мужчины, одетые в женское платье, и подстрекали к решительным действиям. Возбуждение нарастало, они бросились к дверям нижней палаты, крича:
— Мира! Мира!
— Подать сюда тех изменников, которые не хотят мира! В клочья их! Подать сюда подлеца Пима!
Охрана сделала несколько выстрелов в воздух, чтобы их испугать, но дамы не отступали.
Тогда солдаты открыли стрельбу, им на помощь кто-то привёл эскадрон кавалерии, всадники врезались в толпу с обнажёнными саблями. Женщины осыпали их бранью, колотили кулаками и палками, но спустя несколько минут вынуждены были бежать. На месте остались двое убитых.
6
Положение сложилось критическое. Стоило королю двинуть свою армию, она в два или три перехода могла оказаться под стенами Лондона, и в эти переломные дни далеко не все горожане согласились бы его защищать. Ещё несколько лордов перешли в его лагерь, кое-кто удалился в свой замок, несколько представителей оппозиции бежали из Англии. Королева настаивала на решительных действиях, монарх мог победить и этой победой в свою пользу окончить войну.
Карл колебался. Оставленный графом Ньюкаслом, он десятого августа двинулся в противоположную сторону, появился под стенами Глостера, последней крепости на западе Англии, которая поддерживала дело парламента и не позволяла соединиться всем королевским войскам, занял господствующие высоты, а гарнизон Глостера не превышал полторы тысячи человек. Победа представлялась лёгкой и неминуемой, городу дали два часа на размышление.
Ещё до истечения этого срока вышли из города парламентёры, исхудалые, бледные, с обстриженными волосами, в чёрных одеждах. Они объявили офицерам:
— Мы явились к его величеству с ответом от благочестивого города Глостера.
Их привели .к королю. Один из них твёрдым голосом, сухо и ясно прочитал заявление, в котором благочестивые горожане высказывали равную преданность королю и парламенту:
— «Мы, горожане, городской совет, офицеры и солдаты города Глостера отвечаем всепокорнейше на всемилостивейшее послание его величества. В силу нашей присяги мы охраняем вышеназванный город к услугам его величества и его потомства. Мы считаем себя обязанными повиноваться указам его величества в той мере, в какой они переданы нам палатами парламента. Следовательно, с Божьей помощью мы будем защищать вышеназванный город по мере своих сил».
В толпе придворных послышался ропот. Их возмутила наглость простых горожан. Движением руки государь повелел им молчать, с важным видом разъяснил депутатам:
— Вы заблуждаетесь, если ожидаете помощи. Армия Уоллера уничтожена, Эссекс к вам не придёт.
Парламентёры удалились, сохраняя спокойствие, точно знали то, что было неведомо королю. Едва городские ворота закрылись за ними, горожане выжгли предместья. Мало того, что армия осталась без удобных квартир. Ей пришлось бы идти на приступ по голой местности. Гарнизон был приведён в боевую готовность. Умный комендант отделил сто пятьдесят человек и оставил в резерве. С остальными он делал частые вылазки, постоянно тревожа неприятельское войско. Всё взрослое население Глостера работало на укреплении города. Мужчинам помогали женщины и подростки. Сила их духа обнаруживалась на каждом шагу и поражала противника.
Армия короля была многочисленна. Приступ мог решить судьбу Глостера в один день. Кавалеры, опытные воины, знали об этом, однако атака неминуемо привела бы к серьёзным потерям, а им не хотелось рисковать. Они развлекались и грабили окрестное население. Нередко офицер с командой солдат брал под арест богатого фермера, обвинив в злоумышленичестве против особы его величества, и, получив выкуп, отпускал на свободу. Дисциплина падала, армия разлагалась, местное население её ненавидело, но монарх не обращал на это внимания, он был убеждён, что осада скоро истощит горожан, и они, рано или поздно, сами раскроют ворота.
Государь и на этот раз ошибался. Осада Глостера сплотила народ. Перед лицом опасности в парламенте прекратились раздоры, ведь после Глостера Лондон должен был неминуемо пасть. Для армии Эссекса тотчас были найдены деньги. Её пополнили четыре полка добровольцев. Граф не мешкая выступил на спасение осаждённых.
Известие о его приближении прозвучало для короля как гром среди ясного неба, он был ошеломлён и парализован, кавалеры растерялись. Принц Руперт с отрядом кавалерии атаковал наступающих на походе, но отряды парламентской армии отбили его и сплочённой массой оттеснили до лагеря. Четвёртого сентября монарх направил парламентёра, который предложил Эссексу заключить перемирие. Граф был непреклонен:
— На ведение переговоров у меня нет полномочий. Я освобожу Глостер или умру под стенами города.
Солдаты громко кричали:
— Не надо переговоров! Не надо переговоров!
Он двинулся дальше. Пятого сентября его армия построилась на холмах в двух милях от Глостера. С высоты граф увидел, что неприятельский лагерь пожирает огонь. Это означало, что король струсил, снял бессмысленную осаду и отступил. Эссекс вступил в освобождённый город торжественно, как победитель, отдал должное коменданту, гарнизону и доблестным горожанам. Народ со своей стороны приветствовал его в церкви, на улицах, под окнами дома, который ему отвели под постой. Он оставил в Глостере продовольствие и покинул город десятого сентября.
Казалось, командующий должен был преследовать врага, принудить его к безоговорочной капитуляции. Решительные действия Эссекса могли бы обеспечить полную победу парламента, прекращение гражданской войны. Больше того, в этот момент только от этого человека зависела не только жизнь, но и власть короля, всего лишь ограниченная волей парламента.
Однако Эссекс остался верен себе. Победа над государем была выше его понимания. Считая, что, сняв осаду с Глостера, он честно и полностью выполнил возложенное на него поручение, граф стал отводить войско к Лондону, чтобы, как прежде, стоять без движения.
Король думал иначе. Поспешное отступление от Глостера оскорбило его и наконец пробудило энергию. Он пустил по пятам Эссекса быстроногую кавалерию Руперта, а сам предпринял обходный манёвр. Пока Эссекс петлял, путал следы и отбивался в арьергардных боях от наседавшего принца, король захватил Ньюбери, расположился на высотах и перерезал ему дорогу на Лондон.
О том, что его обошли, Эссекс узнал девятнадцатого сентября, положение оказалось критическим. Население вокруг Оксфорда было на стороне короля и прятало продовольствие от солдат, защищавших дело парламента. Армии грозил голод, надо было сражаться. Он отдал приказ наутро готовиться к бою.
Король отдал такой же приказ. Расположение его войска было чрезвычайно удачным и победа представлялась ему неизбежной. Офицеры горели желанием отомстить за позорное поражение под Глостером. В королевском лагере лишь один человек одинаково страшился и победы и поражения. Это был Люциус Кери Фокленд, виконт, когда-то отважно защищавший дело парламента, потом миривший парламент и монарха и в конце концов перешедший на сторону короля. Самый умный, самый порядочный среди приверженцев Карла военный министр понял, что Англию ждёт затяжное кровопролитие, больше всех пострадает именно тот народ, которому представители нации желали свободы и процветания. Он стал раздражителен, дружеские беседы опротивели, от прежней весёлости не осталось следа. Фокленд отказался от прежней изысканности в одежде.
Вдруг утром двадцатого сентября виконт повеселел и тщательно занялся туалетом. На вопросы изумлённых товарищей отвечал:
— Не хочу, чтобы нашли моё тело в грязном белье, если нынче я буду убит. То, что происходит, уже давно терзает мне сердце. Надеюсь к ночи избавиться от мучений.
Виконт присоединился добровольцем к полку лорда Байрона и в его рядах участвовал в первой атаке. Несколько минут спустя он был ранен пулей в живот, упал с лошади никем не замеченный и был затоптан остервенившимися бойцами. Его изувеченное тело было найдено только сутки спустя. Король выразил сожаление лишь из приличия, а в глубине души вздохнул с облегчением: всё это время ум и порядочность Фокленда стесняли его.
Это была ожесточённая битва. Государь лично командовал своими войсками. Эссекс также явился на передовые линии, повёл атаку на главную высоту и вскоре сбил с неё неприятеля. Однако, вопреки его ожиданиям, этот важный успех ничего не решил. Постепенно в сражение втянулись все полки и с той и с другой стороны. Генералы подвергались опасности наряду с простыми солдатами. Из обоза на помощь прибежали слуги, возчики, денщики и с яростью напали на кавалеров. Два раза кавалерия Руперта прорывала ряды кавалерии и обрушивалась на пехоту, состоявшую из наскоро обученных лондонских простолюдинов, оба раза встречала сплочённые, недрогнувшие ряды и частокол пик, твёрдо направленных в морды разгорячённых коней, и Руперт вынужден был отступать. Взаимные атаки прекратились только с наступлением ночи. Обе армии сохранили позиции, на которых стояли с утра. Король по-прежнему загораживал Эссексу дорогу на Лондон. Граф вынужден был готовиться к продолжению. На рассвете его полки начали построение и с первыми лучами солнца увидели, что вражеская армия вновь отошла: погибли многие генералы и офицеры, и Карл не пожелал ещё раз испытывать счастье. Армия парламента беспрепятственно продолжала поход и два дня спустя заняла позиции в Ридинге.
В Лондоне было сразу два праздника. Накануне сражения при Ньюбери из Шотландии наконец прибыла депутация. Шотландцы соглашались двинуть на помощь парламенту войско в двадцать тысяч солдат при условии, что после победы над королём вся Англия отложится от англиканской церкви и примет пресвитерианство по шотландскому образцу. Обе палаты посоветовались с богословами, и договор был утверждён. Двадцать пятого сентября в церкви святой Маргариты в Вестминстере лорды и представители нации с обнажёнными головами перед лицом Господа клятвенно подтвердили верность утверждённому договору, после чего под текстом поставили подписи все члены парламента. Двадцать шестого сентября граф вступил в Лондон и остановился в своей резиденции. Его приветствовали лорд-мэр и олдермены в пурпурных одеждах, величая спасителем их жизни, имущества, жён и детей. Народ ликовал. Праздник победы продолжался несколько дней.
Пожалуй, один Оливер Кромвель тогда понимал, что одержана всего лишь полупобеда, которая ничего не решила и нисколько не упрочила дело парламента. Прошло полтора года с начала войны, и в руках парламента оставался только лондонский округ и восточные графства. Король владел западом, югом и севером Англии. Он занимал такие важнейшие стратегические пункты, как Йорк, Экзетер, Бедфорд, Нортемптон и Оксфорд. Стратегическая инициатива принадлежала ему, а парламент всего лишь держал оборону. Главное, преимущества монарха, вместе с сознанием исконной законности его власти, привлекали к нему души не одних кавалеров, но и многих горожан и крестьян, и это, по мнению Кромвеля, было самым вредным. С такими полупобедами война может тянуться десятки лет, как война Алой и Белой розы, и, когда она окончится сама собой, Англия будет лежать в пепелище. Только быстрая, полная, решительная победа может считаться настоящей победой и станет спасением Англии.
Люциус Кери Фокленд думал приблизительно так же, однако предпочёл добровольную смерть. Кромвель по натуре был победителем, он не мог и не умел отступать. Перед строем и в личных беседах генерал готовил солдат, возвышал их дух, что было, по его убеждению, самым верным залогом успеха. Когда три тысячи кавалеров решили выбить их из графства Линкольн, его воины громко возблагодарили Господа за возможность сразиться и с радостным воодушевлением пошли вперёд. Вражеских войск было приблизительно столько же. К ним присоединился потрёпанный отряд во главе с Томасом Ферфаксом. Командовал ими Манчестер, но драгуны Кромвеля были их главной силой.
Одиннадцатого октября 1643 года они встретились у местечка Уинсби, на востоке графства Линкольн. Солдаты Кромвеля запели псалом:
«Боже, царь мой! С Тобой избодаем рогами наших врагов, во имя Твоё попрём ногами восстающих на нас, ибо не на лук мой уповаю, и меня спасёт не мой меч; но Ты спасёшь нас от наших врагов и посрамишь ненавидящих нас».
Под это суровое пение, далеко и громко разносившееся в ломком осеннем воздухе, они бесстрашно и дружно двинулись на врага. Кромвель скакал впереди. Кавалеры встретили их плотным мушкетным огнём. Они не дрогнули и перешли с рыси в галоп. На расстоянии половины пистолетного выстрела кавалеры дали по ним второй залп. Под Кромвелем пулей убило коня. Они оба упали. Жажда победы, стремительность боя точно подхватили генерала. Он высвободился, поднялся, побежал, вскочил на другую лошадь и ворвался в гущу сражения, нанося удары, криками подбадривая и направляя разгорячённых драгун. Атака была так решительна, выучка драгун к тому времени была так хороша, что строй кавалеров был опрокинут и смят. Они побежали, бросая оружие. Парламентская армия взяла тридцать пять знамён и около тысячи пленных. Графство Линкольн было в её руках.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
1
Победы Кромвеля, решительные, бесспорные, но имевшие значение только для графства Линкольн, не могли изменить ход войны, которая явно затягивалась и начала тяготить население. Произвольные налоги и таможенные тарифы, корабельные деньги и монополии, наносившие ощутимый ущерб предпринимательству и торговле, произвольные штрафы, тюремные заключения и публичные казни, оскорблявшие достоинство англичан, ушли в прошлое и позабылись. Предпринимательство и торговля получили долгожданную свободу. В хозяйстве страны наступил стремительный, но краткий подъём. Он длился три года и сменился новым упадком. Англия разделилась в ожесточённой борьбе. Налаженные экономические связи были разрушены. Сношения Лондона с севером, западом и юго-западом были прекращены. Приток сырья прекратился, торговля ослабла. Резко сократилась торговля с Голландией и Московией: королевский флот пиратствовал на торговых путях. Сельское хозяйство приходило в упадок, отчего стремительно взлетали вверх цены на хлеб и на шерсть, а доходы простых горожан уменьшались.
Простые люди страшились голода и застоя и во всех своих бедах обвиняли парламент, поскольку сейчас именно ему принадлежала вся власть.
Народ чувствовал себя обманутым и оскорблённым. Владычество парламента чересчур затянулось, и он получил прозвание Долгого, в котором скрывался иронический смысл. Положение могло улучшить только примирение с королём.
Мир становился возможным. Его условия могли быть почётными для монарха, стоило ему согласиться управлять Англией совместно с парламентом. Но он, как все недалёкие, но упрямые люди, не желал идти ни на какие уступки, и был уверен в полной победе, ведь большая часть Англии уже была на его стороне, а в конце 1643 года открылась возможность получить войска из Ирландии.
Положение в Ирландии до сих пор оставалось неопределённым и шатким. В начале восстания парламент собрал средства и снарядил войско для подавления мятежа. Эта армия насчитывала от десяти до двенадцати тысяч наёмных солдат. Пока им платили, они несколько потеснили ирландских повстанцев, но вскоре Долгий парламент, сам втянувшийся в войну, стал о них забывать. Денег, которые разворовывались на пути к армии, не хватало и для солдат Эссекса, тем более для ирландских солдат. Наёмники нс желали сражаться бесплатно, они ограничивали военные действия тем, что сдерживали повстанцев, но не продвигались вперёд. В таком положении парламент обвинял короля. Государь захватывал мушкеты, порох и продовольствие, направлявшиеся в Ирландию, и во всех бедах винил корыстных и бессовестных представителей нации. Тем временем его агенты вошли в сношение не только с её генералами, но и с повстанцами, с которыми постоянно переписывалась его жена-католичка.
Во главе ирландской армии стоял граф Джеймс Батлер Ормонд, аристократ, человек богатый, великодушный и храбрый и за это любимый народом. Он выиграл два сражения против повстанцев, но был преданным сторонником короля. На службу к себе он принимал кавалеров, исключённых из службы парламентом, и с течением времени заменил парламентских чиновников монархистами. Таким образом, ирландская армия, воевавшая за дело парламента, мало-помалу перешла на сторону короля.
Ничего лучше придумать было нельзя. Карл повелел Ормонду вступить в переговоры о мире с советом повстанцев. Граф исполнил его повеление, а между тем доносил в Лондон парламенту о бедственном положении протестантов в Ирландии, о разложении армии, о желании многих наёмных солдат оставить службу. В своих докладах Ормонд почти не отклонялся от истины, однако составлял он их главным образом для того, чтобы в случае нужды оправдать свои успешные переговоры с повстанцами.
Пятого сентября 1643 года было подписано перемирие на год. Король не мешкая вызвал ирландскую армию в Англию. В скором времени в Бристоле и Честере должны были высадиться десять полков.
У англичан ненависть и презрение к ирландцам были чем-то вроде дурной неизлечимой болезни. Вся парламентская Англия при первом известии о перемирии и полках, перешедших на сторону монарха, ожесточилась благородным негодованием. Недовольство распространилось даже среди роялистов. В ставке короля в Оксфорде было неспокойно. Кое-кто из офицеров Ньюкасла в знак протеста перешёл в ряды парламентской армии. Граф Генри Рич Холланд, следом за ним лорды Бедфорд, Педжет и Клер возвратились из Оксфорда в Лондон и уверяли членов парламента, что в ставке короля верх решительно взяли паписты и что совесть не позволяет им там оставаться. Явный поворот в сторону примирения с монархом сменился новым негодованием. Короля называли лицемером, лжецом. Выяснилось, что он ведёт тайные переговоры с католиками. Негодование удвоилось, когда распространились слухи о том, будто к английским солдатам ирландской армии присоединились паписты, даже переодетые женщины в каких-то диких нарядах, вооружённые длинными, чуть ли не кухонными ножами. Многие из простых людей, дворян и вельмож почувствовали ненависть к венценосцу, которая уже не утихала до конца гражданской войны. Они возмущались между собой:
— Мало того, что король отказался мстить папистам за избиения протестантов в Ирландии, он ещё принимает к себе на службу этих свирепых убийц, чтобы теперь они убивали протестантов у нас!
Безумие окончательно разыгралось, когда стало известно, что монарх попытался разорвать союз шотландцев с английским парламентом. Он поручил это герцогу Гамильтону, который служил ему в Эдинбурге. От его имени Гамильтон заверял шотландский парламент, что в том случае, если союз будет разорван, шотландские лорды получат третью часть должностей при королевском дворе, к Шотландии присоединят графства Уэстморленд, Кемберленд и Нортумберленд, когда-то принадлежавшие ей, вместо Лондона королевской резиденцией станет Ньюкасл, а двор принца Уэлльского разместится в Эдинбурге на вечные времена.
Этим обещаниям мало кто верил как в Англии, так и в Шотландии: все знали, что Карл презирает шотландцев и не желает поступаться и самой малой толикой своей неограниченной власти. Тем не менее это вызвало взрыв возмущения. Англичане, относившиеся к шотландцам с презрением, любые уступки шотландцам со стороны короля считали изменой, а изменников не любят нигде.
И в Лондоне, и во всех графствах, поддерживавших парламент, возродился воинственный дух. Q мире уже не говорили ни простые горожане, ни парламентарии. Энтузиазм охватил даже лондонский Сити. Кое-кто из богатейших торговцев и финансистов одевал и вооружал на свой счёт нахлынувших добровольцев, кое-кто сам вызывался служить в их рядах. Рассказывали, что один из них, только что получив в наследство громадное торговое дело и две тысячи фунтов стерлингов, явился в армию Эссекса во главе полка, вооружённого и снаряженного им. Даже те из депутатов парламента, которые только что хлопотали о мире, призывали городские советы приложить все усилия для борьбы.
Всё-таки главная надежда оставалась на помощь шотландцев. Союз был заключён, однако далеко не всем англичанам хотелось его исполнять. Они считали, что союз должен быть исключительно военным и политическим, тогда как шотландцы выдвигали главным условием — присоединение всей Англии к одной, пресвитерианской религии. Это условие мало смущало тех представителей нации, которые сами собой отказались от англиканства и стали убеждёнными пресвитерианами. Им принадлежало большинство в нижней палате парламента, и они, устрашённые высадкой ирландских полков, поспешили исполнять условия договора с шотландцами.
Ещё летом по распоряжению парламента был созван синод, которому надлежало обсудить весь строй нового устройства английской церкви и дать депутатам свои предложения, поскольку только парламент считал себя вправе принимать окончательные решения как в государственных, так и в религиозных делах. Правда, поначалу предполагалось, что синод составят сто пятьдесят человек, из них сто двадцать епископов и служителей церкви, десять лордов и двадцать членов нижней палаты. Однако епископы и многие служители церкви отказались явиться, не уверенные, что останутся на свободе и не лишатся жизни. Представителем от лордов и депутатов оказался только Джон Селден, юрист. Таким образом, нежданный синод составился всего из семидесяти богословов и служителей церкви, которые к тому времени покинули англиканство. Двадцатого ноября постановлением парламента в состав синода ввели четверых известных в Шотландии богословов, чтобы они помогли установить единство в богослужении в Англии по примеру Шотландии.
Синод начал свои заседания в капелле Генриха XVII, но вскоре зарядили дожди, сделалось холодно, сыро, и богословов, всегда любивших тепло, перевели в Иерусалимскую комнату, которая расположена в дальних, более уютных покоях Вестминстера. Заседания происходили пять раз в неделю в течение пяти с половиной лет. В половине девятого утра они начинались общей молитвой и затем длились с девяти до двух часов дня. Каждый за свои труды получал по четыре шиллинга в день. За опоздание к общей молитве налагался штраф — шесть пенсов. В постные дни заседание продолжалось с девяти часов до пяти и проходило в молитвах.
«После того как доктор Твисс прочёл краткую молитву, мистер Маршалл в высшей степени благочестиво читал длинную молитву в течение двух часов. Потом мистер Эрроусмит говорил проповедь, которая продолжалась около часа. Вслед за ней был пропет псалом. Затем мистер Палмер говорил проповедь в течение часа, мистер Симен читал молитвы два часа, и был спет ещё один псалом. Под конец мистер Хендерсон занял собрание краткой, но прекрасной речью о публичном покаянии и других видимых заблуждениях, а также о необходимости проповедовать против еретических сект, в особенности против баптистов и антиномианцев».
В скоромные дни происходили прения как по насущным, так и по отвлечённым религиозным вопросам. Богословы явным образом подражали парламенту. Они произносили длинные учёные речи. Многие заранее готовились к ним, обстоятельно изучая обозначенную в регламенте тему. Лишь иногда и немногие брали на себя смелость излагать свои мысли экспромтом, однако, по мнению стороннего наблюдателя, тоже говорили недурно, чем вызывали у него удивление. Неторопливость и многоречие были обдуманны. Богословы полагали, что они вырабатывают основания культа на все дальнейшие времена, и потому не намеревались спешить.
В самом деле, Вестминстерскому собранию, как вскоре стали его называть, предстояло удовлетворительно разрешить вечные, но всегда новые, спорные, ведущие к расколам и войнам проблемы: единство церкви и пределы веротерпимости, поскольку любая религия меньше всего склонна терпеть в делах веры анархию. Оно должно было дать неопровержимые ответы на важнейшие вопросы о том, должно ли государство предпочесть одну организацию церкви и одну форму культа всем остальным, имеет ли оно право терпеть другие организации и другие формы или должно истреблять их огнём и мечом, а если должно и может терпеть, то все без изъятия или немногие избранные.
Вопросы были важнейшие, острейшие и крайне болезненные. Время для серьёзных ответов на них было самым неподходящим. Англия только что покончила с англиканством и властью Ненавистных епископов и приходила понемногу в себя. Все праздновали победу и не хотели задумываться над тем, как нынче следует верить, какие псалмы распевать, какие молитвы читать. Умы занимали неотложные земные дела: свобода личности, свобода собственности, права парламента, права короля, продолжение войны или скорейший мир, а если мир, то какие условия мира могли бы удовлетворить обе стороны.
Первые же известия о богословских прениях, вышедшие за стены Иерусалимской комнаты, всё изменили. Сначала Лондон, потом вся Англия внезапно превратились в кипящий котёл. Те, кто вчера ковали мечи и наконечники копий, бросились выковывать новые взгляды на смысл и формы религии. Все способные мыслить заспорили о терпимости, о свободе отправления культа, о возможности или невозможности самостоятельно составлять для себя религиозные мнения, о праве государства защищать одну церковь и наказывать всех и каждого, кто осмелится оспорить её, или не защищать ни одной и заниматься лишь государственными делами, предоставив церкви или церквям как им вздумается заниматься делами церковными. Англичане, и без того склонные почитать себя высшей расой, вдруг превратились в фанатиков, а религиозные споры в мгновение ока обернулись ненавистью, презрением, площадной бранью и потасовками. В самом лучшем случае религиозных противников именовали собаками, бешеными волками, пожирателями душ, негодяями, а молитвы из покаяний, смирения и горьких просьб о прощении внезапно обернулись наглыми требованиями, чтобы Господь истребил, испепелил до седьмого колена тех неисправимых — грешников, тех низких, подлых, порочных людей, которые имеют наглость не разделять религиозных мнений молящегося.
«Едва ли проходит хоть один день без того, чтобы не появилось какое-нибудь новое мнение, которое привлекает к себе общий интерес на один, много на два дня. Кто потерял религию, пусть приедет в Лондон, и я ручаюсь, что он найдёт себе подходящую, а человек верующий, без сомнения, потеряет и то, что имел».
Вестминстерское собрание поступало мудро, не спеша с окончательными решениями. Два обстоятельства заставили парламент его торопить. Восьмого декабря 1643 года скоропостижно и очень не вовремя скончался Джон Пим, последний из выдающихся вождей парламентской оппозиции последних пятнадцати лет. Этот был признанный мастер тайных сношений и публичных речей. Он был твёрд в своих убеждениях, но умел терпеливо ждать благоприятного стечения обстоятельств и в зависимости от них подстрекал или удерживал народный гнев. Человек государственного ума, склонный к разумному, плодотворному компромиссу, когда иначе нельзя было двигаться к намеченной цели, он один был в состоянии охладить пыл пресвитерианского большинства, образумить, уговорить, доказать, что не следует торопиться реформировать церковь, когда религиозные страсти и без того накалены до предела.
Этого человека не стало. Многие представители нации облегчённо вздохнули. Враги ликовали и распространяли гнусные слухи, будто умерший — негодяй, человек недостойный, умер от вшивости. Только Кромвель и Вен отдали должное павшему борцу за свободу и не позволили забыть его заслуги. Они настояли, чтобы его тело в течение нескольких дней было выставлено для публичного обозрения: желающие могли с ним проститься, а те, кто сомневался, убедиться в ложности распускаемых слухов. Благодаря их совместным усилиям составился комитет, который должен был привести в порядок дела покойного и в Вестминстерском аббатстве воздвигнуть достойный памятник в его честь. Толпы народа пришли проститься с усопшим. Депутатам нижней палаты пришлось следовать за его гробом в полном составе. Вскоре комитет пришёл к выводу, что всё скромное имущество Пима должно быть продано за долги, которые составили около десяти тысяч фунтов стерлингов, однако все эти деньги были потрачены Пимом не на личные нужды, а на благо отечества. По настоянию комитета парламент взял их на себя.
Вторым обстоятельством был неправедный гнев короля. Карлу Стюарту, который превыше всего ставил своё право на безоговорочную, безграничную власть, очень не понравилось, что его подданные возмутились призванием ирландских полков, что лондонский парламент не только разделяет, но и раздувает недовольство в грозных речах, обличая сговор короля с католиками Ирландии, Шотландии и севера Англии. Как говорится, чаша терпения была переполнена. Он вызвал Хайда, единственного благоразумного человека, который ещё оставался верен ему, и разразился филиппикой[17]:
— Слишком много чести для этих Вестминстерских бунтовщиков, чтобы я обращался с ними как с частью парламента. Пока они будут заседать в этом месте, они не перестанут употреблять свою власть во зло. Я подписал акт, которым обещал не распускать их иначе, как с их собственного согласия, но этот акт противоречит установлениям королевства и не имеет законной силы. Не могу же я, в самом деле, своими руками уничтожать преимущества и привилегии, которые издавна по праву принадлежат королю. Я хочу ими пользоваться до конца моих дней. Я повелеваю вам сей же час составить прокламацию с объявлением, что парламент распускается сию же минуту, что ему запрещается собираться и что никому не позволяется признавать его и повиноваться ему!
Хайд был изумлён. Самая мысль распустить парламент до окончательной победы над ним представлялась ему бессмысленной и безумной. Он осторожно, чуть не ласково возразил:
— Я вижу, ваше величество, что вами всесторонне обдумано это решение. Однако, осмелюсь сказать, для меня оно совершенно ново и требует серьёзного размышления.
Хайд остановился, с сожалением посмотрел на своего владыку и задал коварный вопрос:
— Я никак не могу понять, каким образом запрещение вашего величества собираться в Вестминстере может воспрепятствовать кому-либо туда приходить?
Монарх растерялся. Видимо, эта простая, здравая мысль ещё не посещала его. Он не нашёл ничего возразить, а безжалостный Хайд продолжал:
— Нет сомнения, что запрет вашего величества произведёт сильное неудовольствие в государстве. Может случиться, что тот акт, о котором ваше величество изволите говорить, действительно не имеет законной силы. И всё-таки, ваше величество, пока парламент не оставил своего заблуждения, пока его восстание ещё не подавлено, до того времени ни один судья, ни один гражданин не осмелится поддержать подобное предложение.
Хайд сделал паузу, желая, чтобы возбуждённый собеседник услышал его:
— Ведь уже говорили не раз, и, в сущности, таково намерение вашего величества, что во имя того же права вы надеетесь когда-нибудь отменить все другие акты этого парламента, и что же? Хотя мы всегда горячо доказывали несправедливость этих слухов, она часто вредила вам и тем, кто вам предан. Что же будет, когда этой прокламацией, не имеющей силы, подозрения большинства подтвердятся?
Он склонился в поклоне:
— Умоляю ваше величество принять в соображение моё мнение, прежде чем вы изволите привести в исполнение задуманную вами меру.
Хайд вышел. Намерения Карла и его возражения стали известны. Королевский совет почти целиком встал на сторону Хайда. Государь был упрям, однако не уверен в себе. Всякое возражение сбивало, смущало его. В течение нескольких дней его терзали сомнения. Наконец он оставил мысль распустить парламент, заседавший в Вестминстере. Однако все эти события возбудили двор и королевский совет. Три года гражданской войны доказали и монархистам, что парламент имеет сильнейшее влияние на нацию. Многим начинало казаться, что было бы очень неплохо каким-нибудь образом воспользоваться этим влиянием в интересах самого, короля. Тогда кому-то и пришла в голову мысль не распускать парламент в Вестминстере, поскольку для этого коротки руки, а собрать в Оксфорде свой парламент, из тех лордов и представителей нации, которые покинули Лондон и перебежали в стан короля. Неотразимая привлекательность этой идеи состояла именно в том, что это будет настоящий, законный парламент, поскольку участие в его деятельности примет монарх, и, таким образом, вестминстерский парламент окажется незаконным, мятежным.
Королю разъяснили прелесть этой идею, но она ему не понравилась. Он был непреклонным противником любого парламента, даже если бы он состоял из одних монархистов и был абсолютно ручным. Ещё сильнее идеей оксфордского парламента была возмущена королева, француженка и католичка; любое ограничение абсолютной власти представлялось ей невозможным.
Перевесили гордость и честь короля деньги, брошенные на чашку весов, деньги, эта сила высшая всех земных и небесных властей. Какой-то расчётливый льстец подсказал, что ему крайне выгодно иметь собственный ручной, карманный парламент. Почему? О, это проще простого! Ведь он вотирует любые налоги, и король сможет на законном основании обдирать население графств, сохранивших верность ему, тогда как теперь его армия, в особенности та её часть, которой командует Руперт, просто-напросто занимается грабежом. Монархисты были в восторге. Их поддержали министры, дополнительно указав, что новый парламент весьма и весьма подорвёт доверие к Вестминстерскому. Карл уступил. Двадцать второго декабря 1643 года он подписал указ, которым в Оксфорде собирался настоящий, законный парламент. Текст его был напечатан и в первую очередь получил распространение в Лондоне, в расчёте на то, что Вестминстерский парламент рассеется сам собой и заседавшие в нём лорды и представители нации чуть ли не на другой день явятся в Оксфорд.
Прокламация имела обратное действие. В Вестминстер явились посланники от лондонского городского совета и пригласили парламентариев присутствовать, в знак солидарности депутатов и горожан, на общем обеде, который должен состояться тринадцатого января. Депутаты ободрились. Им прибавило храбрости наступление шотландской армии под командованием графа Ливена, успешно начатое девятнадцатого января. Двадцать второго января в обеих палатах была проведена перекличка, всего в наличности оказалось двадцать два лорда и двести парламентариев, не считая ста депутатов, исполнявших поручения парламента в графствах. В тот же день состоялась перекличка и в Оксфорде. На заседание в королевский парламент явилось сорок пять лордов и, всего лишь сто восемнадцать представителей нации. Этого было мало, однако заседание всё-таки могло состояться. Депутаты Вестминстера волновались.
По счастью, двадцать пятого января в графстве Честер под стенами Нантвича генерал Ферфакс разбил и почти полностью уничтожил ирландские полки, явившиеся спасать монарха. Последствия нетрудно было предвидеть. Граф Форт, главнокомандующий королевской армии, от имени оксфордского парламента направил послание графу Эссексу с предложением склонить к миру «тех, чьим доверием он пользуется».
Первого февраля решением парламента Эссекс вернул Форту его послание без ответа, что не могло не означать продолжение гражданской войны. Пополнение и вооружение парламентской армии было продолжено чрезвычайными темпами. В знак полного доверия многие офицеры получили очередные чины. Полковник Оливер Кромвель за заслуги в последних сражениях был произведён в генерал-лейтенанты.
Правда, о полной военной победе пока что можно было только мечтать. Нежелание в письме Форта даже произносить слово «парламент» в отношении тех, кто управлял страной из Вестминстера, означало, что король отныне этот парламент не признает, правда, пока молчаливо, не решаясь открыто его распустить. В этот критический и опасный момент представители нации должны были показать и Англии, и себе самим, и королю, и тем беглецам, которые собрались на заседание в Оксфорде, кто действительный хозяин в стране. А как и чем они могли доказать? Неизвестно кому пришла в голову явно поспешная, несозревшая мысль, что лучшим подтверждением силы и власти было бы основание в Англии новой, парламентской церкви.
В Иерусалимской комнате богословы ещё мирно молились и произносили длинные речи, а парламент постановил, что отныне в Англии упраздняется прежняя англиканская епископальная церковь и учреждается новая, пресвитерианская церковь, по шотландскому образцу. Все обряды англиканской епископальной церкви, доставшиеся ей от папистов, полностью отменялись. Собрание верующих каждой церковной общины избирает старейшину, то есть пресвитера, который совместно с пастором ведает всеми религиозными делами общины. Пресвитеры периодически собираются на церковные съезды-синоды, чтобы решать насущные дела управления, обрядов и богослужения. Никакая другая церковь в Англии не имеет права на существование. Больше того, пятого февраля 1644 года парламентом был издан указ. В соответствии с ним все англичане, достигшие восемнадцати лет, были обязаны подписать договор о союзе и единой церкви, ещё осенью заключённый с шотландскими пуританами. Во все графства, подвластные парламенту, были направлены комиссары. Из верных пресвитериан комиссары создали комитеты, эти учреждения с должной строгостью проверяли поведение и учение проповедников. Приблизительно двум тысячам было запрещено совершать обряды. Священнослужители англиканской епископальной церкви отстранялись без всяких проверок.
Видимо, столь неожиданная и крутая реформа всей церковной системы произвела потрясение в лагере короля. Многие были растеряны. Ведь отныне и депутаты оксфордского парламента, и двор, и армия, и всё население графств, на которые распространялась власть монарха, и он сам, не подписавшие указ пятого февраля, оказывались еретиками, а еретикам во все времена не бывает пощады.
Восемнадцатого февраля граф Форт запросил у Эссекса пропуска для двух кавалеров, которых Карл намеревался направить в Лондон для переговоров. С позволения парламента граф ответил любезно, однако в ином смысле, косвенно отвергая переговоры о чём бы то ни было:
«Милорд, если Вы потребуете от меня пропуска для этих господ, чтобы они от имени короля могли явиться к обеим палатам парламента, я от всего сердца сделаю всё, что от меня будет зависеть, для содействия такому делу, которого желают все благомыслящие люди, то есть для восстановления согласия между его величеством и парламентом, верным и единственным его советником».
Это было условие, от которого Вестминстерский парламент не хотел отступить: государь правит Англией совместно с парламентом. Многие в Оксфорде готовы были принять такое условие. Оксфордские депутаты советовали королю пойти на уступки. Монарх направил в Лондон послание, которое адресовал, с намерением оскорбить и унизить, «лордам и депутатам парламента, собранным в Вестминстере». Он не решался разогнать ненавистный парламент, забиравший всё большую власть, и не желал его признавать, в приступе гнева только дразнил представителей власти и тем обнаруживал своё бессилие.
Депутаты оксфордского парламента были растеряны и не знали, что делать. Они сочиняли длинные, вялые декларации, горько упрекали вестминстерсцев за несговорчивость и неуважение к королю, со своей стороны уверяли государя в своём уважении, в котором тот не нуждался, и вотировали кое-какие налоги и займы, которые без употребления силы невозможно было ни собрать, ни получить. Вскоре они устали и осознали бессмысленность своих заседаний.
Королю депутаты надоели. Шестнадцатого апреля о» уверил их, что всегда будет с удовольствием следовать их полезным советам, и на неопределённый срок отложил их заседания. Едва двери приёмной затворились за парламентариями, с радостью снявшими с себя эту обузу, Карл сказал королеве, что несказанно рад избавиться от «этого парламента ублюдков, этого гнездилища предательских и возмутительных предложений». Так добрый король оценил тех, кто по доброй воле явился его защищать.
2
Монарх оскорблял и унижал, на этот раз своих самых верных приверженцев, и делал это в самое неподходящее время. Одиннадцатого апреля парламентский генерал Ферфакс разгромил сильный отряд монархистов при Селби. Граф Ньюкасл, шедший на помощь, предпочёл, подальше от греха, отсидеться в Йорке, оправдывая свои трусоватые действия тем, что явился защищать этот важнейший на севере стратегический пункт.
Представители нации ликовали. Они стали серьёзно готовиться к наступлению по всем направлениям. Ещё зимой был сформирован военный совет из семи лордов, четырнадцати депутатов и четырёх комиссаров, представлявших шотландскую армию. В знак теснейшего союза с шотландцами совет был назван комитетом обоих королевств. Он был наделён неограниченными полномочиями во всём, что касалось войны, в сношениях между Англией и Шотландией и в переписке с иноземными государствами. Его совещания происходили в обстановке самой полной секретности, так что король перестал получать из Лондона сведения о военных приготовлениях, которые прежде приходили в Оксфорд изо дня в день.
Комитет действительно взял все военные дела в свои твёрдые руки. К лету 1644 года парламент располагал пятью армиями, готовыми к наступлению. В войско Эссекса входило приблизительно десять тысяч солдат, на его содержание каждый месяц тратилось более тридцати тысяч фунтов стерлингов. Рядом действовал Уоллер, имевший около пяти тысяч солдат, содержание которых обходилось в десять тысяч фунтов стерлингов в месяц. На севере сражалась двадцать одна тысяча шотландских солдат и небольшая армия Ферфакса, от пяти до шести тысяч солдат. На востоке стоял граф Манчестер. Его войска насчитывали до четырнадцати тысяч солдат, на них уходило более сорока тысяч фунтов стерлингов в месяц.
Откуда было взять эти деньги? Их должно было дать население, и оно пока давало. Восточные графства содержали армию Манчестера — Кромвеля. Южные графства обеспечивали солдат Уоллера. Несколько патриотически настроенных лондонцев решились отказать себе в одном обеде в неделю и передавать эти деньги парламенту. Представителям нации показался замечательным столь своеобразный почин, и они всех жителей Лондона и окрестностей обязали передавать в парламентскую казну стоимость одного обеда в неделю. Этого было, разумеется, мало. Пришлось наложить прежде никогда не существовавшие пошлины на табак, сидр, пиво, вино и на многие другие товары, доставлявшиеся из колоний. Комитет по секвестру с большей строгостью проверял земельные владения монархистов и активно пускал их в продажу. Солдатам на первое время были обеспечены хлеб и оружие.
К началу мая под знамёнами парламента сосредоточилось приблизительно пятьдесят тысяч солдат. Этого было достаточно для полной, окончательной победы. В середине мая армии Эссекса и Уоллера получили приказ овладеть Оксфордом. Некоторое время спустя войска Манчестера — Кромвеля и Ферфакса совместно с шотландцами должны были осадить Йорк и покончить с Ньюкаслом. План кампании был удачен и смел, его исполнение целиком и полностью зависело от мастерства генералов.
Как только Эссекс и Уоллер двинулись, Оксфорд охватило волнение. Все понимали, что на этот раз положение слишком серьёзно. Королева была на седьмом месяце беременности. С ней случилась истерика. Она объявила, что должна уехать из города. Муж умолял её остаться. Министры объясняли, что отъезд произведёт неблагоприятное впечатление на защитников города, но государыня была непреклонна и просилась на запад. Там она могла благополучно разрешиться от бремени вдали от войны и, если понадобится, скрыться во Франции, под крыло своего племянника-короля. Несчастная женщина умоляла и плакала. Король сдался. Министрам ничего не оставалось, как уступить. Она уехала в Экзетер. Карл больше никогда не увидел жены.
Армии Эссекса и Уоллера наступали медленно и хладнокровно. Одним давлением своей массы они оттеснили неприятельскую армию частично в Оксфорд, частично на северные подступы к городу. В пути к ним присоединилось восемь тысяч лондонских добровольцев. Сил было достаточно, чтобы осада была полной, чтобы ни одна мышь не выскользнула из города и не проскользнула в него. И без того никто не мог прийти на выручку королю. Принц Руперт застрял в графстве Ланкастер, принц Мориц осаждал портовую крепость Лим, лорд Гоптон находился в Бристоле, граф Ньюкасл сам себя запер в Йорке. Это обстоятельство успокоило генералов. Их самоуверенность была так велика, что они не потрудились сомкнуть войска и сделать осаду глухой.
Положение Оксфорда стало критическим. На военном совете кто-то предложил сдаться на милость победителю. Карл отрезал в негодовании:
— Может статься, что я попаду в руки графа, но не иначе, как мёртвым.
Каким-то образом это предложение стало известно за стенами города. В Лондоне распространился слух, что монарх намеревается внезапно приехать или отдаться под покровительство Эссекса. Взволнованный парламент писал генералу:
«Милорд, здесь ходят слухи, будто его величество желает прибыть в Лондон. Если вы имеете основание думать, что его величество действительно предполагает приехать сюда или в вашу армию, то вы, без сомнения, тотчас дадите нам знать и ничего не предпримете без решения обеих палат».
Это письмо вызвало подозрения Эссекса, что депутаты не доверяют ему. Не без раздражения и высокомерия он отвечал:
«Мне решительно неизвестно, откуда явился слух, будто его величество желает приехать в Лондон. Если я узнаю, что король имеет намерение прибыть к армии или в парламент, то немедленно вас об этом уведомлю, но я не вижу ни малейшего основания этому верить и во всяком случае полагаю, что услышу об этом последним».
Парламент напрасно отвлекал генерала от дел, а Эссекс нервничал и гадал, доверяют ему или нет.
Третьего июня в девять часов вечера король в сопровождении принца Уэлльского и небольшого конвоя вышел из Оксфорда, прошёл между флангами Эссекса и Уоллера, которые не удосужились приблизиться вплотную друг к другу, соединился с отрядом лёгкой конницы, его ожидавшим, и исчез.
Эссекс и Уоллер остались в дураках. Главнокомандующим был Эссекс, граф собрал военный совет и заявил, что теперь осада потеряла смысл. Как он пришёл к этой глупости, никому не было известно. Единственно верным в его положении было продолжить осаду и по меньшей мере не выпускать из Оксфорда армию короля, если уж у него не хватает храбрости её истребить. Граф же толковал на военном совете, что страшится больше всего, как бы король со своим конвоем и лёгким отрядом не соединился с армией Руперта.
Решение было неожиданным. Уоллер, имея около пяти тысяч солдат, но не имея ни артиллерии, ни обоза, должен гнаться за Карлом налегке, невзирая на то, что в погоне должен столкнуться с превосходящей армией Руперта, а потому неминуемо будет разбит. Сам же Эссекс, имея более десяти тысяч солдат, артиллерию и обоз, отправлялся прочь: он намеревался освободить из осады важный в стратегическом отношении Лим. Опять-таки главнокомандующий не изволил принять во внимание то, что после этого удивительного манёвра вражеская армия может свободно выйти из Оксфорда и преспокойно отправиться на соединение с Рупертом, так что Уоллер просто-напросто будет раздавлен нападением с фронта и с тыла.
Такое неожиданное решение можно было бы считать подлым предательством, если бы оно не было просто-напросто глупостью, соединённой с бездарностью и стойким нежеланием причинить серьёзный вред королю. Уоллер был возмущён. Он предъявил военному совету приказ, исходивший от комитета по военным делам. Комитет предусматривал, что стечением непредвиденных обстоятельств армии парламента могли разделиться. В таком случае, по его мнению, именно Уоллер должен был освободить Лим, а Эссексу предназначалось преследовать короля.
Граф потребовал повиновения. Военный совет его поддержал. Уоллер вынужден был подчиниться, он направил в Лондон жалобу, обвинив Эссекса в том, что он произвольно толковал приказ комитета, и двинулся догонять короля.
Эссекс продолжал неоправданное движение к Лиму. Узнав, что генералы парламента совершили роковую ошибку, король остановился. Он оставил мысль о соединении с Рупертом, потерявшем в этих обстоятельствах смысл, изменил план кампании и направил принцу приказ освободить Йорк.
Принц Руперт поспешил исполнить волю дяди и короля. Карл вернулся на оставленную без защиты дорогу, по которой бежал, вступил в Оксфорд через семнадцать дней после того, как оставил его, вновь встал во главе армии и решил наступать, поскольку перед ним не было ни Эссекса, ни Уоллера и дорога на Лондон оказалась открытой. Таким образом, совершенное по глупости и бездарности неповиновение Эссекса разом поставило под удар и северный Йорк, и столицу.
Уоллер был верен долгу и приказу. Он растерялся, но тотчас бросился догонять короля, как только узнал о его возвращении в Оксфорд, шёл быстрыми переходами, надеясь спасти попавший в безысходное положение Лондон. Несколько отрядов добровольцев присоединились к нему. Они не успели пройти солдатского обучения, но горели желанием победить. Монарх встретил эту усталую, неоднородную армию на походе в графстве Бекингем. Сражение завязалось неожиданно, без должного построения и подготовки. Кавалеры были воодушевлены счастливым возвращением короля. Круглоголовые спасали Лондон, парламент и дело свободы. Обе стороны дрались с редким упорством. Потери были значительны. Однако кавалеры умели маневрировать и лучше были обучены рукопашному бою. Спустя несколько часов они одержали решительную победу. Армия Уоллера была рассеяна и на время перестала существовать.
Теперь Лондон был беззащитен. Король мог овладеть им довольно легко. Вместо этого он направил послание представителям нации, лукаво избегая слова «парламент», рассыпался в своих лучших намерениях и предлагал вновь приступить к переговорам о мире, а сам направил свою победившую армию в погоню за Эссексом, удаляясь от Лондона. Был ли он так твёрдо уверен, что принц Руперт непременно одержит полную победу на севере? Рассчитывал ли он разгромить неуклюжего Эссекса, тем самым лишить парламент всех войск и уже безоговорочным победителем вступить в Лондон, чтобы разогнать парламент и утвердить свою абсолютную власть? Беспокоила ли его судьба королевы, которая после падения Экзетера могла попасть к Эссексу в плен? Как знать! Очевидно одно: ему не следовало этого делать. Самоуверенность не в первый раз губила его.
Его судьба решалась на севере. Он должен был двинуться к Йорку, если действительно желал окончательной, полной победы. Истинная опасность исходила не от армии Эссекса, без особенной надобности уходившей на запад. Делу короля угрожали Манчестер и Кромвель, спешившие на выручку Йорку, Кромвель прежде всего.
Всю весну и начало лета он без устали объезжал восточные графства, всюду собирал деньги, добровольцев и лошадей, уговаривал, убеждал, выходил из себя, впадал в отчаяние, заклинал хриплым, срывавшимся голосом:
— Я бы сделал это, если бы мог пронзить словами ваши сердца!
Повторял изо дня в день:
— Умоляю вас: не теряйте времени, будьте добросовестны и энергичны! Действуйте живее, работайте не отвлекаясь, не щадите сил!
Энергия и настойчивость Оливера передавались другим. Его кавалерия пополнялась. Неожиданно помогло и необдуманное решение парламента ввести единую пресвитерианскую церковь. Далеко не все англичане были с этим согласны. Любая церковь, католическая, епископальная или пресвитерианская, представлялась им посягательством на свободу вероисповедания. Они отстаивали полную независимость каждой религиозной общины, каждой отдельной личности от власти государства и церкви; отвергали любые, кем-то изобретённые и навязанные формы богослужения. Им представлялись несовместимыми со Священным Писанием обязательные молитвы, обряды, псалмы. Это были главным образом мелкие торговцы, городские ремесленники, сельские хозяева, свободные фермеры, зажиточные арендаторы, преимущественно восточных графств. Их называли индепендентами, то есть независимыми. Их признанными вождями с самого начала стали Оливер Сент-Джон и Генрих Вен.
Все генералы парламентских армий были пресвитерианами, по обязанности или по убеждению. Они неохотно принимали в свои ряды независимых и нередко смещали их с офицерских постов. Терпимым среди них был один Кромвель.
Он сам был независим, с истинной страстью фанатика верил, что всё в руках всезнающего, всемогущего Господа, что без воли Его ни один волос не упадёт с головы человека, что Он, только Он, решает исход битв и судьбу государств. Библия постоянно находилась при нём. Кромвель читал почти только её, часами размышляя над каждым стихом, ответы на все вопросы он искал только в этой книге.
Многие годы Оливер отстаивал своё священное право верить так, как считал правильным, таился от епископальной полиции и обличал тех епископов, которые преследовали независимых пуритан.
Кромвель был терпимым человеком и потому равнодушно относился к любым другим формам верований, лишь бы они не касались, не стесняли его, принимал в свою кавалерию всех, кто к нему приходил, лишь бы их вера была нелицемерной и твёрдой, как сталь.
Неудивительно, что все независимые, индепенденты, не признававшие пресвитерианскую церковь, в первую очередь стремились к нему и охотно пополняли его эскадроны. Полк стремительно разрастался и к лету 1644 года насчитывал более двух с половиной тысяч драгун. Они были преданы идее свободы, как Господу; одушевлены одной верой и сплочены волей к победе; уважали, любили своего генерала, готовы были безоговорочно, безропотно выполнить любое его приказание.
В середине июня Манчестер и Кромвель соединились с шотландцами, генералом Фердинандом Ферфаксом и Томасом, его сыном, под Йорком, в котором благодушно отсиживался Ньюкасл, и осадили его. У Ньюкасла не было выхода. Рано или поздно его армия должна была сдаться за неимением хлеба и пороха, а потому парламентская армия вела осаду неторопливо и спустя рукава, при легкомысленном попустительстве графа Манчестера, несмотря на страстные протесты Кромвеля.
Попустительство и в этом случае привело к тяжёлым последствиям. В последних числах июня от лазутчиков стало известно, что к Йорку приближается кавалерия Руперта, тысяч до двадцати, в действительности значительно меньше. Состоялся, как водится, военный совет. Самым решительным, самым настойчивым на этом совете был Кромвель. Было решено, в расчёте на нерасторопность Ньюкасла, на некоторое время снять с Йорка осаду, встретить Руперта и разгромить его на походе.
Парламентское воинство двинулось неизвестно куда. Манчестер был главным. Он служил парламенту, но с одинаково скромным усердием мог бы служить королю. Лето было дождливое. Воздух, насыщенный влагой, ограничивал видимость сотней шагов. Манчестер не столько искал неприятеля, сколько блуждал по влажным перелескам и пустошам без руля и ветрил, понапрасну утомляя пехоту и кавалерию. Его блуждания, как и следовало, кончились тем, что принц Руперт провёл свою кавалерию в Йорк без потерь. Манчестер спохватился и, точь-в-точь как Уоллер, пустился его догонять.
Тем временем Руперт и Ньюкасл совещались. Ньюкасл, тот же Манчестер, порядочный человек, но плохой генерал, кропатель лёгких комедий, не любил воевать. Он поздравлял принца с успехом, предлагал в тепле и покое отсидеться в осаде или по меньшей мере подождать подкрепление, которое вот-вот должно подойти. Руперт, тот же Кромвель, только слишком самоуверенный и строптивый, как его дядя король, предлагал выйти из крепости и без промедления и раздумий обрушиться на врага. Ньюкасл уверял, что парламентскую армию раздирают раздоры, что шотландцы и англичане плохо ладят друг с другом, что пресвитериане ссорятся с индепендентами, а Кромвель не в ладах с Кроуфордом. Стоит ли торопиться, рисковать? Того и гляди, они передерутся между собой и сами снимут осаду. Руперт был только рад раздорам в стане врага: они манили его бескровной, лёгкой победой. Ньюкасл увиливал, говорил, что не получал от короля приказа атаковать. Руперт предъявил ему послание дяди, оно показалось Ньюкаслу неясным. Они поспорили о его содержании. Наконец Руперт махнул рукой и вышел из Йорка. Ньюкаслу ничего не оставалось, как присоединиться к нему.
Обе армии встретились на Марстонской пустоши, при Марстон-Муре, как говорят англичане. Холмистая, поросшая вереском, она была мало удобна для маневрирования и быстрых, успешных атак. Почти по середине её тянулся довольно глубокий ров, земляной вал укреплял южную сторону, он разделил обе армии.
В первый момент встречи от неожиданности враги открыли беспорядочную пальбу из мушкетов и пушек. Одному из очевидцев казалось, что воздух как бы превратился в огненную стихию. Это была напрасная трата пороха и свинца, пули и ядра на большом расстоянии не причиняли никакого вреда.
В конце концов генералы одумались, остановили беспорядочную, бессмысленную пальбу и построили армии. На левом крыле парламентской армии встала кавалерия Кромвеля, его тыл поддерживали шотландцы Дэвида Лесли — против него стояла кавалерия Руперта. Центр занимала пехота графа Манчестера, Фердинанда Ферфакса и шотландцы под командой Александра Ливена — против неё пехота Ньюкасла. На левом крыле стоял Томас Ферфакс с кавалерией, набранной в северных графствах, — против него кавалерия Джоржа Норича Горинга. Парламентская армия насчитывала двадцать семь тысяч солдат, семь тысяч кавалерии и двадцать тысяч пехоты. В королевской армии было около восемнадцати тысяч, однако почти столько же или несколько больше кавалерии, чем у противника, в чём было её несомненное преимущество. Рассчитывая решить исход боя мощными атаками конницы, Руперт несколько растянул линию фронта, так что его фланги несколько загибались и угрожали флангам парламентской армии.
Противники сблизились на расстояние выстрела из мушкета. Их разделял только ров. Они могли видеть лица друг друга. У круглоголовых шляпы были повязаны белым платком. Чтобы различаться в бою, кавалеры сняли все украшения, ленты и шарфы. Они стояли в полном молчании.
С утра по небу неслись тёмные тучи. Из них сеялся мелкий, утомительный дождь, мочивший одежду бойцов, питавший и без того влажную почву. Изредка дождь прекращался. Между тучами прорывалось жаркое, летнее солнце и весёлым, радостным светом озаряло зловещие ряды непримиримых бойцов. Из-за попустительства лорда Манчестера где-то затерялся обоз. У солдат парламентской армии не было ни крошки во рту, не было даже воды, приходилось утолять жажду из луж под ногами. Однако никакие лишения Не могли сломить их волю к победе.
«Вы не можете представить себе ту решимость, тот подъём духа, которые были одинаковы с обеих сторон. Все чувствовали, что от исхода сражения зависит исход всей борьбы. Но подумайте, какая разница была в настроениях и верованиях враждующих армий! У них собрались сливки со всей Англии, а у нас был сбор врагов папизма, врагов тирании из Англии и Шотландии. Та и другая стороны решились не давать пощады друг другу. Меч должен был разрубить тот узел, который никакие переговоры в течение ста лет распутать не могли».
День клонился к вечеру. Никто не решался первым ринуться в бой, однако напряжение всё нарастало. Вдруг вскоре после пяти на левом фланге парламентской армии дружный хор мужественных хриплых мужских голосов затянул псалом с обращением «Боже, царь мой!». Это кавалеристы Кромвеля. Им вторили пехотинцы, которых скрывала высокая намокшая рожь.
У многих солдат короля мурашки побежали по телу, так суров и трагичен был этот напев. Казалось, на весёлый лад он настраивал одного принца Руперта. На его молодом лице появилась язвительная улыбка. Он соскочил с коня и, разминая ноги, бросил Ньюкаслу резким, оскорбительным тенором:
— Битвы сегодня не будет. Теперь они будут петь и молиться. Пойду ужинать. Мы нынче и без того прошли достаточно долго.
Ньюкасл с сомнением покачал головой и на всякий случай обратился к нему:
— А что прикажете делать мне, ваша светлость?
Принц засмеялся:
— Я не думаю начинать сражения раньше завтрашнего утра. До этого времени вы можете отдыхать.
Он вошёл в свой шатёр. Ньюкасл спросил себе трубку и закрылся в своей карете.
Кромвель думал иначе. Позднее он говорил:
— Если бы обе армии так долго простояли друг против друга на расстоянии пушечного выстрела и разошлись не подравшись, это был бы невиданный в Англии случай.
Принц не успел в этот вечер поужинать, Ньюкасл не докурил трубку. Тучи над пустошью сгустились и почернели. Молнии засверкали, гром загремел, разразилась гроза. Не спросясь Манчестера, своего командира, Кромвель отдал приказ наступать. Пение прекратилось. Его кавалеристы ринулись в бой с неистовым воплем:
— С нами Бог!
Плотной колонной они напали на кавалерию Руперта, расслабленную, не готовую к бою, почти в упор дали залп из мушкетов и потеснили её. Тотчас по всей линии загрохотала беспорядочная пальба и смешалась с раскатами грома. Принц выскочил из палатки, примчался к своим эскадронам и попытался перестроить ряды. Ньюкасл покинул карету и, не дав себе труда оценить обстановку, повёл пехоту северных графств на пехоту Манчестера и Фердинанда Ферфакса: она была опрокинута. Услышав первые выстрелы, Томас Ферфакс на правом фланге парламентской армии помчался в атаку во главе отряда кавалеристов и действовал таким удивительным образом, что смял несколько самых крайних рядов неприятеля, бросился преследовать горстку перепуганных беглецов, был опасно ранен и мог попасть в плен, если бы не оказался в глубоком тылу королевского строя. Горинг воспользовался этой оплошностью, в считанные минуты рассеял кавалерию, стоявшую против него, и нанёс удар по шотландской пехоте. Шотландцы побежали по всем направлениям с дикими воплями: «Беда нам! Мы погибли!» — и разнесли по окрестностям весть о полном и безоговорочном поражении всей парламентской армии. Эту весть подхватили курьеры и на взмыленных лошадях на следующее утро принесли её в Оксфорд и Лондон. В Оксфорде был праздник, восторженные улицы озарились иллюминацией. Лондоном овладела печаль.
Так началось одно из самых странных, хаотичных и бестолковых сражений в истории. Войска невообразимо перемешались, были растеряны и не знали, что делать. В наступающей темноте, которую там и тут прорезали вспышки молний и выстрелов, блуждали круглоголовые и кавалеры, кавалеристы и пехотинцы, офицеры и рядовые, поодиночке или отдельными группами. Одни искали свой полк, другие требовали приказа у первого встречного. Кто-то молился, прося Господа избавить от гибели, кто-то плакал, кто-то спрашивал дорогу до ближайшей деревни, где можно было укрыться, кто-то лежал на земле, не зная, жив ли ещё или уже отправился на свидание к Богу. Солдаты и офицеры сталкивались друг с другом, едва успевали распознавать своих и чужих по шляпам, по покрою кафтана и бились холодным оружием в ослеплении страха и ярости, нередко убивая своих.
Умей королевские генералы командовать, а солдаты повиноваться, от парламентской армии могло бы действительно ничего не остаться. Но начальники были бездарны точно так же, как Манчестер и Эссекс, а ратники не были вышколены и приучены к дисциплине. Один Руперт сумел остановить свою кавалерию, ободрить, перестроить ряды и контратаковать кавалерию Кромвеля. Контратака была так сильна, что его кавалеристы остановились, дрогнули и попятились, а сам Кромвель был ранен в шею, потерял много крови и ослабел.
Его выручили шотландцы Дэвида Лесли, которые атаковали правый фланг кавалерии Руперта. Она остановила преследование, повернула против шотландцев и обнажила свой левый фланг. Кто-то наспех перевязал Кромвелю рану. Усилием воли он поднялся в седло и огляделся. Солдаты увидели его, окружили, приветствовали криками радости. Генерал их был жив. К ним вернулись уверенность и жажда победы. Воины перестроились, повинуясь каждому слову, каждому знаку. В условиях боя это было трудное дело, но годы непрерывной и суровой муштры пошли на пользу. Они составили колонну немыслимой плотности, когда всадник чувствует рядом колено соседа, и, собранные в этот плотный кулак, внезапно врезались в обнажённый фланг кавалерии Руперта.
Отряд этот перенёс тяжёлое испытание, так как имел дело с отборным войском Руперта, нападавшим с фронта и с флангов. Люди обоих отрядов перемешались. Наконец Кромвель прорвался сквозь ряды неприятелей и рассеял их в прах.
Отборная кавалерия Руперта побежала. Оставалось брать пленных и преследовать охваченного паникой неприятеля. Кромвель взмахнул рукой — от его колонны отделился отряд и в том же плотном строю бросился догонять и уничтожать беглецов.
Генерал остановился и одним быстрым пронзительным взглядом окинул поле сражения, на которое уже падала ночь. Он разглядел: сражение было проиграно. Ему доложили, что Фердинанд Ферфакс, Манчестер и Ливен уже оставили армию, посчитав её положение безнадёжным и поспешив спасти свои шкуры. В самом деле, на правом фланге и в центре только небольшие, отряды всё ещё отражали натиск королевских солдат, уже слабый и вялый: они были уверены в полной победе и не хотели быть ранеными или убитыми.
В атом отчаянном положении один Кромвель сохранил хладнокровие. Решение явилось само собой. Новым движением руки он направил свою сплочённую кавалерию, одушевлённую победой над Рупертом, в обход поля сражения по тылам ничего не подозревавшей вражеской армии. Стремительным броском она обогнула пустошь, оказалась против развалившегося правого фланга своего войска, соединилась здесь с конницей, которой командовал, не зная, что ему делать, Томас Ферфакс, и вместе с ней обрушилась на кавалерию Горинга. Горинг успел её обнаружить. Он устремился навстречу по склону холма, но был тут же смят эскадронами Кромвеля и рассеян с куда большей лёгкостью, чем была рассеяна кавалерия Руперта.
Генерал с удивительным хладнокровием развивал наступление. Не давая своим людям передышки, он атаковал пехоту Ньюкасла с фланга и с тыла, тот в панике попытался перестроить ряды и повернуться против него. Тогда на него с фронта напали остатки пехоты Манчестера и Фердинанда Ферфакса.
«Наши три пехотных бригады, под командой графа Манчестера, поддержанные кавалерией, бросились на их пехоту и кавалерию так стремительно, с такой храбростью, что они быстро уступили и побежали, будучи не в состоянии вынести самого вида нашего войска. Трудно сказать, кто дрался лучше, кавалерия или пехота...»
К восьми часам вечера всё было кончено. Испуганный принц, спасаясь от неслыханного позора, спрятался в зарослях бобового поля и прокрался в Йорк под покровом ночной темноты. Избегая встречи, он отправил Ньюкаслу записку: «Я решился завтра же утром отправиться со своей кавалерией и всей уцелевшей пехотой».
Ньюкасл ответил тоже запиской:
«Я отправляюсь сию же минуту, переезжаю за море и удаляюсь на континент».
Их намерения были бесчестны, однако оба осуществили их без зазрения совести. Принц Руперт повёл остатки разгромленной армии к Честеру, бросив Йорк на произвол судьбы. Ньюкасл трусливо бежал в сопровождении своих приближённых, сел в Скорборо на корабль и поселился в Париже, где превратностям походов и битв предпочёл мирные и поучительные беседы с Декартом и Гобсом.
Старик Ливен, исполнявший обязанности главнокомандующего парламентской армии, в самом начале бежал с поля боя, укрылся в деревушке за несколько миль от Марстонской пустоши и как ни в чём не бывало лёг спать, но вскоре его разбудили и сообщили ему, что армия под его блистательным руководством одержала победу. Граф Манчестер, несколько ошалевший от неожиданности, поздней ночью бродил между кострами голодных солдат, извинялся и клятвенно заверял, что утром доставит им продовольствие. Воины смеялись, окрылённые сладким вкусом победы:
— С нами Бог! Мы готовы ещё три дня голодать, лишь бы победить так, как победили сегодня!
Ночью дождь прекратился, утром выглянуло слабое солнце. Солдаты парламентской армии рассыпались по всему пространству обезображенной пустоши. Они подсчитывали потери, собирали трофеи, раздевали убитых и долили между собой кафтаны и сапоги. Между ними бродили какая-то женщина в чёрном платке, с заплаканным бледным лицом. К ней подошёл офицер и спросил, что ей нужно. Она объяснила, что её муж, сельский хозяин, простой дворянин, не вернулся домой и она ищет его бедное тело, чтобы достойно похоронить. Офицер взял её за руку:
— Вам не надо этого делать. Скоро мы соберём все тела и станем их хоронить. Мы сообщим вам, когда найдём тело вашего мужа.
Он подвёл её к лошади, помог подняться в седло, подозвал солдата и приказал её проводить. Она обратилась к нему:
— Как ваше имя?
Он отозвался:
— Кромвель. Оливер Кромвель.
Он был непреклонен, но добр, торжествовал и гордился победой. Около четырёх тысяч кавалеров было убито в тот день, множество оказалось в плену, среди них около ста офицеров, тогда как парламентская армия потеряла около полутора тысяч солдат. Победителям досталось двадцать пушек, мушкеты, порох, продовольствие, более сотни знамён и личный штандарт принца Руперта: лежащий лев, сзади собака, кусающая его. Победители разорвали знамёна и украсили их обрывками шляпы и рукава. Только штандарт уцелел и был выставлен в зале парламента.
Кромвель похвастался в частном письме, несколько преуменьшая заслуги шотландцев, что индепенденту можно простить, ведь они были пресвитерианами:
«Полная победа была новым доказательством милости Господа к правому делу. Мы не разбили, а прямо разгромили врага. Левое крыло, которым командовал я и которое состояло из нашей кавалерии, если не считать небольшого числа шотландцев, стоявших во второй линии, рассеяло кавалерию Руперта. Господь превратил их в жатву для наших мечей. А затем мы сзади напали на их пехоту. Я думаю, что у принца из двадцати тысяч не осталось и четырёх тысяч солдат. Но вся слава всё-таки принадлежит Господу...»
Милость Господа он заслужил. Дэвид Лесли, повидавший все европейские армии в сражениях Тридцатилетней войны, сказал после битвы на Марстонской пустоши, что нынче у Кромвеля лучшие солдаты в Европе. Сам принц Руперт, не имевший причин хвалить безвестного сельского сквайра, с досадой обронил что-то вроде того, что у этого генерала железные рёбра. Его слова разнеслись по всей Англии. Оливера Кромвеля стали именовать железнобоким, а вскоре железнобокими стали именовать и всех солдат, которыми командовал он.
3
Спустя две недели капитулировал Йорк. Весь север Англии оказался в руках парламентской армии. Столь серьёзный успех надлежало развить. Военный совет предложил графу Манчестеру поспешить в погоню за Рупертом. Того же требовал и парламент. Однако Манчестер не пожелал подчиниться ни тому, ни другому. Видимо, он не мог простить сам себе, что бежал с поля битвы при Марстон-Муре. Тем более он не был в силах простить, что полная победа, ещё первая по своему значению и масштабам в этой гражданской войне, была одержана его подчинённым, каким-то выскочкой, Кромвелем.
Он старательно перечислил причины, по которым не мог и не имел права двинуться с места. Во-первых, солдаты нуждались в продолжительном отдыхе, ведь они сражались голодными. Во-вторых, его армию набирали и содержали восточные графства, а они после этой победы могут её распустить. В-третьих, если он пустится в погоню за Рупертом, это может не понравиться означенным графствам и они перестанут содержать его армию, а ведь они с этим справляются куда лучше, чем парламент. В-четвёртых, движение к Честеру нарушит коммуникации, поскольку между ним и Лондоном окажется несколько крепостей, занятых гарнизонами короля.
Одна четвёртая причина была справедлива. Первые три были отчасти надуманы и служили отговорками. Войска разлагались; солдаты переходили из армии в армию, в зависимости от того, какое жалованье в них получали. Генералы завидовали друг другу, ссорились между собой и не желали никому подчиняться, кроме тех, кто в состоянии был им платить. Между ними и представителями военного комитета происходили стычки и бурные сцены. Коменданты крепостей были в раздоре с городскими властями. Любая задержка жалованья рождала среди солдат ропот и смуты. Ресурсы страны истощались затянувшейся гражданской войной. Это приводило мыслящих людей в беспокойство:
«За ненадобностью промышленность окончательно остановилась. Обе стороны грабят и разоряют владельцев земли. Торговля, главное занятие англичан, падает, к тому же её заедают налоги. Бедняки должны умирать с голоду или, восстав, отнять имущество у богатых. Истощаемая налогами, разоряемая войной, Англия превратилась в наковальню, по которой ежеминутно бьёт своим молотом Немезида. О, несчастная нация! Народ, когда-то свободный, лучший из всех, теперь превратился в несчастных рабов, и в рабов не одного владельца, а многих».
Кромвелю, рачительному хозяину, владельцу коров и овец, это положение было известно лучше, чем многим другим, и наверняка лучше, чем белоручке графу Манчестеру, оттого он и настаивал на скорейшем завершении разорительной, кровопролитной гражданской войны, а равнодушный к разорению Англии граф готов был растянуть её, насколько придётся. Он видел иные причины поведения графа. По его мнению, граф Манчестер шёл на поводу у палаты лордов, богатых землевладельцев, которые не столько воевали, сколько торговались с королём из-за выгод и привилегий. Он пытался его убедить:
— Милорд, встаньте на нашу сторону, встаньте решительно. Не говорите, что надо быть умеренным, что надо щадить палату лордов, бояться отказов парламента. Какое нам дело до мира и лордов? Наши дела до тех пор не будут успешны, пока вас не будут звать просто-напросто мистером Монтегю. Если же вы сблизитесь с честными людьми, то скоро станете во главе армии, которая будет предписывать законы и королю и парламенту.
Но, казалось, граф Манчестер не слышал его и продолжал топтаться на месте, не желая осаждать даже те крепости в пределах восточных графств, которые всё ещё находились в руках сторонников короля. Ещё нелепее, нетерпимее было поведение Эссекса. В течение трёх недель он освободил из осады несколько крепостей и подступил к Экзетеру. Над королевой нависла опасность: с падением города она могла попасть в .плен, одна мысль о котором была для неё нестерпима. Государыня просила графа, своего подданного, дать её охранную грамоту, чтобы она могла выехать в Бат, где бы предоставилась возможность оправиться после родов. Эссекс ответил галантно, но непреклонно:
«Если вашему величеству угодно ехать в Лондон, я не только дам охранную грамоту, но даже сам поеду вас провожать. Там вы получите самые лучшие советы врачей, там для вашего выздоровления будут приняты наилучшие меры. Что же касается других мест, то я не могу исполнить вашего пожелания, не донеся об этом парламенту».
Тем не менее королеве удалось выбраться из города, поскольку медлительный граф не торопился начинать осады. Она бежала во Францию, а Эссекс повёл себя как мальчишка, несмотря на то что его юность давно миновала. До него дошли слухи о поражении на Марстонской пустоши, посеянные разбежавшимися шотландцами. Он отказался им верить и предложил коменданту Экзетера пари: он отступит, если слух подтвердится, но если окажется, что парламентская армия там одержала победу, комендант сдаст Экзетер.
Пока он занимался этими детскими играми, слух действительно был опровергнут, однако ему стало не до пари. Король, разбивший Уоллера, наступал на него, по дороге пополняя сторонниками ряды своей крепнувшей армии. Был собран военный совет. Высшим офицерам надлежало решить, следует ли исполнять намеченный план, по которому армия должна была занять Корнуэл, или дать сражение королю. Эссекс ударился в противоположную крайность. Его армия была довольно слаба, однако он подал свой голос в пользу сражения. Его офицеры считали нужным оторваться от монарха и двигаться дальше. Слабость армии играла в этом решении не главную роль. Многие из них имели в Корнуэле большие владения. Так вот, пока там распоряжались приверженцы короля, они не получали доходов. Они желали добраться до своих арендаторов и получить с них арендную плату. Разумеется, офицеры выдвигали иные причины: видите ли, граф, при вашем приближении весь Корнуэл, угнетённый, ограбленный монархистами, придёт вам на помощь, стало быть, вам представится честь передать это богатейшее графство в руки парламента.
Разумеется, Эссекс, главнокомандующий, мог и должен был употребить власть и настоять на сражении, но это был слабый, безвольный человек, и он уступил. Армия стала уходить от короля трудными дорогами горного Корнуэла.
Несмотря на уверения офицеров, горожане и фермеры этого графства отчего-то отказались восстать. Больше того, они почему-то отказывали его солдатам в продовольствии и фураже, армии грозил голод, а Карл преследовал его по пятам. Он писал в Лондон, просил подкреплений, настаивал, чтобы Уоллер или Манчестер ударили в тыл короля и избавили его от преследования. Военный комитет был полон решимости оказать ему помощь. Прежде всего тринадцатого августа в Лондоне был устроен общий молебен. Затем были отданы соответственные приказы Уоллеру и Манчестеру. Уоллер был готов ринуться в Корнуэл хоть сейчас, однако писал:
«Пусть мне пришлют деньги и пополнение. Господь свидетель, не моя вина, если я не могу двинуться тотчас. Да падёт стыд и кровь убитых на головы тех, кто задерживает меня! Если же денег мне не пришлют, я пойду и без них!»
Манчестер не отвечал. Очень может быть, что он был рад, что его соперник попал в тяжёлое положение. Таким образом, Эссекс не получал помощи ни от парламента, ни от соратников по борьбе, и поначалу казалось, что никакая помощь ему не нужна.
Поражение при Марстон-Муре, видимо, потрясло короля. Его окружение и высшие офицеры были напуганы потерями. Они снова заговорили о мире, на этот раз настойчивее и громче. Не думая о том, что Эссекс чувствует себя слишком слабым и сам страшится сражения, монарх обратился к нему с заманчивым предложением разнообразных наград, если он возвратится на королевскую службу и возвратит Англии мир. Предложение имело обратное действие. Эссекс ободрился и довольно высокомерно отвечал своему племяннику, посланнику государя:
— Я не стану ему отвечать. Я бы мог только одно посоветовать его величеству: возвратить свою милость и соединиться с парламентом.
Казалось, отказ мало огорчил короля, человека самоуверенного и легкомысленного. Его лагерь был настроен иначе. Многие полагали, что монарх посулил Эссексу слишком мало, ведь сами они большей частью служили из выгоды. Следовало, по их рассуждению, предложить ему больше. Другими словами, Эссекса следует подороже купить, и на Англию снизойдёт благоденствие мира. Такого мнения придерживались не только командиры полков, но даже командующие артиллерией и кавалерией. Они решили обратиться к Эссексу от себя лично. Узнав об этом, Карл выразил недовольство. Однако его авторитет стремительно падал даже среди монархистов. Его не послушали. Письмо было составлено. Он вынужден был сделать вид, что одобряет его. Впрочем, и это послание только возвысило Эссекса в собственном мнении. Он отвечал:
«Милорды! В самых первых строках своего письма вы позаботились объяснить, кто уполномочил вас послать его ко мне. Однако я несу службу парламенту, а парламент не давал мне полномочий вести переговоры о мире. Стало быть, я не могу приступить к ним, не изменяя присяге. Остаюсь, милорды, ваш покорнейший слуга Эссекс».
В лагере короля ответ произвёл тяжёлое впечатление. Начальники артиллерии и кавалерии были отставлены. Предстояло сражаться, а этого никто не хотел. Без сомнения, Эссекс поступил благородно, оставаясь верным делу парламента, однако он поступил бы более мудро и стратегически верно, если бы не мешкая перешёл в наступление и атаковал поколебленного, слабого духом врага. Тем не менее граф остался при одном благородстве и очень скоро поплатился за свою нерешительность.
Он шёл по враждебному краю. Неприятельская армия преследовала его по пятам, не нанося серьёзных ударов, но постоянно тревожа арьергарды[18]. Эти постоянные стычки утомляли и раздражали его голодное воинство. Ему отрезали дороги к морю, через которое они могли получить подкрепления и продовольствия, в тылу возводили укреплённые пункты, так что с каждым днём возвращение прежним путём становилось всё невозможней. Кавалерия оставалась без фуража, начался падеж лошадей. Солдаты устали, росло число недовольных. Уже носились слухи о заговоре, направленном против командования.
Положение стало критическим, когда отряды монархистов заняли господствующие высоты и невооружённым глазом могли наблюдать всё, что происходило в парламентском лагере. Эссекса явно решили взять на измор. Отваги это ему не прибавило, но он вынужден был что-то делать. В сущности, был единственный шанс: собрать все силы в кулак, нанести один мощный удар в наиболее приемлемом и выгодном направлении и, пусть ценой немалых потерь, прорвать кольцо окружения.
Ничего подобного Эссекс не мог предпринять, так как был человек нерешительный и плохой генерал. Граф разделил свою голодную, утомлённую армию, что уже само по себе должно было привести к поражению, приказал кавалерии атаковать неприятеля, а сам, возглавив пехоту, решил выскользнуть из кольца, пробиться к морю, захватить корабли и вывезти солдат неизвестно куда.
В самом деле, под покровом тумана и ночной темноты кавалерии удалось проскочить между двумя отрядами беспечно почивающих монархистов и благополучно спастись, не причинив врагу никакого вреда. Этим манёвром пехота была оставлена без поддержки, особенно важной при отступлении. Она двигалась по грязным узким горным дорогам, выбивалась из сил, бросала пушки и амуницию и в ужасе ждала полного истребления. Дисциплина упала. Офицеры заговорили о сдаче. Огорошенный таким поворотом событий, граф до того растерялся, что от его благородства осталось только воспоминание. Он бросил свою обречённую армию, перед которой был кругом виноват, бежал в сопровождении только двух офицеров, добрался до моря, захватил мирную рыбацкую лодку и, опасаясь быть узнанным, отправился в Плимут.
Генерал-майор Филипп Скиппон, его заместитель, собрал военный совет и объявил:
— Милорды! Вы видите, что наш генерал и некоторые из ваших начальников покинули нас. Кавалерия тоже ушла. Стало быть, мы вынуждены защищаться одни. Так вот что я вам предложу: в храбрости мы не уступаем нашим кавалеристам, на помощь мы призываем одного Бога. Попытаем же счастья, откроем, подобно им, себе путь через неприятельский лагерь. Сразимся. Лучше умереть с честью, чем постыдно бежать.
Это были слова, достойные честного воина, однако они не нашли отклика в сердцах его офицеров. Их окончательно парализовали постоянные глупости Эссекса. У них уже не было ни сил, ни желания поднимать солдат и вести их за собой, как они были уверены, на неизбежную гибель.
Неизвестно, чем бы всё разрешилось, если бы король, который тоже не отличался воинственностью, не предложил обречённой армии выгодные условия капитуляции. Ей предлагалось сдать оружие и боеприпасы, в обмен всем солдатам и офицерам гарантировалась свобода и возможность уйти живыми и невредимыми на территорию, которая находилась под властью парламента.
Эти условия были приняты чуть не с восторгом. Первого сентября 1644 года армия Эссекса сложила оружие и двинулась в путь, бесславная, но живая. Под конвоем королевских кавалеристов она прошла графства, которыми только что овладела, и получила свободу.
Тем временем Эссекс, благополучно обосновавшийся в Плимуте, просил у парламента самого сурового наказания за свои действия, которые привели к катастрофе вполне боеспособную, сильную армию:
«Это самый жестокий удар, какой когда-либо был нанесён нашей армии. Я желаю, чтобы меня подвергли суду».
Едва ли он лицемерил. Душевное состояние действительно было ужасно. И он был целиком и полностью прав: его следовало судить и по меньшей мере отстранить от командования. Парламент, который к тому времени почти полностью состоял из пресвитериан и слабых, нерешительных, умеренных депутатов, думал иначе. В палате лордов Эссекс был своим, граф был симпатичен и военному комитету. Скандальное поражение и позор отныне делал его безопасным для конкурентов. А потому разбирательство было неправедным и скорым. Спустя всего восемь дней к Эссексу прибыл ответ, не столько поразительный, сколько преступный:
«Милорд! Комитет обоих королевств сообщил палатам ваше письмо, посланное из Плимута. Палаты предписали нам известить вас, что они тоже проникнуты важностью случившегося несчастья, но, предаваясь воле Господа, они нисколько не изменили своих чувств в отношении к вам. Их доверие к вашим высоким качествам, к вашей верности осталось непоколебимым. Они решились употребить самые энергичные меры для исправления этой потери и снова вверить вашему командованию армию, которая с помощью Господа сможет привести наши дела в лучшее состояние. Граф Манчестер и сэр Уильям Уоллер получили приказ двинуться со всеми своими войсками к Дорчестеру. Палаты сделали также распоряжение, чтобы шесть тысяч мушкетов, шесть тысяч мундиров, пятьсот пар пистолетов и прочее были вам доставлены в Плимут, для снабжения ими войск и для оживления мужества в ваших солдатах. Палаты уверены, что ваше пребывание в этом графстве, с целью вновь организовать и привести в движение отряды, будет иметь самые благотворные последствия».
Такого приговора Эссекс не ожидал. Он заболел и, кажется, так и не пришёл в себя до конца своих дней.
4
Король тоже был как будто смущён нежданной победой. Сгоряча он направил парламенту мирные предложения. Потом, верно, одумавшись, он по очереди подходил к Плимуту, Портсмуту, Лиму, предлагал представителям парламента сдаться, однако те не сдавались, и он, несмотря на военное превосходство, отходил, не прибегая к осаде, видимо, не зная, что ему делать.
Обстоятельства внезапно переменились. Его шотландский сторонник Джеймс Грэхем Монтроз наконец поднял восстание, которое давно ему обещал. Этот отчаянный, отважный маркиз возглавил разрозненные шайки бродячих ирландцев, которые бесцельно шатались по северным графствам и жили грабежом и насилием. Вскоре к нему присоединились воинственные горные кланы, которым в награду он обещал всё, что приходило в голову. Это пёстрое воинство внезапно открыло военные действия. В течение двух недель оно одержало две победы, овладело Пертом, захватило приступом Эбердин и привело в ужас всё население до Эдинбурга включительно.
Карл ободрился, получив столь радостные известия. Они означали, что с севера над парламентом вновь нависла угроза, куда более грозная, чем та, которая ещё недавно создавалась ленивым Ньюкаслом. Он решил, оставив парламенту важнейшие портовые города, без промедления двинуться к Лондону, сходу овладеть им и утвердить свою прежнюю, безраздельную власть. Монарх почему-то рассчитывал, что народ повсеместно поддержит своего владыку. Тотчас была отпечатана прокламация. Она призывало всё население вооружаться, сбиваться в отряды, выбирать себе командиров и присоединяться, по мере её приближения, к армии короля.
Парламенту вновь пришлось принимать неординарные меры. Новые налоги были введены и учреждена мера действительно чрезвычайная: королевское серебро, которое до того времени хранилось нетронутым в кладовых Тауэра, было конфисковано, переплавлено и направлено на военные нужды. Солдаты трёх армий срочно получили жалованье, боеприпасы и продовольствие. Когда же неприятельское войско приблизилось к Лондону, все лавки закрылись, были сформированы пять полков добровольцев под командованием Томаса Гаррисона, на горожан был наложен пост на всё время, пока не минует опасность, народ бросился в церкви и в страстных мольбах испрашивал благословения Господа на предстоящую битву.
Казалось, она могла произойти при благоприятных условиях. Король всё-таки не решился идти прямо на Лондон, хотя его армия действительно пополнилась отрядами добровольцев. Он предполагал сначала соединиться с кавалерией Руперта, которую Манчестер не захотел добить летом и которая теперь полным ходом шла на соединение с монархом. Военный комитет своевременно принял решение предотвратить столь опасную, нежеланную встречу. Армии Эссекса, Уоллера и Манчестера были объединены и поспешили встретить неприятеля до того, как к нему присоединится всё ещё грозная кавалерия Руперта.
Решение было верным, однако никому из членов военного комитета и в голову не пришло учредить единое командование для всех этих армий, и неприятности начались ещё до начала сражения. Эссекс сказался больным и отказался следовать к своей армии. Парламент потребовал, чтобы военный комитет обратился к Эссексу лично. Военный комитет, чуть ли не в полном составе, явился в дом графа и заверил его, что ему доверяют, как прежде. Эссекс благодарил, но остался в постели. Армией стал командовать его заместитель, который не пользовался у солдат ни доверием, ни уважением.
Дальше пошло ещё хуже. Двадцать седьмого октября противники встретились, и снова при Ньюбери, месте роковом. Силы парламента вдвое превосходили армию короля, притом имевшую без Руперта слабую кавалерию, и не могли не победить, однако не победили. План сражения вырабатывался на военном совете. На нём присутствовали Манчестер, Кромвель, Скиппон, Уоллер и ещё несколько менее значительных генералов. Само собой разумеется, они никакого плана не выработали, но основательно перессорились между собой. Обозлённые, раздосадованные, они вели бой. В результате сражение получилось кровопролитным, но бестолковым.
В сущности, армия Эссекса осталась без руководства. Её солдаты, увидев в королевских рядах своих пушки, которые они потеряли во время позорной капитуляции, с яростью бросились на врага, пушки отбили, вручную перекатили на собственные позиции и радовались, как дети, забыв, что бой продолжается. Армия Манчестера должна была отрезать королю дорогу на Оксфорд. Манчестер бросил в бой кавалерию Кромвеля, а сам остался на месте. Кавалерия Кромвеля не могла победить без поддержки пехоты и вынуждена была отступить, понеся большие потери, истомив лошадей. Манчестер ввёл в бой пехоту с большим опозданием, после захода солнца, и был на голову разбит. В панике он кричал Кромвелю, чтобы тот бросил свою кавалерию на спасение бегущей в беспорядке пехоте, однако Кромвель не захотел да и не мог исполнить приказ, поскольку его уставшие лошади никуда не годились.
Несколько часов обе армии неподвижно стояли друг против друга, не решаясь атаковать и вырвать победу, которая в этот час была возможна для обеих сторон. Светила луна. Было видно поле сражения, покрытое ещё тёплыми трупами. Кричали раненые, умоляя о помощи. Король страшился, Манчестер не желал наступать. Наконец государь дал сигнал к отступлению, и было отчётливо видно, как усталые солдаты вразброд, тяжело ступая, медленно уходили в направлении к Оксфорду.
Парламентская армия праздновала победу, которой не смогла одержать. Напрасно Кромвель уговаривал Манчестера и других генералов преследовать врага и нанести ему если не полное, окончательное, то хотя бы серьёзное поражение. Манчестер не слушал его. Парламентская армия две недели продолжала стоять неподвижно. Бдительность и желание драться её генералов и офицеров дошли до того, что король, не чувствуя за своими плечами погони, которой он ожидал, повернул назад своё хоть и поредевшее, но не побеждённое войско. Девятого ноября, почти две недели спустя, он беспрепятственно вошёл в крепость Доннингтон-Касл, неподалёку от Ньюбери, которую парламентская армия осаждала спустя рукава. Он не только вывез оттуда всё продовольствие и всю артиллерию, но ещё постоял, точно дразнил неприятеля и вызывал его на сражение. Манчестер не ответил на вызов, и монарх ещё раз беспрепятственно ушёл по направлению к Оксфорду.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Десятого ноября собрался военный совет. Кромвель упрекнул Манчестера в том, что именно он виноват в последних неудачах, и потребовал преследования, нападения, уничтожения вражеской армии на походе, поскольку, так он считал, только с разгромленным королём можно вести переговоры о мире. Манчестер ему возражал. Он объявил, что неудачи последнего времени зависели не от его воли, простого смертного, но от воли Господней. Наступление же, по его мнению, невозможно. Тут он сослался почему-то не на волю Господню, а на вполне земные причины: люди устали, солдаты болеют, лошади истощены.
Оливер Кромвель никогда не был бунтовщиком и смутьяном. Сознавая свой долг, он всегда подчинялся распоряжениям военного комитета и приказам лорда-генерала Манчестера, даже тогда, когда не соглашался и выступал против них. Генерал Уильям Уоллер, хорошо знавший его, ещё до сражения при Марстон-Муре писал:
«Он никогда не бывал выскочкой, да я и не думаю, чтобы он им мог бы быть. Несмотря на грубость, он не был ни горд, ни презрителен. В качестве моего подчинённого он всегда беспрекословно исполнял мои приказания и не оспаривал их».
Эти свойства характера были присущи ему от природы и навсегда остались при нём. Однако многие его взгляды решительно переменились после победы на Марстонской пустоши. Дело, за которое он выступал, самого себя и соратников по борьбе он увидел вдруг в новом, неожиданном свете. Ни у кого, и прежде всего у него самого, не вызывало ни малейших сомнений, что это была великая победа, какой не было с начала войны, и что она одержана только им, генерал-лейтенантом Кромвелем, и никем другим. Его командование было верным, его кавалеристы действовали как один человек и беспрекословно, радостно повиновались каждому повелению его руки.
Такие опыты не проходят даром ни для кого. Оливер Кромвель впервые поверил в себя, впервые осознал свою особенную роль в затянувшейся гражданской войне. Он, и только он, может возглавить армию, которая одержит полную, окончательную победу над королём и утвердит в Англии свободу вероисповедания, свободу личности, свободу предпринимательства и собственности. Он стал вождём.
В тот день Господь лишь указал на него, Господь дал понять ему и всем англичанам, что отныне он избран, что ему предназначено быть спасителем английского народа, что-то вроде нового Моисея, который избавил народ Израиля от рабства Египта. Отныне в это верили многие. Отныне это твёрдо знал и он сам.
По этой причине Оливер не переменился, не возомнил о себе, однако поведение его изменилось. Он получил власть от Господа и был обязан использовать её так, как повелел Господь. Кромвель видел, что самоотверженно и отважно сражались только индепенденты, сторонники веротерпимости, которую он исповедовал сам, тогда как пресвитериане, сторонники жёстких церковных уставов, повсюду трусили и отступали, а Манчестер и Ливен, их представители, и вовсе сбежали неизвестно куда. И он уволил из своего полка нескольких пресвитериан-офицеров, которых прежде без оговорок принял на службу, и потребовал отстранить от должности пресвитерианина Кроуфорда.
Кроуфорда взял под защиту Манчестера, тоже разделявшего убеждения пресвитериан, готового помириться с королём на условии введения в Англии пресвитерианского богослужения. Немудрено, что в Манчестере, бывшем сотруднике и сослуживце, он увидел неприятеля, тем более нетерпимого и опасного, что он не был его личным противником: по его убеждению, Манчестер стал врагом божественных предначертаний.
Человек сильного темперамента, Кромвель умел держать его в руках и вышел из себя только теперь. Военные ошибки Манчестера были для него очевидны, однако он выступал не против них, он даже готов был их простить:
— В военном деле ошибки командующих лиц неизбежны. Я сам признаю себя виновным во многих из них.
Он видел иные причины, однако всё ещё пробовал убеждать:
— Вы говорите о трудностях? Да, наши солдаты болеют, наши лошади шатаются от скудости корма. Но, сэр, известно ли вам, что французские паписты готовы помочь королю не только оружием и деньгами? Известно ли вам, сэр, что их войска, несколько тысяч солдат, вот-вот высадятся на нашем берегу? Должны ли мы в этих условиях, сэр, прекратить наступление?
Манчестер возразил, громко и грубо:
— Ну, это всего только слухи. Они лишены основания.
Не так думали генералы, понимавшие Кромвеля. В армии давно говорили о французской опасности. Теперь эти слухи усилились. Мало им было наступления шотландцев маркиза Мотроза. Не хватало ещё и французов. Тогда дело парламента будет погублено, погублено навсегда. Короля необходимо разбить до того, как к нему придёт помощь и паписты нападут на них с двух сторон. Они требовали сражения.
Манчестер сжал кулаки, вскочил, закричал:
— Вы требуете разбить монарха? Хорошо! А вы подумали, каковы будут следствия вашей победы? Да если даже мы девяносто девять раз разобьём его, он всё-таки останется государем, точно так же, как и его потомство, а мы останемся его подданными, несмотря ни на что! Если же король разобьёт нас хотя бы однажды, всех нас повесят, наши потомки будут разорены и превратятся в рабов!
Кромвель обрёл хладнокровие. Его правота обнаружилась перед всеми: Манчестер сознательно предавал дело парламента. Он больше не убеждал, возразил единственно из презрения к этому недостойному человеку:
— Милорд, если это действительно так, зачем же мы взялись за оружие? Если нельзя восставать против тирании, нам не следовало вовсе сражаться. В таком случае нам следует без промедления заключить мир, хотя бы на самых унизительных, самых позорных условиях.
2
Мнения разделились. Пресвитериане поддержали Манчестера. Индепенденты стояли за Кромвеля. Кое-кому принципиальное столкновение мнений представилось обычной перепалкой двух генералов, чуть ли не склокой. Военный совет ничего не решил.
Это был не первый военный совет, который кончался ничем. Прежде Кромвель с этим мирился. Он возвращался к себе неудовлетворённым, ворчал среди своих офицеров, бранил бездельных аристократов, но не предпринимал ничего. Теперь генерал не шутя слышал веление Господа и не мог промолчать, не мог не настоять на своей правоте. Он покинул армию и отправился в Лондон.
Как и многие генералы, Кромвель оставался депутатом парламента. Естественно, Оливер появился на заседаниях нижней палаты. Он тотчас увидел, какие серьёзные перемены произошли за эти полгода среди представителей нации. Ряды умеренных пополнились многими из тех, на поддержку которых он прежде рассчитывал. Они, подобно Манчестеру, предпочитали заключить худой мир, лишь бы не дать индепендентам одержать победу. Оказалось, что шотландцы уже начали переговоры, ставя условием введение в Англии церкви пресвитерианского образца, оставляя в стороне требования свободы личности, свободы собственности и свободы предпринимательства. На их сторону склонялся граф Эссекс, которому претили эти радикальные требования.
Видимо, в течение нескольких дней Кромвель совещался с Оливером Сент-Джоном, своим двоюродным братом, и его сторонниками в нижней палате. В ходе этих совещаний он не мог не прийти к убеждению, что поведение Манчестера не частный случай, не простая ошибка, но выражение единой политики, которую в парламенте и в армии сознательно проводят умеренные. Своим обострившимся чутьём полководца генерал ощутил, что в сложившихся обстоятельствах Манчестер из частного лица превращается в символ и становится главной мишенью, в которую необходимо направить удар, чтобы исполнить предначертания Господа.
Двадцать пятого ноября он представил палате общин обвинительный акт о «нерасположенности графа Манчестера к действию». За плечами были победы, его солдаты, пролитая ими кровь, в душе звучал голос Господа, и он был уверен в себе, как никогда. Твёрдо и ясно перечислил все неудачи парламентских армий в течение нескольких военных кампаний, назвал своими именами бесстыдные просчёты и позорные поражения. После этого перешёл в наступление:
— В этих неудачах и вытекающих из них дурных последствиях граф Манчестер виноват больше всех! Ибо они проистекли не из каких-либо случайных или частных обстоятельств, не из-за простой непредусмотрительности или ошибки. Нет, они проистекли из-за принципиального нежелания его светлости превратить эту войну в нашу победу. Граф сам не раз заявлял, что ему не нравится эта война и что он предпочёл бы заключить мир с королём. Манчестер боится побеждать, боится последнего и решительного успеха. Нынче, когда король появился близ Ньюбери, не было ничего легче, как окончательно уничтожить всю вражескую армию. Я ходил к генералу, показывал ему, как это сделать, просил позволения пойти в атаку с одной бригадой. Другие офицеры настаивали на том же. Генерал решительно нам отказал. Он даже прибавил, что если нам даже удастся уничтожить неприятельское войско, король всё-таки останется королём и скоро наберёт себе новую армию, а мы после первого поражения будем считаться изменниками и мятежниками, которых осуждает закон.
Его заявление привело в негодование представителей нации. Все они, даже умеренные, не могли допустить, чтобы кто-нибудь сомневался в законности их сопротивления своеволию монарха. Однако негодование так и осталось негодованием. Депутаты разошлись по домам, ничего не решив. Их бездействие воодушевило графа Манчестера. Три дня спустя в палате лордов он обрушился на своего противника с обличительной речью, обвинил Кромвеля в неповиновении и в склонности к мятежу, припомнил ему будто бы валившихся с ног лошадей, не способных к атаке, и уверял собравшихся лордов, что все офицеры Кромвеля должны разделить с ним вину за поражение при Ньюбери. По его словам, Кромвель относится враждебно к шотландскому народу и будто бы готов так же быстро направить против него свои шпаги, как и против любого из армии короля. Этого мало. Кромвель желает, чтобы в парламентской армии не было никого, кроме индепендентов, высказывается против аристократов. Он припомнил, как однажды Кромвель предложил ему, графу Манчестеру, отказаться от своего графского титула, и на основании одной этой реплики стал утверждать, будто этот склонный к мятежам человек мечтает дожить до того времени, когда в Англии вообще не останется аристократов, потому что он не любит лордов. Одного этого утверждения было достаточно, чтобы оскорблённые лорды встали стеной на защиту несчастного графа. Однако Манчестер увлёкся и уже остановиться не мог. Он говорил, что генерал грозился застрелить самого короля, как любого другого, если тот окажется перед ним. Милорды, этот человек хотел дезертировать! Он оказывает покровительство сектантам и мистикам, которые тоже ненавидят лордов. Он позволяет им молиться так, как они вздумают!
Аристократы единодушно поддержали Манчестера, однако из осторожности не вынесли никакого решения. Нижняя палата тоже молчала. Кромвеля поддерживали только индепенденты, однако их идеи исповедовала меньшая часть представителей нации. Большинство принадлежало к пресвитерианам. Они тайно симпатизировали Манчестеру, но не решались высказать своё, мнение вслух. Положение на фронтах было трудным, почти безнадёжным, и они, как и лорды, предпочитали нападать на Кромвеля исподтишка, распуская о нём небылицы, перешёптывались в переходах Вестминстера и разглагольствовали в гостиных финансистов и богатых торговцев. Их злостные сплетни сводились к тому, что Оливер Кромвель готовится уничтожить аристократию, убить короля и перевернуть весь государственный строй, в старой доброй Англии существовавший веками и одобренный англичанами.
Ни о чём подобном Кромвель, конечно, не думал. Перед ним были ближайшие цели, к ним он шёл, их стремился достичь.
Ближайшей целью Кромвеля было разрушить новые попытки умеренных и шотландцев пойти на уступки и заключить мир на условиях, которых не могли принять ни его солдаты, ни он сам. Правда, очередные переговоры о мире, начатые умеренными и шотландцами, не привели ни к чему. Гордый и недальновидный король не шёл ни на какие уступки: он желал оставаться неограниченным, единовластным монархом, как будто в Англии ничего не случилось. Его придворным уже надоела война. Только под их упорным давлением он не сказал ни да, ни нет, отпустил депутацию и вручил ей закрытый пакет для передачи парламенту, который не признавал и за всё время переговоров ни разу не произнёс самое слово «парламент». В пакете оказалось требование охранных грамот для герцога Ричмонда и графа Саутгемптона, которые должны были привести в Лондон более определённый ответ короля. В сущности, такое пренебрежение было намеренным оскорблением представителей нации, однако умеренные не оскорбились и тотчас отправили охранные грамоты в Оксфорд, оправдывая своё согласие и поспешность тем, что в противном случае шотландцы без участия англичан договорятся с королём и перейдут в его лагерь, в таком случае парламентские армии ждёт неминуемый и полный разгром.
Кромвель не мог согласиться ни на какие уступки. Возможное предательство шотландцев его не пугало. Генерал всюду рассказывал, как трусливо вели себя шотландцы в битве при Марстон-Муре, уверял, что со своими кавалеристами справится и без них, а если до этого дело дойдёт, разобьёт и шотландцев, как только что разбил принца Руперта. Это не было пустым хвастовством, а твёрдая уверенность в себе и в своих людях. Иначе и быть не могло: ведь отныне он избран Господом.
Пресвитериане, умеренные, в особенности Манчестер и Эссекс, были испуганы. Они были далеки от простых сельских хозяев, свободных фермеров и арендаторов, которые были индепендентами и составляли кавалерию Кромвеля; рассчитывали только на богатых дворян и их слуг, которые плохо сражались и не хотели и не могли победить. По этой причине они больше всего надеялись на помощь наёмников шотландцев, и вот этот смутьян сеял вредные мысли, не только отталкивал, но и оскорблял их верных союзников, которые в самом деле были готовы перейти на сторону короля.
С этим бунтовщиком надо было покончить, но действовать открыто они не могли: Кромвель был популярен среди солдат и простых англичан. Первого декабря они собрались в доме Эссекса на совещание, долго судили и рядили, однако ни один из них не был наделён цельной натурой и сильным умом. Придумать ничего не смогли. Наконец, близко к полуночи, кому-то из них пришла в голову мысль пригласить на совещание Уайтлока и Мейнарда, известных юристов, авось эти светлые головы придумают что-нибудь.
За ними послали. Оба были чрезвычайно удивлены: время для юридических консультаций представилось им слишком неподходящим. Однако их просили именем влиятельного лорда и генерала, и они не могли не прийти. С подчёркнутой осторожностью их вели чёрными улицами под мелким дождём. Лица путников были скрыты капюшонами толстых плащей. Одинокий фонарь тускло светил впереди.
Они нашли Эссекса в окружении умеренных и шотландцев, причём шотландцы играли главную роль среди заговорщиков. Им предложили занять свободные кресла, поставленные подле большого стола. Стол освещали оплывшие свечи двух канделябров: видимо, начали совещаться давно. Эссекс и его гости были сосредоточены и молчаливы. Наконец один из них, граф Джон Кэмпбел Лоудон, канцлер Шотландии, чётко и ясно выразил общую мысль:
— Милорды, я полагаю, вы знаете, что генерал-лейтенант Оливер Кромвель не принадлежит к числу наших друзей. С той минуты, как наши войска вступили на английскую землю, он употребил все усилия, чтобы очернить нас и лишить нас общественного доверия. Вы не можете также не знать, что в той же мере он не расположен к его светлости лорду-генералу графу Эссексу, которого и мы и вы имеем столько причин уважать. Наконец, по условиям нашего договора каждый, кто станет играть роль поджигателя и сеять вражду между двумя королевствами, должен быть без колебаний и промедлений предан суду. По шотландским законам слово поджигатель подразумевает того, кто сеет раздоры и затевает смуты. Мы хотели бы знать, имеет ли это слово такое же значение и в английских законах и заслуживает ли, по вашему мнению, генерал-лейтенант Оливер Кромвель имя поджигателя. Если вы находите, что заслуживает, то сделайте милость, скажите, как нам должно с ним поступить?
Юристы переглянулись. Граф Лоудон позволил себе отклониться от истины. Оливер Кромвель далеко не с первой минуты вступления шотландцев на английскую землю позволил себе пренебрежительно отзываться о них, а только после того, как большая часть их трусливо бежала с поля сражения, а вожаки завели с королём переговоры о мире и утверждении единственной пресвитерианской церкви на английской земле.
Юристам всё это не могло прийтись по душе. Оба окончательно убедились, что их хотят втянуть в заговор, что было опасно. Отказаться тоже было нельзя: из страха разоблачения их могли убить по дороге домой. Надо было так ответить на поставленные вопросы, чтобы не дать согласие и не отклонить предложение.
Молчание затянулось. Эссекс поднялся и дёрнул ленту звонка. Тотчас вошли бесшумные слуги, поставили новые канделябры и удалились так же бесшумно, как и вошли, плотно затворив за собой дубовые двери.
Стало светлей. Все глаза были устремлены на юристов. От них ждали прямого ответа.
Из них двоих Балстрод Уайтлок был самым опытным, к тому же дружил с Кромвелем, отлично знал его мысли и настроения и отчасти их разделял. Он и взял на себя смелость ответить собравшимся заговорщикам, изъясняясь почтительно, витиевато и осторожно:
— Милорды, поскольку никто не решается взять слово в этом высоком собрании, тогда я, в изъявление моей преданности его светлости, попытаюсь почтительно и свободно выразить моё мнение о вопросах, которые так ясно поставлены перед нами милордом канцлером. Да, разумеется, слово «поджигатель» имеет в наших законах тот же смысл, что и в законах Шотландии. Однако, милорды, заслуживает ли генерал-лейтенант Кромвель обвинения в поджигательстве? Это можно узнать только после того, когда будет доказано, что он действительно говорил или делал что-либо, что клонилось бы к возбуждению раздоров между двумя королевствами или смут среди англичан. Решитесь ли вы милорд-генерал, и вы, милорды комиссары Шотландии, облечённые таким высоким саном и властью, заводить дело, тем более произносить обвинение, не будучи уверены в успехе?
Я должен предупредить вас, милорды, что генерал-лейтенант Оливер Кромвель имеет смелый, гибкий, изобретательный ум. Он приобрёл, особенно в последнее время, большое влияние в нижней палате, да и в верхней палате у него не будет недостатка ни в друзьях, ни в людях довольно искусных, чтобы умело его поддержать. Я пока что не слышал ни от его светлости, ни от милорда канцлера и ни от кого-либо из вас, да и сам не знаю ни одного факта, который мог бы доказать представителям нации, что Оливер Кромвель является поджигателем. Вот почему меня одолевают сомнения, благоразумно ли обвинить его в этом смысле. Мне представляется, что следует прежде собрать о нём всевозможные сведения. Только после того, если вы сочтёте это возможным и нужным, пригласите нас ещё раз. Ознакомившись с фактами, мы выскажем вам своё мнение, а вы решите дело так, как вам будет угодно.
Мейнард его поддержал, найдя нужным только прибавить, что в английских законах слово «поджигатель» употребляется редко, в нескольких смыслах и может подать повод к недоразумению и разночтениям.
Тотчас громко заговорили противники Кромвеля. Холз, Степлтон и Меррик, перебивая друг друга, возбуждённо кричали, что генерал-лейтенант Кромвель вовсе не пользуется серьёзным влиянием в обеих палатах, что они охотно возьмут на себя обвинить его в стенах парламента и привести такие факты и речи, которые ясно обличат его намерение разжечь распрю между англичанами и шотландцами и посеять смуту среди англичан.
Их крики уже никого не могли убедить. Опытные юристы слишком хорошо показали, что заговорщики не смогут доказать своих обвинений ни в парламенте, ни в зале суда. Споры стали стихать. Первым замолчал и без того нерешительный Эссекс. Шотландцы тоже не нашли веских доводов для возражений. Всем стало ясно, что заговор провалился, ещё не начавшись.
В два часа ночи Уайтлок и Мейтленд встали, раскланялись и удалились.
На другой день кто-то из них рассказал о ночном происшествии Кромвелю. Среди его сторонников попытка заговора вызвала беспокойство. Общее мнение сводилось к тому, что он должен самым решительным образом устранить своих недоброжелателей и противников и стать единовластным руководителем армии. Уоллер сказал:
— Вы до тех пор ничего не добьётесь, пока вся армия не будет в полном вашем распоряжении.
Кромвель об этом не думал. Собственная судьба мало занимала его. Если Господь избрал его, Господь сам поставит его в нужное время на нужное место, а пока ему необходимо обнаружить самый корень причин многих и частых поражений парламентских армий. У него не вызывало сомнений, что Манчестер и Эссекс недальновидные политики и неважные генералы, но он уже понимал, что корень зла таится не в них. Он смотрел глубже и шире. Чем больше фактов собирал, чем дольше раздумывал в эти решающие, напряжённые дни, тем ясней становилось ему, что не отдельные личности решают судьбы войны и страны, а общие принципы, которых придерживаются эти отдельные личности. Эссекса и Манчестера можно сместить, а можно оставить, это ничего не решает. Необходимо изменить организацию политической жизни и армии — вот его главная цель.
Кромвель ещё не знал, какой должна быть эта организация, но ясно представлял, какой она не должна быть. Ему следовало бы ещё подождать и подумать, но неумолимое время подгоняло его. Заговор мог повториться и преуспеть. Его могут устранить, если Господу будет угодно. В таком случае все будут воевать против всех, дело парламента, общее дело погибнет, или в Англии установится хаос, или король победит, а с ним насилие и произвол.
С этим он примириться не мог. Девятого декабря состоялось заседание нижней палаты. На повестке дня стоял единственный, но важнейший вопрос: представителям нации предстояло обсудить бедственное положение государства и предложить пути выхода из него.
Бедственное положение государства было для всех очевидно, армии были разбиты, казна пустовала, доверие и дворян, и горожан, и сельских хозяев к парламенту падало. Необходимо было что-нибудь делать, делать решительно и без промедления, но что? Этого не представлял себе никто из присутствующих. Все молчали. Ни один из депутатов не потребовал слова.
Тогда слова потребовал Оливер Кромвель. Он поднялся и стал говорить. Выступал по-прежнему страстно, однако это был уже не взволнованный сельский хозяин из захолустного Гентингтона, а государственный человек, видевший дальше других, имеющий право обвинять и указывать:
— Настало время говорить или сомкнуть уста навсегда. Речь идёт не более и не менее, как о спасении нации, покрытой ранами, почти умирающей под гнетом того жалкого положения, до которого довела её продолжительная война. Если мы не будем вести войну с большей энергией и быстротой, если мы будем продолжать действовать как наёмники, которые хлопочут только о своей выгоде, мы станем в тягость народу, который возненавидит парламент. Что говорят о нас наши враги? Скажу более: что говорят о нас даже те, кто при открытии этого парламента были нашими друзьями? Они говорят, что члены обеих палат захватили высшие должности, военные и гражданские, что у них в руках меч и что с помощью своих связей в парламенте и в армии они хотят навсегда упрочить за собой власть и не допустят прекращения войны из опасения, как бы вместе с ней не пришёл конец их могуществу. То, что я здесь говорю, другие шепчут повсюду у нас за спиной. Если командование армиями не изменится, если война не будет поведена с большей энергией, народ не сможет дольше нести это бремя и принудит нас к позорному миру. Советую вам благоразумно воздержаться от обвинений в адрес полководцев, от жалоб на них по какому бы то ни было поводу.
Тут оратор на мгновенье остановился и сказал то, что должно было снять с него малейшее подозрение в предвзятости или в желании возвыситься над другими:
— Я сам признаю себя виновным во многих ошибках и знаю, как трудно избежать их на войне.
По его убеждению, не следовало обращаться в прошлое и увлекаться расследованием совершенных оплошностей:
— Удалим всякую мысль о судебном дознании причин нашей болезни, а постараемся отыскать от неё действенное лекарство.
Он обращался к их чести, бескорыстию, преданности общему делу:
— Я надеюсь, что каждый из нас обладает истинно английским сердцем и столь горячей заинтересованностью в благополучии матери-родины, что ни один из нас, будь он членом нижней или верхней палаты, не остановится перед тем, чтобы без колебаний пренебречь собой и своими частными интересами во имя общего блага.
Кромвель сел, спокойный, но бледный.
Один из его сторонников тотчас его поддержал:
— Это правда! Какие бы причины мы ни назвали, но совершено уже два похода, а мы далеки от спасения. Наши победы, одержанные блистательно, купленные неоценимой кровью, а главное, дарованные нам с таким милосердием Господом, как будто канули в воду. Чего достигаем мы сегодня, того лишаемся завтра. Летние успехи служат нам только предметом для разговоров зимой. Игра кончается вместе с осенью, а весной приходится начинать её снова, как будто пролитая кровь назначается для удобрения поля войны, чтобы взрастить ещё более обильную жатву сражений.
Однако и этот оратор не внёс никаких предложений.
— Я решать ничего не хочу, однако разобщённость наших сил под командованием нескольких генералов и отсутствие между ними согласия сильно повредили общему делу.
Пресвитериане не услышали призыва к чести, к бескорыстному служению общему делу, а только стремление Кромвеля, индепендента, сместить генералов-пресвитериан и взять на себя верховное командование всеми войсками парламента.
Вскочил пресвитерианин Цуш Тейт и внёс предложение, которым, по его мнению, ставилось непреодолимое препятствие стремлению Кромвеля к власти:
— Есть одно средство положить конец всему злу. Каждый из нас должен искренне отречься от самого себя. Я предлагаю, чтобы ни один член обеих палат в продолжение этой войны не мог исправлять никакой должности, не мог быть облечён никакой гражданской или военной властью, дарованной или порученной обеими или одной из палат.
Цуш Тейт потребовал тут же поставить на голосование своё предложение. Оно было так неожиданно, что ни у кого не нашлось возражений. Предложение было принято в общих чертах подавляющим большинством голосов. Представители нации единодушно постановили выработать соответствующий этому предложению Акт и вернуться к нему, как только текст его будет готов.
Пресвитериане предполагали у своих противников собственные пороки, но они ошибались. Они надеялись, что их предложение испугает индепендентов, которые не захотят оставить армию или плату. Генрих Вен первым поднялся со своего места и объявил, что готов сию же минуту сложить с себя полномочия казначея флота. Вторым был Оливер Кромвель. Он заверил собравшихся, что готов отказаться от должности генерал-лейтенанта. Он прибавил, что его солдаты сражаются не за него, а за дело парламента:
— Милорды, они боготворят не меня, а ту цель, во имя которой сражаются, а потому они исполнят свой долг, кого бы вы ни назначили их командиром.
Индепенденты были того же мнения о пресвитерианах, к тому времени утвердившихся на многих государственных и военных постах. Сторонникам Кромвеля понадобился всего один день, чтобы составить основополагающий документ, получивший название «Акт о добровольном отречении от службы», или «Билль о самоотречении».
Два дня прошли в спорах и в сговорах. Одиннадцатого декабря документ был внесён на рассмотрение нижней палаты. Депутаты успели одуматься. Поначалу пресвитерианам казалось, что этим постановлением они легко отделаются от индепендентов и Кромвеля, авторитет которых в народе и в армии стремительно возрастал. Теперь выяснялось, что противники готовы оставить свои посты, но и пресвитерианам придётся оставить занимаемые должности не только в армии, но и в разного рода доходных местах.
В палате случился переполох. Разразились горячие прения. Они продолжались четырнадцатого, семнадцатого и девятнадцатого декабря. Масла в огонь подлили представители короля, явившиеся четырнадцатого декабря в Лондон. Пресвитериане заторопились. Уже шестнадцатого декабря оба лорда были приняты. К разочарованию сторонников мира, монарх и на этот раз не давал никакого ответа. Он всего лишь предлагал созвать ещё одну конференцию для переговоров о мире, причём не называл тех условий, на которые он бы мог согласиться.
Лорды исполнили поручение короля и должны были в тот же день удалиться из Лондона. Однако по каким-то неясным причинам они задержались. Тотчас среди горожан распространились тревожные слухи, будто следом за лордами в Лондон стекается много подозрительного вида людей и будто многие из депутатов парламента имеют с ними частые тайные встречи. Городской совет, в котором преобладали индепенденты, выразил по этому поводу свои опасения. Представителям короля предложили уехать. Они всё же остались, выдвигая незначительные предлоги, точно хотели дождаться, будет ли принят Акт об отречении от должностей и к кому перейдёт командование армиями парламента. Волнения среди горожан усиливались. Каждый день народные страсти могли выплеснуться наружу.
Это придавало дебатам в нижней палате особый накал. Сопротивление пресвитериан нарастало. Они страшились потерять контроль над деньгами и армиями. На их сторону стали переходить даже те, чьи симпатии склонялись к индепендентам. С пространной речью выступил Балстрод Уайтлок, всего несколько дней назад разрушивший направленный против Кромвеля заговор умеренных и шотландцев. Он сказал, блистая учёностью:
— Вам должно быть известно, милорды, что у греков и римлян самые важные должности, военные и гражданские, вверялись сенаторам. Тогда думали, что именно эти люди, которые имели с сенатом общие интересы и были свидетелями его прений, лучше могут понимать общественные дела и не столь подвержены искушению к измене. Так поступали и наши предки. Они всегда смотрели на членов парламента, как на людей наиболее способных отправлять важнейшие должности. Умоляю вас, следуйте их примерам и не лишайте себя добровольно самых верных, самых полезных своих слуг.
Сторонники Кромвеля возражали, что никто не отказывается принимать услуги этих людей как в военных, так и в гражданских делах, им только следует выбрать службу, военную или гражданскую, или парламент. Они настаивали на том, что всем и каждому предлагается самим отречься от службы или парламента, насильного отстранения или изгнания быть не должно. Им возражали громким ропотом те, кто предвидел склоки и распри:
— Говорят о самоотречении, но это будет торжество зависти и личного интереса.
Народ, как водится, волновался у входа в Вестминстер. Он был на стороне индепендентов и Кромвеля. Пресвитериане были уже опорочены бездарным управлением, поражениями в войне, страстью к обогащению за общественный счёт и воровством. Поддержанные мнением толпившихся горожан, сторонники Кромвеля усиливали борьбу. Страстность и продолжительность полемики в нижней палате недвусмысленно указывали на то, что в палате лордов Акт о добровольном отречении от службы или застрянет надолго, или никогда не пройдёт.
Лорды постоянно сопротивлялись постановлениям нижней палаты или поддерживали только умеренных. По этой причине время от времени возникала идея объединить обе палаты, в расчёте на то, что голоса лордов потеряются среди голосов представителей нации. Теперь она возродилась. В парламент вновь поступили прошения, полные сетований или угроз, которые требовали, чтобы лорды и депутаты заседали совместно. Сторонники Кромвеля тотчас их поддержали. На восемнадцатое декабря было назначено для обеих палат торжественное молебствие, которое должно было сопровождаться постом, чтобы свет Господень осенил умы для разрешения столь важного дела. Проповедников выбрали Кромвель и Вен.
Проповедниками были индепенденты. Пресвитериане не могли не понять, что проиграли. Им приходилось спешить. Девятнадцатого декабря они попытались заставить своих противников хотя бы в чём-нибудь уступить. Они склонились принять Акт о добровольном отречении от службы, однако предложили сделать исключения для графа Эссекса, который мог бы по-прежнему командовать армией и оставаться членом парламента. После бурных прений стали голосовать. Эссекса поддержало только девяносто три депутата. Сто депутатов высказались против того, чтобы он продолжал командовать армией. Акт был утверждён. Двадцать первого декабря его направили в палату лордов, где он и застрял.
3
Пресвитериане спешили воспользоваться этой отсрочкой, чтобы укрепить свою власть если не в армии, то в делах веры. Они решили расправиться с архиепископом Лодом, дряхлым, истомившимся стариком, который пятый год без суда и следствия отбывал заключение в Тауэре. Правда, его, как и Страффорда, которого он отправил на эшафот, нельзя было осудить по закону. Ему пытались приписать государственную измену. В таком случае обвинительный приговор должен был утвердить король, а он находился в Оксфорде, и мало кто сомневался, что он не отдаст архиепископа на растерзание.
Незаконность обвинения пресвитериан не смущала. Во главе судебной комиссии они поставили своего лидера Уильяма Принна, у которого приговором Звёздной палаты, по настоянию архиепископа Лода, были отрезаны уши. Чтобы соблюсти видимость правосудия, в те же дни перед судом предстал Макгир, участник ирландского мятежа, отец и сын Готэмы, предполагавший сдать крепость Гулль королю, и Александр Кэрью, губернатор острова святого Николая. Эти преступления были доказаны, а потому судьи сделали вид, что точно так же доказано и преступление архиепископа Лода.
Все пятеро обвиняемых были приговорены к смертной казни. Чтобы окончательно запутать простых людей, приговор приводили с большими промежутками. Пять раз в продолжение двух месяцев во дворе Тауэра воздвигали эшафот. Пять раз поглазеть на кровавое зрелище собирался любопытный народ. Пять раз поднимался и опускался топор палача. Двадцать третьего декабря пала голова Александра Керью. Первого и второго января ушли из жизни отец и сын Готэмы. Третьего января была окончательно уничтожена англиканская литургия, каноны которой были придуманы Лодом. Вместо неё парламент утвердил «Наставления для общественного богослужения», составленные собранием богословов. Десятого января был казнён Лод. Он умер достойно, с мужеством праведника, с презрением к своим врагам и к врагам короля, трагедию которого он как будто предвидел. Двадцатого февраля в окровавленную корзину скатилась голова лорда Макгира.
Этой жестокой расправой пресвитериане демонстрировали свою власть народу и королю. Им не удалось одурачить народ, зато Карл был смущён. После первой же казни, в конце декабря, он согласился именовать парламентом обе палаты, заседавшие в Лондоне, хотя прежде, в течение всей гражданской войны, тщательно избегал этого ненавистного слова. В январе он назначил своих комиссаров на переговоры о мире.
То же самое и с той же поспешностью сделал парламент. Пресвитериане хотели воспользоваться тем благоприятным для них обстоятельством, что Акт о добровольном отречении от должности ещё откладывался под разными предлогами лордами. Они рассчитывали, в обмен на мир, выторговать у государя власть, запугав его тем, что в противном случае она попадёт в руки индепендентов, его непримиримых противников и религиозных фанатиков.
Двадцать девятого января депутации встретились в Уксбридже. Все делегаты были знакомы друг с другом, многие состояли в тесной дружбе или родстве, обменивались визитами и поздравляли друг друга с тем, что им предстоит вместе трудиться на благо мира. Поначалу всё шло замечательно хорошо. Предварительно договорились, что переговоры продлятся не долее двадцати дней, обсуждаться будут вопросы об Ирландии, о вооружённых силах и вероисповедании, каждый пункт будет обсуждаться три дня, потом к любому из них можно будет вернуться.
Тридцатого января делегаты расселись вокруг прямоугольного стола, и прения начались, довольно нелепо и глупо. Ни у парламентской делегации, ни у делегации короля не было единого мнения. К несчастью, первым делом принялись за вопрос о вероисповедании, самый трудный, острый и болезненный. Пресвитериане хотели единой церкви по своему образцу. Оливер Сент-Джон и Генрих Вен, которые представляли индепендентов и Кромвеля, требовали свободы совести. Среди представителей короля одни склонялись на сторону пресвитериан, другие отстаивали права англиканской церкви, упразднённой парламентом. Вместо переговоров завязались богословские прения. О мире, ради которого собрались, как будто забыли. Каждый рвался переспорить нечаянного противника. Страсти разбушевались. Доброжелательство первой встречи быстро сменилось враждой.
По счастью, уговор о трёх днях остановил бестолковщину. На четвёртый день принялись обсуждать военный вопрос. Постоянной армии Англия никогда не имела. По мере надобности лично король созывал дворянское ополчение. Его вассалы и вассалы вассалов, то есть лорды и простые дворяне, являлись на королевскую службу со своими слугами, оружием и лошадьми. Естественно, командовал ими государь. В случае крайней необходимости он опять же собирал народное ополчение, главным образом из горожан, и тоже лично командовал им.
Нынче парламент набирал народное ополчение, в столице и в графствах, создавал из ополченцев несколько армий и назначал генералов, которые ими командовали. Представители нации очень хотели сохранить такое положение навсегда. Если бы король согласился на это, можно было бы отменить ненавистный Акт о добровольном отречении от службы и сохранить свои должности в парламентской армии.
Неожиданно в одной из церквей появился проповедник из яростных пуритан, прибывший из Лондона. Был торговый день. Церковь была переполнена. Пуританские проповедники в королевских владениях были в новинку, и его слушали с напряжённым вниманием. Прочитав подходящий отрывок из Библии, он обрушился на монархистов и принялся разоблачать лицемерие затеянных переговоров о мире. Его голос гремел:
— От них ничего хорошего нельзя ожидать! Эти люди пришли из Оксфорда с сердцем, жаждущим крови. Они всего лишь хотят занять наши умы, чтобы выиграть время и сделать нам какое-нибудь ужасное зло. От этих переговоров до мира так же далеко, как от неба до ада!
Народ, выходивший из церкви, с ним соглашался. Многие были уверены, что в самом деле у короля дурные намерения. Конечно, он уступает своим советникам, но мира всё же не хочет, ведь он обещал королеве без её согласия не предпринимать ничего. Он скорее желает поддерживать в парламенте разногласия, чем вступить с ним в соглашение. Раздавались предположения, что Карл ведёт переговоры с папистами в Ирландии и Шотландии, чтобы использовать их против парламента.
Королевские комиссары пытались арестовать неугодного проповедника, однако делегатам парламента удалось его отстоять, и ему удалось благополучно уехать из Уксбриджа.
Однако он добился кое-какого успеха. Представителям монарха стало ясно, что необходимо пойти на уступки. Многие из них согласились создать на несколько лет общее командование ополченцами, причём половину командных должностей могли бы занимать те, кого назначит парламент. Представителям парламента идея тоже понравилась, ведь лучше иметь кое-что, чем ничего. Лорд Саутгемптон спешно отправился в Оксфорд. Король заупрямился. Саутгемптон настаивал. Советники монарха, желавшие мира, настойчиво его поддержали. Карл вынужден был согласиться, приближённые ликовали. Они так высоко ценили эту уступку, первую, на которую наконец согласился венценосец, что мир уже представлялся достигнутым. На утро была назначена торжественная церемония подписания акта, которым государь вручал командование народными ополченцами Ферфаксу и Кромвелю. При дворе веселились. Ужинали за королевским столом. У всех настроение было приподнятое. Один Карл был подавлен и жаловался, скрывая смятение, что ему подали плохое вино. Один из советников воскликнул, смеясь:
— Надеюсь, через несколько дней ваше величество будете пить лучшее вино вместе с лорд-мэром в помещении городского совета!
У короля была бессонная ночь. После ужина, оставшись наедине, он получил письмо от Мотроза, который сообщал о своей новой победе в Шотландии. До Монтроза уже дошли слухи о начавшихся мирных переговорах, и он, с вежливостью, подобающей подданному, счёл возможным высказать своё мнение.
Ничего не изменилось. Обстоятельства оставались прежними. У короля не было сил справиться с мятежным парламентам. Победа Монтроза в Шотландии ничего не решала. Его обещания победоносного шествия нынешним летом оставались мечтой. Будь Карл Стюарт таким же холодным прагматиком, каким был Оливер Кромвель, принимавший во внимание только реальные обстоятельства, он в лучшем случае должен был улыбнуться и не обращать внимания на это письмо: слишком высоко в небе резвился этот журавль. Однако король не был Оливером Кромвелем. Не имея иного мнения, кроме убеждения в прирождённом праве на единодержавную власть, он вынужден был слушать чужие советы, соглашался с каждым, кто умел убедительно говорить, но принимал тот совет, который услышал последним. Перед ужином согласился с Саутгемптоном, после — точно так же согласился с Монтрозом.
При дворе об этой перемене не знали. Утром Саутгемптон явился, чтобы получить подписанный акт о назначении Ферфакса и Кромвеля. Карл резко ему отказал, Саутгемптон так хорошо знал своего повелителя, что не стал возражать. Он возвратился в Уксбридж и был так расстроен, что не смог объяснить или оправдать отказ короля. Дело было сделано, не только глупое, но и опасное дело. Двадцать второго февраля переговоры прекратились сами собой. Делегаты парламента вернулись в Лондон тоже расстроенные: война продолжалась, рано или поздно им придётся покинуть свои командные должности в армии, а это было для многих из них хуже, чем поражение в войне.
4
Кромвеля мало занимали эти переговоры. Из многолетнего опыта он давно сделал вывод, что король не пойдёт ни на какие уступки, по этой причине генерал и стремился к полной победе. Он был членом военного комитета, который объединял представителей двух королевств, и понуждал его, не дожидаясь результата переговоров, заниматься преобразованием парламентской армии. Никто из членов комитета не знал, что надо делать. Только Кромвель был уверен, что армия должна быть одна и ей должен командовать один человек.
Новая армия пополнялась не только за счёт добровольцев, но и за счёт принудительного рекрутского набора, причём каждый солдат во всё время службы получал два шиллинга в день, приблизительно столько, сколько можно было заработать погрузкой в порту или перевозкой товаров. В Англии росла безработица. Для многих два шиллинга в день могли быть спасением. Ведь выбор был невелик: умереть от голода или в войне за правое дело.
Сам Кромвель не нуждался в жестокости, чтобы поддерживать дисциплину. Каждый солдат его кавалерии получал сборник псалмов, переложенных неуклюжим английским стихом, многие постоянно держали при себе карманную Библию. Всё время, свободное от учений, боев и походов, они проводили не в пьянстве и грабеже, как это делали солдаты армии короля, а в чтении Библии, в толковании её текстов или распевали псалмы. В каждый полк он направлял проповедника. Эти солдаты были странные люди, порождение гражданской войны. В кармане у них была Библия, на боку шпага, за плечами мушкет. В бою они стреляли и дрались на шпагах не хуже любого солдата, между боями несли слово Божие в души воителей. Они умели внушить своим внимательным слушателям, что в этой войне Господь на их стороне.
Его кавалеристы были самой самоотверженной, дисциплинированной и боеспособной частью как прежней парламентской армии, так и армии нового образца. Кромвель ставил её в пример членам военного комитета. Ему удалось настоять, чтобы проповедники, Библия и псалмы сопровождали пехоту. Польза этого новшества была очевидна. Членам военного комитета пришлось согласиться.
Обстоятельства всё больше складывались против умеренных. Переговоры в Уксбридже явно проваливались. Законопроект о создании армии нового образца был принят нижней палатой довольно легко. Двадцать восьмого января 1645 года он был передан на утверждение лордов. В отличие от представителей нации, лорды дорожили своими отрядами вооружённых людей, которые повиновались только приказам лорда. К тому же дело было уж чересчур необычное. Кромвелем создавалась первая в Европе регулярная армия, каких не существовало со времён Римской империи. Несколько позднее вторая регулярная армия появится в Швеции. Третьей регулярной армией будет русская армия Петра.
Сопротивление лордов было неизбежно. Правда, открыто возражать они не могли, Кромвель многим внушал уважение, кое-кто уже начинал бояться его. Поэтому аристократы затягивали решение, несмотря на то что приближалась весна, а вместе с теплом должны были возобновиться военные действия. Палата лордов вносили поправки, которые невозможно было принять, и затягивали обсуждение каждого пункта. Сторонники Кромвеля на них наседали, общественное мнение было не на их стороне, лордам пришлось отступить. Пятнадцатого февраля ими был принят закон о создании армии нового образца.
Кромвель спешил, стараясь, чтобы его армия была готова к началу новой кампании. Не дожидаясь, когда лорды соизволят утвердить Акт о добровольном отречении от службы, он потребовал, чтобы парламент как можно скорей назначил главнокомандующего и определил его полномочия. Многим казалось, что эту должность он создаёт для себя самого. Однако это было не так.
Неожиданно для большинства, Кромвель вынес на обсуждение кандидатуру молодого Ферфакса. Он заявил, что познакомился с ним на поле сражения и что его действия заслужили полное одобрение, говорил о нём как о человеке удачливом, высоко ставил открытый характер своего протеже, блестящую храбрость и воинственную энергию, которая передавалась его солдатам.
Большинство, должно быть, обрадовалось, что главнокомандующим станет не этот неотёсанный, дерзкий, слишком упрямый сельский хозяин из какого-то богом забытого Гентингтона, а кто-то другой. Ферфакс легко победил и девятнадцатого февраля был введён в нижнюю палату для утверждения в должности. Его поставили на специально отведённое место, Ферфакс вёл себя просто и скромно, что особенно понравилось представителям нации, и принял поздравления председателя. В тот же день он сложил с себя полномочия депутата.
Казалось, новому командующему следовало без промедления выехать к армии, чтобы руководить её перестройкой, однако отъезд пришлось отложить. Вожди пресвитериан возвратились в Лондон после провала переговоров о мире. С первого взгляда им стало ясно, как много они проиграли за время отсутствия. Они попробовали поправить своё положение. Их позиции были сильнее в палате лордов, и аристократы стали громко жаловаться на оскорбления и даже угрозы, которыми их понуждали принять закон о создании армии нового образца. Третьего марта шотландские эмиссары набрались храбрости выпустить манифест, в котором английский парламент обвинялся в нарушении договора между двумя королевствами. Ободрённые лорды пожаловались на то, что в нижней палате вынашивается злокозненный план вовсе упразднить палату, в которой они заседали.
Представители нации заверили их, что подобных планов не существует в действительности, а для недовольных шотландцев направили в палату лордов новый закон, которым расширялась власть главнокомандующего армией нового образца, а главное, исключалась обязанность охранять и защищать особу короля. Лорды были испуганы, они потребовали исключения этой невозможной статьи. Из нижней палаты им отвечали, что эти слова только путают солдат, которые должны воевать с королём, но не должны подвергать его величество ни малейшей опасности. Аристократы не уступали. Прения возобновлялись три раза. Двадцать четвёртого марта голоса разделились поровну. Тридцать первого марта депутаты объявили в ответ, что вся ответственность падает исключительно на головы лордов, если исключение этой статьи приведёт к каким-либо бедствиям. Последним пришлось уступить.
В разгар этой борьбы в Лондон прибыл маркиз Арчибальд Аргайл, только что разбитый Монтрозом, на себе испытавший всю пагубность разобщённости парламентских сил. Это был человек с глубоким и сильным умом, с энергией и жаждой деятельности, более сильный в политических схватках, чем на поле сражения. Не мешкая с ним установили тесную связь Кромвель и Вен. Аргайл стал их союзником. Он был пресвитерианином и тем не менее горячо выступил против позиции пресвитериан, как шотландских, так и английских. Он заявил:
— Ваше сопротивление болезненно отражается на всех нас, но рано или поздно вы всё равно будете вынуждены уступить.
Эссекс первым осознал эту печальную истину. С избранием Ферфакса для него стало болезненно ясно, что должности главнокомандующего ему уже никогда не видать. Занять подчинённое положение после кого бы то ни было ему не позволяла фамильная гордость. Он принял решение выйти в отставку. Красноречие было таким же его слабым местом, как и способности полководца. Ему составили речь. Первого апреля во время заседания верхней палаты он поднялся и прочитал текст: «Милорды, я принял на себя эту важную должность, повинуясь повелению обеих палат, защищал оружием их поруганные права. Смею сказать, в течение трёх лет я служил вам верой и правдой. Надеюсь, ничем не запятнал своей чести и не нанёс вреда нашему общему делу. Теперь появилось много новых постановлений. Они мне показали, что нижняя палата желает моего увольнения. Если до сего дня я медлил сам оставить службу, то не из личных побуждений, какие бы слухи ни распускались моими врагами. Многие могут удостоверить, что я намеревался выйти в отставку ещё после освобождения Глостера. Свою должность я вручаю тем, от кого её принял».
Решение Эссекса было запоздалым, но благородным. На многих лордов оно произвело благотворное действие. Они поспешили объявить нижней палате, что они принимают закон о создании армии нового образца без перемен. Второго апреля в отставку подал Манчестер. В тот же день обе палаты выразили бывшим командующим свою благодарность. Третьего апреля верхняя палата утвердила Акт о добровольном отречении от службы.
В тот же день Томас Ферфакс выехал в Виндзор, где назначил быть своей ставке, и приступил к преобразованию парламентских армий. Ни он, ни Кромвель не ожидали никаких затруднений, однако они ошибались. Набранные из добровольцев солдаты привыкли служить по старинке своему графству и своему офицеру. Они отказывались покидать родные места и подчиняться чужому командованию. Самое серьёзное сопротивление оказала бывшая армия Эссекса, пять пехотных полков и восемь полков кавалерии. Разнеслись тревожные слухи, будто они намерены перейти на сторону короля. Раздражённый Сент-Джон писал властям графства, чтобы они подавили мятеж.
Ферфакс посчитал столь суровые меры необдуманными и слишком поспешными. Он отправил к мятежникам Филиппа Скиппона, своего генерала. Это был человек суровый, но симпатичный. Его простые речи успокоили и убедили всех недовольных. Они покорились. Парламент поспешил выдать за две недели жалованье, которое прежде, в суматохе парламентских споров, было задержано. Это окончательно успокоило армии Эссекса, Уоллера и Манчестера.
Неожиданно возмутились кавалеристы, которыми командовал Кромвель. Его солдаты были так твёрдо уверены, что он избран Господом и по этой причине они могут одерживать победы только под его руководством. Понятно, что никого другого они принять не могли.
У Кромвеля, как и у всех офицеров, после третьего апреля было сорок дней, чтобы принять решение и добровольно оставить свой пост. Во всё это время он не высказывал намерения сохранить должность генерал-лейтенанта, который в парламентской армии командовал кавалерией, но пока не подал прошение, на эту должность никто не мог быть назначен, и она оставалась вакантной. Собственно говоря, отставка ему ничем не грозила. Пока вырабатывались принципы преобразования армии, в военном комитете укрепилось его положение. В сущности, он стал его негласным главой. Выйдя в отставку с должности генерал-лейтенанта, Оливер получал возможность руководить всеми действиями армии, отдавая приказы главнокомандующему Ферфаксу. Возможно, оставшись в военном комитете, он принёс бы куда больше пользы, чем на поле сражения, поскольку в военном комитете не было ни одного человека, который хотя бы отдалённо знал военное дело.
Возмущение кавалеристов приостановило его отставку. Парламент вынужден был направить Кромвеля к эскадронам, чтобы он восстановил дисциплину. Генерал повиновался, сказав, что окажет этим последнюю услугу парламенту перед тем, как выйти в отставку.
Одного его появления было достаточно, чтобы волнения прекратились. Он готов был возвратиться, но обстоятельства оказались сильнее всех постановлений.
5
Положение в самом деле стало серьёзным. Король поставил во главе сильного отряда своего старшего сына Карла, принца Уэлльского, которому присвоил звание генералиссимуса. Карл двинулся со своим отрядом на запад. Ему было пятнадцать лет, и он мало что значил. Большое значение имело его имя, а главное, его первым советником был граф Эдуард Хайд, человек умный, опытный и энергичный. Таким образом, возникла угроза нескольким крепостям.
Военный комитет запаниковал. Его членам представилось, что следом за принцем на запад двинется вся армия короля. Кромвелю был направлен приказ без промедления вести свою усмирённую кавалерию на соединение с пехотой Ферфакса. Он в точности исполнил приказ, прибыл в Виндзор, вошёл в кабинет генерала и, в знак дружбы и уважения поцеловав его руку, готов был подать прошение об отставке. Ферфакс опередил его:
— Я только что получил приказ военного комитета двух королевств, который касается вас. Ни минуты не медля, вы должны взять несколько эскадронов и встать на дороге из Оксфорда в Уорчестер, чтобы не допустить сообщения принца Руперта с королём.
Кромвель был не только первоклассным командующим, но и не менее исполнительным подчинённым. Не дав себе отдыха, он тем же вечером двинулся по направлению к Оксфорду. В течение последующих пяти дней генерал одержал три победы над небольшими отрядами монархистов и уведомил об этом парламент. В Лондоне поздравляли друг друга, что Кромвель пока что не подал в отставку. В Оксфорде король пришёл в бешенство, в бессилии вопрошая своих приближённых:
— Кто доставит мне этого Кромвеля, живым или мёртвым?!
К сожалению, этих мелких побед, всего лишь поднявших дух победителей, оказалось достаточно, чтобы военный комитет успокоился. Он направил Ферфаксу приказ, чересчур опрометчивый, со всей армией двигаться в графство Сомерсет, к крепости Таунтон, взятой в осаду принцем Уэлльским. Ферфакс безоговорочно исполнил приказ, оставив под Оксфордом только часть кавалерии Кромвеля.
Опасность для Таунтона была незначительной. Достаточно было Ферфаксу приблизиться, чтобы генералиссимус Карл снял осаду и отступил. Однако выступление на запад всей парламентской армии позволило королю действовать по своему усмотрению. Седьмого мая он вышел из Оксфорда и направился быстрым маршем на север, чтобы выручить Честер, разбить шотландцев и в случае удачи соединиться с Монтрозом. Отсюда он мог развивать успех в любом направлении.
Военный комитет спохватился. Положение представлялось критическим. Десятого мая Кромвель получил повеление продолжать службу в армии ещё в течение сорока дней. Вместе с ним такое же повеление получили ещё три высокопоставленных офицера, поскольку новые ещё не заступили на службу вместо ушедших в отставку. Ферфакс был отозван. Казалось, он должен был поспешить на выручку Честеру и на помощь шотландцам, чтобы с двух сторон окружить и разбить неприятеля, однако военный комитет передумал.
Оставленный без прикрытия Оксфорд обеспокоил умы, не искушённые в военных делах. Из Лондона представлялось заманчивым осадить эту королевскую ставку, взять её приступом или истомить долгой осадой, лишив государя запасов оружия и продовольствия. Ферфакс на походе получил новый приказ. Делать нечего, он двинулся к Оксфорду. Кромвель вынужден был присоединиться к нему со своей кавалерией, которая во время осады была почти бесполезна.
Это решение военного комитета было серьёзной ошибкой. Вражеская армия вышла на оперативный простор. Осада Честера пала собой, и король восстановил свои связи с мятежной Ирландией. Шотландское войско отступало, не оказывая никакого сопротивления. Как показало сражение при Марстон-Муре, солдаты не обладали ни выучкой, ни стойкостью, ни убеждённостью в правоте своего дела, а офицеры терялись в бою. Король двинулся в восточные графства, до сих пор служившие оплотом парламента. Нависла угроза их потери и лишиться широкой поддержки, поскольку позиции парламента в других графствах были слабы.
Вновь военный комитет мог положиться только на Кромвеля. Всем было известно, что он пользовался там громадным влиянием, его не только любили, но уже начинали боготворить. Генерал получил приказ отправиться к Кембриджу, взять под защиту восточные графства и укрепить крепость, расположенную на острове Эли.
Кромвель выступил с той исполнительностью, которая всегда отличала его, однако не успел приступить к исполнению нового поручения, как обстановка вновь изменилась. Первого июня, спустя восемь дней, королевская армия взяла приступом Лейстер, город богатый и важный в стратегическом отношении, а Таутон вновь оказался в осаде. Ободрённый внезапным успехом, монарх, колеблемый ветром, как и военный комитет, вновь изменил планы.
Ему пришло в голову, что он так же легко прорвёт осаду, очистит окрестности Оксфорда от неприятеля и вернёт себе свою привычную ставку. Вместо восточных графств он направил свою армию по направлению к Лондону.
В городе вспыхнула паника. В военном комитете не знали, что делать. Пресвитериане, отстранённые от командования в армии, торжествовали.
— Вот горькие плоды преобразования! Что мы видим? Одни неудачи и промахи! В один день король отнимает у нас лучшие крепости, а ваш генерал стоит перед Оксфордом, видимо, в ожидании, что придворные дамы испугаются и отворят ворота!
К счастью, их авторитет падал день ото дня. Народ думал иначе. Пятого июня городской совет направил в парламент прошение. Муниципальные власти объясняли неудачи новой парламентской армии бездействием шотландцев, промедлением в комплектовании пехотных и в особенности кавалерийских полков и желанием военного комитета руководить военными действиями сидя в Лондоне, на почтительном расстоянии от поля сражения. Они требовали предоставить свободу действий главнокомандующему, который был назначен на должность решением обеих палат, сделать должное внушение уклончивым генералам шотландцам и вернуть Кромвеля на прежнюю должность.
В тот же день Ферфакс получил приказ снять осаду с Оксфорда, отыскать короля, дать сражение и победить. Ферфакс отдал приказ к отступлению, но прежде направил в парламент письмо, в котором просил вернуть Кромвеля в кавалерию. Письмо подписали шестнадцать полковников.
Положение было настолько серьёзным, что у нижней палаты уже не было выбора. Она большинством голосов удовлетворила просьбу Ферфакса и его офицеров и направила своё решение, как полагалось, на утверждение верхней палаты. Лорды не торопились. Им очень не нравился этот выскочка, человек с сомнительной родословной, который сместил Эссекса и Манчестера. Без их одобрения решение нижней палаты не имело силы. С этим уже некогда было считаться. Военный комитет направил Ферфаксу приказ. Тот тотчас известил Кромвеля и вызвал к себе. Генерал успел набрать в Кембридже около шестисот новых кавалеристов, большей частью крепких крестьянских парней из зажиточных фермеров. Он двинулся на соединение с Ферфаксом усиленным маршем и встретился с ним в шесть часов утра тринадцатого июня.
Ему стало известно, что армия исправно исполняла приказ найти короля, однако продвигалась вслепую, не имея ни малейшего представления, где его надо искать. Генерал выслал усиленные разъезды. Часов в девять вечера, когда надвигались неторопливые летние сумерки, один из них случайно наткнулся на авангард неприятеля, потревожил его и отступил.
Только теперь стало понятно, что врагов разделяет не более семи миль. Карл стоял в Дэвентри. Штаб Ферфакса располагался в Гилсборо. Между ними лежало крохотное английское местечко Несби. Это был почти самый центр Англии.
Тотчас в парламентской армии был созван военный совет. Его решение было единогласным: дать сражение завтрашним утром. Кавалерией левого фланга впервые должен был командовать Айртон. Пехота, как было принято, должна была построиться в центре, под командой Ферфакса и Скиппона. На правом фланге предписывалось встать кавалерии Кромвеля. Солдатам был дан приказ готовиться к битве, они читали Библию и вполголоса распевали псалмы.
Самоуверенность и веселье царили в лагере государя. Несколько скромных побед возродили среди кавалеров тот дух высокомерия и самохвальства, который так свойствен аристократии и который неизменно подводит и губит её. Известия о преобразованиях в парламентской армии, о смещении генералов-аристократов и офицеров из родовитых дворян, о недовольстве в полках, о назначении на командные должности никому не известных, главное, незнатных людей возбудили бесшабашность и наглость. Кавалеры потешались, с язвительным презрением отзывались об этом сброде поселян и ремесленников, шедших против них. Кто они? Арендаторы, фермеры, сельские сквайры, трактирщики, возчики, торговцы шерстью и мясом! Кто их офицеры? Генрих Айртон — сын сквайра! Джон Ламберт — из тех же малоимущих сельских хозяев! Томас Прайд — бывший извозчик! Джон Хьюсон — бывший сапожник! Джон Фокс — бывший котельщик! Томас Ренборо — бывший корабельный шкипер! О, это сброд! С ними не стоит сражаться! Следует их хорошо напугать, и они без оглядки побегут по домам!
С утра до вечера в королевском лагере слышались песни, шутки, каламбуры, в которых высмеивались эти горе-вояки. Нестойкий, легковерный государь подпал под общее настроение. Он уже полагал, что с самого начала мятежа его дела не шли так хорошо, как теперь, уже не торопился, останавливался во время похода там, где понравилось, проводил целые дни на охоте и предоставлял полную свободу кавалерам, ещё более беспечным. Во время ужина тринадцатого июня государь был беззаботен. Никто не ожидал столкновения арьергарда с разъездами парламентской армии, однако и это событие не обеспокоило ни кавалеров, ни короля. Ужин благополучно был доведён до конца. Только в полночь созвали военный совет. Правда, мнения разделились. Кое-кто из осторожных и благоразумных советников предлагал отступить и подождать помощи, которая должна была подойти из Уэллса и западных графств. Принц Руперт смеялся над ними и указывал на очевидную лёгкость победы. Его мнение было поддержано большинством. Решено было наутро дать бой наличными силами и вырезать всю эту сволочь до последнего человека, если она прежде не сбежит без оглядки с поля сражения.
Ранним утром четырнадцатого июня Кромвель поднялся на возвышение, на заднем склоне которого неспешно и чётко строилась его кавалерия. Утро было сырым и холодным, однако прозрачным. Сражаться будет приятно, легко. Невооружённым глазом он отлично видел окрестность. Противостоящие армии строились на холмах. Между ними был широкий овраг с очень пологими берегами, правда, покрытыми зацветавшим дроком, шиповником и колючим кустарником. На западе и востоке Несби отделяли от соседних селений обычные деревенские изгороди из хвороста и жердей. На его фланге там и тут виднелись кроличьи норы, очень опасные для лошадей, далеко справа тянулось болото.
Генерал отдавал себе отчёт, что сражение будет тяжёлым. Перед ним в образцовом порядке строилась кавалерия короля, которой командовал барон Мармадюк Лангдейл. Справа к ней подходила пехота лорда Джэкоба Эстли. Ещё правей с весёлыми задорными лицами - конница Руперта, против которой, тоже на заднем склоне холма, сгруппировалась кавалерия Айртона, который в первый раз командовал таким количеством войск. В сравнении с доблестными, подтянутыми, прекрасно вооружёнными и одетыми кавалерами его армия действительно представлялась неуклюжей толпой несведущих, несчастных парней, только вчера облачённых в красные мундиры дешёвого сукна и колеты из буйволиной кожи, не шедшие ни в какое сравнение со стальными панцирями, кирасами и стальными нагрудниками лошадей у неприятеля.
Ферфакс и Скиппон выдвинули парламентскую пехоту на вершину холма. Это было грубой ошибкой: она вся была на виду у противника. Кромвель послал туда своего адъютанта и посоветовал отодвинуть её и построить по заднему склону. Ферфакс и Скиппон исполнили его совет как приказ, ведь и они, подобно солдатам, были уверены, что отныне устами Кромвеля гласит сам Господь. Пехотинцы попятились и скрылись с гребня холма.
Генерал не предполагал, что это перемещение станет роковым для неприятельской армии. Первым его заметил принц Руперт. Высокомерие сыграло с ним злую шутку. Он вообразил, что, завидев его, эти нищеброды и выскочки бросятся наутёк. Принц не хотел их упустить. Его адъютант бросился к монарху, чтобы тот без промедления начал атаку. Трубы призывно запели, им нервно, нестройно ответили трубы парламентской армии. Этот бой королевская армия посвящала королеве Марии. С криками «Мэри! Мэри!» кавалерия Руперта бросилась на врага.
Как всегда, её натиск был стремительно страшен. В жестокой рубке Айртон был ранен в ногу копьём, было разбито плечо, он попал в окружение кавалеров и мог быть пленён, но его товарищи отбили его. Тем не менее строй кавалерии развалился. В таком положении она продержалась недолго, сначала попятилась, потом покатилась назад. Уверенный, что с парламентской сволочью иначе и быть не могло, Руперт бросился преследовать её без оглядки. Его кавалеры очень скоро достигли обоза, пустились грабить и уже не вернулись на поле сражения.
Кромвель тоже подал сигнал. Его кавалеристы плотной колонной ударили по врагу с суровым возгласом: «С нами Господь!» В тот день генерал разделил свою кавалерию. Передовой отряд под началом Уолли нанёс удар противнику с фронта. Он бросился с холма вниз и напал настолько стремительно, что кавалеры не успели приготовиться к отражению этой атаки. Тем временем Кромвель обошёл неприятеля с левого фланга, это вызвало панику. Противостоящая ему кавалерия Мармадюка Лангдэйла не выдержала удара. Его кавалеристы были набраны из северных графств более принуждением, чем убеждением. Им не за что было сражаться. Больше всего на свете они хотели разойтись по домам. Не было ничего удивительного, что они побежали. В мгновение ока всадники достигли своих резервов, но и это не спасло положение.
Как и в сражении на Марстонской пустоши, Кромвель не позволил себе увлечься. Он отправил в погоню передовые сотни, остановил эскадроны и огляделся.
В центре завязалась жаркая битва. Едва парламентская пехота вновь выдвинулась на гребень холма, её атаковали воины во главе с самим королём, который в этом бою был храбр как никогда. Скиппона опасно ранили в первой же схватке. Ферфакс уговаривал его удалиться. Тот отказался. Он кричал, что останется, пока держится хоть один из его солдат, и дал резерву приказ к наступлению. Вскоре ударом сабли с головы Ферфакса была сбита каска. Полковник его гвардии предложил генералу свою. Ферфакс возразил:
— Не нужно, Чарли, я и без неё обойдусь.
Обычно малоподвижный, медлительный, Ферфакс преображался в бою. Совсем иная душа светилась из оживившихся глаз. Он поражал храбростью и неистощимой энергией. Генерал крикнул тем, кто мог слышать его:
— Так эти молодцы неприступны? Вы пробовали взять их?
Ему отвечали:
— Два раза, генерал, но безуспешно!
Он засмеялся:
— Хорошо! Бейте их в голову, а я — в хвост, и. мы сойдёмся на середине!
Его пехотинцы разорвали неприятельские ряды. Ферфакс собственной рукой убил знаменосца и передал трофейное знамя одному из своих адъютантов. Пехота короля стала пятиться, но с ними был сам государь, и солдаты выдерживали натиск Ферфакса, не жалея себя, предпочитая отступлению смерть на глазах у своего владыки.
Так обстояли дела на правом фланге пехоты. На левом фланге и в центре положение ухудшалось с каждой минутой. Полки отступали. Только офицеры, все эти шкиперы, котельщики, извозчики и сапожники, позору поражения предпочитали смерть. Они метались по полю сражения, своим примером и возмущёнными криками пытались остановить этих деревенских парней, не успевших толком обучиться военному делу и набраться ратного опыта. Солдаты уже были прижаты к резервам, ещё немного, и они побегут.
Кромвелю всё стало ясно. Он перестроил свою кавалерию и обрушился на левый фланг и тыл королевской пехоты, которая продолжала держаться под натиском Ферфакса. Его кавалеристы сминали пеших солдат лошадьми, рубили мечами. Они заметались, не зная, с какой стороны отражать удары врага. Только одна бригада неприятеля не дрогнула и осталась на месте:
«Наша кавалерия ударила на них всей своей тяжестью, тем не менее даже железнобокие их сбить не смогли. Несмотря на то что мы напали на них со всех сторон, они с невероятным упорством, с решительностью и твёрдостью отбивали наши атаки».
На помощь Кромвелю Ферфакс двинул собственный полк. Бригада подалась. Вскоре и тут сражение развалилось на отдельные стычки.
Король видел, как на него неудержимо надвигалось несчастье. Он поспешил собрать разрозненные полки кавалерии и пехоты для новой атаки, однако их оказалось немного. Кавалерия Руперта, разграбив обоз, наконец возвратилась от самой деревни, но люди устали, лошади были измучены и уже никуда не годились.
Положение становилось критическим. Айртон, серьёзно раненный в ногу, на левом фланге собрал свою недобитую Рупертом кавалерию и строил к новой, теперь уже последней атаке. Пехота Ферфахсса уже сплотила ряды и была готова поддержать Айртона. На правом фланге изготовилась конница Кромвеля. Парламентская армия приняла прежний вид.
Карл, такой весёлый и бодрый все последние дни, был на грани отчаяния. Уже не имея сил для победы, он намеревался броситься в битву и, может быть, умереть. Государь встал во главе полка гвардии и отдал приказ. Плотные ряды гвардии уже двинулись, когда лорд Карневорт схватил под уздцы его лошадь и, бранясь по-шотландски, закричал:
— Да вы что, на смерть, что ли, хотите пойти?
Он резко повернул лошадь вправо. За ним инстинктивно повернули ближайшие кавалеры. Весь полк, не щадя шпор, бросился следом за ними. Это послужило сигналом. За монархом ринулась вся его армия, объятая ужасом, и, расстроив ряды, в беспорядке рассеялась по равнине. Король, находясь в толпе своих офицеров, пытался остановиться. Он истерично кричал:
— Стойте! Стойте!
Со шпагой в руке, со сверкающими отчаянием и отвагой глазами, Карл рвался назад, крича из последних сил:
— Милорды! Ещё один удар, ещё один удар! Победа будет за нами!
Никто не слушал его, пехота была уже совершенно разбита, большая её часть оказалась в плену. Было ясно, что надо бежать, и король, смирившись под нежданным ударом судьбы, побежал, окружённый всего двумя тысячами измученных, растерянных всадников, оставив неприятелю всю артиллерию, весь обоз и канцелярию.
Отлогие берега оврага были завалены трупами людей и лошадей, мечами, мушкетами, знамёнами, касками, шляпами, на кустах шиповника висели, сотрясаясь от ветра, клочья одежды. Стонали и кричали раненые. Сотни солдат в красных мундирах бродили по полю, оказывая им первую помощь, собирая оружие и знамёна. Каждый из них, не слыша другого, громкими охрипшими голосами рассказывал о своей стычке с врагом и победе над ним. Адъютант Ферфакса повествовал, как лично пристрелил знаменосца, и всем показывал знамя, отбитое им у врага. Полковник был возмущён. Ферфакс возвращался к своей обычной медлительности, к благодушному настроению и тихо смеялся:
— Оставь его, Чарли. У меня славы довольно. Я охотно дарю ему эту честь.
Вечером Кромвель составил отчёт для нижней палаты, которая одна продлила его полномочия. Он обращался к её председателю. Результаты битвы были изложены холодно, кратко и ясно:
«Милорд! После трёх часов упорного боя, который шёл с переменным успехом, мы рассеяли противника, убили и взяли в плен около пяти тысяч, много офицеров в числе их. Также было захвачено двести повозок, то есть весь обоз и вся артиллерия. Мы преследовали врага за Харборо почти до самого Лестера, куда скрылся король...»
В его послании не мелькнуло и слабой тени самодовольства, будто эта победа одержана им, Оливером Кромвелем, дворянином из Гентингтона. Нет, ему и его армии очередная победа была дарована свыше:
«Милорд! Это не что иное, как рука Господа. Слава принадлежит Ему одному...»
Генерал почёл своим долгом отметить заслуги, не свои, но Ферфакса:
«Генерал Ферфакс служил вам верно и доблестно. Лучше всего его характеризует то, что в победе он видит перст Господа и скорее умрёт, чем припишет все лавры себе. Добрые люди верно послужили вам в этом бою...»
Эти добрые люди были индепенденты. Они сражались за Господа и за свободу вероисповедания. Он знал, что пишет сторонникам пресвитерианства, и в нём внезапно заговорил политик. Пользуясь новой громкой победой, Кромвель почёл своим долгом защитить их права:
«Милорд! Это преданные люди, и я заклинаю вас Господом: не расхолаживайте их. Я хотел бы, чтобы эта битва породила смирение и благодарность в сердцах всех, кто принимал в ней участие. Я бы хотел, чтобы тот, кто рискует жизнью ради свободы отечества, имел бы возможность смело вверить Господу свободу своей совести, а вам — ту свободу, за которую он сражается...»
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
1
В самом деле, пресвитерианам нижней палаты очень не понравилось это послание. Многие возмущались, что слуга парламента, подчинённый им генерал брал на себя смелость давать им советы. Однако возмущались они в частных домах и в тёмных переходах Вестминстера. Им приходилось молчать. Народ ликовал. Пятнадцатого июня финансисты и толстосумы устроили в городском совете пышный банкет в честь решительной и, как многим казалось, решающей победы.
Парламенту оставалось только смириться. Шестнадцатого июня палата лордов, до этого дня не утверждавшая назначение Кромвеля, единогласно продлила его полномочия ещё на три месяца. Правда, и в этом случае аристократы лукавили. Они считали, что победой при Несби война должна быть закончена, теперь необходимо выдвинуть свои условия мира, ведь король, не имея армии, не сможет от них отказаться. Лордов поддержали шотландские комиссары.
Но вопрос о мире уже не мог обсуждаться. В Лондон прибыли бумаги из канцелярии монарха, в их числе собственноручные письма к королеве и к европейским властителям. Ферфакс считал противным христианской морали вскрывать, тем более оглашать документы, над которыми властен только венценосец. Айртон и Кромвель не находили для этого каких-либо препятствий. Нижняя палата пришла к такому же мнению. Архив был вскрыт, бумаги — прочитаны. Все умеренные, все сторонники мира были изумлены. Всеобщее возмущение охватило представителей нации.
В самом деле, наконец открылись жестокие истины. Король никогда не хотел примириться с парламентом, не желал принимать никаких условий. Переговоры о мире он вёл только для виду, главным образом для того, чтобы выиграть время, набрать новую армию и продолжить войну; не собирался исполнять ни одного из своих обещаний. Карл просил помощи у испанского и у французского королей, которые были католиками, вёл переговоры с ирландцами, призывал на английскую землю иноземные армии, которым предлагал разогнать парламент и загасить мятеж.
Оскорбление было нанесено не только парламенту, но и всей нации. Нижняя палата потребовала собрать всех лондонцев в помещении городского совета и огласить самые яркие из захваченных королевских бумаг. Мероприятие, не слыханное по своей дерзости, состоялось. Третьего июля помещение городского совета не вместило всех желающих. Бумаги были прочитаны. Всем гражданам предоставлялась возможность убедиться собственными глазами, что письма написаны самим королём. Всё это произвело ужасное впечатление. О заключении мира уже не думал никто. Одни спешили вступить в ряды парламентской армии, другие вносили налоги на её содержание. Спешно продавали имущество осуждённых сторонников короля. Всем солдатам жалованье выдавалось в установленный срок. Во все крепости завозилось продовольствие и военное снаряжение. Парламент постановил издать и распространить королевские письма, уличавшие его в преступлении.
Война продолжалась. Уже двадцатого июня, не дожидаясь, чем закончится в Лондоне возня с бумагами короля, Ферфакс повернул от Несби на запад, чтобы овладеть Корнуэлом, где недавно Эссекс потерпел такое позорное поражение. С первых же шагов он понял, что положение в западных графствах за последнее время коренным образом изменилось. Авторитет короля пошатнулся и пошёл резко на убыль. Прежние предводители монархистов либо умерли от старости, либо нашли своевременным удалиться подобно лорду Ньюкаслу, который благоденствовал, как всем было известно, в Париже. Аристократы и зажиточные дворяне запирались в своих поместьях и замках. В монархические отряды вступал всякий сброд, соблазнённый жалованьем и возможностью наживы. Они грабили окрестное население беспощадно и жестоко. Ими командовали граф Джорж Норич Горинг и Ричард Гринвил, которыми руководила лишь алчность, жажда мести и потребность в острых ощущениях. Горинг был храбр, его любили солдаты, однако его постоянно подводила беспечность, бесцеремонность и беспримерная наглость. Гринвил не отличился храбростью, но был жаден, жесток и занят был главным образом тем, что выколачивал из населения контрибуции для содержания войск, которых не набирал, и для сражений, которых старательно избегал.
Принц Уэлльский напрасно обращался к народу с монархическими призывами. Арендаторы и свободные фермеры тысячами соединялись в отряды под именем клобменов. Они не признавали ни короля, ни парламент, были против всех тех, кто насиловал, грабил и разорял их дома. С оружием в руках люди обороняли свои городки, селенья и фермы, не пуская к себе ни парламентских, ни королевских солдат. С ними можно было договориться на поставки продовольствия и фуража, но при этом они выдвигали непременное условие, чтобы ни один ратник не вторгался на их территорию. На их знамёнах было написано:
«Коль нашу грабить станете скотинку, То знайте, что и мы возьмёмся за дубинку».Как только отряды Ферфакса появились в западных графствах, кавалеры, напуганные победой при Несби, притихли, грабежи и насилия прекратились. Наученные горьким опытом опустошительной гражданской войны, клобмены намеревались обратить своё оружие против парламентских войск. Однако дело до столкновений на этот раз не дошло. Это были солдаты не Эссекса и Манчестера. Это была армия нового образца. Её воины были кротки и набожны. Среди них царила суровая дисциплина. Они читали Библию и распевали псалмы. О грабежах и насилиях никто даже не помышлял, почитая такие поступки тяжким грехом. Ферфакс обошёлся с клобменами с кротостью мудрого полководца. Он вступил с ними в переговоры, лично присутствовал на их собраниях и обещал мир и неприкосновенность жилищ. Клобмены были обыкновенными пахарями, покладистыми и незлобивыми, умиротворение легко вошло в их простые сердца.
Обеспечив тылы, Ферфакс стремительно двинулся на врага. Горинг был застигнут врасплох и десятого июля потерпел сокрушительное поражение при Лэнгпорте, в графстве Сомерсет. Сам он исчез, остатки его войск разбрелись кто куда. Гринвил был так напуган, что возвратил принцу Уэлльскому свой маршальский жезл, обвинив его в том, что ему, человеку далеко не богатому, пришлось вести войну за свой счёт. Ферфаксу понадобилось всего три недели, чтобы очистить от полевых войск весь Корнуэл. Самые непримиримые и стойкие из монархистов запёрлись в крепостях, Ферфакс разделил свою армию. Его отряды принялись их осаждать. Сам он двинулся к Бристолю.
Тем временем король в панике метался из города в город, задерживаясь на одном месте на несколько часов для обеда и отдыха. Он то устремлялся на север, куда его призывали новые победы Монтроза, то поворачивал на запад на соединение с Горингом, в надежде на его храбрость и преданность, а в конце концов решился укрыться в Уэллсе, где хотел отдышаться и набрать новых солдат. Государь отправил принца Руперта на помощь Бристолю, а сам разместился в замке Рагланд, принадлежавшем маркизу Уорстеру.
Маркиз был очень гостеприимен и очень богат. Он уже выдал королю около ста тысяч фунтов стерлингов и готов был выдать ещё, сформировал два полка, которыми командовал его сын и сам возглавлял довольно сильный гарнизон своего укреплённого замка. Главное же, что влекло к нему Карла, было то, что маркиз был католиком.
Уорстер встретил венценосца торжественно, пышно, с должным почётом, который напомнил, королю его утраченный двор. Окрестное дворянство с заверениями почтения и преданности окружило его. Пиршество следовало за пиршеством. Каждый день устраивались охоты, развлечения. В замке царило веселье. И монарх охотился, пировал, веселился, точно не было разгрома при Несби, точно он не бежал с горсткой людей, не зная, где преклонить бедную голову. Счастливое легкомыслие спасало его посреди бушующих бед.
Однако это продолжалось недолго. Спустя две недели нахлынули тревожные новости. На западе Горинг терпел поражение за поражением, на севере шотландская армия Дэвида Лесли взяла Карлайл и двигалась к Гирфорду, который без помощи едва ли мог устоять.
Пришлось оставить охоты и пиршества. Король вдруг повёл своё войско на запад, рассчитывая спасти Горинга от окончательного разгрома, но вскоре остановился. Его новобранцы никуда не годились, офицеры ссорились. Он принял решение вернуться в Уэллс и остановился в Кардифе. В Кардифе ожидал новый удар. Принц Руперт писал из Бристоля графу Ричмонду и просил от своего имени передать дяде, что дело проиграно и что самое время вступить с парламентом в переговоры о мире, чтобы сохранить жизнь.
Монарх был легкомыслен, беспечен, однако превыше всех благ на свете ценил королевское достоинство. Предложение племянника представлялось ему оскорбительным.
Самодержец давно осознал, что обречён. Это ещё раньше поняли придворные, офицеры. Теперь к такому же выводу пришёл самый горячий сторонник, близкий родственник, самый успешный генерал.
Карл вышел из Кардифа, не имея ни малейшего представления, что станет делать. Ему повезло. Он прошёл незамеченным по землям четырёх графств и вдруг появился в Йорке, откуда в своё время был выбит Ферфаксом.
Государь призвал под свои знамёна окрестных дворян, И те послушно явились. Присутствие короля на время возродило их былую энергию. В Йорк явилось около трёх тысяч солдат из двух крепостей, которые только что сдались парламентской армии. Появилась надежда, Карл только ждал гонца от Монтроза, чтобы пойти на соединение с ним.
В самом деле, в горных кланах Шотландии возродился монархический дух. Монтроз действовал подобно рыцарям давних времён. В костюме конюха, в сопровождении всего двух друзей он проехал по южной Шотландии, всюду сзывая единомышленников. Ему удалось сколотить боеспособную армию. В битве при Килските он разгромил шотландских приверженцев союза с английским парламентом. Он двигался, заливая кровью землю, захватил Глазго, Эдинбург и казался полным хозяином положения.
Но времена рыцарских подвигов безвозвратно прошли. Более рассудительный и прагматичный, чем Монтроз и король, Дэвид Лесли оставил под осаждённым Гирфордом только пехоту и быстрыми переходами повёл на север кавалерию. Она проходила неподалёку от неприятельского лагеря. Этого оказалось достаточно, чтобы монархисты разбежались, а сам государь в сопровождении всего полутора тысяч всадников бросился в панике на юг и двадцать девятого августа вступил в Оксфорд.
Впрочем, там задержался только на два дня. Сообщения Монтроза прибавили ему безрассудного мужества. Тридцать первого августа он выступил снова на север, намереваясь вызволить Гирфорд. В пути Карлу стало известно, что Ферфакс начал осаду Бристоля, государь не обратил на это внимания. Оборона Бристоля была поручена Руперту. Крепость была хорошо снабжена продовольствием и боеприпасами. Руперт клятвенно его заверял, что сможет продержаться несколько месяцев. Карл продолжал следовать к Гирфорду, всего в одном дне пути от цели стало известно, что шотландская пехота сняла осаду и отступила на север. Его убеждали продолжить преследование, однако король на это не согласился, напряжение последних недель уже утомило. Монарх объявил, что сначала должен выручить Бристоль, что для этой цели надо набрать новых солдат, и возвратился в замок маркиза Уорстера, где его ждали отдых и спокойная привольная жизнь.
Тем временем Кромвель настиг Горинга в тесном горном проходе Лонг-Сеттон и нанёс ему страшное поражение. Не менее двух тысяч кавалеров погибло в этом побоище, остальные в ужасе разбежались. Вновь он отдавал всю честь этой победы милости Господа и с ещё большей настойчивостью требовал для своих солдат свободы вероисповедания. Он обращался к председателю нижней палаты:
«Милорд! Вера и молитва доставили вам этот город, воздадим же хвалу нашу Господу. Пресвитериане, индепенденты — все одинаково веруют и молятся, все одинаковы и в ответе, и в деле. Здесь все верующие слились друг с другом и позабыли свои различия. Очень жаль, если не везде это так...»
Генерал был убеждён, что только веротерпимость может привести к всеобщему успокоению. Он продолжал:
«В сущности, все верующие представляют собой одно целое, и это единство тем прочнее и действеннее, что оно духовное, внутри нас. Что касается единства форм, так называемого единообразия, то его можно ожидать только от добровольного слияния христиан. В делах духовных не должно быть насилия, они решаются разумом и знаниями. Господь вложил меч в руки парламента лишь на страх злонамеренным и для защиты добродетели...»
На другой день на его пути близ Шефстбери встал большой отряд клобменов. Кромвель стремительно напал, ему ничего не стоило нанести полное поражение. Они разбежались. Всего двенадцать человек было убито, но раненых было много, около восьмисот человек оказалось в плену. Вскоре генерал их отпустил и поспешил к Бристолю на помощь Ферфаксу.
Осада оживилась с его появлением. Командующий всей кавалерией, Кромвель на этот раз широко применил артиллерию. Пушки были поставлены очень близко друг к другу. Громы, исходившие из их жерл, сливались в такой страшный рёв, что пугались даже свои. Солдаты Руперта, привыкшие к блистательным кавалерийским наскокам, были деморализованы в первый же день. Руперт, безудержно смелый на поле сражения, растерялся при первом же приступе и сдал сильную крепость без боя.
Король, наслаждавшийся жизнью в замке маркиза Уорстера, был потрясён. Известие о падении Бристоля его застало врасплох. Карл разразился беспорядочным, но гневным посланием к племяннику, которого под конвоем доставили в Оксфорд.
Ярость монарха нарастала с каждым часом. Он слал в Оксфорд письмо за письмом, всё ещё не трогаясь с места, требовал от лордов-министров, чтобы они отобрали у Руперта патент на командование кавалерией и отрешили от должности губернатора Оксфорда только за то, что тот дружен с ним. Уже предчувствуя возможность измены, он отдал приказ арестовать и губернатора и племянника, если в городе возникнут волнения. Тут, кстати, вспомнил о сыне и приписал:
«Скажите моему сыну, что самая его гибель не причинила бы мне такого огорчения, как низкий поступок, подобный капитуляции Бристоля...»
У государя оставался один путь: на север. Если бы он соединился с Монтрозом, его небольшая армия получила бы подкрепление и нового главнокомандующего, человека отважного, дерзкого и успешного. Однако на этом пути стоял Честер, снова попавший в осаду. Через него шло сообщение с мятежной Ирландией, на помощь которой король рассчитывал ещё больше, чем на помощь Монтроза. Необходимо было отбить его у парламента, и Карл начал поход. У него было около пяти тысяч уэлльской пехоты и конницы из добровольцев северных графств.
На пути стояли парламентские полки, чтобы не ввязываться в неравную схватку, надо было их обойти. Пришлось двигаться через горы Уэллса, что сильно усложняло и замедляло движение. Неприятельский генерал вовремя спохватился и шёл по пятам. Король уже видел Честер, когда вражеские войска настигли его и потревожили арьергард. Правда, лорду Лангделу удалось отбить наступление. Однако полковник Джонс, руководивший осадой, внезапно появился в тылу. Войско не выдержало нападения с фронта и с тыла. Вокруг падали убитыми и ранеными лучшие офицеры. Государь не нашёл силы собрать воедино ещё не разбитую армию и попытаться прорваться или с честью погибнуть в неравном бою. Он бежал с поля боя, следом отступили остатки позорно брошенной армии.
Впрочем, к этому времени движение на север стало бессмысленным. Дэвид Лесли переправился через Твид, стремительным маршем направился навстречу к Монтрозу. Тринадцатого сентября он настиг его при Филипп-Гафе, в Эттрикском лесу. Монтроз был храбр и решителен, но беспечен и упоен победами так, что не считал нужным прибегать к осторожности. Лесли напал на него неожиданно. Его воины были вымуштрованы, тогда как солдаты Монтроза, набранные в горных пастушеских кланах, не имели ни малейшего представления о дисциплине и тотчас превратились в бесформенную толпу. Монтроз был на голову разбит, войско разбежалось. Союзные лорды, завидовавшие ему, покинули побеждённого полководца вместе со своими вассалами. В один день в мнении большинства Монтроз из героя превратился чуть не в преступника и вынужден был скрываться в горах.
Король был сражён. Теперь и ему самому приходилось скрываться, но где? Надёжней и удобней всего было провести зиму в Уорстере, однако губернатором туда был назначен принц Мориц, который после позорной сдачи Бристоля неожиданно принял сторону Руперта. Таким образом, в Уорстере монарха ждала неприятная встреча, и он избрал своей ставкой менее удобный и надёжный Ньюарк. При этом армия разделилась. Поддавшись уговорам, Карл разрешил последнему из своих верных советников увести большую часть войска на помощь Монтрозу. По этой причине с ним вступило в Ньюарк не более трёх или четырёх сотен охраны.
Тем не менее угроза исходила не только от парламентской армии. На него восстали племянники, которые, видимо, уже понимали, что монарх бессилен и потерял влияние даже среди кавалеров. Принц Руперт, без боя сдавший Бристоль, считал себя оскорблённым письмом дяди и незаслуженной немилостью. Однажды в сопровождении сотни своих офицеров он ворвался в его покои во время обеда и наговорил дерзостей. Возмущённый король удалился, велев охране выгнать племянника с приказанием больше не показываться ему на глаза. Руперт вынужден был удалиться. Его и Морица заподозрили в заговоре, целью которого было свержение Карла Стюарта и возведение на английский престол их старшего брата.
Так это было или не так, уже не имело большого значения. Государю уже не на кого было рассчитывать, круг всё сужался. После падения Бристоля парламентские войска разделились. Ферфакс повёл свои полки на юго-запад. Кромвель подступил к Винчестеру, взял его двадцать восьмого сентября и обложил Безинг-Хаус, который безуспешно пытались взять уже третий год. Оборону крепости держал лорд Винчестер, католик, человек благочестивый и храбрый, верный слуга короля.
Кромвель скоро увидел, что осада может тянуться ещё несколько лет. Он решил брать её штурмом, полагаясь на мощь пушек и беззаветную храбрость солдат. Тринадцатого октября приготовления к штурму были закончены. Ночь перед атакой генерал провёл в молитвах, без сна. Ближе к рассвету наугад раскрыл Библию, как нередко делали пуритане, надеясь таким способ узнать веление Господа. Ему открылся восьмой стих сто пятнадцатого псалма: «Те, которые создают себе кумиров, на них и похожи; а также и те, которые веруют в них». Ему стало ясно, что стих открылся в осуждение лорда Винчестера, который был ненавистным папистом. Победа была ему обеспечена, с этой верой полководец вышел к войскам и дал сигнал к выступлению, — залп, произведённый четырьмя пушками. Четырнадцатого октября около шести часов утра солдаты, тоже молившиеся в течение ночи, весело и решительно бросились к крепости. Бой был коротким, но яростным. Многие католики, составлявшие гарнизон, были убиты на месте. Пленных не брали. Все ценности, наполнявшие замок, были разграблены. Облачения, церковные сосуды и книги были свалены на площади в кучу и преданы всеочищающему огню. В живых остались немногие. Среди них оказался Винчестер. Проповедник Хью Петерс решил его просветить, доказать ошибочность идолопоклонства и привести к истинной вере. Винчестер ему отвечал. Вокруг собралась толпа пуритан, с громадным интересом следившая за ходом жаркой дискуссии. Винчестер не сдавался, пока не устал. В заключение он сказал, что если бы у короля оставался один Безинг-хаус во всей Англии, он всё-таки считал бы своим долгом удерживать его до последнего, и умолк.
Девятнадцатого октября пал Тивертон, двадцать второго — Монмут. Кромвель соединился с Ферфаксом. Крепости Корнуэла сдавались одна за другой. Если гарнизоны вступали в переговоры, им предлагались выгодные условия. Если они упорствовали, Кромвель без промедления командовал штурм. В таком случае его солдаты никого не щадили.
Сам парламент становился всё беспощадней. В течение лета и осени его ряды пополнились ста тридцатью новыми членами, вместо тех, кто перешёл на сторону короля. На ход выборов всюду оказывали влияние индепенденты. Они побеждали, и сторонников у них прибавлялось. Графства посылали в нижнюю палату либо индепендентов, либо просто честных людей, которые не принадлежали ни к какой партии, но хотели порядка и мира и отказывались поддержать монарха, считавшегося виновником гражданской войны. Оказавшись в Вестминстере, они очень скоро переходили на сторону индепендентов. Благодаря новым представителям нации решения парламента становились всё решительней. Ещё на четыре месяца были продлены полномочия Кромвеля. Было отменено постановление, в силу которого жёны и дети сторонников короля, объявленных государственными преступниками, должны были получать пятую часть земельных владений, подлежащих секвестру[19]. Был принят закон, по которому подлежала продаже большая часть имущества бывших епископов. Постановлением двадцать четвёртого октября запрещалось щадить ирландцев, захваченных с оружием в руках на территории Англии, с этого дня их сотнями расстреливали. Но страсти разгорались всё жарче, уже и это представлялось недостаточной карой, их бросали в море, привязывая друг к другу спинами. Гражданская война принимала всё более жестокий характер. Двадцать четвёртого января 1646 года, Кромвель обратился к рекрутам, пополнившим кавалерию, с короткой и ясной программой:
— Мы идём, чтобы освободить вас, если это возможно, от надсмотрщиков, и путём установления мира снова принести вам изобилие.
От войны так устали, что мира хотели чуть ли не все и все без исключения мечтали об изобилии, которого могли бы достигнуть честным трудом, как только восторжествуют свободы собственности, предпринимательства, личности и свобода вероисповедания.
Королю, терявшему остатки сторонников, удалось кое-как проскользнуть между частями парламентской армии. Он вновь появился в Оксфорде. Больше не было ни планов, ни мыслей о будущем. Мучительное беспокойство бессилия терзало монарха. Около него уже не было прежних советников, людей если не даровитых, то значительных и довольно влиятельных. Его окружали случайные люди, к ним он вынужден был обратиться за помощью и советом. Помощи они ему дать не могли и посоветовали вступить в переговоры о мире, государь вынужден был согласиться.
Карл опоздал, представители нации не захотели выслушивать его лживые речи.
Под знамёнами монарха остались только две армии, на севере и на юге, разрозненные, малочисленные, слабосильные. У него не оставалось мужества, которого и прежде было немного. Все ждали не переговоров, а полной, безоговорочной капитуляции.
Армия в Корнуэле номинально была под командованием его сына Карла, принца Уэлльского. К этому времени его покинули генералы Горинг и Гринвил. Сам принц был слишком молод и не искушён в военном искусстве, он призвал к себе Хоптона, хорошего генерала, и предложил ему встать во главе войска.
— У людей, которые не хотят повиноваться приказам, есть обыкновение говорить, что это противно их чести. Для меня это правда. Я действительно не могу принять вашего предложения, не пожертвовав честью. С таким войском, какое вы мне даёте, честь сохранить невозможно. Его боятся одни друзья. Враги смеются над ним. Оно опасно только в дни грабежа и способно решиться только на бегство. Тем не менее, если вашему высочеству угодно призвать меня, я готов повиноваться.
Шестнадцатого февраля Хоптон был разбит при Торрингтоне. Ему удалось отступить. Он пятился от Ферфакса и Кромвеля из города в город, надеясь на ходу привести хоть в какой-нибудь порядок войско, больше похожее на беспорядочную толпу плохо вооружённых людей. Он рассчитывал, что страх смерти сплотит их ряды, однако солдаты и офицеры отказывались повиноваться. Где бы он ни назначал полкам сборное место, не было случая, чтобы они явились в полном составе и не опоздали на час или два. Генерал кое-как добрался до Труро, здесь узнал, что местные жители, уставшие от грабежей и насилия, решились схватить принца Карла и выдать парламенту. Он посадил принца с приближёнными на корабль, который сначала укрылся в гавани ближайшего острова, но вскоре вынужден был взять курс на Францию.
Сам Хоптон считал своим долгом сражаться. В ответ на его приказ выступать солдаты потребовали капитуляции, офицеры объявили, что им предлагают выгодные условия и что они договорятся с Ферфаксом и без него. Ему ничего не оставалось, как согласиться. Хоптон только просил, чтобы его имя не значилось в договоре о сдаче. Как только статьи были подписаны и армия разошлась кто куда, он сел на корабль и последовал за принцем.
У короля оставалась надежда только на армию лорда Эстли, которая стояла в Уорстере. У лорда было не более трёх тысяч солдат. Они выступили по направлению к Оксфорду, понимая, что это было самоубийством. Монарх рассчитывал выиграть время, ожидая со дня на день ирландскую армию, и пошёл навстречу, имея всего полторы тысячи всадников. Но они не успели соединиться. Небольшой отряд парламентских войск настиг лорда Эстли и двадцать второго марта наголову разгромил его в графстве Глостер. Он потерял убитыми и пленными тысячу восемьсот человек. От его армии ничего не осталось. Сам Эстли попал в плен. Он был очень стар и едва стоял на ногах от усталости. Победители из уважения к его сединам и храбрости предложили ему барабан. Он сел и произнёс пророческие слова:
— Милорды, вы кончили своё дело.
И прибавил со слабой усмешкой:
— Теперь вы можете идти играть, если не предпочитаете перессориться между собой.
Король поспешил возвратиться в Оксфорд. Он всё ещё ждал ирландскую армию. Она была его единственной, последней надеждой, но ирландцы не появлялись. Времени у него оставалось всё меньше. Тогда государь передал парламенту новые предложения: он распустит войска, которых у него уже не было, отдаст все крепости, которых у него тоже не было, и возвратится мирным человеком в Уайт-холл.
Разумеется, он лицемерил. Это было понятно представителям нации. Они не хотели ещё раз стать обманутым и отказали. Однако положение представлялось им более серьёзным, даже более опасным, чем предполагал сам король. Депутаты были проницательней и не могли исключить, что Карл, не ожидая их разрешения, вступит в Лондон в сопровождении охраны и в самом деле займёт свою резиденцию. Что будет тогда? Как его появление встретит народ? Опытные политики и легкомысленные мечтатели, умеренные пресвитериане и фанатичные индепенденты сходились на том, что простые люди, давно желающие мира, с распростёртыми объятиями встретят своего владыку и потребуют от представителей нации согласиться на все его предложения. Смогут ли они пойти на это? Едва ли, ведь монарх по-прежнему не желает ни с кем делить свою, абсолютную власть. В таком случае народ может восстать, но уже не против своего короля, а против парламента.
Опасность была велика. Депутатам, желавшим отстоять свободу, пришлось принимать самые жёсткие меры. Особым постановлением они запретили принимать короля или представляться ему, если он вдруг появится в Лондоне, даже под каким-либо предлогом приближаться к нему. Документом предписывалось в течение трёх суток покинуть Лондон всем папистам, бывшим офицерам и отслужившим солдатам, которые прежде сражались против парламента. А главное, был отдан приказ Ферфаксу как можно скорее подойти к Оксфорду, обложить его плотной осадой и взять штурмом при первой возможности.
Приказание парламента было исполнено. Вскоре передовые отряды разбили палатки в виду оксфордских укреплений. Положение короля становилось безвыходным. Он послал сказать вражескому полковнику, что готов сдаться, если тот обяжется честным словом тотчас передать его в руки парламента. Полковник безоговорочно отказал. Тем временем прибывали новые полки. Осаждающие перекрывали все въезды и выезды. Становилось ясно, что очень скоро Карл Стюарт из государя превратится в военнопленного.
Надо было решаться на что-нибудь. Уже вся армия Ферфакса появилась в окрестностях и стала на позиции. Решение было принято необдуманно и поспешно. В полночь двадцать шестого апреля король обстриг пышные локоны, сбрил бороду и переоделся слугой. В сопровождении всего двух спутников перешёл мост святой Магдалины и вышел через крепостные ворота. В тот же час по другим мостам, через другие ворота из города выбрались три группы всадников, каждая из трёх человек, и разъехались в разные стороны.
Вскоре остались позади серые стены, старинные башни, колокольни, сады, колледжи и библиотеки его самого верного города. Он был свободен, но не знал, что ему делать с этой свободой. Повинуясь безотчётным желаниям, Карл повернул в сторону Лондона, поднялся на холм. Рассвет уже наступил. С вершины была видна вся столица. Он ещё мог въехать в неё, вступить в Уайт-холл, появиться в Сити, обратиться к лорду-мэру с требованием обеспечить его безопасность, и никто, даже представители нации, не посмели бы тронуть его.
Он долго стоял. В душе беглеца боролись два желания: спасти свободу и жизнь и сохранить честь, привилегии, права.
Государь ехал на север, не зная зачем, переходил из местечка в местечко, каждый день меняя костюм. В одном из них поселился в придорожной таверне как обычный проезжий. Сюда французский посланник прислал гонца сказать, что шотландцы согласились принять его в своём лагере. Пятого мая Карл отдался под покровительство Александра Ливена, шотландского генерала. Офицеры и солдаты оказывали ему почтение, которое полагалось королевской особе, но к его дверям был поставлен усиленный караул. Монарх ещё хотел командовать, вызвал Ливена и назначил пароль, как полагалось главнокомандующему:
— Простите, милорд. Здесь я старший по званию, и потому ваше величество позволите мне эту заботу взять на себя.
2
Стало ясно, что король арестован, следовательно заканчивалась война и прекращалось пребывание Кромвеля на посту генерал-лейтенанта, которое парламент, в обход Акта о добровольном отречении от службы, вынужден был трижды продлевать во имя победы. Двадцать четвёртого июня 1646 года парламентская армия вступила в Оксфорд, последний оплот роялистов. Кромвель должен был оставить армию и возвратиться в Лондон.
Он беспрекословно подчинился Акту об отречении, не дожидаясь, пока парламент его отзовёт. С этого дня Кромвель уже не влиятельный полководец, блистательно выигравший войну, а всего лишь рядовой член нижней палаты, один из многих, вынужденных скромно отсиживать своё время на задних скамьях, с правом изредка участвовать в прениях и сказать по интересующему вопросу несколько слов.
Он и молчал, около трёх недель. В общем, Оливер мог быть удовлетворён итогами революции. Пока он сражался за дело парламента, представители нации проводили преобразования во всех сферах жизни, прежде всего в экономике и в общественных отношениях.
Промышленность и торговля наконец освободились от монополий, отчасти они были уничтожены постановлениями парламента, отчасти исчезли сами собой в ходе гражданской войны. В Англии восторжествовала та самая свобода предпринимательства, за которую воевали. Постановлением парламента было безвозмездно отменено так называемое рыцарское держание, давно устаревшая феодальная форма землевладения, а вместе с ним была упразднена Палата по делам об опеке, которая чуть было не разорила его семейство после смерти отца. Отныне владельцы земли, крупные, средние и мелкие, из держателей на феодальном праве в одночасье превратились в полноправных, безоговорочных, частных владельцев. Они получили право свободной продажи своей собственности в руки таких же частных владельцев. Это была решающая, неоценимая перемена в истории Англии.
Первым заметным следствием гражданской войны была перемена многих владельцев земли. Для содержания армии нужны были деньги. Их прежде всего давала земля. На владения пассивных сторонников короля был объявлен секвестр, и доходы с них поступили в казну. Владения активных монархистов были конфискованы и поступили в продажу. Многие сами продавали угодья и замки, или для того чтобы уплатить громадные штрафы, наложенные парламентом, или для того чтобы сбежать из страны. Всего было продано земельных владений на сумму от пяти до шести миллионов фунтов стерлингов. Эти громадные деньги поступили в казну и, как утверждали представители нации, были потрачены на жалованье солдатам, его солдатам.
Собственно, ничего другого генерал не хотел. Монархия ему не мешала, да с установлением свободы собственности и предпринимательства она уже никому не могла помешать.
Шестого мая стало известно, что король попал в руки шотландцев. На другой день нижняя палата постановила, что только парламент имеет право располагать особой монарха. Шотландцы обязаны передать Карла Стюарта в руки парламента и поместить его в замке Уорвик, а пока полки, стоявшие близ Ньюарка, должны наблюдать за движениями шотландцев. Ферфакс также должен быть готовым к походу на север, если это станет необходимым.
Шотландцы спешили уйти в родные пределы. Они уговорили короля, чтобы он отдал приказ коменданту Ньюарка сдать город, и город был сдан. Шотландцы пошли на Ньюкасл. Государь находился в авангарде.
Они не хотели покинуть Англию с пустыми руками, требовали от англичан верности договору об учреждении единой пресвитерианской церкви на территории обоих королевств. Карл стал их заложником. Они всё больше и больше ограничивали его свободу. Любому из воевавших на его стороне было запрещено приближаться к королевской особе. Перехватывалась и читалась вся переписка, потребовали, чтобы монарх отрёкся от англиканства и принял пресвитерианскую веру.
Десятого июня Карл написал всем комендантам, которые ещё хранили верность ему, чтобы они сдали свои крепости. В тот же день он обратился к парламенту с требованием, чтобы ему как можно скорей направили условия освобождения из шотландского плена, повелел своему представителю, лорду Ормонду, прекратить переговоры с ирландцами, а тем временем тайно продолжил их.
Король предпочитал отдать себя в руки римской католической церкви, которую люто ненавидели в Англии, тогда как парламент не знал, какие условия ему предъявить. Представители нации никак не могли договориться друг с другом и выработать единые требования. В нижней палате большинством голосов владели пресвитериане. Их поддерживали крупные торговцы. Они были в ужасе, когда стали достоянием гласности бумаги из канцелярии короля, захваченной после победы при Несби. Финансисты страшились потерять то, что сумели под шумок приобрести в ходе гражданской войны.
Только теперь у Кромвеля открывались глаза. Пока он воевал, депутаты разворовали часть денег из тех пяти или шести миллионов фунтов стерлингов, которые были выручены за земельные владения монархистов, вот почему жалованье его солдатам задерживалось и выплачивалось не полностью. Они постановили не раздроблять конфискованные владения на участки, чтобы не продавать их свободным фермерам, тем более зажиточным арендаторам, а скупали их сами по той цене, которую сами и устанавливали. Эти земли, также по низкой цене, приобретали торговцы и финансисты из Сити. Этого им было мало.
Это обеспечило бы им порядок в стране.
Тут начинались разногласия, непримиримые, острые, грозившие кровью. Несмотря на недавнее пополнение нижней палаты, индепенденты не получили в ней твёрдого большинства. Самые состоятельные из них, тоже успевшие обогатиться во время гражданской войны, по вопросам о собственности голосовали с пресвитерианами. Не то было с индепендентами в армии. Они были оскорблены. Эти люди не только не приобрели новой собственности, им не только не предоставляли свободы вероисповедания и навязывали нежеланную пресвитерианскую церковь, но и не выплатили жалованье за много недель, то жалованье, за которое было уплачено кровью, увечьями и смертью товарищей. Они готовы были направить войска против шотландцев, силой взять короля и продиктовать ему те условия, которые были выгодны им.
Пресвитерианам эта армия была не нужна. Они хотели её распустить, но как-нибудь так, чтобы не вызвать возмущения.
Кромвель очень скоро обратил на это внимание. Армия нового образца была его детищем. В ней были его товарищи по оружию, братья по вере и несколько человек, которые могли бы называться друзьями, если бы у него могли быть друзья. Армию в обиду он дать не мог. Четырнадцатого июля он взял слово и произнёс речь, слишком длинную для него. Он говорил о том, что только армия, созданная парламентом, в состоянии обезопасить его от всевластия короля, что по этой причине её следует сохранить, а солдатам как можно скорей выплатить жалованье, которое не выплачивалось неделями, а в некоторых полках задержано на несколько месяцев.
Его выслушали внимательно из уважения к военным заслугам, но не хотели услышать. У большинства представителей нации были иные заботы. Они полагали, что от армии необходимо избавиться прежде, чем вступить в переговоры о мире, надеясь, что в таком случае королю легче будет пойти на уступки.
Вокруг армии разгорались жаркие споры. Она становилась в тягость не только пресвитерианскому большинству, но и населению Англии. В парламент поступали петиции. Чаще всего жаловались жители северных графств, которых постоями и поборами разоряли шотландцы. Жалобы приходили из восточных и западных графств, занятых полками Ферфакса и Кромвеля. Они были дисциплинированы и не грабили население, но стояли постоем в частных домах. Люди предоставляли им не только жильё, но и провизию, за которую солдаты армии нового образца исправно платили, когда у них были деньги, однако жалованье задерживали, может быть, специально, солдаты кормились в долг, отчего нарастало недовольство и брожение.
Особенно опасались армии нового образца торговцы из Сити. Её солдаты были индепендентами и людьми из низов. Среди них распространялись идеи не только веротерпимости, но и равенства, которое было присуще первоначальному христианству. Эти идеи угрожали богатствам, удвоенным и утроенным в годы гражданской войны. Финансистам казалось, что только шотландцы могут служить противовесом армии нового образца и воспрепятствовать распространению этих превратных идей.
Двадцать шестого мая один из олдерменов лондонского городского совета направил в парламент прошение, в котором требовал защитить шотландцев от нападок и поношений и подвергнуть преследованию все новые религиозные секты, поскольку именно они виновны во всех смутах, потрясающих государство и церковь. Палата лордов тотчас выразила благодарность городскому совету за это прошение. В нижней палате последовали по этому поводу жаркие прения. Сторонникам Кромвеля удалось отбить нападение пресвитериан, и из нижней палаты городской совет получил на своё прошение неопределённый, сухой и краткий ответ.
Неопределённость ответа лишний раз подстегнула индепендентов. Их нападки умножились и становились решительней. В требованиях шотландцев они видели угрозу завоеваниям, купленным кровью, и своему вольномыслию. В парламенте, в журналах, в памфлетах, в церквях и публичных местах, особенно в армии, они отзывались о шотландцах с презрением, возмущались их алчностью, смеялись над их склонностью к накопительству, обращались к национальному чувству и пользовались любым случаем, чтобы возбудить против них и без того уже существующий гнев населения. Уступая давлению, идущему с разных сторон, нижняя палата постановила одиннадцатого июня, что шотландская армия уже не нужна. Постановлением предполагалось уплатить им сто тысяч фунтов стерлингов и попросить их возвратиться домой.
Шотландские генералы, готовые восстановить Карла Стюарта как на английском, так и на шотландском престоле, оказались в затруднительном положении. Сам король мешал их намерениям и постоянно путал все карты. Он пытался перессорить пресвитериан и индепендентов, рассчитывал на помощь шотландцев и готов был предать их в том случае, если осуществится интервенция католиков Ирландии, Испании или Франции. Со своей стороны, шотландцы всё больше не доверяли ему, усиливали охрану и подчёркивали, что считают его своим пленником.
Таким образом, по вине самого короля появилась возможность договориться по отдельности с ним и с шотландцами. Представители нации воспользовались этой возможностью, на время оставив споры; они выработали общие требования, на которых парламент мог бы заключить мир с королём и разрешить его возвращение в Лондон, эти условия были ещё суровей, чем предыдущие, которые государь отвергал с обычным высокомерием.
Ему предлагалось безоговорочно и окончательно упразднить англиканскую епископальную церковь, признать пресвитерианскую в соответствии с тем договором, который был подписан между шотландцами и английским парламентом. Его обязывали окончательно и безоговорочно запретить отправление папистских богослужений, везде и всюду, в том числе при дворе, что ставило в ложное положение королеву, которая была католичкой. Требовали, чтобы монарх повелел всем папистам воспитывать своих детей в новой вере. В течение ближайших двадцати лет его лишали права считаться главнокомандующим и назначать на руководящие посты генералов и офицеров. Эти права переходили к парламенту. Под его начало переходила не только сухопутная армия и морской флот, но и народное ополчение, которое в случае надобности созывалось в графствах и в городах. Кроме того, парламент исключал из амнистии семьдесят одного из его самых верных приверженцев, а всем тем, кто брался за оружие на его стороне, запрещалось занимать общественные должности и посты в государстве, впредь до решения этого вопроса парламентом.
С этими предложениями к королю направилась депутация из двух лордов и четырёх депутатов нижней палаты. Двадцать третьего июля они были приняты им. Король не изменил себе, видимо, не сознавая всей безнадёжности положения. Как только один из делегатов выступил вперёд, готовясь читать постановление обеих палат, он высокомерно его оборвал:
— Прошу меня извинить, мне надобно знать, имеете ли вы полномочия подписать договор.
Лорд Пемброк, глава депутации, вынужден был признать:
— Нет, государь, мы не имеем таких полномочий.
Ироническая улыбка пробежала по губам венценосца:
— Я не затрагиваю чести посольства, тем не менее не могу не сказать, что в таком случае вас могли бы заменить любым трубачом.
Делегаты были оскорблены, но исполнили долг: постановление парламента было прочитано.
— Надеюсь, вы не рассчитываете, что я тотчас дам вам ответ?
Делегаты уже были не те. Они представляли победившую сторону. Миновало время изъявления верноподданных чувств. Лорд Пемброк ответил спокойно:
— Дело слишком важное, ваше величество, так что нам запрещено оставаться здесь более десяти дней.
Карла не отрезвило и неожиданное поведение лорда, который всем видом показывал, что он не намерен идти на уступки, тем более потакать королевским капризам. Он ещё мог согласиться оставить парламенту на какое-то время армию, флот, ополчение, но ни под каким видом не мог уступить в вопросах религии.
Карл продолжал выдерживать тон неограниченного монарха:
— Хорошо, я отпущу вас в назначенный срок. А теперь можете покинуть меня, вы свободны.
Уже никто из придворных не сомневался в том, что ему предоставляется последняя возможность отступить и сохранить хотя бы половину власти. Все они на разные голоса советовали согласиться, но государь продолжал настаивать на своём.
На что он надеялся? На то, что представители нации перессорятся, тогда одна из сторон призовёт его без всяких условий; что ему на помощь со дня на день явятся ирландцы, французы, испанцы? Ему отвечали, что никто из них пока что не торопится его выручать, что высадка в Англии иностранных войск в сложившихся обстоятельствах была бы чудом. Подтверждение этих доводов не замедлило ждать. Французский посол, который обещал военную помощь твёрже других, теперь советовал, от имени своего правительства и от себя лично, смириться и примириться.
Король слушал, но не слышал, ждал чуда. Тогда прибегли к последнему средству: в Париже удалось убедить королеву, самую непримиримую противницу парламента и новой веры, что иного выхода нет. Она уговаривала Карла уступить в письмах, отправила в Ньюкасл одного из своих придворных, чтобы он передал от её имени и от имени французских друзей, что они смотрят на его упорство без одобрения и советуют идти на уступки.
Даже совет жены, которой он всегда доверял, не подействовал на него. При упоминании друзей государь поморщился и с некоторой брезгливостью спросил:
— Какие друзья?
Придворный склонил почтительно голову:
— Лорд Джермин, ваше величество.
Король покачал головой:
— Он не смыслит ничего в делах церкви.
— Лорд Колпеппер разделяет мнение лорда Джермина.
— Он человек неверующий.
Монарх помолчал, казалось, он колебался, наконец спросил:
— Что думает Хайд?
— Этого не знает никто. Канцлер казначейства не последовал за принцем в Париж. Он в Англии, вместо того чтобы ехать с ним к королеве. Королева оскорблена.
Карл пожевал губами:
— Напрасно. Канцлер человек честный, никогда не изменит ни мне, ни принцу, ни церкви. Я сожалею о том, что его нет при моём сыне.
Придворный королевы настаивал, его величество вышел из себя и в гневе прогнал его.
С просьбой о примирении к нему обратился городской совет Эдинбурга, этому последовали другие шотландские города, такое лее прошение готов был направить городской совет Лондона и не сделал это лишь потому, что последовал запрет из парламента.
И эти просьбы не действовали, как и все остальные.
Терпение начинало изменять даже роялистам. С разных сторон стали раздаваться угрозы. Собор шотландской церкви запретил государю въезд в Шотландию.
Уже и самый верный его сторонник, французский посланник, умыл руки.
Первого августа король призвал к себе делегатов парламента и вручил им ответ, изложенный письменно. Депутация поспешно отправилась в Лондон. Послание было прочитано на заседании нижней палаты. Монарх выражался так неопределённо, что невозможно было понять, отвергает он условия парламента или готов на них согласиться. Понятно было только одно: король требовал, чтобы перед ним открыли ворота Лондона и предоставили ему слово в парламенте.
Пресвитерианское большинство было возмущено. Индепенденты не находили себе места от радости. Кто-то из них закричал:
— Мы должны благодарить его величество!
Кто-то из пресвитериан в недоумении вопрошал:
— Что нам делать после того, как отвергнуты все наши условия?
Со скамей индепендентов раздался громкий вопрос:
— А что бы он сделал с нами после того, как принял бы ваши условия?
Десятого августа Кромвель писал Ферфаксу, что парламент готов был окончательно расколоться на враждебные партии, чего с нетерпением ждал пленённый король. Шотландцы нечаянно спасли положение. Упрямство Карла наконец надоело и им. Жалованья не платили, генералы не видели смысла держать солдат в Англии. В тот же день, десятого августа, в парламент поступило послание. Шотландцы предлагали сдать крепости и возвратиться на родину. Палата лордов без промедления приветствовала это и предложила изъявить благодарность братьям-шотландцам за ту помощь, которую они оказали делу английской свободы. В нижней палате вновь вспыхнули разногласия. Индепенденты не желали изъявлять никакой благодарности тем, кто принёс нетерпимость на английскую землю. Они отклонили предложение лордов. Тогда пресвитериане, небольшим большинством, добились решения, которым запрещалось дурно отзываться о шотландцах и печатать что-либо против них.
Противники готовы были примириться на этом. В сущности, всех устраивало решение шотландцев. Оставалось только решить, откуда взять деньги для выплаты жалованья, без которого те отказывались уйти, и как поступить с королём? Деньги надо было искать, а народ и без того роптал и нищал под гнетом налогов и тяжёлых акцизов, которые парламент учреждал на содержание армии, следовательно, вводить новые поборы было опасно. Опрометчиво было оставлять короля у шотландцев: там он мог набрать новую армию из пастухов и охотников горных кланов, которые не изменяли ему. Ещё хуже было потребовать его выдачи: в этом случае парламенту предстояло решать его участь.
Под видом выплаты жалованья, а в действительности в качестве выкупа за монарха шотландцы заломили громадную сумму в семьсот тысяч фунтов стерлингов. Но им и этого было мало. Они утверждали, что, оказывая помощь парламенту, они понесли большие убытки и надеялись, что парламент сам добросовестно посчитает эти убытки и честно расплатится с ними.
В стане индепендентов началось ликование. Вот, смеялись они в лицо своим смущённым противникам, ваши союзники, их призвали, вы подписали с ними договор о единообразии церковных обрядов, попирая евангельский принцип веротерпимости, расплачивайтесь теперь за ваши грехи!
Индепендентами были сельские хозяева, фермеры, торговые люди. Они умели считать и предъявили шотландцам свой счёт. В него вошли все те суммы, которые наёмники уже получили, и те убытки, которые понесли англичане от их поборов и грабежей. Вышла кругленькая сумма в четыреста тысяч фунтов стерлингов, то, что, по мнению индепендентов, должны выплатить шотландцы парламенту, прежде чем покинуть английскую землю.
Намного труднее оказалось разрешить неприятный вопрос о том, что же делать с этим упрямым, несговорчивым королём? Пресвитериане тайно желали, чтобы он так и оставался в плену у шотландцев, лишь бы не брать на себя ответственность. Правда, столь крамольного желания вслух никто не высказывал: при таком повороте событий не могла не возмутиться национальная гордость, тогда как Англия и без того была неспокойна.
Представители нации возобновили переговоры с шотландцами. Упрямство и несговорчивость короля уже настолько осточертели шотландцам, что они были готовы выдать его англичанам. Дело останавливалось за суммой, которую они требовали за эту услугу. Грязный торг не смущал ни ту, ни другую сторону борцов за новую церковь, свободу личности, собственности и предпринимательства. Они сражались за каждый пенс, и спор затянулся на несколько месяцев.
3
Кромвель не участвовал в этом. За свои заслуги перед отечеством он получил земли лорда Винчестера, которые ежегодно давали предположительно две с половиной тысячи фунтов стерлингов. Это было не самое крупное вознаграждение. Только Питер Киллигрю получил меньше него: дарованные ему земли давали около двух тысяч фунтов стерлингов в год. Томас Ферфакс как главнокомандующий и талантливый полководец и Уильям Брертон, значительно уступавший Кромвелю и талантом и энергией, были награждены доходами в пять тысяч фунтов стерлингов в год, то есть в два раза больше, чем Кромвель.
Оливер не обижался и не роптал. Отныне, вместе с доходом, который давали его земли в Или, полученные по наследству, он мог располагать тремя тысячами фунтов стерлингов в год. В сравнении с тем, что ему оставил отец, генерал считал себя богачом.
Похоже, он и не особенно радовался неожиданному богатству. После постоянного, ежедневного напряжения гражданской войны, всегда верхом на коне, с ночами без сна, жизнь стала казаться праздной и внезапно утратила смысл и цель, дух был смятен. Он возвратился на скамью депутата, но парламент стал ему чужд, ему там не было места. Ещё вчера одного движения его руки было достаточно, чтобы тысячи людей рванулись в атаку и ценой своей жизни добились победы, а теперь его не слушал никто, да и, правду сказать, Кромвель пока сам не знал, что сказать.
Он сражался за общее дело, а общего дела не оказалось. На скамьях депутатов царило недоверие, подозрительность, злоба. Всё перепуталось. Пресвитериане и индепенденты ненавидели друг друга. Кромвель с горечью признавался Ферфаксу:
«Мы полны всяческой мерзости».
Он видел, что горожане Лондона, на которых главным образом опирался парламент, устали и жаждали любого мира. Его беспокоила армия, в которой зарождались подводные течения и действовали тёмные силы, которые были не только неподвластны, но и непонятны ему. Как полководец, он чувствовал опасность со всех сторон, не для себя, но для Англии, за процветание и свободу которой генерал готов был отдать жизнь. На севере суровые и озлобленные шотландцы ждали только подходящего случая, чтобы возобновить вековечную вражду двух соседних народов, столетия подряд воевавших друг с другом. Не меньше опасений вызывала Ирландия, отчасти протестантская, отчасти папистская, в любую минуту готовая прийти на помощь либо королю, либо парламенту, в зависимости оттого, кто больше заплатит или пообещает ей независимость.
Наконец, в полное недоумение приводило его положение монарха, разбитого в сражениях, потерявшего все армии, но держащегося с достоинством, продолжающегося отстаивать религию, корону, честь, власть.
Кромвель страдал, был одинок. В сущности, за эти годы он очень устал и хотел отдохнуть. Он отправился в Или, к детям, к жене, которых не видел давно. Элизабет постарела и тоже устала. Все эти тревожные, бурные годы она занималась хозяйством, довольно обширным, и воспитывала детей.
Ему были рады тихой радостью благополучных, сытых людей. Генерал отдыхал. С утра, как и прежде, верхом отправлялся в поля и луга, осматривал земли и скот. Вечерами, поужинав, как когда-то отец, раскрывал потёртую домашнюю Библию и спокойно, медленно, вдумчиво прочитывал очередную главу, точно в жизни его не случилось никаких перемен, толковал тексты, как это делал отец, задавал вопросы выросшим детям, как привык задавать их солдатам поздним вечером у костра. Он был доволен: Элизабет воспитала детей в той простой твёрдой верой, в какой был воспитан сам. Они не только слушали, как и что он читал, а задавали вопросы и сами искали ответы. Глава семейства одобрительно говорил:
— Быть тем, кто ищет, почти то же самое, что найти. Кто раз стал искать, тот не успокоится никогда. Счастлив тот, кто нашёл, но счастливы также и ищущие.
Бриджет, его старшей дочери, уже исполнилось двадцать два года. Она была набожной, застенчивой девушкой, очень похожей на мать. Отец нашёл ей жениха. Своим будущим зятем он выбрал своего боевого товарища Генриха Айртона. Ему было тридцать два года. Генрих был сыном небогатых родителей, как и сам Кромвель, однако, в отличие от него, прошёл полный курс обучения в Оксфорде, прочно овладел юридическими знаниями и даже читал лекции в Линкольн-Инне, но так и не стал теоретиком. У него был живой, но практический ум. На юридическом поприще ему было тесно. Он, как и Кромвель, нашёл себя на полях сражений гражданской войны. Айртон и на скамье депутата обнаружил ясность убеждений, твёрдость принципов и такой темперамент, что многие находили его похожим на Кассия[20]. В битве он был ловок и храбр, в совете спокоен и мудр и весь отдавался общему делу, за которое сражался под командованием своего старшего друга. Но самое удивительное было именно то, что при таких дарованиях Генрих оставался бескорыстным и скромным, покладистым и способным, когда понадобится, отойти в тень. В общем, лучшего мужа и зятя трудно было найти.
Эта забота свалилась с плеч, но было и другое. Кромвель перестал командовать армией, но по-прежнему оставался депутатом парламента и не собирался снимать с себя своих полномочий, каким бы неопределённым ни было его положение. Его приводило в негодование отношение парламента к армии. Он не мог покинуть её на произвол судьбы. Генерал предчувствовал новые битвы и должен был возвратиться в Вестминстер.
Было решено, что семья оставит Или и переселится в Лондон. Перед отъездом необходимо было привести в порядок дела. Оливер не хотел продавать эти земли. Они должны были перейти по наследству к сыновьям, может быть, к Ричарду, который уже начал разводить здесь лошадей. Ему предстояло договориться с соседями и найти управляющего. Кромвель с утра до вечера находился в разъездах, вдыхая чистый воздух этих мирных полей, то закрытых туманом, то омываемых мелким дождём.
Он наслаждался, но недолго; генерал был уже очень известен в этом краю. С ним охотно беседовали о самых простых, житейских, насущных делах, обращались за помощью, несли обиды и жалобы. День ото дня Оливер становился мрачней. Война разорила и без того не богатых горожан и крестьян. Солдаты ели хлеб, забирали фураж. Его подчинённые платили за всё, он строго соблюдал это правило. Воины Манчестера, Уоллера, Эссекса нередко грабили селения и отдельно стоящие фермы, а деньги оставляли себе. Однако чуть ли не разорительней были налоги, которые парламент вводил, чтобы покрыть расходы на армию.
Так было во время войны. Ещё хуже становилось в мирное время. Крупные землевладельцы спешили возвратиться в усадьбы и замки. Одни сражались на стороне короля, сложили оружие и получили амнистию, другие — за парламент: торговцы и финансисты, депутаты и офицеры, купившие или получившие земли в награду. Всех их тоже разорила война, и они спешили поправить своё положение за счёт своих арендаторов, а монархисты ещё и мстили им за то, что проиграли войну. Арендная плата неудержимо росла. Неплательщиков и неугодных крестьян сгоняли с земли, чтобы развести побольше коров и овец, которые по-прежнему составляли истинное золото Англии. Хуже всего было то, что эти бедные люди, притеснённые или изгнанные, в большинстве своём были пуританами, индепендентами, а владельцы земли придерживались пресвитерианства или оставались верными епископальной церкви, несмотря на то что парламент её запретил. Таким образом, ко всем прочим бедам присоединялось гонение на их веру.
Возмущённые люди приходили, с угрозами или в слезах. Они не в силах были понять, за какие грехи наказал их Господь этими новыми кровопийцами, ведь они защищали правое дело, отдавали хлеб и теряли сыновей. Этого он тоже не понимал, был растерян и не знал, что ему делать; только чувствовал, что в недрах английской земли зреют такие тёмные силы, которые, если прорвутся наружу, сметут прочь то общее дело, за которое только что шли в бой. Кромвель посещал окрестные усадьбы и замки, беседовал с землевладельцами, независимо оттого, на чьей стороне сражались они, говорил о воле Господа, о любви к ближнему, о необходимости быть милосердными к меньшим братьям своим, о свободе вероисповедания. Это не помогало.
Кромвель возвратился в Лондон расстроенный, огорчённый, разбитый, привёз старую мать, жену и младших детей. Семья поселилась на Друри-Лейн, между Вестминстером, центром политики, и финансовым Сити, вблизи трактира с грозным названием «Красный лев».
Не успел генерал пройти сквозь решётку нижней палаты и сесть на скамью, как лишний раз убедился, что на его долю выпало смутное время и что всеобщее озлобление, казалось, достигло предела. На этот раз всеобщее озлобление вызвал король. С каждым днём и шотландцам и представителям нации становилось всё очевидней, что с монархом ни о чём договориться нельзя. Он недальновиден, лишён политического чутья, непостоянен и двоедушен, непоследователен и лжив, коварен и в то же время наивен, самоуверен, несамостоятелен до того, что не в силах принять самого простого решения, не получив совета жены, жившей во Франции. Карл продолжал строить козни, одновременно вёл тайные переговоры с индепендентами, католиками и шотландскими пресвитерианами, ничего не обещая, не соглашаясь ни в чём.
Наконец ирландская история всех доконала. Король не нашёл ничего лучшего, как наделить неограниченными полномочиями своего представителя, лишь бы тот как можно скорей привёл ему на помощь ирландскую армию. Этот человек был закоренелым католиком и наивнейшим простаком, о чём монарх, может быть, даже и знал. Его рвение дошло до того, что он заключил с ирландскими католиками секретный договор, который обещал им всё, о чём они могли только мечтать: отмену всех законов, которыми запрещался католический культ, католикам возвращались церкви, а церквям возвращались земли, которыми протестанты владели со времён королевы Елизаветы.
Договор стал известен и отправлен в Вестминстер, представитель короля был арестован и предан суду. Этот документ мог означать только одно: полное разорение, если не истребление, протестантов в Ирландии.
В Вестминстере всё ещё не было никого, кто бы оспаривал монархический образ правления, однако возмущение было так велико, что даже пресвитериане открыто заговорили о том, что отныне Карл Стюарт окончательно погиб в их глазах. Двадцать третьего декабря обе палаты подписали условия, на которых шотландская армия должна была выйти из Англии и передать короля в руки парламента. Под видом выплаты жалованья солдатам шотландцы должны были получить четыреста тысяч фунтов стерлингов. В Сити был запрошен новый заем. Половина суммы была предоставлена парламенту без промедления, с тем чтобы в скором времени предоставить другую.
Громадное количество монет сложили в двести ящиков, по тысяче фунтов в каждом, ящики погрузили на тридцать шесть телег, для охраны обозу придали отряд пехотинцев, которому объявили, что каждый офицер или солдат, словом или делом оскорбивший шотландца, будет подвергнут суровому наказанию. Первого января обоз прибыл в Йорк. Шотландцы, которым надоело торчать без дела в недружественной стране, на радостях встретили долгожданный обоз салютом из пушек. Две недели спустя шотландские генералы получили деньги сполна. Обе стороны подписали окончательный документ. В договоре ни слова не говорилось о короле, однако именно с этого дня шотландцы передавали его величество в руки парламента и приступили к выводу своих отрядов из Англии.
Парламент встретил это известие без особого ликования. Куда направить государя? Как с ним поступить? Первый вопрос разрешился довольно легко. На заседании обеих палат постановили отправить Карла в замок Холмби и держать под домашним арестом. Второй вопрос тотчас вызвал жаркие споры. Разногласия вспыхнули с первого шага: направить ли в Ньюкасл депутацию и приветствовать его должным образом или потребовать, чтобы шотландцы просто-напросто сдали его в руки английской охраны вместе с квитанцией о получении денег? Пресвитериане настаивали на первом решении, индепенденты стояли горой за второе. Пресвитерианам удалось выиграть эту новую битву. В Ньюкасл была направлена депутация из трёх лордов и шести представителей нации. Их сопровождала пышная свита. Купленного короля должны были встретить с должным почтением.
Карл играл в шахматы, когда ему сообщили, что он должен следовать в Холмби. Он доиграл партию и только сказал, что объявит парламентской депутации свою волю, как только она прибудет в Ньюкасл. Сам государь казался спокойным, точно всё ещё надеялся на неожиданный благополучный исход. Его приближённые измысливали способ побега. Народ волновался. Когда во время богослужения проповедник назначил для пения псалом «Что хвалишися, во злобе сильне; беззаконие весь день», король вдруг запел: «Помилуй мя, Господи, попраша мя врази мои весь день, яко мнози борющий мя с высоты».
Единое чувство охватило молящихся. С печалью они подхватили псалом и допели его до конца.
Это сочувствие уже не могло спасти монарха. Депутация прибыла двадцать третьего января. Королю доложили. Он только сказал:
— Я куплен и продан.
Принял делегатов без тени страха и раздражения, весело разговаривал с ним, осведомился о состоянии дорог, всем видом показывал, что готов сблизиться, если не примириться, с парламентом. Накануне отъезда шотландцы ещё раз предложили ему признать пресвитерианскую церковь, обещая выхлопотать более выгодные условия. Девятого февраля государь покинул Ньюкасл в сопровождении полка кавалерии. Колонна двигалась медленно. Города по собственному почину встречали её праздничным перезвоном колоколов, салютом из пушек. Всюду спешно съезжавшиеся дворяне и лорды радостно возглашали: «Боже, храни короля!» Вдоль дороги толпился народ. К королю приводили больных и ставили их как можно ближе к дверцам кареты, в надежде, что он, выходя, коснётся их и к ним возвратится здоровье. Делегаты парламента в страхе запретили эти сборища, но народ их не слушал, а они не решились применить силу, чтобы разгонять непокорных людей.
Когда неторопливое шествие приблизилось к Ноттингэму, главной квартире армии нового образца, главнокомандующий Томас Ферфакс выехал во главе свиты навстречу, сошёл с лошади, как только увидел карету, поцеловал царственную руку, вновь сел верхом и сопровождал его через город. Карл нашёл, что Ферфакс, много раз побивавший его на поле сражения, человек благородный.
Шестнадцатого февраля его величество прибыл в Холмби. Его встречала толпа местных дворян и горожан. Встреча была настолько торжественной, что в парламенте возникла растерянность и беспокойство, как бы народ не потребовал освободить короля.
Этого не произошло, и тревога скоро прошла.
4
Оливер Кромвель не участвовал в совершении этой предосудительной сделки. Пленение короля было логическим завершением гражданской войны, однако было ниже его достоинства торговаться с шотландцами, тем более он не считал возможным выкупать у них пленника, скорее готов был отбить его силой. Судьба армии заботила и тревожила генерала всё это время. Когда торговцы и финансисты из Сити новой петицией потребовали распустить войско, ссылаясь на то, что оно стало прибежищем еретиков, он ещё нашёл в себе силы обратиться к Ферфаксу с письмом:
«Какой удар по армии будет нанесён этим требованием, вы сможете понять по масштабам его...»
Удар представлялся громадным, сокрушительным, непоправимым. Кромвель чувствовал себя бессильным что-либо сделать для защиты своего детища, ещё не видел причин для новой гражданской войны, но, может быть, уже предчувствовал, обладая верным чутьём полководца, что она неизбежна. Что же станет делать парламент без армии для защиты общего дела?
Душевные силы истощились, как не раз бывало, когда необходимость действия была очевидна, а он не знал, как, с кем воевать, в какую сторону направить удар. Он заболел. Страшные головные боли изводили его. Доктора обнаружили на голове не то опухоль, не то что-то вроде большого нарыва. Положение больного представлялось им безнадёжным. Кромвель готовился к смерти.
И на этот раз его спасли обстоятельства, готовые в тупой ярости смести, разрушить всё то, что за эти годы было создано. Король надёжно был спрятан в Холмби. Народ успокоился. В Вестминстере ликовали. Для большинства представителей нации закончилась не только гражданская война, завершилась и революция, которую они начали, когда собрались в Долгом парламенте. Оставалось утрясти кое-какие подробности будущего политического устройства страны.
И финансисты, и лорды, и пресвитерианское большинство готовы были устроить королю торжественную встречу в Лондоне и возвращение в Уайт-холл, если он передаст им командование ополчением на несколько лет и не станет возражать против новой, то есть пресвитерианской церкви. Разумеется, после этого его величеству предстояло признать верховенство парламента.
Многие индепенденты, которых вскоре стали называть грандами, принимали эту программу. Они тоже считали, что только парламент, избранный нацией, имеет полномочия говорить от её имени; не возражали даже против пресвитерианского устройства церкви, на том условии, что будет допущена веротерпимость в отношении тех, кто откажется это устройство признать. Однако в глазах короля, в полном согласии с законами страны, эти люди оставались мятежниками, а потому они требовали амнистии всем, кто на стороне парламента участвовал в гражданской войне. Таким образом, в парламенте складывалось то большинство, которое могло обеспечить пресвитерианам чуть ли не любое решение.
Пресвитерианам представилось, что отныне они могут делать всё, что захотят, и в этом была их непоправимая, стратегическая ошибка. В первую очередь им захотелось немедленно и бесповоротно избавиться от врагов, а главным врагом была армия. Армия должна быть распущена, и так, чтобы впредь уже не могла возродиться.
Отчасти это стремление не было прихотью. Армия стоила дорого. Ежегодно около шестисот тысяч фунтов стерлингов частью тратилось на её содержание, частью разворовывалось поставщиками и армейскими комиссарами из представителей нации. Многие из них, разумеется, были не прочь продолжать воровать, но эти суммы составлялись из тяжёлых налогов, которые далеко превосходили налоги, когда-то вводимые королём. Налогоплательщики начинали роптать. Война окончилась, они больше не видели смысла в этих поборах, к тому же положение их стремительно ухудшалось. К несчастью, урожай прошедшего года уничтожила засуха. Цены на пшеницу, рожь, горох и овёс выросли вдвое. Мастеровые в городах голодали. Арендаторы оставались без денег, не могли платить за аренду, массами возвращали свои участки землевладельцам и бежали в город в поисках выхода, но выхода не было, число безработных росло, а с ним росло недовольство, готовое в один ненастный день смести не только армию, но и парламент.
Роспуска армии требовал здравый смысл и забота о безопасности. Если бы пресвитериане следовали только здравому смыслу, армию было довольно легко сделать. Достаточно было объявить амнистию и выплатить жалованье, задержанное пехоте за восемнадцать, по другим данным, за восемьдесят недель, а кавалерии за сорок три недели, всего около трёхсот тридцати тысяч фунтов стерлингов. В таком случае солдаты лишались оснований для недовольства. Однако жажда мести сжигала пресвитериан, им не терпелось расправиться с противниками по вере. К этому присоединялась низменная страстишка в последний раз погреть руки на армейских расходах и прикарманить эти триста тридцать тысяч фунтов стерлингов, которые надлежало выдать солдатам.
Они заспешили. Девятнадцатого февраля 1647 года было принято большинством голосов необдуманное, явно ошибочное решение. Армия распускалась. Из сорока тысяч кавалеристов на службе не могло оставаться более шести тысяч четырёхсот человек, к ним прибавлялось десять тысяч пехоты, и всем им предписывалось рассредоточиться по гарнизонам, где их ожидало прозябание в караулах и в полном безделье. Из оставшихся солдат набиралось двенадцать тысяч добровольцев для службы в Ирландии. Пресвитериане торопились сплавить туда всех недовольных, и это было ещё более непоправимой и грубой ошибкой. В головокружении от успехов, они поверили королю, который отдал своему наместнику графу Ормонду приказ передать Дублин парламентской армии. Им представлялось, что монарх побеждён, сломлен и они держат его в руках, а Карл намеренно втягивал парламент в длительную, почти безысходную войну с католическими повстанцами, в надежде под шумок поднять восстание своих сторонников против оставшегося без защиты парламента.
Даже эти очевидные глупости могли бы сойти парламенту с рук. Но парламентское большинство не остановилось на них. Все индепенденты безусловно увольнялись из армии, даже в Ирландию им разрешалось отправиться только в том случае, если они признают пресвитерианскую церковь. О задержанном жалованье в решении не говорилось ни слова. Ничего не говорилось ни об амнистии, ни о пенсиях сиротам и вдовам, которые в ходе гражданской войны потеряли кормильцев. А пока армии запрещалось приближаться к столице ближе, чем на двадцать пять миль.
На что рассчитывали эти простаки? Неужели могли думать, что тридцать-сорок тысяч вооружённых людей, закалённых в боях, спокойно разойдутся по домам, разорённым войной, без средств к существованию, под угрозой, что завтра за ними придут, арестуют и предадут суду за преступления, совершенные в ходе войны?
Кромвель был потрясён. Армии было нанесено оскорбление, как будто не она защитила парламент, но была единственной причиной всех несогласий и неустройств в королевстве. Он предвидел верным чутьём, которое обострялось у него в миг опасности, что многие солдаты и офицеры не станут подчиняться, ведь он сам научил их думать самостоятельно, привил чувство свободы.
Его здоровье быстро пошло на поправку. Генерал мог прогуливаться в парке, окружавшем Вестминстер. В эти дни он часто встречался с Эдмундом Ледлоу, полковником, сыном Генриха Ледлоу, одного из активнейших борцов, жаловался ему:
— Если бы сейчас был жив твой отец, то заставил бы их выслушать, чего они заслуживают. Ведь это унизительно — служить такому парламенту! Пусть ты был предан ему как никто другой, но если какой-нибудь узколобый парень или законник встанет там и очернит тебя, ты во всю жизнь не отмоешься. Не то в армии. Если верно служишь своему генералу, можешь не меньше приносить пользы да сверх того свободен от зависти и любых обвинений. Твой покойный отец много мог бы рассказать о проделках этих господ.
Только вера в Господа поддерживала его. Кромвель не уставал повторять:
«Наше утешение в том, что Господь на небесах. Его и только Его указания останутся в силе...»
Головные боли одолевали, но он читал Библию с ещё большим вниманием и усердно молился. И чудо свершилось. Вопреки приговору лондонских лекарей Оливер поднялся с одра и вскоре был совершенно здоров. Он не сомневался, что одно великодушие Господа и на этот раз излечило его.
Но не торопился возвратиться в парламент. Что ему было делать там? Депутаты продолжали стоять на своём, но и солдаты, скованные дисциплиной, осмысленно читавшие Библию, которая полна была опасными мыслями, уже не походили на стадо баранов. Они были убеждены, что рисковали жизнью и проливали свою кровь за святое дело, и требовали отдать им то, что полагалось. Воины не расходились и не желали отправляться в Ирландию: добровольцев среди них набралось не более двух тысяч, тогда как требовалось двенадцать.
Поток событий решал за него. Не успели комиссары парламента появиться в главной квартире, чтобы обсудить порядок и время роспуска и набора в ирландскую армию, как им вручили петицию. В ней выражались: преданность делу парламента и просьба немедленной выплаты жалованья, амнистии за участие в гражданской войне, пенсий для солдат, получивших увечье, а также для солдатских вдов и сирот, отмены принудительного набора в Ирландию. Петицию подписали виднейшие соратники Кромвеля, и его зять Генрих Айртон, генерал-комиссар кавалерии, был среди них.
Теперь Кромвель не имел права сидеть сложа руки, тотчас явился в парламент и присутствовал на обсуждении. Представители нации встретили её довольно умеренно, даже выразили благодарность её составителям, но объявили при этом, что никто не имеет права чего-либо требовать или давать советы депутатам. Мало кто сомневался, что армия действительно хранит верность парламенту и выполнит любые его повеления. Те, кто сомневался, смотрели на Кромвеля, уверенные в том, что он, пребывая всё это время в Лондоне, продолжает руководить войском и что петиция составлена по его указаниям. Генерал поднялся, ещё бледный после тяжёлой болезни, и объявил:
— В присутствии всемогущего Господа я утверждаю, что армия разойдётся и сложит оружие у ваших дверей, как только вы ей это прикажете.
Это не было лицемерием.
Заявление парламента нельзя было назвать иначе, как фарисейским. Полки возмутились. Тотчас была составлена другая петиция, на этот раз от имени всех офицеров и солдат. Её проект читали перед полками офицерам, которые отказывались её подписать, грозили расправой. Она требовала от парламента удовлетворить законные права армии, воевавшей за правое дело. Главная же угроза парламенту была в том, что петиция передана была в руки главнокомандующего Ферфакса, считавшегося представителем и защитником прав воинов.
Парламенту пора было остановиться и подумать. Превратив Ферфакса в посредника, армия давала понять, что уже не испытывает желания иметь дело с парламентом. Наступал момент, когда благоразумнее было смягчиться и пойти на уступки.
Однако после победы над королём представители нации утратили способность видеть опасность, как ни была она очевидна. Они пошли напролом. Ферфаксу запретили принимать петицию и повелели впредь пресекать все попытки новых сборищ и новых петиций. Парламент объявил, что каждый, кто примет участие в беспорядках, будет считаться врагом государства и нарушителем общественного спокойствия. Депутаты вызвали в парламент для разбирательства делегацию офицеров.
Первого апреля четверо офицеров явились в Вестминстер и предстали перед решёткой нижней палаты. На заслуженных воинов набросились с обвинениями. Им ставили в вину, что они допустили чтение петиции перед полками. На самом деле её проект читан был на собраниях рот, и один из них дерзко ответил:
— Неправда, он не был читан перед полком.
Депутаты не нашлись, в чём ещё обвинить призванных офицеров. Они были отпущены. В разгоревшихся спорах было принято половинчатое решение, которое всегда хуже бездействия. С одной стороны, представители нации согласились выплатить своим защитникам нечто вроде выходного пособия из расчёта жалованья за шесть недель. Денег, разумеется, не было. Вновь пришлось просить в долг у финансистов. В Сити согласились дать не более двухсот тысяч фунтов стерлингов, но там только что выдали такую же сумму для уплаты шотландцам за короля и потому не могли собрать её сразу. Тогда предложили ввести, сроком на один год, новый налог, по шестьдесят тысяч фунтов стерлингов ежемесячно. Предложение было принято только в предварительной форме. Новый налог должен был вызвать возмущение и без того обедневшего населения и потому пока что не был окончательно утверждён.
Финансовые затруднения тоже не образумили парламентариев. От армии решили просто избавиться, без промедления отправив в Ирландию. Назначались новые командиры, всем участникам экспедиции были обещаны льготы и выгоды, правда, гипотетические, поскольку парламент не располагал никакими средствами. В главную квартиру были направлены пять комиссаров, которым предстояло набирать добровольцев.
Они прибыли пятнадцатого апреля. Ферфакс собрал своих офицеров. Комиссары ознакомили их с предписаниями парламента. Среди офицеров поднялось возмущение. Комиссаров забрасывали вопросами, на которые те не могли вразумительно отвечать:
— Кто будет командовать нами в Ирландии?
— Парламентом назначены два генерала, Скиппон и Масси.
— Хорошо, мы готовы принять своим начальником Скиппона, ценим его выдающиеся воинские заслуги. Но мы требуем, чтобы вместе с ним нами командовали те генералы, в способностях которых мы не раз убеждались на деле.
— Да, давайте их всех!
— Давайте нам Ферфакса и Кромвеля, с ними все мы охотно пойдём!
Комиссары смутились. Не зная, что предпринять, они вышли, пригласив негодующих офицеров к себе. На приглашение откликнулось не более двенадцати человек. Остальные разошлись, однако возмущение возрастало. Они принялись составлять новое заявление для парламента. В армии начинался разброд. Солдаты отделялись от офицеров, что грозило полным падением дисциплины, после чего неизбежна анархия, чрезвычайно опасная, когда она распространяется в среде вооружённых людей. Солдаты избирали от каждой роты под два представителя, которых стали именовать агитаторами. Агитаторы образовали совет и принялись со своей стороны сочинять заявление для парламента. В результате парламент получил одно за другим два заявления. Заявление офицеров было прочитано на заседании нижней палаты. В нём говорилось:
«Вступив на военную службу, мы не перестали быть гражданами. Встав на защиту тех прав, которыми ограждается свобода отечества, мы не можем сами идти под иго рабства. Между тем нам запрещают подавать прошения, в которых мы выражаем наши требования, а жалобы, которые поступают из разных графств, не только принимают, но и одобряют. С нами обходятся, как с врагами отечества. Мы надеемся, что это обвинение будет снято и что до роспуска армии нам будут даны гарантии безопасности и уплаты жалованья».
Следом в Лондон явилось трое солдат. Они передали Скиппону своё заявление. В нём восемь кавалерийских полков, самых боеспособных во всей парламентской армии, которыми во время войны командовали Кромвель, Ферфакс, Айртон, Флитвуд, Рич, Батлер, Уолли и Шеффилд, отказывались от похода в Ирландию. Это заявление также было прочитано на заседании нижней палаты:
«Нам коварно расставляют сети, ищут только предлога, чтобы удалить офицеров, которых любят солдаты, потворствуют нескольким честолюбцам, которые долго были рабами, а теперь вкусили власти и готовы превратиться в тиранов, чтобы сделаться нашими повелителями».
Это был громкий сигнал. Если офицеры всего лишь просили гарантий, солдаты обвиняли депутатов в честолюбии, в стремлении установить новую тиранию, лишь бы сохранить власть.
Представители нации возмутились. Эту ни в чём не повинную троицу, всего лишь парламентёров от массы солдат, они потребовали к ответу. Солдаты бестрепетно встали перед решёткой нижней палаты. Председатель начал допрос:
— Где сочинили это письмо?
— В собрании полков.
— Кто его написал?
— Представители, выбранные в каждом полку.
— Оно было одобрено вашими офицерами?
— Немногие из них даже знают об этом.
— Знаете ли вы, что только сторонники короля могли выкинуть подобную выходку? Не принадлежали ли вы к кавалерам когда-нибудь сами?
— Мы поступили на службу парламенту ещё до сражения при Эджхилле и с тех пор не оставляли её.
Тут один из них вышел вперёд:
— В одном сражении я получил пять ранений. Я упал. Генерал Скиппон подошёл ко мне и дал мне пять шиллингов, чтобы я мог найти себе скорую помощь. Пусть генерал теперь скажет, сказал ли я правду.
Скиппон поднялся и подтвердил:
— Да, он не солгал.
Председатель наконец подошёл к самому главному:
— Что значит то место, где вы говорите о каких-то тиранах?
— Мы делегаты от наших полков. Если вам будет угодно дать письменные запросы, то мы доставим их в наши полки и принесём вам ответ.
Солдаты отвечали независимо и достойно, что приняли за дерзость. В зале поднялся беспорядочный шум, раздавались угрозы. Казалось, один Кромвель понял, что означала эта независимость и чем угрожало это достоинство. Он склонился к уху Эдмунда Ледлоу и прошептал: «Этот народ до тех пор не угомонится, пока армия не схватит их за уши и не выбросит их вон из парламента».
Нижняя палата не шла ни на какие уступки, но поручила Кромвелю, Айртону, Скиппону, Ферфаксу и другим генералам, которые пользовались доверием у военных, восстановить порядок и добиться повиновения. В начале мая Кромвель и его боевые соратники прибыли к армии. Кромвель её не узнал. Раскол между офицерами и солдатами был очевиден. Армией командовал уже не Ферфакс, а два совета, совет офицеров и совет агитаторов, причём офицеры были растеряны, а солдаты сплочены в единое целое. Когда их совет собирался, в полках собирали по четыре пенса с солдата на его содержание.
Благодаря этому дисциплина ещё не упала, но брожение в умах уже началось. Библия была отложена в сторону. Солдаты зачитывались памфлетами Лильберна и его верных последователей. Эти сочинения расходились цитатами. В глазах солдат они стали статьями законов. Теперь они не проводили время за толкованием Библии и не пели псалмов, а о том, что высшая власть в государстве принадлежит самой нации, что её представители не должны забывать, что они только избраны на определённый срок и потому должны делать не то, что им хочется, а то, что несёт благо всем.
Кромвелю нетрудно было понять, что солдатская масса склонялась к республике. Он не был республиканцем и не мог допустить, чтобы его солдаты попытались свергнуть короля и учредить в Англии республиканскую форму правления. Однако видел, что тут нельзя идти напролом, как это делал парламент, что силой тут ничего не добьёшься. Сначала было необходимо образумить и сплотить офицеров, а потом восстановить их авторитет и ту власть, которая была у них, когда он ими командовал, и которую они потеряли так быстро и так неразумно.
И генерал собрал совещание офицеров в тихом городке Сафрон Уолден. Он предложил вести заседание Скиппону, а сам сидел рядом и долго молчал. Офицеров было около двухсот человек. Они были возбуждены и кричали. Каждый спешил высказаться, никто не слушал товарища по оружию. В этой неразберихе Скиппон пытался навести хоть какой-то порядок. Он то и дело одёргивал самых зарвавшихся крикунов и беспомощно повторял:
— Да выслушайте же друг друга, милорды!
Кромвель слушал внимательно. Требования были всё те же: жалованье, амнистия, пенсии. Новым было только одно: они требовали восстановить своё право на подачу петиций, которое парламент так глупо поспешил отменить. Это были законные требования. Возразить на них было нечего. Генерал поднялся, и шум постепенно утих. Он дал честное слово, что парламент выплатит деньги, для начала за две недели, но видел, что главное было не в этом. Его офицеры потеряли себя и забыли свой долг. И Кромвель стал говорить о том, в чём состоит этот долг. Они должны помнить, что они все на виду и что солдаты берут с них пример, им не следует забывать, что именно парламент наделил их полномочиями и что по этой причине они должны хранить верность парламенту, их обязанность внушать воинам, что необходимо повиноваться властям, ибо если в стране наступит анархия, то из этого не получится ничего, кроме беспорядков и безобразий.
Офицеры успокоились и разошлись, однако в армии мало что изменилось. Совет офицеров собирался снова и снова, а решить ничего не мог, пока своё мнение не выскажет совет агитаторов, а совет агитаторов не мог высказать своего мнения, пока сами агитаторами не посовещаются с солдатами, которые выбрали их. Анархия уже началась. Кромвель отправлял председателю нижней палаты письмо за письмом. Его письма становились всё озабоченней, всё тревожней. Он признавался, что истощил все средства для усмирения армии и ничего не добился, наблюдал, как с каждым днём падает его прежде безоговорочный авторитет, не мог не понимать, что ещё несколько недель, может быть, дней, и он сам сделается в глазах солдат подозрительным и ненавистным.
Ему оставалось только выполнить данное слово, ведь он любил повторять, что появился на свет и всегда оставался джентльменом. Генерал возвратился в Вестминстер, считая себя представителем армии в нижней палате и полагая своим долгом защищать её интересы, но его уже не слушал никто.
Представители нации совершали глупость за глупостью. Им вообразилось, что они смогут противостоять вышедшей из повиновения армии. Своим постановлением они сместили командиров народного ополчения, которые были индепендентами. Их место заняли пресвитериане, преданные парламенту. Все входы и выходы из Вестминстера охранялись усиленной стражей. Двенадцать тысяч фунтов стерлингов было прибавлено на её содержание. В Лондоне собрались офицеры распущенной армии Эссекса и выражали готовность встать на защиту парламента. Уоллер и Масси горели желанием встать во главе.
Это было не только глупо, но и смешно. Ремесленники, торговцы и безработные Лондона во главе с кучкой плохих офицеров, не раз битых кавалерами в армии Эссекса, рассчитывали противостоять десяткам тысяч победоносных солдат. В нижней и верхней палате парламента возник химерический план. Они намеревались вновь призвать отряды шотландцев, собрать рассеявшихся по стране монархистов, присоединить их к народному ополчению, поставить во главе этого нового воинства короля.
Дело оставалось за государем. Его необходимо было перетащить на сторону пресвитерианского большинства. Казалось, пресвитериане делали для этого достаточно. Они содержали монарха хоть и под стражей, но роскошно, ему отдавали все королевские почести, к нему относились с почтением и слушали его, преклонив колено. Чего бы ещё?
Однако всё это было всего-навсего соблюдение внешних приличий. По существу же пресвитериане обращались с высочайшей особой грубо, а порой и бесчеловечно, удалили всех преданных слуг и самых верных придворных, что ещё можно было объяснить соблюдением безопасности, запретили переписку с королевой.
Этого, по мнению пресвитериан, было мало. Карла лишили возможности видеть детей, а главное, права исповедовать англиканскую веру, которой он оставался верен, несмотря ни на что. Сколько узник ни просил, его лишали обедни и не допускали к нему капелланов. Напротив, приставили двух проповедников пресвитерианского толка, отправлявших службы по пресвитерианскому образцу. Король постоянно отказывался присутствовать при этом кощунстве, каким было пресвитерианство, по его убеждениям, и потому оставался без богослужения, что было для него самым тяжким лишением.
На что же рассчитывали представители нации, оскверняя и насилуя его веру. Они предполагали в своём заблуждении, что пленнику просто-напросто некуда деться, ведь рано или поздно он должен понять, что у него и у парламента один враг и что признание пресвитерианства господствующей религией остаётся для него единственным средством спасения.
Его только приманивали небольшими подачками. Двадцатого мая палата лордов внесла предложение поселить короля ближе к Лондону. Нижняя палата не высказала согласия, но вожди пресвитериан обиняками давали понять, что разделяют желание лордов. Они вступили в переписку со своими комиссарами, в особенности с комендантом гарнизона полковником Ричардом Грейвсом, которые должны были внушать государю, чтобы он примирился с парламентом. Они были уверены, что так оно и будет. Даже в Сити уже поговаривали о том, что не за горами возвращение венценосца, после чего армии придётся смириться и разойтись по домам.
Торговцы и финансисты были мудрее, рассчитывая на естественный, постепенный ход событий. Представители нации повели себя легкомысленно. Пресвитерианское большинство постановило без промедления распустить те полки, которые откажутся участвовать в ирландском походе. При этом пресвитериане прибегли к коварству. Было решено распускать полки неожиданно, каждый отдельно, в своём месте, в заранее определённый день и час, чтобы солдаты не успели соединиться и договориться между собой. В эти места были отправлены деньги для уплаты жалованья только за несколько последних недель, а комиссарами назначали наиболее надёжных пресвитериан.
Солдаты заволновались. Не успели комиссары прибыть к армии и огласить постановление нижней палаты, как вспыхнул мятеж. Солдаты изгоняли из полков офицеров, которым не доверяли, захватывали оружие, распускали знамёна и отправлялись на соединение со своими товарищами. Протестантские церкви становились для многих из них крепостями. Затворившись там, они объявляли, что останутся вместе, требовали общего сбора полков, чтобы все желающие могли высказать своё мнение.
Руководство армией, которую охватывала анархия, сам собой взял на себя совет агитаторов. Двадцать девятого мая главнокомандующему Ферфаксу от имени солдат было направлено письмо, которым предупреждали, что воины сумеют защитить свой права сами, если офицеры откажутся возглавить движение. Ферфакс растерялся. Ему только и пришло в голову, что созвать совет офицеров. Офицеры судили и рядили вместо того, чтобы возвратиться к полкам и вернуть себе законную власть; объявили решение нижней палаты о роспуске армии необоснованным и решили поставить парламент в известность, что армия не разойдётся, пока не будут удовлетворены её требования, что будет проведено общевойсковое собрание и его постановление будет почтительно доведено до сведения представителей нации.
Всё это были пустые слова. Каким образом совет офицеров предполагал воздействовать на парламент, когда полки перестали ему подчиняться? Совет агитаторов уже действовал самостоятельно, не удосуживаясь справляться с мнением офицеров. До него уже дошли слухи о том, что парламент намеревается окончательно овладеть королём и поставить его во главе наскоро набранных войск, которым будет предписано сломить сопротивление армии. Он принял постановление направить в Холмби семьсот всадников во главе с младшим офицером корнетом Джоржем Джойсом, который должен был взять его величество под охрану и привезти его в расположение армии.
Корнет Джойс выступил со своим отрядом не мешкая. Первого июня его солдаты овладели богатейшими арсеналами Оксфорда. Сам Джойс поздним вечером проник в Лондон и тайно явился в дом Кромвеля, своего командира, доложил о своём поручении, видимо, не желая брать всю ответственность на себя. Кромвелю стало ясно, что у Джойса нет никакого приказа, что он действует только по предписанию агитаторов и что в сущности его действия являются нарушением дисциплины.
Как должен был он поступить? Должен ли потакать нарушению дисциплины и тем окончательно превратить армию в беспорядочную массу вооружённых людей, способных на самые необдуманные и разрушительные поступки? Должен ли он взять всю ответственность на себя и тем сохранить хотя бы видимость порядка и дисциплины?
Его прагматическому уму тотчас стало понятно, что в сложившихся обстоятельствах только новый арест короля может удержать парламент от необдуманных и опасных решений. По всей видимости, он не отдал прямого приказа, тем более что официально он уже не был генерал-лейтенантом. Во всяком случае Джойс на него никогда не ссылался. Однако, без сомнения, одобрил намерение армии овладеть королём.
Джойсу этого было достаточно. Той же ночью он возвратился в Оксфорд и продолжил поход. Около полуночи следующего дня его кавалеристы появились под стенами замка. Их окликнули часовые. Кавалеристы потребовали, чтобы перед ними открыли ворота. Со стены спросили:
— Кто у вас главный?
Им ответило несколько голосов:
— Мы все главные, все!
От тёмной массы кавалеристов отделился всадник и зычным голосом прокричал:
— Меня зовут Джойсом! Я корнет гвардии генерала! Мне необходимо переговорить с королём!
Кто-то на стене изумился:
— От чьего имени?
Джойс не смутился:
— От своего!
На стене захохотали, не представляя себе, какому прохвосту взбрело в голову требовать встречи с королём вообще, да ещё посреди ночи в особенности.
Джойс был настроен иначе:
— Нечего хохотать. Не за тем я пришёл, чтобы разговаривать с вами. Мне сию же минуту необходимо увидеть его величество.
В ответ комендант Грейвс скомандовал своим солдатам стрелять. Он заблуждался. Его солдаты успели перекинуться словом с прибывшими. Они отказались повиноваться. Мосты были опущены, ворота раскрыты. Отряд Джойса вступил во двор замка. Солдаты перемешались. Они здоровались, обнимались с товарищами, с которыми ещё вчера плечом к плечу сражались с армией короля. Кавалеристы Джойса объясняли солдатам Грейвса, что армия прислала их для того, чтобы спасти государя от рук заговорщиков, которые намерены увезти его в Лондон, набрать новую армию и заварить новую кашу междоусобицы. Грейвс будто уже готовился исполнить этот предательский умысел. Гарнизон безоговорочно перешёл на сторону армии. Грейвс скрылся. Комиссары парламента растерянно пытались вступить в переговоры с наглым корнетом, не зная о чём, пока не убедились, что всякое сопротивление с их стороны невозможно. К полудню Джойс стал полным хозяином замка, расставил часовых и позволил своим кавалеристам расположиться на отдых.
Вечером он потребовал, чтобы ему позволили встретиться с королём. Ему ответили, что тот уже спит. Корнет возмутился:
— Мне что за дело! Я долго ждал. Мне непременно нужно видеть его.
Его пытались остановить. Он выхватил пистолет и дерзко вступил во внутренние покои. Дежурные офицеры встали у двери. Джойс резко сказал:
— Мне очень жаль, что мне приходится нарушать сон его величества, но что делать? Я должен говорить с ним как можно скорей.
Один из офицеров потребовал у него разрешение комиссаров парламента. Джойс возразил:
— У меня его нет. Я приставил часовых к дверям их квартир. Свои полномочия я получил от людей, которые вас не боятся.
Его не пускали. Он стал горячиться. Карл проснулся, позвонил и приказал впустить того, кто посмел его разбудить. Джойс вошёл с непокрытой головой, но с пистолетом в руке. Король выслушал его и отпустил, сказав на прощанье, что охотно отправится с ним, если его солдаты подтвердят всё.
В шесть часов утра отряд Джойса стоял в боевом порядке во дворе замка. Король показался на лестнице. Джойс подъехал к крыльцу, чтобы приветствовать, как положено, своего повелителя. Государь ещё раз задал вопрос:
— Мистер Джойс, кто дал вам полномочия увезти меня?
Джойс ответил, как и Кромвелю:
— Милорд, меня уполномочила армия. Она хочет предупредить своих врагов и помешать им возобновить кровопролитие в нашем отечестве.
Король возразил:
— Я не могу признать армию законной властью. Я признаю законной лишь мою власть, а после — власть парламента. По крайней мере располагаете ли вы письменным приказом генерала Ферфакса? Или у вас его нет?
— У меня есть приказ армии, а генерал входит в её состав.
— Это не ответ. Генерал — ваш командир.
— Милорд, избавьте меня от лишних вопросов, я вам уже всё объяснил.
Король ещё колебался:
— Послушайте, мистер Джойс, будьте со мной откровенны, скажите, какие у вас полномочия?
Он хотел знать, как армия намеревается с ним поступить. Джойс был всего лишь корнетом, далёким от политических тонкостей, а потому понял его по-своему и указал себе за спину:
— Милорд, вот они!
Король с недоумением переспросил:
— Где? Где?
— Там.
— Да где же?
— Там, позади меня.
От неожиданности монарх рассмеялся:
— Ну, признаться, никогда ещё не приходилось мне видеть таких полномочий. Вы правы, мне надлежит согласиться. Ваши полномочия написаны чёткими буквами и очень красиво, они прекрасно вооружены и с виду все молодцы. Однако же знайте, что вам удастся увезти меня только силой, если вы не дадите обещания обращаться со мной с должным почтением и не требовать от меня ничего, что противно моей совести или чести.
Не успел Джойс ответить, как за его спиной закричали солдаты:
— Никогда! Никогда!
Истинный пуританин, Джойс подтвердил, когда они смолкли:
— Не в нашем духе стеснять чью бы то ни было совесть, тем более стеснять совесть нашего владыки.
Король не нашёлся, что возразить. Он только спросил, куда его повезут. Ему предложили на выбор Оксфорд и Кембридж. Он предпочёл Ньюмаркет, главную квартиру генерала Ферфакса:
— Мне всегда нравился тамошний воздух.
Когда он удалился, чтобы собраться в путь, комиссары парламента робко выступили вперёд и не нашли ничего лучше, чем обратиться к солдатам, одобряют ли они действия Джойса. Они закричали:
— Всё одобряем, всё!
— Пусть те, кто желает, чтобы король остался здесь с нами, безбоязненно выразят своё мнение.
— Никто! Никто!
Им пришлось покориться. Трое сели в карету, в которой ехал король, остальные сели на лошадей и присоединились к отряду Джойса.
Корнет задержался, наскоро набросал записку и отправил её с нарочным к Кромвелю, чтобы поставить в известность, что король направляется к армии.
Эта записка его не застала. О действиях Джойса парламент узнал ещё раньше. Представители нации негодовали, возмущались и впадали в отчаяние. Одни плачущим голосом предлагали объявить общий пост и молить Господа о восстановлении согласия между армией и парламентом. Другие, более трезвые, считали необходимым без промедления выплатить жалованье, если не всё, так хотя бы его большую часть. Все вместе громко обвиняли генералов в том, что они не сумели справиться с армией и удержать солдат от анархии.
Но что было толку во всех этих сетованиях? Теперь депутаты были бессильны. По крайней мере, им очень хотелось сорвать на ком-нибудь свою злость. Очень скоро стало известно, что накануне Джойс виделся с Кромвелем и о чём-то с ним говорил. Общее мнение тотчас решило, что именно Кромвель отдал Джойсу приказ, ведь всем было известно, что значило его слово для армии. Ещё вчера они пытались заручиться его поддержкой в борьбе против армии. Ему выдали около двух тысяч фунтов стерлингов жалованья, которое задерживали ему, как и самому последнему из солдат. Нынче те же люди твердили, что генерала следует арестовать, как только завтра утром он появится на пороге Вестминстера. Со своей стороны солдаты звали его, угрожая, что если он откажется быть вместе с ними, они обойдутся и без него.
Вновь Кромвель поставлен был перед выбором. Он сделал его, покинул Лондон в тот неё день поздним вечером и на другой день прибыл в главную квартиру Ферфакса.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
В главной квартире царила растерянность.
Кромвель застал армию в опасном брожении. Накануне его неожиданного появления Ферфакс назначил общий сбор армии. Совет офицеров бездействовал. Зато в совете агитаторов кипела активность. Солдаты не желали расходиться до тех пор, пока парламент не удовлетворит их законные требования. Они считали необходимым принять торжественные обязательства, которые сплотили бы армии, понимая, что их сила в единстве.
Кромвель не мог не согласиться со своими солдатами. Он был убеждён, что только единство обеспечит порядок сначала в армии, а потом и в стране.
Момент был критическим. Ещё несколько дней, и во главе армии встанут левеллеры, эти республиканцы и уравнители, готовые свергнуть все законные власти, не только лордов и короля, но и парламент в его нынешнем виде. На место нынешнего парламента, беспомощного в новых условиях, они думают поставить новый парламент, предоставив право голоса каждому англичанину. Больше того, генерал был склонен думать, что это только усилит анархию, которая уже и без того становилась грозной реальностью.
В такие моменты его энергия возрастала. Единственно правильное решение приходило само собой, точно и в самом деле на него нисходило откровение Господа.
Кромвель выступил перед солдатами, говорил простые, понятные вещи, одинаково осуждал дубовую несговорчивость пресвитерианского большинства, которое распоряжалось в нижней палате, и тех агитаторов в армии, которые под видом свободы совести проповедовали распущенность. Чего мы желаем, спрашивал оратор, и сам отвечал:
— Мы желаем только того, чтобы все добрые граждане, которые полезны родине и никому не мешают, пользовались свободой и покровительством, однако в согласии с существующими законами и справедливостью.
В сущности, того же хотели солдаты.
Он предлагал очень немного, но самое главное. По его страстному убеждению, кроме военного совета, который руководит военными действиями, должен быть создан совет армии, который станет решать политические вопросы и вести переговоры с парламентом. Туда должны войти всё высшее командование, а также от каждого полка по два агитатора и по два рядовых офицера.
Предложение было принято единогласно и было одобрено даже левеллерами. По мнению Лильберна, благодаря совету, созданному на основе равного представительства солдат и офицеров, армия превратилась в объединение равноправных сограждан, сплотившихся для уничтожения несправедливости и установления нового государственного устройства.
Теперь торжественное обязательство было принято чуть ли не само собой, без раздоров и возмущения. Армия давала сама себе клятву не расходиться до тех пор, пока парламент не удовлетворит её законные требования, только-то и всего. Это обязательство было настолько разумным, что парламенту оставалось только исполнить действительно законные требования, которые удовлетворили бы и успокоили войско.
Окончательное утверждение согласия и порядка зависело от короля. Корнет Джойс вёз его медленно, вероятно, из уважения, а может быть, из опасения, что будет наказан за самоуправство, ведь Айртон распорядился всего лишь сменить при короле караул, а не тащить его неизвестно куда. Следовало как можно скорей заверить его величество Карла Стюарта, что в расположении армии ему не только не угрожает насилие, но и будут предоставлены все возможные послабления, которых он добивался и не смог получить от парламента.
Кромвель вместе с Ферфаксом и Айртоном в сопровождении штаба выехали навстречу королевскому поезду, как только порядок в армии стал восстанавливаться. Они встретили его в Чилдерли, неподалёку от Кембриджа. Король обедал и отдыхал в простом придорожном трактире. Генералы почтительно попросили разрешение его посетить, и монарх согласился.
Оливер впервые видел своего государя. Возле трактирного стола, на котором лежала раскрытая книга большого формата, перед ним в простом деревянном кресле сидел человек невысокого роста, довольно щуплый, с роскошными волосами, в бархатном камзоле, коротких бархатных же штанах до колен и в белых чулках. С холодным, но величественным выражением на узком лице король протянул им руку для поцелуя. Ферфакс, за ним генералы почтительно поцеловали её. Кромвель и Айртон, сохраняя достоинство, остались стоять в стороне, всего лишь отвесив поклон, заменивший приветствие.
Ферфакс рассыпался в извинениях. Он уверял, что ни сном ни духом не виноват в его похищении.
Карл вскинул голову:
— Я до той поры не поверю вам, пока вы не прикажете повесить этого Джойса.
Король держал себя повелителем, как будто ничего не случилось. Ферфакс вёл себя как верный слуга, который готов без рассуждений исполнить любой приказ. Он крикнул Джойса. Корнет вошёл бестрепетно и хладнокровно ответил на вопрос, какие он имел полномочия:
— Я с первого слова уведомил его величество в том, что у меня нет никаких полномочий от генерала. Я действовал по поручению армии. Велите её собрать. Если в мою пользу не будет подано две трети её голосов, пусть меня повесят перед полком.
Было понятно, что Джойса повесить нельзя. Стараясь завоевать расположение монарха, Ферфакс предложил передать дело Джойса в военный суд, однако генералы на это не согласились. Король не настаивал. Он лишь покачал головой:
— Я вижу, что вы имеете в армии столько же власти, сколько и я.
Ему предложили возвратить его в Холмби. Он отказался, предпочитая быть вместе с армией, убедившись на деле, что парламент не располагает силами ни для того, чтобы противостоять её требованиям, ни для того, чтобы его защитить. Он даже осмелился заявить, что готов в интересах страны выступить в роли судьи между армией и парламентом. Айртон не выдержал и сделал шаг вперёд, машинально сжимая рукоять своей шпаги:
— Милорд, вы ошибаетесь! Это армия будет посредником между вашим величеством и парламентом.
Его величество потребовал с холодной улыбкой:
— Везите меня в Ньюмаркет. Тамошний воздух всегда был мне полезен.
Короля поручили конвою, которым командовал полковник Уолли. Генералы возвратились к армии. Они ждали, что ответит парламент на Торжественное обязательство, направленное ему. Согласие было возможно.
Депутаты вдруг осознали, что они зажаты меж двух огней. С одной стороны, волновался народ, недовольный воровством и налогами, часть которых пропадала неизвестно куда. С другой стороны, армия вышла из подчинения и могла занять Лондон в любой день, в любой час, и что тогда?
Время не ждало. Представителям нации надлежало сделать свой выбор и как можно скорей. Надо было либо снизить налоги, прекратить воровство и попробовать усмирить войско, по-прежнему оставляя без денег, либо оставить налоги, но опять-таки прекратить воровство и удовлетворить законные требования военных и тем вернуть армию в своё подчинение.
Однако в пресвитерианском парламенте не нашлось ни умеренности, ни разумности, ни обыкновенного здравого смысла. Пресвитериане предпочли продолжить вражду. Депутаты потребовали перевести короля в Ричмонд и отвести армию от столицы на сорок миль. Вместо того чтобы заплатить солдатам законное жалованье, он пустился заигрывать с горожанами, рассчитывая опереться на них. В спешном порядке был восстановлен парламентский комитет, которому надлежало принимать жалобы на членов обеих палат. Горожане жаловались на уничтожение праздников, в том числе Рождества, — им установили дни отдыха, роптали по поводу высокого налога на соль — его отменили, негодовали на безобразную алчность представителей нации, которые ввели для себя привилегии, занимая по нескольку должностей, присваивали доходы с конфискованных поместий и замков и захватывали их в свою собственность, — нижняя палата постановила, что впредь ни один её член не станет принимать ни доходных должностей, ни наград, ни другого имущества. В своём лицемерном рвении представители нации заговорили даже о том, что готовы возвратить в казну все незаконно приобретённые средства, а на их земли распространится закон, по которому с них должны взыскаться долги и который прежде не распространялся на них.
Они пошли дальше. Парламент создал Комитет безопасности. Комитет наводил порядок в городском ополчении, из которого изгонялись индепенденты, формировал новые полки и попытался привлечь на свою сторону несколько полков, расквартированных в Йорке.
Кромвель продолжал держаться политики примирения. Всё это время и он, и его соратники из числа офицеров встречались тайно и явно со своими друзьями-индепендентами или уполномоченными парламента, в надежде выработать совместными усилиями приемлемую программу политических перемен. Его требования по-прежнему не шли дальше выплаты жалованья солдатам, амнистии участникам гражданской войны и свободы вероисповедания. Десятого июня Кромвель и его друзья подписали письмо. В нём они уверяли, что провозглашение свободы вероисповедания не может служить препятствием для установления в Англии правительства пресвитериан.
Двенадцатого июня в своём послании городскому совету Ферфакс жаловался на то, что он допускает набор ополчения и новых полков, которые парламент готов использовать против вверенной ему армии. Городской совет не нашёл ничего лучшего, как посетовать на обстоятельства и предложить армии отступить на указанные парламентом сорок миль, тогда, мол, всё само собой утрясётся.
Король угадал, что вражда между армией и парламентом подходит к опасной черте. Как только парламент потребовал перевести его в Ричмонд, стража усилилась, послабления прекратились и его всюду перевозили вместе с главной квартирой, не выпуская ни на минуту из вида.
Государю показалось, что пора действовать и столкнуть наконец парламент и армию. Он возмутился:
— Мои палаты приглашают меня в Ричмонд. Вы можете удержать меня от этой поездки только насилием, взяв под уздцы лошадь. Но уверяю, что если найдётся такой храбрец, этот подвиг в его жизни будет последним.
В увлечении он впервые назвал ненавистный парламент «моими палатами» и не принял во внимание, что в главной квартире никто и не собирался давать ему лошадь. Карл был всего-навсего пленником, ему давно бы надлежало это понять.
Возмущение его величества было оставлено без внимания. С каждым днём становилось всё очевидней, что с этим парламентом дело миром не кончится. Совет армии должен был принять против него свои меры. Четырнадцатого июня на совместном заседании была принята Декларация армии. В своём Торжественном обязательстве армия отстаивала свои права. Необдуманные, опрометчивые действия представителей нации в несколько дней сделали её грозной политической силой.
Теперь войско присваивало право говорить от имени нации. «Мы подняли оружие сознательно, чтобы защищать права и свободы народа, и готовы продолжать это дело». Парламент призвал её на борьбу с угнетением, насилием и произволом. Теперь эта священная цель забыта парламентом, но армия продолжает хранить ей верность.
Всё это было политической декламацией, особенно опасной, потому что она овладела солдатами. Ещё опасней были новые требования. Прежде всего, военные требовали, чтобы парламент изгнал тех депутатов, которые настаивали на роспуске армии. Было названо одиннадцать человек, вожди пресвитерианского большинства. Заодно их обвинили в связях с монархистами и в злоупотреблении своим положением. Это было только начало. Армия желала, чтобы нынешний парламент сам себя распустил. Вместо него для установления мира и обеспечения прав и свобод предлагалось созвать новый парламент, избранный на новой основе. Правда, дело до всеобщего избирательного права пока не дошло. Декларация считала необходимым ввести избирательный ценз, чтобы принималась во внимание пропорциональность участия избирателя в общих тяготах королевства.
Но и этого было достаточно. Декларация угрожала основаниям государственного устройства. В парламенте она вызвала страшный переполох. Обсуждение было беспорядочным, бурным и бестолковым. Основания государственного устройства были скоро забыты. Негодование сосредоточилось на желании армии удалить из нижней палаты одиннадцать виднейших представителей нации. Айртону было поручено представлять и защищать декларацию. На его голову обрушилась недопустимая брань. Дело едва не дошло до дуэли. Депутаты чуть ли не в истерике вопрошали, на каком основании они должны изгнать названных лиц, требовали доказательств, не соображая в безумии охвативших страстей, что сами себя загоняют в ловушку. Им отвечали, что они сами без каких-либо доказательств казнили Страффорда и Лода, а теперь им предлагают только изгнание.
В таком состоянии никакого решения невозможно было принять. Тогда армия медленно двинулась к Лондону. Кромвель и его сторонники рассчитывали, что одной угрозы будет довольно, чтобы парламент пришёл в себя и пошёл на уступки. Однако двадцать шестого июня главная квартира была уже в Уксбридже. Сюда была направлена депутация от торговцев и финансистов. Она просила армию образумиться и остановиться, но не привезла никаких других предложений и вынуждена была удалиться ни с чем.
Столицу охватило смятение. Торговцы в панике запирали лавки. Толпы народа громко осуждали одиннадцать депутатов, упрямство которых грозило насилием не только парламенту, но и всему населению города. Дальше медлить было нельзя. Осуждённые общим мнением депутаты объявили о том, что они добровольно покидают парламент. Их товарищи были так им благодарны и так упрямы, что вместо полной отставки декретировали им шестимесячный отпуск.
Всё-таки они осознали, что над каждым из них нависла угроза отставки. Парализованные страхом, они уже без расчёта и оговорок принимали те предложения военных, которые могли её успокоить. В первую очередь парламент обязался заботиться о содержании войска, точно эту обязанность с него кто-то снимал. Он обещал избрать представителей, которые совместно с представителями армии примутся приводить в порядок государственные дела, точно государственные дела пришли в расстройство не по их вине; отменил собственное решение перевести короля в Ричмонд и постановил, что тот отныне должен находиться при главной квартире, точно он не находился при ней.
Эти беспорядочные решения ничего не решали. Они говорили только о том, что переговоры с этим парламентом могут возобновиться. Кромвель большего и не хотел и сдерживал совет армии, который настаивал, чтобы парламент без промедления удовлетворил все его требования. Представители армии были направлены в Лондон. Ферфакс отвёл армию на несколько миль. Стало казаться, что мир может быть наконец установлен.
Кромвель спешил использовать этот редкий, чрезвычайно удачный момент. Последний козырь выпадал из рук короля. Сейчас ему было трудно рассчитывать на длительный и неразрешимый раздор между армией и парламентом, на котором держалась его надежда вернуть себе ничем не ограниченную, самодержавную власть. Если бы он, подобно Кромвелю, исходил из реального соотношения сил, что о самодержавной власти он может только мечтать и что только уступки с его стороны могут спасти и его самого, и мир и спокойствие в Англии.
В самом деле парламент не только заговорил с армией таким языком, каким побеждённый говорит с победителем, он окончательно бросил монарха в объятия армии, смиренно отказавшись перевозить его в Ричмонд. Узнав о новом бесчестии, Карл только и мог что презрительно улыбнуться. Ему оставалось надеяться только на военных.
Офицеры оказывали ему должное уважение и были ещё любезнее, чем комиссары парламента, приставленные к нему в замке Холмби. Многие из них искали его благосклонности, как будто ему уже были возвращены все права властелина. Ему возвратили его капелланов и разрешили им служить обедни по канонам епископальной церкви, что вполне соответствовало свободе вероисповедания, которую отстаивал Кромвель; оставили преданных слуг.
Наконец, ему предъявили куда более сносные, даже мягкие требования, чем те, на которых настаивали представители нации. Армия не заводила и речи об уничтожении епископальной церкви и поголовном принятии пресвитерианства, не предлагала разорить большую часть сторонников монархии громадными штрафами, которые парламент намеревался на них наложить за участие в гражданской войне; не считала необходимым запретить всем роялистам участие в политической жизни. Она только хотела, чтобы из верхней палаты были исключены лорды, которые получили это звание во время войны, считала необходимым, чтобы участники войны на стороне короля не попали в новый парламент, предлагала государю на десять лет отказаться от командования ополчением и от назначений на высшие должности в королевстве, также настаивала на том, чтобы духовенство, без различия пресвитерианское или епископальное, было отстранено от участия в гражданских делах.
Правда, военные требовали реформ куда более последовательных и радикальных, чем они представлялись парламенту, хотели уничтожить торговые, судебные и политические привилегии, введение в законы некоторых начал равенства, более справедливого распределения избирательных прав и налогов, а также изменений в судебной системе.
Всё это были насущные нужды страны, удовлетворение их представлялось необходимым. И офицеры, и многие из солдат и думать не думали, чтобы эти реформы могли оскорбить короля.
И Кромвель, и его офицеры были убеждены, что на этих условиях государю должны быть возвращены власть и права.
Недовольны были только левеллеры, которые предпочитали республику. Влияние их быстро росло. Многие солдаты разделяли их убеждение, что можно обойтись без лордов и короля. На их сторону переходили агитаторы из совета армии. Они настаивали на том, чтобы предъявить парламенту и королю куда более жёсткие требования.
Эти настроения очень не нравились Кромвелю. Он был монархистом, как большинство населения Англии. Левеллеры представлялись ему отщепенцами, которые морочат солдатам головы несбыточными мечтами.
Но он не считал нужным действовать силой, предпочитал убеждение. На совете армии ему удалось направить недовольство не столько против короля, сколько против парламента, который ограничился пустыми решениями и не желал идти на полное примирение с армией. В результате его усилий была составлена новая ремонстрация.
Двадцать третьего июня она была обнародована. В ней армия вновь и вновь требовала своё жалованье и осуждала парламент, который, по её убеждению, ведёт страну к гибели. Депутаты должны были немедленно распустить все вооружённые силы, мобилизованные против армии. Армия оставляла за собой права на чрезвычайные меры, если парламент в ближайшее время не удовлетворит её требований.
Левеллеры шли ещё дальше, настаивали на походе на Лондон. Это и была их чрезвычайная мера. Кромвель им возражал, что это крайняя мера, был убеждён и убеждал остальных, что прежде надо добиться соглашения с королём. Если же он встанет на сторону армии, не понадобится марша на город, поскольку парламент не сможет не подчиниться совместным решениям армии и короля.
Парламент возмущался, однако с маниакальным упорством отклонял не только ультиматумы армии, но и её законные требования. Переговоры с королём шли, однако не подвигались вперёд. Генералы и монарх мило беседовали, пока речь велась о посторонних предметах. Но когда офицеры предлагали ему обсудить предложения армии, король отказывался их обсуждать. Любое, даже самое безобидное предложение он категорически отвергал. Любая уступка по-прежнему представлялась ему противной чести и ущемлением неограниченной власти, без которой он не мыслил жизни.
Попытались смягчить его положение. Парламент удалил от короля младших детей: принцессу Елизавету, герцога Йорского и герцога Глостерского. Ему разрешили свидание с ними, которое состоялось пятнадцатого июля. Вся дорога, по которой должны были проезжать принцы, была усыпана зеленью и цветами. По обочинам толпился народ. Офицеры и солдаты охраны смотрели на происходящее с явным сочувствием. Карл не скрывал радости, ему позволили оставить детей на два дня, явно рассчитывая, что любящий отец оттает душой и пойдёт на уступки. Однако государь остался непреклонен, как прежде.
Прибегли к посредникам, им вызвался быть французский посол. Через него предложения были направлены королеве, которая скрывалась во Франции, в расчёте на то, что она имеет неограниченное влияние на мужа, упрямого, однако лишённого воли. Королева нашла, что такие предложения можно принять хотя бы для отвода глаз и на первое время. Из Парижа выехал в Лондон её советник Джон Страттон Беркли, организатор героической обороны Экзетера. Ему поручалось от имени государыни уговорить его величество пойти на соглашение.
Несмотря на то что в самое недавнее время этот Беркли был одним из самых злейших противников парламентской армии, Кромвель послал навстречу ему его приятеля Аллена Эпсли, который должен был передать уверения в безопасности и поторопить его с прибытием в расположение главной квартиры. Беркли, удовлетворённый столь неожиданной честью, поспешил в Ридинг. Не успел он обосноваться в отведённой комнате и переменить дорожное платье, как адъютант Кромвеля принёс ему извинения своего генерала, который не может тотчас встретиться с ним.
Он появился в сопровождении Уоллера и Ренборо, поспешил заверить советника королевы в своей преданности не только к самому принципу монархической власти, но и лично к Карлу Стюарту, которого в последнее время лучше узнал. Он сам был нежным отцом, и на него произвели сильное впечатление его отцовские чувства:
— Недавно я стал свидетелем трогательного зрелища. Это было свидание короля с детьми. Могу сказать, что я больше других заблуждался насчёт короля. Теперь я убеждён, что нет человека лучше, чем он, во всех трёх королевствах. Мы ему бесконечно обязаны. Прими он в Ньюкасле предложения от шотландцев, мы бы погибли, может быть, безвозвратно. Да не оставит Господь меня Своей милостью в той же мере, в какой моё сердце принадлежит его величеству со всей искренностью!
Беркли пришёл в восторг. Наутро он представился государю, передал ему уверения Кромвеля, но монарх принял их холодно, не находя в них ни искренности, ни новизны, передал ему совет королевы, но Карл сделал вид, что равнодушен к нему.
Кромвель видел победу в добром согласии с королём. Он поручил переговоры с Беркли вести Айртону, своему зятю, больше полагаясь на его дипломатические способности, чем на свои. Айртон понравился Беркли. Он нашёл его разумным и искренним. Айртон передал ему предложения армии. Беркли не мог представить себе, что предложения победителей могут быть такими умеренными. Всё-таки, зная неодолимое упрямство своего владыки, он предложил кое-что подправить и изменить и встретил со стороны Айртона полное понимание, когда же затронул предложения армии по существу, Айртон пожал плечами:
— Что делать? Надо же показать, что существует разница между победителем и побеждённым.
Беркли был искренне изумлён, бросился убеждать монарха, что предложения армии своей умеренностью превосходят все его ожидания, что, по его убеждению, ещё никогда ни один король не покупал своей короны столь малой ценой. Каково же было его изумление, когда Карл после первых же слов нашёл эти условия слишком тяжёлыми.
Положение короля уже до того изменилось, что Беркли решился ему возражать. Он даже указал ему те опасности, которым монарх подвергает себя, отказом возбуждая у армии недобрые чувства. Король не улавливал никаких перемен, по-прежнему переоценивая своё положение.
Ему было известно, что в армии назревает раскол, солдаты готовы выйти из повиновения и твёрдо рассчитывал, что Кромвелю волей-неволей придётся обратиться к нему, что только высочайший авторитет сможет успокоить воинов.
У Кромвеля же не было выбора. Каждую минуту не только Лондон, но и многие графства могли восстать против армии и восстановить монархию.
Армия двинулась к Лондону.
2
В критические минуты всех революций малейшее промедление смерти подобно. Люди из Сити оказались проворней. Толпы безработных ремесленников, матросов, грузчиков и отставных офицеров окружили Вестминстер. Перепуганные представители нации, вместо того чтобы привести в действие подчинённое им ополчение, заперли двери и запретили кому-либо выходить на призывы толпы, желавшей предъявить им свои требования.
Первый час не предвещал осложнений. Городской совет представил прошение. Мужи города в самых умеренных выражениях просили депутатов снять с должности новое командование городским ополчением и вернуть прежних командиров, которые были пресвитерианами. Они лишь мимоходом, но твёрдо указывали при этом, что этого решения с нетерпением ожидает народ.
Парламентарии принялись излагать свои глубокомысленные суждения по вопросу, который требовал безотлагательного решения.
Их склонность к пустым разглагольствованиям в критические минуты чуть было не погубила парламент. Толпа ждала, волновалась. Отставные офицеры и представители Сити вели агитацию. Вскоре появилось другое прошение, оно почти полностью повторяло прошение городского совета. В сущности, вопросы, которые требовали решения, были всё те же. Однако представители нации вновь пустились переливать из пустого в порожнее и занимались этим до наступления сумерек.
Наконец возбуждённые люди ворвались в коридоры парламента. Несколько депутатов с обнажёнными шпагами ринулась навстречу. Толпа опешила и отступила. Самые предприимчивые влезли на решётки окон верхней палаты, швыряли оттуда по лордам камнями и требовали, чтобы их выслушали.
Этого не сделали, должно быть, из гордости, от растерянности или страха. В зал заседаний ворвалось человек пятьдесят. Они были в шляпах в знак неуважения к своим представителям, громко требовали, чтобы депутаты подавали свои голоса в пользу смены командования. Тут уж поневоле пришлось уступить. Прежнее решение было отменено. Командирами ополчения назначили пресвитериан.
Несколько человек вырвались, схватили председателя, усадили в кресло и силой удерживали его, не позволяя снова подняться. Он в растерянности спросил:
— Чего вы хотите?
Ему ответил рёв голосов:
— Возвратите нам короля!
Председатель тотчас объявил предложение. О прениях не могло быть и речи. Все дружно подали за него свои голоса. Один Ладло громко сказал:
— Не согласен!
Армии уже ночью стало известно это решение. Оно ошеломило всех, от солдата до генерала. Парламент возвращал королю власть без всяких условий! Принесены были жертвы, кровь пролилась, страна была разорена гражданской войной, и всё это было напрасно?! Это невозможно было признать!
Армия возмутилась почти так, как в Лондоне накануне возмутилась толпа. Только армейская дисциплина сдерживала солдат. Однако все были убеждены, что это проделки самого короля. Его громко обвиняли в вероломстве, в измене.
Вскоре на дороге из Лондона появилась вереница карет. Вокруг них в недоумении толпились солдаты. Из кареты выходили утомлённые лорды и представители нации, в тот день почти шестьдесят человек. Следом за ними прибывали другие. Всего в расположение армии явилось четырнадцать лордов и около ста депутатов нижней палаты. Они на разные голоса повествовали о том, с каким трудом им удалось спастись от разъярённой толпы, что было большим преувеличением. Они были крайне испуганы и просили у армии убежища и защиты.
В течение одного часа положение круто переменилось. Армия страшилась открытого разрыва с парламентом, и вот парламент сам просил её покровительства. Солдаты и офицеры с радостными лицами окружили прибывших. Их ободряли, хвалили, благодарили Господа за спасение, заверяли, что в расположении армии они в безопасности. Для всех появление лордов и представителей нации было ошеломляющей неожиданностью. Может быть, один Кромвель через своих сторонников готовил этот сюрприз и с часу на час ожидал беглецов.
Беркли первым понял, что король всё проиграл. Он поспешил сообщить ему эту пренеприятную новость, умолял его переменить тон, советовал без промедления написать в совет армии, что готов ещё раз выслушать и рассмотреть его предложения, уверял, что это посоветовали ему Кромвель и Айртон, которые заверили его, что на этом условии монарх может вернуть себе расположение армии.
Карл не внял его доводам. Он успел получить эстафету из Лондона. Его сторонники извещали его, что оставшиеся члены парламента избрали в обе палаты других председателей, вернули тех одиннадцать пресвитериан, которых только что отправили в шестимесячный отпуск, что таким образом за парламентом сохраняется вся его законная сила. Больше того, обновлённый парламент уже приказал армии остановиться, а народному ополчению готовиться к обороне. Бывшие генералы бывшей армии Эссекса спешно набирали полки. К зданию городского совета явилась толпа. Её вожаки уверяли городские власти, что станут защищать их до последней капли крови. Между горожанами собирались деньги на оборону. На позиции выдвигаются пушки. Уже постановлено, правда, не совсем ясно кем, звать короля официальным образом в столицу. Это решение уже под звуки труб возвещено всему Лондону. С часу на час но должно быть доставлено монарху. Одно предместье Саутварк выразило протест. Его представители двинулись к городскому совету, однако были встречены войсками парламента и рассеяны с примерной жестокостью.
Король поверил этим известиям. Он возразил на доводы Беркли:
— Я подожду. Написать это письмо я успею всегда.
Он ждал. Ждали Кромвель и армия. Известия из Лондона были противоречивы. Его сторонники сообщали ему, что не все представители нации признали новый парламент. Одни собирались присоединиться к своим товарищам в армии и только опасались насилий. Другие возвращаются в графства, избравшие их. Деньги на парламентскую армию собираются медленно, ещё медленней пускаются в дело. Не всем ополченцам и новобранцам хватает оружия. Индепенденты ведут свою агитацию. Некоторые проповедники призывают с кафедры к смирению и соглашению между армией и парламентом. Многие, очень многие лондонцы хотели бы мира вместо войны.
Третьего августа Кромвель устроил смотр армии, чтобы сплотить и ободрить её. Смотр принимали члены парламента. Это давало солдатам уверенность, что их ведут на правое дело. Прямо со смотра самые надёжные из полков отправлялись в поход. Три полка шли впереди, четвёртый следовал в арьергарде. Между ними верхом на лошади ехал Ферфакс. За ним следовала вереница карет, в которых поместились депутаты парламента. Толпа приверженцев следовала за ними. Солдаты, которым было приказано оставаться в главной квартире, с лавровыми ветвями на шляпах провожали их бодрыми кликами:
— Да здравствует парламент! Да здравствует армия! Да здравствует свободный парламент!
Король спохватился, спешно призвал свой штат во главе с Эшбернгемом и Беркли, стал диктовать им письмо, которое следовало отправить совету армии два дня назад, нервничал, путался, выражался неясно. С ним вежливо спорили. Письмо было составлено с большим опозданием.
Эшбернгему и Беркли было поручено доставить его в совет армии. Они достигли главной квартиры только тогда, когда армия уже подступила к Лондону.
Самым надёжным форпостом города служило предместье Саутварк. Оно имело хорошие укрепления, которые слишком трудно, практически невозможно штурмовать кавалерией, а Кромвель располагал только ею. Форты предместья держали под обстрелом не только все подступы к столице, но и сам город, в те времена ещё небольшой. На Саутварк была вся надежда парламента и горожан.
Полковник Ренборо поздно вечером двинул свой полк. Казалось, он должен был потерпеть поражение или по меньшей мере повозиться с предместьем несколько дней. При первом же штурме жители Саутварка предали город, перешли на сторону армии и добровольно открыли ворота. К утру четвёртого августа Саутварк был в руках Кромвеля.
Городской совет растерялся именно в тот момент, когда надо было решительно действовать. Пресвитериане в парламенте метались из стороны в сторону, не зная, крепить ли оборону и дать бой или сдать столицу без боя. Решение так и не было принято. Парламентские войска не сдавались и не сражались. Кромвель медлил и тут, постоянно помня о том, что насилием ничего прочного добиться нельзя. От имени военного совета армии он направил ультиматум городскому совету. Ему предлагалось прекратить сопротивление до двенадцати часов ночи четвёртого августа.
Городской совет, по его собственному признанию, заседал день и ночь. Генерал ждал. Ничего путного никто не придумал, хотя сопротивление ещё было возможно: прими городской совет такое решение, кавалерии Кромвеля пришлось бы туго в кривых и тесных улочках старого Лондона. Совет принял решение сдаться.
Утром шестого августа армия вступила в Лондон. С полками авангарда ехал Ферфакс. Кромвель был с полком арьергарда. Горожане приветствовали армию криками одобрения. Возле Гайд-парка её встретили олдермены во главе с лордом-мэром. Все почести достались Ферфаксу. Лорд-мэр приветствовал его и поздравлял с восстановлением мира между армией и парламентом. На Черинг-Кросс городской совет представился ему в полном составе и благодарил за умеренность требований.
Ферфакс был холоден. Он вступил в Вестминстер. Перед ним открылось жалкое зрелище. Представители нации, только что вооружавшие город, были в страхе. Самые ярые противники бежали во Францию, командиры ополчения и новых полков, набранных, чтобы сражаться с армией, скрылись в Голландии. Ферфакс успокоил оставшихся и вернул в парламент тех лордов и депутатов, которые бежали к войску и теперь возвращались.
На радостях те благодарили его в самых выспренних выражениях. Он остался к ним равнодушен и потребовал денег для солдат, которым слишком давно не платили. Все запросы были удовлетворены. Городской совет тоже обновился, и тут царили радость и оптимизм. Ферфакса назначили комендантом Тауэра и преподнесли золотую чашу; для всех офицеров олдерменами был дан роскошный бал.
Кромвель продемонстрировал силу, но не собирался с её помощью добиваться новых и новых решений. Он приказал вывести войска. Армия вышла в образцовом порядке, как и вошла. Никто из лондонцев не был обижен. Горожане были поражены. В те времена солдатских грабежей и насилий никому, и в голову прийти не могло, чтобы армия могла быть таким единым, слаженным организмом.
Тринадцатого августа он получил письмо от Лильберна, заточенного в Тауэр постановлением лордов, которые таким способом пытались пресечь распространение его неприятных памфлетов и влияние гневных речей. Ему стало известно о переговорах Кромвеля с королём. В этих переговорах поборник республики видел измену. По своему обыкновению он обличил его если не в памфлете, то в личном письме. В нём были такие слова:
«Если и теперь вы оставите мои слова без внимания, как это делали прежде, то имейте в виду, что всё моё влияние, все мои средства я пущу в ход против вас и произведу в вашем положении такую перемену, которая вряд ли вам придётся по сердцу...»
Кромвеля не испугали эти угрозы. Однако ему не приходилась по сердцу чья-либо вражда. Он хотел мира со всеми. Обращение с Лильберном представлялось ему неразумным и несправедливым. Он явился в Тауэр и встретился с ним. Разговор был долгим. Оба пытались убедить собеседника в своей правоте. Кромвель настаивал, что стоял и будет стоять на стороне закона, порядка и справедливости.
Лильберн считал, что король давно опозорился и сам поставил себя вне закона, что его надо судить. Чьим судом? Парламент не желает этого. По мнению Лильберна, парламент жалок. На его заседания является не более семи лордов, а в нижней палате не всегда набирается сто пятьдесят представителей нации, треть, а то и четверть её состава. Решения такого парламента уже давным-давно не законны. Надо разогнать его силой. По его мнению, у Кромвеля были на это и возможность, и право:
— В моих глазах вы теперь в Англии из числа самых сильных людей. К тому же вы больше всех отличились чистотой сердца и пренебрегли личными выгодами.
Генерал твёрдо стоял на своём, не допускал и мысли о том, чтобы ещё раз использовать военную силу и заставить парламентариев разойтись по домам. Всё, что мог обещать, это добиться у парламента решения об освобождении узника.
Он сдержал данное слово и потребовал, чтобы назначили комиссию, которая рассмотрит дело Лильберна и поступит с ним по закону. В парламенте с готовностью обещали, но отложили это на неопределённый срок. Они оказывали тихое сопротивление всем предложениям, которые поступали к ним от имени армии.
Что было делать? Кромвель колебался недолго. Сколько ни твердил он о необходимости договариваться, сколько ни трактовал, что силой ничего путного не добьёшься, договориться и на этот раз оказалось нельзя и только новой демонстрацией силы можно было вразумить представителей нации. Он разместил в Гайд-парке полк своей кавалерии, расставил посты у входов в Вестминстер, явился в зал заседаний, гремя шпорами, с солдатами за спиной, и прежние решения были отменены.
Генерал снова вывел кавалерию, а представители нации перестали посещать в знак протеста зал заседаний.
Настало странное время.
Страна закипала, стремительно и, казалось, неудержимо. Бедные, безработные, обнищавшие подмастерья, грузчики, матросы, ткачи, пастухи всё чаще поддавались пропаганде левеллеров, которые издавали памфлет за памфлетом.
Кромвель был против насилия и видел выход лишь в том, чтобы помирить короля и парламент. Он хотел бы путём договора, путём взаимных уступок заложить основы новой формы правления, когда власть в Англии будет разумно и равномерно распределена.
Но тут случилось непредвиденное: король бежал.
3
Кромвель был растерян, даже испуган. Куда скрылся этот беспокойный, неудачливый человек? С кем заключил новый союз против парламента, против армии, против Англии? Где он, во Франции или в Шотландии? С кем предстоит воевать, со всей Европой или только с шотландцами? Воевать немедленно или имеется немного времени для подготовки? И как это делать с армией, где солдаты перестали повиноваться своим офицерам, которой фактически нет?
Как всегда в минуты опасности, его разум работал чётко и ясно. Ровно в полночь он сообщил председателю нижней палаты об исчезновении государя, отдал приказ провести смотр армии не в один день, каре было намечено, а в один и в разных местах, не более пяти полков одновременно, так легче справиться с ними и восстановить дисциплину, выслушал доклад полковника Эдуарда Уолли, который должен был как зеницу ока беречь его величество.
Уолли заверил его, что охрана была усилена, посты умножены, с территории замка мышь не могла проскочить, самые подозрительные вельможи были удалены, в том числе Беркли и Эшбернгем, сношения с внешним миром сведены до необходимого минимума, вся переписка просматривалась. Правда, несмотря ни на что, до короля доходили какие-то слухи о волнениях в армии, в особенности о том, что военные настроены против него. Приходили даже записки, которые предупреждали его, что его хотят похитить или убить. Уолли об этом знал и несколько раз пытался уверить его величество, что охрана надёжна. Но это не помогало. Король отвечал, что и прежде охрана казалась надёжной, а появился корнет, и охрана предала своего монарха. Он стал беспокоен, ему всюду мерещились дурные приметы: то охота не удалась, то лампа погасла, то ночь омрачил дурной сон. Когда пришла последняя записка от Кромвеля, Уолли показал её королю и ещё раз заверил его, что и генерал и он сам сделают всё, чтобы оградить его личность от каких бы то ни было покушений. Карл поблагодарил. Посты были утроены. Сам Уолли глаз не смыкал. Однако никто не знал тайны замка так, как знал их король. Он оставил письма и с одним слугой потайным ходом вышел прямо из спальни за оцепление в лес. Там его ждали, если судить по следам, два всадника с лошадьми. Одно письмо было адресовано лично Уолли. Пленник благодарил его, уверял, что он не виновен в побеге, и просил беречь картины и обстановку. Это было всё, что Уолли мог рассказать.
Три последующих дня были, может быть, самыми смутными и тревожными за всё последнее время, нервы были напряжены до предела. Пятнадцатого ноября ранним утром генерал выехал с Ферфаксом к Уэру, где был назначен смотр первых полков. Они ехали в полном молчании, гадая, что ждёт их впереди, поднялись на холм. Внизу на широком убранном поле стояли полки. Их было больше, чем было приказано. Группа старших офицеров ждала в стороне. Когда они приблизились, им доложили, что приказ нарушили полковники Гаррисон и Роберт Лильберн. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что войска охвачены мятежом. На многих шляпах белели листки. Оказалось, что многие прикололи текст «Народного соглашения» в знак непреклонности своих требований, на других шляпах красовался девиз «Свободу Англии! Права солдатам! ».
Какие права, когда завтра может быть бой? Как повести этих солдат за собой? И пойдут ли они? А полковник Ренборо отделился от мятежных рядов и с вызывающим видом поскакал по направлению к Кромвелю и Ферфаксу. Он насмешливо улыбался, в руке держал всё тот же текст «Народного соглашения», который намеревался вручить генералам и перед лицом непокорных солдат потребовать республики и низложения сбежавшего короля.
Кромвель повернул голову в сторону адъютантов. Слава Господу, адъютанты ещё повиновались ему. Один из них поскакал навстречу полковнику, оттеснил его лошадью и вырвал листок. Ренборо опешил. Солдаты зашумели. Делая вид, что не обращают на это внимания, Ферфакс и Кромвель тронули лошадей и начали смотр. Первый полк был спокоен. Ферфакс спокойным голосом сказал несколько слов, призвал воинов покончить с недовольством и сходками и подписать присягу военному совету и своим командирам. Текст присяги был тут же оглашён и предъявлен. Бумага пошла по рядам.
Присягу приняли все пять полков. Можно бы было облегчённо вздохнуть, но впереди стояли мятежники. Генералы приблизились к полку полковника Гаррисона. Их встретили ропотом и отдельными выкриками. Кромвель перекрыл шум и приказал снять неположенные украшения с форменных шляп. Листки были сняты, присяга была принята.
Полк Роберта Лильберна был настроен иначе. Кромвель приподнялся на стременах и выкрикнул хрипло приказ снять со шляп возмутительные бумаги, повернуться кругом и тихо-мирно возвратиться в свой лагерь. Солдаты не шевелились. Только их лица твердели, и в глазах блестела решимость.
Всё решал один миг. Упусти он его, и вспыхнет уже открытый мятеж.
Кромвель дал шпоры коню. Конь взвился на дыбы. Солдатские лошади в испуге шарахнулись в сторону. Генерал выхватил шпагу и ринулся вперёд, на смешавшиеся ряды, сбивая тех, кто не успел увернуться, другой рукой срывая проклятые прокламации, яростно, безумно крича:
— Хватайте! Хватайте! Зачинщиков! Вяжите! Я вам покажу, как бунтовать! Я вам покажу!
Да, слава Господу, что адъютанты повиновались ему. Они бросились на выручку своему генералу. Обнажённые шпаги сверкали. Лошади ржали от страха. Ошарашенные люди теснили друг друга. Из рядов выхватывали зачинщиков, то есть тех, кто имел несчастье стоять впереди. Внезапный натиск остудил и самые пылкие головы. Это были всё же солдаты, его солдаты, «Божии люди», как он их называл. Они были воспитаны им, стоило повторить приказ, и они снова стали солдатами. Головы обнажились. Бунтовские девизы исчезли. Строй был восстановлен. Головы опустились в знак покорности или от стыда.
Но это было не всё. Зачинщиков оказалось четырнадцать человек. Тут же, на глазах у молча стоявших полков, состоялся военный суд, неправый и скорый. Офицеры знали своих людей и отобрали самых опасных. Троих приговорили к смерти. Они стояли без мундиров и шляп и ждали смертного часа. В сущности, Кромвель был мягок и добр, он всегда оставался сельским хозяином, рачительным и незлобным. Его сердце сжалось. Он предложил кинуть жребий: из этих троих умрёт только один. Три соломинки были зажаты в руке. Ричард Арнольд вынул короткую. Тут же его расстреляли. Остальные тринадцать остались под стражей. Были арестованы майор Скотт и капитан Брей.
К несчастью, это было жестокой необходимостью, ибо мятеж в армии страшней и кровавей народного бунта. Так
Кромвель и объяснил это Эдмунду Ладло. Тот выслушал и промолчал. Девятнадцатого ноября на заседании нижней палаты Кромвель сообщил представителям нации о происшедшем в Уэре. Ему выразили признательность подавляющим большинством голосов. Против этого предложения голосовал один Эдмунд Ладло, которого не удалось убедить.
Казалось, он победил. Его действия были одобрены. Арестованные были отпущены. Даже самые яростные республиканцы, Ренборо и Скотт, не попали под суд. Однако положение Кромвеля становилось всё более шатким. Каждый успех генерала вызывал у пресвитериан новые опасения, они просто-напросто боялись его. В подавлении мятежа республиканцы видели новые доказательства его измены общему делу, которое было для них делом Господа. Откуда-то явился вдруг проповедник по велению Господа, как он объявил, в те времена это было дело обычное. Господь призвал его известить генералов Кромвеля и Ферфакса, что Он оставляет их, оставляет за то, что его святые попали в темницу. В умах солдат этот голос, донёсшийся с Неба, произвёл новое потрясение. Республиканцы в полках объявили Кромвелю и Ферфаксу, теперь оставленным Господом, что ни строгость, ни казни не могут отклонить их от поставленной цели, что они продолжают требовать низложения короля и учрежденья республики, грозили в случае отказа разъединить армию, повести за собой по меньшей мере её половину, клялись, что пойдут до конца.
Ещё хорошо, что стали понемногу выясняться подробности бегства. Ночь была тёмной, холодной. На небе не было ни звезды. Из королевского леса мог вывести только монарх. Он и вывел, однако довольно долго проплутал в темноте. Шарфы повязали повыше, спрятали лица и поскакали по дороге на юг. На одиноких всадников не обращали вйимания. На несколько дней им была обеспечена безопасность. Но куда скакали они? Оказалось, что никто из них этого точно не знал. Эшбернгем, главный зачинщик побега, некоторое время вёл переговоры в Саутгемптоне с владельцами кораблей, которые могли переправить во Францию несколько путников. Переговоры ничем не закончились. Корабельщики мялись. Это было опасно. Ренборо, назначенный чем-то вроде морского министра, отдал строжайший приказ тщательно осматривать все суда, выходящие или входящие в английские гавани. Стало быть, Саутгемптон отпадал. Уже в дороге вспомнили про остров Уайт, место отдалённое, со слабой охраной и в то же время удобное для сношения с Францией. Поскакали туда. Появление незваного гостя коменданта крепости поразило как гром. Ему приходился роднёй капеллан короля, а через Оливера Сент-Джона сам Кромвель. Он не мог не принять государя, но не имел на это приказа, и Кромвель мог его расстрелять. В первую минуту комендант простонал:
— Вы погубили меня!
Потом попришел в себя и сказал:
— Я не подам его величеству повода жаловаться на меня. Никто не скажет обо мне, что я обманул его ожидания. Я поступлю как человек благородный.
И предоставил замок Кэрисбрук, который охраняло не более дюжины старых солдат. В пределах острова король пользовался полной свободой, мог прогуливаться или ездить верхом.
Карл был поначалу смущён неожиданным водворением на Уайте, однако недолго. Восстав ото сна, полюбовался из окна замка прекрасным видом на море, подышал свежим воздухом и пришёл в своё обычное состояние бесконечного оптимизма, уверенный в том, что в его жизни всё будет исключительно хорошо, несмотря ни на что.
Зато комендант Хэммонд не находил себе места. Он срочным курьером отправил послания председателю нижней палаты и Кромвелю, уверяя в своей преданности и того и другого. Кромвель получил его сразу после событий в Уэре. На сердце у него отлегло. О месте пребывания короля он сделал в парламенте сообщение с таким весёлым лицом, таким приподнятым тоном, что многие были удивлены.
Радость Кромвеля было легко объяснить. Король не в Шотландии и не во Франции, стало быть, война, по крайней мере, откладывается, а может быть, удастся и вовсе её избежать, что при волнениях в армии было самое главное. Даже лучше, что он теперь на Уайте. Здесь, в Гемптон-Корте, вблизи Лондона, он одним своим присутствием будоражил умы. Теперь он далеко, плести свои козни оттуда ему будет намного сложней. Как не вздохнуть с облегчением.
Но облегчение было недолгим. Его трезвый практический ум очень скоро открыл, что бессмысленным бегством монарх резко изменил соотношение сил.
Его беспокойство вызывали соратники. Многие ли из них сохранят теперь доверие к королю? Может ли он сам ему доверять? Однако он твёрдо верил, что его судьба, каждый шаг и каждая мысль в руках Господа. Господь должен всё решить за него, а воля Господа была ему неясна.
Кромвель часто оставался дома, читал Библию и подолгу молился. Друзьям, навещавшим его, твердил, что заблуждался, наделал много ошибок, неверно понимая указания Господа. Он ждал нового и ясного знака, а Господь никакого знака не подавал. Это было самым главным несчастьем, и генерал в эти дни растерянности, распутья и долгих молитв жестоко страдал.
Его вывел из этого состояния Джон Беркли, прибывший в главную квартиру в конце ноября. Он привёз письма короля, обращённые к Ферфаксу, Кромвелю и Айртону. По дороге он встретил корнета Джойса. Корнет удивился его появлению и сообщил, что агитаторы не только ничего не боятся, но сумели привлечь на свою сторону генералов и собираются судить монарха. В Виндзоре он застал военный совет, вступил в зал и подал Ферфаксу письмо. Письмо было принято, но его попросили подождать ответа за дверью. Спустя полчаса пригласили войти. Ферфакс прямо-таки огорошил его:
— Мы — армия парламента. Нам нечего отвечать на предложения его величества. Обсуждать их может только парламент.
Беркли с недоумением поглядел на Айртона, поглядел на Кромвеля, но встретил презрительные улыбки и едва приметный поклон. Ему пришлось удалиться. Он пробовал выяснить, что же случилось, всё ещё не понимая, как много вреда король принёс сам себе своим бегством. Один комендант гарнизона в Виндзоре согласился встретиться с ним, но тайно и в полночь. Они встретились на задах таверны «Подвязка». Комендант даже здесь опасался говорить громко и едва слышно шептал:
— Раздражение армии так велико, что я жизнью рискую, встретившись с вами, потому что ещё нынешний день генерал Айртон сделал два предложения: отправить вас под арест в Лондон и запретить кому бы то ни было встречи с вами под страхом смертной казни. Если королю не надоело жить, пусть немедленно спасается бегством.
— Стоит ли мне передавать Айртону и Кромвелю письма, данные мне государем?
— Непременно, а то они могут подумать, что я открыл вам их планы.
Беркли передал. Кромвель прочитал и сквозь зубы процедил:
— Я ещё постараюсь послужить королю, но он не должен ожидать от меня, чтобы я из любви к нему себя погубил.
Он действительно решил ждать, что скажет парламент. В парламенте шли бурные прения. Индепенденты, всё больше попадавшие под влияние армии, настаивали на том, чтобы парламент окончательно порвал с королём и прекратил с ним любые сношения, что, в сущности, должно было означать низложение. Напротив, пресвитериане предлагали ещё раз попытаться договориться с государем и сделать ему новые предложения. Предложений было только четыре:
уступает парламенту командование морскими и сухопутными силами на двадцать лет или больше, если этого потребуется для безопасности государства;
отменяет все свои постановления и заявления, в которых обвиняет парламент в противозаконных действиях и в мятеже;
уничтожает все грамоты на возведение в лорды, данные после его отъезда из Лондона;
предоставляет парламенту право собираться, когда и где он сочтёт нужным.
Двадцать седьмого ноября они прошли в нижней палате слабым большинством, сто пятнадцать против ста шести. На некоторое время эти предложения застряли в верхней палате. Только в декабре они были утверждены и отправлены на остров Уайт.
Положение становилось критическим. Имей Карл хоть каплю здравого смысла, он должен был их принять, в противном случае парламенту ничего не останется, как его низложить.
Низложение означало республику, от которой Кромвель не ждал ничего хорошего. В Англии было слишком тревожно. Ни индепенденты, ни левеллеры парламенту больше не верили и наверняка оставят его без поддержки, пока он не выполнит их предложений. Слухи о республики волновали людей из всех классов общества. В графствах нестройные толпы ходили по улицам с криками в честь короля.
Сможет ли парламент укротить недовольных и навести порядок в стране? Он сомневался. Парламент утратил власть даже в Лондоне. В графствах царило безвластие. Именитые люди, крупные землевладельцы, богатые горожане, уставшие от беспорядков, напуганные гражданской войной, уходили от выборных должностей и сторонились общественных дел. Должности в графствах, в городских советах и местных судах всё чаще попадали в руки людей незнатных и малоимущих. Большей частью они были вороваты и алчны, но не имели опыта управления, могли действовать энергично, но эта энергия, без знаний и опыта, могла быть разрушительной. Все точно ждали сигнала, чтобы восторжествовала анархия, и тогда Англия погрузится в безумие хаоса. Кто остановит его? Только армия.
Кромвель спешил до решения короля хоть как-то примирить враждебные стороны, в своём доме устроил обед, пригласил на него вождей пресвитериан и индепендентов, духовных и светских, в жаркой речи указывал на опасности, встающие перед Англией, призывал позабыть хотя бы на время все богословские расхождения и личные ссоры, чтобы общими усилиями одолеть анархию и хаос. Разговора просто не получилось. Гости разошлись, каждый оставшись при своём убеждении.
Подошло Рождество. В этот раз Кромвель был ему особенно рад. Ещё оставалась надежда добиться примирения в армии, и он созвал в главную квартиру в Виндзоре генералов, старших офицеров и командиров полков, без различия, ещё преданных ему или уже готовых воевать за республику, на общий молебен. Он предварял приглашённых, что им следует обсудить и договориться, какой образ правления больше всего подходит для Англии, а перед тем в общей молитве просить Господа, чтобы он просветил их слабые, земные умы.
Молились горячо. После молитвы принялись рассуждать. Ладло, Вэн и другие индепенденты, представленные в парламенте, категорически высказались против монархии, которая, по их мнению, осуждена не только опытом, но и разумом. Генералы высказывались более осторожно. По их мнению, нынче ничего не остаётся, как желать установления республики, но никто из них не был уверен, что её существование будет достаточно продолжительным, чтобы установился порядок в стране. Они склонялись к тому, что лучше всего подождать, поглядеть, куда повернёт ход событий, и повиноваться велениям Господа.
Правы оказались те генералы и Кромвель, предпочитавшие ждать. Обстоятельства вдруг повернулись так, как никто предвидеть не мог. Из двух возможных решений король выбрал третье, в сущности, невозможное. Пока представители нации препирались, к нему проникли более настойчивые и решительные шотландские комиссары, они тоже смягчили условия. Взамен шотландская армия вступит в Англию и станет сражаться с англичанами до тех пор, пока не восстановит королевскую власть во всей полноте. Соглашение подписали, уложили в свинцовый ларец и закопали во дворе замка.
Только после этого Карл призвал к себе делегатов, направленных к нему от парламента, он не только отверг все предложения, но ещё имел глупость потребовать, чтобы ему была предоставлена возможность переговоры с парламентом вести лично.
Делегация удалилась безмолвно. Коменданту Хэммонду были даны недвусмысленные инструкции. Не успели делегаты покинуть остров Уайт, как король призвал к себе Беркли и Эшбернгема и стал обсуждать с ними детали побега, который был назначен на эту же ночь. Но ворота замка были заперты на замок, вход в него был закрыт для всех посторонних, караулы удвоены, всем слугам был отдан приказ немедленно удалиться из замка.
Монарх дал волю гневу, призвал к себе Хэммонда и накинулся на него:
— По какому праву вы так со мной обращаетесь? Где ваши полномочия?
От неожиданности Хэммонд смешался и пролепетал, что не имеет письменных инструкций, но всё-таки нашёлся сказать, что это следствие его отказа парламенту.
Король наступал:
— Разве вы не давали мне честного слова, что ни в каком случае не воспользуетесь против меня выгодами своего положения?
Хэммонд стал приходить в себя:
— Я никакого слова вам не давал.
— Вы или молчите, или даёте двусмысленные ответы! Оставите ли вы по крайней мере моих капелланов, ведь вы стоите за свободу совести, неужели меня лишат её?
Хэммонд обрёл наконец твёрдость, которая должна быть у стражника:
— Я не могу оставить вам капелланов.
— Вы обращаетесь со мной не как дворянин и не как христианин!
— Я поговорю с вами, когда вы будете в лучшем расположении духа.
— Я хорошо спал эту ночь.
— Я обращался очень вежливо с вами.
— Зачем же теперь вы перестали обращаться так же?
— Государь, вы слишком высоки.
Король нашёл возможным острить:
— В этом виноват мой башмачник.
Он повторил это дважды, несколько раз прошёлся по комнате, стал остывать и уже спокойней спросил:
— Могу ли я по крайней мере гулять?
— Нет, я не могу позволить вам этого.
— Вы не можете мне позволить?! Стало быть, я в тюрьме?! Где же верность, которую вы мне обещали? Где ваши клятвы? Отвечайте же мне!
Он забыл, что явился незваным и тем поставил коменданта в ложное положение. Хэммонд не решился ему это сказать и молча вышел, но своих приказов не отменил.
Король действительно оказался в тюрьме.
Между тем его высокомерный отказ вывел из равновесия даже пресвитериан, которые предводительствовали в парламенте. К тому же шпионы Кромвеля добросовестно исполняли возложенные на них поручения. Им скоро стало известно в общих чертах содержание договора. Всем стало ясно: это война. Возмущение парламента и армии стало единодушным. Не успело третьего января 1648 года открыться заседание нижней палаты, как со скамьи поднялся самый неприметный, самый молчаливый депутат Томас Рот и сказал:
— Милорд председатель, наш король в последнее время ведёт себя так, как будто единственным приличным местом его пребывания был бы Бедлам[21]. Я покорнейше прошу более не обращаться к нему.
Айртон тотчас его поддержал:
— Государь отказал своему народу в защите и покровительстве, отвергнув его предложения, но мы обязаны повиноваться ему только за его покровительство. Он отказывает нам в этом, следовательно, и мы не обязаны подчиняться и управлять государством должны без него.
После столь решительных заявлений пресвитериане стали приходить в себя. Один из их вождей заявил:
— Отказаться от согласия с королём — значит уничтожить парламент!
В самом деле, это было давним обычаем, но не законом, а всё-таки аргумент был очень сильный, опровергнуть его было нельзя, его можно было только отбросить, разрушив традицию. Никто не решался на это. Пресвитериане ободрились. Представители нации колебались. Предложение Томаса Рота могло не пройти.
Мужественное предложение Томаса Рота было принято подавляющим большинством голосов: сто сорок один против девяноста двух.
Вскоре военный комитет двух королевств, созданный во время первой гражданской войны, был распущен. Вместо него был создан Комитет безопасности, или Комитет Дерби-хауза, как стали его называть по месту, где он заседал. Во всех вопросах безопасности и войны он был объявлен полностью независимым от парламента. Было самое время. Война уже началась.
4
Вскоре был отдан новый приказ: арестовать короля и переправить его в замок Херст-Кастл. Отряд высадился на Уайте в сумерки под проливным дождём. Помещение, где жил государь, было окружено караулом, часовые стояли под каждым окном и внутри. Приближённые советовали Карлу тотчас бежать, уверяя его, что в эту тёмную дождливую ночь достаточно возможностей для того, чтобы ускользнуть и от самой строгой охраны. Но воля короля, всегда слабая, была парализована окончательно. Он утешался надеждой, уже не слабой, но призрачной, будто им, армии и парламенту, не обойтись без него, и отклонил предложение, может быть, фантастическое, но всё же в этих обстоятельствах исполнимое.
Ему не дали выспаться. В дверь постучали. Чей-то голос громко сказал:
— Отоприте.
Герцог Ричмонд, охранявший покой короля, отказался. Снаружи стучали. Государь проснулся и сказал:
— Отоприте.
Вошёл, гремя шпорами, офицер с охраной. Офицер, не поклонившись, не отдав почестей, должных по этикету, сказал:
— Ваше величество, у нас приказ увезти вас отсюда.
— Приказ? От кого?
— От армии.
— Куда?
— В замок.
— А какой?
— В замок.
— Такого замка нет, который назывался бы просто замком. Я готов следовать в какой угодно замок, только назовёте его.
— В замок Херст-Кастл.
— Худшего выбрать они не могли! Позволено ли мне взять с собой слуг?
— Только самых необходимых.
Король выбрал двух камердинеров. Герцог Ричмонд вышел распорядиться, чтобы приготовили завтрак. Но под окнами застучали подковы. Подали лошадей. Офицер сказал без поклона:
— Ваше величество, надобно ехать.
Король не нашёл, что возразить. Он молча вышел и поместился в карете вместе с двумя камердинерами. Офицер хотел сесть рядом с ним, но государь выставил ногу и приказал затворить дверцы кареты. Отряд кавалерии тотчас её окружил. На берегу их ожидало небольшое судёнышко. Спустя три часа они были в Херст-Кастле.
Замок возвышался на одинокой скале. В подножие с злобным рёвом бросался прибой. Даже в летнюю пору замок был сырым и угрюмым, зимой ледяной холод исходил от неровных каменных стен.
Король почувствовал вдруг, что он обречён. Ему го и дело припоминались мрачные трагедии прошлого: Генрих VI, Эдуард II, удавленный в Беркли, Ричард II и чаще других его бабка Мария Стюарт, казнённая в замке Фотерингей, грозный пример и соблазнительный юридический прецедент: если можно было бросить под топор палача королеву, то почему нельзя также поступить с королём?
Прежде презиравший охрану, монарх заговорил, рассчитывая на то, что каждое его слово попадёт, куда надо. Он досконально изучил декларацию, в которой армия требовала судить его как преступника, однако один из агентов сумел тайно ему передать:
«Меня заверили, что Кромвель не соглашается с ними. Его намерения и их планы несовместимы, как огонь и вода. Они стремятся к чистой демократии, тогда как он видит свой идеал в олигархии».
Теперь он рассчитывал на него, убеждал офицера охраны:
— Не существует законов, на основании которых государь может быть привлечён к суду своими же подданными.
Он был в этом прав, к тому же стремился опровергнуть юридический прецедент: ведь королева Мария Стюарт была казнена не по приговору подданных, а по приговору, который подписала другая королева, королева Елизавета. Офицеру нечего было ответить, или у него был приказ в разговоры с узником не вступать. Пленник всё же на что-то надеялся, пробовал даже пугать, что в случае расправы над ним торговцы и финансисты откажут в поддержке парламенту, а европейские государи в знак мести вторгнутся в Англию, с ними соединятся повстанцы Ирландии, в таком случае парламенту не устоять.
Всё это был уже пустой разговор. Второго декабря армия в полном порядке вступила в Лондон, торжественно, строго, в полном молчании, точно каждый солдат понимал историческую важность момента. Полк кавалерии разместился в Гайд-парке, недалеко от Вестминстера, как будто взял его под прицел. Главная квартира расположилась в Уайт-холле. Покои короля занял Ферфакс.
Это было предупреждение. Парламент его не услышал. Он тоже питался надеждами, что его не тронут, потому что без него нельзя обойтись. Четвёртого декабря представителям нации стало известно, что монарх заключён в мрачный Херст-Кастл. Пресвитериане встретили это известие бурей негодования:
— Мы обесчещены!
— О нет! Этого мало! Мы погибли, если не отразим блистательным образом этого дерзкого беззакония!
Принялись отражать. Правда, ничего блистательного из этого не получилось. Было принято довольно безобидное и скромное постановление, что похищение короля произошло без ведома и согласия представителей нации. Зато с новым жаром принялись обсуждать уступки, сделанные государем. Это было сражение индепендентов с пресвитерианами. Доводы с обеих сторон гремели, как выстрелы. Ночь наступала. Старики и те, кто был послабей, начинали дремать. Тогда поднялся Уильям Принн, сторонник пресвитериан, богослов, одним из первых поднявший бесстрашный голос против злоупотреблений короля и правительства, одним из первых пострадавший от королевского произвола: несколько лет провёл он в тюрьме, у него были отрезаны оба уха, он выдержал наказание позорным столбом. Он произнёс длинную речь:
— Милорд председатель! Всем известно, что я стану говорить в пользу мира, а меня уже обвиняют в отступничестве, уже называют меня фаворитом короля, намекая на заглавие одного из моих сочинений. Что ж, я напомню вам все те милости, которыми меня удостоили его величество и его министры: отрезали мне сперва одно ухо, потом другое; три раза выставляли меня к позорному столбу и держали каждый раз по два часа; палачи сожгли мои сочинения, хотя цензура позволила их напечатать; осудили меня уплатить два штрафа, каждый по пять тысяч фунтов стерлингов, продержали меня восемь лет в тюрьме, не давая ни перьев, ни чернил, ни бумаги, ни книг, кроме Библии, не допускали ко мне друзей, давали мне столько пищи, чтобы только не умереть от голода. И если кто из представителей нации завидует мне, тот имеет полное основание величать меня фаворитом или отступником.
Это был сильнейший удар. Великого страдальца, которому только что пошёл сорок девятый год, стали слушать внимательно. Он анализировал положение страны и парламента со всех точек зрения, тоже беззаветно верил в благоволение Господа, как верил Кромвель, как верил король; горячо призывал слабодушных к твёрдости, а тех, кто колебался, к решительности:
— Милорд председатель! Говорят, что мы погибли, если возбудим неудовольствие армии. Больше того, один из её вождей мне объявил, что он сложит оружие и не останется больше на службе парламенту. Что же будет тогда с нашими друзьями и с нами, спрашивают меня? Если бы так и случилось, признаюсь откровенно, я не стал бы дорожить службой столь непостоянных и упрямых слуг. Я не сомневаюсь, что в случае, если армия нас оставит, Господь и всё королевство будут за нас. А если нам удастся сойтись с государем насчёт договора, тогда, я надеюсь, услуги армии будут нам уже не нужны. Но что бы ни случилось, будем исполнять свой долг и предадим воле Господа всё остальное.
Что-то вроде безумия охватило представителей нации. Было девять часов утра. Заседание длилось уже целые сутки. Король был арестован. Кавалерия стояла у ворот и охраняла все входы в Вестминстер. Они приступили к голосованию. Большинством было принято героическое и погибельное постановление о том, что ответы монарха удовлетворяют парламент и должны служить основанием для примирения. Этого показалось мало, решили также распустить армию, оставив только несколько гарнизонов для несения службы в приморских крепостях на случай военной интервенции из Ирландии и Европы.
Каю они предполагали провести эти решения в жизнь, осталось навсегда неизвестным. Терпение армии давно должно было лопнуть. Может быть, её удерживало от взрыва только стремление Кромвеля к согласию, к справедливому договору и гражданскому миру. Но Кромвеля не было в Лондоне, и войска взбунтовались.
Пятого декабря с утра три офицера и три депутата из группы индепендентов привольно сидели за громадным овальным столом. На столе было много бумаги и перьев. Эти шестеро основательно и не спеша перебирали всех депутатов парламента. В день открытия их было более пятисот. Спустя восемь лет их осталось что-то около двухсот тридцати. Тем не менее это была большая работа. О каждом депутате припоминали, кто он, откуда, говорил или молчал, о чём говорил, за кого и за что голосовал. После этого его имя заносили в один из двух списков.
К вечеру труд был окончен. Ночью заседал военный совет, однако не весь, на нём не доставало Ферфакса. Решение приняли без него и не посчитали нужным поставить генерала в известность.
Шестого декабря, утром пораньше, пехота полковника Прайда, бывшего возчика в пакгаузах Темзы, произведённого в полковники Кромвелем, и кавалерия полковника Рича сжали Вестминстер плотным кольцом. В самом Вестминстере повсюду, в коридорах, на лестницах, в вестибюлях, стояла охрана. Полковник Прайд занял пост у входа. Рядом с ним — лорд Грей, он называл имя каждого подходившего депутата. Прайд заглядывал в списки и одних пропускал, а другим говорил кратко и грубо:
— Вы не войдёте.
Многих просто-напросто отправляли домой, кое-кого арестовывали и отправляли в соседнюю комнату. Капеллан Ферфакса, со шпагой, но в одеянии проповедника, их охранял. Один из арестованных возмущённо спросил, по какому праву их задержали. Капеллан засмеялся и хлопнул по шпаге:
— По праву вот этой штуки.
Штука была знаменитая. По праву этой штуки в Англии были убиты, отравлены, удавлены и казнены лорды и многие короли, недаром о них с тоскливым предчувствием так часто вспоминал арестованный Карл.
Принн отказался подчиниться приказу и попытался войти — его сбросили с лестницы. Кто-то пробрался в зал заседаний и закричал:
— Милорд председатель! Неужели палата допустит, чтобы изгоняли её членов, неужели вы будете сидеть сложа руки?!
Председатель смутился и направил герольда, который призвал депутатов занять свои места. Прайд никого из них не впустил. Представители нации вдруг решились постановить, что не станут ничем заниматься, пока не окажутся в полном составе, видимо, полагая, что таким образом будет парализована власть. Им подали петицию армии, в которой требовали немедленно исключить арестованных депутатов и всех тех, кто подал голоса за соглашение с королём. Она не получила ответа.
Вечером этого дня Кромвель вернулся в Лондон. К нему обращались с требованиями, с запросами. Он всем одинаково отвечал, что ничего не знал о том, какие действия предпримут его офицеры, но он находит их своевременными и целиком и полностью одобряет их. Другими словами, то, чего он не хотел, совершилось без его ведома и участия. Следовательно, решил он, такова была воля Господа, и его обязанность исполнить её, он ни во что не вмешался и ничего не остановил.
Утром седьмого декабря пехота Прайда и кавалерия Рича вновь сжала Вестминстер плотным кольцом. Чистка продолжилась. В общей сложности арестовали человек сорок. Всего исключили из нижней палаты сто сорок представителей нации. Все они были пресвитериане, как раз те, кто четвёртого утром голосовал за роспуск армии и соглашение с королём. Оставили человек восемьдесят, однако и они далеко не все собирались на заседания. Мероприятие назвали «Прайдовой чисткой». Капеллан Ферфакса прочитал собравшимся проповедь: «Подобно Моисею, вы предназначены освободить народ от рабства египетского.
Как может исполниться это предназначение, об этом мне пока что не было откровения».
Он закрыл лицо крепкими руками бойца, хорошо владевшего шпагой, припал к подушке, которая лежала на кафедре, потом встрепенулся и возгласил:
— Вот оно! Я сообщу его вам! Эта армия искоренит монархию не только здесь, в Англии, но и во Франции и во всех тех державах, которые нас окружают, и таким образом выведет вас из Египта. Говорят, что мы вступаем на путь, по которому ещё никто не ходил. Однако ж припомните Матерь Господа нашего Иисуса Христа! Разве до Неё были примеры непорочного зачатия? Мы живём в эпоху, которая послужит примером грядущим векам!
Представители нации, все из группы индепендентов, возликовали. Вскоре они увидели Кромвеля, который, после долгого перерыва, вновь занял своё место в парламенте, и возликовали ещё раз. Председатель официально объявил ему благодарность за шотландский поход. Депутаты с восторгом её поддержали. Он без ложной скромности изъявил им признательность и ещё раз повторил, призвав в свидетели Господа:
— Господь свидетель, я ничего не знал о том, что здесь происходит, но так как дело сделано, я очень рад, теперь нужно его поддержать.
На другой день армия арестовала денежные средства всех парламентских комитетов, довольно большие, на том основании, что при постоянной задержке жалованья сама вынуждена заботиться о собственных нуждах. Одиннадцатого декабря Ферфаксу была представлена петиция от имени армии, в которой требовали, чтобы судьба короля была рассмотрена сначала собранием офицеров, а потом нижней палатой. Тем временем нижняя палата в своём сильно урезанном составе отменила свои прежние решения о роспуске армии и о соглашении с государем. Из полков, от городских советов и графств поступали декларации на имя парламента и Ферфакса, которые требовали судить короля. Для начала был отдан приказ перевезти его из Херст-Кастла в Виндзор. Приказ был своевременным. Принц Руперт готовил нападение на эту одинокую крепость. Несколько судов, полных солдатами, уже были в пути.
В ночь на семнадцатое декабря Карл проснулся от громкого шума. Он слышал, как скрипели цепи, опускавшие мост, как группа всадников въезжала во двор. Должно быть, узник терялся в догадках, кто это: Руперт или усиление эскадронов, стороживших его. Он отправил слугу:
— Узнайте, кто это.
Слуга возвратился:
— Это полковник Гаррисон.
На глазах короля появились слёзы. Слуга бросился его успокаивать. Государь с расстроенным лицом упавшим голосом разъяснил:
— Я не испугался, но вы, должно быть, не знаете, что этот полковник поклялся меня убить ещё во время последних переговоров. Об этом меня уведомили письмом. Я никогда не видел его и не сделал ему никакого зла.
Он явным образом путался, всё ещё полагая, что тут возможна личная месть, и вдруг спохватился:
— Мне бы не хотелось, чтобы меня застали врасплох. Это место чрезвычайно удобно для преступления.
Он послал узнать, зачем приехал полковник. Вскоре доложили, что пленника увозят в Виндзор. Король был рад, как ребёнок:
— Слава Господу! Стало быть, они стали сговорчивей! Виндзор мне всегда нравился больше других моих замков. Там я буду вознаграждён за всё, что вытерпел здесь.
Переезд задерживался. Полковник делал всё обстоятельно, вперёд был выслан эскадрон кавалерии, которому он предписал проверять окрестности на расстоянии одного дня пути. Монарх его торопил, всё ещё уверенный в том, что ни один волос не может упасть с его головы и что вот он был во всём прав, они не обошлись без него.
Наконец его посадили в карету и окружили плотным кольцом. Рядом безотлучно сидел офицер. Впереди и позади в строгом порядке шла кавалерия. Столь строгие меры были приняты не напрасно: принц Руперт опоздал всего на один день.
Короля встречали толпы фермеров, горожан и дворян. Одни приходили взглянуть из праздного любопытства, другие сочувствовали и выражали, негромко и между собой, надежду на то, что его величество скоро будет свободен, третьи так натерпелись от гражданской войны, что желали суда над главным виновником своих бед. Какой-то мэр во главе своих олдерменов попытался вручить ему, как полагалось, ключи от города и приветствовать его официальной речью, но к нему подъехал охранник и напомнил ему, что парламент объявил изменником каждого, кто попытается каким-либо образом входить в сношения с королём. Городские власти побледнели и бросились униженно извиняться.
Во избежание подкупа или иного воздействия эскадроны охраны постоянно менялись, и не напрасно. Карлу готовили побег, ему дали об этом знать, и он был готов; попросил остановиться в Бэгшоте и разрешить ему отобедать отчего-то в лесу с лордом Ньюборо, одним из самых преданных кавалеров. Полковник согласился, не подозревая подвоха. После обеда лорд сделал своему государю личный подарок. Он был страстный лошадник и подвёл Карлу коня. По мнению многих, это был лучший конь во всей Англии. Только тут полковник, тоже знаток лошадей, заподозрил неладное. Он приказал отдать коня своему адъютанту. Побег не удался. Карета с королём и конвоем двинулась дальше.
К вечеру король увидел Виндзор.
5
Его встретили с должным почтением; покои были убраны с прежней роскошью, возвратили слуг и придворных, готовили изысканные блюда. Монарх обедал за общим столом, и во время обеда, как прежде, велась прежняя светская болтовня.
В тот же день, двадцать третьего декабря, нижняя палата, сокращённая Прайдовой чисткой, постановила, что главным виновником всех несчастий страны был король, и создала комитет, который должен был разрешить вопрос о возможности и самой процедуре суда над главным обвиняемым и другими преступниками.
Вопрос был юридически не разрешим: парламент не имел законного права судить, тем более свергать и казнить короля.
Члены комитета разошлись во мнениях. Многие были твёрдо уверены, что короля необходимо судить и казнить по законам военного времени. Другие туманно и робко предлагали тайно убить монарха, да и дело с концом. Третьи желали сохранись жизнь и власть государя, несмотря ни на что, но они большей частью молчали, не желая ни поссориться со своими товарищами, ни выдать себя.
Кромвель тоже молчал. Он, естественно, входил в состав комитета, но появлялся редко, предоставив разглагольствовать Айртону, проводил много времени на заседаниях нижней палаты, но в полном безмолвии, не вмешиваясь ни в мирные, ни в жаркие прения.
Кромвель никогда не рассчитывал на свой земной, человеческий разум; был убеждён, что такие вопросы решает только Господь и что придёт день и час, когда Господь подаст ему знак.
Генерал предлагал отложить суд над Карлом Стюартом и сначала судить его самых ярых сторонников, совершивших очевидные преступления. С виднейшими юристами он обсуждал возможность возведения на престол младшего сына герцога Глостера. Ходили даже тёмные слухи, будто уже в эти последние дни генерал делал королю какие-то тайные предложения, в надежде, что тот пойдёт наконец на уступки и по меньшей мере спасёт свою жизнь.
Однако Господь не подавал ему знака. Военный совет отклонил это предложение. Юристы высказали сомнение в законности коронации герцога Глостера, поскольку закон предусматривал передачу престола старшему сыну, а короновать старшего сына нельзя, поскольку он принимал участие в гражданской войне.
А комитет продолжал заседать, и первого января 1649 года от его имени Генрих Мартен внёс в парламент проект предложения:
«Всем известно, что Карл Стюарт, теперешний король Англии, не довольствуясь многими посягательствами на права и свободы народа, которые были допущены его предшественниками, задался целью полностью уничтожить древние и основополагающие законы и права этой нации и ввести вместо них произвольное и тираническое правление, ради чего он развязал ужасную войну против парламента и народа, которая опустошила страну, истощила казну, приостановила полезные занятия и торговлю и стоила жизни многим тысячам людей, а также изменнически и злоумышленно стремился поработить английскую нацию. Посему, на страх всем будущим правителям, которые могут пытаться предпринять нечто подобное, король должен быть привлечён к ответу перед специальной судебной палатой, состоящей из ста пятидесяти членов, назначенных настоящим парламентом, под председательством двух верховных судей...»
Нижняя палата объявила ещё раз Карла Стюарта главным виновником гражданской войны союзником шотландцев и мятежных ирландцев в борьбе против Английского королевства и предложила создать для суда над ним Верховный судебный трибунал.
Постановление было удивительным по своей ясности, простоте и юридической несостоятельности. Оно осуждало деспотизм как систему государственной власти, но продолжало признавать королевскую власть. Этим документом монарх привлекался к суду как частное лицо, злоупотребившее властью.
Второго января палата лордов получила это постановление. Она должна была его принять или отклонить. В тот день, к немалому удивлению всех, в верхней палате присутствовало шестнадцать лордов, когда обычно являлось не более шести. Лорд Манчестер был председателем. Он произнёс бурную и длинную речь. Смысл её был в одной фразе, справедливость которой оспорить было нельзя:
— Только его величество имеет право созывать или распускать парламент, а потому абсурдно обвинять его в измене парламенту. Другими словами, нет парламента без короля, поэтому король не может быть преступником против парламента.
Его поддержали:
— Вряд ли даже один человек из двадцати согласится с утверждением, что государь, а не парламент развязал эту войну. Без предварительного выяснения этого обстоятельства короля невозможно обвинить в государственной измене.
— Нижней палате было угодно включить моё имя в своё постановление, но я скорее дам изрубить себя на куски, что стану участвовать в этой низости.
— Я не люблю мешаться туда, где дело идёт о жизни и смерти, я не стану говорить против, но и не соглашусь.
И все шестнадцать лордов единогласно отвергли это постановление нижней палаты. Однако они не могли не понять, что играют с огнём, поскольку на улицах Лондона неопределённо, но явственно волновался народ, а солдаты то и дело выкрикивали недвусмысленный лозунг «Суд и казнь!». Они тут же учредили недельный перерыв в заседаниях и благоразумно исчезли из города. Тем же путём исчезли три верховных судьи, которых парламент обязывал председательствовать на суде, в их числе двоюродный брат Кромвеля Оливер Сент-Джон.
Противодействие лордов стало известно представителям нации четвёртого января и вызвало обратное действие. Оказалось, что демократия имеет не меньше возможностей для произвола, чем самый отъявленный деспотизм. Шестого января нижняя палата постановила, что отныне мнение лордов не имеет никакого значения, что после Господа народ является единственным источником законной власти в стране, а потому верховная власть принадлежит нижней палате, которую избирал английский народ, и её решения не нуждаются в утверждении никакой другой палатой.
Разумеется, это было неправдой. Английский народ не избирал своих представителей в палату общин, их избирали только собственники, получавшие со своей собственности определённый доход.
В этом постановлении заключалась и другая ложь. Представители нации продолжали признавать как принцип королевскую власть и тут же отменяли старую, монархическую конституцию Англии. Отныне парламент провозглашал себя однопалатным и единственным источником законодательной власти, таким образом Английское королевство становилось республикой.
И провозгласив себя верховной властью в стране, эта одна десятая часть действительного состава нижней палаты предложила создать Верховный судебный трибунал в составе ста тридцати пяти человек. В состав трибунала должны были войти Кромвель, Ферфакс, Айртон, Гаррисон и многие высшие офицеры, гражданские лица, юристы, лорды и олдермены лондонского городского совета, причём было решено, что Верховный судебный трибунал будет иметь законную силу даже тогда, когда на заседание явится двадцать и более его членов. Решение было принято большинством голосов. Председателем трибунала был назначен Джон Бредшоу, популярный юрист, лет двадцать исправлявший должность лондонского судьи, известный также как яростный противник монархии.
Это был знак, и Кромвель сказал:
— Тот, кто имеет намерение и предлагает низложить короля или лишить престола его потомков, является величайшим изменником и бунтовщиком. Но уж если Провидение и необходимость нас к этому привели, я прошу Господа вразумить нас и наши начинания благословить, хотя сам я не могу пока что высказать никакого мнения.
Господь благословлял, но всех по-разному. Кромвель никогда не страдал легкомыслием, он подолгу раздумывал, колебался, взвешивал шансы, оценивал движение обстоятельства, выпытывая, в чём состоит воля Господня, и только после этого принимал определённое, всегда обоснованное решение. Зато, когда решение было принято, действовал неотразимо и прямо, как выпущенная стрела.
Создание Верховного судебного трибунала положило конец сомнениям. Он больше не рассчитывал и не предпринимал попыток договориться с королём. Напротив, пленнику дали понять, что время компромиссов прошло, удалили всех слуг, за исключением двух или трёх, но и с тех взяли клятву на Библии, что они станут доносить трибуналу о каждом слове, о каждом шаге своего господина. За его обеденным столом сидели теперь офицеры охраны. Государю подавали блюда в открытой посуде. Никто не пробовал кушаний у него на глазах, в доказательство, что они не отравлены. Чтобы сохранить достоинство, он вынужден был затвориться на своей половине и выбирать два-три блюда к обеду, которые доставляли прямо к нему в кабинет.
Кромвель и его офицеры давно считали Карла Стюарта преступником, развязавшим войну, ждали суда и не считали возможным пропускать заседания трибунала. Эдмунд Ладло решительно высказал общее мнение:
— Я убеждён, что всякие соглашения были бы несправедливы и противны слову Господню. Кровь затопила нашу страну и только кровью может быть смыта, кровью того человека, который пролил её.
Многие думали и поступали иначе. Странные происшествия приключались в Лондоне что ни день. У лордов и сельских хозяев вдруг обнаруживались неотложные дела в поместьях и замках, и они спешно оставляли столицу, причём первыми исчезли ведущие юристы, из опасения, что от них потребуют юридической помощи. Болезни также косили судей, назначенных в трибунал, они ложились в постель, вызывали врачей и за хорошие деньги получали свидетельства о тяжких болезнях. Немногие, но самые смелые открыто отказывались посещать это судилище, среди них Томас Ферфакс и Генрих Вен.
И народ волновался. Англия осталась расколота на два лагеря. Армия, кровью, увечьями и смертью товарищей сломившая сопротивление кавалеров, безоговорочно поддерживала суд и низвержение Карла Стюарта. На её стороне были неимущие, безработные, подмастерья, разорившиеся мелкие лавочники и мастера. Их было много, но также много было торговцев и финансистов, крупных землевладельцев, аристократии, титулованного дворянства, покупных баронетов, богатых фермеров и богатых сельских хозяев, которые страшились потерять короля, отчасти из уважения к монархической идее как таковой, отчасти из страха беспорядков и смуты, которые всегда наступают в годину безвластия.
А потому всюду, особенно в Лондоне, было брожение. Сторонники армии то и дело выкрикивали: «Суд и казнь!», им отвечали: «Бог и король!» Из рук в руки передавались десятки и сотни памфлетов, которые требовали суда и помилования.
В первый раз трибунал собрался восьмого января в два часа дня в так называемой Расписной палате Вестминстера, богато украшенной библейскими сюжетами и сценами из жизни святых, знаменитой более тем, что именно здесь были приняты решения о смертной казни Марии Стюарт и лорда Страффорда. Судей оказалось всего пятьдесят три человека. В сущности, решение они уже приняли и потому обсуждали детали процесса, выбрали место, где развернётся судебное действие, и определили, куда на всё время процесса поместить короля.
С утра девятнадцатого января двор Виндзора заполонили войска — около двухсот пехотинцев и отряд кавалерии полковника Гаррисона. Под усиленной охраной государя препроводили в карету, запряжённую шестерней, и доставили к Темзе. Здесь его пересадили на баржу и в окружении лодок с охраной перевезли в дом Роберта Коттона. Дом стоял на берегу и с этой стороны был безопасен от нападения. Его сад был виден из окон Вестминстера. Всюду днём и ночью стояла охрана. Два часовых дежурили у самых дверей короля. Офицер жил в его комнате и не спускал с него глаз.
На первое открытое заседание трибунал собрался в полдень двадцатого января. Предварительно в Расписной палате отслужили молебен, чтобы ещё раз испросить у Господа милости и справедливости. Не успел молебен окончиться, как офицер доложил, что монарха с минуты на минуту доставят в Вестминстер. Кромвель встал у окна. Он был заметно взволнован. Одна тяжёлая мысль всё ещё терзала его. Две шеренги солдат стояли в строгом порядке. Входную дверь окружала охрана. Карл появился, спокойный, но бледный. Его посадили в носилки, опустили занавески, захлопнули дверцы и понесли. Кромвель отошёл от окна и громко сказал:
— Милорды! Вот он! Вот он! Его ведут сюда! Час великого дела настал. На нас смотрит сейчас вся страна, и мы должны решить как можно скорей, что станем мы отвечать, когда государь спросит нас, чьей властью, какими полномочиями мы судим его.
Все молчали, точно впервые задумались над этим вопросом. Минута прошла. Генрих Мартен сказал:
— Именем нижней палаты, которая представляет парламент, именем всего доброго народа Англии.
Никто не поддержал и не возразил. Процессия во главе с Джоном Брэдшоу, на случай покушения подбившего шляпу стальными пластинами, торжественно двинулась в большую залу Вестминстерского дворца. Впереди него несли меч и жезл. Им предшествовал кортеж офицеров. Джон Брэдшоу опустился в кресло председателя, обитое алым бархатом. У его ног сидел секретарь. На стол, покрытый богатым турецким ковром, положили меч и жезл. На скамьях, покрытых кроваво-красным сукном, расселись члены трибунала. Всюду стояла вооружённая стража. Тогда двери раскрылись. В залу хлынули зрители всех сословий, пола и возраста, которым отводилась роль свидетелей правосудия. Для них были возведены галереи. Не успели они сесть, как вдоль галерей встали шеренги солдат.
Тогда ввели короля. Невысокого роста, с благородной осанкой, он шёл очень прямо и всем видом показывал, что глубоко презирает судей. Он был во всём чёрном, с дорогой тростью в правой руке. Его величество опустился в кресло, тоже обитое алым, и в знак королевского достоинства не обнажил головы.
Брэдшоу начал перекличку присяжных. Их оказалось шестьдесят семь человек вместо ста тридцати пяти. Первым был назван Томас Ферфакс. Его не оказалось на месте. С галереи женщина в маске, как оказалось, леди Ферфакс, выкрикнула громко и звонко:
— Он слишком умён, чтобы явиться сюда!
Брэдшоу встал:
— Карл Стюарт, король Англии! Общины Англии, представленные в парламенте, глубоко проникнутые сознанием бедствий, которым подвергался английский народ, полагая, что вы были главным виновником их, постановили преследовать эти преступления судом. С этой целью они учредили этот верховный суд, перед которым вы ныне явились. Вы сейчас услышите обвинения, которые вам предъявляют.
Он с важным видом вернулся в кресло и застыл в ожидании. Генеральный прокурор Джон Кук приготовился зачитать обвинительный акт. Король тронул его плечо набалдашником трости и негромко воскликнул:
— Молчите!
Неожиданно для всех набалдашник упал. Король поискал глазами того, кто ему окажет услугу, но никто не двинулся с места. Он в первый раз сам нагнулся за ним, смутился и замолчал. Джон Кук зачитал обвинительный акт и потребовал предать Карла Стюарта суду, как тирана, государственного преступника и убийцу. Услышав эти неслыханные слова обвинения, монарх засмеялся беззвучно, но промолчал.
Брэдшоу обратился к нему, но уже ни разу не назвал его ни милордом, ни вашим величеством:
— Сэр, вы слышали, в чём общины Англии вас обвиняют. Суд ожидает ответа.
Что мог ответить король? Его спрашивали, признает ли он себя виновным в беззакониях и произволе, в развязывании гражданской войны, в организации интервенции. Тираном он не признавал себя, поскольку считал, что тирания и есть истинная власть. Но он был виновен и в гражданской войне и в интервенции. Согласно с обычаем и конституцией Англии у него было право распустить парламент в любой день и час, но не было права применять к нему вооружённую силу, тем более призывать на помощь ирландцев, шотландцев или французов. Эту свою вину он оспорить не мог и не стал отвечать, но спросил именно то, чего все ждали:
— Я бы желал знать, какой властью я призван сюда? Совсем недавно я находился на острове Уайт и вёл переговоры с парламентом, обеспеченный общим доверием лордов и общин. Мы почти установили все условия мира. Так вот, я желал бы знать, кто дал вам власть, я разумею законную власть, потому что на свете есть много незаконных властей, например, власть воров и разбойников на больших дорогах. Повторяю, я желал бы знать, какой законной властью я вырван оттуда, какой законной властью меня возят с места на место и с какими намерениями? Когда мне укажут на эту законную власть, только тогда я смогу отвечать.
Брэдшоу не был смущён:
— Если бы, сэр, вам было угодно обратить внимание на слова, которые были произнесены судом, когда вы вошли сюда, вы бы знали, что это за власть. Мы судим вас именем народа Англии, который избрал вас в короли. Его именем мы требуем, чтобы вы отвечали.
— Нет, сэр, я возражаю.
— Если вы не признаете законность суда, суд начнёт процесс против вас.
— Хорошо, я вам отвечу. Англия никогда не была избирательным королевством. Уже около тысячи лет она является королевством наследственным. Теперь скажите же мне наконец, какой властью я призван сюда? Я готов поддерживать законные привилегии нижней палаты, но где же лорды? Я не вижу здесь лордов, а в Англии без лордов парламента нет. Потом был бы нужен также король. Разве так монарха приводят к парламенту?
— Хорошо, сэр. Суд выслушал вас. Уведите арестованного. Суд откладывается до понедельника.
Король вышел с тем же конвоем. Его сопровождали возгласы в переходах Вестминстера:
— Суд и казнь!
— Бог и король!
Однако ни в понедельник, ни в другие дни суд не сдвинулся с места. Диалог Брэдшоу и короля то и дело грозил перейти в перебранку. Карл отказывался отвечать на вопрос, признает ли он вину, и требовал указать ему на законные полномочия трибунала, а Брэдшоу повторял о полномочиях, данных народом Англии этой десятой части нижней палаты, и требовал прямого ответа.
Двадцать седьмого января состоялось последнее заседание. Ещё не заняв своё кресло, государь обратился к суду:
— Я попрошу позволения сказать одно слово и надеюсь, что не подам повода прерывать меня.
— Вы сможете говорить, когда придёт ваш черёд. Сначала вы должны выслушать суд.
— Сэр, с вашего позволения, я желаю, чтобы мне дали слово. Непосредственный приговор...
— Вас выслушают, сэр, в своё время.
И Брэдшоу стал говорить:
— Милорды, всем хорошо известно, что арестанта, стоящего здесь перед вами, уже несколько раз приводили в верховный суд, чтобы он ответил на обвинение в государственной измене и в других великих преступлениях, выдвинутых против него от имени английского народа...
С галереи его прервал голос леди Ферфакс:
— В этом не участвовало и половины народа! Где видите вы народ? Откуда известно, согласен ли он? Оливер Кромвель изменник!
Офицер охраны вскричал:
— Солдаты! Стреляйте в неё!
На галерее сделался шум. Солдаты с трудом восстановили порядок. Брэдшоу сказал свою речь. Секретарь прочитал приговор: смертная казнь через отсечение головы. Брэдшоу поднялся:
— Вот мнение, акт и единогласный приговор суда.
Все эти дни члены трибунала молчали, молчал вместе с ними и Кромвель. Теперь, в знак согласия они встали, и Кромвель встал вместе с ними. Король внезапно заговорил:
— Сэр, угодно ли вам выслушать меня?
Брэдшоу остался неколебим:
— Сэр, после произнесения приговора вы не можете говорить.
Король растерялся:
— Я могу говорить, когда приговор объявлен... Как вам угодно, сэр... Я всё-таки могу говорить... Позвольте... Погодите... Приговор, сэр... Мне не дают говорить! Какое же правосудие ждёт остальных?..
Его окружили солдаты. Он вынужден был покинуть залу суда. В переходах Вестминстера снова кричали:
— Суд и казнь!
— Да сохранит Господь короля!
Его провели через сад. Оставшись один, он обратился к слуге:
— Мои приближённые и приверженцы захотят увидеть меня. Я им благодарен за это. Но время моё кратко и дорого. Я хочу позаботиться о душе и надеюсь, что они не обидятся, если я приму только детей. Самая большая услуга состоит в том, чтобы обо мне помолились.
Двадцать восьмого числа к нему допустили епископа Джексона. Епископ хотел выразить ему своё соболезнование, но король его оборвал:
— У нас нет времени на такие занятия. Подумаем о нашем великом деле. Я должен приготовиться предстать перед Голодом, Которому скоро должен буду отдать отчёт. Я надеюсь, что этот переход совершу спокойно и что вы не откажетесь напутствовать меня. Не будем говорить об этих несчастных, они жаждут моей крови и получат её, да будет воля Господня! Я благодарю Господа, я прощаю всех от всего сердца...
И весь день он провёл в тихой беседе с епископом. Двадцать девятого числа к нему привели младших детей: принцессу Елизавету и герцога Глостера. Дети заплакали. Король посадил их на колени, утешил, как смог, разделил между ними свои бриллианты, указал дочери, что читать, чтобы укрепиться в истинной вере, просил передать ей матери, что он всем простил.
День перед казнью Карл провёл в посте и молитве, в день казни встал очень рано, одеваясь, попросил слугу сменить рубашку на более тёплую: был самый конец января, было холодно, он мог задрожать и боялся, что его дрожь примут за страх. Перед самым рассветом к нему привели епископа Джексона. Епископ стал читать двадцать седьмую главу из Евангелия от Матфея. Узник спросил:
— Может быть, вы избрали эту главу потому, что она больше других подходит к моему положению?
Джексон смутился:
— Ваше величество, вы можете посмотреть в календарь: это глава на нынешний день.
В десять часов в дверь постучали. Его вывели в сад. Несколько рот пехоты ожидали с развёрнутыми знамёнами. Они двинулись под бой барабанов. Всю дорогу король перебрасывался словами с епископом. Он говорил с ним о похоронах и о тех, кому поручить заботы о них. Лицо его было покойным.
Его привели в Уайт-холл. Он прошёл обеденной залой, в её стене был пробит выход. Карл появился в этом окне и ступил на помост, обитый чёрным сукном. У плахи с воткнутым топором стояли в масках два палача. Тысячи голов громоздились друг на друга внизу. Серый морозный пар исходил из тысяч. Над площадью поднимался туман. Вокруг эшафота толпился народ, любопытный и праздный, в этот момент одинаково равнодушный к судьбе Англии и к судьбе её короля. Над толпой стоял ровный шум: кто-то смеялся, кто-то говорил о своих делах, о погоде, о холоде, о ценах на хлеб.
Седые волосы приговорённого развевались по ветру. Палач попросил убрать их под шапочку. Он сделал это, снял плащ и крест святого Георгия и попросил палача поставить плаху потвёрже, чтобы ему не было больно, затем прочитал молитву, встал на колени, прошептал несколько слов, положил голову и протянул руки в сторону в знак того, что готов к смерти. Топор сверкнул, голова отделилась от туловища. Палач поднял её и прокричал:
— Вот голова государственного преступника!
Стон прошёл по толпе. Люди, мешая друг другу, бросились к эшафоту, чтобы успеть смочить свои платки кровью: это приносит счастье, согласно поверью.
Тело казнённого положили в приготовленный гроб. Поздним вечером в залу, минуя посты, вошёл человек, закутанный в плащ. Это был Оливер Кромвель. Он долго смотрел на покойника, потом взял в руки мёртвую голову и в тяжёлом раздумье негромко сказал:
— Это тело было сложено хорошо, для долгой жизни.
Гроб с телом стоял в Уайт-холле семь дней. Шестого февраля в полном молчании несколько человек подняли гроб и перенесли на руках в Виндзор, в капеллу святого Георгия.
«Тогда они вошли в церковь для того, чтобы выбрать место для могилы, но когда вошли, то не узнали всем хорошо известного храма, до такой степени в нём всё изменилось. Надгробия были сдвинуты и перемещены, надписи стёрлись так, что трудно было разобрать, кто и где здесь лежит и в каком месте похоронены английские короли. Не было сторожа и никого из служителей. Случайно оказавшийся горожанин показал им склеп, в котором лежало тело короля Генриха VIII и королевы Джейн Сеймур. Устроив могилу как можно ближе к этому месту, опустили в него тело короля Карла без каких бы то ни было церемоний, если не считать истинного горя и слёз всех, кто здесь стоял. На крышке гроба была прибита серебряная пластинка с простой надписью «Король Карл, 1649». Когда гроб был опущен в могилу, на него накинули покров чёрного бархата, поверх которого насыпали землю. На похоронах присутствовал комендант замка. Он засвидетельствовал, что они произведены были как должно, а затем запер капеллу, и без того редко кем посещаемую, и унёс ключ с собой...»
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1599 апрель 25 — Оливер Кромвель родился в Гентингтоне, в семье сельского дворянина.
1616-1617 — учится в Кембридже.
1617 — кончина отца.
1620 — женитьба.
1620-1640 — занимается сельским хозяйством в графстве Кембридж.
1628 — избирается депутатом парламента.
1630 — принимает участи в борьбе за городское самоуправление Гентингтона.
1631 — продаёт имущество в Гентингтоне и поселяется в Сент-Ивсе.
1636 — получает наследство и переселяется в Или.
1640 — избирается депутатом в Долгий парламент.
1642 август — создаёт отряд самообороны в Гентингтоне.
1642 август 22 — начало гражданской войны.
1642 октябрь 22 — участвует в сражении при Эджхиле.
1643 январь — получает чин капитана.
1643 весна-лето — участвует в операциях против королевских войск в восточной Англии.
1644 январь-февраль — поддерживает в парламенте военную и финансовую организацию армии.
1644 июнь — осада Йорка.
1644 июль 2 — победа при Марстон-Муре.
1644 сентябрь — в парламенте поддерживает постановление о свободе совести.
1644 осень — обвинение против графа Манчестера в провале военной операции в западной Англии.
1644-1645 — поддерживает в парламенте постановление о добровольном отречении от должности.
1645 июнь 10 — победа при Несби.
1646 май — конец первой гражданской войны.
1646 июнь — возвращение в парламент.
1646 осень — в качестве награды получает 2500 фунтов стерлингов годового дохода, семья поселяется в Лондоне.
1647 май — подавление волнений в армии.
1647 июнь 3 — возвращается в армию.
1647 август 6 — армия вступает в Лондон.
1647 осень — ведёт переговоры с королём.
1648 лето — подавление восстания в Южном Уэльсе.
1648 осень — победа над шотландцами во второй гражданской войне.
1649 — возвращение в Лондон и казнь короля.
1649 май — подавление мятежа армии, расквартированной в Берфорде.
1649-1650 — разгром Ирландии.
1650 июнь — триумфальное возвращение в Лондон.
1650-1651 — второй поход в Шотландию.
1651 сентябрь 3 — сражение при Ворчестере.
1653 апрель 20 — роспуск парламента.
1653 декабрь 16 — вступление в должность лорда-протектора.
1654 апрель — вместе с семьёй поселяется в Уайт-холле.
1655 октябрь — начало войны с Испанией.
1656 сентябрь — победа при Кадисе.
1657 май — отказывается от королевской короны.
1657 июнь 26 — второе официальное вступление в должность лорда-протектора.
1658 август 6 — смерть дочери Элизабет.
1658 сентябрь 3 — смерть Оливера Кромвеля.
ОБ АВТОРЕ
Есенков Валерий Николаевич — современный писатель-историк. Родился в 1935 году. Окончил Ярославский педагогический институт, преподавал историю и литературу в учебных заведениях Ярославля.
В периодических изданиях были опубликованы повести о русских писателях: Грибоедове, Гоголе, Тютчеве, Гончарове, Достоевском, Льве Толстом. Повести о Гончарове и Достоевском выходили отдельным изданием в издательстве «Современник». В 1997 году там же вышел роман «Рыцарь, или легенда о Михаиле Булгакове». В издательстве «АРМАДА» в 1998 году вышли романы «Гоголь» и «Игра», в издательстве «Астрель» в 2004 году — роман «Дуэль четырёх».
Роман «Восхождение» — новое произведение писателя.
Примечания
1
... левеллеры... — радикальная политическая партия в период Английской революции XVII в., выступавшая за республику, против ликвидации частной собственности.
(обратно)2
...анабаптисты... — участники радикального сектантского движения эпохи Реформации XVI в.; требовали вторичного крещения (в сознательном возрасте), отрицали церковную иерархию, осуждали богатство, призывали к введению общности имущества. Отдельные элементы учения анабаптистов перешли в догматику некоторых протестантских сект.
(обратно)3
... пресвитеров... — пресвитер — в протестантизме — избираемый из мирян руководитель общины, правящий ею совместно с пастором.
(обратно)4
...сюзереном. — Сюзерен — верховный сеньор территории (король, герцог, князь), являвшийся государем по отношению к зависимым от него вассалам.
(обратно)5
...огораживание... — насильственный сгон крестьян феодалами с земли (которую затем огораживали изгородями, канавами и т.д.); классическое выражение нашли в Англии кон. XV- нач. XIX вв. Крестьяне, лишённые земли, превращались большей частью в бродяг и нищих.
(обратно)6
...ордонанс... — королевский указ.
(обратно)7
...бонвивана... — бонвиван — человек, любящий жить в своё удовольствие, богато и беспечно.
(обратно)8
...в Великой хартии вольностей... — Великая хартия вольностей — грамота, подписанная в 1215 г. английским королём Иоанном Безземельным. Ограничивала права короля, предоставляла некоторые привилегии рыцарству, верхушке свободного крестьянства, городам.
(обратно)9
...пресвитерианства... — пресвитериане — в период Английской революции XVII в. религиозно-политическая партия; правое крыло пуритан. Как религиозное течение — разновидность кальвинизма в англоязычных странах.
(обратно)10
...его бабку Марию Стюарт под топор палача. — Мария Стюарт (1542-1587), шотландская королева, претендовала также на английский престол; по приказу английской королевы Елизаветы I за участие в ряде католических заговоров Мария Стюарт была предана суду и казнена.
(обратно)11
...брандер... — судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, которое поджигали и пускали по ветру или течению на вражеские корабли.
(обратно)12
...для колетов... — колет — короткий, застегивающийся на крючки мундир белого или палевого цвета.
(обратно)13
...с платоновской академией. — Платоновская академия — древнегреческая философская школа, основанная философом Платоном около 387 г. до н.э. в Афинах.
(обратно)14
...войны Алой и Белой розы. — Название гражданской войны в Англии в 1455-1485 гг. между династиями Йорков и Ланкастеров.
(обратно)15
...индепендент... — приверженец одного из течений протестантизма в Англии, которое оформилось в конце XVI в. как левое крыло пуритан. В период Английской революции XVII в. — политическая партия, выражавшая интересы радикального крыла буржуазии и нового дворянства.
(обратно)16
...потомками бриттов... — бритты — кельтские племена, основное население Британии в VIII в. до н.э. - V в. н.э. Оставшаяся в ходе англо-саксонского завоевания (V-VI вв.) часть бриттов составила один из элементов английской народности.
(обратно)17
...филиппикой... — филиппика — гневная обличительная речь.
(обратно)18
...арьергарды. — Арьергард — часть войсковых соединений, высылаемая для прикрытия отхода главных сил.
(обратно)19
...секвестру. — Секвестр — в гражданском праве запрещение или ограничение, налагаемое государственной властью на пользование каким-либо имуществом.
(обратно)20
...на Кассия. — Кассий(? - 42 г. до н.э.) — в Древнем Риме один из организаторов убийства Цезаря.
(обратно)21
...Бедлам. — Дом для умалишённых в Лондоне.
(обратно)

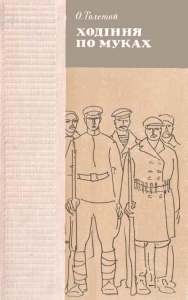

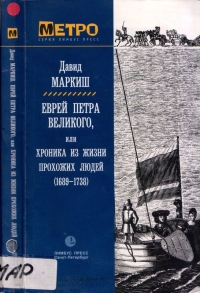

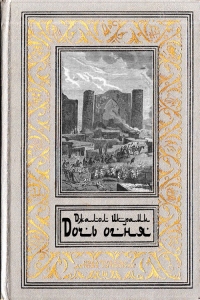
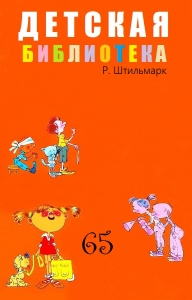

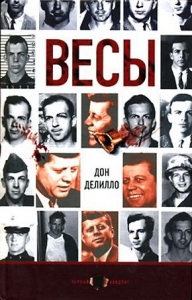
Комментарии к книге «Восхождение. Кромвель», Валерий Николаевич Есенков
Всего 0 комментариев