Эдвард Резерфорд Сарум. Роман об Англии
Edward Rutherfurd
SARUM
© А. Питчер, перевод, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®
Предисловие
О названии Сарум
Строго говоря, слово «Сарум» – искаженная передача сокращения, которым пользовались средневековые писцы для записи названия поселения, именуемого Солсбери. Ошибочно прочитанное сокращение прижилось в устной и письменной речи, и вот уже семьсот пятьдесят лет слово «Сарум» употребляется как название города, епархии и территории, окружающей Солсбери.
Во избежание путаницы в романе я употреблял название Сарум при описании местности, окружающей собственно город. Для поселений, в разное время существовавших на этом месте, я использовал названия, под которыми они были известны в описываемую эпоху: Сорбиодун – в период римского завоевания, Сарисбери – при нормандцах, а впоследствии – Солсбери. Название Олд-Сарум – Старый Сарум – относится непосредственно к поселению и употребляется в соответствующем контексте.
О романе «Сарум»
Моя книга – художественное произведение, ошибочно считать его историческим трудом. Описанные в ней семейства Портиас, Уилсон, Шокли, Мейсон, Годфри, Муди и Барникель, равно как и их роль в происходящем, – авторский вымысел. Однако же, рассказывая о жизни этих персонажей, я по мере возможности помещал их в реально существовавший исторический контекст.
При описании доисторической эпохи я допускал определенную вольность как в датировке, так и в изложении событий, хотя и старался придерживаться советов, полученных от специалистов-историков. К примеру, принято считать, что отделение острова Британия от материковой Европы произошло примерно между 9000 и 6000 годами до нашей эры. Более того, поскольку не существует неоспоримых сведений о религиозных обрядах, астрономических познаниях жрецов и о конкретных методах строительства Стоунхенджа, я основывал повествование на тех теориях и предположениях, которые вписывались в структуру романа.
В тексте время от времени, для удобства читателей, малознакомых с историей Англии, упоминаются реальные исторические факты, однако они вплетены в канву художественного вымысла, и роман в целом ни в коем случае нельзя рассматривать как описание подлинных событий.
О топографии и Авонсфорде
В окрестностях Сарума находится такое множество древних городищ, поселений и деревень, что в целях упрощения топографии и для удобства читателей мне пришлось пойти на компромисс. В действительности Авонсфорда не существует, это собирательный образ. Я расположил поселок в некой вымышленной долине у реки Авон – в настоящее время река Эйвон – к северу от Солсбери, для простоты получившей название долины Авона. Все упомянутые детали ландшафта и постройки существуют или существовали на самом деле в окрестностях Солсбери: поселение железного века, римская вилла, поля, называемые Рай и Чистилище, дерновый лабиринт, земляные валы и насыпи, пруды, сукновальни, голубятни, усадьбы и церкви.
В ходе истории названия многих поселений менялись, поэтому я выбрал самые известные – к примеру, Кларендонский лес и Дубрава Гроувли существуют и в настоящее время, а вот поселок Лонгфорд, упомянутый в романе, в действительности расположен на большем расстоянии от Кларендонского леса.
Названия солсберийских улиц тоже претерпели значительные изменения, но, чтобы не запутывать читателя, я по возможности сохранил современные наименования.
Все остальные населенные пункты – Солсбери, Крайстчерч, Уилтон, Олд-Сарум – описаны достоверно.
О фамилиях и происхождении семейств
В романе все вымышленные семейства – Уилсоны, Мейсоны и Годфри – носят распространенные в Англии фамилии. История происхождения родовых имен Уилсон и Мейсон, приведенная в книге, ничем не отличается от общепринятой, история рода эйвонсфордских Годфри – художественный вымысел, однако создана по типу образования фамилий семейств с нормандскими корнями. Между прочим, в Солсбери на самом деле существовало семейство Годфри, которое упомянуто в книге, – один из его представителей был мэром города, – но между вымышленными и реальными Годфри нет родственных связей.
Шокли – фамилия редкая, и ее возможное происхождение объясняется в романе.
В английском фольклоре существует объяснение происхождения фамилии Барникель, и я склонен ему верить. Фамилия Портиас распространена на севере Англии, однако ее римское происхождение вымышлено – увы, история имен редко уходит в такое далекое прошлое.
Тем не менее историю семейств и родов все-таки возможно проследить. Недавние историко-археологические исследования показали, что во многих районах Англии существовали и до сих пор существуют целые династии ремесленников. Несмотря на то что вторжение саксов заставило местное население Британии переселиться на запад, имеет смысл предположить, что не все коренные жители покинули насиженные места. Разумеется, невозможно с уверенностью доказать, что в Саруме до сих пор обитают потомки кельтов или племен, населявших эту территорию до их появления, однако такое предположение имеет право на существование.
Дун
Я намеренно выбрал для описания укрепленного городища в Олд-Саруме слово, употребляемое современными историками. Его первоначальная кельтская форма – dün.
Заключение
Сарум – одна из самых древних заселенных территорий в Англии, сохранившая следы первоначальных поселений. Археологической информации и исторических документов с лихвой хватило бы на книгу, втрое или даже вчетверо превосходящую мой роман, однако я ограничился лишь самыми, на мой взгляд, интересными моментами в необычайно богатой истории региона.
Посвящается зодчим Солсберийского собора и всем, кто принимает участие в его спасении
Старый Сарум
Путь в Сарум
Вначале, задолго до возникновения Сарума, шестую часть планеты в Северном полушарии сковывал толстый слой льда; ледники покрывали Северную Азию, Канаду, Скандинавию и две трети территории будущей Британии. Ледяной щит протянулся на пять тысяч миль, и даже по краям толщина его составляла не меньше тридцати футов.
У южной границы ледников на несколько сот миль простиралась пустынная, сумрачная тундра.
За двадцать тысяч лет до нашей эры в мире царили холод и мгла.
Толстый покров льда вобрал в себя значительную часть воды, поэтому океаны были мельче, а многих морей и вовсе не существовало. К югу от ледников отвесные утесы высились над глубокими ущельями, которые с тех пор давно погрузились под воду. Северные земли обволакивало вечное безмолвие, только бушевали метели, и надо льдом с воем носились суровые ветры; арктическая тундра представляла собой многие тысячи миль вымороженной пустыни, где изредка встречалась скудная растительность и обитали немногочисленные, но чрезвычайно выносливые звери. В гигантской шапке полярного льда таились и будущие моря, и те формы жизни, которые со временем в них зародились.
Такой была ледниковая эпоха – не первая и не последняя, одна из бесчисленного множества прошлых и будущих оледенений, в промежутках между которыми северные земли заселил человек.
Пролетели века, прошли тысячелетия, однако никаких перемен не замечалось до тех пор, пока примерно за десять тысяч лет до нашей эры температура на окраинах великого ледяного щита не начала подниматься – медленно и почти незаметно. Потепление не прекращалось в течение многих веков, и вот однажды ледяной щит начал таять: струи стекались в ручьи и речушки, откалывая куски льда шириной где в несколько ярдов, где в полмили. Это почти не уменьшало ледяного покрова, раскинувшегося на многие тысячи миль, однако постепенно таяние набирало силу. Из-подо льда показалась новая тундра, возникли новые реки, ледники сползли на юг, в моря, где начал повышаться уровень воды. Мало-помалу, век за веком, менялись очертания материков, и новая жизнь, зарождаясь на обновленной суше, робко осваивала новые земли.
Очередная ледниковая эпоха подходила к концу.
Процесс этот продолжался несколько тысяч лет.
Однажды, примерно за семь с половиной тысяч лет до Рождества Христова, холодным пасмурным летом – других в тех северных краях не знали – отважный охотник по имени Ххыл вознамерился пуститься в невероятное путешествие.
Акуна, его женщина, услышав о странной затее, сначала удивленно посмотрела на Ххыла, а потом попыталась отговорить:
– С нами никто не пойдет. Мы умрем с голоду.
– Я хороший охотник, без помощи обойдусь, добуду нам еду.
Она упрямо замотала головой:
– Ты говоришь о месте, которого нет.
– Оно есть, – настойчиво повторил Ххыл.
Об этом месте рассказывал его отец, а отцу – его отец. Преданиям было несколько веков, но Ххыл этого не знал.
– Мы умрем, – вздохнула Акуна.
Они стояли на холме, у подножия которого виднелось стойбище: жилища из оленьих шкур, закрепленных на шестах. Пять охотничьих семейств разбили здесь стоянку, едва сошли зимние снега. До самого горизонта тянулась пустынная равнина, покрытая жесткой бурой травой, лишь кое-где жался к земле березовый стланик да торчали валуны, облепленные длинными прядями мха и пятнами лишайников. Холодный северный ветер гнал по низкому небу серые облака.
Тундра – широкая полоса суши, высвобожденная растаявшими ледниками, – протянулась через весь Евразийский материк. В эпоху, называемую археологами верхним палеолитом, а после этого – в эпоху мезолита, от Шотландии до Китая по безбрежным пустынным равнинам, напоминавшим климатом нынешнюю Сибирь, бродили немногочисленные племена охотников. Скудная растительность служила кормом для зубров, северных оленей, диких лошадей и могучих лосей. Стада, мелькнув на горизонте, исчезали в бескрайнем просторе, так что охотники долго и упорно преследовали добычу – без еды им грозила голодная смерть. Подобный образ жизни существовал на протяжении сотен поколений.
Ххыл и его семейство обитали на северо-западной окраине бесконечной тундры. Роста охотник был чуть выше среднего – пять футов семь дюймов, – скуластый, с угольно-черными глазами. Кожа загрубела от ветра, лицо избороздили глубокие резкие морщины, редкие зубы пожелтели, в черной бороде мелькала седина: Ххылу минуло двадцать восемь – в то время весьма почтенный возраст. От холода его защищала одежда из оленьих и лисьих шкур, скрепленных костяными колышками (шитья его соплеменники не знали) и бахилы из мягкой кожи. В таком наряде охотник сливался с бурой равниной, а когда замирал, занеся копье над головой, то походил на странное чахлое деревце – длинные спутанные космы торчали как ветви. В широко расставленных глазах под кустистыми бровями светился ум.
Соплеменники уважали Ххыла: он прослыл удачливым охотником и лучшим следопытом. Вот уже много лет племя вслед за стадами кочевало по территории шириной миль пятьдесят с запада на восток и миль сорок – с севера на юг; люди промышляли охотой и рыбалкой и поклонялись богине Луне, защитнице охотников. Летом они жили в шалашах из шкур, а зимой выкапывали в склонах холмов неглубокие землянки и забрасывали вход ветвями – примитивные жилища позволяли сохранять тепло. Вот уже десять лет спутницей Ххыла была Акуна; она родила ему пятерых детей, из которых выжили двое. Теперь мальчику было пять, а девочке – восемь.
И вот сейчас Ххыл собрался в дальний путь неведомо куда. Акуна сокрушенно покачала головой.
Отчаянный план возник у Ххыла по очень простой причине: уже третий год охота не ладилась и малочисленная община оказалась на грани вымирания. Всю зиму Ххыл без устали искал добычу, но ему лишь изредка попадались следы полярных лис и леммингов. Небольшой запас орехов и съедобных корешков подходил к концу, дети и женщины голодали. Непрерывно дул холодный северный ветер. Наконец Ххыл наткнулся на стадо северных оленей, и охотникам удалось загнать и убить одного. Мясо пошло в пищу, кровь была источником жизненно необходимой соли. Племя выжило, но к концу зимы трое детей и женщина умерли от истощения.
Потом зимние снега сошли; промозглая болотистая равнина покрылась редкой травой и крохотными цветами. К лету на север возвращались стада зубров, кормиться на возвышенностях, но в этом году охотникам не повезло: зубры не пришли, а на диких лошадей охотиться было трудно, да и конина была жесткой и невкусной.
«Если зубр не придет, охоты не будет», – думал Ххыл.
В поисках добычи племя кочевало по равнине широким кругом, радиусом миль двадцать. Земля подсыхала под бледными лучами солнца, кое-где пробивались слабые ростки травы, но никаких признаков живности охотникам не попадалось. Полуголодные люди вряд ли пережили бы следующую зиму, поэтому Ххыл и решился на отчаянный шаг.
– Я ухожу на юг, в теплые края. Если выйти в путь сейчас, до зимы успеем, – уверенно заявил он соплеменникам, хотя сам не знал, как долго продлится путь. – Пройдем через заповедный лес на востоке и потом свернем на юг. Там богатые земли, а люди живут в пещерах. Кто хочет со мной?
Уверенность Ххыла основывалась на древних изустных преданиях, которые передавались из поколения в поколение; заключенные в них географические познания были предельно просты: далеко на севере, там, где царил мрак и холод, скудные и неприветливые земли с востока на запад перегораживала великая стена льда высотой в пять человеческих ростов. У стены не было ни начала, ни конца; бесконечная ледяная равнина уходила на север. На западе путь преграждало безбрежное море. К югу от стены начиналась тундра, а еще дальше – дремучие леса, которые тоже упирались в море. А вот если идти на юго-восток, то через много дней пути выйдешь к горной гряде. Перевалив через гряду, надо свернуть на восток, перебраться через кряж пониже, и тогда, еще через много дней пути, попадешь на холмистую равнину, за которой начинается заповедный лес. Там, в лесу на востоке, есть тропы, которые выведут в степь. В степи надо снова повернуть на юг и идти до тех пор, пока не попадешь в теплые края, где люди живут в пещерах. В преданиях говорилось, что там хорошая охота.
Как ни странно, предания не лгали и не преувеличивали. Соплеменники Ххыла обитали в тех местах, что впоследствии станут севером Англии. Ледяной щит тридцатифутовой толщины медленно отступал на север – племя Ххыла обосновалось там, где несколько веков назад лежал лед. На западе берега омывал Атлантический океан – ближайшей сушей был неизвестный Ххылу остров Ирландия; лишь через девять тысяч лет бесстрашные мореплаватели пересекут водные просторы и достигнут берегов Северной Америки. На юге, в равнинах и низинах современной Южной Англии, древние дельты Рейна и других рек за долгие тысячелетия образовали широкий пролив, который сейчас называют Ла-Манш. А вот на юго-востоке полоска суши соединяла полуостров Британия с Евразией; от Восточной Британии до заснеженных вершин Уральских гор на две с половиной тысячи миль распростерлись дремучие леса и степные просторы.
Десятки тысяч лет обитатели Северного полушария свободно передвигались по материку: с началом оледенения уходили на юг, а когда лед отступал – снова возвращались на север. Предки Ххыла кочевали и по российским степям, и по берегам Балтики, по Иберийскому полуострову и Средиземноморью – память об этом, неосознанно жившая в Ххыле, обусловливала его восприятие окружающего мира. Двести лед назад его предки прошли через густые леса на востоке Британского полуострова и вслед за стадами двинулись на север, а теперь Ххыл по их следам собирался добраться до южных земель. Наверное, если бы он представлял, как это далеко, то вряд ли решился бы на подобное путешествие, однако ему было известно лишь, что теплые края существуют и теперь самое время туда отправиться.
Охотник вполне мог бы привести в исполнение свою отчаянную задумку, если бы не непредвиденное роковое событие.
– Кто пойдет со мной? – спросил Ххыл соплеменников.
Ответом ему стало молчание: в приполярной тундре жили и охотились далекие предки, племя как-то выжило. Неизвестно, есть ли на самом деле теплые края. А вдруг их населяют враждебные племена? Доводы Ххыла никого не убедили. Через несколько дней, после долгих споров, Акуна неохотно согласилась отправиться в путь.
Ранним утром, под теплыми лучами бледного солнца, четыре оставшихся семейства вышли провожать Ххыла и грустно смотрели вслед путникам, уходившим на верную смерть.
Пять дней Ххыл, Акуна и дети шли на юг по бескрайней бурой тундре. Ххыл с Акуной по очереди несли свернутые шкуры, шесты жилища и съестные припасы – вяленое мясо и ягоды. Из-за детей приходилось двигаться медленно, но за день они покрывали миль десять, и Ххыла это вполне устраивало. Тундру там и сям пересекали ручьи и речушки, где ловилась рыба, а на третий день пути охотник убил зайца стрелой с кремнёвым наконечником, метко выпущенной из небольшого лука. Ххыл часто поглядывал на небо: орел или сокол в облаках тоже выслеживали добычу. Путники не тратили сил на пустые разговоры, молчали даже дети.
Мальчик, крепкий пятилетний малыш с большими задумчивыми глазами, шел медленно, но упрямо. Ххыл надеялся, что сын выдержит тяготы пути. Девочка Вапа, худенькая, как олененок, казалась хрупкой, но Ххыл знал, что она сильная.
На пятый день путники добрались до величественного известнякового хребта. Горная гряда на несколько сот футов вздымалась над тундрой и тянулась по восточной оконечности Британии примерно двести миль, после чего мягкой дугой сворачивала на запад еще на двести миль и наконец выходила к морю на юге, но прежде образовывала в центре Южной Британии меловое плато, от которого в разные стороны щупальцами огромного осьминога расползались другие хребты. В доисторические времена, да и позднее, эти хребты служили естественными дорогами для первобытных племен.
С вершины кряжа открывался такой чудесный вид на пятьдесят миль вокруг, что даже Акуна ахнула и улыбнулась. На гряде росли чахлые деревца, редкие рощицы и густой кустарник, где путники укрывались на ночь. Дни шли за днями, скитаться в одиночестве было тяжело, но Ххыл не терял надежды и упрямо двигался вперед, представляя себе неведомые южные края, где тепло и много дичи – ведь путешествие он затеял ради благополучия семьи.
Как же ему повезло с Акуной! Всякий раз, когда Ххыл смотрел на нее, по телу растекалось приятное тепло. Они встретились, когда Акуне было двенадцать: ее племя кочевало по тундре и забрело в охотничьи угодья соплеменников Ххыла. Такие редкие встречи всегда давали повод для всеобщего веселья. Мужчины обзаводились спутницами, ведь кочевники хорошо знали, что межплеменные союзы производят крепкое, сильное потомство. У молодого Ххыла, уже тогда прославленного охотника и следопыта, женщины не было. Акуна, миловидная и складная девушка, составила ему прекрасную пару. Долгих обсуждений не потребовалось: мужчины устроили совместную охоту, после чего отец Акуны отдал дочь Ххылу в обмен на кремнёвые наконечники для стрел.
Сейчас Акуне минуло двадцать два – зрелая женщина в расцвете сил. Обычно к этому возрасту женщины становились морщинистыми и жилистыми, но Акуна сохранила привлекательность: не такая смуглая, как соплеменники Ххыла, с необычными зеленовато-карими глазами, копной русых волос, сейчас густо смазанных салом, и широким чувственным ртом с крепкими ровными зубами. Щеки еще не покрылись сеткой глубоких морщин, как у большинства ее сверстниц.
Мысли о гибком, податливом теле Акуны вызывали у Ххыла невольную улыбку; он с тайным восторгом вспоминал ее великолепную налитую грудь, крутые изгибы бедер, гладкую и светлую, будто сияющую изнутри кожу, покрытую легким пушком, а не порослью жестких волос, как у приземистых соплеменниц Ххыла. Коротким полярным летом, когда в тундре наступали долгожданные теплые деньки, Ххыл с Акуной купались в холодных, сверкающих струях ручьев и речушек. Акуна во весь рост вытягивалась на берегу, нежась в солнечных лучах, а Ххыл, гордый своей мужской силой, набрасывался на нее. Она с глубоким низким смехом, будто рожденным в недрах самой земли, подставляла ему пухлые губы.
Да, ему и впрямь повезло! Акуна знала, где отыскать ягоды и орехи, умела плести рыбацкие сети. Ххыл мечтал, что она родит ему еще одного сына – только не в тундре, а в теплых краях.
Через двадцать дней Ххыл с семьей спустились с кряжа и отправились на восток. Здесь, на плодородной равнине, растительность стала гуще: кое-где по берегам виднелись купы деревьев; камыши и высокие травы клонились под холодным восточным ветром. Ххыл с удовольствием отмечал перемены, но теплее пока не становилось.
Дети тяжело переносили путешествие. Вапа исхудала, личико у нее заострилось, голова бессильно свисала на тонкой шее, но девочка упрямо шла за родителями. Мальчик вот уже три дня плелся, засунув в рот большой палец – дурной признак, – и несколько раз отказывался идти дальше. Ххыл и Акуна понимали, что потакать этому нельзя – остановки нарушали размеренный ритм путников, – поэтому медленно двинулись вперед, оставив его одного. Вапа не выдержала и волоком потащила брата за собой. Он до самого вечера не глядел на родителей, но больше не отставал.
Путники остановились на ночлег в чаще леса. Ххыл поймал в речушке пару рыбин. Акуна сидела у костра, дети жались у ее ног.
– Далеко еще до леса? – спросила она.
За прошедшие двадцать дней Акуна ни разу не жаловалась на тяготы путешествия и все силы посвящала заботе о детям. Ххыл втайне радовался ее молчанию, хотя и понимал, что оно служит выражением недовольства. Наверное, сейчас ее вопрос означал, что она готова выказать свой гнев. Впрочем, лицо Акуны оставалось невозмутимым, а Ххыл слишком устал, чтобы понапрасну волноваться о ее настроении.
– Дней шесть пути, – ответил он и погрузился в сон.
В следующие пять дней они перевалили через очередной кряж; равнину пересекали многочисленные ручьи и речушки; кое-где попадались болотистые низины, через которые идти было опасно. Ххыл изумленно озирался по сторонам: унылая северная тундра постепенно сменялась равниной, покрытой разнотравьем. Дичи стало больше. Дети не обращали внимания на перемены; мальчик, у которого не осталось сил даже сосать палец, покорно брел следом за сестрой, будто во сне. Акуна неторопливо шла рядом. За день семья проходила десять – двадцать миль, но Ххыл не подгонял родных.
– Еще чуть-чуть, и придем к заповедному лесу, – обещал он и каждый день подбадривал спутников отцовскими словами, памятными с детства: – Там растет много разных деревьев и водятся невиданные птицы и звери.
Дети слушали его, равнодушно глядя в пустоту, а Ххыл молил богиню Луну, покровительницу охотников, чтобы эти слова оказались правдой.
На шестой день случилась непредвиденная беда.
Ххыл проснулся на рассвете. День выдался ясным и студеным. Акуна с детьми, завернувшись в шкуры, мирно спали в густых зарослях кустарника. Ххыл встал, принюхался и вгляделся на восток, где занималась тонкая полоска зари. Охотничье чутье подсказывало неладное.
В чем дело? Воздух как будто сгустился, стал вязким и клейким. Ххыл наморщил лоб и приник к земле, напряженно прислушиваясь. Чуткое ухо умелого охотника уловило отдаленный звук – так по еле заметному гулкому колебанию грунта выслеживают одинокого зубра. Вот и сейчас Ххыл разобрал в дрожании воздуха странный, почти неслышный рокот земли – именно это нарушило сон следопыта. Где-то на востоке что-то шипело, потрескивало и глухо грохотало, как будто вдалеке сталкивались боками громадные валуны. Охотник недоуменно вслушивался в неясные шорохи – бегущие стада зубров или табуны диких лошадей так почву не сотрясали. Он растерянно покачал головой, встал и пробормотал:
– Воздух…
Внезапно он сообразил, что его смущало: в воздухе носился едва уловимый, но явный запах соли. Если рядом – заповедный лес, откуда здесь соль? И что это за шум?
Ххыл разбудил Акуну:
– Что-то не так. Надо проверить. Ждите моего возвращения.
Все утро он размеренно бежал на восток и к полудню проделал пятнадцать миль. Странные звуки не утихали, становились громче; то и дело раздавался резкий треск, шорох и шелест сменялись зловещим грохотом обвала. Ххыл взобрался на холм и в ужасе замер.
У подножия холма, там, где должен был раскинуться заповедный лес, плескались волны. Безбрежная водная гладь простиралась до самого горизонта; мимо, покачиваясь на волнах, проплывали огромные льдины, и быстрое течение уносило их к югу. Зеленоватые валы с шипением накатывали на берег и выносили к зарослям льдины помельче. Кое-где из воды торчали верхушки раскидистых деревьев; ледяные глыбы ударялись о стволы, с треском раскалывали их в щепки и, грохоча, разваливались на куски.
На глазах у ошеломленного Ххыла неизвестно откуда взявшееся море поглотило заповедный лес и неутомимо двигалось на юг, сметая все на своем пути. Охотник, не раз видевший весенние разливы рек, сообразил, что где-то далеко на севере начали таять ледники. Впрочем, сейчас его удручало другое: дорога через заповедный лес исчезла. Кто знает, может, вода залила и далекие восточные степи, и теплые южные края? Как бы то ни было, путь к ним отрезан. Ххыл и его семья напрасно проделали невероятное путешествие – море перекрыло дорогу к чудесным землям на востоке.
Ххыл в отчаянии присел на корточки и, глядя на бушующие волны, сосредоточенно размышлял. Думать было о чем. Как давно начался потоп? Долго ли еще будет подниматься вода? Захлестнет ли она и этот холм, и горную гряду в шести днях пути отсюда? Мысль об этом ужасала. А вдруг настал конец света?
Однако Ххыл, будучи человеком рассудительным, превозмог отчаяние и до самого заката следил за уровнем прибывающей воды, а потом завернулся в шкуры и устроился на ночлег.
Всю ночь он раздумывал о силе и величии неведомых богов, ниспославших на землю ужасающий потоп, и с сожалением представлял заповедный лес, полный птиц и зверей, скрывшийся в темной глубине вод. Эта картина растрогала его чуть ли не до слез.
Наутро выяснилось, что уровень воды не изменился. Ххыл еще сутки терпеливо наблюдал за великим потопом, отмечая высоту прилива и отлива. Остаток ночи охотник провел на берегу, втягивая ноздрями соленый морской воздух и прислушиваясь к неумолчному шипению, треску и шорохам.
Ледниковый период медленно подходил к концу.
На рассвете третьего дня Ххыл удовлетворенно вздохнул: подъем воды прекратился. Если не случится еще одного сильного наводнения, то будет время увести семью на взгорье, куда море не доберется. Он встал, потянулся и, обуреваемый новыми дерзкими замыслами, отправился назад к Акуне.
Ххыл, сам того не подозревая, стал невольным свидетелем возникновения острова Британия. Заповедный лес некогда простирался на месте нынешней Доггер-банки в Северном море. За сравнительно короткий промежуток времени – вероятно, в течение нескольких поколений – талые воды полярного ледникового щита размыли полосу суши в Северном море и затопили низкую равнину, соединявшую Британию с Евразией. Примерно в это же время – точная хронология событий пока не установлена – разрушился и сухопутный мост на юго-восточной оконечности меловых хребтов Британии, на месте современного Ла-Манша. Потоп превратил евразийский полуостров, куда некогда откочевали предки Ххыла, в новый остров. Британия возникла в холодных бурных водах моря, которое с тех самых пор надежно оберегало бесчисленные поколения островитян.
Ххыл объяснил Акуне, что произошло.
– И что нам теперь делать? Возвращаться на север? – спросила она.
Он упрямо помотал головой:
– Нет.
Возвращаться не имело смысла; вдобавок, может быть, если идти вдоль берега к югу, то найдется местечко, куда не добралась вода, – наверняка путь на юг все еще открыт.
– Пойдем вдоль берега, отыщем переправу.
Акуна сердито уставилась на него. Ххыл понимал причины ее скрытого гнева: у Вапы от усталости ввалились глаза, а обессилевший мальчик совершенно изнемог.
– Он вот-вот нас оставит, – вздохнула Акуна.
Ххыл признал ее правоту: ребенок умрет, если не пробудить в нем волю к жизни. Акуна обняла детей; они покорно прильнули к матери, согретые теплом ее тела и успокоенные знакомым едким запахом шкур и прогорклого жира. Ххыл грустно посмотрел на родных, но своего решения не изменил.
– Пойдем вдоль берега, – упрямо заявил он.
Бесконечный путь на юг продолжался. С восточной стороны по-прежнему бушевало море. Дней через десять стало ясно, что тундра осталась позади, и у Ххыла зародилась искорка надежды.
Путники шли по болотистым низинам и пробирались через густые леса, с любопытством разглядывая непривычные деревья – вязы, ольху, ясени, дубы, березы и пахучие сосны в капельках смолы на мягкой коре. У воды росли камыши и осока, берега устилала густая трава. Хватало и дичи. Однажды утром Ххыл ловил рыбу в ручье. Дети подошли к нему и молча поманили за собой: в ста шагах выше по течению на берегу забавно копошились два зверька с гладким бурым мехом – бобры. Охотник, впервые увидев таких животных, с любопытством изучал их повадки. По ночам из леса часто слышался зловещий вой волков, и путники испуганно жались друг к другу.
Охотнику было невдомек, что потоп, преградивший дорогу на юг, на самом деле принес желанное тепло на новый остров. На дальнем севере таял ледовый щит, уровень моря поднимался, и температура в Британии начала повышаться – это продолжалось на протяжении четырех тысяч лет. Вслед за тающими льдами полоса тундры отходила к северу, так что со временем земли на триста миль южнее потеплели. Сюда, в эти теплые края, и пришел Ххыл, так что пробираться через заповедный лес на востоке ему не понадобилось. Сам того не зная, он привел семью в ласковое тепло южной оконечности Британии.
И все же Ххыл упорно не желал отказываться от своей мечты достичь благодатных южных земель. На следующий день дорогу на юг преградила широкая полоса воды, за которой виднелась суша, и охотник уверенно провозгласил:
– Это южное море.
– По-моему, это река, – покачала головой Акуна.
Она была права, а Ххыл ошибался: путники добрались до устья Темзы.
Два дня они шли к верховьям реки, а потом соорудили плот и переправились на противоположный берег, откуда Ххыл снова повел семью на юго-восток.
– Там должен быть путь на юг, – утверждал он.
К этому времени перемычку, некогда соединявшую Дувр с Францией, уже размыло. Через шесть дней путники вышли к высоким меловым утесам на юго-восточной оконечности острова, откуда открывался вид на береговую линию Европейского материка. Ххыл и Акуна молча поглядели на противоположный берег пролива Ла-Манш. Белоснежные утесы отвесно обрывались к бурному морю, что бушевало в двухстах футах внизу.
– Я точно знаю… – начал охотник.
Акуна согласно кивнула: жаркие края таились где-то там, на далеком неведомом берегу, куда преграждали путь бушующие волны. Крутые утесы некогда были частью горной гряды, продолжавшейся на материке, но талые воды подмыли меловые отложения и пробили воронку Дуврского пролива на юг и на восток.
– Тут можно на плоту перебраться, – с робкой надеждой заметил Ххыл, хорошо понимая, что это бесполезная затея: здесь в бурном потоке, в одном из опаснейших морских проходов в Европе, не уцелеть даже самому прочному плоту.
Храбрый охотник расстроенно поник: рушилась его заветная мечта.
– На юг не пройти, – решительно заявила Акуна, пытаясь подбодрить Ххыла. – А в одиночку трудно. Надо найти других охотников.
Он признал правоту ее слов и задумчиво выпятил губы. Даже сейчас, переживая крушение сокровенных надежд, Ххыл не мог успокоиться; в его уме рождались все новые и новые замыслы. Да, они прошли по восточному побережью, где море перекрыло путь на юг. А что, если пройти по южному берегу? Может быть, чуть западнее обнаружится перешеек? Охотник цеплялся за любой, самый незначительный повод. Даже если с запада на юг посуху не пройти, там наверняка можно встретить других охотников. И хорошо бы уйти на возвышенность – кто знает, что еще поглотит следующий потоп? Море затопит низины, а на взгорье от него можно укрыться.
– Пойдем на запад, – сказал Ххыл.
Еще двадцать дней они шли на запад вдоль побережья. Слева, у подножия меловых и известняковых утесов, шумело море. На второй день пути противоположный берег смутно виднелся над горизонтом, а к ночи и вовсе пропал из виду. Справа иногда возникали расплывчатые очертания холмов и кряжей, тянущихся параллельно берегу.
Рельеф доисторической Британии во времена Ххыла был чрезвычайно прост: на севере горы и ледники, на юге – море, а между ними – плодородные земли, разделенные сетью кряжей на высокогорье и равнины. На территории Южной Британии преобладали реки, меловые возвышенности, покрытые редкой растительностью, и осадочные отложения, где разрастались густые леса и возникали болотистые низины.
Не раз Акуна просила Ххыла поставить шалаш и отдохнуть несколько дней, но охотник не соглашался.
– Медлить нельзя, – напоминал он. – До конца лета надо других охотников найти.
Долгое путешествие продолжалось. Наконец Ххыл обрадованно приметил следы недавно проходивших здесь охотников: дважды на лесных полянах попадались следы кострищ, под кустами валялись обломки стрел.
– До встречи недолго осталось, – убежденно пообещал он Акуне.
Через три недели путники вышли к устью широкой реки, величаво катившей воды с запада, в нескольких милях от белоснежных меловых утесов побережья. Именно здесь охотник обнаружил подтверждение своим тайным страхам: милях в пяти к югу море размыло утесы и ворвалось в образовавшийся проток, затопив низину между речным и морским берегами.
Ххыл огорченно вздохнул:
– Море прорвалось сквозь скалы. Теперь оно повсюду. Сейчас нам дорогу перегородило, а потом всю землю проглотит. Надо уходить на возвышенность.
Действительно, в последующие века море неутомимо разрушало меловые утесы и затапливало побережье, так что под водой скрылась значительная часть скалистых берегов Южной Британии. Река Те-Солент, к устью которой вышло семейство Ххыла, в будущем исчезнет под морскими волнами. Единственным напоминанием об очертаниях древнего побережья сегодня служит ромбовидный осколок суши на юге Великобритании, в проливе Ла-Манш, – остров Уайт.
– Надо отдохнуть, – потребовала Акуна. – Дети устали, дальше идти не могут.
– Не время еще, – возразил Ххыл.
Вапа, не открывая глаз, плелась за родителями. Малыш спотыкался и падал без сил. Ххыл посадил его к себе на плечи и снова пообещал:
– Мы скоро придем.
Он повернулся лицом к заходящему солнцу и повел семейство прочь от берега.
На следующий день они вышли к озеру.
В пяти милях от побережья Ххыл приметил невысокий пологий холм и решил устроить ночную стоянку на вершине. Вдобавок оттуда наверняка открывался прекрасный вид на окрестности. У подножия холма разлилось неглубокое озеро с полмили шириной; с севера и запада в озеро впадали две речушки, еще одна убегала из восточной оконечности к морю. На северном берегу раскинулась болотистая низина.
Озеро лежало на подветренной стороне холма. В теплом воздухе сладко пахло папоротниками, илом и осокой. Над неподвижной гладью озера пролетела цапля, с громкими криками кружили чайки. Ххыл ловко соорудил плот и переправил семью на противоположный берег.
С вершины холма охотник поглядел вдаль: невысокие, заросшие лесом кряжи ровными волнами уходили к горизонту.
– Вот куда надо идти, – сказал он Акуне.
До конца летнего сезона оставалось два месяца. Здесь, у озера, можно было отдохнуть и набраться сил.
– Дней на десять здесь задержимся, а потом уйдем подальше от берега, – решил Ххыл.
Обрадованная Акуна вместе с детьми спустилась к озеру.
Место оказалось чудесным. У озера, под защитой холма, собирались всевозможные звери и невиданные прежде птицы. Ххыл с изумлением разглядывал лебедей, цапель и стайку пеликанов. В низине табуны диких лошадей проносились по торфяникам, поросшим вереском, к дальним лесистым горам на севере. В речушках водилась форель и семга. Однажды Ххыл переплыл Те-Солент на плоту и в отлив набрал на морском берегу крабов и мидий. Акуна испекла их на углях, и вся семья наелась до отвала.
К детям возвращались силы. Ххыл с улыбкой смотрел, как малыш играл с Вапой на берегу озера.
– Давай здесь перезимуем? – предложила Акуна. – Еды хватает.
С подветренной стороны холма можно было устроиться на зиму, но Ххыл решительно помотал головой:
– Нет, надо уходить на возвышенность.
Его до сих пор терзал страх перед неумолимым морем.
– Ты нас погубишь, – сердито буркнула Акуна, но стала собираться в дорогу.
Ххыл не подозревал, что его необычайное путешествие подходит к концу и что завершит он его не в одиночку.
Перед уходом с озера охотник решил разведать местность к северу от холма и отправился вверх по реке, к первому кряжу. Берега поросли редким лесом, сама речка была узкой, шагов тридцать в ширину, и текла неторопливо. В камышах сновали утки, на дне лениво колыхались длинные пучки зеленых водорослей, а в глубине скользили крупные рыбины. Охотник прошел пять миль вдоль реки и неожиданно наткнулся на человеческое жилье.
На опушке виднелись два камышовых шалаша, обмазанные глиной и прикрытые дерном; у берега покачивался выдолбленный из ствола челн.
Ххыл замер. Костра у шалашей он не заметил, но в воздухе чуть тянуло дымком, будто огонь недавно потушили. Охотник осторожно подкрался к одному из шалашей и тут в зарослях осоки увидел невысокого горбуна с луком в руках. Наконечник стрелы был направлен прямо в сердце Ххыла.
Теп давно уже следил за приближением Ххыла и на всякий случай велел своей семье уйти подальше в чащу, но не стал убивать незваного гостя, решив сперва к нему присмотреться.
Как выяснилось впоследствии, Теп был прекрасным охотником и отличался невероятной осторожностью, но во всем остальном его нрав оставлял желать лучшего. Новый знакомец походил на крысу: остроносый и острозубый, с близко посаженными глазами-бусинами, узким торчащим подбородком и копной необычных огненно-рыжих волос. Двигался он легко, ходил размашисто и длинными гибкими пальцами ног с легкостью поднимал с земли мелкие камешки и ветки. Одно время его семейство обитало в стойбище охотников милях в пятнадцати к северо-востоку от озера, но Теп прослыл среди них хитрецом, обманщиком и задирой, поэтому после очередной ссоры из-за дележки добычи – горбун всегда пытался урвать себе лишний кусок – соплеменники изгнали его из стойбища. Никто из окрестных обитателей не желал иметь с ним дела, и Теп стал изгнанником. Впрочем, Ххыл об этом не догадывался и жестом показал горбуну, что пришел с миром. Теп, не опуская лука, знаком попросил Ххыла объясниться.
Вскоре выяснилось, что друг друга они понимали без особого труда, хотя в говоре и были некоторые различия, с которыми помог справиться язык жестов. Ххыл надеялся заручиться помощью нового знакомца и рассказал ему о своем путешествии.
– А ты один? – подозрительно осведомился Теп.
– Со мной моя женщина и двое детей.
Теп медленно опустил лук и велел:
– Отведи меня к ним. Ступай вперед.
К концу дня Теп познакомился с семейством Ххыла и счел за благо подружиться с северными пришельцами, надеясь, что в недалеком будущем дочь охотника станет спутницей его сына. Как только выяснилось, что Ххыл хочет обосноваться на возвышенности, в глазах Тепа вспыхнул алчный огонек.
– Я знаю подходящее место, – объявил он. – Там в долинах много дичи, а посредине – возвышенность. Правда, туда идти далеко.
– А где это? – спросил Ххыл.
– Далеко, – повторил Теп. – Путь нелегкий, но я вас проведу. Только сначала пойдем со мной охотиться.
Ххыл особого доверия к новому знакомцу не испытывал, но от предложения поохотиться не отказывался ни один уважающий себя мужчина. Вдобавок Ххыла угнетало одиночество.
– На возвышенность надо добраться до зимы, – напомнил он.
– Доберемся, обещаю, – ответил Теп.
Так завязалась странная дружба между охотником из тундры и охотником из южных лесов. У Тепа было четверо детей. Когда его первая женщина умерла, из охотничьей общины на западе он украл девочку, которая родила ему еще двоих детей. Звали ее Улла – худенькая, круглолицая, с испуганными карими глазами. У всех детей, как у отца, были длинные гибкие пальцы ног, задиристый нрав и врожденная способность к охоте.
Теп решил во что бы то ни стало заполучить дочь Ххыла для одного из своих сыновей, однако его дружба, пусть и корыстная, пошла на пользу и северянам. Теп показал Ххылу самые рыбные места в реке, а однажды привел его к устричной отмели на морском берегу, научил нырять за раковинами и отковыривать их ножом со дна. Сын Ххыла стал таким ловким пловцом и ныряльщиком, что его прозвали Выдрой, в честь забавных зверьков, которые жили в прибрежных норах. В тот вечер на берегу озера семьи Ххыла и Тепа устроили настоящее пиршество, объедаясь свежей форелью, мидиями и устрицами. Северяне никогда прежде не пробовали таких лакомств. Ночью, при ярком свете звезд, отражавшихся в темных водах озера, Акуна попросила:
– Давай здесь останемся.
Ххыл упрямо помотал головой и утром напомнил Тепу о его обе щании отвести их на возвышенность.
– Отведу, – кивнул хитрец. – Сначала мы с тобой поохотимся на оленя, а потом пойдем.
Ххыл неохотно согласился – ему очень не хотелось откладывать путешествие.
– Надо до зимы до взгорья добраться.
– Доберемся, – пообещал Теп. – А на оленя пойдем в полнолуние.
Северянин решил задержаться еще по одной причине: он умел охотиться в тундре, но здесь, в южных лесах, Теп превосходил его в ловкости и сноровке.
На унылых просторах тундры дичи было мало; охотники собирались группами и следовали за добычей несколько дней, постепенно изматывая зверя и лишая его сил. В лесах на юге дичи было предостаточно, и Теп в одиночку охотился на косуль, диких лошадей, зайцев, серых куропаток, лебедей и гусей. Большее умение требовалось для охоты на вепрей и бурых медведей. С охотниками соперничали многочисленные хищники: лесные хори, лисы, волки, барсуки, горностаи и ласки. Вдобавок в чаще и на опушках можно было собирать великое множество съедобных грибов, клубней и злаков, терпкие ягоды можжевельника и сладкую ежевику. Хитрому горбуну все это было знакомо, и он делился с Ххылом своими познаниями.
Оружие для охоты в лесу весьма отличалось от привычного Ххылу копья и лука со стрелами. На севере кремнёвые отщепы бритвенной остроты приматывали к древку стрелы сплетенными из травы жгутами, а наконечники стрел лесного охотника были самой разнообразной формы, в зависимости от дичи, не заостренными, а долотообразными, и крепились в особый паз на древке. В наконечниках копья обычно делалось отверстие, куда прочно вставлялось древко. Для ловли рыбы предназначался зазубренный гарпун: острые зубцы не позволяли добыче ускользнуть. Ххыл с восхищением рассматривал тонкий иволистный наконечник – с такими Теп охотился на лис, чтобы не повредить драгоценного меха.
Впрочем, на этом различия между охотниками не оканчивались. Одежда Тепа – шкуры, сшитые нитками из оленьих кишок, – плотно прилегала к телу; летом он носил рубаху и набедренную повязку, а зимой надевал кожаные штаны; еще он рядился в звериные шкуры, изображая то лиса, то оленя, и закрывал лицо звериной маской. Улла плела великолепные корзинки из ивовых прутьев и искусно мастерила деревянные плошки.
Ххыл и не подозревал, что сам он – один из последних охотников палеолита. В Северном полушарии обширные открытые пространства тундры исчезали, уступая место лесам, где требовались иные, сложные приемы и методы охоты. Начинался мезолит.
В ожидании полнолуния Ххыл не терял времени даром: Теп учил его делать оружие и расставлять силки в лесу. Улла поделилась с Акуной секретами плетения корзин. Между двумя семействами установились дружеские отношения, и Ххылу пришлось признать, что встреча с новыми знакомыми пошла ему на пользу.
По вечерам мужчины спускались к реке или выходили на берег озера и глядели на богиню Луну, покровительницу охотников, сияющую в небесах. Оба они поклонялись среброликой богине, потому что именно она управляла жизнью диких зверей и своим светом помогала ночной охоте.
Ночь за ночью луна понемногу открывала свой сияющий лик. Наконец настало полнолуние, ночь священной охоты, однако, прежде чем отправиться в лес, надо было совершить особые обряды в честь богини Луны.
На берегу озера сложили костер. Восходящая луна отразилась в темных неподвижных водах озера.
– Она пришла на водопой, – прошептал Теп, следя за сияющим кругом на зеркально-гладкой поверхности.
Дети подожгли хворост, и охотники приступили к исполнению странного, но важного обряда. Теп, держа над головой рога оленя, убитого в прошлом году, медленной, осторожной поступью двинулся вокруг костра, то замирая, то испуганно оглядываясь. Дети зачарованно смотрели на горбуна, который перевоплотился в грациозного зверя. Ххыл крался за ним, будто на охоте. Охотники с необычайной достоверностью изображали мельчайшие подробности: Ххыл заметил след, бесшумно скользнул за оленем, подбираясь все ближе и ближе, – и вот наконец подстреленный зверь забился в предсмертных судорогах. Женщины и дети внимательно следили за представлением. Обряд не только предназначался для обучения детей искусству охоты, но и служил колдовским заклинанием, обращенным к богине Луне в надежде, что она ниспошлет удачу охотникам.
Теп великолепно исполнил свою роль, словно бы и впрямь превратился в оленя, преследуемого охотником. Богиня Луна принимала в жертву дух зверя, убитого на охоте, а его плоть отдавала людям. Охотники, не желая полагаться на случай, свято верили в древние колдовские обряды и прилежно исполняли их. В ночной тишине потрескивал хворост в костре, а богиня Луна безмолвно плыла по темному небу.
Наутро, в прибрежной роще, Ххыл, Теп и десятилетний юркий сынишка Тепа выследили и убили оленя с тяжелыми раскидистыми рогами, а потом отволокли его в стойбище. Женщины ловко сняли шкуру, разделали тушу и собрали кровь в кожаную торбу, а мясо нарезали тонкими полосками и завялили на воздухе. В неглубокие плошки налили морскую воду, оставили выпариваться на солнце, потом соскребли соль и присыпали ею мясо – так оно не портилось несколько месяцев.
Вечером, перед ужином, мужчины провели еще один важный обряд. Женщины, разделав мясо, вручили охотникам шкуру и оленье сердце. Шкуру, наполненную камнями и зашитую костяной иглой, уложили в долбленую лодку, и с наступлением темноты охотники спустились вниз по реке, к озеру.
Луна взошла над гладью темных вод. Мужчины вывели долбленку на середину озера, опустили шкуру за борт, и она тут же погрузилась на глубину.
– Теперь у богини есть еда, – провозгласил Ххыл и направил лодку к стойбищу, где их ждал обильный ужин.
Люди ели оленину, но дух зверя принадлежал богине, пославшей охотникам добычу.
Над рекой струился аромат жареного мяса. Ххыл оглядел свою семью – жена с довольным видом сидела у костра, дети играли на лужайке. Из этого чудесного места уходить не хотелось, и все же ночью, лаская мягкое, податливое тело Акуны, охотник мысленно поклялся: «Я найду взгорье, там мы заживем еще лучше».
Наутро к Ххылу пришел Теп – настало время исполнить обещание. Впрочем, Ххыл почти не сомневался, что Теп снова придумает какую-нибудь отговорку.
– Отдай дочь моему сыну, – без обиняков заявил Теп. – Тогда я отведу вас на возвышенность.
Ххыл задумался. Теп не сдержал слова, но просьба его была не так уж и плоха. В конце концов, дочь придется кому-нибудь отдать, а сын Тепа – хороший охотник.
– Сначала отведи нас, а потом я отдам ему дочь, – решительно ответил Ххыл.
Поразмыслив, Теп неохотно согласился.
На следующий день оба семейства отправились вверх по реке.
Вокруг простиралась плодородная равнина – за миллионы лет здесь поверх галечника скопились наносы, оставленные отступающими ледниками. Теп шел неторопливо, часто останавливался и ловил в реке рыбу – форель, угрей, щук, нежных хариусов и окуньков, – пытаясь задобрить спутников лакомствами.
Ххыл недовольно морщился: за день удавалось пройти всего пять миль, а лето близилось к концу. Что, если они не успеют добраться на возвышенность до наступления холодов? Он неутомимо подгонял Тепа, но горбун только хитро улыбался и мотал головой. Вот уже четыре дня путники двигались медленнее улиток, а на пятый день пришли в долину у невысокого пологого холма.
– Вот здесь сливаются пять рек, – объявил Теп.
Ххыл удивленно огляделся: перед ним расстилалась широкая ложбина, четко очерченным кругом раскинувшаяся на много миль. С запада, севера и востока ее обступали кряжи – высокие и неприступные, с обрывистыми склонами и крутыми откосами. Чуть правее к краю ложбины подступал поросший лесом холм, за которым открывался вход в долину – одну из нескольких, прорезавших кряжи.
– Здесь три долины, – пояснил Теп. – На западе, на севере и на северо-востоке. Холм стоит перед входом в северную долину, самую маленькую из трех. По каждой долине течет река, а в западной долине их целых две, а потом все четыре притока сливаются и широкой петлей огибают юго-запад ложбины.
Действительно, речная излучина огибала центр впадины, а потом река устремлялась навстречу путникам.
– Пятая река вливается с запада, чуть выше по течению, – сказал Теп. – Видишь, вот так… – Он вытянул левую руку ладонью вверх, растопырил пальцы и ткнул в запястье. – Мы вот здесь.
– А где же возвышенность? – озабоченно осведомился Ххыл.
– Перед тобой, – ответил Теп. – Взберешься на северный кряж, оттуда по возвышенности можно много дней идти.
Через два часа мужчины вскарабкались на вершину северного кряжа, в ста пятидесяти футах над долиной, откуда открывался величественный вид на все четыре стороны света. Больше всего Ххылу понравилось бескрайнее лесистое плато на севере, которое застывшими каменными волнами уходило к горизонту. На просторе с тихим свистом носился ветер. Охотник удовлетворенно улыбнулся: именно о таком месте он и мечтал. Даже если море разрушит утесы и затопит долины, с этой огромной возвышенностью ему не справиться. Здесь семейство северного охотника будет в безопасности. Ххыл обернулся и поглядел на пять рек, неторопливо текущих по болотистой луговине. На воде горделиво покачивались лебеди.
– Здесь мы и останемся, – сказал он.
Так возник Сарум.
Ххыл с семьей пришли на пустынную возвышенность, известную сегодня под названием Солсберийская равнина, где сходятся все естественные дороги Южной Англии. Отсюда, с холмистого взгорья, длинные меловые гряды отходят на юго-запад, на восток и на север – часть того самого юрского хребта, с которого Ххыл начал свое путешествие из тундры. Охотник побывал и на гряде, тянущейся на восток: именно на ее оконечности он стоял, глядя на бушующие воды Дуврского пролива, – море как ножом обрубило меловые скалы. Все эти и многие другие кряжи сходились в центре острова Британия, на Солсберийской равнине.
– На море похоже, – изумленно выдохнул Ххыл. – Земля застыла волнами.
Охотник, сам того не зная, сделал очень верное наблюдение. С точки зрения геологии Солсберийская равнина – несложное образование. Примерно шестьдесят пять миллионов лет назад и сама равнина, и вся южная оконечность Британии лежала под водой; море отступило только в так называемый меловой период, и кряжи, образованные древними юрскими известняками, покрыл слой меловых отложений в сотни футов толщиной. Меловые отложения сформировали грунт возвышенности, а сравнительно недавно – примерно в последние два миллиона лет – ветер и талые воды нескольких ледниковых периодов нанесли на мел тонкий слой плодородной почвы, на котором и разрослись леса. Так образовалась Солсберийская равнина.
Ххыл далеко не первым набрел на это пустынное место. Через возвышенность и прилегающие к ней долины вот уже четверть миллиона лет кочевали первобытные охотники – об этом свидетельствуют древние наконечники стрел и кости животных, которые до сих пор находят археологи. Люди издавна облюбовали окрестные места.
– Да, место хорошее, – сухо заметил Ххыл, сообразив, что хитроумный Теп его обманул: найти возвышенность было нетрудно, надо было лишь подняться вверх по реке – именно поэтому горбун и откладывал недолгое путешествие. Впрочем, охотник не стал с ним ссориться, ведь других людей он не встречал с тех самых пор, как ушел из тундры. – Когда дочь подрастет, пришли за ней сына, – сказал он и отвернулся, разглядывая долину.
На следующий день он обошел окрестности. Больше всего охотника привлекал крутой холм у входа в долину на севере, который как будто сторожил возвышенность. С вершин холма открывался великолепный вид, а один склон полого уходил к реке.
– Хорошее место, – сказал Ххыл Акуне, и она согласно кивнула.
Жилье они соорудили в ложбинке на юго-западном склоне холма, обращенном к месту слияния пяти рек. Оттуда местность хорошо просматривалась до самого горизонта, а рощица защищала жилище от ветра.
Теп не стал возвращаться к своей стоянке у реки, потому что ему надоело жить изгоем. О его вздорном нраве Ххыл не знал.
– Я останусь поблизости, будем охотиться вместе, – сказал Теп, поднявшись на холм к Ххылу.
Новому знакомцу Ххыл не доверял, но, поразмыслив, согласился на такое соседство.
Теп с семьей разбили свои шалаши в месте слияния двух рек западной долины, в двух милях от холма Ххыла.
Два семейства начали обживать Сарум. В долинах и на возвышенности было много дичи, и Ххылу больше не грозила голодная смерть. Хотя ему и не удалось уйти на юг, он все-таки нашел свои теплые края.
Так в пятиречье сложилась новая община первобытных охотников. Впрочем, они были не одиноки: в семи милях к востоку, на лесистом склоне холма у реки, обитали еще два семейства, а в десяти милях к западу, у болота, поблизости от прошлой стоянки Тепа, в бревенчатых хижинах на сваях жили три семьи. Север возвышенности оставался необжитым.
Таким образом, в то время, когда население острова Британия насчитывало от силы пять тысяч человек, территория Сарума была густо заселена.
В долинах круглый год водилось множество дичи, поэтому охотникам больше не требовалось кочевать с места на место. Здесь были и косули, и дикие лошади, и лоси; на возвышенность забредали зубры и даже полярные олени, несколько раз в долины спускались косолапые бурые медведи. В окрестных лесах шныряли волки, но к людям хищники не приближались. На реке обосновались стаи лебедей, по заводям расхаживали аисты, пеликаны и цапли; впрочем, мясо цапель было невкусным, в отличие от мяса серых куропаток и чибисов. Хватало бобров, барсуков и лис. Иногда мужчины устраивали совместную охоту на вепрей – диких кабанов с грозными клыками и очень вкусным мясом. На склонах холмов Акуна собирала ягоды можжевельника, терна и боярышника, в реках водились форель, семга, щука, окунь, хариус и угри – их умело ловил Теп с сыновьями, так что обитатели Сарума питались разнообразно.
Однако здесь пока не было многих представителей животного мира: домовых мышей (впрочем, в лесах встречались полевые), крыс, овец, домашних свиней и коров, фазанов и кроликов, хотя зайцы водились во множестве. Только через шесть с половиной тысяч лет нормандцы завезли кроликов в Британию.
В лесах росли дубы, ясени, сосны, вязы и бузина; на берегах рек копали глину, а в меловых отложениях добывали кремни, из которых делали наконечники стрел. На склоне холма в нескольких милях к востоку от долины залежи кремня выходили на поверхность, а Ххыл с Тепом разрыли и углубили естественную выемку, обеспечив себе запас драгоценного материала.
Ххыл с Акуной по-прежнему придерживались уклада жизни обитателей суровой тундры. Душный шалаш, в котором круглый год жил Теп, им пришелся не по нраву, поэтому на зиму они вырыли в холме глубокую просторную землянку и для тепла завалили вход камышом и валежником, а весной на склоне, согретом теплыми лучами солнца, установили обычное жилище из шкур и откидывали полог, наполняя дом ароматами клейкой листвы и трав.
Зимы были долгими и суровыми, как и в тундре; на возвышенности завывал холодный восточный ветер, мела метель, снег заносил все вокруг. Однако же долгие теплые весны были ничуть не похожи на короткое полярное лето: сугробы таяли, с холмов в низины бежали звонкие ручьи, тихие реки в долинах превращались в бурные потоки, длинные плети водорослей, которые обычно лениво колыхались на глубине, стелились по воде под напором струй, мутных от ила и меловой пыли.
Больше всего Ххылу нравилось бродить по пустынной возвышенности; она напоминала ему родную тундру. В ясный летний день казалось, что протяни руку – достанешь до самого неба; зимой, когда студеный восточный ветер срывал колючие снежные комья с деревьев, Ххыл будто бы переносился в необозримые морозные просторы полярного края.
Годом позже, в середине лета, Ххыл обнаружил на возвышенности место необычайной красоты. Однажды они с Акуной забрели на север плато и наткнулись на большую вырубку – лет за тридцать до того поляну расчистило племя охотников, которые из года в год устраивали здесь стоянку. На лужайке золотились цветы калужницы и подковника, но вся она почему-то отливала ярко-синим. Ххыл недоуменно остановился, но Акуна, смеясь и хлопая в ладоши, выбежала на поляну. Внезапно синева поднялась в воздух и дрожащим покровом повисла над землей – сотни тысяч бабочек-голубянок, трепеща синими крылышками, испуганно сорвались с мест. Акуна замерла, окруженная колышущимся голубым облаком, и у Ххыла радостно забилось сердце. Он бросился к ней, пылко обнял и повалил на землю.
Три года семья Ххыла и семейство Тепа мирно жили бок о бок. Широкое обветренное лицо северного охотника пересекли глубокие морщины. Сын Ххыла, Выдра, смышленый паренек, часто уходил охотиться с сыновьями Тепа на мелкого зверя в долинах. Вапа унаследовала от Акуны красивые зеленовато-карие глаза и к восьми годам стала очень похожа на мать. Ххыл радовался, глядя на нее и, хотя жалел, что обещал отдать ее сыну Тепа – вздорным нравом и хитростью тот пошел в отца, – но слова своего нарушать не собирался. На второй год жизни на возвышенности Акуна родила Ххылу еще одного сына, крепкого и здорового мальчика. Охотник решил, что богиня Луна благосклонно принимает ежегодные жертвы и покровительствует его семье.
Теп с Ххылом часто охотились вместе. Горбун уплывал в долбленке к озеру и возвращался с тушками пеликанов и прочими лакомствами; привозил он и птиц с ярким оперением – Улла вплетала перья в свои корзинки. Со своей женщиной Теп обращался грубо, иногда она появлялась с подбитым глазом и синяками, но не жаловалась на тяжелую участь.
А на четвертый год случилось ужасное происшествие.
Зима выдалась долгой и студеной. Улла заболела и едва не умерла – ей было всего двадцать лет, но ее подкосили холода и тяготы существования. Поначалу дети и Теп по мере сил ухаживали за ней, а потом, видя, что она не идет на поправку, оставили ее одну. Акуна пришла в крохотный шалаш, развела огонь и несколько дней отпаивала Уллу теплым питьем и жидкой похлебкой – другой пищи бедняжка не принимала. Акуна укутывала истощенную дрожащую женщину в шкуры и сокрушенно качала головой. Посреди зимы три дня мела метель, от пещеры на холме до шалаша у реки добраться было невозможно, и Акуна решила, что Улла умерла в одиночестве. Как ни странно, женщина Тепа выжила.
Теп, растроганный заботой Акуны, начал оказывать ей всевозможные знаки внимания. Однажды весной горбун принес в пещеру на холме огромную рыбину и торжественно протянул Акуне.
– Это тебе, – заявил он. – Ты за Уллой ухаживала.
Акуна благодарно улыбнулась, по обычаю предложила Тепу место у огня и угощение. Спустя несколько дней горбун снова принес дары – рыбу и заячью тушку. Акуне было неловко, однако, не желая обидеть Тепа, она с улыбкой поблагодарила его.
Теп стал частенько приходить то в пещеру на холме, то в долину у подножия. Улле нравилось общество Акуны, и избежать встреч с горбуном было невозможно. Акуна обращалась с ним приветливо, а он продолжал приносить ей еду в подарок. Несколько раз Акуна говорила об этом Ххылу, но тот лишь пожимал плечами:
– Теп со мной охотится, он наш друг.
Вскоре Акуна перестала об этом тревожиться.
Однажды летним утром, когда Ххыл с Выдрой ушли выслеживать оленя, Акуна оставила малыша в пещере под присмотром Вапы и спустилась в долину собрать спелые ягоды в рощице на востоке. По пути ей показалось, что за ней следят; она огляделась, но никого не заметила. Опушка рощи густо заросла ежевикой. Акуна быстро набрала лукошко ягод и внезапно увидела Тепа. Горбун неслышно подкрался среди деревьев и теперь стоял совсем рядом с ней. Он искупался в реке, смыл застарелую грязь с тела и из куцей бороденки, так что от него воняло меньше. Огненно-рыжие космы торчали во все стороны.
Акуна, напуганная его неожиданным появлением, сдержанно поздоровалась с ним и продолжила обрывать ягоды с куста. Теп молчал, неотступно следуя за ней. Не зная, что делать, она потянулась к грозди ягод высоко на ветке. Горбун сделал шаг вперед и неожиданно облапил ей грудь.
Акуна замерла – низенький жилистый Теп был очень силен. Она поняла, что ей грозит опасность, и лихорадочно размышляла. Вряд ли Теп решится украсть чужую женщину: Ххыл будет драться за нее насмерть. Наверное, горбун подумал, что она благосклонно отнесется к его ухаживаниям, ведь она улыбалась ему, брала принесенную им еду, приглашала его к очагу и в присутствии Уллы держалась с ним приветливо. Дружелюбное поведение он воспринял как заигрывание и теперь сделал решительный шаг. Нет, ему надо объяснить его ошибку.
Женщина повернулась к Тепу, невозмутимо посмотрела ему в глаза и осторожно отвела его руку в сторону, сурово качая головой. Говорить Акуна ничего не стала, боясь задеть его неверным словом, – может быть, он все поймет.
Увы, Теп уже давно мечтал о привлекательной женщине с холма; болезнь Уллы только усилила его желание. Хитроумный горбун убедил себя, что нравится Акуне, и отказа не потерпел. Он удивленно посмотрел на нее, потом злобно прищурился и снова протянул руку.
Не выдержав, Акуна с отвращением оттолкнула горбуна и плюнула в его сторону, но тут же осознала свою ошибку. Лицо Тепа исказила обиженная гримаса. Он злобно сверкнул глазами, бросился к Акуне, повалил на землю и разодрал ей ворот мягкой кожаной рубахи, обнажив тяжелые, крепкие груди. Горбун похотливо осклабился.
Стремясь вырваться из цепких рук Тепа, Акуна изо всех сил ткнула кулаком ему в лицо, попала в висок и стряхнула горбуна на землю. Он откатился в сторону, взвизгнул, выхватил из-за пояса костяной охотничий нож и кинулся на женщину. Сильной, жилистой рукой он до боли сжал ей запястье и приставил нож к горлу.
Акуна поняла, что ей не вырваться, притворно обмякла и, превозмогая отвращение, погладила горбуна по плечу, а потом призывно согнула ногу в колене. Он чуть ослабил хватку и подозрительно уставился на женщину. Она растянула губы в улыбке. Теп поддался на обман, с торжествующим криком раздвинул ей ноги, отшвырнул оружие и бросился на нее. Акуна стремительно подхватила костяной нож и полоснула сверху вниз по лицу горбуна. Он заверещал от боли и закрыл лицо ладонями: Акуна пропорола ему правый глаз.
Она вскочила и со всех ног помчалась через рощу, сжимая нож в кулаке. В спину ей неслись крики Тепа, который беспомощно корчился на лужайке. У пещеры на холме Акуна перевела дух, вооружилась луком и стрелами Ххыла – на случай, если горбун бросится за ней в погоню, – и встала у входа, дожидаясь возвращения охотника с сыном.
Ххыл вернулся к вечеру. Акуна, дрожа от возмущения, рассказала ему о нападении Тепа.
– Убей его, иначе он убьет нас всех, – предупредила она.
Ххыл побагровел от гнева. Поначалу ему и впрямь захотелось убить горбуна, но, поразмыслив, он решил поступить иначе.
Распрей и раздоров между племенами избегали любой ценой: людей было мало, человеческая жизнь считалась священной, для продолжения рода следовало жить в мире и согласии. Если Ххыл убьет Тепа, то сыновья горбуна захотят отомстить за отца, и через несколько лет обе семьи будут уничтожены. Ххыл сокрушенно покачал головой:
– Надо подумать.
Всю ночь он просидел у входа в жилище, размышляя над трудной задачей, а на рассвете понял, что делать. Взяв копье и лук, он кружным путем направился к стоянке Тепа у реки: наверняка горбун, опасаясь возмездия, скрывается где-то в лесу и, может быть, решит исподтишка напасть на Ххыла.
В шалашах у реки никого не оказалось, но долбленка лежала на берегу. Ххыл огляделся, нашел открытое место, чтобы никто не подкрался незаметно, сел на землю и замер, уложив лук на колени. Судя по всему, Теп прятался неподалеку и наблюдал за Ххылом из укрытия. Наступил полдень, потом солнце начало медленно клониться к закату, но горбун не появлялся. Тихо шелестела листва под легким ветерком, в лесу щебетали птицы, над рекой пролетали лебеди. Ххыл терпеливо ждал.
Ближе к вечеру из леса осторожно вышел Теп и, пошатываясь, направился к охотнику. Опухшую правую глазницу покрывала корка запекшейся крови. Мужчины молча посмотрели друг на друга, опасаясь внезапного нападения.
– Уходи отсюда, – произнес Ххыл. – Возвращайся на старую стоянку.
Оба понимали, что другого выхода у Тепа нет.
– Ты обещал отдать дочь моему сыну… – начал горбун.
– Не отдам! – Ххыл решительно помотал головой.
Теперь он не стыдился, что не сдержит слова. Вапу лучше отдать молодому охотнику из соседнего поселения – недавно его отец позвал Ххыла охотиться на вепря.
Теп промолчал – возразить Ххылу он не мог. Вдобавок горбуна уже во второй раз изгоняли из общины, и он понимал, что женщину для сына не найдет. И все же он хотел обратиться к Ххылу еще с одной просьбой.
– Когда придут зубры… – нерешительно произнес он.
Каждый год в начале лета по северо-восточной оконечности возвышенности проходили стада зубров. Охота на исполинских быков была опасным занятием, для нее требовалось много людей. Окрестные охотники собирались вместе и несколько дней следовали за стадом. Такой род охоты был хорошо знаком Ххылу еще по жизни в тундре. Теп с сыновьями тоже с этим справлялись, но в одиночку зубра не одолеешь.
Ххыл задумался. Изгнание стало для горбуна тяжелым ударом, однако прощать Тепа охотник не собирался и не хотел, чтобы он оставался по соседству.
– Можешь приходить сюда на один месяц в году, – наконец сказал Ххыл. – Я возьму твоих сыновей на охоту. А если ты подойдешь к нашему жилищу или к Акуне, я все расскажу соседям, и мы тебя убьем.
Теп понурился, понимая, что так оно и будет: окрестные охотники уважали Ххыла и верили его словам.
– Нам больше не о чем говорить, – объявил Ххыл. – Через два года приходи охотиться на зубра. Я дам тебе знать когда.
Так Ххыл сохранил мир и покой в долине. Акуна поначалу огорчилась, что Теп остался в живых, но в конце концов осознала мудрость решения Ххыла.
В жизни первобытного охотника и его семьи начался новый период. Ххыл с сыновьями в одиночку охотились в долинах, присоединялись к семьям по соседству для охоты на вепрей и зубров. Изгнанник Теп продолжал жить на дальней стоянке у реки. Время от времени Акуна предупреждала Ххыла:
– Теп будет красть женщин для сыновей. Он кого-нибудь убьет.
– Нет, его сыновья местных женщин не заберут, испугаются, – возразил охотник. – Украдут из дальнего племени, как Уллу.
Спустя два года Теп с семьей вернулись на прежнюю стоянку в долине. Ххыл позвал сыновей горбуна охотиться на зубров и отдал им положенную долю добычи. Теп со стоянки не выходил и держался в стороне. В конце месяца семья откочевала на дальнее стойбище.
Еще через два года все разрешилось весьма неожиданным образом.
Теп привел семью в долину ранней весной, прежде чем собрались остальные охотники. Зубры еще не пришли, но Ххыл уже бродил по возвышенности, пристально всматриваясь в следы. Однажды ранним утром они с Выдрой и старшим сыном Тепа отправились на север через поросшие лесом холмы. К полудню охотники, не обнаружив следов дичи, решили свернуть на запад и спустились в долину к реке.
– Вернемся вниз по течению, может быть, по пути встретим добычу, – решил Ххыл.
Охотники медленно шли по лесистому берегу, обходя болотистые участки поймы. К реке часто приходили олени на водопой, щипали густую траву на опушках. Река еще не успокоилась после весеннего половодья. Как охотники ни вглядывались в густой подлесок, никаких следов дичи они не обнаружили. Судя по всему, стада бизонов еще не появлялись.
Солнце клонилось к закату. Внезапно Ххыл остановился, затаив дыхание.
– Тур! – еле слышно прошептал он.
В те времена эти исполинские быки чрезвычайно редко встречались на острове и были самой желанной добычей охотников. Даже случайная встреча с туром считалась хорошей приметой. Прежде Ххыл видел быка только однажды – в тундре, еще подростком, – а теперь великан стоял в двухстах шагах от него, у рощицы на речном берегу.
Тур был настоящим царем зверей: с виду он походил на громадного черного быка выше человеческого роста в холке. От носа до хвоста в нем было десять футов, и весил он несколько тонн. Туры бродили небольшими стадами, до десяти особей, и остальные звери обходили их стороной. Рядом с туром даже могучий зубр казался крошечным. Больше всего поражали его огромные рога.
Охоту на тура Ххыл запомнил на всю жизнь; однажды его отец с отрядом охотников выследили зверя и шли за ним полдня, осыпая великана копьями. Наконец израненный зверь упал на колени, и один из отважных охотников перерезал ему горло. Ххыл восторженно подбежал к исполину, раскинул руки, попытался ухватить кончики рогов – и не смог дотянуться. При одном воспоминании о величественном туре охотника пробирала восторженная дрожь.
Туры давным-давно вымерли. В доисторические времена на территории Европы еще встречались немногочисленные стада. Гигантские быки не поддавались одомашниванию и были слишком неуклюжи, а потому стали сравнительно легкой добычей охотников. В Средневековье их всех истребили, однако в XVII веке последнего тура обнаружили в глухом уголке Польши – об этом свидетельствуют записанные рассказы очевидцев.
Ххыл предупредительно поднял руку, и молодые охотники замерли на месте. Ххыл осторожно двинулся вперед. Исполинская самка тура не учуяла запаха человека и продолжала щипать траву, потом подняла голову, увенчанную огромными рогами, и уставилась на Ххыла. Охотник оцепенел, а самка опять потянулась к сочной траве. Похоже, животное отбилось от стада.
Ххыл хорошо знал, что тур – опасный зверь, который легко может растоптать охотников.
«О богиня Луна, я принес тебе много жертв, – взмолился он про себя. – Позволь мне убить могучего тура!»
Смеркалось, но зверь и не думал уходить: скорее всего, проведет ночь на берегу реки, а наутро последует за стадом. Ххыл бесшумно вернулся к своим спутникам и увел их в чащу. Ему очень хотелось завалить великолепного зверя. Такого редкого случая нельзя упускать. И все же в одиночку на тура не охотятся – это верная смерть. Охотники ушли слишком далеко на север от родной стоянки, а до ближайшего племени двенадцать миль лесом.
– Нужна помощь, – вздохнул Ххыл. – Где взять людей?
– Я могу отца позвать, – предложил сын Тепа. – Он целится верно, рука у него не дрогнет.
Ххыл задумался. Его терзали противоречивые чувства. Что делать? Взять Тепа на охоту или отказаться от тура? Вчетвером охотники наверняка справятся, но будет ли толк от одноглазого горбуна? Вдруг он не сможет попасть в цель?
– Пусть на рассвете приходит к реке, – наконец сказал Ххыл. – Пойдем охотиться на тура.
В жилище на холме Ххыл вернулся поздней ночью, присел у костра и, возбужденно жестикулируя, рассказал Акуне о туре.
– Теп и его старший сын пойдут с нами, – добавил он. – Мы выходим на заре.
Акуна испуганно поглядела на Ххыла. Четыре человека: один охотник, один калека и двое подростков. Что станет с Акуной и младенцем, если тур растопчет Ххыла?
– Позови охотников из соседних племен, – предложила она.
Ххыл упрямо помотал головой:
– Нет времени. Утром тур уйдет.
– Так нельзя, – вздохнула Акуна.
– Тур большой, но неуклюжий. Если перебить ногу, зверь охромеет, и мы его загоним. Пойдем по его следу, пока тур не упадет от усталости, – объяснил Ххыл.
Этот способ был хорошо известен полярным охотникам, однако любая ошибка стоила смерти. Акуна хмуро посмотрела на Ххыла и удрученно склонила голову. Спорить было бесполезно: упрямство охотника привело их из тундры в Сарум, и теперь он не отступится от своего решения.
– Мой сын всем расскажет, что его отец убил могучего тура, – гордо заявил Ххыл.
В предрассветных сумерках охотники вышли в путь. Теп с сыном и Выдра вооружились копьями и луками. Ххыл взял с собой копья и тяжелый каменный топор – лезвием служил широкий обломок кремня, добытый из меловой ямы, а рукоятью – прочный дубовый сук. Стрелы ранят зверя, длинные кремнёвые наконечники пронзят толстую шкуру и вопьются в плоть. Тур ослабеет. Первое копье нужно глубоко вонзить под лопатку тура, ближе к сердцу. После этого охотники станут неутомимо преследовать израненного зверя, осыпая его градом стрел и копий до тех пор, пока он не упадет без сил, тогда Ххыл сможет перерезать ему горло кремнёвым ножом. Главное – успешно нанести первую рану, иначе тур уйдет от преследователей или разъярится и растопчет охотников. Все четверо осознавали грозящую им опасность.
Охотники, сдерживая радостное возбуждение, шли по берегу реки. Лесные птицы встречали зарю громким щебетом.
– Только бы зверь не ушел, – шептал Ххыл, напряженно вглядываясь в сумрак.
Когда вдали заалела первая полоска зари, охотники добрались до места. На излучине у воды чернела громада тура.
– Не ушел, – с облегчением выдохнул охотник, сжав рукоять топора.
С юга дул легкий ветерок. Четверо охотников, держась против ветра, бесшумно двинулись к зверю. Они прятались за деревьями и кустами, пригибались в высокой траве. Над кряжем взошло солнце; лучи разогнали серые облака. Тур, не замечая охотников, невозмутимо щипал траву.
В тридцати шагах от зверя охотники одновременно выступили из укрытий и с трех сторон метнули копья. Тур резко мотнул головой и грозно заревел. Стало ясно, что нападение не удалось. Копье Ххыла попало быку под лопатку, но вонзилось неглубоко. Копье Выдры оцарапало шею тура, а Теп с сыном промазали. Ранения оказались легкими, и боль только разъярила зверя.
Несчастье разразилось мгновенно.
Тур, топоча громадными копытами, повернулся к преследователям и заметил Тепа, который вышел на опушку из своего укрытия в камышах. Зверь угрожающе наклонил тяжелую голову, увенчанную ужасающими рогами, и ринулся на горбуна. Хитрец понял, что ему не уцелеть, однако спокойно взглянул в лицо смерти. В самый последний миг он попытался отскочить, но тур подцепил его рогом, пронзил жилистое тело насквозь и отбросил в сторону, а потом скрылся в чаще, ломая торчащие из боков копья о стволы. Охотники не решились преследовать добычу.
Теп погиб под копытами тура. Охотники принесли обезображенный труп к стоянке и вечером похоронили горбуна на возвышенности, завалив могилу горкой камней. Улла и ее дети остались без защитника и кормильца. Выжить в одиночестве они не могли, а заботиться о них было некому. Ххыл и Акуна понимали, что придется сделать.
Через два дня после смерти Тепа Акуна спустилась на стоянку у реки и привела Уллу с детьми на холм. В сорока шагах от летнего жилища Ххыла построили еще один шалаш, разделенный пополам: в одной половине жили дети, в другой – Улла.
Улла молчала, ничем не выказывая горя или радости. Все было понятно без слов: Ххыл взял ее и детей под свою защиту. Акуна внимательно оглядела Уллу и решила, что худенькая и слабая женщина, натерпевшаяся грубого обращения Тепа, сможет оправиться и продолжить род.
– Теперь Ххыл – твой мужчина, – просто сказала Акуна. – Мы обе – его женщины, но я главная. Ты будешь мне повиноваться.
Улла согласно закивала – за долгие годы с Тепом она привыкла к повиновению.
Больше всего перемены расстроили Ххыла. Акуна много лет была его женщиной, и о других он не думал. Теперь ему было неловко. Пока Акуна с Уллой сооружали новое жилище, Ххыл ушел на возвышенность и вернулся только через несколько дней. На лице его застыло странное, мечтательное выражение.
Ххыл забрел в долину на западе и там, в обрывистом речном берегу, обнаружил выход на поверхность странной породы – не мел, а мягкий камень, который словно бы светился под лучами солнца. Такого Ххыл прежде не видел – до сих пор его интересовали только кремни для наконечников стрел и копий. Камень ему понравился. Он долго перебирал осколки и, отыскав подходящий булыжник размером с кулак, гладкий и приятный на ощупь, присел на корточки под раскидистым дубом и начал обтесывать камень кремнёвым рубилом.
Всю ночь Ххыл провел у обрыва, а наутро снова отправился бродить по возвышенности, неустанно обрабатывая булыжник. Несколько раз он ополоснул камень речной водой и к концу второго дня начал его полировать. На третий день он закончил работу, спрятал камень в торбу на поясе и вернулся в жилище на холме.
Вырезанная им фигурка изображала женщину – приземистую, крепкого телосложения. Черты лица были едва намечены: бугорок на месте носа, три дырочки – глаза и рот. Однако же эта примитивная скульптура изображала Акуну: тяжелые груди, толстый живот, широкие чресла и мощные ягодицы свидетельствовали о том, что охотнику удалось передать женское естество.
Ххыл нежно погладил каменную фигурку. Он и сам не знал, почему решил вырезать ее из камня, – наверное, ему просто понравилась гладкость и необычность материала. Как бы то ни было, фигуркой он был доволен. Она изображала Акуну, его спутницу, мать его сыновей. Для него она была лучшей женщиной в мире, и он решил, что фигурка принесет ему удачу.
На следующий день он взял с собой резной камешек и пришел в хижину к Улле, где провел семь дней, после чего вернулся к Акуне. Так продолжалось всю зиму и весну, а осенью Улла родила крепкого и здорового малыша – у младенца пальцы ног были обычными, а не длинными и гибкими, как у всех детей Тепа.
Прошло семь лет. У Ххыла появилось еще трое детей, но всякий раз, когда он приходил к Улле, он приносил с собой каменную фигурку.
Акуна, которая с неохотой отправилась из тундры в неведомые края, теперь пользовалась безмерным уважением соплеменников. Каждое утро она выходила из своего жилища на вершине холма и направлялась к рощице. Девушки из долины тут же прибегали к ней и выполняли ее поручения. Она учила их свежевать добычу и выделывать шкуры различных зверей, готовить еду и вялить мясо. Иногда она уводила женщин в лес и показывала им съедобные травы, корни и клубни, выковыривая их из земли палкой.
Однажды в присутствии Ххыла Улла велела своей дочери сделать что-то вразрез с приказанием Акуны. Старшая женщина презри тельно посмотрела на нее и влепила оплеуху с такой силой, что Улла упала и покатилась вниз по склону, заросшему колючим кустарником. На ее защиту никто не встал. Улла с беспомощной яростью посмотрела на Акуну и больше никогда ей не перечила. В семье воцарились мир и согласие.
Жизнь в долинах у пяти рек шла своим чередом. В племени, образованном семьями Ххыла и Тепа, подрастали новые ловкие охотники и рыболовы. Сыновья Тепа нашли себе женщин в соседних поселениях, и в один прекрасный день Выдра, сын Ххыла, возглавил охоту.
Ххыл был почти всем доволен, однако что-то не давало ему покоя. Они с Акуной достигли преклонных лет – им обоим было под сорок. Ххыл по праву мог гордиться своими подвигами: он увел семью из тундры в теплые края, он прослыл великим охотником и породил много детей, его уважали соплеменники и люди из окрестных родов. В общем, жизнь удалась.
И все же старого охотника не отпускало ощущение незавершенности, как будто он упустил что-то очень важное. Даже любимая Акуна не могла его утешить. Он уходил на возвышенность, бродил там целыми днями, приносил жертвы богине Луне и, вспоминая просторы тундры, задумчиво глядел на лесистые кряжи, на переменчивое небо – то высокое и прозрачно-голубое, то пасмурное и серое, – на волны холмов, бесконечной чередой убегающие вдаль, и вслушивался в завывания ветров или в полное безмолвие. Величие природы и пугало, и успокаивало одновременно.
Когда-то отец Ххыла рассказывал сыну о могущественных богах, которым подчинялись все силы природы, и о жарких краях, где много дичи. Пусть Ххыл и не дошел до тех самых земель, но все-таки проделал нелегкий путь на юг и теперь вспоминал буйство грозной стихии, пытаясь понять, что произошло. Эти размышления потрясли его до глубины души.
– Что мне делать дальше? – день за днем взывал Ххыл к богам и однажды услышал их ответ в шорохе листвы и в дуновении ветра: «Расскажи о своем путешествии, о своих предках и о древних богах – так, чтобы твой рассказ передавали из поколения в поколение».
Старый охотник четко разобрал каждое слово и все же не находил покоя.
– Как мне обо всем этом рассказать?! – в отчаянии воскликнул он.
«Слушай!» – прошептали боги.
Вечером Ххыл вернулся домой. На широком морщинистом лице охотника застыло восторженное выражение, глаза лучились радостью.
Однако еще не настало время поведать остальным слова богов. Через несколько дней после возвращения Ххыла на возвышенность пришла суровая зима. Она выдалась холодной и затяжной, похожей на полярные зимы. Реки замерзли, рыболовам приходилось чуть ли не весь день пробивать полыньи в толстой ледяной корке. В заснеженных долинах стояла мертвенная тишина. От мороза погибали птицы. На взгорье царило безмолвие, только день за днем выл студеный северо-восточный ветер и тяжелый мокрый снег валил стеной, занося деревья до самых макушек.
Впрочем, Акуна и остальные женщины запаслись на зиму ягодами и кореньями, так что еды хватало, и Ххыл утешал себя, что голод им не грозит, – в заснеженных лесах водилась дичь, в реках ловилась рыба, а с приходом весны начнется настоящая охота.
Удручала Ххыла только Акуна.
Она уже давно подозревала, что эта зима станет для нее последней. Поначалу старость давала о себе знать только ломотой в суставах, но с недавних пор у Акуны стали выпадать зубы, и она прикрывала щербинку комочком травы, надеясь, что Ххыл не заметит.
А этой зимой дело было совсем худо.
Ломота в костях, вызванная стужей и сыростью, обычно проходила под теплыми лучами весеннего солнца, но сейчас с Акуной творилось что-то необъяснимое. По телу разливался странный холод. Он не отступал, даже когда она сидела у огня, завернувшись в шкуры, или лежала рядом со старым охотником. Акуна исхудала, пышные груди обвисли и сморщились, глаза непроизвольно слезились. Ххыл уходил бродить по возвышенности, а Акуна, оставшись в одиночестве, сидела в холодном жилище и думала, что зима никогда не кончится.
Однажды студеным зимним утром она проснулась и поняла, что ей все равно, – эта зима станет для нее последней.
Припозднившаяся весна решительно вступила в свои права. Жар кие лучи солнца растопили сугробы и лед на реках, вешние воды с ревом неслись по речным руслам, разливались по низинам. В долинах кипела жизнь. Старый охотник, поседевший и жилистый, но по-прежнему бодрый, каждое утро выводил Акуну к ее излюбленному месту на холме, но радости ей это больше не доставляло. Как только он уходил на охоту, она возвращалась в хижину и проводила там весь день. Даже летом выходить ей не хотелось.
Ххыл ничего не говорил и с глубокой печалью ждал неизбежного.
Однажды летним вечером вся семья собралась у костра на холме. После сытного ужина – свежей оленины и сладких ягод – Ххыл потребовал, чтобы все умолкли, и начал свой рассказ. Он поведал соплеменникам слова ветра, в которых заключались бесценные знания, накопленные предыдущими поколениями.
Изо дня в день Ххыл рассказывал обо всем, что знал, – бесхитростными, простыми словами, которые легко было запомнить и передать из уст в уста потомкам. Ххыл говорил о тундре и о стене льда на далеком севере, о бескрайних морях на западе и на юге, о лесах и горах на востоке. Он рассказывал о богах, создавших сухопутный мост через море, и о том, как море его разрушило.
– В начале были два великих божества: бог Солнце и богиня Луна, его женщина, покровительница охотников, – говорил старый охотник. – У них было двое детей: бог леса и бог воды. Бог леса жил в заповедном бору на востоке, где водилось много дичи, а бог воды жил на севере, близ стены льда. Солнце и Луна любили лесного бога и даровали ему много земель, но ему все было мало, и он просил больше. Бог воды обиделся, потому что у него земли не было. Из года в год лесной бог просил все больше и больше земли, а бог воды рассердился. И вот однажды лесной бог снова попросил земли. «Мать-Луна хочет, чтобы люди охотились. Дайте мне землю, я выращу на ней лес, и люди будут охотиться». Бог воды пошел к отцу-Солнцу и сказал ему: «Отец, накажи моего брата за жадность». Бог Солнце превратился в белого лебедя и стал летать над северными ледниками. Летал он, летал, и от жара лед растаял. На месте растаявшего льда возникло море. Воды хлынули великой волной, накрыли всю землю и поглотили лес на востоке. – Ххыл умолк, вспоминая лес, исчезнувший под бурными волнами. – И под водой остался лес, и звери, и птицы, и они до сих пор живут там, в темной глубине, – нараспев продолжил он. – В шуме волн до сих пор слышны их крики. Сухопутный мост на восток разрушен, мы живем на острове, дороги в дальние края больше нет. Каждый год вода поднимается все выше и выше. Когда-нибудь бурные воды поглотят берег, поглотят озеро и долину, но до возвышенности не доберутся. Здесь, дети мои, мы будем жить в безопасности до скончания веков и приносить жертвы богам. Салах.
Ххыл окончил свой рассказ. Все почтительно молчали, понимая, что услышали слова богов.
Старый охотник умер через три года после смерти Акуны. Соплеменники похоронили его на холме, рядом с любимой женщиной, а вместе с ним похоронили и каменную фигурку.
Менялись поколения, и в Саруме продолжалась эпоха охотников.
Могильник
Прошло три с половиной тысячи лет, но на далеком северном острове Британия почти ничего не изменилось. Ледовый щит на севере отступил к своим современным границам, уровень моря продолжал подниматься, вода поглощала все новые и новые земли, изменяя береговую линию. Озеро у холма превратилось в гавань, а между меловыми утесами и холмом раскинулся пролив. Климат потеплел, тундра отступила, на ее месте выросли леса. Постепенно исчезли северные олени, зубры и лоси.
Потомки Тепа и Ххыла по-прежнему охотились в пятиречье. К ним присоединились редкие отчаянные смельчаки, которым удавалось переправиться на остров через Ла-Манш, но и они были охотниками.
Тем временем, за пять тысяч лет до нашей эры, в Передней Азии началась так называемая неолитическая революция: возникли земледелие и скотоводство, которые распространились по всей территории Европы, ознаменовав новую эпоху в истории человечества.
Даже в богатых дичью областях, как, например, в Саруме, первобытным охотникам приходилось кочевать на дальние расстояния в поисках пищи, а вот земледельцам и скотоводам хватало нескольких десятков акров, причем производимое зерно и мясо можно было запасать. Эти накопления и стали первоначальным источником богатства. До сих пор человек был частью окружающей природы, а теперь, возделывая землю, властвовал на ней и приспосабливал ее к своим нуждам.
За четыре тысячи лет до нашей эры эти перемены привели к невероятным результатам.
В жарком климате Междуречья, на плодородных землях между Тигром и Евфратом, там, где располагается современный Иран, древние шумеры возводили на холмах первые города из глиняных кирпичей и строили первые храмы на вершинах. Повсюду на Ближнем Востоке возникали разнообразные ремесла: в Египте ткали лен, в Месопотамии создавали великолепные украшения из меди и стекла и изготовляли яркие фаянсовые плитки для украшения жилищ. На берегах Саудовской Аравии процветала добыча жемчуга, а в Леванте торговцы снаряжали в опасные морские путешествия корабли под квадратными кожаными парусами, с грузом меди, слоновой кости и расписных глиняных сосудов.
В Европе городов пока не существовало, но от Дуная до Балтийского моря повсюду возделывали землю, разводили стада и выжигали леса и пустоши, расчищая место для пашни, – зола пожарищ служила естественным удобрением. На западе Европы, в Бретани, на северном побережье Франции, люди украшали каменные постройки и гончарные изделия замысловатыми узорами – спиралями, дугами и кругами.
Неолитическая эпоха, время земледельцев и строителей каменных сооружений, была в полном разгаре. Кое-где уже появились первые признаки новой эпохи – культуры бронзового века.
Однако в Британии, отрезанной от континентальной Европы, продолжалась эпоха охотников.
Однажды летним утром, за четыре тысячи лет до нашей эры, в залив у холма вошли шесть лодок и двинулись вверх по реке, к Саруму.
Легкие весельные лодки – деревянные каркасы пятнадцати футов длиной, обтянутые ярко раскрашенными шкурами, – были широкими суденышками с небольшой осадкой. Обычно в них сплавлялись по рекам, но в этот раз гребцы с риском для жизни переправились через Ла-Манш с бретонского побережья. По счастью, с погодой им повезло, и воды пролива были необычно тихими.
В лодках сидели двадцать воинов, женщины и дети. Все были одеты в простые кожаные безрукавки или рубахи, сотканные из грубой шерсти. И мужчины, и женщины умело орудовали веслами. В лодках везли четырех собак, восемь бурых ягнят, двенадцать телят, десять поросят и мешки с едой, а также глиняные горшки с зерном для посева.
Среди людей в лодках выделялись двое. На корме неподвижно, будто истукан, сидел бритоголовый светлоглазый толстяк. Огромное тело, обильно умащенное жиром, лоснилось и блестело. Он шумно сопел и беспрестанно оглядывал окружающих. Спутники обращались с ним почтительно, ведь от знахаря, жреца великого бога Солнца, зависело благополучие племени.
На носу первой лодки стоял чернобородый великан с грозно сверкающими темными глазами и крупным торчащим носом – предводитель переселенцев. У ног его лежала огромная черная дубина. Он настороженно вглядывался в прибрежные заросли, пытаясь отыскать следы присутствия человека, но берега были пустынны.
Однако на северном берегу залива, в зарослях камышей, прятался охотник, который заметил лодки, как только они вошли в устье реки. Узкое лицо охотника походило на мордочку хорька, сам он был жилистым и худощавым, с копной жестких черных волос и длинными, гибкими пальцами ног, как у многих окрестных обитателей. Он сидел в долбленке – примитивный челн хорошо подходил для плавания по тихим водам залива, но казался неуклюжим в сравнении с длинными лодками незнакомцев. Как только незваные гости проплыли мимо, охотник стремглав помчался через лес по едва приметной тропке.
Предводителя переселенцев звали Крун-воитель. В его родных краях это имя стало легендой. В молодости он был земледельцем и, как многие его соплеменники, обзавелся семьей. Он славился добрым нравом и жил бы долго и счастливо, в полной безвестности, однако страшное несчастье направило его жизнь в совершенно иное русло.
На селение Круна неожиданно напали воинственные кочевники. Никто не знал, откуда именно они пришли на побережье. В последующие тысячелетия подобные набеги с востока совершались с пугающей регулярностью: на Западную Европу нападали то отдельные племена, то целые народы – из Скандинавии, с германских равнин, из далеких степей Средней Азии; иногда захватчики селились на отвоеванных землях, иногда просто грабили и убивали жителей и возвращались в родные края.
В этот раз набег совершило племя жестоких воинов, высоких и смуглых. Они жили в огромных шатрах из шкур, а из всех занятий признавали только охоту, грабежи и разрушение. Стоянку они устроили на севере, милях в ста от поселка Круна, и каждую весну приходили на побережье, жгли дома и убивали жителей, которые не могли сопротивляться неожиданным нападениям. Однажды, когда Крун был в отлучке на побережье, на поселок напала банда грабителей. Всех жителей убили, в том числе жену и четверых детей Круна, а скот увели.
– Я отомщу, – поклялся Крун.
На следующий год грабителей встретил отряд селян, собравшихся из окрестных поселков. Тридцать хорошо вооруженных мужчин поджидали разбойников и не только прогнали их с побережья, но и пустились за ними в погоню. Крун горел жаждой мщения.
То же самое повторилось спустя год, только теперь Крун собрал не тридцать, а шестьдесят человек, а поскольку они защищали свои семьи и имущество, то сражались, не щадя себя. Селяне вымазывали лица синей глиной, прятались в укрытие и дожидались приближения врагов, а потом осыпали их градом стрел с кремнёвыми наконечниками. Но хуже всего разбойникам пришлось в рукопашном бою: селяне, вооруженные тяжелыми каменными топорами, яростно расправлялись с противником.
Сам Крун признавал только одно оружие: громадную дубину, почерневшую от времени, сделанную из тяжелого узловатого сука. В рукоять был вставлен длинный заточенный осколок кремня. Разбойники страшились Круна пуще остальных противников: в битве он или одним ударом сваливал врага с ног, или ловко пропарывал ему живот острым концом дубины.
Впрочем, когда не требовалось защищать свои владения, Крун превращался из храброго воина в мирного земледельца. В окрестных поселках сложилась поговорка: «Не бойся Круна, бойся его дубины».
Лет через десять разбойники отчаялись и ушли на юг, и на побережье вновь воцарился мир, однако покоя не прибавилось: грабители могли и вернуться. Вдобавок почва в окрестностях была скудной, обрабатывать ее было тяжело, но под защиту Круна стремились земледельцы со всей округи. На побережье скопилось слишком много людей. Мужчины помоложе, из тех, кто сражался под началом Круна, хотели испытать свои силы, найти и освоить новые земли.
– Остров за морем богат и плодороден, людей мало, они охотой промышляют, – заявил один из юношей. – Там можно обосноваться, земли на всех хватит.
– Охотники убьют незваных гостей, – заметил другой.
– Пусть нас Крун поведет, – предложил третий.
К этому времени Крун устал от бесконечных битв. Жизнь его клонилась к закату, ему было почти сорок лет. Он защитил родные края, отомстил за убитых родственников, взял в жены молодую бойкую девушку, которая родила ему двоих сыновей, и отправился на остров, чтобы основать там новое поселение.
На острове Крун огляделся и решил, что места ему нравятся: укромная, тихая заводь, пустынные лесистые берега, плодородная земля в низинах. Впрочем, оборонять эти места трудно, поэтому Крун велел спутникам подняться выше по течению. Лодки проплыли еще миль десять вглубь острова, и поселенцы разбили стоянку на ночь.
На следующий день к полудню путники достигли места слияния пяти рек. Крун окинул взглядом ложбину в окружении пологих гор и удовлетворенно вздохнул. Лодки подошли к входу в северную долину и остановились у холма.
– Здесь и обоснуемся, – заявил Крун.
Надо было решить, как вести себя при встрече с местными охотниками. Крун был не только отважным воином, но и мудрым главой племени.
– С охотниками надо подружиться, – объяснил он своим спутникам. – Они хорошо знают здешние места. Если с ними повздорить, то нас убьют исподтишка.
Как только шесть лодок пристали к берегу, на опушку леса бесшумно вышли мужчины, вооруженные луками и стрелами. Таку, охотник с длинными пальцами ног, еще вчера предупредил соплеменников о прибытии незнакомцев. Местные жители настороженно уставились на незваных гостей.
Крун медленно вышел на берег, в знак мирных намерений положил дубинку на песок и двинулся к охотникам. Объясняться пришлось языком жестов.
КРУН. Мы пришли с миром.
ОХОТНИКИ. Откуда?
КРУН. Из-за моря.
Охотники недоверчиво зашептались.
КРУН. Мы привезли подарки.
По знаку Круна его жена Лиама вынесла на берег глиняный горшок, формой похожий на кожаную котомку, и рубаху из домо тканой шерсти, богато расшитую бисером. Охотники с восторгом разглядывали необычные дары: глубокую округлую посудину с блестками кремня, обожженную до темно-коричневого цвета, и одежду, украшенную яркими бусинами, осколками янтаря и даже жемчужинами, которые выменивали у торговцев с юга.
ОХОТНИКИ. Что вам здесь нужно?
КРУН. Мы хотим жить в долине.
ОХОТНИКИ. Эта наша долина. На всех дичи не хватит.
КРУН. Мы не будем охотиться.
Охотники недоуменно переглянулись: если не охотиться, умрешь с голоду.
КРУН. У нас есть скот.
Он показал охотникам овец и коров в лодках, но охотники все равно ничего не поняли.
КРУН. Если вы разрешите нам жить в долине, мы не тронем ваши охотничьи угодья и щедро вас наградим. Отдайте нам долину, ловите дичь в горах и холмах. Мы будем жить в мире.
В подтверждение его слов женщины принесли на берег еще шесть горшков и три рубахи. Охотники, никогда прежде не видевшие такого великолепия, стали оживленно переговариваться между собой. Таку уговаривал соплеменников убить пришельцев:
– Они все врут, будут охотиться в наших лесах, истребят всю дичь. Лучше их убить, а вещи отобрать.
Поначалу охотники согласились, но старик по имени Магри возразил:
– Может быть, Таку прав, но сейчас незнакомцы ожидают нападения, они сильны и хорошо вооружены. Пусть поживут в долине. Если сдержат слово, все будет хорошо, а если обманут, то мы подкрадемся и всех убьем.
После долгих размышлений охотники согласились с этим мудрым предложением.
Так Крун стал владельцем долины и холма в Саруме. Охотники, довольные подарками, вернулись на свои стоянки у реки.
На следующее утро Крун обошел долину, размечая границы земельных участков. Каждая семья получила надел земли на склоне у реки – участок надо было расчистить от леса и возделать под пашню и пастбища для скота. В реках водилась рыба; в зарослях камыша на противоположном берегу гнездились лебеди. Обветренное лицо Круна, прорезанное глубокими морщинами, расплылось в счастливой улыбке: здесь племя будет жить долго и счастливо.
Потом знахарь привел все племя на вершину холма и велел расчистить круг диаметром тридцать шагов. В этой священной работе на благо бога Солнца принимали участие все: и мужчины, и женщины, и дети. За несколько часов на вершине холма образовалась широкая поляна, откуда открывался великолепный вид: на севере простирались волнистые складки взгорья, на юге к горизонту убегала лесистая долина и прибрежные болота. Пришельцы восторженно зашептались.
Знахарь приказал сложить поленницу в центре поляны и начал готовиться к важному ритуалу: сначала вымазал лицо мелом, а потом надрезал палец и обвел глаза кровавыми кругами.
Крун торжественно вывел на поляну ягненка: к богу Солнцу относились с неимоверным благоговением и в жертву ему приносили самое ценное.
– О бог Солнце! – воскликнул знахарь высоким, пронзительным голосом. – Ты приносишь щедрый урожай, ты ведаешь сменой времен года, ты приумножаешь наши стада! Яви свое благоволение и прими нашу жертву. Эта долина – твои владения, и мы – твои верные слуги.
Он ловко перерезал горло ягненку, уложил тушу на поленницу, потом долго тер две сухие деревяшки, раздул уголек, подкладывая для растопки сухую траву и мох, и запалил костер. В пасмурное небо над долиной поднялся столб дыма. Знахарь отрезал у каждого из присутствующих клок волос и швырял его в огонь, чтобы бог Солнце знал, кто причастен к жертвоприношению. Внезапно из-за туч выглянуло солнце и на несколько мгновений ярко осветило вершину холма.
Поселение было заложено.
Охотники с удивлением наблюдали за жизнью новых обитателей долины: лес на склонах вырубали, стволы сжигали, а золу рассеивали по взрыхленной земле, куда женщины потом зарывали драгоценные семена. Рядом с делянками мужчины строили крепкие бревенчатые хижины и обносили участки плетнями. Выше по склонам дети пасли овец, не позволяя стаду травить посевы. На ночь животных приводили на делянку Круна – в окрестных лесах водились волки, и овец приходилось охранять. Охотники не понимали смысла всех этих занятий, но прониклись их важностью для новых соседей. Поселенцы строго следовали приказаниям Круна, не покидали пределов долины и не искали встреч с охотниками.
Круну пришлась по нраву жизнь на новом месте. Молодая жена держала себя с достоинством, двигалась легко и быстро, сыновья бегали за ней по пятам. Лиама гордилась мужем: здесь, на новом месте, он почти забыл боль утраты.
Спустя несколько месяцев произошло два события, которые определили дальнейшие отношения между охотниками и поселенцами.
В конце осени Таку, невысокий жилистый охотник с длинными пальцами ног, гнал оленя. Зверь промчался по долине и скрылся, а Таку, расстроенный тем, что упустил добычу, прирезал теленка и потащил его вверх по склону в лес. Охотника заметили женщины, подняли тревогу, и разъяренные поселенцы быстро его поймали и привели в хижину Круна. На холме у хижины собралась толпа.
Крун смотрел на разгневанных соплеменников и лихорадочно размышлял: преступника надо наказать, за убийство животного полагалась смерть. Однако это разрушит непрочный союз между охотниками и поселенцами. Крун неторопливо оглядел Таку с головы до ног.
КРУН. Ты убил нашего теленка. Это преступление карается смертью, понятно?
Таку промолчал.
КРУН. Мы тебя не убьем, а накажем. Передай своим соплеменникам, что мы пришли с миром, но наши стада трогать нельзя.
Крун повернулся к поселенцам:
– У него слишком длинные пальцы на ногах!
Он кивнул знахарю. Толстяк выступил вперед и острым кремнёвым ножом отсек Таку большие пальцы ног. Охотник взвыл от боли.
КРУН. Больше по нашей долине ты бегать не будешь!
Поселенцы расхохотались. Таку заковылял прочь. С тех пор охотники сторонились долины и не трогали стада.
Зима выдалась суровой, реку покрыл толстый слой льда. Поселенцы едва не умерли с голода: запасы подходили к концу, а животные предназначались для разведения, забивать их было нельзя. Однажды старый охотник Магри с сыном принесли в долину тушу оленя, оставили ее у хижины Круна и молча удалились.
После этого между охотниками и поселенцами установился мир.
Многое в жизни и обычаях поселенцев удивляло охотников. Таку, который не затаил обиды за свое увечье и подружился с несколькими семьями, с восторгом рассматривал длинные, ярко раскрашенные лодки.
– Прочные и легкие, – говорил он, ковыляя вокруг.
Лодки – деревянные каркасы, обтянутые кожей, – и впрямь были больше и удобнее долбленок.
Женщин привлекали домотканые материи, а прочные бревенчатые жилища нравились всем, хотя смысла в возделывании земли и разведении скота охотники не видели. К тому же на зиму поселенцы заводили скотину в дома, чтобы защитить животных от холода, и для охотников было странно, что люди спят рядом с овцами и коровами.
На исходе второго года, когда собрали первый урожай, а в стадах появился приплод, охотники признали, что поселенцы сдержали свое обещание: они жили в долине и не вторгались в лесные охотничьи угодья.
– У них много еды, – завистливо вздыхали женщины.
– Они живут как дряхлые старики, – возразил старый Магри. – Такая жизнь не для мужчин.
Остальные охотники с ним соглашались: выслеживая добычу, настоящий мужчина мерится хитростью со зверем, кочует по горам и долинам под открытым небом, а поселенцы ведут оседлый образ жизни, ковыряются в земле и держат животных взаперти.
Прошло еще два года, и долина совершенно преобразилась.
На холме у реки высилось жилище Круна – крепкое бревенчатое сооружение тридцати футов длиной, с покатой камышовой крышей и широкой дверью. Вокруг стояли хижины поменьше – в них держали скотину. На склонах холма разбили делянки, выложили их границы камнями и, взрыхлив вдоль и поперек ралом – кремнёвой мотыгой на деревянной рукояти, – засеяли борозды пшеницей, ячменем и льном. Зерно хранили в ямах шести футов глубиной и четырех футов шириной, устланных соломенными циновками, и во вместительных глиняных горшках. Свиньи и коровы паслись на заливных лугах у реки, а по склонам, чуть выше засеянных делянок, бродили овцы, щипали жесткую траву на расчищенных полянах. Точно таким же был уклад во всех семьях, населявших северную долину.
Охотники взирали на все это с неимоверным удивлением.
Вырубки на склонах небольшой долины положили начало – скромное, почти незаметное – постепенному уничтожению заповедных лесов, некогда покрывавших остров Британия, что впоследствии привело к значительному изменению ландшафта.
Вырубка леса на возвышенности привела к необратимым изменениям состава почвы. За прошедшие века плодородная почва тонким, всего в несколько дюймов, слоем покрыла меловые холмы Британии. На холмах выросли леса, но когда их стали вырубать, то дожди и ветры смыли тонкую прослойку, обнажив известняковый грунт с вкраплениями кремня. Иногда на этом скудном грунте вновь вырастали деревья, но люди и скот их уничтожали. На известняковых почвах можно было выращивать некоторые зерновые культуры, а если известняки зарастали жесткой травой, то и пасти овец. На пастбищах хорошо росли калужницы и лютики; цветы привлекали бабочек, но леса здесь больше не возникали.
Вырубка лесов и разрушение почвы стремительно набирали силу. Возделывание зерновых культур быстро истощало известняковый грунт, на заброшенных полях возникали пастбища, стада удобряли их навозом, а для новых полей приходилось вырубать лес. Отары овец множились, население острова увеличивалось, поэтому ускорилась и расчистка новых земель. Земледельцы безжалостно вырубали леса – впоследствии выяснилось, что за три часа трое мужчин с кремнёвыми топорами могут повалить шестьсот квадратных ярдов березовой рощи. Земледельцы неолита за несколько веков уничтожили лесные массивы почти на всей территории Южной Англии.
Таким образом, пустынные меловые холмы Южной Англии – не естественное образование, а результат деятельности первобытного человека.
Охотников поразила и еще одна характерная черта нового поселения.
На третий год, когда стада принесли приплод, Крун собрал всех поселенцев на холме, неподалеку от священного круга знахаря, и велел вырубить деревья, установить бревенчатый частокол в сорок шагов длиной и двадцать шириной и окружить его рвом и земляной насыпью. Так был построен первый загон для скота – животных приводили сюда на ночь для защиты от волков. Когда работа завершилась, Крун с удовлетворением оглядел долину, и его суровое лицо осветилось улыбкой: наконец-то место стало по-настоящему обжитым.
Между общинами охотников и поселенцев установились дружеские отношения. Размолвок не возникало, и вскоре жилище Круна на холме стало местом встреч. Охотники с удовольствием обменивали шкуры, кремни и оленьи туши на ткани и глиняные горшки. За это время обе общины выучились прежде незнакомым говорам и прекрасно объяснялись друг с другом.
О преступлении Таку быстро забыли. Искалеченные ступни не позволяли охотнику преследовать дичь. Он стал превосходным рыболовом и охотно показывал поселенцам лучшие рыбные места на пяти реках.
Шесть лет спустя после образования поселения в долине между охотниками и поселенцами вспыхнула вражда, едва не уничтожившая обе общины. Случилось это по вине знахаря.
Дважды в год, перед наступлением зимы и в начале сбора урожая, знахарь раскрашивал лицо мелом и, пыхтя, взбирался на холм Круна, где совершал жертвоприношение богу Солнцу. Зимой толстяк просил божество вознаградить племя приплодом, а в конце лета поселенцы благодарили бога за щедрость. В жертву обычно приносили ягненка.
Охотники побаивались и недолюбливали знахаря, потому что он поклонялся только богу Солнцу и обделял вниманием богиню Луну, покровительницу лесных жителей. Вдобавок лысый толстяк с бегающими глазами выглядел подозрительно. Круну охотники доверяли, но от встреч со знахарем уклонялись.
И все же в долине к знахарю относились с почтением: его звали к больным, он благословлял каждую новую делянку, ему полагались самые лакомые куски забитого животного. Он ни в чем не знал нужды, обладал почти такой же властью, как Крун, а недостаток смелости восполнял изворотливостью, хитростью и жестокостью.
Итак, на шестой год после теплой весны полил дождь, который не прекращался двадцать дней и погубил посевы. Поселенцам хватило бы запасов зерна на зиму, но неурожай был настоящим бедствием. Это означало, что жители долины чем-то прогневили бога Солнце. Знахарь, чтобы умилостивить божество, решил принести в жертву четырех ягнят в начале зимы и повторить великое жертвоприношение весной.
Поселенцы с тревогой ждали наступления лета. Беспокоился и знахарь: сила его колдовства требовала немедленного подтверждения. Весна выдалась погожей, поэтому толстяк важно расхаживал по долине, благословлял делянки и предсказывал хороший урожай. В середине лета снова начались затяжные дожди, и посевы сгнили на корню. Поселенцам грозила голодная зима. Сам знахарь встревожился не на шутку. Все вокруг считали, что жертвоприношения не умилостивили разгневанного бога Солнце.
– Бог Солнце от нас отвернулся, не слушает знахаря, отказывается от его подношений, – шептались люди.
По селению поползли недовольные разговоры. Знахаря почитали все меньше и меньше; мужчины его сторонились, больные и хворые к нему больше не приходили, а однажды у загона для скота знахарь увидел, как охотник принес местной женщине целебные травы для ее сына, который забрел в заросли ядовитого плюща. Толстяк заковылял к женщине, но она отвела взгляд и торопливо ушла.
В конце концов поселенцы обратились к Круну с жалобой на знахаря:
– Он наколдовал два дождливых лета, разгневал богов. Его надо прогнать.
Крун выслушал их и обещал подумать. После того как просители ушли, Лиама напомнила ему:
– Он не умилостивил бога, доверять ему нельзя.
Старый вождь хорошо понимал чувства поселенцев и знал, что его молодая жена неприязненно относится к знахарю, однако прогонять толстяка опасался.
– Нет, нельзя поступать опрометчиво, – возразил он. – И незачем об этом говорить.
Знахарь испугался еще больше: теперь и Крун смотрел на него сурово и сердито. Вдобавок поселенцы помоложе осмелели настолько, что стали делать опасные предположения:
– Здесь, на острове, бог Солнце не властен. Остров принадлежит богине Луне, покровительнице охотников, а мы ей жертв не приносим.
Толстяк сообразил, что дни его сочтены.
Однако теперь, когда под угрозой оказалось само существование поселения, случилось событие, которое позволило знахарю укрепить свою пошатнувшуюся власть.
Однажды утром, ближе к концу лета, из леса на востоке вышел дряхлый старик, опираясь на посох, и медленно побрел к пятиречью. На острове не было человека старее. Охотники обрадовались его нежданному появлению: в последний раз он приходил к ним двенадцать лет назад. В его честь устроят пир, а потом будут обсуждать важные дела, рассказывать о поселенцах и просить совета. Приход старика был событием необычайной важности – встреча с ним выпадала охотникам всего несколько раз в жизни.
Старик был прорицателем.
В те времена на острове было несколько прорицателей. Они вели уединенный, замкнутый образ жизни, бродили по лесам от одного племени к другому, и всякий раз охотники встречали их с почестями. Мудрые отшельники постигли все тайны леса, умели предсказывать погоду и приближение дичи, им были ведомы привычки зверей и целебные травы.
– Ему покровительствует лесной бог, – объяснил Магри поселенцам. – А в полнолуние богиня Луна раскрывает ему все тайны леса. Мы зовем его стариком-лесовиком.
Старику давно минуло шестьдесят лет – невероятно древний возраст в те времена, когда люди редко доживали до пятидесяти. Он не только обладал обширными познаниями об устройстве окружающего мира, но и берег в памяти истории всех племен на юге острова, был сказителем и хранителем устных традиций охотников.
– Он принесет жертву богине Луне, чтобы она послала нам хорошую охоту и много дичи, – сказал Магри.
Когда вести о приходе старика дошли до знахаря, он понял, что следует предпринять.
Через несколько дней в пятиречье, у речной излучины на юго-западе, разожгли два огромных костра: на одном запекли тушу дикой лошади, на другом – косули. Между кострами широким кругом расселись пятнадцать охотничьих семейств, собравшихся со всей округи послушать старика. Пламя костров весело потрескивало, синеватый дымок поднимался к вечернему небу. Охотники оживленно переговаривались: они давно не собирались вместе и теперь обменивались новостями. Еды было вдоволь – дичь, рыба, вкусные коренья и сладкие ягоды. Казалось, в долине у реки не произошло никаких перемен.
На самом почетном месте сидел прорицатель. Охотники глядели на него с удивлением; никогда прежде они не видели такого древнего старика. В молодости он был человеком среднего роста, но от старости усох и сморщился. Тело его напоминало чахлое деревце, узловатые суставы торчали, как сучки и наплывы на стволе. Длинные седые волосы и борода, отливающая серебром, спускались до пояса. Тонкую, полупрозрачную от старости кожу покрывала сеть мельчайших морщинок. Он сидел неподвижно, как изваяние, скрестив ноги и положив перед собой посох, и пристально оглядывал охотников выцветшими голубыми глазами. Ему наперебой предлагали лакомые кусочки, но ел он мало.
Он внимательно выслушал рассказы о поселенцах, однако ничего говорить не стал, отложив обсуждение на следующий день. Сейчас он всего лишь хотел напомнить людям о прошлом и терпеливо дожидался, пока утихнут разговоры.
Наконец воцарилось молчание, и прорицатель заговорил – негромко, почти шепотом. Старческий голос прорезал благоговейную тишину, будто луч света, и постепенно окреп, зазвучал напевно, обволакивая слушателей своим волшебством.
Старик начал рассказ о давних временах, поведал, как предки обитателей Сарума охотились на тура, зубра и вепря, описал остров и населяющих его людей, не забыл и древние предания о богах. Охотники зачарованно слушали прорицателя. Дым костров разносил над рекой аромат жареного мяса. Старик говорил о том, как люди пришли в Сарум, перечислял имена предков и их героические деяния, и слушатели преисполнялись восторга, узнавая о своем прошлом.
Затем он начал обстоятельный рассказ о том, как образовался остров – о том, как солнце растопило великий ледяной щит на далеком севере и как море поглотило заповедный лес на востоке. Об этом рассказывал охотник Ххыл три тысячи лет назад, и за прошедшие века его история обошла весь остров и ничуть не изменилась. Старик говорил нараспев, как сказители древности, и охотники, затаив дыхание, внимали каждому слову. Голосу прорицателя вторило журчание реки и треск поленьев в кострах. Перед взором слушателей возникла огромная толща льда, пустынная тундра, разгневанный бог Солнце, белым лебедем кружащий надо льдом, грозные потоки воды, стремящиеся на юг, к заповедному лесу.
Море все поглотило, Вода все залила: И птиц, и зверей, И лис, и оленей, И дубы, и вязы. Пути на восток больше нет, А вода все поднимается… Заповедный лес живет в шуме бурных волн. Выйди на берег моря и услышишь: Там, в темной глубине, на дне морском Поют птицы, рычат звери… —напевно произнес старик и умолк.
Внезапно откуда-то из темноты раздался крик. Охотники удивленно обернулись и обнаружили, что их окружили вооруженные поселенцы. К кострам вперевалку направился знахарь; лицо его было покрыто мелом, глаза обведены кровавыми кругами.
Безоружные охотники ошеломленно уставились на него.
Знахарь не терял времени даром. Он хорошо понимал, что Круну не понравится его затея, поэтому днем украдкой обошел поселенцев на севере долины, объясняя им, почему дожди погубили урожай. В конце концов толстяк уговорил четырнадцать молодых воинов отправиться с ним, и с наступлением сумерек они, тайком от Круна, спустились в лодках к пятиречью.
«Если удастся выполнить задуманное, то моя власть укрепится», – решил знахарь.
Разговор знахаря и Магри, старейшины охотников, передавался из поколения в поколение.
ЗНАХАРЬ. Мы пришли с миром.
МАГРИ. Что вам нужно?
ЗНАХАРЬ (указывая на прорицателя). Кто это?
МАГРИ. Прорицатель.
ЗНАХАРЬ. Он дурной человек. Мы пришли его наказать.
МАГРИ. Он хороший человек. Он дурного не делает.
ЗНАХАРЬ (возбужденно). Нет, он дурной. От него все зло. Он живет в лесу, один. Он вас обманывает. Он тайком встречается с богиней Луной и подговаривает вас не поклоняться богу Солнцу.
МАГРИ (рассудительно). Богиня Луна покровительствует охотникам.
ЗНАХАРЬ. Бог Солнце сильнее. Он повелевает временами года и посылает нам хороший урожай. Другие боги ему подчиняются. А сейчас он на нас гневается. Он дважды погубил наши посевы.
МАГРИ. Дождь погубил ваши посевы.
ЗНАХАРЬ (тыча пальцем в прорицателя). Нет, это он виноват. Он научил охотников колдовать. Он запрещает вам поклоняться богу Солнцу. Не слушайте его! Бог Солнце желает его смерти!
Охотники изумленно ахнули. Прорицатель не сдвинулся с места.
– Дурной человек! Колдун! – заверещал знахарь.
Два воина выбежали в круг у костров, схватили старика и поволокли в темноту, к лодкам на берегу. Охотники кинулись ему на помощь, но знахарь все предусмотрел. Он выскочил из круга, а поселенцы наставили на охотников острые копья.
– Тот, кто не поклоняется богу Солнцу, должен умереть! – торжествующе воскликнул знахарь. – Помните об этом!
Поселенцы прыгнули в лодки и отправились в северную оконечность долины. Там, на вершине холма, в присутствии четырнадцати воинов, знахарь убил прорицателя, сжег его голову и сердце на костре и уверенно провозгласил:
– На следующий год у нас будет хороший урожай.
Преступление свершилось, и пути назад не было. На рассвете торжествующие воины пришли к дому Круна и объявили о своем злодеянии. Лицо вождя исказилось от гнева.
– Глупцы! – воскликнул он. – Охотники нам этого не простят!
Однако воины не вняли его словам, и Крун про себя проклял знахаря.
– Знахаря надо убить, – настаивала Лиама. – Я же говорила, ему нельзя доверять. Из-за него все наши беды.
Крун удрученно покачал головой, понимая, что охотники будут мстить за смерть прорицателя. Он велел укрепить жилища и смирился с неизбежным.
Наутро охотники напали на поселенцев. Битва продолжалась три дня. Одну хижину сожгли, но охотники несли большие потери: поселенцы сражались умело, хорошо оборонялись и к вечеру третьего дня убили шестерых охотников. Знахарь радовался кровопролитию. Бессмысленные убийства укрепили его власть, и теперь ему ничего не угрожало. Он подстрекал воинов продолжать бойню.
К вечеру третьего дня Крун решил положить конец сражению. Он медленно спустился с холма к реке, на то самое место, где шесть лет назад высадились поселенцы, положил дубину на землю и уселся рядом, дожидаясь, пока охотники его заметят.
Его намерения были очевидны.
В сумерках пришел Магри и опустился рядом с Круном.
КРУН. Надо прекратить резню.
МАГРИ. Почему твои люди убили прорицателя?
Крун понимал, чем вызван жестокий поступок знахаря, но выхода у него не было. Если обвинить знахаря в безрассудстве, охотники сочтут это признаком слабости и не прекратят нападений, а сами поселенцы решат, что их вождь встал на защиту охотников, и пойдут на поводу у знахаря, который подговорит их на большее безумство. Крун мысленно проклял хитроумие знахаря.
КРУН. Ваш колдун прогневил бога Солнце. Из-за него бог нас наказал.
МАГРИ. Это вы так решили.
КРУН. Так знахарю сказал сам бог Солнце. Колдун прогневил бога, и бог велел его убить. Понимаешь?
МАГРИ. Это вы так решили.
КРУН. Нет, так и было. Это правда.
Магри задумался. Он с самого начала понимал, что поселенцы сильнее охотников, поэтому и убедил соплеменников отдать долину незваным гостям, хотя Таку и остальные хотели их убить. Неужели он просчитался? Похоже, он совершил непростительную ошибку и теперь, впервые за долгое время, разрозненным племенам охотников грозит полное уничтожение или изгнание. Надо найти способ их спасти.
МАГРИ. Знахарь заставляет нас поклоняться богу Солнцу, но мы охотники, мы поклоняемся богине Луне. Она нам покровительствует, посылает хорошую охоту.
КРУН. Если вы будете поклоняться обоим божествам, то мы станем жить в мире.
МАГРИ. Охотники не согласятся.
КРУН. Мои воины убьют всех охотников. Лучше заключить мир и снова обменяться дарами.
МАГРИ. А если знахарь еще кого-нибудь обвинит в колдовстве и убьет?
КРУН. Нет, бог Солнце сменил гнев на милость. Одной смерти хватит.
Охотники больше не нападали, и Крун с трудом уговорил своих воинов прекратить резню. Через четыре дня соседи заключили перемирие.
Всю зиму поселенцы и охотники занимались своими делами и избегали встреч. Охотники больше не приносили добычу к жилищу Круна. Вождь счел это за благо, не желая лишних столкновений.
Лето выдалось урожайным, и знахарь торжествовал. Его власть возросла стократ. Он гордо обходил долину и принимал дары, напоминая поселенцам о своем могуществе.
– Бог Солнце внемлет его словам, – почтительно шептались поселенцы.
Охотники боязливо сторонились толстяка.
Знахарь выбрал себе помощника помоложе и на вершине холма соорудил святилище: десяток толстых стволов, установленных в круг диаметром пятнадцать шагов. Он разводил костер в центре круга и приносил там жертвы богу Солнцу. Дважды в год у святилища собирались поселенцы, а охотники приносили в дар оленью тушу.
– Он устроил святилище на твоем холме, – жаловалась Лиама, не понимая, почему Крун терпит выходки знахаря. – Он выставляет себя вождем.
Над холмом в долине все чаще и чаще поднимался столб дыма, напоминая охотникам о могуществе знахаря. И все же охотники не прекращали поклоняться богине Луне: в полнолуние они украдкой собирались на лесных полянах, приносили жертвы и исполняли священные пляски предков.
Крун не обращал внимания на заносчивое поведение знахаря и ничего не предпринимал.
За несколько лет отношения между соседями постепенно наладились и, хотя недоверие охотников полностью не исчезло, торговый обмен возобновился. Основная заслуга в этом принадлежала Круну и Магри.
Вождь поселенцев всеми силами старался поддерживать мир. Он привел свое племя на остров именно потому, что море создавало естественную преграду, защищало поселенцев от воинственных разбойников и грабителей. Разумеется, Круну совершенно не хотелось враждовать с охотниками. Он молча возмущался гнусным поступком знахаря и терпеливо выжидал.
– Безумие когда-нибудь закончится, – вздыхал он и предоставил толстяку заниматься всем тем, что было связано с поклонением богу Солнцу.
Сам он жил тихо, но по-прежнему оставался самым влиятельным человеком в общине поселенцев. По вечерам он усаживался перед домом на мешке с шерстью, опираясь ногой на дубину – символ своей власти. Поселенцы приходили к нему разрешать споры, а знахарь взирал на него с опасливым уважением. И все же больше всего Крун любил сидеть в одиночестве, глядя на лебедей, кружащих над извивами реки в долине.
Часто его навещал Магри. Старый охотник тоже отличался терпением. Мужчины часами сидели рядом, изредка перебрасывались несколькими словами, но относились друг к другу с безмерным уважением. В этих неспешных беседах разрешались мелкие споры и недоразумения, время от времени возникавшие между двумя общинами.
После одной из таких встреч у Магри появилась великолепная мысль, которая определила дальнейшее развитие поселения.
Старый охотник с любопытством слушал рассказы Круна о жизни за морем, о сотнях общин земледельцев и скотоводов на противоположном берегу прилива.
– Если там живет столько людей, – однажды заметил Магри, – то настанет день, когда они, как и вы, переправятся на остров и займут наши долины.
– Может быть, переправятся, – сказал Крун. – А может, и не переправятся. Море бурное.
– Переправятся. Так и будет, – печально вздохнул старый охотник. – Новых поселенцев будет много, мы с ними не совладаем, и они нас уничтожат.
Магри, наблюдая за жизнью поселенцев, хорошо понимал их силу. Юноши строили новые жилища, выкорчевывали леса в долинах. Стада коров множились, отары овец бродили по окрестным холмам.
– Вы подчинили себе землю, – сказал Магри. – Велика сила бога Солнца.
– Когда придут новые поселенцы, охотникам придется считаться с ними и с их богами, – честно ответил Крун.
Старый охотник много месяцев раздумывал над этими словами и наконец объявил соплеменникам о своем невероятном решении.
Охотники ошеломленно уставились на Магри.
– Нет, не дело соглашаться на такое, – возражали они.
Магри продолжал настаивать на своем, утверждая, что иначе все племя обречено на смерть.
– Власть бога Солнца велика, он благоволит поселенцам, – объяснял старый охотник. – Нам с ними не совладать, поэтому лучше сделать так, как я сказал.
Магри уговаривал охотников целых два года, но поселенцы об этом не подозревали. Наконец ему удалось убедить соплеменников.
Однажды летом Магри привел на холм к Круну хромающего Та ку, двух мужчин постарше и двух девушек. Крун почтительно поздоровался с охотниками. Мужчины уселись на землю перед бревенчатым домом, девушки остановились поодаль. Крун недоумевал, зачем они пришли.
– Вот уже три года наши общины живут в мире, – неторопливо начал Магри. – Мы приносим жертвы богу Солнцу и не охотимся в долине.
– И мы не вторгаемся в ваши лесные угодья, – напомнил Крун.
– Верно, – согласился старый охотник. – Но год за годом поселенцы вырубают все больше и больше лесов, и наступит день, когда земли в долине им будет мало.
– Нам земли хватает, – заверил его Крун.
– Сейчас хватает, – ответил Магри. – И сейчас мы живем в мире. Но когда-нибудь твоим людям здесь станет тесно, потому что ваши стада множатся. Скоро леса в долине не останется. Да, так и будет, – кивнул он. – А наши юноши не забыли вражды, говорят, что вас надо изгнать из долины. Они готовы сражаться.
– Мы с тобой их остановим, – сказал Крун.
– Мы стареем, – вздохнул Магри. – Мы скоро умрем, и наши советы забудут.
Крун задумался. Больше всего он опасался возобновления вражды. В словах старого охотника крылась горькая правда.
– Что ты предлагаешь? – наконец спросил он.
– Чтобы наши потомки жили в мире, нашим племенам надо объединиться, – заявил Магри.
– Как? – удивился Крун.
– Если ты станешь нашим вождем, то защитишь нас от любой опасности. Ты согласен?
Крун растерянно молчал.
– Но у наших племен разные обычаи, – возразил он.
– Мы будем жить, как вы, – ответил Магри.
– Но у вас другие боги… – начал Крун.
– Мы поклоняемся богине Луне, покровительнице охотников, – сказал Магри. – Но власть бога Солнца велика, – признал он. – Поэтому мы будем чествовать обоих богов.
– А твои соплеменники на это согласны?
– Да. Если ты защитишь наши охотничьи угодья, мы признаем тебя вождем и принесем дары.
Даже самые отчаянные юноши из охотничьих семейств уважали Круна и прислушивались к его словам.
– Хорошо, я согласен, – поразмыслив, ответил Крун. – С сегодняшнего дня я, Крун, буду защищать лесные угодья.
Магри встал и подвел к Круну двух девушек – сильных, гибких смуглянок.
– Двое мужчин в поселении остались без женщин, – объяснил старый охотник. – Вот, возьми этих.
Крун внимательно оглядел девушек и осознал мудрое решение Магри.
– Ты научишь их жить по-вашему, – напомнил старый охотник.
– Мы принимаем твой дар, – торжественно произнес Крун.
Охотники собрались уходить. В Саруме начиналась новая эпоха.
В последующие годы охотники и поселенцы приходили на холм к Круну, просили совета, а ссоры и размолвки он всегда судил беспристрастно и справедливо. Два раза в год Магри и Таку приводили охотников в святилище на холме, где их ждали Крун и знахарь. Поселенцы выстраивались с одной стороны поляны, охотники – с другой, и знахарь, весьма довольный упрочением своей власти, приносил жертвы богу Солнцу, величайшему из всех богов. После священных ритуалов начинался пир, а затем Крун собирал старейшин обеих общин и держал с ними совет.
Спустя три года на одном из таких советов было принято важное решение. Уже много лет овцы давали поселенцам вкусное мясо и шерсть, которую женщины пряли, а из ниток ткали прочную материю. Но в последнее время качество шерсти ухудшилось – пришла пора улучшать породу.
– Надо отыскать тонкошерстных овец, пусть даже не самых крупных, – заключил один из поселенцев. – И скрестить их с нашими.
– На острове таких нет, – вздохнул другой. – Придется возвращаться на материк.
Никому не хотелось отправляться в опасное путешествие через бурный пролив.
– Мы вернемся в родные края, привезем оттуда коров и овец, – решительно объявил Крун. – Выменяем скотину в селениях на побережье. Только отправляться туда надо скорее, пока лето не кончилось.
– А что в обмен предложим? – спросил поселенец. – Горшки и корзины?
Крун покачал головой:
– Нет, у нас есть товар гораздо лучше. – Он обернулся к Магри и Таку. – Нам нужны меха и шкуры, на побережье мы их выгодно обменяем.
И действительно, обитатели северного побережья высоко ценили меха и шкуры с острова, где водилось много пушных зверей.
– Таку этим займется, – решил Крун.
Хромой охотник превратился в ловкого торговца, умело выменивающего ценный товар; с его помощью лодки поселенцев исходили все пять рек в округе и даже плавали вдоль побережья. За несколько дней Таку доверху нагрузил два больших челна пушниной: оленьими и бизоньими шкурами, лисьими и барсучьими мехами. Охотник, неведомо для себя положивший начало торговле островитян, гордо расхаживал от одной груды мехов к другой, расхваливая товар.
– Хорошо, – сказал Крун, осмотрев груз.
Однако хромой охотник, не довольствуясь похвалой, обратился к вождю с дерзкой просьбой:
– Позволь и нам с сыном поехать. Мы умеем грести, лишние руки всегда пригодятся.
Старший сын Таку как две капли воды походил на отца.
К этому времени и сам Таку, и все его сыновья прослыли отличными гребцами. Крун опасался, что поселенцы не захотят, чтобы охотник к ним присоединился, однако предложение Таку всех обрадовало: обитатели долины полюбили бывшего преступника, ставшего удачливым торговцем – он всегда приносил поселенцам необычные подарки.
– Что ж, поезжайте, – согласился Крун.
Вечером Таку собрал сыновей и заявил:
– Мы отправляемся в опасное путешествие за море. Может быть, мы не вернемся, зато вернутся другие. Вы должны во всем следовать моему примеру – плавать на лодках, обменивать товар и торговать. Это лучшее занятие для нашего рода.
Крун, обрубив Таку большие пальцы ног, неведомо для себя оказал охотнику великую услугу. Таку больше не мог охотиться, но, чтобы выжить, нашел себе новое, прибыльное занятие. Поселение росло, и Таку сообразил, что большой общине выгодно торговать. Все поселенцы были заняты: корчевали лес, возделывали поля, поэтому хромой охотник начал возить по округе меха и дичь, став своего рода торговцем-посредником для обитателей долины пятиречья. Он понял, какую прекрасную возможность представляет путешествие на материк, и твердо решил, что своего не упустит. Таку еще не сталкивался с развитой торговлей, которая уже существовала на территории Европы, но чутье у него было верное.
Путешествие завершилось успешно: поселенцы обзавелись новыми породами скота и расширили загоны. Таку привез несколько овец – мелких, но с тончайшим руном. Вдобавок он познакомился с обитателями крупных поселений и своими глазами увидел, как бойко развернулась торговля на материке.
– Ты был прав: с поселенцами нужно жить в мире. Мы и не подозревали, как велика их власть, – сказал Таку Магри, а потом посоветовал сыну: – Надо строить лодки, вместительные и прочные. Будем торговать с людьми на противоположном берегу пролива.
Поселение в Саруме процветало и благоденствовало. Крун понимал, что его годы клонятся к закату – вождю исполнилось пятьдесят лет, – и его все больше волновало то, кому передать власть над двумя общинами.
– Вождем должен стать наш сын, – уговаривала его Лиама. – Твой выбор все будут уважать.
Старшему сыну Круна исполнилось тринадцать. Лиама, с гордостью глядя на стареющего вождя, решила, что будет за ним ухаживать до тех пор, пока сын не подрастет.
Однако Крун рассуждал иначе:
– Наш сын обязательно станет вождем, но сейчас ему рано об этом думать.
Круну предстоял сложный выбор: хотя обитатели долины жили в мире и согласии, но охотники по-прежнему вели кочевой образ жизни, поклонялись богине Луне и не предпринимали попыток заняться земледелием или скотоводством. Вождем должен стать человек, который будет пользоваться уважением и поселенцев, и охотников.
Решение пришло неожиданно.
Когда старый Магри привел Круну двух девушек, вождь решил отдать одну своему дальнему родичу по имени Гвиллох – двадцатидвухлетнему юноше, высокому, смуглому и темноволосому, с угольно-черными глазами. Говорил он мало, но к его словам прислушивались с уважением. Гвиллох согласился взять девушку в жены и вскоре обзавелся тремя сыновьями – такими же смуглыми красавцами, как и отец. Дети находили общий язык и с поселенцами, и с охотниками. Крун с удовлетворением отметил, что Магри поступил очень мудро: через несколько поколений две общины объединятся, несмотря на разницу в образе жизни.
Пока Таку готовился к путешествию через пролив, Гвиллох удивил Круна неожиданной просьбой.
– Выдели мне новую делянку, – сказал молодой человек. – Прежнюю мы делим с братом, у него трое сыновей. Так что пришла пора мне свою завести.
Крун признал разумность просьбы и согласился. Как ни странно, для новой делянки Гвиллох выбрал место у леса, за пределами долины.
– Все наши делянки в долине, – напомнил ему вождь. – Здесь земля плодородная.
– А на юго-западе она еще лучше, – ответил Гвиллох. – И женщина моя будет довольна: ее соплеменники нашими соседями станут.
– Мы дали слово, что не выйдем за пределы долины, – обеспокоенно вздохнул Крун, опасаясь, что поступок юноши вызовет недовольство охотников. – Я обещал охранять охотничьи угодья. Слово нарушать глупо.
– А если охотники согласятся, чтобы моя семья там жила? – рассудительно спросил Гвиллох.
Крун пожал плечами:
– Тогда я не буду возражать. Только они не согласятся.
Спустя десять дней к Круну пришел старый Магри с соплеменником с просьбой разрешить Гвиллоху переселиться из долины к лесу.
– Но ведь это охотничьи угодья! – удивился Крун.
Магри кивнул:
– Да, но делянка будет у входа в западную долину, там дичи меньше, чем на востоке. Новые наделы лучше разбить на западе.
Второй охотник согласно закивал.
– Мы обещали вам держаться северной долины, – напомнил Крун. – И слово свое не нарушим. Здесь земли хватает.
Второй охотник с улыбкой заметил:
– А скоро не будет хватать. Придет время, когда вы захотите больше земли. У Гвиллоха женщина из наших, мы ее знаем. Пусть они рядом с нами живут, мы не против.
– Сыновья Гвиллоха уже охотятся с нами, – добавил Магри. – А как подрастут, тоже будут защищать лесные угодья. И все будут довольны.
Так Крун понял, кто станет следующим вождем.
Пять лет поселенцы жили в мире. Старый Магри умер на третий год, суровой зимой. По обычаю, его место занял старейший охотник – Таку. Весной знахарь тяжело заболел и тоже умер. Новым знахарем стал молодой помощник толстяка, человек рассудительный; к Круну он относился с почтением и старался ничем не оскорбить охотников.
С тех самых пор, как Гвиллох переселился на делянку у леса, Крун присматривался к нему, приглашал на совет старейшин, обсуждал с ним важные дела и часто просил его разобраться в незначительных спорах жителей долины. Гвиллох был чуток к нуждам и поселенцев, и охотников; к его словам прислушивались. Свою новую делянку он выбрал с умом и заботливо возделывал, так что семья его жила в достатке.
Поселенцы, заметив, что Крун благоволит Гвиллоху, сочли такой выбор разумным – молодой человек пользовался всеобщим уважением.
От года к году старый воин все больше чувствовал ломоту в суставах, на шее обвисли складки, мощные плечи поникли. Он любил смотреть на лебедей в камышах у реки и часто подремывал на пригорке у дома, под теплыми лучами солнца.
Однажды ясным весенним днем там он и умер, как уснул, в почтенном возрасте пятидесяти четырех лет.
На следующий день старейшины общин созвали совет и объявили Гвиллоха новым вождем. Первое повеление Гвиллоха положило начало традиции, которая просуществовала почти четыре тысячи лет и навсегда изменила ландшафт Сарума.
– В пятиречье нас привел великий вождь Крун, – заявил Гвиллох, – и мы должны похоронить его с почестями, чтобы память об основателе нашего поселения сохранилась навечно.
Поселенцы и охотники с готовностью согласились, однако не знали, как это лучше сделать.
– Над могилой Круна надо насыпать курган, – предложил один из поселенцев.
Остальные решили, что этого недостаточно.
Гвиллох, поразмыслив, сказал:
– Мы построим ему дом, чтобы упокоить его душу.
В нескольких милях к северу от долины, на высоком холме, откуда открывался великолепный вид на окрестности, охотники и поселенцы расчистили широкую поляну. На поляне построили бревенчатую погребальную хижину, в которую с почестями внесли тело Круна. Рядом с вождем уложили его тяжелую дубину, мешок шерсти и подстрелили лебедя, чтобы любимая птица сопровождала Круна в смерти.
После этого поселенцы плотно законопатили гробницу и оленьими рогами прорыли в холме два параллельных рва, в сотню шагов длиной, на расстоянии десяти шагов друг от друга. Очерченную площадку и хижину в ее юго-восточной оконечности начали засыпать дробленым мелом.
Спустя два месяца тяжелая работа была закончена: на вершине холма возник курган выше человеческого роста и длиной сто футов, похожий на громадную перевернутую лодку. Гвиллох велел плотно утрамбовать меловую насыпь; при свете солнца могильник сиял белизной, а лунные лучи окружали его призрачным, дрожащим маревом.
– В этом доме Крун будет жить вечно, – сказал Гвиллох.
Охотники и поселенцы с восхищением рассматривали творение своих рук. Поляна на вершине холма стала священным местом.
По велению Гвиллоха и из уважения к желанию Круна о мире между общинами знахарь совершил жертвоприношения: богу Солнцу принесли в жертву ягненка, а богине Луне – косулю.
Всякий раз, когда Гвиллоху требовалось принять трудное решение, он приходил на холм и безмолвно сидел у длинного могильника.
«Как мне поступить?» – мысленно взывал Гвиллох к старому вождю, и дух Круна всегда давал ему мудрый совет.
Впрочем, поселенцы и охотники тоже ощущали незримое присутствие Круна; когда над Сарумской долиной гремели летние грозы, люди переглядывались и говорили:
– Это Крун кряхтит, ворочаясь в своем жилище.
Прошли годы. Старый Гвиллох, не желая, чтобы его дух покидал долину пятиречья, подыскал в округе место для своего могильника, а перед смертью объявил вождем одного из сыновей Круна.
Так в Саруме возникла традиция создания огромных курганов, получивших название длинных могильников – примечательная черта неолитической Британии на протяжении пяти тысяч лет. Поколение за поколением возводили могильники в окрестностях Сарумской долины; иногда они служили местом погребения целых семей, но чаще воздвигались в честь племенных вождей. Вскоре длинные могильники появились на территории всей Британии. С течением времени и в разных частях острова форма захоронения менялась – над могилами насыпали круглые курганы или расчищали площадки с небольшими холмиками в центре, – но только Сарумская возвышенность до сих пор хранит память о древних предках: сотни длинных могильников, заросших травой.
Как и предсказывал Магри, вскоре земледельцы вышли за границы северной долины и заняли охотничьи угодья. А с материка приплывали все новые и новые поселенцы – вслед за Круном хрупкие челны добирались через пролив на остров Британия и даже пересекали холодные северо-западные моря на пути к острову Ирландия. Как и в Саруме, поселенцы строили бревенчатые дома, выращивали пшеницу и разводили стада; скот держали в загонах, окруженных земляными валами, и там же устраивали своеобразные торжища, встречи с соседскими общинами и, возможно, использовали их как оборонительные сооружения. Лес на окрестных холмах расчищали под пастбища для овечьих отар. Вскоре на острове сложилась культура британского неолита.
Ее формирование заняло две тысячи лет.
Последующие два тысячелетия истории Британии хорошо изучены. Огромное количество могильников, поселений и орудий труда, найденных археологами, позволяет разделить их на несколько типов культур. К северу от Сарума, в Уиндмилл-Хилле, обнаружены городища, обитатели которых добывали кремень в открытых карьерах и создавали так называемые лагеря с вымостками – вершину холма окружали рядами плоскодонных рвов с внутренними валами. Еще дальше к северу, на территории современного Йоркшира, делали бусы и украшения из блестящего черного гагата, а обитатели Корнуолла, Уэльса и Озерного края научились добывать вулканические породы и изготавливать из них неимоверно прочные каменные топоры. На острове Британия, отрезанном от материка, складывалась своя богатая неолитическая культура.
Сейчас не представляется возможным доказать, что племена кочевых охотников, изначально заселивших Британию, постепенно смешались с неолитическими земледельцами, пришедшими из Европы. Земледельческие и скотоводческие общины процветали, но население острова по-прежнему оставалось небольшим. За две тысячи лет до нашей эры в поселениях на территории Британии обитало не больше сорока тысяч человек. Вполне вероятно, что в лесах и на равнинах существовали и кочевые племена охотников.
Однако в самом центре Уэссекса, на Сарумской возвышенности, плодородная почва легко поддавалась сохе, и поселенцы приходили в окрестности долины пяти рек по древним тропам, которыми когда-то шел Ххыл.
К 2500 году до нашей эры в Британии произошли значительные перемены: здесь, как и в Европе, появилась чудесная глиняная посуда с плоским дном, так называемые кубки-бикеры в виде перевернутого колокола. Эта культура возникла на территории Южной и Центральной Европы, на Пиренейском полуострове и в долине Рейна. Примерно в это же время в Британию попала первая медь, а чуть позже и бронза, сплав олова и меди, из которого делали оружие, украшения и всевозможные орудия труда. Металл с легкостью поддавался обработке, но из-за своей мягкости не оказал особого влияния на дальнейшее развитие сельского хозяйства и военного дела.
В это время остров Британия, и особенно Сарум, прославился не металлом, а камнем.
На возвышенностях появились каменные круги-святилища, называемые хенджами, которые сохранились до наших дней. Многотонные каменные глыбы с неимоверной точностью устанавливали по окружности на вершинах холмов – это требовало значительных усилий и мастерства неизвестных зодчих. Рядом с их величием меркнут даже меловые могильники.
В Северной Европе преобладают кромлехи – каменные кольца вокруг могильников и курганов, – а сооружения, подобные хенджам, практически неизвестны, хотя в Британии встречаются повсюду, от Корнуолла до северной оконечности Шотландии. Свою характерную форму они приобретали постепенно, на протяжении многих веков. Поначалу их возводили из насыпного грунта, потом – из дерева, а позже при их строительстве стали использовать камень. Они имеют форму правильного круга, вход в который указывает на восходящее солнце в день летнего солнцестояния. Впрочем, о точном предназначении хенджей ничего не известно, и ученые до сих пор пытаются разобраться в устройстве этих загадочных святилищ. Чаще всего хенджи встречаются в окрестностях Сарума. В тридцати милях к северо-западу от долины раскинулся огромный хендж Эйвбери, а рядом с ним – несколько кругов поменьше, в том числе и с деревянными, а не с каменными столбами. Однако величайшим из хенджей по праву считают Стоунхендж, на возвышенности к северу от Сарума.
Строительство Стоунхенджа началось примерно за три тысячи лет до нашей эры. Поначалу сооружение представляло собой площадку, окруженную сплошным земляным валом с входом, ориентированным на восходящее солнце в день летнего солнцестояния. На площадке установили внутренний круг из пятидесяти шести столбов на равном расстоянии друг от друга. Вход на площадку обрамляли огромные валуны. Примерно в 2100 году до нашей эры в цент ре площадки стали возводить круг из вулканической горной породы – долерита. Неолитические зодчие, не знавшие колеса, ухитрились доставить громадные камни – каждый высотой более шести футов и весом не меньше четырех тонн – из каменоломен в дальних Презелийских горах на юге Уэльса, в двухстах сорока милях от Сарума. На постройку круга требовалось шестьдесят камней. Однако в 2000 году до нашей эры по неизвестной причине долеритовые глыбы заменили огромными камнями из серого песчаника, а к самому кругу проложили особую дорогу длиной шестьсот футов, с обеих сторон окаймленную рвами и насыпями. Своим величием святилище превосходило все постройки острова.
Хендж
2000 год до н. э.
До рассвета оставалось несколько часов.
В центре святилища стояли шестеро жрецов в длинных одеяниях из некрашеной шерсти, почтительно склонив бритые головы с узким треугольником волос, спускавшимся на лоб. Высокие кожаные сапоги защищали ноги от холода. Каждый жрец держал несколько заостренных деревянных колышков.
У входа в круг лежал преступник, связанный прочными веревками из сыромятной кожи, – на рассвете его принесут в жертву богу Солнцу.
Длух, верховный жрец, стоял неподвижно, будто изваяние, сжимая в правой руке церемониальный посох с позолоченным бронзовым набалдашником в форме лебедя, символа бога Солнца. На левой ладони жреца покоился клубок льняной бечевы. Длух – чисто выбритый, длиннолицый, высокий и сухопарый – задумчиво смотрел вдаль.
Причин для беспокойства хватало. Священным землям Сарума угрожала страшная беда. Если боги не смилостивятся, уничтожения не избежать. Чем же задобрить богов? И сколько времени осталось до неминуемой катастрофы?
– Если Крун захворает… – еле слышно пробормотал Длух, чуть сильнее сжал посох и поспешно отогнал ужасную мысль – забот и без того хватало. Он указал посохом на четыре точки круга и отрывисто приказал: – Установите метки.
Жрецы торопливо направились к указанным местам и воткнули колышки в землю: ночью, как обычно, служители Стоунхенджа проводили астрономические измерения.
В осеннем небе, усыпанном звездами, холодно сиял месяц. Под его светом призрачно поблескивали величественные пустынные холмы, покрытые утренней росой. На холмах мертвенно светились меловые могильники – продолговатые и округлые, будто лодки на неподвижных волнах моря. Обитатели Сарума чтили древних предков, которые неустанно охраняли покой живых.
Священные земли простирались на много миль. Здесь были не только курганы, но и небольшие святилища – круги из деревянных столбов, окаймленные земляными валами. Возвышенность считалась священной уже много веков; сюда со всех концов острова приходили паломники.
В самом центре возвышенности, на пологом склоне холма, стоял хендж – огромная меловая площадка диаметром триста двадцать футов, окруженная, в отличие от других святилищ, земляным валом и глубоким рвом. Жрецы Стоунхенджа гордо утверждали, что сила их святилища больше. К входу на северо-западной стороне вела прямая церемониальная дорога длиной шестьсот ярдов. У входа высились два огромных серых валуна, образуя ворота, куда пропускали только жрецов и пленников, обреченных на жертвенную смерть. В меловом круге находились два насыпных кургана (их использовали для астрономических наблюдений), внешнее кольцо из пятидесяти шести деревянных столбов (нынешний верховный жрец установил их на месте сгнивших) и внутреннее, еще не достроенное двойное кольцо стоячих камней – священных долеритов.
Сооружение, возведенное восемь веков назад, считалось местом колдовским. Здесь жрецы совершали ритуальные жертвоприношения богу Солнцу и богине Луне и проводили важные астрономические вычисления, на основании которых великий вождь Крун управлял своими обширными владениями.
Кроме Стоунхенджа, в округе были и другие хенджи, например святилище в Эйвбери, где обитало соседское племя, однако Длух постоянно напоминал своим жрецам, что в звездах они разбираются лучше, потому что Стоунхендж построен точнее.
И в самом деле, в день летнего солнцестояния светило появлялось над горизонтом точно напротив входа в святилище; первый алый луч освещал дорогу, проходил между валунами и падал в центр мелового круга. В день зимнего солнцестояния последние лучи заходящего солнца освещали синеватые глыбы с противоположной стороны. В хендже жрецы с помощью деревянных кольев вычисляли время солнцестояний и равноденствий, определяя, когда начинать сев зерна, сбор урожая и прочие важные дела, упомянутые в священных сказаниях. Хендж, будто гигантские солнечные часы, отсчитывал дни и времена года.
Над хенджем и над всем Сарумом властвовал бог Солнце, озаряя своим сиянием возвышенность и долины. Все жители окрестностей знали, что он с рассвета до заката следит за ними, заливая ярким светом пустынные холмы и ложбину пятиречья. Мел сверкал под его жгучими лучами. Бог Солнце дал людям день и ночь, зиму и лето, время сева и время урожая, мог облагодетельствовать, а мог и покарать. Власть его была безмерна.
Длух медленно переходил от одного деревянного колышка к другому, разматывая льняную бечеву. Торжественное безмолвие святилища успокаивало верховного жреца, способствовало его размышлениям и позволяло забыть о бедах, постигших племя. Он всецело отдался сложным измерениям и вычислениям, пытаясь разобраться в загадках мироздания.
Внезапно два босоногих гонца с пустыми носилками подбежали по росистой траве к святилищу. У самого входа они опустили носилки на землю и распростерлись перед жрецами. Длух сурово свел брови:
– Как вы смеете прерывать священнодействие?
– Нас Крун послал, – ответили гонцы, не поднимая глаз: простым смертным запрещалось смотреть на верховного жреца. – Он хочет с тобой увидеться.
– Среди ночи? Он захворал? – встревоженно спросил Длух.
– Не знаю, – с заминкой ответил гонец постарше. – Он гневается.
Его спутник согласно закивал.
– Я приду, – вздохнул Длух, велел жрецам с первым лучом солнца принести в жертву связанного преступника и уселся на носилки.
Носильщики быстро пробежали семь миль, отделявшие возвышенность от пятиречья, где в самом центре Сарума стояло жилище великого вождя Круна.
Сарумом с незапамятных времен правил род Круна, прямые потомки легендарного Круна-воителя, чьему могильнику на холме поклонялись до сих пор, а на церемонии назначения нового вождя жрецы перечисляли восемьдесят поколений его предков. Чтобы подчеркнуть преемственность власти, каждому вождю давали имя Крун, а верховным жрецом избирали одного из родственников. Длух был сводным братом нынешнего вождя.
Еще не рассвело; месяц заливал долину призрачным светом. С взгорья открывался прекрасный вид на долину. Лес на холмах вырубили, а долину обнесли частоколом, охраняемым воинами Круна. Для путников, приплывающих в Сарум по реке, этот вид служил грозным напоминанием о власти вождя. У самого входа в долину на холме виднелось просторное сооружение с выбеленными мелом бревенчатыми стенами, окруженное земляным валом, обмазанным красной глиной. За валом начинался двор с хозяйственными постройками.
В долине на берегу находилось небольшое торжище; через него проходили все товары, которые развозили по пяти рекам или отправляли на юг, в гавань на побережье. Торговлей, как и прочей деятельностью жителей Сарума, заправлял вождь.
На хмуром лице Длуха мелькнула улыбка.
– Благословенный Сарум, – прошептал верховный жрец, вспоминая счастливое время.
Пятиречье и прежде было средоточием власти Сарума, но теперь владения Круна простирались далеко за пределы ложбины: вниз по реке на юг, до естественной гавани на берегу моря; священные земли на северном взгорье, а на востоке и западе – по двадцать миль в обе стороны. На острове не было мест плодороднее и богаче. Торговцы с севера приносили на обмен великолепные каменные топоры, с востока – красивую посуду из обожженной глины, с запада – золотые украшения, созданные искусными ирландскими мастерами, а из неведомых краев – янтарь, гагат, жемчуг и прочие чудесные изделия. Люди жили богато: на холмах в округе паслись отары бурых овец, на склонах зеленели поля, засеянные пшеницей, ячменем и льном, в низинах бродили тучные стада коров и свиней. В лесах охотники промышляли пушниной, которую потом продавали за море, а сам Крун любил охотиться на оленей и вепрей.
В окрестностях Сарума жило около трех тысяч человек; сюда не вторгались банды захватчиков. «Крун – великий вождь, – говорили жители острова. – Славен род владыки благословенного Сарума».
Благословенный Сарум… Отчего же боги сейчас обошли его милостью? Почему гневаются? Эти вопросы больше всего занимали Длуха на пути к дому вождя.
Перед жилищем Круна горели факелы на треножниках. Стены, камышовую крышу и вход украшали многочисленные оленьи рога и клыкастые головы вепрей – охотничьи трофеи. До недавнего времени вождь славился своим гостеприимством и любил устраивать охоту.
Верховный жрец решительно вошел в дом. Внутри горели восковые свечи. Прислужник у входа задрожал при виде Длуха и поспешно распростерся у порога, не поднимая головы.
– Где Крун? – осведомился верховный жрец.
– В своем покое.
Длух прошел в глубину жилища и отодвинул тяжелый занавес, отгораживающий небольшое помещение – спальню Круна.
В комнате царил полумрак. Длух помедлил, давая глазам привыкнуть к неверному свету единственной свечи.
У входа на полу в страхе скорчилась пятнадцатилетняя девушка – одна из нескольких новых жен, которых Длух присылал Круну в последние месяцы. Вождю понравилась крепкая и складная девушка с пухлыми губами, пышной грудью и широкими бедрами, поэтому сейчас верховный жрец недоуменно поморщился и перевел взгляд на Круна.
Беда, грозящая благополучию Сарума, подкосила вождя: глаза ввалились, плечи поникли, сам он исхудал, в черной бороде серебрились седые пряди, хотя он держался с прежним достоинством.
Крун стоял в дальнем углу спальни, у широкого помоста, накрытого шкурами. Рядом с ним на полу сидела Айна, его старшая жена. Она с юных лет жила с вождем, который даже сейчас, когда она постарела, относился к ней с любовью и уважением. Глаза Длуха привыкли к сумрачному освещению; он заметил, что Крун пал духом. Лицо вождя потемнело от гнева, орлиный нос походил на громадный клюв, а взор сверкал от ярости. Сейчас Крун напоминал зловещую хищную птицу.
– Я пришел, – негромко произнес Длух.
Помолчав, Крун хрипло прошептал:
– Она украла мою силу. – (Длух поглядел на девушку.) – Забери ее и принеси в жертву богу Солнцу, верховный жрец! – велел Крун. – Верни мне мою силу.
Длух задумался. Человеческие жертвоприношения совершались редко – на жертвенный алтарь святилища приводили только преступников и тех, на кого выпадал священный жребий. Верховный жрец не собирался приносить девушку в жертву только потому, что этого хотел вождь. Длух помотал головой.
– Ты что, не понимаешь?! – злобно прошипел Крун. – Она украла мою силу. Я ни на что не способен.
– Я могу тебя вылечить, дам тебе целебный отвар, – невозмутимо ответил Длух.
Крун гневно посмотрел на верховного жреца и медленно уселся на помост.
– Не надо мне отваров, – устало сказал вождь.
Айна осторожно приблизилась к нему. Заботливая и верная женщина всегда терпеливо обучала младших жен ублажать Круна и сейчас пыталась успокоить мужа, ласково поглаживая его по ноге, потом взяла его лицо в ладони и нежно поцеловала в губы.
Любовь и преданность Айны растрогала Длуха. Женщина робко улыбнулась и, продолжая ласкать Круна, с надеждой поглядела ему в глаза, но затем печально вздохнула, уселась у его ног и расстроенно покачала головой.
– Не надо мне отваров, – повторил вождь. – Отдай девчонку богам, иначе род Круна прервется.
Длух сокрушенно вздохнул, вспоминая, как пришла беда, грозившая разрушить благополучие Сарума.
Все началось с того, что однажды Крун со свитой отправился на побережье встречать торговцев из дальних краев. Длух обрадовался путешествию; он любил гавань среди невысоких холмов, где в заводях на побережье вили гнезда цапли и пеликаны. Ему нравилось расспрашивать путешественников о неведомых землях.
Десять челнов, обтянутых ярко раскрашенными шкурами, спустились вниз по реке. Крун, облаченный в роскошное алое одеяние, сидел в первой лодке вместе с двумя сыновьями. В летнюю жару берега реки обнажились, повсюду витали ароматы свежих трав, ряски и тины. К полудню путники выбрались к устью реки и сразу же заметили судно чужеземных торговцев, пришвартованное у торжища на южной стороне гавани.
Чудесный корабль заметно отличался от широких челнов-куррахов, сплетенных из ивняка и обтянутых шкурами. Обитатели острова пользовались этими челнами с глубокой осадкой для путешествий по рекам и для перевозки грузов; если дул попутный ветер, ставили мачту с крохотным парусом, в помощь гребцам. Чужеземный корабль из досок, плотно пригнанных друг к другу и законопаченных смолой, был в два раза больше самого большого курраха; посредине его высилась прочно закрепленная мачта, на поперечной перекладине которой висел квадратный кожаный парус. Позади удивительного судна виднелся огромный руль для управления лодкой, так что с помощью руля и паруса искусные мореплаватели могли выдерживать заданный курс даже без попутного ветра. Островитяне не умели строить такие корабли.
Чужеземные торговцы оказались невысокими широколицыми здоровяками, скуластыми и смуглыми, с курчавыми черными бородами, блестящими от благоуханных масел. Языка островитян они не знали, и им помогал объясняться торговец с материка. Они привезли с собой огромные кувшины вина (жители острова никогда прежде его не пробовали), отрезы льна, искусно расшитые бисером, куски янтаря, крупный жемчуг и великолепные украшения.
– Какие товары вам нужны? – спросил Крун.
– Пушнина, – ответили торговцы. – А еще нам нужны гончие. На материке говорят, ваши охотничьи собаки лучшие.
Вождю и его сыновьям понравились новые товары, хотя вино, пусть и слаще местного темного пива, не шло ни в какое сравнение с крепким хмельным медом, который варили жители Сарума. Начался оживленный обмен товарами. В подарок сыновьям Крун выбрал бронзовые кинжалы, искусно украшенные самоцветными камнями и золочеными узорами, – таких не создавали даже ирландские мастера. За каждый кинжал торговцы потребовали шесть пар гончих. Длуха возмутила неимоверная цена, но Крун только рассмеялся во все горло.
– Самый подходящий подарок для сыновей великого вождя! – заявил он. – А гончих у меня хватает.
Верховный жрец до сих пор помнил тот ясный солнечный день. Крун увлеченно беседовал с торговцами и раскатисто хохотал, сверкая глазами. За ним неотступно следовали два сына, рожденные преданной Айной: старшему минуло шестнадцать, а младшему – четырнадцать. Оба унаследовали от родителей высокий рост, благородные черты лица и черные глаза. Юноши были прекрасными охотниками, отважно ходили на вепря и даже на тура. В тот день за плечами у них развевались короткие зеленые накидки, у пояса поблескивали новые кинжалы. Сыновья с улыбкой глядели на отца.
– После моей смерти они станут великими вождями, – заявил Крун. – И наряд у них должен быть как у вождей.
Пока Крун с сыновьями вели торг, Длух расспрашивал мореплавателей:
– Откуда вы приплыли?
– С великого моря на юге. С востока на запад его можно переплыть за несколько месяцев, – ответили чужеземцы.
Длух удовлетворенно кивнул: об этом море рассказывали и другие торговцы. Обычно товары из Средиземноморья попадали в Британию с северного побережья Франции, куда их доставляли по крупным рекам Юго-Западной Европы. Редкие смельчаки отваживались на опасное путешествие вокруг европейского атлантического побережья. Жрецу-астроному интересно было беседовать с заморскими гостями еще и потому, что свой долгий путь они прокладывали по звездам.
Предводитель торговцев, лысый толстяк с круглой головой и умными глазами, скрытыми сетью глубоких морщин, тараторил так быстро, что толмач за ним еле поспевал:
– В наших краях очень жарко, а солнце стоит выше, чем у вас. Однажды я отправился в путешествие на юг, в дальние страны, туда, где в небе светят странные, незнакомые созвездия. Просто чудеса!
Длух и прежде слыхал такие рассказы, поэтому решил, что чужеземец говорит правду. Наверняка на далеком юге есть звезды, которых просто не видно из-за северного горизонта, точно так же как пропадает из виду земля, если уплываешь далеко в море. К югу от Сарума солнце стояло выше, а значит, если уйти далеко на юг, то где-то там оно должно оказаться точно над головой. Похоже, торговец в своих путешествиях побывал именно в таких местах.
– А долго туда добираться? – с любопытством спросил Длух.
– Трудно сказать… – Толстяк задумчиво покачал головой. – Может быть, четыре месяца пути морем, а может быть, и все шесть.
– Скажи, в дальних краях на юге солнце стоит прямо над головой?
– Почти.
Шесть месяцев морского пути… Точное расстояние определить трудно, но Длух понимал, что это очень далеко. Он погрузился в размышления, и на его обычно суровом лице мелькнула улыбка: если определить расстояние от острова Британия до тех областей, где солнце стоит точно над головой, тогда, зная угол наклона солнца над островом, вполне возможно несложным методом, с помощью колышков и бечевки, вычислить примерное расстояние земли от Солнца, то есть получить сведения, дотоле неизвестные жрецам. В уме Длуха возникли любопытные мысли: если угол наклона солнца меняется, то на дальнем севере наверняка существуют края, где солнце так низко восходит над горизонтом, что светила почти не видно. Или это возможно только за краем земли? А где именно находится край земли? Может быть, торговец там побывал?
– Нет, на краю земли я не бывал, – ответил толстяк. – Но встречал человека, который знает, где это.
– И где же?
– Он мне не сказал.
– Соврал, наверное, – грустно заметил Длух, однако решил, что боги благоволят Саруму.
И вождь Крун, и его сыновья остались довольны встречей с заморскими гостями и вечером устроили пиршество в их честь.
На следующее утро торговцы отплывали на запад, надеялись разжиться оловом на побережье, а потом добраться до Ирландии, где, по слухам, было много золота.
Этот день Длух запомнил на всю жизнь. На рассвете он принес в жертву овцу, прося богов даровать отважным путникам удачу. К полудню с юго-востока задул ветер, на горизонте собрались клубы облаков. Едва корабли медленно отплыли от берега, как раздались громкие голоса: юноши, весело переговариваясь, столкнули три кур раха на мелководье и поспешили за торговцами к выходу из залива. Среди молодых людей были и сыновья Круна.
– До свидания! – радостно выкрикивали они, торопливо гребя вслед за кораблями. – Мы тоже на юг поплывем!
Люди на берегу махали им руками, смеялись и одобрительно вос клицали. Крун, Длух и их спутники взобрались на холм, откуда было лучше видно, как челны выплывают из гавани в открытое море.
Небо затянуло тучами, но кое-где солнце выглядывало в просветы, заливая темную морскую гладь яркими лучами. Лодки добрались до восточной оконечности мыса и по узкому проливу вышли в море. Ветер усилился, на волнах появились барашки. Лодки обогнули мыс и, повернув на запад, все больше удалялись от берега. Грузный торговый корабль решительно рассекал волны, а за ним разноцветными поплавками устремились три ярко раскрашенные лодчонки. Наконец они поравнялись с холмом, где стоял Крун со спутниками.
– Слишком далеко отплыли, – пробормотал вождь.
Челны на две мили отдалились от берега, и высокие волны то и дело скрывали хрупкие суденышки.
Внезапно Длух заметил, что надвигается шторм. Вначале над восточным горизонтом появилась сизая туча, которая росла и ширилась с необычайной быстротой. Клубы облаков, потемнев, угрожающе сомкнулись и нависли над морем. Через несколько мгновений с востока огромной черной птицей налетела буря.
Длух коснулся плеча Круна и махнул рукой вдаль. Вождь, помрачнев, встревоженно заметил:
– Пусть поворачивают к берегу!
Тяжелая туча ворочалась, напоминая уже не птицу, а гигантский темно-лиловый цветок, неумолимо раскрывающий лепестки. Длух с ужасом смотрел на небо. Челны плыли в открытое море за деревянным кораблем, не замечая, как надвигается шторм, – небо на западе оставалось ясным и светлым.
Люди на холме встревоженно закричали, но гребцы их не слышали. Только когда торговцы развернули парус и поплыли на запад, юноши решили повернуть к берегу и наконец увидели грозовые тучи над мысом.
– Гребите к заводи, глупцы! – пробормотал вождь.
Волны и сами бы вынесли куррахи на песчаный берег заводи, но гребцы упрямо держали курс на мыс, хотя море штормило, а течение у скал было опасным.
– Безумцы! – воскликнул Крун.
Все вокруг погрузилось во мглу, море вздыбилось раненым зверем, на берег обрушились огромные волны. Соленые брызги и клочья пены долетали до самой вершины холма. Через несколько мгновений лодки исчезли из виду. Длух надеялся, что они удержатся на плаву.
Великий Крун, дрожа от страха за сыновей, умоляюще обратился к жрецу:
– Брат мой, попроси богов пощадить моих наследников!
Длух, громким голосом воззвав к морским божествам, отсыпал из кошеля на поясе пригоршню золотого песка и развеял над морем, но порыв ветра отбросил крупинки драгоценного металла, запорошив жрецу глаза.
Странным образом буря затронула только мыс: над морем завывал ветер, бушевали волны, дождь шел стеной, а неподалеку, в заливе за мысом, вода едва подернулась рябью.
Корабль торговцев уплыл на запад, а лодки так и не вернулись. Вождь Крун потерял обоих сыновей. Тела, вынесенные на берег много дней спустя, похоронили в Саруме.
Родных братьев у вождя не было. Длух, единственный оставшийся в живых родственник, как полагалось жрецам, дал обет никогда не знать женщины. Впервые за всю историю Сарума власть над поселением передавать было некому. Всем в округе было известно, что боги благоволят роду вождя, чьи предки основали поселение на священной земле, поэтому соседние племена боялись нападать на Сарум. Однако теперь, когда Крун остался без наследников, некогда великий род его угаснет, а в плодородную долину у пяти рек придут завоеватели.
По острову поползли слухи, что боги отвернулись от благословенного Сарума и даже сам бог Солнце не озаряет своей милостью хранителей Стоунхенджа.
И действительно, месяц спустя произошло солнечное затмение. Вождь окончательно пал духом и обреченно заявил жрецу:
– Мы пропали.
Трагические события изменили Круна даже внешне: черные как смоль волосы поседели, широкие плечи поникли, он сгорбился и казался меньше ростом, некогда ясные глаза помутнели. Он целыми днями не выходил из дому, лишь изредка призывая к себе Длуха, и то лишь для того, чтобы спросить:
– Неужели боги наложили проклятие на весь наш род?
Увы, ответа у жреца не было.
– Да, судя по всему, боги нас наказали, – уклончиво сказал он. – Надо подумать, чем их умилостивить.
– Думай быстрее, – велел вождь. – Если род Круна пресечется, то…
Продолжать он не стал – все было и без того ясно.
День ото дня Длух приносил жертвы богам и молился в святилище, но безрезультатно. Вождю спешно следовало обзавестись наследниками. Много лет прошло с тех пор, как Айна родила Круну двух сыновей. Их смерть надломила жену вождя. Она всегда вела себя скромно, но с достоинством. Если Крун хвалил сыновей, Айна с затаенной гордостью улыбалась, однако не произносила ни слова, а если на них обрушивался отцовский гнев, то мудро держалась в стороне, охраняя мир и покой семьи. Крун ласково обращался к ней «мать моих сыновей» и часто призывал ее к себе, хотя больше и не делил с ней ложе.
Смерть сыновей Айна, по своему обыкновению, оплакивала скрытно. Привязанность вождя к жене объяснялась, в частности, тем, что она произвела на свет наследников, однако трагедия странным образом всколыхнула в Айне глубокие чувства к раздавленному горем мужу. Она изо всех сил пыталась ему помочь справиться с утратой, но безуспешно.
– Мне уже поздно детей зачинать, – объяснила она Длуху и обратилась к Круну: – Тебе нужны новые жены, молодые и сильные, которые смогут продолжить твой род. Пусть жрец выберет подходящих.
С приближением зимы Длух занялся поисками новых жен для вождя. С наступлением осеннего равноденствия жрец принес в жертву пятьдесят шесть волов, пятьдесят шесть баранов и пятьдесят шесть овец, а после этого привел Круну двух девушек из достойных семейств.
Прошла весна, наступило лето – холодное и дождливое. Урожай пропал, а новые жены не понесли, хотя вождь всю зиму делил с ними ложе.
– Боги не сменили гнев на милость, – встревоженно говорили обитатели Сарума. – Наши подношения их не устраивают.
В душе верховный жрец понимал, что они правы – жертвоприношения оказались бесполезны. Похоже, жители Сарума не на шутку прогневали богов.
Крун впал в уныние. Некогда грозный властелин и счастливый хозяин богатых угодий превратился в согбенного старика.
– Ты еще не стар, – напоминал ему Длух, скрывая сожаление. – Мы найдем тебе новых жен.
Вскоре после летнего солнцестояния жрец привел к вождю улыбчивую юную красавицу, крепкую и ладную, с пышными формами. Новая жена Круну понравилась. Жрец выбрал ее, потому что с делянки ее отца, несмотря на холод и дожди, собрали хороший урожай. Если боги благоволили семейству, то наверняка они милостиво посмотрят на то, что девушка стала женой вождя.
Увы, сейчас она испуганно сжалась в углу. Айна сокрушенно качала головой, а вождь злобно глядел на жреца.
– Что ж, будь по-твоему, – вздохнул Длух, понимая, что это богов не умилостивит.
На рассвете девушку принесли в жертву, а вечером Крун гордо объявил, что его силы восстановились, и потребовал новых жен.
Выполнить требование вождя Длух наотрез отказался, понимая, что боги не удовлетворятся ни принесенной в жертву девушкой, ни новыми женами. Причины несчастий, постигших Сарум, коренились в ином.
– Жертвоприношений богам недостаточно, – объяснил он Круну. – Они хотят большего.
– Чего им от нас надобно?
– Не знаю, – огорченно вздохнул Длух. – Следует прибегнуть к гаданию, может быть, что-то и прояснится.
Жрецы при помощи особых церемоний напрямую общались с богами – задавали вопросы и получали ответы. Длух редко пользовался этим методом, потому что истолковывать приметы и предзнаменования было делом долгим и сложным, а верховный жрец предпочитал логические объяснения. Однако же сейчас ничего другого ему не оставалось. Жрецы отправились в лес, за птицами. Пойманных птиц несколько дней держали в клетках и кормили зерном, смешанным со всевозможными травами, золотым песком, раскрошенным в пыль камнем и почвой – все это оставит в птичьих желудках следы, по которым и совершалось гадание.
Затем сотни клеток принесли к хенджу, где ранним утром Длух, в окружении младших жрецов, начал церемонию гадания. Острым бронзовым ножом он осторожно вскрывал птичью грудку, заостренной палочкой вытягивал внутренности и внимательно их осматривал, пытаясь истолковать желания богов. Перед тем как выпотрошить каждую птицу, жрец громким голосом задавал богам вопрос:
– Скажи, о великий бог Солнце, будет ли у Круна наследник?
Он тщательно осмотрел внутренности первого десятка птиц и с облегчением вздохнул – боги дали положительный ответ.
Однако ответы на последующие вопросы оказались менее ясными. Чего именно требовали боги? Во внутренностях четко просматривалось три странных знака. Жрецы изумленно ахнули и переглянулись, смутно догадываясь, что они означают.
– Принесите еще птиц, – велел Длух и, изучив внутренности еще тридцати трех птиц, обернулся к жрецам. – Вам все ясно?
Жрецы взволнованно закивали.
Верховный жрец задал последний вопрос:
– Кто станет новой женой вождя?
Чтобы получить ответ, жрецам пришлось вскрыть двадцать птичьих тушек, но загадка так и не разрешилась: во внутренностях каждой птицы обнаружились крохотные золотые песчинки. Подобное случалось чрезвычайно редко, и смысл божественного предсказания оставался неясным.
Вечером Длух рассказал Круну об ответе богов.
– У тебя будет наследник, – заверил жрец вождя. – Для этого необходимо соорудить новое святилище, из камня.
Жрецы пришли к такому выводу, обнаружив в птичьих внутренностях крошки дробленого камня и песчинки.
– Желание богов будет исполнено, – кивнул Крун.
– Вдобавок первенца нужно принести в жертву. Если ты повинуешься воле бога Солнца, то после этого твоя жена родит тебе сына-наследника.
Крун, ужаснувшись, горестно воскликнул:
– На склоне лет я не успею зачать двоих детей!
– Боги даруют тебе долгую жизнь, – пообещал ему Длух. – И твой сын станет великим вождем.
– А кто будет моей новой женой? – спросил Крун.
Длух помрачнел – точного ответа на этот вопрос жрецам получить не удалось.
– Девушка, увенчанная золотом, – сказал он.
– Как это? – недоуменно осведомился вождь.
– Не знаю, – вздохнул Длух. – Наверное, боги имели в виду девушку из богатого и знатного рода, дочь вождя.
– Отыщи ее поскорее, – приказал Крун.
Однако этим повеление богов не ограничивалось – святилищехендж следовало построить к определенному времени, к тому дню, когда солнце взойдет точно над церемониальной дорогой и взглянет в лицо полной луне.
Жрецы, хорошо знакомые с астрономией, прекрасно понимали смысл этого загадочного требования. Хендж был сложным, почти магическим сооружением, позволявшим отслеживать не только смену времена года и рассчитывать дни по теням, которые отбрасывали столбы, вкопанные в лунки, но и многое другое.
– Иногда в день летнего солнцестояния, – объясняли жрецы ученикам, – бог Солнце восходит в одном конце церемониальной дороги, а богиня Луна садится напротив него, в другом конце. В день зимнего солнцестояния они меняются местами – солнце удаляется на юго-запад, а луна восходит над дорогой.
Солнце и Луна, мужское и женское начала, лето и зима – великий круг хенджа заключал в себе все эти противоположности. В движении солнца и луны по небосклону наблюдались определенные закономерности.
– В хенджах на севере такого не бывает, а значит, наш хендж пользуется особым благоволением богов, – с гордостью заявляли жрецы.
Как ни странно, они были правы, хотя их знаний и не хватало для того, чтобы определить истинную причину этого явления. Дело в том, что на разных широтах земного шара солнце и луна движутся по-разному. И все же Стоунхендж хранил в себе и другие тайны. Незадолго после постройки святилища первые жрецы-звездочеты заметили, что путь луны по небосводу колеблется и полный цикл его колебаний повторяется каждые девятнадцать лет.
Когда-то в незапамятные времена жрецы устанавливали у входа в хендж столбы, отмечающие место появления богини Луны в день зимнего солнцестояния, – оказывается, год за годом она немного меняет положение, сдвигается вдоль горизонта, и повторяет свои движения каждые девятнадцать лет. Эти движения получили названия священных колебаний.
– Для того чтобы их обнаружить, потребовалось сто лет, – говорили жрецы ученикам, подчеркивая необходимость тщательных и постоянных наблюдений.
Более того, солнечный год не делится без остатка на двадцать девять лунных месяцев, однако Длух путем сложных вычислений пришел к выводу, что солнечный и лунный календарь можно согласовать именно на основе девятнадцатилетнего цикла. Через две тысячи лет это открытие припишут греческому астроному Метону Афинскому.
– Священные знания таят в себе множество секретов, – говорили жрецы ученикам. – Вы достойны узнать один из них: изменчивая богиня Луна раз в девятнадцать лет, в один и тот же день, полностью обращает к нам свое лицо.
В этом и заключался смысл предсказания. Длуху и его жрецам было известно, что в конце очередного священного колебания богини Луны, сейчас достигшего середины, произойдет редкое и примечательное событие: в день летнего солнцестояния светило взойдет точно напротив луны, заходящей в противоположном конце; вдобавок будет полнолуние. Случится это через десять лет. Подобное астрономическое совпадение наблюдалось очень редко, его не видел никто из живущих.
– За такой короткий срок святилище не построить! – вскричал юный жрец.
– Успеем, раз такова воля богов, – холодно заметил Длух.
Много дней верховный жрец разрабатывал план строительства, вкладывая в него все свои знания священных таинств. Пользуясь магическими числами, известными жрецам из наблюдений за солнцем и луной, он произвел сложнейшие расчеты движения светил по небосклону, вычислил их пути и последовательность дней. Наконец он удовлетворенно вздохнул и прошептал:
– Мы создадим прекрасный памятник богам, чудо в камне.
Придуманный Длухом хендж и в самом деле стал самым большим святилищем на острове. Первоначально хендж состоял из незавершенного круга голубых камней от шести до восьми футов высотой, но верховный жрец решил заменить их величественными монолитными глыбами – сарсенами – втрое выше обычного. Сарсены придется добывать в двадцати милях от Сарума. Непосредственно в центре сооружения, за алтарем, полукругом-подковой установят пять гигантских трилитов – обособленные группы из двух вертикально поставленных камней, покрытых третьим, – так, чтобы концы подковы открывались на северо-восток, строго по оси хенджа. Неоконченный круг голубых камней заменят кольцом из тридцати гигантских сарсенов и накроют их сверху массивными плитами, образуя замкнутый круг. Длух тщательно продумал каждую деталь своего плана, делая пометки мелом на кусках коры. Завершив работу, он созвал жрецов и объявил:
– План святилища готов. Теперь надо найти человека, который займется строительством.
Посовещавшись, жрецы приняли решение:
– Стоунхендж будет строить Нума.
Несколько дней спустя жрецы снисходительно разглядывали приближавшегося к хенджу Нуму-каменщика – приземистого и коренастого, в длинном кожаном переднике. Мастер, погруженный в задумчивость, неуклюже переваливался на ходу и размеренно кивал взлохмаченной тяжелой головой.
Мужчины в роду Нумы отличались высоким ростом, однако каменщика боги наградили куцым торсом и короткими кривыми ногами. Огромная нелепая голова сидела на широких плечах, как яйцо, а невозмутимое и безмятежное выражение лица делало Нуму похожим на истукана. Короткопалые широкие ладони казались обрубленными. Каменщик сторонился людей и разговорчивостью не отличался, однако, если дело касалось его любимой работы, он внезапно обретал удивительное красноречие и говорил громко, возбужденно размахивая руками. Впрочем, чаще всего он молча обращал к собеседнику по-детски доверчивый взгляд, что создавало у людей впечатление, будто каменщика легко обмануть.
Забавная внешность Нумы скрывала его острый ум и мастерство – в его семье все были прекрасными гончарами и плотниками. Короткие толстые пальцы творили чудеса. Каменщику было всего двадцать пять лет от роду, но он с ранней юности прославился на весь остров умением обрабатывать камень.
Нума очень обрадовался, что жрецы решили поручить ему постройку святилища, – от такой великой чести отказаться было немыслимо, – и он с гордостью выпятил грудь, намереваясь на деле доказать свое мастерство. Однако, выслушав указания жрецов, каменщик изумленно распахнул глаза, а на широком лбу выступила испарина. Завершить строительство святилища в невероятно короткий срок было немыслимо.
– Огромные камни? За десять лет? – в отчаянии воскликнул он.
Жрецы не стали слушать его возражений, и коротышка-каменщик задрожал от страха: он не справится с поставленной задачей, ведь для этого потребуется целая армия помощников и каменотесов! Жрецы невозмутимо смотрели на Нуму, и он понял, что его ждет, если святилище не будет построено в срок.
«Меня принесут в жертву богу Солнцу!» – сокрушенно по думал каменщик.
Он внимательно изучил рисунки Длуха, и на круглом лице проступил ужас.
– Такого еще не бывало, – пробормотал он, разглядывая огромные арки, а потом ткнул пальцем в рисунок и спросил: – Как это построить?
Судя по рисункам верховного жреца, массивные каменные плиты, уложенные поверх кольца сарсенов, должны быть слегка изогнутыми, чтобы образовывать замкнутую окружность. Можно ли с такой точностью обтесать тридцать гигантских камней?
– Это уже твоя забота, – ответили жрецы.
Нума горестно свесил голову: «Ох, не миновать мне жертвенного алтаря!» И все же другого выхода не оставалось – повеление жрецов следовало исполнить во что бы то ни стало. Придется придумать, как построить огромное святилище.
– Мне нужно пятьдесят каменщиков и каменотесов, – заявил Нума. – И еще работников… – Он лихорадочно подсчитывал, сколько людей понадобится для того, чтобы протащить громадные камни – каждый весом в тридцать пять тонн, а то и больше – из каменоломен двадцать миль по холмистой местности. – Пятьсот работников и упряжки с волами.
Жрецы невозмутимо согласились на все требования:
– Получишь и людей, и тягловых волов.
Нума сообразил, что за людьми и скотом придется присматривать, а он не сможет одновременно заниматься и строительством святилища, и обустройством жилья, и поиском провизии для работников.
– Мне нужен помощник, – заявил он.
– Выбирай кого хочешь.
Коротышка-каменщик, поразмыслив, объявил:
– Я возьму в помощники Тарка, из речного племени.
В пятиречье не было человека умнее Тарка – его уважали все обитатели Сарума. Многочисленные семьи, живущие у реки, держались особняком от землепашцев и скотоводов, а род свой вели от охотников и рыболовов, населявших местность в незапамятные времена. У многих представителей речного племени были мелкие черты лица, острый нос и длинные гибкие пальцы ног, совсем как у первобытного охотника Тепа. Семейства, расселившись по берегам пяти рек, промышляли рыболовством, охотой и торговлей и на всю округу славились хитроумием, проницательностью и смекалкой. В пятиречье их прозвали водяными крысами.
Как и большинство своих соплеменников, Тарк был смугл и темноволос, с длинными, необычайно гибкими пальцами ног. Высокий и стройный, он зачесывал назад густую шевелюру, а бороду коротко стриг и подпаливал. Черные глаза холодно поблескивали, когда Тарк вел торг или заключал сделки, но наполнялись нежным светом, когда он пел глубоким, мелодичным басом. Видный мужчина умел располагать к себе и нравился всем женщинам в округе. Он слыл преуспевающим торговцем, держал шесть лодок и артель под ручных и часто отправлялся в плавание на материк, откуда привозил рабов и особые товары, чтобы угодить Круну и жрецам, но в любых сделках прежде всего пекся о выгоде для себя. Он восхищался мастерством Нумы-каменщика, завел с ним дружбу и часто привозил ему подарки.
Нума понимал, что Тарк лучше всех справится с порученным ему делом.
– У тебя есть месяц на подготовку, – объявили жрецы каменщику. – Постройка святилища начнется в новолуние.
Жрецы, верные своему слову, призвали к работе сильных юношей из всех семейств округи – в строительстве хенджа приняла участие треть мужского населения пятиречья. По распоряжению Тарка у каменоломен соорудили амбары для зерна и начали валить лес – из стволов делали катки, на которых огромные камни перетаскивали к святилищу.
К концу месяца у Нумы забрезжила надежда. Все складывалось удачно. Тарк обрадовался возможности угодить жрецам, а каменщик с уверенностью смотрел в будущее и даже однажды заявил своему другу-торговцу:
– Похоже, мы успеем вовремя.
Подготовка к строительству шла полным ходом. Тем временем Нума размышлял о том, как лучше всего обтесать камни, чтобы они плотно прилегали друг к другу и образовывали правильное кольцо, в соответствии с замыслом Длуха. Раздумья привели его неожиданно к гениальному решению.
В конце месяца Нума пришел к жрецам доложить о ходе подготовительных работ и восторженно заявил:
– Камни надо обтесывать прямо в каменоломне и уже готовыми волочить к святилищу.
Жрецы удивленно уставились на коротышку-каменщика: предполагалось, что каменные глыбы будут оттаскивать к месту строительства и там обтесывать их до готовности.
– Нет, это глупо, – настойчиво повторил Нума. – Во-первых, обтесанные сарсены тащить легче, а во-вторых, если обрабатывать их в святилище, то придется избавляться от гор щебня.
– Значит, каждый камень сначала обтешут в каменоломне и только затем поволокут в святилище? – изумленно воскликнул один из жрецов. – Мало ли что случится за день пути!
– Ничего страшного, – невозмутимо ответил Нума и показал жрецам свои рисунки.
Каменщик предложил обтесывать плиты перекрытия по деревянному шаблону, чтобы добиться единообразия, а для закрепления плит придумал очень необычный способ.
– На верхушке каждого стоячего камня надо оставить небольшие выступы-шипы, а в нижней части каждой плиты следует выдолбить углубления-гнезда, – объяснил Нума жрецам. – Точно так же работают с бревнами плотники. А чтобы камни легче было устанавливать, вершину стоячих камней сделаем чуть вогнутой, а нижнюю поверхность плиты – чуть выпуклой, чтобы не соскальзывала.
– Такое соединение будет очень прочным, – заметил один из жрецов.
– Да, – радостно закивал Нума. – Наше святилище будет нерушимо, как брачные узы.
Жрецы удовлетворенно переглянулись – такой величественный хендж наверняка понравится богам.
Узнав о задумках каменщика, Длух возрадовался; впрочем, сейчас его больше всего занимали поиски новой жены для вождя – Круну срочно требовался наследник. Долгие месяцы верховный жрец обдумывал загадочное повеление богов, но ответа не находил. Лишь вера в могущество всесильного бога Солнца удерживала Длуха от отчаяния. Где найти девушку, увенчанную золотом? Что вообще означает это предсказание? Может быть, боги намекали, что новой женой Круна будет дочь племенного вождя? У некоторых племен существовал обычай украшать золотым обручем девушек знатного рода. Однако это объяснение Длуха не устраивало – он полагал, что боги имели в виду иное. Гонцы из Сарума обошли все соседние племена, но подходящей невесты не отыскали.
– Золотым краем называют Ирландию, – вспомнил один из жрецов постарше. – Там много золотых дел мастеров. Возможно, новая жена вождя будет оттуда родом?
Поразмыслив, Длух решил послать гонца в далекие земли на западе. Молодой жрец по имени Омних вызвался отправиться в опасное путешествие.
– О верховный жрец! – воскликнул юноша, возбужденно сверкнув глазами. – С твоего позволения и по воле бога Солнца я доберусь до Ирландии и привезу Круну новую жену.
Длух принес в жертву двух баранов. Три дня спустя куррах нагрузили щедрыми дарами и юный Омних с тремя спутниками отправился в дорогу.
Вернулись они только через два года.
За два года каменотесы Нумы обработали десять гигантских сарсенов. Крун воспрянул духом. Он несколько раз являлся в святилище, следил за ходом строительства, начал выезжать на охоту и снова делил ложе с верной Айной. Поначалу многострадальная жена вождя обрадовалась, тревога на ее лице сменилась удовлетворением, но шли месяцы, и Круна обуяло нетерпение. Он ждал новой жены, и у губ Айны залегли горькие складки, а плечи уныло поникли. Длух, обеспокоенный здоровьем вождя, однажды спросил у Айны, как Крун себя чувствует.
– Он здоров, – вздохнула она. – Только поскорее бы новую жену привезли!
Крун, измученный ожиданием, не раз нетерпеливо хватал верховного жреца за руку и просил:
– Принеси в жертву богу Солнцу еще одного барана, чтобы Омних вернулся с новой женой для меня.
Всякий раз Длух исполнял просьбу вождя и сурово напоминал ему:
– Не отчаивайся. Боги будут довольны новым святилищем и сдержат свое обещание.
– Поторопи строителей, – настаивал Крун. – Время идет, я старею.
Лишь изредка сумрачные годы ожидания освещал луч надежды, будто солнце выглядывало из-за туч, нависавших над возвышенностью поздней осенью и ранней весной.
Работа в каменоломнях продолжалась круглый год, лишь изредка прерываемая ненастьем. Впрочем, место, откуда брали камень для строительства, строго говоря, не было каменоломнями – громадные глыбы сарсенов не выкапывали из-под земли, а брали с поверхности. Огромные валуны лежали на пустынных склонах холмов и издали казались неподвижным стадом серых овец.
Там Нума проводил каждый день. С раннего утра и до темноты коротышка-каменщик в длинном кожаном переднике объяснял рабочим, как именно надо обтесывать камни. Несмотря на несуразный вид, он держался со спокойным достоинством, и все его приказания беспрекословно исполнялись.
Работники – и те, кто обрабатывал камень, и те, кто валил лес, – круглый год жили в шалашах. Четыре раза в год, в дни летнего и зимнего солнцестояния и осеннего и весеннего равноденствия, с разрешения жрецов Тарк приводил в поселок рабынь, и лучшим работникам давали два дня отдыха. Жрецы не позволяли строителям святилища общаться с женщинами, однако на второй год было объявлено, что Нуме-каменщику за его славные труды боги разрешили взять жену.
– Нет у меня времени жену искать, – раздраженно буркнул каменщик, хотя мысль о жене ему понравилась.
Однажды весенним утром он отправился за советом к своему приятелю Тарку.
– Мне нужна женщина, – сказал Нума.
Тарк понимающе усмехнулся – сам он был женолюбом, кроме жены, держал рабынь для постельных утех и не раз предлагал их приятелю, заверяя, что жрецы об этом не узнают. Каменщик объяснил Тарку, что ему нужна не просто женщина, а жена, и торговец, внимательно выслушав друга, серьезно ответил:
– Приходи через три дня, я что-нибудь узнаю.
Слово свое он сдержал – за три дня выяснилось, что многие достойные семейства в округе сочтут за честь породниться с искусным мастером-каменщиком, строителем священного хенджа. Перечислив достоинства и недостатки каждой девушки, Тарк заключил:
– Лучше всех – Катеш, дочь Пандеха-горшечника, с западной реки. Пандех рад услужить жрецам и отдаст дочь всего за пять шкур, хотя за нее уже предлагали двадцать.
– Что, так хороша собой? – изумился Нума.
– Да, я видел ее. Черноглазая, волосы густые, длинные, а фигура… – Тарк сделал непристойный жест и рассмеялся. – Завидую я тебе.
Через два дня, когда Пандех гордо вывел дочь из хижины, Нума удостоверился в правоте слов торговца. Тринадцатилетняя Катеш оказалась настоящей красавицей: сияющие черные глаза, молочно-белая кожа, черные волосы до пояса, ладная фигура. Девушка была чуть выше Нумы и стояла скромно потупившись, хотя в ее позе сквозило что-то вызывающее. Впрочем, это каменщику понравилось.
Нума поговорил с отцом Катеш, чувствуя, как красавица украдкой смотрит на него, и немедленно принял решение.
– Я возьму ее в жены, – сказал он горшечнику.
Спустя несколько дней Нума с Тарком отправились к Пандеху, вручили ему пять шкур, и каменщик забрал девушку. Они медленно спускались в лодке к месту слияния пяти рек, Тарк мелодично насвистывал, а каменщик сидел, глупо улыбаясь своей удаче.
Нума привел Катеш в северную долину, где стоял его дом. Девушка, как полагается жене, пожарила мясо и испекла пшеничные лепешки, а после ужина каменщик порывисто схватил ее в объятия. Она молча высвободилась, скинула с плеч бесформенное одеяние из домотканой шерсти – такие носили все женщины, – обнажила упругую пышную грудь и с вызовом посмотрела на своего мужа, словно оценивая, сможет ли он ее удовлетворить.
В последующие месяцы Нума не переставал восхищаться своей красавицей-женой, и даже строители святилища добродушно подшучивали над кривоногим коротышкой, глядя, как он каждый вечер торопится домой.
Катеш тяготилась выпавшей ей участью. Среди окрестных земледельцев было много желающих взять в жены бойкую и жизнерадостную красавицу, но ее отец, стремясь заручиться благоволением жрецов, отдал ее странному каменщику.
– Говорят, он ростом не вышел и видом невзрачен, – всхлипывала она.
– Он лучший каменщик острова, к нему даже жрецы с почтением относятся, – убеждал ее отец.
– А вдруг он мне не понравится?
– Хуже будет, если ты ему не понравишься, – строго сказал горшечник.
Встретившись с каменщиком, Катеш и вовсе отчаялась. Нума заметил, что она украдкой его разглядывает, но не подозревал, какое отвращение в ней вызывает.
«Ох, какой урод! – думала Катеш. – Ниже меня, ноги кривые, голова огромная, пальцы как обрубленные… Нет, притерпеться можно, но он весь какой-то… нелепый. Как же его полюбить?»
Всю ночь она рыдала, прощаясь с мечтами о прекрасном муже, а утром кинулась умолять родителей, но все напрасно.
– Отец тебе завидного мужа нашел, – сказала мать, грустно покачав головой.
Через несколько дней, когда каменщик принес назначенный выкуп – до смешного малый, – Катеш, обливаясь горькими слезами, спряталась в амбаре, так что родителям пришлось ее разыскивать и вести чуть ли не силой. На прощание мать дала дочери суровое напутствие:
– Тебе уже тринадцать. Ты взрослая женщина, сможешь убедить мужа, что ты его любишь. Вдобавок твой долг – во всем ему повиноваться. Если поступишь иначе, тебе худо придется.
В последующие годы Катеш выполняла материнский наказ, но в тот ясный, солнечный день, в лодке на пути к новому очагу, девушка глядела на высокие гряды холмов, окружавшие Сарум, и думала, что ей всю жизнь суждено промучиться с постылым мужем.
Однако же, памятуя о словах матери, каждую ночь Катеш покорно отдавалась каменщику. Нума гордился своей мужской силой, и ему не приходило в голову, что жене могут быть не по нраву его неуклю жие ласки. Впрочем, мысль о том, что ее красота приводит мужа в возбуждение, доставляла Катеш некоторое удовольствие, но больше всего ее устраивала возможность проводить дни в одиночестве. Ночи приходилось терпеть.
Несколько раз Нума приводил ее в святилище, где полным ходом шло строительство – древние священные камни заменяли громадными новыми сарсенами. Работники жадно разглядывали Катеш и ухмылялись, а она с отвращением представляла себе их сальные шутки и проклинала богов за то, что ей в мужья достался кривоногий коротышка, полюбить которого она не могла.
Примерно в это же время Нума-каменщик сделал поразительное открытие. Чтобы лучше понять замысел жрецов, он соорудил небольшую деревянную модель нового святилища с точным соблюдением всех пропорций. Жрецы подтвердили, что именно так они и представляют себе новый хендж, однако каменщику что-то в конструкции не нравилось, хотя он и не понимал, что именно. Он целыми днями разглядывал деревянный макет и наконец сообразил, в чем дело.
Последующее поведение Нумы весьма обеспокоило Катеш – она решила, что муж окончательно утратил рассудок, – и доставило немало радости соседским ребятишкам. Каждый вечер при свете лучины каменщик выстругивал крошечные деревянные арки и собирал из них маленькие хенджи. На закате и на рассвете он устанавливал странные сооружения на траву перед домом, сам ложился рядом и пристально рассматривал их на просвет.
– Эй, ты такой большой, а с игрушками возишься! – кричали дети, подбегали к Нуме и прыгали вокруг, опрокидывая деревяшки.
Каменщик добродушно ворчал, ласково отгонял ребятню и опять начинал составлять деревянные арки по кругу.
– Да они у тебя кривые! – заметила однажды Катеш.
Спустя месяц каменщик прекратил свои странные занятия и отнес жрецам первоначальную модель хенджа и свои арки.
– В замысле нового святилища есть изъяны, – без обиняков начал Нума, расставляя деревяшки по кругу. – Смотрите, при свете солнца ровные столбы, накрытые поперечными плитами, кажутся неустойчивыми, верх словно бы перевешивает. Но если стоячие камни вверху чуть сузить, то они будут выглядеть ровными, прямыми сверху донизу, – объяснил он изумленным жрецам и в доказательство развернул кусок коры с изображением. – Надо строить вот так.
Впоследствии греки назовут этот выразительный архитектурный прием энтазисом – созданием оптической иллюзии, зрительного эффекта, придающего стройность вертикальным сооружениям, – такой высокий уровень строительного искусства не обнаружен ни в одном доисторическом монументе на территории Европы.
Следующей весной Катеш сказала Нуме, что ждет ребенка. Лицо каменщика озарила счастливая улыбка.
– Когда я стану отцом? – спросил он.
– По моим подсчетам, к Первозимью или чуть позже, – ответила Катеш, радуясь, что угодила мужу.
– Родится мальчик, – уверенно заявил Нума и гордо напыжился. – Будет каменщиком, как я.
Он отнес жрецам овцу, дабы принести ее в жертву и призвать на первенца благословение богов. На строительство святилища он приходил в хорошем настроении, а каждый вечер часами сидел в хижине, удовлетворенно рассматривая набухший живот жены.
Наступила осень, и Нума с нетерпеливой радостью ожидал приближения зимы. Тем временем обитатели Сарума отчаивались – юный жрец Омних до сих пор не объявился.
– Где моя новая жена? – гневно вопрошал Крун.
– Потерпи, боги обязательно сдержат свое обещание, – успокаивал его верховный жрец, хотя сам томился ожиданием.
– А вдруг Омних утонул? Сгинул в пути? Надо другого жреца послать, – мрачно настаивал вождь.
Длух внутренне признавал правоту слов Круна. В народе росло недовольство.
– Если Омних не вернется к Первозимью, то придется отправить на поиски еще жрецов, – кивнул он и пообещал: – К зимнему солнцестоянию у тебя будет новая жена.
Поздней осенью, чтобы подбодрить и своих жрецов, и строителей святилища, Длух посетил каменоломни, где работа шла полным ходом.
День выдался пасмурный и ветреный. Кое-где сквозь тяжелые, низкие тучи пробивались солнечные лучи, резко освещая сумрачную, пустынную равнину. Порывы студеного северо-западного ветра вздымали пыль над торфяными болотами и швыряли острую каменную крошку в лица жрецов и работников.
Нума, растрепанный и чумазый, повалился ниц к ногам верховного жреца, а потом, поднявшись, отряхнул длинный кожаный передник и отправился показывать гостям выполненную работу.
За прошедший год каменотесы совершили невероятное: три огромных сарсена уже подготовили к отправке в святилище, завершалась обработка еще нескольких камней. Жрецы направились к громадному валуну – шириной семь футов и длиной в десять человеческих ростов, – у которого суетились каменотесы.
– Это будет самый высокий стоячий камень, – гордо заявил Нума, похлопав серый бок валуна. – Сейчас ему будут придавать форму, откалывая лишнее, – объяснил он.
По всей длине валуна продолбили глубокий желоб и точно по этой линии разожгли костры, подбрасывая в них хворост длинными жердями. Когда камень раскалился едва ли не добела, а воздух вокруг задрожал от жара, Нума велел принести воды. Работники бы стро притащили кожаные бадьи с холодной водой и опорожнили их в желоб, над которым тут же взвились клубы пара.
– Быстрее, быстрее! – торопил сородичей каменщик.
Каменотесы выливали воду из ведер и поспешно отскакивали в сторону, чтобы не обвариться. Через несколько мгновений раздался резкий треск, и со всех сторон послышались восторженные возгласы: по всей длине огромного валуна, в точном соответствии с выдолбленным желобом, пробежала трещина. Этим трудоемким способом древние каменотесы успешно раскалывали камни любой величины.
Затем Нума показал жрецам и другие работы в каменоломне. Повсюду лежали валуны в разных стадиях готовности, и каменщик тщательно следил за ходом их обработки. Вначале сарсены вчерне обивали тяжелыми округлыми булыжниками из той же породы, понемногу стирая поверхность в пыль и придавая столбам желаемую форму, а затем начиналась более тонкая работа.
– Видите, точные удары наносят в одном и том же направлении, сверху вниз, начиная с вершины и по всей длине камня. Таким образом мы добиваемся единообразия поверхности сарсенов.
И действительно, обработанные камни были по всей длине покрыты тоненькими бороздками – когда сарсены установят на площадке святилища, то свет будет отражаться от ребристой поверхности, дополняя величественную картину.
Только теперь, любуясь массивными сарсенами, Длух в полной мере осознал, каким искусным мастером своего дела был Нума.
Внезапно к ним подбежал запыхавшийся мальчишка.
– О верховный жрец! – вскричал он. – Немедленно возвращайся в Сарум, Крун захворал!
Крун был при смерти. В тот же день, когда верховный жрец отправился в каменоломни, вождя сразила внезапная хворь – его знобило, хотя по телу разливался жар. Послали за жрецами, но Крун чувствовал себя все хуже и хуже, и никакие снадобья не помогали. Он лежал на соломенной подстилке, обливаясь по том; по измученному телу пробегала легкая дрожь, кожа приобрела землистый оттенок, ввалившиеся глаза потускнели, недвижный взор обратился к потолку.
Прихода Длуха вождь не заметил. Верховный жрец понял, что жить вождю осталось недолго. У края подстилки тенью сидела Айна. Верная жена Круна превратилась в согбенную старуху с дряблым телом и жидкими седыми космами. На впалых морщинистых щеках блестели дорожки слез.
Длух склонился к вождю, что-то тихонько зашептал, но Крун его не слышал.
– Он умирает, – сказала Айна, утирая пот со лба вождя.
– Боги не допустят его смерти, – уверенно возразил жрец.
Айна промолчала.
В словах Длуха особой уверенности не ощущалось, он произнес их лишь для того, чтобы утвердиться в вере, полагаясь на всемогущих богов. Ему были ведомы травы, изгоняющие хворь из плоти, но исцелить дух ни один знахарь не в силе. И все же Длух приготовил снадобье из пахучей вербены, самой действенной из трав, вознес молитву богам, обтер ароматной смесью чело вождя и смочил его пересохшие губы. Увы, за ночь хворь не отступила.
Двое суток Крун пребывал на грани смерти. Верховного жреца охватило отчаяние: неужели боги лишили Сарум своего благословения? Неужели новое святилище пришлось им не по нраву? Длух не знал, что и думать.
Слух о недомогании Круна разнесся по всем долинам пятиречья. Жители Сарума приуныли – никто не знал, что случится после смерти вождя. Повсюду царила мрачная, напряженная тишина. Над некогда благословенной местностью нависла страшная угроза.
Спасение пришло неожиданно: вернулся Омних с новой женой для вождя.
По реке медленно плыл большой белый куррах – в два раза больше лодки, в которой юный жрец отправился в опасное путешествие. Мудрый Омних, памятуя о пророчестве богов, увенчал девушку золотым обручем, с которого ниспадала кружевная сеть, спле тенная из золотых нитей. Девушка стояла на носу курраха, чтобы ее видели все обитатели окрестных деревень. Новая жена вождя была высокой и стройной, с пышной грудью и широкими бедрами, однако красотой не блистала – длинноносая, с невыразительными серыми глазами и изрытой оспинами кожей. И все же дочь ирландского вождя происходила из знатного рода, женщины которого отличались плодовитостью – и мать, и бабушка произвели на свет по двенадцать детей.
Омних хорошо подготовился к возвращению – он научил девушку языку, на котором говорили жители Сарума, и объяснил ей, чего от нее ожидают. Девушка покорно выслушала жреца и, судя по всему, поняла свою задачу.
О радостном событии заговорили все. Верховный жрец лично вышел встречать куррах и проводил девушку на холм, к дому Круна, удовлетворенно отметив, что новая жена вождя хорошо запомнила наставления Омниха и прекрасно сознает свое предназначение. Она со спокойным достоинством приблизилась к постели Круна и, не обращая внимания на Айну, решительно объявила:
– Меня зовут Раха, я твоя новая жена. Ты выздоровеешь, и я рожу тебе наследника.
С самого детства Крун больше всего любил древний праздник Первозимья – его отмечали с незапамятных времен. Жрецы, пользуясь солнечным календарем, вычислили, что начало зимы приходится на тридцать девятый день после осеннего равноденствия, но все знали, что ритуальное празднование священного дня зародилось в глубокой древности. Обряды совершались не в святилище, а в доме каждого земледельца – в конце осени забивали скотину, готовясь к зимним холодам, и в эту ночь богов просили благословить поля и даровать им плодородие. Поговаривали, что в день, когда бог Солнце погружается в сон, из могил выходят духи.
Присутствие жены, рожденной в неведомых землях на западе, странным образом вернуло вождю силы. Лицо его посвежело, взгляд прояснился, и теперь в нем сквозила надежда и уверенность в завтрашнем дне.
На третьи сутки после выздоровления Крун признался верховному жрецу:
– После гибели моих сыновей я утратил веру в богов… Мне жить не хотелось.
Длух задумчиво кивнул:
– Если Крун умрет, то и Саруму не выжить. Но теперь…
– А теперь хоть я и ослаб, но мне есть ради чего жить.
Выздоровление вождя казалось настоящим чудом. Раха и Айна не отходили от Круна ни на шаг. Новая жена была немногословной, но каждый день, пристально глядя вождю в глаза, настойчиво повторяла, будто заклинание:
– Ты поправишься.
Ее уверенность придавала Круну силы.
– Она знает, что я поправлюсь, – объяснил он верховному жрецу. – Ее мне боги послали.
На пятый день Длух объявил:
– Пора подумать о свадьбе.
– Свадьбу сыграем в ночь Первозимья, – ответил вождь. – Это богам по нраву придется.
Свадебный обряд состоялся в доме Круна на закате солнца. При свете лучин, свечей и факелов в просторном помещении собрались представители двадцати самых значительных родов Сарума.
– Подойдите, – велел верховный жрец вождю и его новой жене.
Крун с Рахой послушно выступили вперед. Длух с удовлетворением отметил, что к вождю будто вернулись силы и молодость.
Верховный жрец начал обряд с традиционного приглашения:
– Входи, Зерновица!
Старая Айна и ее прислужницы торжественно внесли в дом странный предмет в два локтя длиной – примитивный символ плодородия, сплетенную из пучков соломы женскую фигуру с тяжелыми грудями и широко раскинутыми ногами. Зерновицу осторожно уложили на скамью в центре.
– О бог Солнце, благослови Зерновицу и надели ее плодородием! – воскликнул Длух.
– Надели ее плодородием! – хором повторили гости.
После этого Айна с женщинами, пританцовывая, трижды обошли вокруг скамьи. Каждый круг завершался глубоким поклоном.
Следующая часть обряда напомнила верховному жрецу о том, что предстоит исполнить Круну. Длух взял тяжелую, потемневшую от времени дубинку и положил ее между раскинутых ног Зерновицы.
– Мы пахали, мы сеяли, а теперь урожай соберем! – дружно воскликнули мужчины.
Айна с женщинами снова трижды обошли вокруг скамьи, громко хлопая в ладоши.
На этом обряд закончился, а чучело оставили на скамье до следующего захода солнца.
Длух подвел к скамье Круна и его новую жену.
– О бог Солнце, могущественнейший из богов, ты, что даруешь жизнь, свет и тепло! – воззвал верховный жрец. – Скрепи своим благословением союз этих людей и надели их многочисленным потомством!
Все громко захлопали в ладоши, а Длух увенчал Раху золотым обручем и провозгласил:
– Ты избранница богов.
Вождь Крун посмотрел на соломенное чучело, ласково взглянул на верную Айну и обратил изумленный взор к новой жене. Ночь Первозимья, волшебная ночь, когда даже бог Солнце засыпал крепким сном, наполняла Круна почти забытым ощущением счастья. Восторженное возбуждение горячей волной разлилось по телу вождя, и он воспрянул духом.
На этот раз и сам Крун, и верховный жрец уверовали, что полоса несчастий в Саруме подошла к концу.
Несколько дней спустя в скромной хижине посреди северной долины случилось событие, обрадовавшее коротышку-каменщика больше, чем известие о новой жене вождя. У Нумы родился сын – круглоголовый крепыш, большеглазый и короткопалый, как отец. Каменщик поднес младенца к свету и внимательно осмотрел.
– Ха, руки-то отцовские! Прекрасным каменщиком станет, – удовлетворенно хмыкнул он, отдал ребенка Катеш и ласково потрепал ее по голове. – Ты мне еще много каменщиков народишь.
Катеш слабо улыбнулась.
В полнолуние, пока еще не грянули первые морозы, в хижине каменщика устроили пиршество. Нума расстелил перед входом камышовые циновки, и Катеш расставила на них знатное угощение – молочный поросенок, зажаренный на вертеле над углями, пшеничные лепешки, спелые ягоды, а еще кувшины темного эля и сладкого хмельного напитка, который делали из пчелиного меда, собранного в лесу. На пиршество Нума пригласил своих лучших каменотесов, родственников Катеш, своего приятеля Тарка и, разумеется, жреца, ведь только жрецам ведомо, каким именем назвать ребенка.
Перед заходом солнца младенца вынесли из хижины и показали жрецу, серьезному юноше в тяжелом одеянии из бурой некрашеной шерсти. По обыкновению служителей бога Солнца, голову он брил, оставляя надо лбом узкий треугольник волос, острым углом спускающийся к переносице. Жрец молча осмотрел ребенка, потом перевел взгляд на взволнованное лицо коротышки-каменщика и, внезапно утратив суровость, улыбнулся:
– Сын похож на отца, а потому имя ему – Нумати.
Имя означало одновременно и «подобный Нуме», и «человек камня». Гости, оценив шутку, разразились возгласами одобрения, и пиршество началось.
Наконец, когда от выпитого меда гости захмелели, Тарк-рыбак глубоким выразительным басом затянул песню. Все с радостью к нему присоединились, вразнобой выкрикивая то охотничьи песенки, то скабрезные частушки. На смуглых щеках Тарка вспыхнул яркий румянец.
– А теперь споем малютке колыбельную, – объявил рыбак и тихонько начал выводить медленную, ритмичную мелодию, которая вилась в прохладном воздухе, будто струйки дыма от угасающего костра.
В древнем чарующем напеве говорилось о заповедном лесе, полном птиц и зверей, что рос на дне моря. Тарк обвел затуманенным взором счастливые лица гостей и мечтательно уставился вдаль.
Поздним вечером Нума и Катеш распрощались с гостями.
– Твой приятель замечательно поет, – заметила Катеш.
Коротышка-каменщик согласно закивал нелепой головой, удовлетворенно вздохнул и погрузился в сон.
Три дня спустя Нума решил, что настало время перетаскивать обработанные сарсены из каменоломни в святилище: схваченный морозом грунт затвердел, и по нему легче было волочить массивные камни.
– До первого снега полпути успеем проделать, – сказал он. – А может, и по снегу получится проволочь.
Каждый обтесанный сарсен установили на деревянные салазки, а вдоль предполагаемого пути уложили штабеля ровных бревен – толстые стволы поваленных в лесу деревьев служили деревянными катками. В работе по перевозке камней принимали участие пятьсот крепких мужчин и сотня воловьих упряжек.
Работники трудились не покладая рук, а вот волы упрямились, к вящему раздражению Нумы.
– Волы куда упрямее людей, – заметил один из жрецов, выслушав жалобы каменщика.
Нуме со вздохом пришлось признать, что жрец прав.
С парой волов в упряжке совладать легко, но, чтобы сдвинуть с места громадный сарсен, требовалось двадцать, а то и тридцать упря жек. Могучие животные справились бы с задачей, если бы действовали согласованно, но добиться этого не представлялось возможным. Каменщику пришлось отказаться от своего замысла и использовать волов лишь для того, чтобы помогать мужчинам, тянущим веревки из скрученных кожаных ремней, втаскивать сарсены на склоны холмов.
Вдобавок оказалось, что салазки под тяжестью сарсена намертво увязают в снегу, поэтому работу пришлось отложить до весны.
Вскоре после весеннего равноденствия Раха объявила, что ждет ребенка. Обитатели Сарума возрадовались.
Новую жену Круна все считали странной: она была неразговорчивой, ни на что не жаловалась, ничего не просила, не обзавелась ни друзьями, ни врагами, но от вождя не отходила ни на шаг. На остальных женщин в доме Круна Раха не обращала внимания, ничем их не обижала, а словно бы не замечала их присутствия. Некоторых это задевало, но верная Айна терпеливо сносила такое поведение. Теперь, когда Раха понесла, все надежды Сарума возлагали только на нее.
Длух часто размышлял, счастлива ли она. Впрочем, это никого не волновало. Раху привезли сюда из неведомых краев, потому что так повелели боги, и она покорно исполняла свое предназначение.
Крун лучился счастьем. Казалось, он черпал силы в новой жене и всякий раз, глядя на ее разбухший живот, радостно восклицал:
– Тебя мне боги послали!
Лето выдалось на удивление благодатным; наступили ясные жар кие дни, на склонах холмов в пятиречье заколосились хлеба, обещая богатый урожай. Круна это обнадежило: похоже, Сарум вернул себе милость богов. За месяц до летнего солнцестояния Нума приступил к возведению первой гигантской арки-трилита в Стоунхендже.
Коротышка-каменщик был доволен жизнью: жена родила ему прекрасного сына, строительство нового святилища продвигалось быстро, да и вождь вскорости обзаведется наследником – воистину боги с улыбкой взирали на долины и холмы пятиречья.
После родов Катеш стала вспыльчивой и раздражительной, но Нума не придавал этому значения: она была хорошей женой, вкусно готовила, отлично шила одежду из кожи и мехов и во всем остальном заботилась о муже, хотя на его ласки отзывалась без особых восторгов. Впрочем, каменщика это не останавливало – его восхищало крепкое, ладное тело молодой жены. Она любила сидеть у костра перед хижиной, дожидаясь возвращения Нумы, и всякий раз приветствовала мужа ласковой улыбкой, а он нетерпеливо хватал Катеш в охапку и уносил в дом.
Иногда каменщик проводил в каменоломнях целый месяц, а Катеш в одиночестве возделывала делянку на склоне холма, ухаживала за ребенком и изредка встречалась с соседками, мужья которых тоже трудились в каменоломнях. Строительство святилища шло полным ходом, и Катеш никогда не жаловалась на отлучки мужа.
Да, она была хорошей женой.
Иногда, после долгого отсутствия, Нума спрашивал Тарка-рыбака:
– Скажи, чем мне обрадовать Катеш?
Тарк отправлялся в гавань на берегу залива, где выменивал у заморских торговцев украшения или связки разноцветных бусин, а потом объяснял приятелю:
– Женщины любят такие вещи.
Нума вручал подарок жене, та заливалась довольным румянцем, а коротышка-каменщик счастливо улыбался.
Однажды в начале лета, возвращаясь из каменоломен, Нума спо ткнулся об узловатый корень боярышника, торчащий на тропе, и едва не упал. Рядом с корнем валялся серый камешек размером с кулак: на нем, к изумлению Нумы, были заметны следы грубой резьбы – когда-то камню придали форму коренастой женщины с широкими чреслами и тяжелой грудью. Нума с удовольствием обнял фигурку короткопалыми широкими ладонями – она словно бы символизировала изобилие и плодородие.
– Наверное, неизвестный резчик очень любил эту женщину, – пробормотал Нума, засовывая каменную фигурку в кожаный кошель на поясе.
В углу хижины каменщика уже набралась целая груда необычных предметов – кремнёвые наконечники стрел и копий, россыпи разноцветной гальки и камешки странной формы. Нума часто их разглядывал, пытаясь понять, какие силы их сформировали. К этим предметам теперь добавилась и каменная фигурка Акуны, созданная охотником Ххылом несколько тысяч лет назад.
Итак, Нума приступил к возведению первых арок-трилитов в Стоунхендже. Установка огромных сарсенов была весьма непростым делом. Сначала требовалось выкопать яму на глубину, равную длине той части камня, которую следовало закопать, потом подтащить к яме сарсен так, чтобы конец его свешивался с края, и обвязать другой конец веревками и канатами. Затем двести человек, разбившись на две группы, приводили гигантский сарсен в вертикальное положение – одна бригада тянула веревки, перекинутые через высокую бревенчатую перекладину, а вторая подкладывала под камень бревна, чтобы он не завалился назад. Когда камень наконец соскальзывал в яму, ее с отчаянной быстротой начинали заполнять щебенкой, которую затем утрамбовывали. Камни самого высокого трилита зарыты в землю на глубину восемь футов.
Громадные плиты перекладин, весившие несколько тонн, необходимо было поднять на высоту двадцать футов. Поначалу строители не знали, как это сделать, однако Нума подсказал им решение:
– Надо уложить плиту у подножия будущих опор, подсунуть под нее слой бревен, а потом рядом уложить бревна в два слоя, крест-накрест и перевалить плиту на них, затем добавить еще один слой бревен, обвязать для прочности веревками, и так постепенно наращивать помост, пока не поднимем перекладину на нужную высоту, вровень с верхом опоры. После этого останется только сдвинуть перекладину, чтобы ее гнезда легли на шипы вертикальных камней.
Нума взял пучок прутиков и плоскую гальку и наглядно показал, что имеется в виду. Под руководством каменщика перекладины установили на место, и к празднику солнцестояния в центре хенджа красовались две арки трилитов.
В день солнцестояния жители Сарума собрались в святилище, и со всех сторон послышались изумленные восклицания.
– Наш храм – великое чудо, – говорили люди.
Год выдался урожайным. Крун счастливо улыбался, а Раха гордо выпячивала тяжелый живот.
– Боги смилостивились, – заметил вождь верховному жрецу, и тот согласно кивнул.
Прошло лето, наступила ранняя осень, и тут грянула беда.
До завершения постройки святилища оставалось шесть лет – Луна вступила в тринадцатый год своего цикла. Однажды теплым осенним вечером Длух пришел в гости к вождю, и они негромко беседовали у дома на холме. Внезапно из дома раздался жуткий крик, и мужчины вбежали внутрь.
Родовые схватки у Рахи наступили раньше времени. Длух посмотрел на роженицу и понял, что случилось несчастье. Та ночь навсегда осталась в памяти верховного жреца: разгневанный Крун сыпал проклятиями, Длух отчаянно взывал к богам, Айна молча обнимала несчастную Раху, стараясь облегчить ее мучения. Вождь побледнел и, шатаясь от горя, вышел из дому. Роженица истекала кровью; кровь покрывала постель, пол и даже стены, будто в доме вождя принесли кровавую жертву богам. Раха умерла, не выжил и ребенок, вышедший из ее утробы. Вместе с ними умерла и надежда на благосостояние Сарума.
Айна, сокрушенно качая головой, взяла на руки окровавленное безжизненное тельце, а служанки, рыдая над телом Рахи, осыпали его священными травами. Верховный жрец не смог сдержать подступивших слез.
Он навсегда запомнил кровь; запомнил он и лицо вождя.
Крун одиноко сидел в амбаре при свете двух свечей. Бледное, помертвевшее лицо вождя ничего не выражало – ни гнева, ни отчаяния. Невидящими глазами Крун уставился на верховного жреца. Длух понял, что вождь потерял рассудок от горя.
В то лето в долине у реки произошел еще ряд событий, впрочем не столь значительных.
Однажды ясным летним днем, когда Катеш играла с малышом на бере гу неподалеку от хижины, на реке показалась лодка Тарка – рыбак вез Нуму из святилища.
Медленное течение колыхало длинные ленты водорослей, поверхность реки рябила, отбрасывая солнечные блики. Катеш умиротворенно вздохнула и, закрыв глаза, подставила лицо теплым солнечным лучам. Упитанный младенец радостно гукал у ее ног.
Катеш, хорошо помня материнский наказ, старалась ублажать мужа. В общем, жаловаться ей было не на что: сына она обожала, а к нелепой внешности Нумы притерпелась… Соседки часто улыбались, глядя на коротышку, но всегда добавляли:
– Повезло тебе, Катеш, твой муж – прославленный мастер-каменщик.
Катеш издалека заметила лодку Тарка. Нума сидел, повернувшись против течения, а рыбак греб, сильными размеренными взмахами весла толкая лодку вперед. Женщина невольно сравнила двух мужчин: своего мужа, коренастого большеголового коротышку, и Тарка – высокого, стройного, с широкой грудью и мускулистыми ру ками. Внезапно Нума показался Катеш чужаком, а Тарк… Она и сама не понимала, что ей вдруг привиделось, и изумленно глядела на лодку.
Нума с радостным восклицанием спрыгнул на берег, обнял жену и схватил сына в охапку.
– Вот погляди, какой у меня каменщик растет! – гордо сказал он Тарку и повел всех в хижину.
Обычно Катеш видела Тарка только издалека, когда он проплывал по реке к торжищу у гавани. Нума всегда с уважением отзывался о своем приятеле, а от соседок Катеш знала, что Тарк слывет женолюбом; впрочем, ее это не удивляло. Но сейчас, вблизи, его присутствие чем-то смущало женщину.
Нума торопливо ушел в хижину, а Катеш с Тарком остались стоять у входа. Хорошей жене следовало предложить гостю воды, накормить его пшеничными лепешками и скромно усесться чуть поодаль, не поднимая глаз, но Катеш растерянно молчала, заливаясь стыдливым румянцем под оценивающим взглядом рыбака.
Тарк, ласково улыбаясь, смотрел на юную жену каменщика, словно понимая, о чем она думает. Он хорошо помнил и жалел темноглазую белокожую красавицу. «Зря я Нуме про нее рассказал, – думал он. – Он и не представляет, что женщине нужно для счастья. Вот и сейчас бегает по хижине, камень какой-то ищет!» Что ж, жалей не жалей, ничего не поделаешь.
Нума вышел из дому, гордо неся на короткопалой широкой ладони каменную фигурку, найденную под корнями боярышника.
– Вот, погляди! Мастерски вырезано, правда?
Тарк внимательно осмотрел фигурку, длинными тонкими пальцами ощупал древнее изображение и признал правоту слов своего приятеля.
– Древний резчик любил свою женщину так же горячо, как я люблю свою жену, – заявил Нума, обнимая Катеш за талию.
Тарк неожиданно встретился взглядом с Катеш. Она поспешно отвела глаза и все оставшееся время не смотрела на мужчин. Что-то в Тарке смущало ее – то ли воспоминания о глубоком выразительном голосе и мечтательном взоре рыбака, то ли стройная фигура, широкие плечи и сильные руки, то ли само его присутствие. Катеш, понимая, что Тарк догадался о ее чувствах, с облегчением вздохнула, когда он ушел.
– Хороший у меня приятель, правда? – спросил Нума.
– Слишком высокий, – ответила Катеш.
– Ну и что, зато другим женщинам нравится, – рассмеялся каменщик.
– Мне больше мой муж по нраву, – вздохнула она и обняла его.
Катеш по-прежнему выходила к реке – не очень часто, но и не очень редко. Примерно месяц спустя Тарк причалил к берегу и заговорил с Катеш. Лодка его была полна товаров: рыбак вез их из гавани в хендж.
– Ты это все у чужеземных торговцев купил?
– Да, они из дальних краев товары привезли, – кивнул Тарк и принялся показывать ей свою добычу: яркие ткани с далекого юга, бронзовые ножи с севера, богато изукрашенные пояса – творения искусных восточных мастеров.
Катеш восхищенно выслушала его и, забыв о смущении, спросила:
– А ты тоже бывал в дальних краях?
– Не везде, – ответил Тарк.
Он переступил через борт лодки и, усевшись на берегу рядом с Катеш, начал рассказывать о своих путешествиях через пролив, о чужеземных торговцах и о неведомых странах. Катеш слушала Тарка словно зачарованная, а когда он уплыл, проводила лодку задумчивым взглядом.
После этого Тарк часто причаливал к берегу у хижины каменщика и подолгу беседовал с Катеш. Со временем она невольно стала сравнивать ловкого и обходительного рыбака со своим мужем: жизнь Тарка была полна приключений, а коротышка-каменщик только и знал, что сновал, как жук, от каменоломни к хенджу и обратно в каменоломню, а говорил лишь о своих сарсенах. Долгими летними днями Катеш сидела на берегу с Нумати и смотрела на белых лебедей в заводи – когда птицы легко взмывали в небо, то грациозные изгибы длинных шей и мощный размах крыльев чем-то напоминали ей о рыбаке, который без страха пересекал море.
Однажды летним днем Катеш взяла Нумати и вышла посидеть на берегу. Она наелась пшеничных лепешек, накормила сына, и он уснул на коленях матери. Катеш осторожно переложила малыша на траву, а сама улеглась рядом и задремала, убаюканная тихим плеском волн. Солнечные лучи согревали ей щеки.
Вздрогнув, она проснулась. Солнце сдвинулось с прежнего места над верхушками деревьев, но все еще стояло высоко над головой. Ребенок исчез. Катеш испуганно огляделась: Нумати не мог отползти далеко. Неужели он упал в реку? Катеш побежала вдоль берега, пристально вглядываясь в воду и с холодеющим сердцем думая: «Он утонул, водоросли утащили его на глубину… Я его не найду!»
Оказалось, что Нумати заполз за куст, шагах в двадцати от места, где они уснули, и теперь сидел на берегу. Катеш бросилась к сыну, но он наклонился и, будто нарочно, соскользнул в воду. Его тут же подхватило течением и понесло вдаль.
С горестным воплем Катеш прыгнула в реку, изо всех сил стараясь удержаться на плаву, и длинные пряди речных водорослей тут же опутали ей руки и ноги мягкими, но прочными петлями. Малыш покачивался на воде совсем рядом, но Катеш не могла до него дотянуться. Она отчаянно завопила.
Лодка Тарка с невероятной скоростью обогнула излучину. Рыбак, услышав крики, налег на весла, и легонькое суденышко помчалось по реке. Он сразу понял, что случилось, подгреб к ребенку, стремительно выхватил его из воды и отвез на берег. Убедившись, что малыш не захлебнулся, Тарк бросился на помощь Катеш, которая не могла высвободиться из водорослей. Он торопливо подплыл к ней, обхватил ее сильными руками и выволок из воды. Катеш обессиленно поплелась к ребенку, заметив, впрочем, и влажный блеск смуглой кожи Тарка, и сверкающие капли в его черной бороде.
Добравшись до хижины, Катеш торопливо завернула малыша в шерстяное одеяло, а Тарк развел костер у входа и невозмутимо принялся сушить свою одежду. От кожаной куртки повалил пар. Катеш, запинаясь и дрожа от испуга, стала невнятно благодарить Тарка, но он лишь добродушно рассмеялся:
– Река опасна и непредсказуема, как женщина. Будь с ней поосторожнее.
Он откинул со лба мокрые черные пряди, пригладил бороду, задумчиво посмотрел на Катеш и встал. В порыве благодарности Катеш потянулась к нему. Он ласково сжал ее руку. По телу Катеш пробежала доселе неведомая дрожь возбуждения.
Тарк все понял и промолчал, лишь придвинулся ближе. Катеш, закинув голову и приоткрыв дрожащие губы, неотрывно смотрела на него. Внезапно он перевел взгляд ей за плечо и дружелюбным голосом воскликнул:
– Нума, как ты вовремя пришел! Твой сын учится плавать!
Коротышка-каменщик торопливо спускался из хижины к реке.
После того как Нума распрощался с приятелем, он повернулся к жене и сказал:
– Хоть ты Тарка и не привечаешь, он нашему сыну жизнь спас. Он верный друг и хороший человек.
Катеш, напуганная случившимся, старалась не думать ни о Тарке, ни о том впечатлении, которое он на нее произвел. На берег реки она больше не выходила, а Тарк, хотя и часто проплывал мимо хижины, встреч с Катеш не искал.
Прошло лето. Через два месяца после летнего солнцестояния жрецы объявили о начале сбора урожая. В северной долине урожай собрали быстро, и Катеш отправилась на соседскую делянку помочь вязать снопы – Нума в очередной раз ушел в каменоломни.
Работа в поле Катеш нравилась, а за детьми они с соседкой присматривали по очереди. Когда связали последний сноп, женщины ушли готовить праздничный ужин. На закате солнца к костру потянулись мужчины, а с берега раздался приветственный крик, и хозяин делянки привел к дому нового гостя:
– Поглядите, кто к нам приехал! Будет у нас настоящий праздник урожая, с песнями, как полагается.
Из-за его плеча выглянул ухмыляющийся Тарк.
Катеш, не сдержавшись, посмотрела на него. Хотя они уже давно не встречались, по телу женщины снова пробежала восторженная дрожь. К счастью, Катеш сидела в тени, а все остальные глядели на рыбака, и никто этого не заметил.
На темном небе высыпали звезды. Все собрались у костра, и Тарк начал петь. Мужчины с удовольствием ему подпевали – то скабрезные частушки, то хвалебные песни об охотничьей удаче.
– А теперь – колыбельная, – сказал Тарк и затянул свою любимую песню – напевную, грустную мелодию.
Слова колыбельной рассказывали о незапамятных временах, о заповедном лесе, полном птиц и зверей; а потом боги, устав от птичьего гомона и звериного рыка, накрыли лес глубокими водами, будто огромным одеялом, и теперь только изредка в шуме волн слышны голоса птиц и зверей.
Спи, малыш, спи, родной! Спит дубрава под водой, В глубине птицы спят, Тихо ветви шелестят…Звуки глубокого выразительного голоса всколыхнули в Катеш неведомые прежде чувства.
– Ах, как хорошо! – вздохнула она.
Спи, малыш, спи, родной! Там, на дне, спит зверь лесной, Птичий щебет на волнах Слышен только в сладких снах…Катеш тихонько раскачивалась в такт чарующей мелодии и пыталась разобраться в своих чувствах: ей нравилось сильное, гибкое тело Тарка, нежный голос и мечтательный взгляд. Она взяла на руки спящего Нумати, незаметно ушла в хижину и, уложив ребенка в колыбельку, села у порога, под небом, усеянным звездами. Ее преследовали неотвязные мысли о Тарке.
Чуть погодя с реки послышался тихий плеск весел. Катеш всмотрелась в темноту, но лодку не разглядела.
Тарк появился на тропе внезапно, ступая бесшумно, как дикий зверь. Катеш непроизвольно подалась ему навстречу, забыв о муже и сыне.
– Ты знала, что я приду? – прошептал он.
Катеш, ахнув, прильнула к нему.
– Я для тебя колыбельную пел, – признался он, обнимая ее и увлекая за собой в хижину.
Целый месяц Нума провел в каменоломнях и только в последний день лета решил вернуться в Сарум. Он собирался выйти сразу после полудня, чтобы засветло добраться домой, но припозднился. По дороге он дважды останавливался передохнуть. С наступлением сумерек в роще завыли волки, однако Нуму это не испугало.
До вершины холма, ведущего в долину, каменщик добрался глубокой ночью. Темное небо затянули облака, лишь кое-где сверкали звезды. Луна еще не взошла, и на траве поблескивала роса. С пастбища на взгорье тянуло овечьим навозом, над хижинами в долине вились дымки костров. Каменщик, предвкушая встречу с женой, позабыл об усталости и закричал во весь голос:
– Катеш! Катеш! Нума вернулся!
По долине прокатилось эхо, залаяли собаки. Коротышка довольно усмехнулся и торопливо зашагал по тропе. У входа в хижину горел костер, освещая поляну, сама хижина и роща за ней оставались в тени. Где-то по соседству лениво гавкнул пес, и все стихло.
– Катеш! – радостно заорал каменщик – и тут увидел, как из хижины выскользнул какой-то человек, перебежал поляну и скрылся за деревьями.
Нума рассеянно заморгал и вгляделся в темноту: ему показалось, что он различил знакомую фигуру и характерную походку приятеля. Сердце Нумы отчаянно забилось, и он ворвался в хижину.
Едва Катеш с Тарком обнялись, как до них донесся голос Нумы.
Катеш отпрянула и испуганно прошептала:
– Уходи, скорее!
Она заставила себя успокоиться, но чувство стыда не отпускало. Катеш не могла понять, отчего поддалась преступной слабости. Нума ворвался в хижину и гневно уставился на жену:
– Кто к тебе приходил?
– Здесь никого не было, – пролепетала Катеш, мотая головой.
– Нет, здесь кто-то был, я сам видел! – заорал каменщик и выбежал из хижины в рощу.
Верховный жрец не сомневался, что Крун обезумел от горя, но успокоить его не мог – слишком свежи были воспоминания о потоках крови в доме вождя. Увы, оставалось лишь надеяться, что рассудок вернется к Круну.
После смерти Рахи вождь неожиданно спросил Длуха:
– Правда, что богиня Луна покровительствует охотникам?
Жрец ошарашенно уставился на Круна – даже малые дети знали, что бог Солнце покровительствует земледелию и скотоводству, а богиня Луна – охоте.
– Отвечай, жрец! – потребовал вождь.
– Да, покровительствует.
– А еще она охраняет мертвых, верно?
– Верно, – кивнул Длух.
Опять же, всем было известно, что богиня Луна охраняет могилы предков на взгорье.
Крун печально огляделся и вздохнул:
– Мой дом – жилище мертвых.
Жрец молчал – сказать ему было нечего.
– Вы, жрецы, начинаете каждое обращение к богам со слов: «Бог Солнце, ты, что даруешь жизнь…» – Вождь с размаху стукнул кулаком по стене и воскликнул: – А Круну бог Солнце даровал только смерть!
Длух бросился успокаивать вождя, но тот не умолкал, гневно сверкая налитыми кровью глазами:
– Раз Круну дарована смерть, он ее примет! Отныне мы будем молиться не богу Солнцу, а богине Луне. И Сарум назовем не благословенным поселением, а обителью смерти!
Жрец заикнулся было, что незачем хулить богов, но Крун его не слушал.
– И жертв богу Солнцу не смей приносить! – орал вождь. – Бог Солнце над Сарумом больше не властен. Только богиня Луна достойна наших жертв, и новое святилище мы строим для нее.
Длух решил, что от горя вождь помутился рассудком, но Крун, помолчав, хрипло спросил:
– Где Омних?
– В святилище, – ответил Длух.
– Он привез мне новую жену из Ирландии, обещал, что она родит мне наследника… – простонал вождь. – Омних меня обманул!
– Ты с ума сошел! – воскликнул верховный жрец.
– Омних заслуживает смерти.
О таком кощунстве невозможно было даже помыслить.
– Омних – жрец, – напомнил Длух. – Служители богов неприкосновенны.
Крун уставился вдаль невидящим взглядом. Верховный жрец вздохнул и вышел из дома вождя.
Длух не верил, что Крун осмелится нарушить священные заповеди богов, но на всякий случай отправил жреца в леса на западе Сарума, в сутках пути по реке. На следующий день слуги Круна явились в святилище за Омнихом и вернулись к вождю ни с чем. Крун взъярился и призвал к себе Длуха.
– Куда ты спрятал Омниха?! – заорал вождь.
Длух промолчал, видя, что Крун по-прежнему безумствует.
– Ты тоже решил меня предать? – пробормотал вождь.
– Нет, я не предам ни тебя, ни богов, – печально ответил верховный жрец.
– Боги меня предали! – настойчиво повторил Крун. – Отдай мне Омниха.
– Нет! – решительно ответил Длух.
Вождь осыпал его проклятиями.
На следующий день Длух отправил Омниха к горам Уэльса, в дальнее святилище, надеясь, что там юноша будет в безопасности.
В последующие пять лет Длух не раз опасался, что Крун замышляет убийство всех жрецов. Безумие вождя темной пеленой накрыло пятиречье, и обитатели Сарума жили в постоянном страхе. Весть о случившемся разнеслась по всему острову и за его пределы; даже чужеземные торговцы опасались путешествовать вверх по реке.
– Сарум – обитель мертвых, – говорили они.
Так оно и было. Спустя месяц после смерти Рахи умерла и верная Айна. Крун помрачнел еще больше, перестал выходить из дому и сидел в одиночестве, не допуская к себе близких и родных. Он ожесточился, признавал только власть богини Луны, с подозрением относился к окружающим и каждый день заставлял слуг выведывать, о чем говорят не только обитатели пятиречья, но и жрецы в святилище.
– Ты язык-то придержи, Крун услышит, – опасливо наставляли жен мужья.
Вождь запретил любые чествования бога Солнца – ни дни солнцестояния, ни праздники равноденствия отмечать было нельзя. Вместо этого каждый месяц совершались обряды, посвященные богине Луне. Длух воспротивился было такому порядку, но Крун возмущенно заявил:
– Если не желаешь поклоняться богине Луне, новому святилищу не бывать!
Длух для виду смирился, однако продолжал наставлять жрецов:
– Терпите, и воздастся вам по заслугам. Пройдут лихие времена, мы построим святилище, и воля богов будет исполнена.
Вдобавок он приказал, чтобы обряды в честь бога Солнца совершались по-прежнему, хотя и втайне. Сам он часто взывал к божеству:
– О бог Солнце, дай мне силы перетерпеть темные времена, наставь руку мою!
Больше всего верховного жреца угнетали бесконечные жертвоприношения. Крун, наотрез отказавшись от помощи жрецов, утверждал, что повинуется лишь воле богини Луны. Раз в три месяца слуги вождя приводили к нему какую-нибудь девушку из окрестных селений. Поначалу жители Сарума считали это за честь и надеялись, что вождь наградит семью счастливицы. Увы, они не подозревали, чем обернется выбор Круна. В течение трех месяцев девушке приходилось под неустанным присмотром денно и нощно обхаживать и ублажать вождя. Из дому ее не выпускали, обращались хуже, чем со скотиной, а если запуганной бедняжке не удавалось забеременеть, ее приносили в жертву богине Луне.
Поначалу Длух отказывался исполнить требование вождя.
– Богиня Луна мне благоволит, исполняет мои желания, не то что твой бог Солнце! – взъярился Крун. – Не хочешь, я сам убью девчонку, но тогда святилища тебе не видать!
Потом, чуть успокоившись, вождь потрепал Длуха по плечу и напомнил:
– Саруму нужен наследник. Сам видишь, я старею, времени у нас не осталось.
Длух печально согласился, не зная, что на это возразить. Как бы то ни было, девушке лучше закончить жизнь на алтаре святилища, чем погибнуть от руки вождя, – боги сразу отправляли души жертв к умершим предкам, в священные земли.
Итак, каждые три месяца жрецы совершали жертвоприношение, строительство святилища продолжалось, а слуги Круна находили вождю новую жену. Обитатели Сарума пытались прятать дочерей, но вездесущие лазутчики Круна стали врываться в хижины по ночам, угрожающе размахивая каменными топорами, и уводить девушек.
Крун все больше и больше походил на хищную птицу. Голова его совершенно поседела, но мощи своей он не утратил, однако появилось в нем нечто жестокое и бесчеловечное: от неугодных ему наложниц он избавлялся так же легко, как от ненужной скотины.
Никто в Саруме не обрадовался восходу кроваво-красной луны, предвестницы нового урожая.
– Это Крун напоил Луну кровью, – шептались повсюду.
Ни одна из девятнадцати наложниц вождя не забеременела. Их всех принесли в жертву.
Лазутчики донесли Круну, что жрецы тайком совершают обряды в честь бога Солнца. Вождь призвал к себе Длуха и отчитал его:
– Ты прогневил богиню Луну! Из-за тебя мои наложницы остаются бесплодны.
Верховный жрец мысленно попрощался с жизнью, однако даже в ярости Крун не осмелился поднять руку на верховного жреца. Длух неожиданно сообразил, что вождь наверняка опасается гнева бога Солнца.
Строительство Стоунхенджа продолжалось, но работники приуныли. Лазутчики Круна сновали повсюду, над меловыми утесами больше не слышались хвалебные песнопения в честь бога Солнца, и даже каменотесы Нумы горестно бормотали:
– Боги прокляли Сарум. Напрасно мы строим святилище, от него толку не будет.
Все чаще и чаще жрецам приходилось пускать в ход плетки, чтобы заставить работников волочить громадные сарсены к хенджу. Однако же Нума невозмутимо продолжал свои труды и подбадривал каменотесов. Величие нового святилища понемногу становилось очевидным, но по ночам верховный жрец, оставшись в одиночестве, в отчаянии взывал к небесам:
– О бог Солнце и богиня Луна, пошлите мне знак, что вы благосклонны к нашим стараниям!
Вот уже пять лет Крун безумствовал. Алтарь святилища принял очередную, девятнадцатую жертву – юную девушку, почти ребенка, темноволосую и темноглазую, с пухлыми алыми губами. Длух помнил, как ее, напуганную до полусмерти, привели в дом вождя, где бедняжка изо всех сил старалась угодить Круну, который с бесстрастной холодностью принимал ее ласки. Считалось, что напуганная женщина легче беременеет, однако наложницам Кру на страх не помогал. Когда клинок священного бронзового ножа кос нулся горла бедняжки, в наивном взгляде верховному жрецу почудился вопрос: «За что?!» Ответа у Длуха не было.
Катеш не знала, когда именно в ней вспыхнуло запретное, мучительное чувство. Может быть, в тот самый день, когда Тарк отвез ее из родительского дома в хижину Нумы? Помнится, тогда рыбак всю дорогу тихонько напевал какую-то песенку. Смотрел ли он на Катеш?
Нет, вряд ли это случилось в тот день.
Может быть, это произошло, когда Катеш украдкой поглядывала на мужчин, занятых обсуждением строительства святилища? Рыбак, высокий и стройный, запрокидывал голову и заливисто смеялся, подставляя солнцу четко очерченные губы – смотреть на него было приятно, не то что на неуклюжего коротышку Нуму.
Нет, вряд ли это случилось в тот день.
Скорее всего, это произошло тем вечером, когда жрец дал имя малышу Нумати. Тарк мелодичным, выразительным голосом пел песни у костра, а Нума опустил тяжелую голову на плечо жены и захрапел… Вот тогда она и посмотрела прямо в глаза рыбака – такие ясные и понимающие.
Нет, это случилось не в тот день.
И не в тот день, когда Тарк вытащил Нумати и Катеш из реки.
А вот когда сбор урожая подошел к концу, она точно знала, что Тарк к ней придет, хотя весь день они даже не взглянули друг на друга. С тех самых пор муки тайной страсти стали для Катеш самым прекрасным чувством на свете.
В ту, первую ночь Нума что-то заподозрил, но не отыскал ни следа Тарка в роще, ни лодки на реке. В конце концов он решил, что ошибся, и успокоился.
После смерти Рахи в Саруме воцарилось уныние. Катеш избегала встреч с Тарком и старалась во всем угодить мужу. Несколько раз она даже побывала в святилище, где с изумлением взирала на установленные сарсены. Строители уже возвели четверть задуманного числа арок. Каменщик деловито сновал по святилищу, отдавая приказания.
– Мой муж – великий человек, – во всеуслышание объявляла Катеш, почтительно следуя за Нумой по хенджу.
Прошла зима, наступила весна. Катеш присматривала за младенцем, обходительно прислуживала мужу и даже поверила, что и думать забыла о Тарке.
Летом, когда Крун отправил на алтарь четвертую жертву, Нума отправился в каменоломни и провел там два месяца.
Завидев Тарка на тропе у хижины, Катеш сначала решила спрятаться, но потом набралась смелости, вышла на порог и вежливо поздоровалась.
– Я принес весточку от Нумы, – учтиво начал Тарк. – Он проведет в каменоломне еще месяц. Работы много.
Катеш кивнула: все знали, что Крун недоволен жрецами, и каменщик не хотел, чтобы его обвинили в недобросовестной работе.
– Спасибо, Тарк, – ответила она и, по обычаю, предложила гостю еды и питья.
Рыбак, словно услышав мысли Катеш, уселся поодаль и начал рассказывать о строительстве хенджа, о событиях в гавани и об участи наложниц вождя. Поначалу Катеш слушала его рассеянно, но затем ей стало любопытно, и она засыпала Тарка вопросами. Что говорят о Саруме торговцы? Довольны ли жрецы строительством святилища? Беседа затянулась почти до вечера. Тарк ушел, когда солнце начало клониться к закату.
Через два дня он пришел снова, и на этот раз Катеш держалась приветливее.
Еще через два дня, в сумерках, она услышала плеск весла на реке, и поняла, что это Тарк.
Они пылко поцеловались и вошли в хижину, но Катеш медлила – перед ее взглядом возник образ мужа. Если она поддастся своей страсти, то больно ранит Нуму, а боги наверняка пошлют ей ужасное наказание. Задрожав, Катеш отвернулась, боясь посмотреть на Тарка, но не устояла, торопливо сбросила одежду и, обнаженная, бросилась к нему в объятия с криком:
– Избавь меня от мук!
Пылкая тайная связь продолжалась все лето и осень, пока Нума занимался доставкой сарсенов из каменоломни в святилище. Катеш как одержимая наслаждалась ласками Тарка, запоминая каждую его черточку. Иногда она с дрожью вспоминала о неминуемой каре богов и гневе мужа, но страх исчезал при мыслях о заливистом смехе рыбака, его нежном взгляде и ласковом голосе. Ей хотелось родить Тарку ребенка, сбежать с ним за дальние моря, но Катеш понимала, что это невозможно. В мрачные дни правления Круна ей оставалось только предаваться запретной страсти и страшиться неведомого будущего.
– Теперь повсюду лазутчики и соглядатаи, – говорила она Тарку. – Если нас увидят, то обязательно доложат жрецам…
– Не волнуйся, – успокаивал ее рыбак, – я очень осторожен, о нашей связи не узнают.
Если муж мог представить жрецам доказательства неверности жены, то, по обычаям Сарума, женщину приносили в жертву богам, а ее соблазнитель должен был заплатить дань оскорбленному мужу. При мысли об этом Катеш сокрушенно качала головой и стенала:
– Почему боги не дали мне другого мужа?!
Тарк совершенно не походил на неуклюжего коротышку-каменщика. Иногда он откидывался на спину, потягиваясь, будто кот, а Катеш с восторженным вздохом усаживалась на него сверху; он лениво улыбался, а она ритмично двигалась над ним, выгибая спину и довольно постанывая. Она обнимала его, заглядывая в сонные глаза, и нежно укачивала, как ребенка. В отличие от Нумы, Тарк был с ней нежен и ласков, раз за разом заставляя ее стонать от возбуждения в его объятиях.
Когда каменщик возвращался домой, Катеш всем своим видом показывала, что рада его приходу, и по-прежнему старалась его ублажать. Терзаясь угрызениями совести, она клялась себе, что прекратит преступную связь с Тарком, но всякий раз, встречаясь с рыбаком, поддавалась порыву страсти.
В начале зимы оказалось, что Катеш ждет ребенка. Нумы уже месяц не было дома. Уж теперь-то кары богов не миновать!
– Он обо всем узнает! – вскричала она и горько зарыдала при мысли о страшной участи, ждущей ее за нанесенное мужу оскорбление. – Меня ждет смерть на священном алтаре!
Тогда Тарк и посоветовал ей, что делать.
На следующий день Нума с удивлением увидел своего приятеля, который решительно шагал навстречу упряжкам, волочащим сарсены по меловым грядам. Тарк подошел к каменщику и отвел его в сторону.
– Давай я тебя сменю, – сказал рыбак. – Работа в святилище движется медленно, тебе надо со строителями разобраться, пока жрецы не стали жаловаться.
Нума поблагодарил друга за совет и поспешил в святилище. Впрочем, намеренных задержек он не обнаружил, хотя заметил несколько ошибок и тут же указал строителям, как их исправить.
– Надо же, какой Тарк придирчивый! – довольно бормотал он, возвращаясь домой.
Катеш встретила мужа с распростертыми объятиями и бросилась готовить ему ужин. Нума посидел у костра перед хижиной, поиграл с сыном, а после ужина заметил, что Катеш глядит на него с необычным блеском в глазах. В ту ночь жена отдалась ему с неведомой прежде страстью. То же самое повторилось и следующей ночью. В Катеш словно бы вспыхнуло глубокое чувство, и удивленный каменщик обрадовался, восторженно потирая короткопалые руки. Он принялся рассказывать ей о своей работе на строительстве святилища, о трудностях обработки и передвижения огромных камней. К его изумлению, Катеш восхищенно внимала его рассказам, дотошно расспрашивала и просила подробных объяснений.
– Мой муж – самый лучший каменщик на острове! – то и дело восклицала она. – Все в Саруме о нем знают.
Нуме льстило уважение жены. Всю зиму Катеш ублажала его с невероятным пылом, и ее восторженные стоны возбуждали коротышку-каменщика еще больше. Ранней весной он заметил, что Катеш понесла. Нума удовлетворенно ощупал ее набухший живот и поцеловал жену.
– Я рожу тебе ребенка, – счастливо улыбаясь, прошептала Катеш.
В начале лета Нума отвел жрецам овцу, чтобы боги проявили милость к нерожденному младенцу.
Хотя в Саруме по-прежнему властвовал обезумевший вождь, отправляя своих наложниц на священный алтарь, Нуму переполняло счастье. Он часто приводил в святилище малыша Нумати, как две капли воды похожего на отца, и строители с улыбкой глядели на две нелепые фигурки, вперевалочку бродящие по хенджу. Нумати ловко лепил из глины всевозможные игрушки.
– Вырастет, станет мастером-каменщиком, – гордо заявлял Нума. – Во всем отца превзойдет.
Он подводил малыша к огромным сарсенам и подробно объяснял, как обтесывали и перетаскивали серых исполинов.
– Я научу тебя работать с камнем, – обещал он. – Будешь мне помогать, святилище вместе построим.
За долгие годы строительства Нума проникся любовью к величественному хенджу. Обычным людям не разрешалось входить за земляной вал, окружавший святилище, но мастеру-каменщику было позволено ступить в святая святых, и он с великим почтением взирал на таинства жрецов, что совершались в жертвенном круге, за широким меловым валом, рассеченным дорогой, что стрелой уходила к горизонту. С наступлением сумерек каменщики и работники расходились по домам, а Нума оставался и наблюдал за священнодействиями молчаливых служителей богов. На святилище опускалась волшебная тишина, дневной свет угасал, и темнеющие небеса куполом накрывали меловой круг и величественные сарсены.
Каждый день на рассвете жрецы отмечали место восхождения солнца и положение светила по отношению к пятидесяти шести деревянным столбам, вкопанным внутри мелового круга, ведя точный отсчет дням и месяцам года. Со временем и Нума постиг это искусство, но некоторые действия жрецов по-прежнему ввергали его в недоумение. В закатных сумерках жрецы с охапками колышков и мотками льняной бечевы уходили на взгорье, откуда всю ночь до самого рассвета наблюдали за звездами и за движением луны и планет, отмечая их положение колышками; протянутая между кольями бечева сплеталась в запутанную сеть.
– Странные они, эти жрецы, – изумленно вздыхал Нума, возвращаясь домой.
В середине лета Нума, разглядывая тяжелый живот жены, восхищенно заметил:
– Мальчик родится, еще один каменщик!
– А если девочка? – рассмеялась Катеш.
– Ну или девочка, – согласился он. – Такая же красавица, как ты!
Однажды Нума погладил живот жены и почувствовал, как брыкается ребенок.
– Надо же, какой сильный! – удивился каменщик. – Нумати был спокойнее. А когда малыш родится?
– Месяца через два, – пожала плечами Катеш.
– Нет, Нумати был спокойнее, – повторил каменщик.
Однако, вернувшись в святилище, он неожиданно сообразил, что Катеш ошиблась в сроках, – судя по положению солнца над полукругом пятидесяти шести столбиков, с возвращения Нумы из каменоломни прошло всего полгода, так что ребенок родится не через два, а через три месяца.
– Ничего, мы подождем, – ухмыльнулся он и, тут же забыв обо всем, поспешил к работникам.
В эти мрачные, безумные годы Длух обретал покой только по ночам. Он отправлялся на священное взгорье, к меловым могилам предков, и входил в величественный круг хенджа. Там, в тишине, под темным куполом ночного неба, на верховного жреца снисходило умиротворение. Именно тогда, несмотря на царивший в Саруме страх, Длух вершил свои самые точные расчеты и наблюдения за небесными светилами.
Звезды стали его верными спутниками и добрыми друзьями. Каждую ночь он рассматривал созвездия в вышине: Млечный Путь, что рассекал темный северный небосклон, будто меловая дорога, уходящая к горизонту; величавый Лебедь, Баран, Олень и Тур. Что бы ни происходило на земле, свет звезд неизменно оставался ясным, укрепляя веру Длуха в вечных богов.
Размеренное движение светил успокаивало и поддерживало верховного жреца. По настоянию Длуха вдоль мелового вала внутри святилища снова установили пятьдесят шесть деревянных столбов, в строгом соответствии с учением древних жрецов, которые за долгие годы тщательных наблюдений обнаружили священное значение этого числа – ведь именно пятидесяти шести дням равнялся промежуток между тремя солнечными годами и тремя лунными годами из тринадцати лунных месяцев. А промежуток между пятью солнечными годами и пятью лунными годами из двенадцати лунных месяцев опять же равнялся именно пятидесяти шести дням. Воистину, если чтить богов и послушно внимать их воле, то они откроют свои тайны посвященным.
Наблюдая за небесами, Длух точно рассчитал движение пяти звезд, вечно странствующих по небосводу. Древние звездочеты полагали эти звезды детьми бога Солнца и богини Луны, но не сумели выявить ни закономерность их движения, ни числа, которым они подчиняются. Ночь за ночью высокий, сухощавый жрец молча отмечал положение странствующих звезд колышками, протягивая между ними обрывки бечевы.
– Длух-паук снова заплел все своей паутиной, – шептали наутро жрецы.
Верховному жрецу удалось точно определить небесные пути двух звезд, но порядок движения оставшихся трех ускользал. На рассвете Длух, глядя на сияющий над горизонтом диск, радостно восклицал:
– О великий бог Солнце, Длух тебя не покинул! Тебя по-прежнему чтят в Стоунхендже!
Однако больше всего верховный жрец стремился постичь самую сокровенную тайну богов – разгадке этой тайны и были посвящены действия жрецов, так удивлявшие Нуму. Месяц за месяцем Длух, проведя свои вычисления, взволнованно расхаживал по святилищу и восклицал:
– Почему напрасны наши старания?! Отчего боги не хотят раскрыть нам свою тайну?! Чем они недовольны?!
– Многие поколения жрецов пытались постичь божественную мудрость, – напоминали ему жрецы. – Эта тайна не поддается объяснению.
Длуха это не устраивало. Тайна, которую он жаждал разгадать, была связана с самым загадочным и устрашающим небесным явлением – затмением солнца. В конце концов, если древние звездочеты смогли определить все пути солнца и луны по небосклону, почему бы не рассчитать и движения светил относительно друг друга?
Увы, несмотря на тщательность наблюдений, верховному жрецу не хватало основополагающих знаний. Он не подозревал, что Земля имеет форму шара и не догадывался об устройстве Солнечной системы, поэтому вычислить периодичность затмений был не в состоянии. Однако Длух привык во всем добиваться совершенства, а потому ночь за ночью отправлял жрецов совершать бесполезную работу.
– Я всю свою жизнь посвящу разгадке этой тайны, – упрямо бормотал он.
Отчего богиня Луна осмеливалась закрыть светлый лик бога Солнца? Тайна эта занимала жреца больше, чем строительство нового святилища.
К удивлению Нумы, жена разродилась на месяц раньше срока. Катеш протянула ребенка мужу и гордо пояснила:
– Девочка. Еще одного каменщика придется подождать.
Нума осторожно взял младенца на руки и недоуменно нахмурился: девочка была крепкой и здоровой. Вдобавок у нее было узкое личико и очень длинные пальцы. Совсем как у Тарка. Каменщик посмотрел на жену, а она со счастливой улыбкой встретила его взгляд. Нума отдал ребенка Катеш и вышел из хижины.
В глубокой задумчивости каменщик отправился на взгорье и там, глядя на величественные меловые гряды Сарума, хмуро размышлял, что делать дальше. Сомнений у него не оставалось: отцом ребенка был Тарк. Каменщик с глубокой обидой понял, чем объяснялась внезапная страсть Катеш, – жена знала, что понесла, а потому решила его обмануть. Он с отвращением расхаживал по гребню холма, задетый предательством жены и друга.
Домой он вернулся только вечером, так и не приняв никакого решения. Ужинал он в одиночестве, а потом долго сидел перед хижиной, раздумывая о случившемся.
Он знал, что по обычаям Сарума неверную жену полагалось отдать жрецам на заклание, а соблазнитель Тарк обязан был откупиться за нанесенную обиду щедрыми дарами. Однако такое наказание каменщика не привлекало: жену он любил и не желал ей смерти. Сам наказать Катеш он не мог: вместо того чтобы восхищаться его мастерством каменщика, все в округе станут потешаться над неуклюжим уродцем, которого жена обвела вокруг пальца. Нума сокрушенно поник; задетая гордость пересилила любовь к Катеш.
Чем больше он размышлял, тем явственнее видел внутренним взором своего приятеля Тарка, высокого красавца, любимца женщин. Почти всю ночь Нума неподвижно просидел перед хижиной, будто каменный истукан. Наконец он поднялся и медленно заковылял в дом.
Катеш крепко спала рядом с новорожденной дочерью. Нума с отвращением посмотрел на жену, склонился к малютке и ласково провел коротким пальцем по щеке девочки.
– Ты ни в чем не виновата, – прошептал каменщик, с улыбкой потрепал по голове спящего Нумати и улегся на соломенную подстилку, но снова вспомнил о Тарке и вздохнул: – Я отомщу!
Безлунной летней ночью меловой круг Стоунхенджа казался широко раскрытым всевидящим глазом, глядящим на россыпь серебристых звезд в темном куполе небес.
Верховный жрец в одиночестве стоял посреди священного круга и смотрел на знакомые созвездия, стараясь забыть о девятнадцатой наложнице Круна, принесенной в жертву на рассвете. До окончания строительства святилища оставался год.
В безлунную ночь невозможно проводить расчеты солнечных затмений. Длух вздохнул, потянулся и окинул взором звездный небосвод.
Внезапно на западной стороне созвездия Лебедя верховный жрец заметил яркую блуждающую звезду, за которой тянулся ореол света. Звезды-скитальцы были редкими гостями на небосводе, и древние звездочеты отмечали каждое такое появление и считали их предвестниками богов. Длух всмотрелся в звезду и заметил, что окружающий ее ореол был не серебристым, как говорилось в священных преданиях, а золотым.
– Звезда увенчана золотом! – воскликнул он и неожиданно сообразил, что это может означать.
Неужели пришло спасение? После многих лет разочарований жрец отказывался верить новому предзнаменованию. Всю ночь он следил за странной звездой, которая медленно двигалась по ночному небу.
На следующий день все обитатели Сарума увидели звезду, увенчанную золотом. Жрецы, собравшись в святилище, отмечали, как она движется и разгорается все ярче и ярче. На рассвете звезда переместилась к середине созвездия Лебедя и была видна даже после восхода солнца.
Верховный жрец понял, что пришло время доказать силу своей веры, и во всеуслышание объявил:
– Боги снизошли к мольбам своих верных жрецов и смилостивились над многострадальным Сарумом. Мы всегда поклонялись богу Солнцу и не переставали его чтить. О великий бог Солнце, прими в жертву тучного барана!
Рано утром в святилище явились гонцы от Круна – вождю не терпелось узнать, что означает сияющая звезда.
– Звезда увенчана золотом, – уверенно возвестил Длух. – Это знамение: милость богов вернулась в Сарум. Вскорости Крун обретет новую жену, которая родит ему наследников.
– Но откуда же явится эта новая жена? – изумленно спросили жрецы.
– Блуждающая звезда сияет в созвездии Лебедя, – объяснил Длух. – Всем известно, что именно в лебедя обращается бог Солнце, когда летит над морем. Значит, новую жену вождя надо искать у воды.
С тех самых пор, как Нума убедился в измене жены, он редко возвращался домой, объясняя свое отсутствие тяготами строительства. Катеш он ничем не попрекнул и по-прежнему дружелюбно обращался с Тарком. Однако поведение коротышки-каменщика несколько изменилось: с работниками он разговаривал резко и отрывисто, часто ограничивался кивками. Впрочем, все прекрасно понимали, какая ответственность возложена на забавного уродца, и послушно исполняли его приказания. Неоспоримое мастерство каменщика заслуживало глубокого уважения.
Нума зачастил в гавань, где покупал у заезжих торговцев наложниц и приводил их к себе в хижину у каменоломни. Если слухи об этом и доходили до Катеш, она не осуждала мужа.
Вскоре после появления кометы в небесах Нума в очередной раз отправился в гавань. Оказалось, что там, у причала с подветренной стороны холма, стоит корабль торговцев – прочное деревянное судно с двумя рядами весел. Корабль пришел из далекого порта на Атлантическом побережье Европы. На причале собралась толпа – жители долин спешили в гавань, чтобы поглазеть на чужеземцев и заморские товары.
Среди торговцев, худощавых и смуглолицых, выделялся их вожак – лысый кареглазый здоровяк с черной бородой, которая завивалась тугими кольцами. Ослепительная белозубая улыбка то и дело озаряла темнокожее лицо. Торговцы недаром называли вожака сладкоречивым – его мелодичный мягкий голос завораживал слушателей. На пальцах сверкали и переливались десятки золотых перстней.
Люди зачарованно смотрели на товары из неведомых краев: безделушки, богато изукрашенные драгоценными камнями, связки разноцветных бус, амфоры с вином и яркие ткани. Здоровяк прищелкнул пальцами, и торговцы послушно развернули здоровенную шкуру неизвестного зверя – огромная голова чем-то напоминала рысь, в разверстой пасти блестели грозные клыки, а при виде когтей Нума содрогнулся от страха. Больше всего удивлял невиданный доселе окрас меха – чередование рыжих и угольно-черных полос.
– Такой любого быка задерет, – пробормотал каменщик, изнывая от желания узнать, где водятся эти чудовищные хищники.
Впрочем, средиземноморские торговцы привозили немало удивительных товаров с далекого Востока к северным берегам.
После этого здоровяк дал понять зачарованным зрителям, что сейчас им покажут особый товар. Торговец гордо выпятил грудь и напыжился, издавая утробные восторженные восклицания и размахивая руками. Он предлагал на продажу удивительную рабыню чудесной, неземной красоты – дочь заморского вождя, пятнадцатилетнюю девственницу… В общем-то, работорговцы всегда нахваливали живой товар, но смуглолицый здоровяк делал это так умело, что люди на пристани затаили дыхание. Наконец, когда напряжение достигло предела, торговец снова щелкнул пальцами, и его спутники вывели на палубу девушку, с головы до ног укутанную в плотную тяжелую ткань. Торговец картинным жестом сорвал покров с рабыни, и все ахнули.
Обнаженная девушка стояла неподвижно. Под солнечными лучами волосы ее отливали золотом, а на бледном лице сияли огромные синие глаза.
Никогда прежде островитяне не видели светловолосых людей. Толпа изумленно молчала, а хитроумный торговец довольно усмехался.
Ошеломленный Нума взирал на чудесное видение. От прочих женщин красавицу отличали и прекрасная фигура, и светлая кожа, и высокая грудь, и мечтательные синие глаза, и, конечно же, рос кошные золотистые волосы. Необыкновенная девушка словно бы не принадлежала к человеческому роду, а была созданием самих богов.
– Волосы что ни на есть настоящие, – заверил торговец, в доказательство своей правоты сорвал с головы девушки несколько волосков и передал их для осмотра.
Красавица не вскрикнула от боли, а только поморщилась, не сводя взгляда с далекого горизонта. Она, уроженка одного из бесчисленных племен, кочевавших по бескрайним степям, простирающимся от Восточного Средиземноморья до Азии, попала в рабство год назад. Ее увезли на запад и продали торговцам в Юго-Западную Европу. Потом она переходила из рук в руки до тех пор, пока один из череды ее хозяев не сообразил, что темноволосые жители северного острова высоко оценят ее невиданную красоту.
Девушка вызвала в коротышке-каменщике бурю неведомых прежде страстей. Казалось, даже время не властно над ее красотой. В жилах Нумы вскипела кровь, он забыл о своем возрасте, о неверной жене, о неприхотливой жизни. Больше всего на свете ему хотелось обладать этим чудом.
Лысый здоровяк объявил о начале торгов, и каменщик, утратив всякий стыд, заорал во весь голос:
– Пять шкур! Пять!
Люди вокруг расхохотались – такая прекрасная наложница стоила гораздо дороже. Нума, не обращая внимания на насмешки, замахал руками и выкрикнул:
– Двадцать шкур!
Для него это было целым состоянием, но смех не умолкал.
Внезапно на причал вышел жрец, повелительным жестом остановил торги и решительно подошел к торговцу. Толпа почтительно расступилась. Жрец объявил лысому бородачу, что девушка – посланница богов и ее следует отвести в святилище. Торговец с поклоном согласился, зная, что жрецы заплатят ему хорошую цену, и красавицу торопливо завернули в покрывало.
Люди на причале разочарованно вздохнули, – наверное, в день освящения нового хенджа девушку принесут в жертву богам. Нума хотел было возмутиться, но вовремя сообразил, что это бесполезно, – против воли жрецов не осмеливался выступить никто. На глаза его навернулись невольные слезы.
Жрецы привели девушку к Длуху, сняли с нее покрывало, и золотистые волосы снова засияли под лучами солнца. Верховный жрец изумленно оглядел красавицу с головы до ног.
– Воистину она увенчана золотом, – наконец признал он и спросил девушку: – Откуда ты?
Наречия островитян девушка не знала и жестами дала понять, что родилась далеко на востоке, среди заснеженных гор. Она, как и многие чужеземные рабыни, называла себя дочерью великого вождя, погибшего в битве. Длух решил, что это похоже на правду.
Девушку отвели в дом на холме, к вождю.
– Вот о ком нам поведали боги, – без колебаний заявил верховный жрец. – Она родит тебе наследника. Боги смилостивились над Сарумом.
Крун восхищенно оглядел красавицу и, сорвав с ее головы волосок, спросил:
– Это и правда она?
– Да, – уверенно ответил Длух.
– Может быть, и так, – недоверчиво пробормотал вождь и улыб нулся, впервые за долгие годы. – Как ее зовут?
– Менона, – поразмыслив, ответил верховный жрец.
Имя означало «обещанная».
На следующий день Длух совершил традиционный обряд и объявил Менону женой вождя, но прежде обратился к Круну и потребовал:
– Принеси барана в жертву и признай, что бог Солнце – величайший из богов.
Круна почтительно склонил голову:
– Воистину.
Услышав такой ответ, верховный жрец понял, что безумие отступило.
Всю ночь Длух провел в святилище, глядя в небеса и клятвенно обещая никогда больше не подвергать сомнению всемогущество бога Солнца, а на рассвете принес в жертву барана.
К вождю словно бы вернулась молодость – он снова стал обходить свои владения, приглашал торговцев из гавани в дом на холме, отказался от лазутчиков, и жители Сарума без страха искали у него совета и справедливости.
Девушка и впрямь совершила чудо. Длух жестами объяснил ей, что она дар богов и что ей суждено родить на свет наследников великого вождя. Менона с достоинством кивнула. Участи своей она не противилась, в доме Круна ей нравилось больше, чем на торговом корабле или в рабстве. Верховный жрец теперь уже с уверенностью считал, что она на самом деле дочь вождя, потому что руки у нее были нежные, непривычные к тяжелому труду, а со слугами она обращалась, как и подобает женщине знатного рода.
Воистину она была даром богов. На наречии островитян она не говорила, но прекрасно понимала и исполняла все желания Круна, явно зная толк и в постельных усладах. Лицо старого вождя лучилось счастьем.
Теперь, когда опасность миновала, Омних вернулся из святилища в горах, и праздник осеннего равноденствия в Саруме провели с прежней пышностью, вознося молитвы богу Солнцу.
Тем летом жители пятиречья возрадовались, один только Нума отчаивался. Его обуял страх, словно пелена туч застила небеса, – строительство святилища задерживалось.
В задержке были повинны каменотесы. Вот уже два года Нума пытался ускорить обработку сарсенов, но безуспешно: мастера то хворали, то получали увечья, новых работников требовалось обучать, что отнимало время. Каменщик постоянно сновал между каменоломней и святилищем, подбадривал строителей, однако работа застопорилась.
Вот уже пять лет в хендже ощущалась острая нехватка сарсенов.
Все лето Нума подгонял каменотесов: громадные камни нужно было доставить в святилище к осеннему равноденствию, однако обработка сарсенов шла медленно. Строительство нового святилища следовало завершить к празднику летнего солнцестояния, но весной, по размякшему грунту, сарсены на место не перетащить.
– Придется волочить в хендж нетесаные камни, – заявил Нума. – Обработаем их на месте.
Жрецы, узнав о задержке, разгневались и обвинили каменщика в том, что он не выполнил волю богов, чем поставил под угрозу судьбу Сарума.
Длух сурово нахмурил брови:
– На строительство хенджа отправятся все мужчины Сарума. Задержка недопустима.
Жителям пятиречья объявили, что всякий мужчина, достигший пятнадцатилетнего возраста, лишается права обзаводиться семьей до тех пор, пока не отработает год на строительстве святилища.
Спустя три дня после праздника осеннего равноденствия в каменоломнях, под началом Тарка, собралось около тысячи мужчин.
Тарк, хоть и соблазнил жену друга, не утратил к нему уважения и старался помочь в беде. Он снабжал работников едой и жильем, подбадривал их и помогал составлять упряжки для перетаскивания массивных камней. От внимания Нумы это не ускользало, но коротышку-каменщика больше заботило другое: он до дрожи боялся непреклонных, холодных взглядов жрецов.
Из каменоломни к хенджу требовалось в две ходки перетащить десять сарсенов. Спустя четыре дня после осеннего равноденствия пять камней уложили на салазки и поволокли по меловым грядам.
За четыре дня до Первозимья сарсены дотащили в хендж, совершив трудное путешествие в невообразимо короткий срок. Теперь предстояло вернуться в каменоломни за оставшимися заготовками. На этот раз обессиленные упряжки работников волочили камни медленнее, несмотря на угрозы Нумы, подбадривания Тарка и побои жрецов.
В довершение всех бед повалил снег. Три дня бушевала вьюга, северо-восточный ветер собирал снег в огромные сугробы. Работники дрожали от холода в наскоро сооруженных шалашах, и на третий день начались обморожения.
Нума с ужасом следил, как снег засыпает деревянные катки, салазки и даже громадные сарсены, – два камня застряли на склоне, и их занесло почти полностью, так что пришлось втыкать в сугроб колья, помечая место. На третий день из снега торчали только верхушки кольев.
Когда буран прекратился, Нума окончательно впал в отчаяние: толстый слой снега покрыл равнину на многие мили вокруг, скрывая холмы и распадки. Мороз крепчал, и не оставалось ни малейшей на дежды на то, что снег растает, – скорее всего, он пролежит всю зиму, а весной талая вода пропитает грунт, и тяжелые камни на крепко увязнут. Каменщик торопливо подсчитал дни, оставшиеся на строи тельство, и понял, что к празднику летнего солнцестояния не успеть.
Наутро Длух послал на равнину трех жрецов. Они безмолвно приблизились к застрявшим сарсенам и оглядели заснеженные холмы.
– Как ты доставишь камни? – наконец спросил Нуму один из жрецов.
– Не знаю, – потупившись, ответил каменщик.
– Придумай что-нибудь, – велели жрецы и ушли.
Нума уныло смотрел себе под ноги, прекрасно понимая, какая участь его ожидает, если он не выполнит повеления жрецов.
Тем временем начали роптать измученные работники; от холода многие захворали, а один даже заплутал в буране и сгинул в снегу. Нума, не зная, что делать, попытался сдвинуть с места один сарсен, но все было напрасно – салазки вязли в сугробах. Даже шуточки Тарка больше никого не подбадривали. В конце концов каменщик решил отпустить работников домой, но жрецы ему не позволили.
– Верховный жрец велел доставить камни в святилище, – напомнили они Нуме.
Трое мужчин пытались сбежать, но жрецы поймали беглецов и до полусмерти отхлестали плетками.
Два дня Нума с тысячей работников мерзли на вершине гряды. Им оставалось только уповать на милость богов и надеяться на чудо.
Длух пересилил свой гнев и сообразил, что надо делать.
Алтарную площадку в святилище спешно очистили от снега. Верховный жрец принес в жертву богам шесть баранов и взмолился:
– О бог Солнце, к тебе взывает твой верный служитель! Помоги!
Потом, превозмогая сомнения, он заявил жрецам, что по воле богов святилище обязательно будет построено в срок.
Бог Солнце внял мольбам.
На третий день с юго-запада подул теплый ветер, налетели дождевые тучи, и ливень растопил снега, а к ночи ветер сменился и ударил мороз. Утром Нума потрясенно оглядел окрестности: в ясном небе ярко светило солнце, а меловые холмы покрылись сверкающей ледяной коркой. Нума топнул и подпрыгнул, проверяя лед на прочность, а затем швырнул увесистый булыжник, но ледяной покров даже не треснул, а камень заскользил по гладкой поверхности.
– Вот теперь мы сарсены дотащим, – усмехнулся Нума.
Работники торопливо соорудили огромные салазки, снова обвязали сарсены кожаными веревками и поволокли массивные камни к святилищу. Однако же трудности не прекращались: втаскивать сарсены на гряду стало легче, а вот с вершины камни скользили по пологому склону, и их приходилось удерживать изо всех сил. Дважды огромный сарсен срывался, подминая под себя работников, – так погибло двадцать человек и сотни получили увечья.
Морозы стояли целый месяц. К празднику зимнего солнцестояния все сарсены доставили в святилище.
Казалось, опасность отступила, но Нуму не отпускала тревога – он глядел на суровые лица жрецов и непрестанно думал о том, что должен в срок обработать и установить десять камней.
Тем временем Крун преисполнился новой уверенности – в тот день, когда взгорье сковало льдом, Менона объявила, что ждет ребенка. Длух принес в жертву богам овцу, и все в Саруме, даже Нумакаменщик, обрадовались долгожданной счастливой вести.
Студеной зимой и теплой весной в Саруме кипела работа.
Нума и его каменотесы трудились не покладая рук. Сарсенам спешно придавали нужную форму, а груды щебня собирали в глубокие корзины и оттаскивали их в ямы, вырытые неподалеку от святилища. Сотни людей устанавливали готовые камни стоймя на места, указанные жрецами. Коротышка-каменщик выбивался из сил, следя, чтобы при этом не допустили ошибок.
Тарк ежедневно виделся с Нумой, но не замечал в приятеле никакой враждебности.
Новорожденную девочку назвали Пийя. Тарк навестил Катеш и спросил:
– Нума знает?
Катеш замотала головой:
– Нет, что ты!
– А он на тебя не гневается?
– Я редко вижу его, он все время в святилище, ему со мной некогда и словом перемолвиться, – ответила она.
– Мне он тоже ничего не говорил, – задумчиво произнес Тарк.
После рождения дочери Нума действительно редко виделся с женой. Тарк знал, что каменщик зачастил к рабыням, но решил, что приятель ищет разнообразия.
Катеш твердо намеревалась хранить верность мужу и холодно встречала бывшего возлюбленного.
– Между нами все кончено, – объявила она. – Я обо всем забыла.
Впрочем, Тарк догадывался, что это неправда, но Катеш оставалась непреклонна:
– Боги меня покарают.
Нума изредка возвращался домой и всякий раз увлеченно играл с детьми. Малютка Пийя его обожала. Он подхватывал малышей на руки и весело бегал с ними вокруг хижины, а они визжали от восторга.
Длух напряженно следил за ходом строительства, и даже сам Крун как-то пришел в святилище, желая убедиться, что все будет закончено в срок.
Весной стало ясно, что Менона вскоре разродится. Впрочем, и верховный жрец, и вождь прекрасно помнили, что первенца следует принести в жертву – только после этого боги обещали даровать Круну наследника.
– Не вздумай противиться воле богов, – предупредил Длух вождя.
– Я молод и полон сил, – беспечно заявил Крун. – У меня будет много сыновей.
К радости обитателей пятиречья, ранней весной вождь несколько раз выезжал на охоту.
Неустанные заботы Нумы принесли плоды: все сарсены обтесали и поставили стоймя. К началу лета оставалось только поднять и установить на место пять перекладин. Жрецы объявили, что по окончании строительства устроят грандиозное пиршество для работников.
Освящение нового храма обещало стать грандиозным торжеством. Со всего острова на меловое взгорье Сарума стекались паломники. В жертву богам намеревались принести не только огромное количество животных, но и людей.
– Боги возрадуются, что в Саруме их почитают по-прежнему, и снизойдут к нам в своей милости, – сурово напомнил Длух жрецам. – Для жертвоприношения следует выбрать девятнадцать человек из тех, кто угоден богам. Девятнадцать – по числу лет, за кото рые богиня Луна завершает свой цикл колебаний.
До праздника летнего солнцестояния и до завершения всех замыслов коротышки-каменщика оставалось меньше месяца.
«Вскоре все будет конечно», – думал Нума.
Предстояло всего-навсего выдолбить по два гнезда с нижней стороны каждой перекладины, в которые войдут шипы стоячих камней, а затем поднять каменные плиты на леса из бревен и уложить поперек сарсенов. Скрепленные веревками бревенчатые леса были прочными и легко выдерживали вес перекладин. Самым трудным было опустить плиты так, чтобы гнезда накрыли шипы. Нума гордился точностью своих расчетов и всегда лично следил за действиями строителей.
Однажды вечером, в самом начале лета, работники разошлись по домам, а Нума, как обычно, остался в святилище, наблюдая за тем, как жрецы готовятся к своим ночным бдениям. Ночь выдалась ясной. Луна еще не взошла. Жрецы не обращали на Нуму внимания, и он проворно вскарабкался на леса, проверяя прочность веревок и надежность сооружения.
Окончив работу, он спустился в святилище, оглядел громадные серые камни и обратился с мольбой к богу Солнцу:
– О величайший из богов, позволь Нуме достойно завершить свои труды!
Он удовлетворенно вздохнул и отправился домой.
На следующее утро каменщик встретился с Тарком в святилище, чтобы обсудить приготовления к пиршеству, которое решили устроить в долине на берегу реки, примерно в миле от хенджа.
Работники на лесах крикнули Нуме, что плита готова к установке на опоры, и каменщик, не прерывая разговора с Тарком, заковылял к сарсенам так быстро, что длинноногий рыбак еле за ним поспевал. Нума остановился точно в том месте, над которым следовало опустить перекладину. Огромную плиту осторожно сдвинули с лесов на опорные столбы. Тарк с восхищением следил за ловкими действиями строителей и почти не слушал, что говорит ему Нума. Внезапно рыбак вздрогнул и недоуменно уставился на коротышку-каменщика.
– Ты соблазнил мою жену, и она от тебя понесла! – прошипел Нума с перекошенным от гнева лицом. – Такого не прощают!
Тарк побледнел, только сейчас сообразив, что Нуме известно о его связи с Катеш. Впервые за долгие годы рыбак испугался: во взгляде приятеля бушевала злоба. Тарк понял, что Нума готов его убить.
Внезапно одна сторона лесов рухнула; четырехтонная каменная перекладина соскользнула с бревен, мгновенно размозжив череп Тарка, стоявшего прямо под ней.
Никто не понял, отчего и как это произошло. С лесов упали двое работников: один сломал ключицу, второй – ногу. Нума успел отскочить в сторону и отделался синяками.
Два дня спустя перекладину благополучно установили на место.
Жрецы не попрекнули каменщика за случившееся, и Нума решил, что они ничего дурного не заподозрили. Он вернулся домой и рассказал обо всем Катеш. Она побледнела, вздрогнула и пошатнулась, а потом понуро уставилась себе под ноги.
– Видно, меня боги уберегли, – вздохнул Нума.
Катеш невольно сглотнула слезы. Коротышка-каменщик злорадно ухмыльнулся. Внезапно Катеш взглянула ему в глаза, честно и без утайки, не скрывая своего горя, и по выражению лица Нумы догадалась, что это он виновен в смерти Тарка. Торжествующий коротышка-каменщик устыдился своего поступка, но тут скорбный взгляд Катеш полыхнул ненавистью и презрением. Женщина поспешно отвела глаза, но Нума успел понять, что жена прониклась к нему безмерным отвращением.
Как положено примерной жене, Катеш продолжала заботиться о муже, хотя относилась к нему как к чужому. Они почти не разговаривали и не делили ложе.
Увы, Нума напрасно считал, что трудности его закончились. Спустя три дня после смерти Тарка выяснилось, что гнездо, выдолбленное в последней каменной перекладине, слишком смещено к центру. Плита была безнадежно испорчена. Разумеется, можно было выдолбить новое гнездо, но каждый камень святилища должен быть безупречным. Времени на обтесывание и доставку новой плиты не оставалось.
Нума попытался выяснить, что привело к этой нелепой ошибке. Оказалось, что неопытный подмастерье в спешке принял царапину на камне за разметку гнезда и выдолбил в плите лунку. Вина за недосмотр, естественно, возлагалась на мастера-каменщика. Вдобавок гнездо на внутренней стороне перекладины располагалось в очень заметном месте – в промежутке между опорными сарсенами, и при всем желании его нельзя было скрыть от глаз жрецов.
– Мы не успеем подготовить новую плиту, – виновато доложил Нума.
Жрец вперил в каменщика холодный взгляд:
– Сделай изъян незаметным и установи перекладину.
Нума заполнил гнездо глиной и вдавил в нее осколки щебня – теперь никто, кроме него самого, не смог бы обнаружить изъян в плите. И все же святилище стало несовершенным. Нума содрогнулся при мысли о том, что об изъяне станет известно верховному жрецу.
– Не миновать мне жертвенного алтаря, – пробормотал каменщик. – Такова моя участь.
Перекладину водрузили на место, и строительство Стоунхенджа завершилось – за пять дней до праздника летнего солнцестояния.
На пиршестве в честь строителей святилища Нума, исполненный гордости и страха за свою жизнь, напился хмельного меда и крепко уснул. Впрочем, наутро он продолжал терзаться мыслями об убийстве Тарка, об изъяне, допущенном при строительстве хенджа, и о всеведущих жрецах.
Перед самым рассветом, когда луна еще не зашла, верховный жрец Длух явился в новое святилище.
«Свершилось», – удовлетворенно думал он.
Создание нового святилища не только знаменовало окончание лунного и солнечного цикла, но и свидетельствовало об окончании невзгод благословенного Сарума. Круг исполинских камней сомкнулся, заключив в себе солнце и луну, день и ночь, зиму и лето, весну и осень, жизнь и судьбу Сарума, бесконечную смену дней и гармонию небес.
За пять дней до праздника летнего солнцестояния вождь Крун, по обычаю, пошел охотиться на вепря.
На заре Длух призвал к себе носильщиков и отправил гонцов к вождю.
Перед каждой охотой верховный жрец совершал жертвоприношение богине Луне и просил ее послать щедрую добычу. На рассвете Длух прибыл на опушку леса в восточной долине, где уже собрались охотники – пятьдесят мужчин в толстых кожаных куртках, – вооруженные короткими тяжелыми копьями с широкими кремнёвыми наконечниками, луками и стрелами. Посреди поляны красовался Крун – высокий, полный сил, как в молодости. Седые кудри прикрывал излюбленный головной убор вождя – лихо заломленная шапка с длинными зелеными перьями. С широких плеч Круна ниспадала короткая зеленая накидка, а на поясе висел устрашающий кремнёвый охотничий нож. Четверо сильных и ловких юношей-носильщиков стояли рядом с легкими носилками, ожидая приказаний. Крун хриплым басом перешучивался с охотниками. Длух обрадованно вздохнул – именно таким он и помнил своего сводного брата.
Всех очень обрадовало то, что вождь снова вышел на охоту. Краснолицый толстяк Муна, старший охотник в традиционном багряно-черном одеянии, деловито расхаживал по поляне. Голову Муны, по обычаю, венчали оленьи рога, а в руках у него был охотничий рожок, богато изукрашенный золотом и бронзой. Старший охотник давал последние наставления псарям – восемь пар гончих нетерпеливо рвались с поводков. Собаки тяжело дышали, высунув язык; в студеном утреннем воздухе из жарких пастей вырывались облачка пара. От Муны ни на шаг не отходил его внук, десятилетний мальчишка, которого впервые взяли на охоту.
– Сам Крун обещал его свежей кровью окропить, как вепря поднимем, – ухмыльнулся Муна.
Вождь поглядел на мальчика и вспомнил, как в таком же возрасте отправился на охоту с отцом. Охота была успешной, и отец, отрезав кровавый кусок от туши вепря, мазнул сына по щеке – юный Крун не смывал засохшую кровь целый месяц и гордо носил отметку, свидетельствующую о его взрослении.
– Окроплю, окроплю, – хохотнув, пообещал вождь и призвал всех к молчанию.
Верховный жрец размеренно начал древний охотничий обряд:
– О богиня Луна, защитница охотников, ты, кому принадлежат души всех зверей, охрани нас и пошли нам добычу!
Муна протрубил в рожок, Крун уселся на носилки, и охотники вошли в чащу.
Величественное зрелище навсегда сохранилось в памяти жреца – вереница охотников, скрывающаяся в лесах восточной долины Сарума.
Вечером охотники вернулись.
Обитатели Сарума считали, что их способ охоты на вепря – самый лучший. Увы, в нем было много недостатков – хитрый вепрь легко мог обмануть охотников и убить одного из них. Вдобавок человек, возглавлявший охоту, всегда оказывался под угрозой нападения разъяренного зверя. Однако же Крун предпочитал охотиться по древней сарумской традиции. Гончие загоняли зверя в чащу, охотники, растянувшись длинной цепью, окружали добычу и, замкнув круг, криками и шумом гнали вепря на середину, где его дожидался вождь и лучшие воины. Крун много раз охотился подобным образом и всегда возвращался с добычей. Впрочем, существовала опасность, что испуганный зверь может наброситься на загонщиков или пробьется сквозь заслон охотников и мощными сверкающими клыками задерет вождя.
Когда носилки внесли в долину, вождь еще дышал.
Охота началась удачно: вепря загнали, зверь выскочил на опушку, где его дожидался Крун с охотниками, и тут случилась беда. Хитрый секач прорвался сквозь цепь охотников, набросился на вождя, вспоров ему живот и грудь, а потом удрал. Крун истекал кровью. Длух, глядя на землистое лицо вождя, решил, что тот не доживет до утра.
Верховный жрец старался облегчить страдания своего давнего друга – сейчас Крун был не великим вождем Сарума, не злодеем, принесшим в жертву девятнадцать наложниц, а именно старым приятелем, изнемогавшим от страшных ран. Длух наложил на раны повязки, напоил вождя настоем целебных трав и вместе с Меноной всю ночь не отходил от ложа Круна.
Вождь знал, что умирает. Глубокие воспаленные раны не поддавались ни зельям жрецов, ни молитвам Длуха.
Боги послали Саруму еще одно страшное испытание.
Длух и Крун хорошо помнили завет богов: первенца вождя необходимо принести в жертву, и только после этого родится наследник.
Верховный жрец погрузился в размышления: повеление богов не допускало иных толкований, а все предыдущие предсказания сбылись. Однако ясно было, что больше детей у вождя не будет. Если сдержать данное богам обещание и принести ребенка в жертву, то род Круна прервется, а значит, новое святилище возводили напрасно. Неужели боги решили наказать Сарум за вероотступничество?
Длух замялся, не зная, что делать.
– Не приноси ребенка в жертву, – еле слышно прошептал Крун, оставшись наедине с верховным жрецом.
Длух содрогнулся и промолчал, не смея взглянуть на умирающего вождя.
– Другого наследника не будет. Обещай мне, что ребенок останется в живых, – потребовал Крун, с усилием приподнимаясь на локте и вперив горящий взгляд в Длуха. – Поклянись!
Верховный жрец едва не разрыдался, однако понимал, что обязан сдержать обещание, данное богам, ведь он сам поклялся никогда не подвергать сомнению всемогущество бога Солнца.
– Воля богов будет исполнена, – печально изрек он.
– Спаси ребенка, жрец! – простонал Крун.
Вождь, безжалостно отправивший на алтарь девятнадцать наложниц, теперь сам испытывал страшные мучения. Отчего боги так жестоки?
– Не подвергай сомнению волю богов! – с горечью напомнил Длух, хотя в тот миг не верил, что боги сдержат свое обещание.
Крун, совершенно обессилев от боли, не разгневался, а начал терпеливо объяснять верховному жрецу, почему ребенка не следует приносить в жертву:
– Я уже отдал богам своего первенца, ведь мои сыновья утонули в морской пучине. Жрецы неправильно истолковали предсказание, только и всего.
Он раз за разом повторял эти слова, пытаясь убедить верховного жреца, что без наследника Сарум погибнет. Однако Длух оставался неумолим:
– Воля богов будет исполнена. Они не оставят нас своей милостью.
Крун безвольно поник.
Целый день старый вождь отчаянно цеплялся за жизнь и взывал к Длуху, умоляя его не приносить ребенка в жертву. Увы, мольбы были напрасны. Перечить верховному жрецу никто не осмеливался.
Тем временем у Меноны начались родовые схватки – преждевременно, от потрясения, вызванного видом ужасных ран Круна. Прислужницы увели ее в спальню и призвали повитух.
На заходе солнца в доме зажгли лучины. Вождь, изнемогая от боли, снова воззвал к жрецу:
– Я умираю! Спаси ребенка, жрец!
Длух задрожал и отвернулся, скрывая подступившие слезы. В полночь раздался первый крик новорожденного, и жрец поспешно удалился в спальню роженицы.
На пороге верховный жрец замер, с трудом сдерживая радостный крик и изумленно глядя на чудесное явление. Воистину, непостижимые боги сдержали обещание. Повитухи протянули Длуху не одного, а двух младенцев – девочку и мальчика, крепких и здоровых, хотя и рожденных до времени. Менона слабо улыбнулась.
– Отдайте мне первенца! – сурово потребовал Длух.
Как он и предполагал, ему отдали девочку.
– Вот первенец, обещанный богам! – возвестил верховный жрец. – У Сарума есть законный наследник.
Наступил день летнего солнцестояния.
Все жители пятиречья со страхом ожидали этого дня.
Нума и Катеш проснулись на рассвете и, разбудив детей, сели у порога хижины.
Обитатели Сарума знали, что для освящения нового хенджа жрецы должны избрать девятнадцать человек, которым суждено окончить свою жизнь на жертвенном алтаре. Суровые служители богов парами разбрелись по долинам, шли от поселения к поселению и взмахами церемониальных бронзовых ножей указывали на избранную жертву. Никто не знал, на кого падет выбор жрецов: иногда это был преступник, словом или делом оскорбивший богов, иногда – простой земледелец или дочь богатого торговца. Жертвой мог стать любой – мужчина или женщина, старик или младенец, ведь, по утверждению жрецов, все люди подвластны могущественному богу Солнцу.
Нума дрожал от страха, слишком хорошо помня все свои прегрешения: изъян в перекладине нового святилища, убийство Тарка… Жрецы наверняка обо всем догадались, ведь им известно все. Лоб Нумы покрылся испариной.
– Жрецы за мной придут, – вздохнул каменщик.
– За мастером, который построил новое святилище? – удивилась Катеш и замотала головой. – Нет, не придут.
Нума ничего не ответил. «Наверное, Катеш обрадуется, если выбор жрецов падет на меня», – печально подумал он и вздрогнул, посмотрев на детей. Выбор жрецов был непредсказуем. Что, если жребий падет на сына или на малютку Пийю? Ведь перед богами все равны…
«Ох, Нумати…»
Солнце клонилось к закату.
– Жрецы уже не придут, – заявила Катеш.
Каменщик облегченно перевел дух.
В наступивших сумерках на тропинке, вьющейся по склону холма, появились два жреца – старый и молодой. У хижины они остановились перед дрожащим от страха Нумой. Молодой жрец торжественно вручил старому длинный бронзовый нож.
Старик медленно наставил его на сына каменщика.
– Нет! – воскликнул Нума. – Возьмите меня! Я убийца! Я осквернил святилище! Это я заслуживаю смерти.
Молодой жрец покачал головой. Нума обернулся и сообразил, что нож указывает не на сына, а на Катеш.
– Такова воля богов, – объявил жрец.
Нума понял, что жрецы хотя и жестоки, но всеведущи и справедливы.
Обряд освящения хенджа начался на закате.
На склонах холмов у святилища собралось почти четыре тысячи человек. На почетном месте, отведенном вождю, стояли двое мужчин: один держал кожаный нагрудник вождя, расшитый золотом, а второй – тяжелую булаву, богато изукрашенную янтарем.
К святилищу медленно двинулись жрецы, за которыми шли девятнадцать человек – жертвенных избранников. У начала длинной меловой дороги процессия остановилась, дожидаясь захода солнца. Пламенеющий свет заката окрасил алым белоснежные одеяния жрецов и заставил сверкать драгоценные камни на багряной мантии верховного жреца. Длинное лицо Длуха было выбелено мелом, голову венчала бронзовая диадема с золотым солнечным диском, а в руках верховный жрец сжимал длинный посох с рукоятью в форме священного лебедя.
Наконец солнце скрылось за горизонтом. В наступивших сумерках над долиной медленно взошла луна. Наступила самая короткая ночь года. Люди умолкли, ожидая, когда свершится самый важный обряд.
Нума-каменщик молча глядел на творение своих рук – величественный хендж. В центре святилища кольцом стояли серые камни, залитые лунным сиянием. Исполинские сарсены отбрасывали длинные тени. За камнями виднелся полукруг массивных трилитов и ужасающий алтарный камень. Нума, повинуясь повелению жрецов, всю свою жизнь посвятил строительству хенджа. Воистину власть жрецов велика! Каменщик обнял детей, крепко прижал их к себе – их жизнь тоже пройдет под грозной сенью сарсенов.
Близился рассвет.
Небо на востоке едва заметно посветлело, и жрецы, напевно взывая к богам, медленно двинулись по меловой дороге к святилищу. Нума, прищурившись, пытался разглядеть Катеш среди жертвенных избранников.
– Вашей матери выпала большая честь, – сказал он детям. – Она стала избранницей богов.
Малютка Пийя непонимающе уставилась на него, а Нумати тихонько всхлипнул. Сам каменщик не испытывал ни сожаления, ни отчаяния – величие святилища подавляло все чувства, кроме преклонения перед всесилием богов.
На востоке показался краешек восходящего солнца.
В центре хенджа, у алтарного камня, неподвижно стоял верховный жрец Длух.
Гонцы принесли ему весть о смерти Круна. Великого вождя Сарума похоронят в огромном меловом могильнике на взгорье, и дух его упокоится, взирая на пятиречье. Смерть вождя в ночь солнцестояния была добрым знамением.
Только сейчас, ожидая, когда бог Солнце озарит своим сиянием новое святилище, Длух осознал важность всего, что случилось после трагической гибели сыновей Круна.
С чего начинались священные предания жрецов? О чем говорилось в них – прежде, чем возник Сарум, прежде, чем океанские воды затопили путь на восток и отрезали остров от материка? Прежде, чем древние звездочеты составили бесконечный список движения небесных светил – на его изучение и запоминание уходило два года? Какие слова были самыми первыми, самыми важными – важнее, чем объяснение священных волшебных чисел?
Солнце властвует в небесах. Солнце наделяет дарами. Солнце отнимает. Все в этом мире не случайно…Вот в чем смысл нового святилища – смысл, заключенный в исполинских камнях, в девятнадцати наложницах Круна, в девятнадцати годах священного колебания богини Луны, в противостоянии солнца и луны, которого так долго ждали. Вот почему новое святилище совершенно и нерушимо, вечный круг, неразрывное кольцо. Из страданий Круна и его соплеменников родился новый наследник. Никто не смеет сомневаться во всемогуществе великих богов!
Все в этом мире не случайно. Намерения богов, пусть и невнятные людям, совершенны в своей ужасающей соразмерности и неизменны, как звезды в небесах. Внезапно на Длуха снизошло откровение.
От рода человеческого требуется лишь одно: беспрекословное повиновение и послушание. В этом и заключалась воля богов, поэтому они и покарали Сарум смертями вождя и его сыновей. Лишь жертвоприношения могут умилостивить богов и снять проклятие.
В честь богов люди возводят святилища, в честь богов пытаются разгадать тайны небесных светил, но главное – не в этом. Люди не должны ставить под сомнение волю богов. Люди обязаны повиноваться.
На мантии верховного жреца заблестели капли росы. Вот-вот взойдет солнце.
В светлеющем небе полная луна сместилась над западным горизонтом и застыла точно в дальнем конце меловой дороги. На востоке небо засинело, у самого горизонта появилась тонкая серебристая полоса, постепенно наливаясь алым и шафранным. Голоса жрецов взлетали к куполу небес. Напряжение толпы нарастало. Восточный край неба засиял переливами багрянца, лазури и бирюзы. Лунный диск повис над меловыми грядами.
И вот над горизонтом вспыхнул первый луч восходящего солнца, высветив меловую дорогу, стрелой вонзающуюся в сердце святилища. Бог Солнце явил свой грозный лик. Жрецы умолкли. В ужасающем молчании послышался стон первой жертвы, которую подвели к алтарному камню.
Длух, обратив лицо к солнцу, медленно вознес над головой первенца Круна, показал девочку богу и воскликнул:
О бог Солнце, величайший из богов! О богиня Луна! Мы повинуемся!Бог Солнце вступил в свой новый храм, Стоунхендж, озарив его золотым сиянием. Солнечный диск медленно поднимался на востоке, а точно напротив него, на западе, висел серебряный шар Луны. Бог Солнце и богиня Луна величаво взирали друг на друга. Люди затаили дыхание.
Жертвенных избранников торопливо подводили к алтарному камню. Нума пристально вглядывался в их лица. Катеш была седьмой. Жрецы схватили ее за руки и уложили спиной на камень. Над ее бледным телом взметнулся окровавленный бронзовый нож, блеснув в лучах солнца. Все было кончено.
Верховный жрец Длух так и не сумел рассчитать периодичность солнечных затмений.
Сорбиодун
Спустя две тысячи лет после строительства Стоунхенджа, в 42 году от Рождества Христова, самый могущественный правитель в мире понятия не имел ни о Саруме, ни о величественном святилище.
Владения императора Клавдия, правителя великой Римской империи, простирались от Персии до Испании, от Африки до Франции и Германии. Средиземное море он считал садовым прудом. За всю историю человечества подобной властью не обладал больше никто.
В своей огромной империи Клавдий слыл чудаком: несмотря на всю свою ученость, он хромал, заикался, а вдобавок совершенно не проявил себя завоевателем, хотя и происходил из рода достославных полководцев.
Однако в 42 году Клавдий решил, что пришла пора действовать, и отправился завоевывать Британию. Никого из римлян не удивило, что выбор императора пал на северный остров, – по общему мнению, эти земли давно пора было захватить.
Веком раньше это пытался совершить Юлий Цезарь, а всего три года назад Калигула, племянник Клавдия, в свою бытность императором тоже хотел присоединить остров к Римской империи, но дальше подготовки дело не пошло. Итак, Клавдий объявил, что лично поведет войска на остров и завершит начинание своего венценосного предка Юлия Цезаря.
Цезарь в своих «Записках» подробно изложил историю кампаний по завоеванию Британии в 55 и 54 годах до Рождества Христова. Впрочем, некоторые римляне упрямо утверждали, что никакого острова нет и в помине, Цезарь его выдумал. Клавдий решил, что сравнение с величайшим римским военачальником укрепит императорскую власть и пойдет ему на пользу.
– Но ведь, кроме сведений, сообщенных Юлием Цезарем, об острове ничего не известно, – напоминали Клавдию.
– Глупости! – возражал император. – О Британии известно многое.
Разумеется, Клавдий слегка лукавил, но за сотни лет в империи и в самом деле накопилось немало сведений об этих далеких землях – в основном со слов греческих торговцев, которые бесстрашно переправлялись на туманный остров. Старый император Тиберий, родственник Клавдия, в свое время приказал великому географу Страбону составить отчет о целесообразности торговли с островитянами. По слухам, галльские торговцы закупали в Британии зерно, шкуры, скот и знаменитых гончих псов. На острове добывали золото, серебро, железо, свинец и олово. Олово Клавдия не интересовало – в Римскую империю его в огромном количестве привозили из иберийских копей, – а вот потребность в золоте и свинце, наоборот, возрастала.
Торговцы упоминали и о том, что на острове постоянно вспыхивают междоусобные войны. Вражду и рознь с соседями вожди племен почитали делом чести, а захваченных в бою пленников продавали в рабство. Жители Британии с удовольствием покупали товары, производимые в Римской империи, особенно средиземноморские вина, хотя сами издавна варили густое пиво и хмельной мед. Некоторые племена даже чеканили деньги – Клавдий своими глазами видел золотые монеты с изображением какого-то вождя с восточной окраины острова, весьма похожие на римские сестерции.
Больше всего Клавдия и его советников интересовали порты и возможные места высадки на побережье острова. Торговцы с готовностью сообщили, что таких мест множество, особенно напротив берегов Галлии, в Дуврском проливе, но особо отметили великий торговый порт, лежащий посреди южного берега, в естественной гавани, защищенной от моря невысоким холмом.
– Место укрепленное, но как нельзя лучше подойдет для высадки войск, – объяснили торговцы. – Мы продаем тамошним племенам вино, а они с нами расплачиваются звонкой монетой, золотом и серебром.
Клавдий не придал этому особого значения – его гораздо больше привлекала возможность высадки непосредственно напротив галльского берега, через узкий пролив. Император так и не узнал, что в двадцати пяти милях к северу от этой гавани существует чудесное пятиречье.
– Все наши расходы окупятся, как только Британия станет провинцией Римской империи, – удовлетворенно объявил Клавдий сенаторам.
Хитроумный правитель принял в расчет и другие соображения.
Далекий остров становился рассадником смуты. После завоевания Галлии Юлием Цезарем воинственные белги, сородичи германцев и кельтов, вместе со своими проклятыми жрецами-друидами перебрались в Британию, откуда совершали дерзкие набеги на материк, доставляя немало беспокойства римлянам. Следовательно, завоевание Британии не только остановит вторжение белгов в Галлию, но и поможет окончательно избавиться от мерзких друидов, оскверняющих римских богов.
Вообще-то, римляне снисходительно относились к верованиям варваров, но Клавдий питал отвращение к кельтским жрецам, потому что они приносили в жертву людей. В Римской империи кровопролитие никого не удивляло – гладиаторские бои ежедневно собирали тысячи зрителей, – однако человеческие жертвоприношения возмущали Клавдия. Император считал их нелепым извращением и надругательством над священными обрядами гаруспиков – жрецов, гадавших по внутренностям жертвенных животных. Клавдий благоволил гаруспикам и даже учредил особую коллегию для поощрения и сохранения их священного искусства. Друиды же открыто призывали вождей к набегам на Галлию и оскверняли мир своими гнусными деяниями. Что ж, император точно знал, как с ними расправиться.
Он потребовал, чтобы войска как можно скорее вышли в поход.
– Может, с захватом Британии лучше повременить? – неуверенно предположили сенаторы.
Клавдий нетерпеливо помотал головой. Откладывать военный поход он не собирался, слишком хорошо помня судьбу Калигулы. Да, британская кампания предшественника Клавдия не состоялась, однако два из его четырех легионов до сих пор бездействовали на берегах Рейна. Ни один римский император не мог позволить себе присутствие хорошо вооруженного войска в непосредственной близости к столице – того и гляди солдаты заскучают и решат, что пора менять власть. Нет, кампанию по захвату Британии следовало начинать немедленно.
Итак, в 42 году стало ясно, что завоевание Британии неминуемо. Впрочем, этому помогли и сами островитяне.
Из-за постоянных междоусобных стычек длинноусые вожди островитян часто обращались к римлянам, суля щедрую награду за помощь в покорении враждебных племен. Иногда они являлись в Рим лично – Клавдию довелось встретиться с одним из них, громкоголосым хитрецом-варваром, – но их просьбы всерьез никто не принимал. В Рим наведывались правители со всех концов света, и римляне хорошо знали, с кем считаться и к кому прислушиваться. Однако же недавно в Риме нашел убежище Берик, которого изгнал с острова его родственник Каратак, ставший вождем племени катувеллаунов. Каратак, недолго думая, потребовал у Клавдия выдачи беглеца и, не получив ответа, совершил дерзкий набег на побережье Галлии.
Клавдий чрезвычайно обрадовался такому удачному повороту событий: у императора появился законный повод для похода в Британию. На любые возражения сенаторов Клавдий возмущенно отвечал:
– Риму нанесли оскорбление!
Он тщательно подобрал военачальников для британской кампании и даже пообещал лично возглавить войска.
– Я вселю в сердца британцев священный страх! – провозгласил он.
Услышав это заявление, сенаторы удивленно посмотрели на императора, но он снисходительно объяснил:
– Я прибуду на остров верхом на слоне.
Для понимания дальнейших событий, случившихся на северном острове, необходимо совершить путешествие в далекое прошлое.
Примерно в 1300 году до Рождества Христова на территорию Западной Европы пришли новые племена. Их шествие по миру началось тихо и незаметно. Археологи обнаружили небольшие поселения земледельцев на берегах Дуная, в сердце Юго-Восточной Европы. Трудно сказать, принадлежали ли обитатели этих поселений к одному племени, но отдельной расой они не являлись. Впоследствии их потомки создадут легендарный образ предков – высоких, светловолосых и голубоглазых воинов, – однако же, скорее всего, как и остальные обитатели Европы, с виду они были самыми разными. В конце бронзового и в самом начале железного века эти разномастные племена объединяло одно: все они сжигали своих мертвецов и хоронили прах в глиняных сосудах.
А затем по какой-то неизвестной причине мирные земледельцы снялись с насиженных мест и разбрелись по европейским просторам. Остатки урнопольской культуры обнаружены и в предгорьях Швейцарских Альп, и в долинах Шампани, и на равнинах Германии. Неугомонные странники основывали свои поселения или примыкали к уже существовавшим, но повсюду сохраняли обычай сжигать покойников и хоронить их прах в глиняных сосудах.
Как бы то ни было, этим племенам суждено было сыграть необычайно важную роль в истории Северной Европы, создать великую культуру, покорно снести римское владычество, но сохранить свободолюбивый дух, ускользнуть от англосаксонских завоевателей и выжить до наших дней, покоряя мир своим удивительным воображением. Задолго до Рождества Христова древние греки дали этим разрозненным племенам имя Κελτοί, римляне переделали его на свой лад, и оно сохранилось неизменным до наших дней – кельты.
Отчего кельты оставили такой глубокий след в истории человечества? Чем они отличались от других племен? На этот вопрос трудно дать определенный ответ. Ясно лишь одно: этих людей отличала необыкновенная одаренность. Лучше всего об этом говорит их язык. Где бы ни селились кельтские племена, их наречие распространялось по всей округе. Во времена Юлия Цезаря кельтский язык стал средством межнационального общения на всей территории Северной Европы. Кельтский язык привлекал своей выразительностью, поэтичностью и богатством выражения. На этом языке слагались легенды, предания и эпосы, которые передавались из поколения в поколение, с глубокой древности до наших дней. Сегодня кельтский язык сохранился в двух его вариантах: валлийском и гэльском.
К 1000 году до Рождества Христова мирные кельтские поселенцы внезапно изменились, то ли объединившись с каким-то воинственным племенем, то ли обнаружив в себе дотоле неведомую ярость и мощь. Как бы то ни было, на историческую арену вступила новая, неукротимая сила – кельтские воины-завоеватели.
Их появление повергало противника в ужас – длинноусые мускулистые воины с нимбами волос, для жесткости намазанных известью, мчались на быстрых и легких боевых колесницах. На шее воинов сверкали толстые золотые обручи, на руках блестели браслеты. Воинственные племена быстро захватили земли на западе и на севере Европы, добрались до берегов Ла-Манша и на Иберийский полуостров. Воины принесли с собой новое грозное оружие: острые длинные мечи, сделанные из закаленного, доселе неизвестного в Европе металла – железа.
В археологии эту культуру именуют по названию австрийского городка Гальштат, где впервые обнаружили многочисленные захоронения железного века с погребальными урнами. Воинственные племена гальштатских кельтов были непобедимы; в их могильниках обнаружены остатки повозок, колесниц и драгоценные украшения, а образы отважных воинов сохранились до наших дней в кельтских легендах и сказаниях.
Однако же неукротимые кельты не были разрушителями. На завоеванных землях они создавали новые поселения, строили дома под соломенными крышами и возводили земляные укрепления на холмах. Местных жителей они не трогали, использовали их как рабочую силу. Примерно между 900 и 500 годами до Рождества Христова кельты пересекли Ла-Манш и расселились по острову Британия.
Судя по всему, древние поселения на острове кельты не уничтожили и со временем смешались с коренными жителями Британии. Впрочем, кельтские завоеватели расселились не по всем уголкам острова, так что, вполне возможно, некоторые жители современной Великобритании ведут свой род от доисторических предков, с незапамятных времен живших на острове. Итак, кельтские переселенцы обосновались в Британии, на туманном острове, среди волшебных меловых холмов, отделенных от остального мира узким проливом.
Начиная примерно с 500 года до Рождества Христова возникла удивительная культура, получившая у археологов название латенской, по имени швейцарской коммуны Ла-Тен, неподалеку от Невшателя. За несколько веков своего существования кельтские племена Северной Европы и Британии создали массу поразительных предметов, уникальных образцов доисторического искусства: изящные быстроходные колесницы и замысловатые золотые, серебряные и бронзовые украшения; глиняные сосуды с витым орнаментом и весьма реалистичные фигурки зверей и птиц; одеяния и накидки из ярких, богато изукрашенных тканей, роскошные чепраки и конские попоны. А еще кельты слагали длинные сложные поэмы на своем мелодичном языке, и древние сказители-барды прославляли подвиги героев и вещали о деяниях богов. Мир кельтов издревле был полон богов, волшебства, сказочных птиц и зверей, суеверий и предрассудков. Кельты верили, что бок о бок с миром людей существует таинственный потусторонний мир – мир сумерек и чудес, одновременно и похожий, и непохожий на привычный.
– Кельты безумны, – настаивали римляне. – Они пируют, как сенаторы, поют, рыдают и дерутся друг с другом – и все это ради удовольствия.
– Нет, кельты – поэты, – возражали торговцы. – Они хмелеют от поэзии.
– Кельты хмелеют от выпивки, – цинично отвечали римляне. – Особенно их мерзкие жрецы-друиды.
Как ни странно, все эти утверждения соответствовали истине. Римляне совершенно не понимали кельтов. Для римлян важнее все го было четкое государственное устройство, стройная и хорошо продуманная система организации всего на свете, поэтому они не могли разобраться в бесчисленном множестве вождей и владык, связанных между собой древними и запутанными узами родства, клятвами побратимов, брачными союзами и полумифическими обязательствами. Вдобавок для римлян оставались непостижимыми многочисленные кельтские божества, которые постоянно меняли обличье и подшучивали над людьми – и не ради собственного удовольствия (такое объяснение вполне устроило бы римлян), а просто так. Даже покровитель всех кельтских племен, великий бог Дагда, поступал, как ему вздумается.
– Мы приучим кельтов к порядку, – обещали римляне.
Увы, сделать это было нелегко.
Усмирить кельтов в Галлии вызвался Юлий Цезарь, быстро сообразив, как этого добиться. Он решил разрушить связи между вождями и их подданными, а вместо вождей назначить магистратов. «Тех, кто обладает значительной властью, придется либо подавить, либо подкупить и пообещать, что сыновья их получат образование на римский манер и станут гражданами империи. От такого еще никто не отказывался», – утверждал он.
В определенной степени подобная политика себя оправдала, однако некоторые племена оказывали упорное сопротивление. В частности, белги готовы были принять культуру, но не власть Рима, а потому бежали за море. С течением времени хитроумным и расчетливым римлянам все же удалось распространить блага цивилизации и среди населения покоренной Галлии, и на пока не завоеванном острове. Кельтские племена презирали завоевателей, но вожди кельтов регулярно получали от римских торговцев в Галлии огромные амфоры с вином, драгоценные камни и другие предметы роскоши. Кельтские правители стремились к большей власти и с завистью слушали рассказы о великолепных дворцах и виллах в столице империи. Хотя у кельтов не было своей письменности, многие вожди научились у торговцев не только разговорной латыни, но и письму.
– Да, островитяне будут сопротивляться, однако в конце концов смирятся, как и все варвары, – рассудительно заметил Клавдий.
Весной 44 года обитатели Сарума вот уже месяц ждали прихода римлян. Погода еще не устоялась: то в ясных небесах сияло солнце, заливая яркими лучами меловые хребты, то на долину наползали тяжелые серые тучи, валил снег или сыпал град. Сегодня погода выдалась ясной, влажный юго-восточный ветер гнал по синему небу барашки белых облаков.
Все жители пятиречья укрылись в крепости.
Спустя два тысячелетия с тех пор, как огромные сарсены приволокли из каменоломни к Стоунхенджу, ландшафт практически не изменился. Долину окружали густые леса – дуб и ясень, вяз и орешник. На севере тянулись к горизонту пустынные меловые хребты, а на склонах холмов колосились поля. И все же перемены были: в тени исполинских серых камней заброшенного святилища паслись отары овец, древние меловые могильники заросли травой, а на склонах, там, где вот уже четыре тысячи лет возделывали пшеницу, лен и ячмень, землю разбили на квадратные делянки, каждая размером в двести шагов, и четко пометили их границы – где межой, где земляным валом, а где живой изгородью.
Полностью изменилось лишь одно: поросший лесом холм на взго рье у самого входа в долину. Несколько веков назад лес на нем вырубили, а площадку на самой вершине, размером в тридцать акров, обнесли двумя земляными валами, между которыми вырыли глубокий ров. Некогда лесистый холм стал голым курганом с крутыми склонами. В первый, но далеко не в последний раз Сарумский холм превратили в крепость. Сейчас меловые склоны сверкали под лучами солнца, и крепость на холме была видна издалека. Жители Сарума называли ее кельтским словом «дун».
Поселение на холме служило и крепостью, и загоном для скота, и даже рынком. В последнее время его забросили, однако, когда Сарума достигли вести о высадке римлян на побережье, земляные валы поспешно укрепили меловой щебенкой, обмазали глиной и установили у входа тяжелые дубовые ворота, для надежности подперев их бревнами, чтобы выдержать удары тарана. За валами появились всевозможные постройки – и дома, покрытые соломенными крышами, и зерновые амбары, и загоны для скота. Посреди круглой площадки был колодец, у которого высился двадцатифутовый шест с резной головой Модрон, кельтской богини войны. Богиня, окруженная тремя во ронами, гневно глядела вдаль, устрашая возможных противников. Друиды уверяли, что она не позволит врагам захватить Сарум.
На высоком земляном валу стоял голубоглазый юноша и смотрел на юг.
– От Тарадока нет вестей, – пробормотал он. – По-моему, римляне уже близко.
Несколько дней назад он отправил рыбака в гавань и велел ему вернуться, как только римляне высадятся на побережье. Ходили слухи, что Второй легион получил приказ разрушить все укрепления на юго-западном берегу. Наверняка римляне уже добрались до устья реки и вот-вот войдут в долину Сарума. Но Тарадок почему-то не возвращался.
– И где его носит?! – пробурчал молодой человек, вглядываясь в даль.
Юноша был строен, с русой бородкой и длинными усами, на манер кельтских воинов; впрочем, четко очерченный нежный рот и тонкие черты лица лишали его мужественной суровости. Одет он был в льняную рубаху до колен, перехваченную на талии широким кожаным поясом, с которого свисал тяжелый железный меч; плечи покрывала ярко-синяя прямоугольная накидка-брет, сотканная из шерсти и скрепленная у горла крупной бронзовой брошью-фибулой; довершали наряд прочные кожаные башмаки. Вид у молодого человека был властный, но не очень уверенный, однако в обеспокоенных глазах светился ум.
В его наряде больше всего выделялась не яркая накидка и не замысловатая фибула, а золотой шейный обруч, концы которого завершались золотыми изображениями головы вепря. Подобные обручи, называемые также шейными гривнами, или торквесами, свидетельствовали о знатности рода и о положении воина в обществе. Судя по всему, голубоглазый юноша был местным вождем.
Звали его Тосутиг. Он слыл храбрецом, но отличался упрямством и многого не понимал. Сейчас от него зависело будущее Сарума, крепости и всего племени. Увы, юноше было невдомек, что его тщательно продуманный замысел приведет к уничтожению всего.
Тосутиг задумчиво оглядел крепость. В его распоряжении была сотня воинов, шесть лошадей, древняя колесница – боевые колесницы давно уже не применялись в битве – и друид. О том, чтобы столкнуться с римским войском в открытом бою, не могло быть и речи, а значит, колесница бесполезна. Что ж, надо полагаться на воинов, вооруженных копьями и стрелами с железными наконечниками: защитники Сарума будут сражаться до последнего. Вдобавок, как водится у кельтов, в распоряжении Тосутига было еще одно оружие: серая галька, кучами насыпанная у парапета на валу. Кельты – и мужчины, и женщины – славились умением с невероятной быстротой метать камни из пращи. Ловкий выстрел на сотню ярдов легко валил противника с ног, и в сражении казалось, что град камней косит врагов, будто траву на лугу.
Итак, обитатели Сарума готовились к битве – и к верной смерти, – ничего не зная о замысле своего юного предводителя.
Молодой человек, озирая окрестные холмы, чуть слышно бормотал:
– Моими стараниями Сарум вернет себе былую славу, а мой род снова обретет могущество, как в древности.
Тосутиг по праву гордился своим родом: земли пятиречья принадлежали ему с незапамятных времен. Пятьсот лет назад в Сарум по меловому хребту с севера пришел отряд кельтов, которых возглавлял Кулин-воитель со своим грозным мечом. У входа в святилище Стоунхенджа им встретилась красавица Алана, последняя дочь древнего рода Круна, и Кулин взял ее в жены. Семейное предание звучало как волшебная сказка, но нынешние владыки Сарума на самом деле произошли от союза кельтского воина и наследницы древних вождей. Шли века, кельты смешивались с местным населением, а в пятиречье все чаще и чаще поговаривали, что предками Аланы были великаны, которые на руках приволокли огромные сарсены в Сарум и построили святилище за одну ночь. Властители Сарума при всяком удобном случае упоминали, что ведут род не от обычных людей, а от легендарных созданий, которым было ведомо древнее волшебство, скрытое в камнях. Впрочем, друиды предпочитали молиться своим богам в скромных храмах на лесных полянах, и в Стоунхендже обрядов больше не совершали, но семейство Тосутига до сих пор гордо именовало себя древними титулами владык Сарума и хранителей священного хенджа.
Увы, прежней властью семья больше не обладала. За прошедшие столетия Сарум испытал на себе множество превратностей судьбы, и ко времени правления отца Тосутига пятиречье считалось захолустьем, мелким пограничным поселением между владениями нескольких могущественных племен.
А всего сто лет назад Сарум процветал. К северо-востоку от пятиречья простирались обширные владения атребатов – племени воинственных белгов, заключивших выгодные торговые соглашения с Римской империей. Мудрый прадед Тосутига взял в жены девушку знатного рода, дочь вождя атребатов, и попросил у вождя покровительства. В то время дун был небольшим городком, жилищем владыки Сарума, который правил пятиречьем под защитой вождя атребатов и, по обычаям предков, охотился в окрестных лесах. Дочь вождя атребатов обучила мужа и детей латинскому языку, и с тех пор правители Сарума, включая и юного Тосутига, гордились знанием латыни. Впоследствии атребаты утратили прежнюю власть и могущество, а вместе с ними – и обширные владения и защитить Сарум больше не могли. Их место заняли другие гордые племена, не ведавшие древней истории рода, правящего в пятиречье.
С племенами белгов, новыми восточными соседями, отношения не задались, хотя дед Тосутига и просватал единственную дочь за одного из вождей клана. Вождь девушку забрал, выкупа за нее не заплатил, однако и о существовании Сарума больше не вспоминал. Обитатели пятиречья жили мирно, но прозябали, в то время как другие поселения набирали силу.
Отец Тосутига, да и сам юноша считали, что основную угрозу мирному существованию Сарума представляет племя дуротригов, которые жили на юго-западе острова.
– Дуротриги попытаются дать отпор римлянам, – предупреждали Клавдия советники. – С нашими войсками они прежде не сталкивались, считают себя непобедимыми.
Дуротриги по праву гордились своими крепостями – сарумский дун с его парой земляных валов не шел ни в какое сравнение с укрепленными фортами в Мэйден-Кастле, Бедбери-Рингсе, Ход-Хилле и множеством других, сохранившихся по сей день. Крепости окружали высокие земляные валы, числом от пяти до семи, а проход внутрь осуществлялся через сложную систему ворот, между которыми про тивника можно было запереть и разгромить. Дуротриги расселились по огромной территории на юго-западе; в их владения входила и га вань с укрепленным мысом.
Правители Сарума, как обычно, с готовностью подчинились грозным соседям.
– С дуротригами надо жить в мире, – наставлял Тосутига отец. – Они владеют гаванью и портом, в их власти не пропустить торговые корабли вверх по реке. Если с ними не считаться, тебя склюют, как червяка.
Отец Тосутига, по обычаю кельтских племен, принес дуротригам присягу на верность, признав патронат их вождя, и таким образом заручился его покровительством. Сарум располагался на северной оконечности вереницы укрепленных фортов дуротригов, а правящая им семья сохранила независимость.
Год назад отец Тосутига умер, оставив сыну гордое имя, но сомнительное наследство. Юноша, придерживаясь линии поведения, избранной отцом, отправился в крепость Мэйден-Кастл, где преклонил колени перед правителем дуротригов, крепким черноглазым стариком.
– Мой повелитель, когда придут римляне, Сарум будет сражаться до последнего, – заверил вождя Тосутиг.
Если бы старый вождь знал о честолюбивых замыслах юноши, то пристукнул бы его на месте. После того как Тосутиг удалился, старик обернулся к своим советникам и насмешливо сказал:
– Римляне придут с юга, Сарум им не нужен. Даже если его захватят, невелика потеря. Мы заманим римское войско в Мэйден-Кастл и Ход-Хилл, там и разобьем их наголову. – Он захохотал и подбросил золотую монету с вычеканенным на ней собственным профилем. – Упадет лицом вверх – Сарум выстоит, а если лицом в грязь, то сгинет.
Советники бросились к монете, закатившейся в траву.
Весенним утром Тосутиг задумчиво смотрел на юг, а потом обернулся и учтиво поздоровался с тремя мужчинами.
Братья Нумекс и Бальба не были близнецами, но походили друг на друга как две капли воды: невысокие, кривоногие, круглоголовые, с румяными щеками, короткопалые, остроносые и серьезные не по годам. Все мужчины в их роду славились умением плотничать и работать с камнем. Нумекс сколотил дубовые ворота крепости на холме и вырезал лик богини войны. Бальба искусно красил ткани: к примеру, ярко-синий цвет шерстяной накидки на плечах Тосутига достигался красителем, извлекаемым из корней одуванчика. Красители растворяли в моче, поэтому о приближении Бальбы окружающие узнавали издалека, по характерной едкой вони. Братья были одеты в такие же рубахи, что и Тосутиг, но из более грубой ткани. Накидок и украшений им не полагалось. Нумекс и Бальба заведовали снабжением крепости и пришли к Тосутигу за распоряжениями.
Третьим был друид по имени Афлек. Издалека его высокая фигура внушала невольное почтение, но при ближайшем рассмотрении друид выглядел дряхлым чумазым старикашкой. В глубоких морщинах на лбу скопилась грязь, во рту торчали пеньки полусгнивших зубов, длинные седые волосы и борода свалялись колтунами, ветхое рубище из бурой мешковины доходило до самых пят. На ногах друида были плетеные кожаные сандалии.
На рассвете друид спустился с холма к реке, снял сандалии и босиком отправился в рощу за омелой, а потом бронзовым ножом срезал с кустов ветви и листья – только с северной стороны, по обычаю кельтских жрецов. На берегу Афлек долго смотрел на воду, бросил в реку горсть золотого песка и вознес молитвы богам.
Тосутиг подозрительно посмотрел на друида и спросил:
– Ну что?
– Богиня Модрон обещает нам победу, – с достоинством ответил старец. – Боги благоволят Саруму.
Тосутиг промолчал. Целый сонм богов охранял древние земли Сарума: в пятиречье властвовала Сулия-целительница, богиня рек и ручьев, в роще на востоке, у священного дуба, стоял храм Кернунна, рогатого лесного божества, покровителя охотников. Кернунн иногда расхаживал среди людей, принимая облик старика, укутанного в рваную накидку, – встреча с ним сулила удачу на целый год. Поля оберегала Зерновица; древние обряды в ее честь совершали в Самайн, праздник начала зимы. Меловые гряды защищал Левкетий, бог молнии, готовый поразить любого, кто осмелится осквернить древние могильники на взгорье. Разумеется, Стоунхендж находился под покровительством легендарных предков Тосутига, десяти гигантов, – у самого старшего было три головы; даже если их отрубить, они вырастали снова. Богиня Модрон и ее во́роны оберегали крепость на холме, а род Тосутига пользовался особой милостью Ноденса, повелителя туч, поэтому ему построили отдельное святилище.
И пусть Сарум больше не славился ни могуществом, ни величием, все равно боги ему благоволили.
В прочном дубовом сундуке Тосутиг бережно хранил огромный железный меч Кулина-воителя. Все в Саруме знали, что много веков назад могучий Кулин сразил этим клинком великого северного вождя, отрубил ему голову и сделал из черепа чашу для меда. Когда Кулин поднес чашу к губам, она снова превратилась в череп, который изрек предсказание: до тех пор пока в пятиречье правит род Кулина, Сарум непобедим. Естественно, что жители Сарума во всем полагались на защиту богов.
Тосутиг с невеселой улыбкой предавался воспоминаниям, но неожиданно сообразил, что друид продолжает говорить.
– …И тебе страшиться нечего, – заверил его Афлек. – Твой род – под покровительством друидов.
Кельтские вожди по-разному относились к жрецам. К примеру, белги и дуротриги почитали друидов, потому что те поддерживали галльских жрецов и поклонялись кельтским богам, отвергая все римское. Однако в других частях Британии власть друидов была невелика. В последнее время на острове участились жертвоприношения богам войны в надежде, что римское вторжение будет остановлено. Еще пять лет назад друиды проводили свои обряды в священной роще неподалеку от Стоунхенджа. Отцу Тосутига приходилось заботиться о жрецах, которые постоянно жаловались на скудные дары. Наконец, к великой радости правителей Сарума, друиды решили перебраться на остров Энглси, в двухстах милях от Стоунхенджа, но недавно из Мэйден-Кастла в пятиречье пришел Афлек, которого юный вождь считал осведомителем дуротригов.
Тосутиг ничего не ответил жрецу и краем глаза заметил, как в лесу на юге сверкнул металл. Мужчины напряженно уставились в ту сторону и вскоре увидели, как колонна римских солдат марширует по лесистому склону в двух милях от крепости.
Молодой вождь решил, что пришло время исполнить свой замысел.
– Запри ворота на засов, – приказал он Нумексу. – По моему сигналу подними всех на стену.
Плотник с братом поспешно ушли в крепость.
– О Модрон, богиня войны, разбей врага! – выкрикнул друид. – О Ноденс, повелитель туч, защити своих слуг! – Он порывисто схватил Тосутига за рукав. – Помни, Модрон сулит тебе победу. Боги уберегут нас от римлян.
Юноша покачал головой и пробормотал:
– Вот так же друиды обещали, что римляне не переплывут пролив…
И действительно, за год до вторжения друиды возвестили, что морская пучина поглотит римский флот и что ни один римский воин не ступит на священную землю острова.
– Уходи! – презрительно процедил Тосутиг жрецу и отвернулся.
– Я готов сражаться бок о бок с тобой, – изумленно промолвил Афлек.
– Нет, римляне тебя схватят и убьют, они всех друидов убивают, – покачал головой юный вождь. – Вдобавок ты мне не нужен. – (Друид недоуменно посмотрел на него.) – Я сдам крепость римлянам и заключу с ними мирный договор, – невозмутимо по яснил Тосутиг.
Вторжение в Британию оказалось до смешного легким. Летом 43 года четыре римских легиона под началом Авла Плавтия высадились в Кенте, победным маршем прошли по юго-востоку, убили брата дерзкого вождя Каратака, а через несколько дней разгромили и войско самого Каратака. После победы над катувеллаунами император Клавдий лично прибыл в Британию с отрядом боевых слонов и в нескольких милях к северу от Темзы принял изъявления покорности от шестнадцати кельтских племен, среди которых были и атребаты. Впрочем, не все кельтские вожди объявили себя друзьями Римской империи и признали ее господство. Гордые дуротриги отказывались покоряться.
Клавдию было все равно – военный триумф был обеспечен. Император, облеченный славой полководца, провел на острове шестнадцать дней, назначил Авла Плавтия первым наместником новой провинции Британия, поручив ему подавить сопротивление оставшихся кельтских племен, а сам вернулся в Рим, где сенат встретил императора с подобающими почестями.
– Отправим войска на север и на запад, – решил Авл. – А Второй легион под началом Веспасиана захватит крепости на юго-востоке.
Легат Веспасиан, человек молодой, уже был ветераном нескольких военных кампаний и считался образцовым военачальником. Лицо его, суровое и невозмутимое, внушало солдатам уважение. Женщины им восхищались. Веспасиан был человеком рассудительным, честолюбивым и жестоким – эти качества впоследствии помогли ему занять императорский трон. Итак, намереваясь усмирить непокорные кельтские племена, легат во главе Второго легиона выступил в поход вдоль южного побережья острова.
Первая крепость дуротригов не произвела впечатления на римлян. Она стояла на невысоком холме у гавани, окруженная двумя высокими стенами в двадцать футов высотой. В центре стен виднелись дубовые ворота, утыканные чугунными шипами и укрепленные толстыми бревнами. Сама гавань дышала покоем, над тихими водами летали журавли. Защитники крепости полагали себя в безопасности. В общем, крепость напоминала дун в Саруме, за исключением того, что на берегу стояли несколько амбаров и два деревянных причала, у которых покачивались лодки. Неподалеку располагалась круглая постройка с дырой в крыше, откуда валил дым; там дуротриги чеканили серебряные монеты, которые имели хождение среди галльских купцов.
Легат, осмотрев крепость, пожал плечами и презрительно усмехнулся.
Дуротриги в ярких накидках вышли на стены крепости и, потрясая копьями, осыпали римлян оскорблениями. Один из воинов размахивал алым стягом – знаменем бога войны.
– Мы готовы сразиться один на один с вашими самыми сильными воинами! – кричали дуротриги. – Покажите нам своего предводителя!
К удивлению кельтов, римляне не стали нападать. За несколько часов они соорудили перед воротами земляную насыпь и подкатили к ней огромную катапульту и несколько телег с громадными валунами.
Неподалеку от ворот Веспасиан уселся на кожаный стул и невозмутимо продиктовал писцу следующее сообщение:
Первая крепость дуротригов стоит на берегу моря, у гавани, и обнесена двумя стенами. Все подтверждает имеющиеся у нас сведения: кельтские воины храбры, но недисциплинированны. Ворота разрушены, крепость взята.
– Отнеси послание наместнику, – велел он писцу. – На закате крепость будет нашей.
По кивку легата катапульту зарядили, и громадный валун, пролетев по широкой дуге, врезался в деревянные створки. Ворота затрещали. Чуть погодя второй камень пробил створки насквозь.
– Вперед! – скомандовал Веспасиан.
Дуротриги впервые столкнулись с отлаженной, невозмутимой силой римских воинов. По команде центуриона восемьдесят бойцов, в то время составлявших центурию, выстроились в боевом порядке, прямоугольником с минимальным расстоянием между рядами, подняв над головой щиты так, что их края находили друг на друга, а воины в передних и боковых рядах сомкнули щиты вертикально. Это формирование называлось «тестудо», «черепаха», и применялось римлянами как в полевых сражениях, так и при осаде. Воины слаженно двинулись к воротам и, надежно укрытые бронзовыми щитами, беспрепятственно вошли в крепость под градом копий, стрел и камней, выпущенных из пращей защитников. За первой центурией незамедлительно последовала вторая, а затем и третья.
Медленно и неумолимо римские воины начали истреблять дуротригов. Стена щитов неожиданно раздвигалась, и оттуда вылетали тяжелые короткие копья-пилумы, насквозь пробивая черепа защитников крепости. Резкие удары мечей-гладиев метко разили дуротригов, бросавшихся на непроницаемую стену щитов. За несколько часов до заката все было кончено, как и предсказывал Веспасиан.
Римляне забрали товары из амбаров и лодок у причала. Хозяин монетного двора успел спрятать под полом хижины две тысячи серебряных монет, но его самого убили римские солдаты. Клад обнаружили только две тысячи лет спустя.
На противоположном берегу гавани, в зарослях камышей, прятался единственный свидетель резни – высокий худощавый мужчина с узким лицом и близко посаженными темными глазами. Убедившись, что все защитники крепости погибли, он выбрался из укрытия и уселся в широкую лодку, деревянный каркас которой обтягивали дубленые шкуры. Хитроумный рыбак Тарадок не стал грести вверх по реке, чтобы предупредить Тосутига о предстоящем нападении римлян, а незаметно выскользнул из гавани в открытое море.
Через три дня после разгрома крепости на берегу гавани в Сарум отправился небольшой отряд – вексилляция, – состоявший из единственной центурии и двух конников. За отрядом везли катапульту. Тосутиг заметил, что возглавляет колонну всадник.
В дуне все было готово к встрече римлян. Афлека на веревках спустили с крепостного вала на северной стороне, но перед этим друид во всеуслышание проклял юного вождя:
– Да обрушится на тебя гнев богов! Ты нарушил клятву, данную вождю, и заслужил презрение соплеменников. Отныне имя тебе – Тосутиг Клятвопреступник.
С тех самых пор кельты иначе его не называли, но Тосутигу было все равно – его занимали мечты о будущем величии и возрождении Сарума. По мнению юноши, все шло как было задумано.
Следует признать, что в наивном замысле юного вождя было рациональное зерно. В 43–44 годах у племенных вождей не было особого выбора: сопротивляться римлянам было бесполезно. Однако завоеватели проявляли снисхождение и даже щедрость к тем, кто им не противостоял. В последующие годы многие вожди, установив дружественные отношения с Римом, стали независимыми царями-клиентами, разбогатели, обзавелись роскошными виллами и обеспечили своим сыновьям римское гражданство. Через несколько поколений они составили костяк провинциальной знати и передали власть в руки магистратов, назначаемых Римом.
Тосутиг прекрасно понимал, что Сарум ему не удержать, – перед военной мощью Рима бессильны даже грозные дуротриги. Юному вождю не оставалось ничего иного, как переметнуться к римским завоевателям, – об этом он мечтал с тех самых пор, как узнал о высадке войск Клавдия.
Однако Тосутиг был честолюбив. Он догадывался, что дуротриги, ненавидевшие римлян, будут отважно сражаться за каждый клочок своих владений, но в конце концов падут, раздавленные превосходящей мощью противника. Скорее всего, решил юноша, в Британии, как и в других провинциях огромной Римской империи, завоеватели станут полагаться на дружественных местных вож дей. В таком случае Тосутиг не собирался упускать свою выгоду.
«Я кельт, но хорошо знаю латынь и готов принести клятву верности римлянам, не то что дуротриги, которые ненавидят завоевателей и никогда с ними не примирятся. Я смогу быть полезным наместнику новой провинции», – рассуждал он, представляя в дерзких юношеских мечтах, как благодарный император одарит его землями дуротригов или хотя бы вернет право владения гаванью.
И вот долгожданный миг настал. Тосутиг, желая поразить римлян, приказал всем защитникам дуна выйти на стены.
Римляне, приблизившись к холму, разглядывали сверкающие меловые насыпи. Всадник во главе колонны спешился и пристально посмотрел на дун.
Тосутиг вышел вперед и приказал:
– Откройте ворота!
Юный вождь неоднократно представлял себе первую встречу с римлянами, но все мечты его пошли прахом.
Тосутиг торжественно спустился с холма и подошел к римлянам. Его встретил всадник. Юноша с трепетом взглянул в суровое лицо с квадратным подбородком, крупным носом и внимательными карими глазами, запнулся, потом широко раскинул руки и воскликнул на латыни:
– Добро пожаловать! Меня зовут Тосутиг, владыка Сарума. Я союзник Рима.
Командовал вексилляцией сам Веспасиан. Он холодно посмотрел на юношу и ничего не ответил. Так называемая крепость его не страшила, но раз ее защитники не намеревались сопротивляться, то в легион можно вернуться уже на следующий день, не теряя времени даром.
– Ты знаешь латынь, – равнодушно отметил он.
– Как мой отец и дед, – радостно кивнул Тосутиг и торопливо добавил: – Моя бабушка была дочерью вождя атребатов, племени, заключившего дружественный союз с Римской империей.
Веспасиан сразу понял, что юноша старается войти в доверие к римлянам. Впрочем, легата не интересовали ни Сарум, ни его так называемая крепость. По слухам, на взгорье стояло древнее святилище. Там наверняка обосновались проклятые друиды, которых Веспасиан собирался уничтожить, прежде чем двинуться на запад и расправиться с дуротригами.
– Где расположен каменный храм? – спросил он.
– Неподалеку, к северу отсюда, – ответил Тосутиг. – Он заброшен.
– Проводи нас туда, – велел Веспасиан.
Короткая поездка стала судьбоносной для юного вождя. Тосутиг, узнав, что находится в присутствии самого легата, изо всех сил старался произвести на него впечатление. Веспасиан, в сопровождении двух конников, скрывал усмешку, глядя на то, как юноша седлает свою лучшую гнедую кобылу, – по сравнению с персидскими и африканскими скакунами кельтские лошади были приземистыми, большеголовыми и тяжеловесными. По обычаю кельтов, в лошадиный корм подмешивали побеги тиса, чтобы шерсть блестела, а уздечку украшали золотом. Веспасиан ехал на буланой лошади, украшений на нем не было, только рукоять меча чуть слышно позванивала о бронзовый нагрудник.
Влажный ветер с моря гнал над взгорьем тяжелые серые облака. На склонах меловых холмов паслись отары мелких бурых овец, зеленели поля, кое-где виднелись круглые хижины под соломенными крышами.
Тосутиг с гордостью оглядел окрестности и заметил:
– Хорошие земли.
Веспасиан задумчиво кивнул – он уже понял, как ими распорядиться.
– Это твои владения? – уточнил он.
– Да, эти места издавна принадлежат нашему роду, – ответил юный кельт. – И взгорье, и земли на юго-западе. Мы живем в долине.
Предки Тосутига, как многие знатные кельты в те времена, выстроили свое скромное жилище в нескольких милях к северу от крепости на холме. За оградой стояли два круглых, крытых соломой дома – каждый тридцать футов диаметром, – десяток хозяйственных построек и святилище бога Ноденса.
Римляне мельком взглянули на многочисленные могильники, поросшие короткой жесткой травой.
– Это могилы моих предков, – поспешно объяснил Тосутиг, надеясь, что уж теперь-то легат наверняка поймет, с каким важным человеком имеет дело.
В Стоунхендже Веспасиан с любопытством осмотрел кольцо исполинских камней. Видно было, что святилище давно забросили.
– Друиды здесь появляются? – спросил он.
– Нет, – покачал головой Тосутиг. – Они ушли отсюда еще при моем отце.
– А человеческие жертвоприношения совершали?
Юноша замялся, хорошо зная о ненависти римлян к друидам. Впрочем, он и сам с отвращением относился к жестоким обрядам, хотя и молился кельтским богам. Однажды, лет десять назад, в неурожайный год, друиды собрались в святилище и принесли в жертву младенца.
– Бывало и такое, – неохотно признал кельт.
Римлянин с отвращением поморщился.
– Друиды ушли на север, во владения дуротригов, – объяснил Тосутиг. – Они предпочитают молиться в священных рощах, а не в хенджах.
– Если встретишь друида, ты обязан его схватить, заковать в кандалы и отправить ко мне, – холодно приказал Веспасиан.
– Будет исполнено, – ответил юноша.
Судьба друидов не волновала кельта – он знал, что римляне, захватив Британию, истребят ненавистных жрецов. Ему страстно хотелось произвести благоприятное впечатление на легата, но Веспасиан ничем не выдавал своих мыслей. С самого начала римлянин понял, что честолюбивый юноша не обладает никакой властью и наивно надеется на успех своих замыслов. Веспасиан, прекрасно разбиравшийся в людях, знал, что Тосутигу нечего предложить, кроме дуна на холме, но легату доставляло удовольствие наблюдать за неловкими потугами юнца, который так гордился своими скудными познаниями и запинающимися, неуклюжими речами на латыни.
– Чего ты хочешь просить у Рима? – осведомился Веспасиан на обратном пути.
Юноша вздрогнул, но тут же собрался с мыслями, радуясь неожиданному случаю.
– Я хочу стать царем-клиентом и гражданином Римской империи, – отчеканил он давно заготовленный ответ.
«И сенатором…»
Тосутиг хотел высказать свою сокровенную мечту, но не решился, хотя всем было известно, что некоторым знатным владыкам из римских провинций иногда выпадала такая честь; самые знатные римляне обращались с ними на равных, и провинциальные царьки гордо расхаживали по Риму в тогах с широкой каймой.
– Ах, ты хочешь стать царем-клиентом! – воскликнул Веспасиан, удивляясь непомерному тщеславию и честолюбию юного глупца. – А чего еще ты желаешь?
– Чтобы мне вернули древние владения моего рода – гавань и прилегающие к ней земли. Мне известно, как извлечь из них наибольшие прибыли, – торопливо объяснил Тосутиг.
Легата это не интересовало, но юный кельт напыжился от гордости, решив, что его деловая хватка произвела благоприятное впечатление на римлянина.
– А еще чего? – невозмутимо спросил Веспасиан, с трудом скрывая насмешку, но желая продлить удовольствие от жестокой шутки.
Тосутиг давно уже придумал, чего именно потребует от римских властей, и даже готовился обратиться непосредственно к наместнику провинции. Юноша восторженно посмотрел на легата – этот военачальник, легионы которого вот-вот разгромят дуротригов, наверняка на хорошем счету у наместника, а значит, ему можно доверять. «Лучшего случая не представится, – подумал Тосутиг. – Веспасиан поможет донести мой замысел до наместника».
Отринув подозрительность, юноша вытащил из-за пазухи пергаментный свиток, адресованный Авлу Плавтию. В письме, которое Тосутиг украдкой составлял бессонными ночами, содержался хитроумный план по возвращению Саруму прежней славы. Свиток был не запечатан.
– Вот, читай, – гордо заявил кельт.
Веспасиан изумленно ознакомился с содержанием письма. Корявый почерк и грамматические ошибки развеселили бы любого римского мальчишку, а тщеславные устремления юного кельта не знали границ: он просил отдать ему во владение всю юго-западную оконечность острова. Дерзкий замысел, еле прикрытый льстивыми уверениями в почтении и признательности, заключался в следующем: Тосутиг бесконечно предан Риму и вы не пожалеете, назначив его владыкой над землями дуротригов.
– Дуротриги ненавидят римлян, – восторженно объяснил юнец. – Они будут биться насмерть, а после того как их все-таки завоюют, начнут бунтовать и устраивать мятежи, для усмирения которых необходимо будет присутствие постоянных войск, а это дорого. Вожди дуротригов никогда не покорятся Риму. Но я знаю, как с ними обращаться, потому что я сам – кельт, хотя и всецело преданный империи. Я буду верным клиентом Рима, если мне отдадут все или почти все земли дуротригов… – с надеждой в голосе заключил он.
Подобные амбиции ошеломили даже Веспасиана. Впрочем, в нелепых замыслах дерзкого юноши прослеживалась некоторая логика, хотя, разумеется, они были совершенно неисполнимы. Гордые дуротриги не желали покоряться даже могущественной Римской империи, а уж тем более этому юнцу – предателю и клятвопреступнику.
В глубине души Тосутиг это понимал, но слишком уж заманчивой была мечта вернуть Саруму былую славу и отомстить дуротригам за долгие годы бесчестья. Юноша надеялся, что римские завоеватели, незнакомые с островом и его обитателями, обрадуются возможности с легкостью разрешить задачу управления провинцией. Увы, он не представлял себе, с какой тщательностью власти империи собирали и изучали сведения о самых далеких уголках своих бескрайних владений.
Сообразив, как воспользоваться наивностью недальновидного юного мечтателя, Веспасиан с невозмутимой торжественностью ответил:
– Я передам наместнику твое послание. Однако царь-клиент обязан служить не только наместнику провинции, но и самому императору. Клавдий верит не словам, а делам.
Тосутиг взволнованно посмотрел на собеседника – о таком благоприятном развитии событий юноша даже не мечтал.
Веспасиан хорошо помнил, что захват новой провинции Клавдий предпринял в первую очередь для того, чтобы нажиться самому, – об этом император заявил Авлу Плавтию перед отъездом с острова.
– Тебе надо доказать, что ты верный друг императора, – посоветовал легат юнцу.
– А как это сделать? – спросил Тосутиг.
Веспасиан с напускным удивлением поглядел на него и ответил:
– Подари ему земли. Твои владения велики, а в личном пользовании императора – не так уж и много.
Тосутиг огорченно вздохнул. Он знал, что кельтские вожди и прежде приносили римским императорам щедрые дары в обмен на выгодные соглашения, но расставаться с родовыми владениями, и без того обмельчавшими, в его планы не входило.
– И много придется подарить? – неуверенно осведомился он.
– Не волнуйся, родовое поместье ты сохранишь, – успокоил его Веспасиан. – Императору будет достаточно земель на юго-западе, граничащих с владениями дуротригов, и вот на этом взгорье.
– Но ведь это три четверти моих владений! – простонал Тосутиг.
– Что ж, это невеликая плата за титул царя-клиента, – невозмутимо возразил легат.
Юноша запоздало сообразил, что в его просьбе может быть отказано, даже если он подарит свои владения императору.
– А если меня это не устраивает? – спросил он.
– Кто знает, удастся ли тебе их сохранить, – с улыбкой произнес Веспасиан.
Только сейчас Тосутиг понял всю глупость своей затеи. Он оказался в весьма невыгодном положении: если римляне того пожелают, то отберут у него все земли. Дуротриги не встанут на его защиту, потому что он их предал, а восточные соседи – белги и атребаты – вряд ли вспомнят о его существовании. Выбора у него не осталось, крепость он уже сдал, и предложить Веспасиану больше нечего.
Тосутиг и не подозревал, что захватывать Сарум Веспасиан не собирался: завоеванные земли автоматически переходили под контроль войска, а это означало, что здесь, в захолустье, пришлось бы расквартировывать гарнизон. Нет, эти холмистые просторы и плодородные равнины не принадлежали ни одному из могущественных племен, а потому как нельзя лучше подходили именно для подарка императору. Требовалось всего лишь составить документ, имеющий законную силу, – дарственную, по которой нынешний владелец передавал земли Клавдию. Тосутиг понятия не имел ни о римских законах, ни о тонкостях управления имперскими провинциями и не подозревал, что подобный документ не только упрочит положение Веспасиана при дворе императора, но и будет использован для того, чтобы убедить других вождей последовать примеру наивного владыки Сарума.
На самом деле Веспасиан согласился бы принять в дар половину названных им земель в обмен на римское гражданство, однако огорченный юноша не догадался этого попросить.
– У меня нет выбора, – взволнованно пробормотал Тосутиг.
Остаток дороги по меловым грядам спутники проехали в молчании. В крепости, под изумленными взглядами Нумекса и остальных жителей Сарума, писец под диктовку Веспасиана составил дарственную.
Я, Тосутиг, наследный вождь и союзник Римской империи, в присутствии легата Веспасиана, передаю в дар Тиберию Клавдию Цезарю Августу Германику, божественному императору Рима, все земли, принадлежащие мне на взгорье и к юго-западу от каменного святилища.
Легат предложил Тосутигу подписать пергамент и заверил, что документ по всей форме составят позднее.
– Кстати, как называется эта крепость? – внезапно спросил Веспасиан. – Нельзя оставлять владения без имени.
– Дун, – буркнул Тосутиг.
– А речка?
– Афон.
Это кельтское слово обозначало реку.
– Авон? – недовольно поморщился легат. – Нет, не подходит. Тихая река… Сорбио… Что ж, назовем место Сорбиодун.
60 год от Рождества Христова
В сгустившихся сумерках волны с унылым плеском накатывали на каменистый берег Уэльса. Впрочем, может быть, это сам Портий пребывал в унылом расположении духа.
Соленый морской ветер отыскал лазейку в стенке палатки и ворвался внутрь. Пламя масляной лампы заплясало, но римлянин не обратил на это внимания, сосредоточенно склонившись над пергаментным свитком. Юноша еще больше взъерошил и без того непослушные черные кудри, поудобнее устроился на складном походном стуле и медленно вывел на пергаменте опасные слова:
Между нами говоря, любезный отец, провинцией управляют из рук вон плохо. Жители вот-вот взбунтуются, а виноват в этом наместник.
Рука его замерла. Стоит ли говорить об этом в письме, которое нужно отправить в родительское имение на юго-востоке Галлии? Вдруг письмо вскроют осведомители императора? Что, если Портия обвинят в предательстве? Вдобавок место в свите наместника он получил только благодаря связям будущего тестя. Юноша грустно покачал головой, отложил пергамент и взялся за другое письмо.
Два дня назад, любезные родители, мы уничтожили последних друидов в Британии. Случилось это весьма странным образом. Оплотом друидов был крошечный островок, называемый Мона, что лежит за землями декеанглов на западном побережье Британии. Наместник приказал расправиться с проклятыми друидами, поэтому весь Четырнадцатый легион вместе с Двадцатым легионом приготовились к переправе через узкий пролив. По всему побережью острова друиды разожгли костры. Яркое пламя, грохот прибоя и дикие вопли варваров на миг остановили храбрых воинов – но только на миг! Пехота переправилась в лодках, а конники переплыли пролив верхом. Противники сражались храбро, однако в конце концов им пришлось сдаться. Больших потерь мы не понесли…
Портий разжал уставшие пальцы. Рассказ о сражении звучал пристойно, его можно прочитать и матери, и сестрам. В действительности все происходило иначе.
Храбрых воинов остановили не костры в ночном мраке, не грохот прибоя, не варвары, колотившие копьями по щитам, не заунывные проклятия друидов и даже не вид обнаженных человеческих тел, приносимых в жертву жестоким кельтским богам.
Нет, самым страшным оказались… женщины.
Полуобнаженные, выкрашенные ярко-синей вайдой, простоволосые женщины, выскочив вперед, размахивали ножами и копьями, приплясывали и подпрыгивали как безумные. Хуже всего были пронзительные, улюлюкающие вопли – над водой звучал дикий, непрерывный, нечеловеческий крик, от которого мороз пробирал по коже.
По рядам легионеров пронесся шепот:
– Это фурии!
На миг Портию показалось, что солдаты не пойдут в бой, но один из центурионов насмешливо выкрикнул:
– Ну что, струсили? Девок испугались?
Легионеры, стряхнув оцепенение, приготовились к битве.
Бой был ужасен. Вымуштрованные легионеры споро расправлялись с ордой варваров, короткие мечи рассекали тела жрецов и воинов, женщин и детей. На отмелях росли горы трупов, прибой побагровел от крови. Когда все было кончено, в живых осталось только два друида – глубокие старики, которые бессильно шамкали беззубыми ртами, проклиная римлян. Легионеры затолкали их в клетку, сплетенную из ивовых ветвей, и сожгли на костре.
– Они так же поступают со своими соплеменниками, – объяснил Портию один из солдат.
Молодой римлянин знал, что кельтские жрецы отправляли на костер только преступников, но, как известно, с победителями не спорят.
Портий помотал головой, отгоняя жуткие видения, и продолжил письмо:
Через несколько дней наместник намерен вернуться в новый город, называемый Лондиниум, и следующее мое послание придет к вам оттуда.
От усталости смыкались глаза, рука дрожала. Пора заканчивать:
Любезные родители, я весьма благодарен сенатору Гракху, которого вскоре надеюсь назвать своим тестем, за предоставленную мне возможность лично засвидетельствовать победоносное шествие римской армии и, может быть, даже самому отличиться в одном из сражений. О милой Лидии я думаю ежечасно и считаю дни до нашей следующей встречи в славной столице империи.
С глубоким почтением,ваш сын Гай Портий МаксимЮноша печально вздохнул. Лидия… Может быть, через год они увидятся. Здесь, в холодном северном краю, среди вечных туманов, он часто вспоминал ее лучезарную улыбку. Ему самому было удивительно, что они с Лидией обручены. Лидия – третья дочь Гракха, влиятельного сенатора из древнего рода, а он, Портий, – безвестный провинциал, хотя и из уважаемого сословия всадников, но вряд ли подходящий муж для дочери знатного римлянина. В обычных обстоятельствах юноша никогда не встретился бы с Лидией, но удача ему улыбнулась: однажды ему довелось сопровождать дальнего родственника, который служил магистратом в Риме, в дом сенатора. Там они случайно увиделись с Лидией и полюбили друг друга с первого взгляда. За такую дерзость Портию вполне могли отказать от дома – вежливо, но окончательно и бесповоротно. К счастью, страдания влюбленной Лидии, совершенно неподобающие для дочери знатного рода, растрогали сенатора Гракха. К тому же у него было еще два сына и две дочери, так что настойчивым просьбам Лидии пришлось уступить.
– О юном Портии никто плохого слова не скажет, – утешала сенатора жена.
– И хорошего тоже, – раздраженно возразил седовласый сенатор.
Портий мечтал попробовать свои силы на литературном поприще и даже написал пару легкомысленных эпиграмм, которыми восхищалась Лидия, однако этим все и закончилось. Доходы имения в Южной Галлии позволяли семье сохранять положение в обществе, но и только. По совету отца Портий решил заняться юриспруденцией, впрочем тоже без особого успеха.
– Дочери Гракхов не пристало выходить замуж за ничтожество, – ворчал сенатор. – Придется как-то поспособствовать жениху.
После долгих размышлений сенатор обратился к Гаю Светонию Паулину, недавно назначенному наместником Британии, и попросил принять юного Портия в свиту.
– Пусть проведет годика три в провинции, может, чего-нибудь путного добьется или погибнет от рук варваров, мне все равно, – объяснил сенатор.
Предложенный пост, хотя и неофициальный, давал двадцатилетнему Портию прекрасную возможность обзавестись полезными знакомствами в непосредственном окружении наместника, называемом cohors amicorum, свита друзей. Юноши из знатных семейств таким образом постигали основы имперского управления и впоследствии занимали важные государственные посты. Гракх надеялся, что Портий сумеет хорошо зарекомендовать себя и станет достойным мужем Лидии. Пребывание юноши в далекой провинции имело и другое преимущество.
– Может быть, Лидия о нем забудет, – сказал сенатор жене. – Ей уже тринадцать. Если повезет, за это время подыщем ей жениха получше.
– Будем надеяться, что юноша проявит себя с наилучшей стороны, – подбодрила его жена.
Сенатор призвал к себе Портия и сурово объявил:
– Я отдам за тебя дочь, только если ты добьешься успеха. В противном случае видеть тебя я не желаю.
Портий понимал важность своего назначения: Гай Светоний Паулин был человеком влиятельным. Надменный и раздражительный претор прославился успешными военными кампаниями в Мавритании и первым из римлян пересек Атласский хребет. Войну и горы он любил больше всего на свете и слыл любимчиком императора Нерона.
Шесть лет назад Клавдий скончался. Его молодая жена, честолюбивая красавица, мечтая об имперском престоле для сына от предыдущего брака, заставила мужа усыновить юношу и после этого отравила императора.
Престол унаследовал Нерон – юноша способный, но несдержанный. Став императором, он первым делом приказал убить мать и начал весьма своеобразно править империей. Больше всего ему нравилось музицировать на пирах и участвовать в поэтических состязаниях. Публичные выступления Нерона ошеломляли сенат куда больше, чем речи заики Клавдия, однако к управлению государством он привлекал людей неординарных и талантливых, к примеру философа Сенеку и прославленного военачальника Светония.
В окружении Светония было немало способных людей: Гней Юлий Агрикола, доблестный военный трибун, несколько юношей из знатных римских семейств и двадцатичетырехлетний Марк Марцеллин, к мнению которого прислушивались все остальные. Марк держал себя с достоинством, больше присущим человеку лет тридцати, и прекрасно исполнял любые поручения. Легионеры и Светоний относились к нему с уважением. Ясно было, что он пойдет по стопам Агриколы или даже самого наместника. Высокий мускулистый юноша с правильными чертами лица, крупным носом и красивыми черными глазами, над которыми сходились густые брови, внушал Портию неимоверное восхищение.
В первые месяцы после приезда в Британию Портию пришлось нелегко: наместник не обращал на него внимания, а родовитые юноши, снисходительно взирая на молодого человека без связей и средств, не стремились принять его в друзья. Марк проникся к нему сочувствием и заявил остальным:
– Негоже нам чураться юного Портия. Он юноша старательный, о нем никто худого слова не скажет.
Светоний, который не замечал Портия в Камулодуне[1], где располагалась временная ставка наместника, теперь начал давать ему небольшие поручения и обнаружил, что молодой человек трудолюбив и смышлен.
– В бою он пока не отличился, но юноша толковый, – однажды сказал наместник своим легатам.
Подобной похвалы редко кто удостаивался, поэтому один из легатов осмелился спросить:
– А откуда он взялся?
– За него сенатор Гракх поручился, собирается за него дочь отдать, – честно признался Светоний. – А Гракхам отказывать не стоит, сами понимаете.
Портий, задумчиво уставившись в темноту, мечтал о Лидии. Перед его глазами всплывало прекрасное видение: юная девушка, не подозревая о присутствии посторонних, гуляла в саду на римской вилле сенатора. В тот день Лидии исполнилось тринадцать лет. Каштановые волосы, по тогдашней моде заплетенные в косу, замысловатым венком окружали прелестную головку; сквозь тонкий лен скромного белого платья, присобранного на талии, просвечивали очертания хрупкой девичьей фигурки и высокая грудь. Портий влюбился с первого взгляда, понимая, что ему несказанно повезло: девушки знатного рода до свадьбы не появлялись в обществе. Вдобавок Лидия, очаровательная большеглазая смуглянка, хотя и достигла брачного возраста, была еще не просватана. Наивная девуш ка, в сущности еще совсем ребенок, отличалась упрямым, но отходчивым нравом, и Портий считал ее совершенством. Лидия полагала возлюбленного человеком исключительным, и это ему льстило.
Юноша печально вздохнул. Выжить в далекой северной провинции ему помогали лишь мечты о свадьбе. Через два года Лидия станет совсем красавицей. Он ясно представил себе торжественную брачную церемонию: вот у входа в дом Гракхов собираются факельщики, звучит эпиталама – свадебное песнопение «Гимен, о Гименей!» – а Лидия в фамильном храме приносит в жертву ларам, богам домашнего очага, свое девичье платье и игрушки. Потом девушку оденут в длинное белое одеяние и накроют ярким шафранным покрывалом волосы, заплетенные в шесть кос, как у весталок. О, как Портий мечтал о том дне, когда ему будет позволено погладить шелковистые каштановые пряди, вдохнуть их чудесный аромат!
А затем при свете факелов невесту проведут в дом жениха, где она окропит двери оливковым маслом и обовьет притолоку шерстяными повязками. Он, Портий, подхватит Лидию на руки и, провожаемый восторженными выкриками гостей и скабрезными напутствиями, перенесет через порог…
Резкий порыв ветра хлопнул полотнищем у входа, и в палатку заглянул Марк.
– Любовное послание сочиняешь? – с дружелюбной улыбкой спросил он.
– Нет, пишу родителям о нашей победе.
– Да, жестокая была битва, – вздохнул Марк. – Кстати, наместник тебя похвалил, сказал, что ты себя достойно вел на переправе, как настоящий воин.
Портий зарделся от удовольствия.
– Утром выходим в разведку, на западную оконечность острова, – продолжил Марк. – Пойдешь с нами?
– Конечно! – обрадованно воскликнул Портий, понимая, что ему оказывают огромную честь.
Марк с любопытством взглянул на юношу. Особыми достоинствами Портий не блистал. Каким образом ему удалось обручиться с дочерью знатного сенатора? Может, девушка – редкая уродина, которую никто не желает взять в жены?
– Рассказал бы хоть, какая она из себя, твоя драгоценная Лидия, – улыбнулся он.
– Ах, я тебе сейчас покажу! – с жаром произнес Портий и гордо протянул приятелю портрет на деревянной дощечке размером с ладонь.
– Какая красавица! – ахнул Марк.
– О да, – восторженно кивнул Портий. – Через два года я вернусь в Рим, мы поженимся и обязательно приедем в Британию, я вас познакомлю.
Девушка и в самом деле была очаровательна.
– Буду рад знакомству, – задумчиво ответил Марк, отчаянно завидуя приятелю. – Что ж, до завтра.
После его ухода Портий добавил к своему посланию приписку о похвале наместника и погрузился в размышления. Думал он не о Лидии и даже не о себе, а о делах государственных. В последнее время его весьма тревожили некоторые аспекты имперской политики в отношении провинций. Наконец он взял отложенный свиток и принялся писать:
Досточтимый отец!
Обращаюсь к тебе за мудрым советом, но умоляю не рассказывать об этом никому, даже моей любезной матушке.
Дело в том, что мы, распространяя среди варваров цивилизованные имперские обычаи, совершенно забываем о местных традициях, из-за чего коренное население провинции нас возненавидело.
Недавно мы построили великолепный храм в Камулодуне и, как принято, назначили его жрецами местных вождей. Однако значительные средства на содержание храма, как известно, взимаются со жрецов, для которых такие расходы непосильны. В результате, вместо того чтобы чтить нашего божественного императора, они предпочитают поклоняться своим языческим богам.
Более того, если ты помнишь, покойный император, божественный Клавдий, поощрял вождей-клиентов и оказывал им покровительство, но нынешний император их ненавидит. Финансовый надзор над провинцией поручен прокуратору Кату Дециану, человеку ленивому и корыстному. Прокуратор отбирает у вождей имущество, заявляя, что оно принадлежит империи. Разумеется, вожди справедливо негодуют и полагают римлян клятвопреступниками.
Однако главная беда в другом: кельтские вожди погрязли в долгах, и один из самых главных римских кредиторов – не кто иной, как философ Сенека! А ведь еще совсем недавно я с восторгом пытался следовать его постулатам о том, что жить следует скромно, быть милосердным и отвергать мирскую роскошь. Оказывается, он ссудил местным вождям миллионы сестерциев, а теперь запаниковал и вместе с остальными кредиторами настаивает на возвращении долга с процентами, однако вожди, лишенные последнего имущества, не могут с ним расплатиться.
По-моему, для процветания провинции необходимо не только выиграть войну, но и завоевать мир, но если нам веры нет, то добиться этого невозможно. Увы, наместник, хотя и великий человек, озабочен только проведением военных кампаний в горах, дабы упрочить свою репутацию доблестного полководца, а прокуратор – редкий негодяй. Похоже, бунта не избежать. Обстановка на востоке накалилась, особенно в землях тринобантов и иценов.
Подобное мнение наверняка разделяют и другие в свите наместника, но огласить его боятся – Светоний всем внушает страх. Я не представляю, что можно предпринять, чтобы исправить положение, а потому смиренно прошу твоего совета…
Портий удовлетворенно перечитал послание и решил, что мысли свои выразил ясно и четко, в емких, звучных выражениях. Теперь предстояло решить, стоит ли отправлять это опасное письмо. А вдруг оно попадет в чужие руки или его вскроют? Может быть, лучше его сжечь?
Умом он понимал, что вмешивается не в свое дело, но совесть не позволяла ему молчать, и Портий терзался тревожными мыслями, пока не уснул.
На рассвете в палатку ворвался Марк:
– Вставай, вставай скорее!
Портий с трудом приоткрыл глаза и пробормотал:
– В чем дело?
– Ицены взбунтовались, – мрачно ответил приятель.
Отправлять послание отцу не имело смысла.
Как выяснилось, гордое племя иценов, населявшее восточную оконечность Британии, взбунтовались по вине прокуратора. Недавно умерший вождь иценов Прасутаг завещал свое огромное богатство двум дочерям и объявил императора Нерона их опекуном, однако Кат Дециан немедленно отобрал все их имущество и земли, оставив войска для усмирения возмущенных иценов.
Таким образом, взрывоопасная ситуация возникла из-за глупости и корыстолюбия прокуратора вкупе с безразличием наместника. Ицены схватились за оружие. Римские легионеры, решив преподать урок непокорным варварам, отправились к жене вождя Боудикке, высекли ее плетьми, а дочерей обесчестили.
Вспыхнувшее восстание распространилось со скоростью лесного пожара. К иценам тут же примкнули их соседи, тринобанты, и вскоре на Камулодун двинулась многотысячная армия хорошо вооруженных варваров.
Камулодун, первое поселение, основанное римлянами в захваченной провинции, носил высокий статус колонии. В городе воздвигли форум, храм и здание суда, а в окрестностях города, по обычаю, выделили земли легионерам-ветеранам. Город был совершенно неукрепленным, с немногочисленным гарнизоном, а потому разгневанные ицены захватили его без особого труда.
– Мы свергнем римских богов, сожжем их храмы и сотрем с лица земли захватчиков! – выкрикивали мятежники.
Командир гарнизона, спохватившись, отправил гонца к Светонию с просьбой о помощи – увы, слишком поздно.
Ранним утром наместник обратился к своим спутникам:
– Вся страна полыхает в огне восстания. Его следует немедленно подавить. Мне сообщили, что гарнизон в Линдуме[2] уже отправил солдат в Камулодун, но им требуется подкрепление. Времени для пешего марша не осталось, поэтому я решил немедленно выступить в Камулодун вместе с отрядом всадников. Четырнадцатый и Двадцатый легионы форсированным маршем последуют за нами. Я послал гонца в Глевум[3] с приказом Второму легиону выступать на восток. Мы должны встретить их у Веруламия[4]. В Камулодун идти бесполезно: город наверняка захвачен бунтовщиками. Сейчас главное – спасти порт в Лондиниуме.
Бесстрашный наместник во главе трехсотенного отряда всадников отправился в Лондиниум по древней дороге, которую впоследствии назовут Уотлинг-стрит. Осень выдалась холодной, и к ночи подмораживало. Каждые несколько часов гонцы приносили устрашающие известия о ходе мятежа, но Светоний невозмутимо двигался вперед.
– Просто удивительно, как он сохраняет спокойствие! – восхищенно сказал Портий Марку.
– Чем хуже идут дела, тем он довольнее, – ответил приятель.
К концу второго дня пути Портий решил, что Марк прав.
На привале наместник обратился к своим спутникам:
– Варвары позабыли об имперской мощи, считают, что мы разучились сражаться, а все потому, что ветераны-легионеры в Камулодуне разжирели и превратились в земледельцев. Помните, каждому поколению варваров необходимо преподать жестокий урок. Вот этим мы с вами и займемся.
Увы, невозмутимости наместника был нанесен страшный удар. Отважный Квинт Петилий Цериал во главе двухтысячного отряда легионеров вышел на помощь защитникам Камулодуна, а ему навстречу двинулось многотысячное войско восставших. Пехота, подавленная численным превосходством британцев, была перебита. Всадникам и Цериалу чудом удалось ускользнуть от преследования врага.
Весть об этом настигла наместника сразу же после ухода с острова Мона. Бунтовщики уничтожили почти половину легиона, одного из четырех в Британии, но мысли о потерях только укрепили решимость Светония.
На пятый день отряд наместника добрался до Веруламия, небольшого, плохо защищенного римского поселения, где их должен был встретить Второй легион из Глевума.
– Где Второй легион? – гневно осведомился Светоний у своего трибуна. – Кто ими командует?
– Легат в отъезде, легионом командует префект гарнизона Пений Постум, – ответил Агрикола.
– Я же ясно приказал! – взъярился наместник и раздраженно добавил: – Что ж, не будем их дожидаться, немедленно выступаем на восток.
На следующее утро отряд прибыл в Лондиниум. В отличие от Камулодуна, город, раскинувшийся на холмах, не имел статуса колонии и не был обнесен стеной. Вдоль реки стояло множество складов, за ними теснились бревенчатые лавки торговцев. На форуме кипела жизнь, заключались сделки, велись переговоры. Военный склад, обнесенный частоколом и укрепленный траншеями, охранялся небольшим гарнизоном. Все постройки были в основном деревянными; каменных и кирпичных зданий Портий не заметил. Ясно было, что защитить город невозможно.
Второй легион по-прежнему не появлялся.
Пока отряд ждал подкрепления, наместнику доставили еще одно ужасающее известие: храм в Камулодуне разрушили до основания, город сожгли, а всех римлян убили. Боудикка во главе пятидесятитысячного… нет, шестидесятитысячного, а то и семидесятитысячного войска направляется в Лондиниум.
Торговцы и их семьи взволнованно окружили укрепленный военный склад, умоляя наместника:
– Спасите нас и наши товары!
– Я не смогу вас защитить! – раздраженно буркнул Светоний и на закате приказал всадникам оставить город. – Ждать бесполезно. Скажите людям, чтобы уходили из города, если хотят остаться в живых.
Отряд отправился в Веруламий, так и не обнаружив никаких следов Второго легиона. На следующую ночь на юго-востоке вспыхнуло алое зарево – горел Лондиниум. Перед рассветом прискакал гонец с вестью, что войско Боудикки идет к Веруламию.
– Спасайтесь сами, я вам не помощник! – объявил Светоний жителям города и снова вывел отряд в путь.
Подкрепления не было.
Ночью горизонт снова полыхнул багрянцем.
– Веруламий сожгли, – шепнул Портий.
Марк встревоженно поглядел на приятеля.
На следующее утро подоспели Четырнадцатый и Двадцатый легионы, форсированным маршем прошедшие двухсотмильный путь от Моны.
– Вот теперь мы покажем варварам! – заявил Светоний.
Спустя два дня началось сражение, которое стало одним из самых кровавых в истории Британии. Гай Светоний Паулин, несмотря на множество недостатков, еще раз проявил себя прекрасным полководцем, проведя сражение по всем канонам римского военного искусства.
На стороне Боудикки было численное преимущество. В двух легионах Светония насчитывалось всего семь тысяч человек, а на них наступала огромная армия в десять, а то и в двадцать раз больше. Разъяренные кельты хотели наголову разгромить врага и навсегда изгнать римских захватчиков с острова. Боудикке это удалось бы, будь на месте Светония другой военачальник.
Легионы римлян расположились в узком ущелье, защищенном со всех сторон густой чащей, перед которым лежала открытая равнина. Легионеры выстроились в центре, в три шеренги сомкнутым строем; по обеим сторонам от них стояла легковооруженная пехота из вспомогательных войск.
– Светоний выбрал прекрасную позицию, – сказал Марк Портию, когда приятели примкнули к небольшому отряду конников на фланге, за основными силами римлян. – Кельтов в десять раз больше, чем нас. Они решат, что заманили нас в западню, но окружить нас им не удастся, никакой численный перевес не поможет. А лобовая атака разобьется о стену наших щитов.
– А вдруг нас сметут? – спросил Портий.
– Не сметут, – раздался за спиной суровый голос наместника.
Светоний подошел к молодым людям и с нажимом добавил:
– Запомни, Портий, чем больше орда варваров, тем беспорядочнее они действуют в сражении. Погоди, сам увидишь.
Уверенный тон военачальника развеял все сомнения Портия в исходе битвы.
Туманным утром британцы черной лавиной хлынули на поле боя, заполнив равнину до самого горизонта. В сравнении с небольшим войском Светония их число было несметно – то ли семьдесят тысяч, то ли все двести тысяч: мужчины, женщины и дети, пешие, в телегах и древних боевых колесницах, вооруженные копьями, булавами, мечами и зажженными факелами. Кельты увидели шеренги римских легионеров, замерших за сверкающими щитами у леса, и над равниной пронесся ужасающий вопль ярости. Варвары наступали медленно и неумолимо, и было их столько, что до входа в ущелье первая волна нападающих докатилась лишь через полчаса.
Перед строем варваров стремительно катилась боевая колесница, запряженная двумя лошадьми. Именно быстрота движения и маневренность колесниц делали их грозным оружием кельтов, однако преимущество они сохраняли только на равнине, а на ограниченном поле боя превращались в помеху. Стоящая в колеснице седовласая женщина криками подбадривала соплеменников, которые отвечали ей восторженными возгласами и на все лады проклинали ненавистных римлян.
– Гляди, что удумали! – воскликнул Марк, толкая в бок Портия.
В тылу кельтского войска плотным строем составили повозки и телеги, отрезая римлянам путь к бегству. Варвары, решив, что римляне попали в ловушку, разразились бешеными криками.
– Смерть наместнику! – воскликнула Боудикка. – Смерть проклятым римлянам!
Кельтское войско сопровождали друиды; над головами воинов повсюду раскачивались изображения языческих богов: змеевласые Сулия и Левкетий, рогатый охотник Кернунн, кровожадный Дагда – покровитель воинов, Тевтат – защитник всех кельтских племен, Ноденс – повелитель туч и масса изваяний поменьше – боги плодородия, удачи и исцеления. Боудикка размахивала длинным шестом, увенчанным резным изображением черного ворона и кричала:
– Ворон сулит победу! Я ворон!
Светоний невозмутимо посмотрел на беснующихся варваров, обернулся к легионерам и с нажимом произнес:
– Они сами закрыли себе путь к отступлению.
Кельты, готовясь к атаке, завопили еще громче. Римляне в молчании ожидали начала битвы. На обветренном лице наместника появилось презрительное выражение. Он перевел взгляд на варваров и внезапно приказал:
– Вперед!
Кельты, захваченные врасплох, оцепенели от неожиданности. Шеренга римских воинов, сверкая бронзовыми щитами, решительно двинулась в наступление. Варвары беспорядочно заметались, не зная, что предпринять. Мужчины, женщины и дети, возки и телеги рассыпались по полю, некоторые смельчаки подбегали к легионерам и тут же падали, сраженные точными выпадами коротких мечей. Неумолимая машина дисциплинированных римских воинов подминала под себя всех без разбору.
Портий оставался с конницей, нетерпеливо ожидая приказа вступить в битву. Наконец-то ему представился случай покрыть себя славой! Наверняка о его подвигах узнают даже в Риме!
– Скорее бы в бой! – вздохнул он. – Мы их одним ударом сокрушим!
Наместник все так же невозмутимо следил за действиями легионеров – солдаты, выстроившись непробиваемым клином, глубоко врезались в ряды противника и одерживали верх в рукопашной схватке. А когда британцы, спутав свои ряды, разбегутся по всей равнине, настанет время отправить в бой кавалерию.
Портий в полной мере оценил мастерство старого военачальника: Светоний дождался, когда в беспорядочной толпе вспыхнет бе зудержная паника, и только тогда резким кивком дал сигнал военному трибуну.
– Вперед! – выкрикнул Агрикола.
Римские конники с копьями наперевес слаженно бросились на врага. Британцы дрогнули и бросились бежать, но всадники косили их, будто траву на лугу. Глухо стучали копыта лошадей. Портий на полном скаку резал и колол врагов – под меткими ударами копья падали мужчины, женщины и дети. Битва превращалась в бойню, но Портия это не остановило.
– Конница, назад! – прозвучал отрывистый приказ.
Всадники остановились у скопления телег и повозок.
– Назад! Построиться!
Вместе с остальными конниками Портий неохотно вернулся к наместнику. Только теперь стало ясно, что произошло. Наступление конницы обратило кельтов в бегство, но, как и предсказывал Светоний, отступлению помешали повозки. Мужчины, женщины и дети пытались прорваться через беспорядочное нагромождение телег и возков, но обезумевшие лошади и волы сбивали с ног и затаптывали беглецов, а легионеры не щадили никого.
– Коннице там делать нечего, – буркнул Марк. – Ты только погляди, что происходит!
Кровавая резня не прекращалась. Римляне убивали всех без разбору – и редких смельчаков, которые пытались обороняться, и беззащитных женщин и детей.
К наместнику приблизился Агрикола:
– Все кончено, – доложил он. – Будем брать пленников?
На обветренном, словно окаменевшем лице Светония не дрогнул ни один мускул.
– Нет.
– Но женщины и дети… – начал военный трибун.
– Всех убить.
Портий вспомнил слова одного из приятелей Гракха: «Светоний – доблестный военачальник, но гнев его ужасен».
Римляне в молчании смотрели на планомерное уничтожение кельтов. Наместник, бесстрастно наблюдая за бойней, произнес:
– Варваров следует держать в страхе, чтобы не забывали о мощи Рима.
…Мало кто из кельтов остался в живых после битвы. Боудикка погибла. Наместник не стал подсчитывать убитых врагов, но мы с Марком полагаем, что убито более семидесяти тысяч человек.
После сражения мы отправились в Веруламий, а потом в Лондиниум. От городов остались лишь пепелища, а всех жителей убили.
Прокуратор Кат Дециан сбежал в Галлию, вместо него обещают прислать нового. А еще выяснилось, что префект лагеря в Глевуме, тот самый, под началом которого оставили Второй легион, позорно струсил, узнав о разгроме Девятого легиона, а потому, нарушив приказ наместника, побоялся прийти нам на помощь. Однако до него дошли известия о нашей блистательной победе, и он бросился на меч.
Теперь же Светоний вознамерился отомстить коренным жителям провинции. Он отправил отряды легионеров во все мятежные регионы с приказом уничтожить любые следы возможного сопротивления. От британцев ожидают полного повиновения, в противном случае их предают смерти. Слово наместника – закон…
Портий отправил родителям свое послание из сожженного дотла Лондиниума. Действия наместника вызвали в юноше противоречивые чувства. Портия восхищали невозмутимость и бесспорное мастерство военачальника, ведь малейшая ошибка при подавлении мятежа привела бы к полному уничтожению легионов. Однако он содрогнулся от отвращения, услышав, как Светоний ожесточенно заявил:
– Рим отомстит мятежникам!
Карающий гнев наместника обрушился на провинцию. Светоний стремился полностью подчинить британские племена и отплатить им за разрушение Лондиниума и Камулодуна. Усмиренные британцы жили в постоянном страхе и вдобавок страдали от разрухи, нищеты и голода. Доходы, поступавшие в римскую казну, иссякли, а недовольство народа усилилось.
– Наместник – великий военачальник, но слишком жестоко обращается с мирными жителями, – заметил Портий Марку. – Он держит их в страхе, вместо того чтобы завоевать их доверие и расположение.
– Возможно, ты и прав, – ответил приятель. – Хотя, по-моему, с таким мнением мало кто согласится. Легионы поддерживают действия Светония, и даже сам император требует жестокой расправы с бунтовщиками.
– Но это несправедливо! – возмутился Портий.
– Лучше молчать и ни во что не вмешиваться. Не нашего ума это дело.
Увы, Портий не внял мудрому совету приятеля и всю зиму предавался унылым размышлениям.
Впрочем, в остальном жизнь его изменилась к лучшему. Светоний, не подозревая о настроениях юноши, доверил ему несколько важных поручений, и в частности велел ему сопровождать Агриколу в Линдум, где находились оставшиеся части Девятого легиона. Портий хорошо зарекомендовал себя в глазах военного трибуна.
– Мы намерены провести важную кампанию на севере, – сказал ему Агрикола. – Пожалуй, я возьму тебя к себе в ставку.
Портий зарделся от удовольствия. О случившемся он упомянул в послании родителям и отправил благодарственное письмо Гракху.
«Наместник мной доволен, – писал Портий Лидии. – Похоже, через год твой отец станет ко мне благосклоннее».
Марк стал хорошим другом юноши и всякий раз, глядя на портрет Лидии, с усмешкой говорил, что Портию очень повезло.
– Я даже родителям рассказал, какая у тебя очаровательная невеста, – признался он однажды.
К середине зимы на остров прибыл новый прокуратор, Гай Юлий Альпин Классициан, высокий и худощавый, с узким лицом, впалыми щеками и залысинами над высоким лбом. Он горбился, склоняясь к собеседнику, и напряженно вслушивался в каждое слово, а когда не принимал участия в разговоре, то задумчиво смотрел куда-то вдаль. Ему было поручено улучшить финансовое положение разрушенной провинции, и подчинялся он непосредственно императору.
– Он умен, но слишком рассеян, – заявил Портий Марку. – По-моему, он не добьется успеха.
Как выяснилось, юный Портий ошибался в своих оценках.
Классициан, отпрыск знатного провинциального семейства Альпинов из племени треверов, родился в городе Трире на реке Мозель. Он добился высокого положения благодаря своим способностям и честности, а за добродушием и рассеянностью скрывался острый, наблюдательный ум. Спустя несколько недель после прибытия в Британию Классициан отправил в Рим подробный отчет с изложением действий, необходимых для примирения с местным населением и возрождения провинции. Разумеется, Портий об этом не подозревал.
Ранней весной Портий получил от Лидии письмо:
К нам в гости приходила тетушка Марка Марцеллина, твоего приятеля. Я рада была узнать, что и твой друг, и сам наместник хорошо о тебе отзываются. Отец мой тоже обрадовался этому известию. Оказывается, Марк упоминает тебя в своих письмах к родителям. Его тетушка показала мне его портрет. Я с нетерпением жду твоих рассказов о Марке и о ваших подвигах.
Портий, обрадованный этим известием, тут же написал Лидии ответ, не преминув в самых теплых выражениях отозваться о Марке.
К концу снежной зимы Светоний обосновался в Камулодуне. Легионеры спешно восстанавливали разрушенный город. Однажды наместник призвал к себе Портия и хмуро объявил:
– Возглавишь отряд.
Юноша задохнулся от гордости: до сих пор ему поручали только сопровождать трибуна или бенефициариев – личных посланников наместника.
Вместе с отрядом из восьмидесяти легионеров под началом центуриона юноше предстояло посетить селения на северо-западе римских владений, граничащих с землями еще не покоренных декеанглов.
– Племена на северо-западе наверняка укрывают у себя мятежников. Вдобавок они припозднились с уплатой налогов, – мрачно сообщил Светоний. – Если откажутся платить, убей вождя и сожги поселение.
Портий, сообразив, что перечить наместнику опасно, удержался от возражений и немедленно выступил в поход.
Спустя десять дней Портий и восемьдесят легионеров под началом центуриона прибыли на место. Центурион, старый вояка, закаленный в боях, давно служил у наместника и ненавидел кельтов.
– Вырезать их под корень, и дело с концом, – буркнул он. – Светоний так бы и поступил.
Селение, как и многие на северо-западе острова, являло собой убогое зрелище. Заброшенная крепость с полуразрушенными земляными валами больше походила на пастбище. Чуть поодаль, в долине, стояли хлипкие лачуги, небольшое круглое святилище и два загона для скота, где ютились тощие лохматые коровы. На склонах холма виднелся десяток делянок, засеянных ячменем. По взгорью бродили стада мелких овец. Портий внимательно изучил окрестности. Население поселка составляло около пятисот человек, еще двести обитали в древних землянках, вырытых в склонах холмов. Здесь не было ни круглых домов под соломенными крышами, ни оград, сплетенных из ивняка, ни пшеничных полей. Местные жители со страхом глядели на легионеров.
Портий подошел к вождю племени, седому старику в тяжелой накидке, и решительно объявил:
– Вы не уплатили положенную аннону – натуральный налог зерном.
Вождь безмолвно пожал плечами.
– Вы не уплатили ни земельного, ни подушного налога, – продолжил юноша. – Почему?
Вождь тусклыми глазами поглядел на него:
– Нам нечем платить.
– У вас есть скот, овцы и ячмень, – укоризненно напомнил Портий.
– Сам видишь, римлянин, мы живем бедно. Ваш император слишком жаден.
– Между прочим, в поселении нет статуи божественного императора, – проворчал центурион. – И святилище языческое, а не храм римским богам.
Дело принимало серьезный оборот. Обычно, желая избавиться от ненавистных друидов, власти сооружали храмы тем богам римского пантеона, которые больше всего походили на языческие божества, почитаемые местными жителями; той же цели служил и культ божественного императора. Однако здесь в святилище центурион обнаружил странного божка с лицом, скрытым накидкой. В руках истукан, совершенно непохожий на какое-либо римское божество, держал змею и ворона.
– Мятежники, – буркнул центурион. – Поджечь гадов, и дело с концом.
Портий покачал головой. Ему не хотелось уничтожать нищенское поселение; вдобавок, судя по всему, бывший прокуратор Дециан установил чрезмерный, попросту грабительский налог, требуя отдавать в казну больше половины скота и две трети всего урожая ячменя.
– Налог будет пересмотрен, – пообещал Портий. – А сейчас заберем у них десять коров и одну телегу зерна.
– Слишком легко отделаются, – недовольно заметил центурион.
Портий обернулся к вождю и объяснил:
– Сейчас мы заберем часть вашего долга. Впоследствии налог уменьшат, но платить его вы обязаны вовремя.
Портий велел центуриону вывести из загона десяток коров, и легионеры отправились выполнять приказ.
Жители перекрыли им дорогу, а старый вождь по глупости не стал их останавливать. Легионеры принялись расталкивать людей щитами. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила старуха с копьем и метнула его в легионера. Копье вонзилось римлянину в шею, хлынула кровь, и солдат бездыханным упал на землю.
– К оружию! – выкрикнул центурион. – Зададим им жару!
Легионеры выстроились боевым порядком.
– Стоять! – приказал Портий.
Центурион, не обращая на него внимания, велел солдатам наступать и напомнил ошеломленному Портию:
– Таков приказ наместника.
Юноша беспомощно глядел, как римляне слаженно убивают перепуганных жителей селения.
Спустя час все было кончено. На месте поселка дымилось пепелище. Вождя убили, святилище разрушили, забрали десять телег зерна и пятьдесят коров.
– Споро управились, – ухмыльнулся центурион. – Ну, куда теперь путь держим, Гай Портий?
Юноша угрюмо молчал.
По возвращении в Камулодун он лично вручил наместнику рапорт, в котором упоминалась лишь попытка местных жителей оказать сопротивление, которая, как полагается, была подавлена. Портий также отметил, что чрезмерные налоги следует пересмотреть.
– Все правильно, – хмыкнул Светоний, бегло проглядев свиток, потом внимательно посмотрел на Портия и добавил: – А жизнью легионеров рисковать не стоит. Смерть от руки женщины хуже бесчестья. В следующий раз не мешкай, Гай Портий. Провинцию необходимо усмирить.
Однако совет наместника не успокоил Портия. Юноша терзался своим участием в бессмысленной резне, понимая, что жестокие карательные меры не исправят положения дел в провинции. «Местные жители все больше и больше ненавидят римлян, считают нас завоевателями. Наверняка вскоре вспыхнет новый мятеж. Кто знает, спасет ли нас тогда воинское искусство Светония? Может быть, разъяренные островитяне растерзают всех римлян в клочья?»
Горькие мысли не оставляли Портия. Что делать? Подать в отставку и вернуться в Рим? После этого о продвижении по службе придется забыть. Сообщить об ошибках в управлении провинцией Гракху или кому-нибудь из влиятельных сенаторов, предупредить о грозящей катастрофе? Нет, это подло. В конце концов Портий принял неожиданное решение, но, прежде чем действовать, рассказал о своем намерении Марку.
Марк внимательно выслушал подробные объяснения приятеля.
– Я не желаю прослыть предателем или подлецом, но не могу согласиться с происходящим, – заключил Портий. – А если мне еще раз прикажут уничтожить мирных жителей… – Он вздрогнул и понурился. – Я не смогу выполнить приказ.
– Как же быть? – спросил Марк.
– Я пойду к наместнику и все ему объясню.
Марк задумчиво кивнул, хорошо сознавая всю неразумность предложений Портия. Его больше занимало другое: о крутом нраве Светония было известно всем, но стоит ли останавливать глупого юнца, твердо намеренного разрушить свою жизнь? Особенно сейчас, когда сам Марк Марцеллин попал в весьма затруднительное положение: не далее как сегодня утром он получил длинное послание из Рима, от любимой тетушки, и теперь у него возник корыстный интерес к дальнейшей судьбе Портия.
– Твой поступок может привести к неблагоприятным последствиям, – поразмыслив, осторожно заметил Марк.
– Знаю, – кивнул Портий, – однако ничего другого не остается.
Марк всегда питал к юноше дружеские чувства, но сейчас взглянул на Портия с сожалением и пожал плечами – свои интересы дороже.
– Поступай, как считаешь нужным, – произнес он и добавил: – Я восхищаюсь твоей отвагой и честностью.
Портий, успокоенный словами друга, сердечно поблагодарил его и, вернувшись к себе в палатку, начал готовиться к встрече с наместником. Увы, юноша и не подозревал, что выбрал самое неблагоприятное время для непрошеных советов Светонию.
Отчаянное положение дел тревожило не только Портия, но и весьма влиятельных лиц, стоявших у власти. Прокуратор Юлий Классициан, обеспокоенный царящей в провинции разрухой и нищетой, отправил императору Нерону подробный рассказ о карательных экспедициях, сопроводив его просьбой отозвать наместника.
Подобные донесения были обычным делом в Римской империи – огромный бюрократический аппарат функционировал с высокой эффективностью лишь в тех случаях, когда все чиновники, занимавшие высокие официальные посты, бдительно следили друг за другом. Нерон, ознакомившись с обвинениями в адрес своего любимца, пришел в ярость, но сделать ничего не мог. В Британию полагалось направить следственную комиссию по проверке деятельности наместника.
До поры до времени известие о подготовке комиссии держали в тайне, хотя Светония уведомили об этом загодя, как раз в тот день, когда Портий обратился к наместнику с просьбой об аудиенции.
Светоний, взбешенный неприятными вестями, едва не отказал Портию, но в последний момент передумал и согласился его принять. Юноша вошел к наместнику, не догадываясь о том, что сейчас решится его судьба.
– В чем дело? – проворчал Светоний. – Говори скорее!
Портий вздохнул, вытянулся в струнку и начал говорить.
Его тщательно продуманная речь содержала убедительные доводы в пользу отказа от жестокого обращения с местным населением и ряд предложений по умиротворению жителей. Портий весьма гордился своим красноречием, не подозревая, что каждое произнесенное им слово все больше и больше распаляет Светония, который, однако же, умело скрывал свой гнев. Юноша закончил свою речь в полной уверенности, что убедил наместника в своей правоте.
Светоний молчал, невозмутимо глядя на юнца, который осмелился поставить под сомнение действия своего непосредственного начальника. Наместник был вне себя от ярости: мало того что против него выступил прокуратор с нелепыми и позорными обвинения ми, так еще и среди подчиненных объявился предатель. Подумать только, сам Гракх прислал ему этого наглеца и смутьяна! Светоний прекрасно знал, как обходиться с предателями: их надо уничтожать одним ударом, резким и неожиданным. Он задумался, ничем не выдавая своего бешенства. Во-первых, нельзя допустить, чтобы Портий сообщил свои выводы следственной комиссии или начал обсуждать это с приятелями. Во-вторых, его ни в коем случае нельзя отослать в Рим, где он может нажаловаться Гракху. Внезапно наместник сообразил, что именно следует предпринять.
– Спасибо за ценные замечания, я обязательно приму их к сведению, – холодно произнес наместник и небрежным кивком отпустил Портия.
Юноша, так и не осознав своей трагической ошибки, вернулся к себе и чуть позже сказал Марку:
– По-моему, я его убедил.
На следующий день разразилась катастрофа.
Послание из канцелярии наместника Портию доставил Марк.
Гай Портий Максим переведен в свиту прокуратора.
Портий недоуменно перечитал короткую строку. Что бы это значило?
– К чему бы это? – спросил он Марка.
– Наверное, хороший знак, – неуверенно начал приятель. – Может, решили, что тебе стоит поближе ознакомиться с налогами и финансами? Погоди, тут еще одна записка приложена!
Записка оказалась посланием из канцелярии прокуратора в Лондиниуме.
Гай Портий Максим в должности помощника младшего прокуратора направляется в Сорбиодун. За дальнейшими распоряжениями прибыть в канцелярию.
Помощник младшего прокуратора? Это означало чиновника самого низшего разряда. А Сорбиодун… кажется, это крошечное селение где-то в глуши. Захолустье…
Портий с ужасом разглядывал клочки пергамента, не представляя, что произошло, но прекрасно понимая, что все это означает.
Светоний гениально разрешил возникшую проблему и одним ударом расправился с Портием, переведя его в свиту своего врага – прокуратора. Теперь никто не станет слушать объяснений юноши – все решат, что он говорит это из желания подольститься к новому начальству или от обиды, потому что лишился места в ставке Светония. А рекомендация назначить Портия на должность в захолустье, отправленная в канцелярию прокуратора, служила залогом, что следственная комиссия не узнает о существовании юноши. К тому же Портий не имел права нарушить или опротестовать приказ.
– Что мне теперь делать? Все кончено, – вздохнул юноша.
Гракх наверняка решит, что Портий – бездарность и неудачник, и не отдаст за него дочь, так что о Лидии можно забыть. А родители Портия? Они тоже разочаруются в сыне…
Чем же он прогневил Светония? Ни Портий, ни Марк не подозревали о существовании донесения прокуратора.
– Похоже, наместнику твоя речь не понравилась, – сказал Марк, не зная, чем утешить друга, и, чуть помолчав, добавил: – Кстати, я тоже получил новое назначение. Меня на год отправляют в Рим. Я уезжаю через два дня. Прости, что бросаю тебя в беде, но, может, все еще образумится. – Он улыбнулся, стараясь подбодрить приятеля.
«Везет же ему», – грустно подумал Портий.
Перед уходом Марк сказал:
– Дай знать, если тебе помощь понадобится.
Остаток дня Портий провел в сборах, готовясь к отъезду. Юноше очень хотелось обратиться к Светонию за разъяснениями, но подспудно он понимал, что делать этого не стоит. Он набрался смелости и написал Лидии длинное послание, полное сумбурных объяснений, просьб набраться терпения и обещаний приложить все усилия, чтобы продвинуться по службе.
Я обещаю как можно скорее добиться успеха и вернуться в Рим. Об остальном тебе расскажет мой друг Марк.
Портий попросил Марка передать письмо лично в руки Лидии.
– Умоляю, успокой ее и объясни, что случилось. А сенатору Гракху скажи, что я поступил так, как того требовала честь. Мне больше не на кого положиться, кроме тебя.
Марк смущенно взял письмо:
– Портий, я сделаю все, что смогу, но чудес не обещаю.
На этом приятели расстались.
Вечером, перед самым отъездом, Портий все же попросил аудиенции у наместника, но ему было отказано.
В сумерках юноша отправился в Лондиниум, надеясь добиться встречи с прокуратором и заручиться его покровительством, однако и эта надежда не оправдалась: Классициан уехал на север и намеревался вернуться только через месяц.
– Тебе предписано немедленно ехать в Сорбиодун, – сказали Портию в канцелярии. – Прокуратор с тобой не знаком, так что увидеться с ним ты сможешь через год, не раньше.
Только тогда Портий сообразил, как ловко наместник с ним расправился.
– И чем я буду занят в этом Сорбиодуне? – угрюмо спросил юноша.
Секретарь прокуратора, лысый невысокий толстяк, равнодушно пожал плечами, недовольный тем, что ради исполнения приказа наместника пришлось оторваться от важных дел и спешно подыскивать назначение для этого молодого человека.
– Будешь смотрителем императорского имения, – сказал он. – Служба как служба, ничего особенного. И не задерживайся в городе, тебя в Сорбиодуне завтра ждут.
Сорбиодун… Глухомань, захолустье. Очевидно, Светоний, твердо намереваясь забыть о Портии, подыскал для юноши место, где о нем уж точно никто не вспомнит. О славе и почестях и думать не стоило. Портий все еще не подозревал, чем заслужил такое обращение, но выбора у него не оставалось – приказы командования исполнялись неукоснительно.
С приходом римлян жизнь Тосутига не баловала. Правитель Сарума мало о чем вспоминал без болезненной гримасы.
После отъезда Веспасиана юный вождь с нетерпением ожидал дальнейшего развития событий. С юго-запада почти каждый день приходили вести о захвате римлянами очередной крепости дуротригов.
– Напрасно они пыжились да силой похвалялись, – злорадно бормотал Тосутиг.
Теперь он и сам поверил, что поступил весьма дальновидно и предусмотрительно, когда сдал римлянам крепость без боя и подписал дарственную на земли.
Второй легион неумолимо громил дуротригов, а Тосутиг все ждал и ждал известий от Веспасиана или от наместника.
К концу лета Веспасиан успешно завершил кампанию: катапульты и осадные орудия сломили отчаянное сопротивление дуротригов. Суровый трибун захватил все земли дуротригов, с востока до самой западной оконечности их владений, где и оставил легион зимовать. По всему острову разнеслась весть, что гордые дуротриги побеждены.
Однако покоренные дуротриги не утратили воинственного духа и хорошо помнили о предательстве юного правителя Сарума.
Однажды ранней осенью в Сарум пришел отряд легионеров с юго-запада. Римляне расположились на ночлег в дуне и потребовали у Тосутига еды и питья для двадцати пленников, которых привели с собой. Один из пленников, десятилетний мальчишка, сын вождя дуротригов, был знаком Тосутигу.
– Я знал твоего отца, – грустно сказал он мальчугану.
Мальчик, презрительно поморщившись, плюнул ему под ноги:
– Лучше быть рабом, чем предателем, Тосутиг Клятвопреступник!
Правитель Сарума отвернулся и ушел прочь, вспоминая проклятие друида Афлека.
«Ненависть дуротригов мне не страшна, – успокаивал себя Тосутиг. – Римский император меня щедро вознаградит».
Прошла осень, но вестей от наместника по-прежнему не было.
Выпал снег, Сарум замер под белым покрывалом. За земляными валами дуна царило студеное безмолвие. Каждый день Тосутиг взбирался на стену и бродил по обледенелому парапету, высматривая римских гонцов. Иногда к нему присоединялись Нумекс и Бальба, вперевалочку шли рядом, глядя на заснеженные пустоши. Сменялись месяцы, но в Сарум так никого и не прислали.
Наконец снега растаяли, на меловых стенах дуна появились зеленые побеги травы. Река сбросила ледяной покров. Обитатели Сарума занялись весенними работами в полях. К юному вождю все относились с презрением, укоряя его за то, что без боя сдал крепость римлянам. Войска Веспасиана хозяйничали на захваченных землях, а местные жители слагали хвалебные песни о подвигах и доблести покоренных дуротригов. И все же Тосутиг не терял надежды.
– Вот увидите, Сарум отблагодарит меня за содеянное, – говорил он Нумексу и Бальбе.
Только спустя год на северо-восточной оконечности взгорья появился небольшой отряд: высокий смуглый старик верхом на лошади, шесть рабов и шесть конников. Они шли медленно, часто останавливаясь. Рабы несли деревянные крестовины со свинцовыми грузиками, привязанными к концам перекладин. Тосутиг радостно выехал навстречу римлянам.
– Мы землемеры, – объяснил старик. – Готовимся к прокладке дороги.
Землемеры тщательно осмотрели дун и спустились на берег реки.
– Дорога пройдет через реку. А у переправы заложим поселение.
«Римское поселение! – обрадованно подумал юный вождь. – Вот что вернет Саруму былую славу!»
– Постоялый двор, мансион, – добавил землемер. – Для гонцов и путников.
Тосутиг его не слушал, предвкушая, что станет правителем крупного города. Перед внутренним взором юноши мелькали величественные картины.
Спустя два месяца в Сарум пришли дорожные строители – целая центурия, восемьдесят легионеров с лопатами и кирками.
С невероятной быстротой они заложили поселение на берегу реки, в месте, выбранном землемерами. Небольшую площадку окружили земляным валом, в центре проложили небольшую улицу, а по обеим ее сторонам разметили по три квадратных участка. И все – ни форума, ни величественного храма, ни базилики. На участках построили конюшни, сторожку и пару скромных домов. В углу, у земляного вала, разбили сад. На строительство ушло два дня.
– Ну вот, Сорбиодун построен, – заявил центурион.
Тосутиг восторженно взирал на скромное поселение и предавался мечтам о грядущем величии.
– Нам нужны работники для строительства дороги, – сказал ему центурион. – Сколько человек ты дашь нам в помощь?
Тосутиг немедленно послал римлянам пятьдесят мужчин и Нумекса.
– Я же плотник! – возмутился коротышка.
– Присмотрись, как римляне дороги строят, – велел ему вождь. – Может, научишься чему, будет Саруму польза.
На прокладку дороги Тосутиг взирал с невероятным изумлением. В соответствии с метками землемеров предполагалось, что доро га пройдет по взгорью, строго на северо-восток, ровной чертой от дуна до самого порта в Лондиниуме, в восьмидесяти милях от Сарума.
Вначале вырыли две параллельные траншеи на расстоянии примерно восьмидесяти футов друг от друга, а извлеченный из них грунт уложили на середину полосой около двадцати пяти футов в ширину, создавая знаменитое насыпное полотно – аггер. Грунт засыпали толстым, с ладонь, слоем известнякового щебня и хорошенько утрамбовали, превратив в выгнутую поверхность для стока воды. Затем в телегах привезли кремнёвую гальку из местных карьеров и вручную уложили булыжники на слой известняка, зарывая их на глубину трех-четырех дюймов. Потом заровняли поверхность толченым мелом, засыпали ее шестидюймовым слоем гравия и снова плотно утрамбовали.
– Были бы поблизости кузни, мы бы шлаком засыпали – он спекается и служит вечно, – объяснил центурион.
От главной, широкой дороги отходило несколько дорог поменьше.
«До Сорбиодуна можно будет добраться из самых дальних уголков острова, – обрадованно подумал Тосутиг.
На реке Авон легионеры построили брод, укрепив дно каменными плитами.
– А почему бы здесь мост не построить? – удивился Тосутиг.
– Мост легко сломать, – проворчал центурион. – А с бродом придется повозиться.
От противоположного берега реки дорога уходила на юго-запад, к землям дуротригов. За два месяца римляне уложили на заболоченную местность деревянные подпорки, засыпали поверх слоями земли и щебня, а дальше проложили дорогу зигзагом по крутому склону холма. Во владениях дуротригов дорога превращалась в тридцатимильный тракт шириной почти пятьдесят футов, с высотой насыпи около шести футов, а потом сворачивала на юг, к побережью. Второго подобного сооружения на острове не будет еще две тысячи лет, пока в Британии не проложат первое железнодорожное полотно. Дорога, впоследствии получившая название Эклинг-Дайк, служила грозным предупреждением местным жителям: «Ваши укрепления, леса, холмы и долины – все покорится великой Римской империи».
Тосутиг, стоя на взгорье, восхищенно смотрел на величественный тракт, перед которым меркли древние тропы островитян. «Римские дороги железным обручем опоясали наш остров», – подумал он, впервые осознав неукротимую мощь завоевателей.
Зимой в Сарум явился надменный римлянин из свиты наместника в сопровождении помощника из канцелярии прокуратора. Смуглый черноглазый римлянин, не тратя времени даром, заявил Тосутигу:
– Пора разобраться с этими землями. Наместник оценил твою помощь и велел тебя наградить.
Тосутиг задрожал от восторга и спросил:
– А какие земли перейдут в мое владение?
Римлянин недоуменно поморщился и, словно не расслышав, продолжил:
– Во владениях дуротригов по-прежнему распоряжаются военные, а Сорбиодун, в виде исключения, примкнет к новым клиентским землям, что простираются на шестьдесят миль к востоку.
Тосутиг не верил своему счастью: именно эти богатые владения некогда принадлежали атребатам.
– Все эти земли будут подвластны мне?! – ахнул он.
– Подвластны тебе? – удивленно переспросил римлянин.
Тосутиг восхищенно закивал. О такой благосклонности он и не мечтал! Разыгравшееся воображение рисовало ему чудесные картины.
Римлянин, не подозревая о великих устремлениях Тосутига, невозмутимо продолжил:
– Новый царь атребатов – вождь Когидубн. Теперь ты его подданный. В благодарность за твой дар император дает тебе пожизненное освобождение от всех налогов на твои владения – и от подушного, и от земельного, и от натурального.
Постепенно до Тосутига дошел смысл сказанного. Когидубн, вождь атребатов, был давним другом Рима и владел землями на юго-востоке.
– Когидубн – мой царь?
– Да.
– А я как же?
– А ты его подданный.
Тосутиг, поразмыслив, спросил:
– Он римский гражданин?
– Император даровал ему гражданство.
– А мне?
– Нет.
– И кто же я теперь? – уныло осведомился Тосутиг.
– Ты перегрин, свободный человек, – ответил римлянин. – Однако права римских граждан на тебя не распространяются.
– Значит, меня просто освободили от налогов – и все?
– Да.
Тосутигу следовало догадаться, что римляне обосновывались в новой провинции по издавна заведенному образцу. В общем-то, правителю Сарума очень повезло.
Наместник счел необходимым усилить военное присутствие среди строптивых дуротригов, а потому вернул былые владения атребатам, давним союзникам империи, что высвобождало войска, необходимые для усмирения племен на севере и на западе острова. От западной оконечности земель дуротригов в южной части острова наискосок, до самого северо-востока, проложили широкую дорогу, которая впоследствии получила название Фосс-Уэй. Она стала укрепленным рубежом на подступах к дальнейшему завоеванию северных земель. Со временем, лет через двадцать, исчезнет и царство атребатов, и военная зона на юго-западе, поселения вдоль дороги станут окружными центрами, управлять ими будут советники и магистраты из местных знатных жителей, которым за верную службу пообещают римское гражданство. Но пока до этого было далеко. То, что Тосутига освободили от выплаты налогов и не включили его владения в военную зону, было знаком особой милости.
Впрочем, кельт об этом не подозревал и продолжал мечтать о величии.
На следующий год он отправился на восток засвидетельствовать свое почтение Когидубну. Путешествие ошеломило молодого правителя.
В обширных владениях Когидубна было две столицы. Северная столица называлась Каллева-Атребатум[5], через нее проходила дорога из Сорбиодуна в Лондиниум.
Тосутиг, добравшись до Каллевы, едва не разрыдался от восторга: именно таким он представлял будущий Сорбиодун – форум, внушительные бревенчатые и каменные постройки, прямые широкие улицы. К разочарованию юноши, оказалось, что Когидубн уехал в свою южную столицу на побережье. Путь туда занял семь дней. По сле встречи с царем все мечты Тосутига развеялись в прах.
Тиберий Клавдий Когидубн, как он именовал себя в знак почтения к римским императорам, седовласый, но все еще могучий длинноусый воин, благосклонно принял Тосутига. Впрочем, все мысли Когидубна занимало строительство роскошной виллы на побережье, а правитель захолустного поселения на западе его нисколько не интересовал.
Тосутиг следовал за царем по залам и бесчисленным внутренним дворикам недостроенного здания и, сгорая от зависти, разглядывал мозаичные полы с изображениями павлинов, бродящих по цветущему саду, и дельфинов, резвящихся в свите морского бога Нептуна. Солнечные лучи, струясь сквозь зеленоватые стекла, заливали каменные плиты пола холодным сиянием. Восхищенный Тосутиг решил, что такому дворцу позавидует даже римский сенатор, и с горечью осознал, какая пропасть пролегает между истинной властью и крошечным мансионом в захолустном Сорбиодуне.
«Вот он какой, настоящий Рим», – печально думал юноша.
У Когидубна он провел два дня. Перед отъездом царь, в знак благосклонности, вручил ему небольшую статуэтку – свое изображение. Тосутиг вернулся в Сарум и следующие шестнадцать лет жил скромно и неприметно. Каратак, пытаясь противостоять римлянам на юге, не счел нужным просить помощи у правителя захолустного Сарума, Когидубн о Тосутиге больше не вспоминал, зато дуротриги по-прежнему звали его Клятвопреступником. Все остальные о нем забыли.
Спустя год после поездки к Когидубну Тосутиг взял в жены младшую дочь одного из племенных вождей атребатов. Впрочем, и тут не обошлось без унижений – обнищавший, но гордый отец девушки с большой неохотой согласился выдать дочь за предателя; помогло лишь то, что Тосутиг не потребовал за ней приданого. Рыжеволосая красавица отличалась вспыльчивым нравом, прожила с мужем шесть лет и родила ему дочь, а однажды суровой зимой простудилась и в одночасье умерла.
Особого счастья в браке Тосутиг не испытал, поэтому второй раз искать жену не собирался, а завел себе женщину в Каллеве. Дочь Тосутига, Мэйв, как две капли воды походила на мать. Отец ее обожал.
К сорока годам Тосутиг, пожилой вдовец и владелец захолустного имения, жил в довольстве и покое. В крепости-дуне на холме стояли полуразвалившиеся лачуги; время от времени заезжие торговцы устраивали там рынок. Древние тропы на меловых грядах окончательно забросили, взгорье пересекали новые римские дороги. На восточной стороне долины обосновались пряхи и ткачи, а по со седству Бальба построил себе красильню. На берегу реки, в Сорбиодуне, построили постоялый двор, амбары для зерна и конюшни, где меняли лошадей гонцы наместника. Три легионера, которым было поручено присматривать за хозяйством, целыми днями сидели во дворе и играли в кости. Пару раз в год в Сорбиодун приезжал мелкий чиновник из канцелярии прокуратора, проверял, как обстоят де ла в императорских владениях, и договаривался о продаже урожая.
Тосутиг жил неприметно и ни во что не вмешивался даже тогда, когда вожди западных племен, ободренные примером Боудикки, решили взбунтоваться. Через захолустный Сорбиодун везли важные товары: с юго-западного побережья, по дороге через земли дуротригов, доставляли излюбленный римлянами киммериджский сланец – темный поделочный камень, а по новой западной дороге свинец, добываемый в копях на западной оконечности острова, отправляли в Каллеву и Лондиниум, а оттуда – в далекую Галлию.
Освобождение от налогов, пожалованное императором, принесло Тосутигу достаток. Правитель Сарума стал очень богатым человеком: кованую чугунную решетку у очага украшала позолота, еду подавали на блюдах из красной глины, искусно сработанных аретинскими гончарами, в доме не переводились лучшие галльские вина, в фамильном святилище стояли золотые и серебряные статуэтки богов, а дочь не расставалась с драгоценными золотыми браслетами, выложенными кусочками янтаря и сланца.
Мэйв, синеглазая красавица с копной рыжих кудрей, вспыльчивым, необузданным нравом напоминала покойную мать. Тосутиг ба ловал обожаемую дочь, ни в чем ей не отказывал и обучал латыни и римским обычаям. Она прекрасно ездила верхом и могла усмирить любого, даже самого горячего скакуна.
«Моя Мэйв лучше иного сына, – с гордостью думал Тосутиг. – Хоть я и не воспитал ее по всем правилам римской культуры, кельтская красота и пылкий нрав с лихвой восполнят пробелы в образовании».
– Тебе суждено стать женой знатного человека, – говорил он Мэйв. – Если уж отдавать тебя замуж, то только за вождя, не иначе.
Однако же душевные терзания его не оставляли. Если на постоялом дворе останавливался римский чиновник, Тосутиг надевал тогу и приходил в Сорбиодун, по-мальчишечьи щеголяя римскими манерами перед гостем. Каждый год он придумывал все новые и новые способы получения римского гражданства, но, к его великому сожалению, успехом они не увенчивались. Иногда он месяцами не покидал своего дома в долине, любовался тучными стадами скота и отарами овец, а потом внезапно срывался с места и часами стоял на полуобвалившемся, поросшем травой земляном валу дуна, задумчиво глядел на взгорье и, как в юности, мечтал о несбыточном величии и славе.
Впрочем, любовь к римскому образу жизни не мешала ему проводить долгие часы в фамильном святилище, разглядывая меч Кулина-воителя и рогатый шлем прадеда. Перед изваянием Ноденса Тосутиг опускался на колени и молил бога-покровителя семьи:
– Дай мне силы, дабы я не посрамил честь предков!
Однажды он привел десятилетнюю Мэйв в древнее каменное святилище на взгорье, в круг исполинских сарсенов, и объяснил:
– Твои божественные предки-великаны за день построили хендж. Запомни это накрепко и никогда не забывай.
– Поэтому мне суждено стать женой великого вождя? – спросила девочка.
– Потомки Кулина-воителя и древнего рода Круна иного не заслуживают.
Опечаленный Портий, верхом на каурой кобыле, направлялся на запад. Дорога в Сорбиодун казалась бесконечной. Из Каллевы он выехал пасмурным утром, и небо целый день оставалось затянуто тяжелыми низкими тучами. Не развиднелось даже к вечеру. Портий перевалил последний меловой хребет и наконец-то добрался до места своего назначения.
При виде заброшенного дуна и пустынного мансиона юноша загрустил еще больше. Три легионера встретили его с плохо скрытым недовольством – их лишь недавно предупредили о приезде Портия. Юноше дали в услужение раба и отвели в хижину, разделенную на две комнаты, где стоял топчан с тюфяком, набитым конским волосом, складной стул и стол.
– И это все? – раздраженно спросил Портий.
Старший легионер равнодушно пожал плечами – чиновников он не любил, – обвел рукой крохотное поселение и ответил:
– Как видишь, здесь больше ничего нет.
На следующее утро Портий осмотрел императорские владения – уходящие к горизонту величественные меловые хребты, пастбища со стадами овец, крестьянские хижины и делянки пшеницы и ячменя, – и быстро понял, что земли здесь плодородные, но хозяйство запущено и оставлено без надлежащего присмотра. У ворот крепости он встретил красильщика Бальбу и брезгливо отшатнулся от резкой вони.
«Ну и глухомань! – мрачно думал Портий, возвращаясь в Сорбиодун. – Долго я здесь не протяну».
– К тебе гость пришел, – объявил ему легионер. – Местный правитель.
Чтобы произвести благоприятное впечатление на римлянина, Тосутиг сбрил бороду, однако не тронул длинные седеющие усы, оставил дома тяжелую шерстяную накидку-пенулу и пришел в тоге (к несчастью, заляпав подол грязью) и в тяжелых кожаных башмаках. Несмотря на нелепый вид, правитель Сарума держал себя с достоинством.
Впрочем, Портий разглядывал не гостя, а его спутницу в традиционном сине-зеленом кельтском одеянии. Рыжие кудри девушки ниспадали до пояса тяжелой волной, белую кожу припорошили золотистые веснушки, а синие глаза задорно блестели. Красавица была ровесницей Лидии.
– Меня зовут Тосутиг, я правитель Сарума, – торжественно представился гость. – А это моя дочь, Мэйв.
К изумлению Портия, девушка не потупилась, по обычаю римлянок, а без стеснения взглянула ему в глаза.
Тосутиг, узнав, что в Сорбиодун приехал смотритель императорских владений, немедленно отправился к нему и объяснил юному римлянину, что именно он, правитель Сарума, передал земли в дар императору Клавдию, чем и заслужил пожизненное освобождение от налогов на свое имение.
– А тебя кто прислал? – учтиво осведомился Тосутиг.
– Наместник, – расплывчато ответил Портий, которому совершенно не хотелось вдаваться в подробности своего назначения.
Тосутиг обрадовался, решив, что боги вняли его мольбам: уж теперь-то наместник наверняка узнает о правителе Сарума. Портий заметил, как приободрился кельт, но не знал, чем это объяснить. Вдобавок красавица почему-то не спускала с него глаз.
Пятнадцатилетняя Мэйв разглядывала чернокудрого римлянина с грустными карими глазами по очень простой причине, впрочем известной только самой девушке.
Тосутиг обожал все римское, но дочь выросла среди кельтов и ей нравились кельтские традиции и обряды. После смерти матери девочку предоставили самой себе. За ней присматривали соседки – жены Нумекса, Бальбы и других жителей Сарума. От них она узнала все, что положено знать женщине. Мэйв научилась украшать цветами фамильное святилище и до блеска начищать хранящиеся там реликвии – древний меч Кулина-воителя и тяжелый шлем прадеда. Она обсадила дом кустами боярышника, чтобы отвратить злых духов, и наизусть помнила все легенды и древние предания Сарума, даже те, которые позабыл Тосутиг: и пророческие слова, изреченные черепом в руках Кулина-воителя, и то, что перед смертью главы семьи ворон три раза облетит дом, а со старого дуба во дворе упадет ветка. Мэйв были ведомы все заповедные тропы в окрестных лесах и рощах, священные поляны богини Неметоны, защитницы лесов, и родники и ручьи Сулии, богини-целительницы. А еще она с самого раннего детства накрепко затвердила зарок никогда не причинять вреда лебедям – ведь бог Солнце часто летал над рекой в облике величественной гордой птицы.
Работы по дому Мэйв не чуралась, умела обращаться и с мельничным жерновом, и с прялкой, ловко свивая тонкими пальцами прочную нить, которую ткачи и Бальба-красильщик превращали в яркие ткани.
Отец научил ее говорить по-латыни, но ни читать, ни писать Мэйв не умела.
Она сочла свое образование завершенным и недавно приняла важное решение: пора обзаводиться мужем.
Однажды, примерно за три недели до прибытия Портия, она, дождавшись, когда ее регулы подойдут к концу, отправилась в священную рощу, к роднику богини Сулии. Девушка разделась донага и омыла тело холодной ключевой водой. По нежной бледной коже побежали мурашки. Мэйв придирчиво оглядела себя с головы до ног и, откинув со лба непослушные рыжие кудри, уверенно заключила, что будет желанна любому мужчине.
О тайном обряде она никому не рассказала, но, вернувшись из леса, начала считать лошадей – среди кельтов существовало поверье, что если девушка в начале очередного месячного цикла начнет считать лошадей, то первый мужчина, встреченный после сотой лошади, станет ее мужем.
Прошло три недели. Лошадей в Саруме было немного, а в Сорбиодун верховые путники заглядывали редко. В день прибытия Портия Мэйв насчитала девяносто девять лошадей – и увидела в конюшне сотую, каурую кобылу римлянина как раз тогда, когда он сам вышел к гостям.
«Ах, вот кто станет моим мужем!» – подумала Мэйв, с любопытством разглядывая Портия.
Что ж, боги дали ей знать, за кого она выйдет замуж, но как и ко гда это произойдет, пятнадцатилетняя девушка представляла смутно.
В последующие месяцы Портий целиком посвятил себя работе. Из Лондиниума поступали противоречивые вести. В ставку наместника прибыла следственная комиссия, результаты проверки подтвердили истинность обвинений прокуратора – но после этого проверяющие вернулись в Рим. Тем дело и закончилось.
Портий отправил три послания Лидии и одно письмо Марку, однако ответа не получил. Родителям он написал следующее:
Сорбиодун – мирное селение. На латыни говорит только местный правитель, да и тот плохо, а его дочь – и того хуже. Обширные императорские владения требуют тщательного ухода, так что в ближайшие месяцы я буду очень занят.
Императорские владения были донельзя запущены. Присмотр за ними вверили помощнику прокуратора, который заведовал имперской канцелярией в Глевуме, а потому появлялся в Саруме очень редко. Портий пришел к выводу, что доходы имения можно увеличить вдвое, а то и втрое, и решил добиться этого во что бы то ни стало, дабы произвести благоприятное впечатление на прокуратора.
Юноша тщательно осмотрел все делянки, поля и пастбища, велел расчистить и укрепить канавы и дренажные траншеи, починить загоны, амбары и покосившиеся ограды. Он работал от рассвета до заката, возвращался в Сорбиодун в сумерках, ужинал, ложился на тюфяк, набитый конским волосом, и немедленно засыпал.
Каждую ночь Портию снилось доблестное возвращение в Рим, к возлюбленной Лидии.
Спустя месяц он отправил Классициану отчет о проделанной работе. Из канцелярии прокуратора сообщили, что отчет принят к сведению.
Несколько раз Портий издали замечал рыжеволосую красавицу: иногда у леса или у дуна, но чаще всего – на меловой гряде, верхом на резвом скакуне. Тосутиг прислал Портию в подарок подстреленную на охоте косулю и яркое одеяло, украсившее скромное жилище юноши. Впрочем, Портий, занятый мыслями о своей горькой участи, не думал ни о странной девушке, ни о ее отце.
Тосутиг пригласил Портия к себе на пиршество в честь кельтского праздника Самайн. Юноша, не желая оскорбить достоинство правителя Сарума, с благодарностью принял приглашение и вечером отправился в гости.
Дом правителя Сарума был обнесен плетеной оградой. Во дворе женщины хлопотали у открытого очага, готовили еду; на вертелах над углями жарились говяжьи и бараньи туши. Портий изумленно сообразил, что в первый раз за долгие месяцы позволил себе отвлечься от постоянных трудов. Он вошел в просторный дом под соломенной крышей. Посредине комнаты горел огонь в очаге, и Портий обрадовался теплу – его скромное жилище в Сорбиодуне не отапливалось.
К удивлению юноши, других гостей не было. Тосутиг, наряженный в тогу, радушно поздоровался с юношей и провел его к ложу у очага.
– В этом кельтском доме тебя угостят по-римски, – гордо заметил правитель. – Моя дочь хорошо готовит.
И в самом деле, так вкусно Портий не ужинал с тех пор, как покинул свиту наместника. Яства приготовили и подавали на римский манер. Начали с закусок – устрицы, привезенные с юга в бочках с морской водой, свежий салат, щедро приперченный и заправленный средиземноморским оливковым маслом, нежное блюдо из яиц. Затем последовали мясные и рыбные перемены – оленина, баранина, приправленная розмарином и тимьяном, телятина, миноги и форель. Служанки внесли пышные буханки хлеба и сливочное масло из жирного молока местных коров. На сладкое подали яблоки, груши и испеченные Мэйв пироги. Вопреки ожиданиям Портия за ужином пили не местный эль и мед, а лучшие галльские вина, так что удовольствия от великолепной трапезы не умаляли даже тяжеловесные шутки Тосутига и постоянные восхваления римского владычества вообще и наместника в частности.
Рыжеволосая красавица, дочь Тосутига, почтительно прислуживала гостю и на этот раз вела себя сдержанно и с достоинством. Портий оценил гордую посадку ее головы, густые кудри, отливавшие золотом в свете очага, и плавную походку. Простое зеленое одеяние с разрезом до бедра открывало стройные ноги.
После ужина Портий поблагодарил Тосутига за великолепное угощение.
– Благодарности заслуживаю не я, а моя дочь, – сказал кельт и подозвал девушку к столу.
Мэйв подошла, скромно потупив глаза и склонив голову; тяжелые золотистые кудри скользнули по щекам. Она выглядела так очаровательно, что юноше, на миг забывшему о Лидии, захотелось сжать ее в объятиях. Впрочем, он отогнал шальные мысли, решив, что слишком много выпил.
Портию было невдомек, что Мэйв, по совету местных женщин, щедро сдабривала подаваемые ему яства особой смесью трав – проверенным приворотным зельем. То ли зелье подействовало, то ли римлянин просто объелся, но девушка украдкой заметила, что на щеках Портия вспыхнул румянец, а глаза заблестели. Похоже, дело пошло на лад.
«Он будет моим», – торжествующе подумала она.
Тосутиг не подозревал ни о сотне лошадей, ни о приворотном зелье, однако от него не ускользнули восхищенные взгляды Портия, устремленные на красавицу Мэйв.
Юный римлянин напрасно считал правителя Сарума недалеким и невежественным простаком. Тосутиг успел съездить в Каллеву, где расспросил чиновника в канцелярии наместника и узнал всю подноготную молодого человека: и то, что он собирался породнить ся с семейством влиятельного сенатора, и то, что он чем-то прогневил Светония. Эти сведения вкупе с трудолюбием и тщанием юноши вполне удовлетворили Тосутига, и он – в кои-то веки! – трезво и ра зумно оценив ситуацию, решил: «Пожалуй, я все-таки выдам за него дочь».
По меркам захолустного Сорбиодуна опальный римлянин представлялся великолепным женихом.
«Может, его усердие произведет благоприятное впечатление на прокуратора, – рассуждал Тосутиг. – А если нового наместника пришлют, то юноша наверняка продвинется по службе. В любом случае мои внуки станут римскими гражданами, и вот тогда…»
– По-моему, римлянин станет тебе хорошим мужем, – сказал он дочери за два дня до Самайна.
– По-моему, тоже, – улыбнулась она.
Зимой Портий дважды приезжал в Каллеву и один раз – в Лондиниум в надежде получить аудиенцию у Классициана. Увы, прокуратор снова был в отъезде. Вдобавок в Лондиниуме, выходя из постоялого двора, Портий случайно столкнулся с наместником. Колонна всадников во главе со Светонием скакала по пустынной дороге, вымощенной булыжником. Не заметить Портия было невозможно.
Светоний, не останавливаясь, скользнул по юноше гневным взгля дом, но больше ничем не выдал своего раздражения. Всадники, недавние приятели Портия, заметив поведение наместника, поспешно отвели глаза.
На следующий день огорченный юноша вернулся в Сорбиодун.
Весной стало ясно, что доходы императорского имения возрастут и к концу года существенно увеличатся.
«Надеюсь, к тому времени меня здесь уже не будет», – обрадованно думал Портий.
Зимой Тосутиг несколько раз приглашал юного римлянина охотиться на оленей и вепрей. Охотники с добычей возвращались в дом правителя Сарума, где Мэйв радушно угощала их вкусными яствами, пряным элем и хмельным медом. Тосутиг расспрашивал Портия о планах на будущее, но из уклончивых ответов юноши следовало, что его положение не изменилось.
В самом начале весны пришло послание от Марка.
Боюсь, любезный Портий, что в Риме дела твои плохи. Гракха очень огорчила твоя размолвка со Светонием. Поговаривают, что следственная комиссия приняла решение отправить наместника в отставку, но в удобное для него время и с соответствующими почестями. Император не желает наказывать своего любимого военачальника, но не станет чинить препятствий его противникам. Похоже, твое отсутствие в Риме пойдет тебе на пользу.
В письме ни слова не говорилось о Лидии. Наверняка сенатор Гракх запретил ей переписываться с возлюбленным, а Марк не стал о ней упоминать, чтобы не расстраивать приятеля.
Портий с удвоенной силой погрузился в работу.
«К концу лета я с честью вернусь в Рим», – пообещал он себе.
Сведения, сообщенные Марком, неожиданно подтвердились. До Сорбиодуна дошли вести о том, что Светония отозвали в Рим, а новым наместником стал Публий Петроний Турпилиан – по слухам, человек милостивый и добросердечный. Портий, пытаясь напомнить о себе новому наместнику, отправил ему почтительное послание, но ответа не получил.
Пришло лето, заколосились поля. Год выдался урожайным, и юноша гордился своими достижениями. Ближе к осени Портий с радостью узнал, что прокуратор желает лично осмотреть императорские владения.
Классициан нисколько не изменился: худощавый лысеющий муж чина с внимательными голубыми глазами больше походил на ученого, чем на чиновника. Несмотря на высокий пост, он приехал в Сорбиодун в сопровождении лишь трех секретарей и младшего прокуратора. Легионеры поставили в саду просторную палатку, и прокуратор остался доволен скромным жильем. Весь день он провел в обширных императорских владениях, осмотрел хозяйство и изучил отчеты о доходах. Ни замечаний, ни похвалы Портий от него не услышал, но полагал, что произвел на прокуратора хорошее впечатление.
Вечером в Сорбиодун неожиданно явился Тосутиг, засвидетельствовать почтение прокуратору. На этот раз кельт пришел в белоснежной тоге и изящных плетеных сандалиях и, к безмерному удивлению Портия, сбрил усы. Классициан по достоинству оценил местного правителя и с подобающим уважением пригласил его к себе в палатку.
Обменявшись любезностями с прокуратором, Тосутиг попросил личной аудиенции. Классициан, не желая обидеть правителя, велел всем удалиться.
Последующая беседа показала, что Тосутиг наконец-то овладел искусством успешных переговоров и произнес короткую, но внятную речь гордо и с достоинством.
– До меня дошли слухи, прокуратор, – начал он, – что ты, в отличие от некоторых, уважаешь наши края и местное население. Как известно, когда покойный божественный император Клавдий посетил Британию, я одним из первых принес ему в дар лучшую часть своих владений, те самые земли, которые ты сегодня осматривал. Мой род владел этими землями даже в ту пору, когда Римской империи еще не существовало. – Он помолчал и, чуть повысив голос, с нажимом добавил: – Однако же твои чиновники посещали императорское имение всего раз в год, и некогда плодородные земли пришли в запустение – сточные канавы замусорены, изгороди повалены, овцы не знают ухода, почва истощилась, все заброшено. С императорскими владениями обращаются дурно. – Затем, словно бы успокоившись, Тосутиг продолжил: – Однако же недавно прибыл чиновник, который отнесся к своим обязанностям с должным рвением и усердием. Он начал восстанавливать запущенное хозяйство – я подчеркиваю, только начал. Для того чтобы добиться настоящего достатка, потребуются годы напряженного труда. Хочется верить, прокуратор, что твои люди осознают необходимость содержания императорских владений в образцовом порядке и твой чиновник не уедет, едва восстановив запущенное хозяйство, – заключил Тосутиг и отвесил церемонный поклон.
Кельт не стал упоминать о желании выдать дочь замуж за римлянина и даже не назвал юношу по имени, сообразив, что Портия взяли в свиту Классициана поневоле, без постоянного назначения – и лучшей должности для него у прокуратора не существовало.
На следующий день при встрече с Классицианом юный римлянин поведал ему о своих замыслах, которые так разгневали Светония. Впрочем, прокуратору было об этом известно.
– Ты видишь, на что я способен! – с жаром вскричал юноша. – Я вернул к жизни запущенное имение. Умоляю, прими меня в свиту, поручи дело поважнее. В Лондиниуме я принесу тебе больше пользы и смогу с честью вернуться в Рим.
Выслушав Портия, Классициан покачал головой:
– Юноша, ты усерден и смышлен, но слишком горяч и нетерпелив. Прошлые ошибки тебя ничему не научили.
– Но ты же сам обвинил Светония в чрезмерной жестокости! – воскликнул Портий.
– Верно, – сурово ответил Классициан. – Но я прокуратор, а ты…
Портий смущенно покраснел.
– Ты славно потрудился, – продолжил прокуратор, сменив гнев на милость. – Твое усердие весьма похвально, однако негоже местным жителям думать, что римляне не умеют вести хозяйство и не заботятся о своих владениях. О возвращении в Рим мы поговорим через два-три года, когда к тебе придет признание и слава за твои труды.
Два года представлялись Портию вечностью. Он знал, что так долго Лидия ждать не станет.
– Порученное дело всегда следует выполнять с честью, – добавил Классициан, заметив огорчение юноши. – Возможно, даже я буду исполнять свои обязанности здесь, в провинции, до самой смерти. Мне нужны люди, на которых можно положиться. Если ты не собираешься оставаться на своем посту, то хорошей рекомендации я тебе не дам.
– Я хотел вернуться в Рим, – вздохнул Портий.
– Этого все хотят, – улыбнулся прокуратор и серьезно добавил: – Сейчас в Риме неспокойно. Послушайся моего совета, оставайся здесь, в безопасности.
На следующий день прокуратор уехал из Сорбиодуна. На прощание он сказал Портию:
– Обзаведись приличным жильем.
Юноша со слезами на глазах смотрел вслед путникам.
Спустя два дня в Сорбиодун приехала Мэйв верхом на резвой гнедой кобылице, ведя в поводу еще одну лошадь – великолепного солового жеребца, хотя и несколько тяжеловесного, как все лошади на острове. Портий восхищенно поглядел на него.
– Тебе что-то привиделось? – рассмеялась девушка.
– Отличный жеребец, – вздохнул римлянин.
– Отец купил, – кивнула она и с лукавой улыбкой добавила: – Если сумеешь с ним совладать, прокатимся вместе.
Портий с готовностью согласился и вскочил в седло.
– Моя лошадь быстрее! – крикнула Мэйв и, бросив ему поводья, поскакала к тропке, ведущей на взгорье.
Юноша рассмеялся – скачки так скачки, чего не сделаешь ради красавицы. Он пропустил ее на сто шагов вперед и поскакал следом. Соловый жеребец, хотя и сильный, не подчинялся незнакомому наезднику и с трудом взбирался по крутой тропе, а резвая кобыла проворно неслась вперед. Девушка ловко сидела в седле, рыжие волосы развевались на ветру.
– Она – как богиня Эпона! – прошептал Портий. – Словно рождена на коне.
Мэйв и правда казалась воплощением богини – покровительницы лошадей, которой поклонялись и кельты, и римляне. Она доскакала до вершины холма, обогнула дун и с хохотом помчалась по взгорью на северо-запад.
На взгорье сильный жеребец ускорил шаг и начал постепенно нагонять гнедую кобылицу, но поравнялся с ней только на полпути к заброшенному святилищу. Наконец они сменили рысь на галоп, потом перешли на шаг. И лошади, и всадники тяжело дышали.
– Улиткой ползешь, римлянин! – воскликнула Мэйв. – Не догнал бы меня, если бы я лошадь не придержала.
Он хотел было возразить, но вовремя заметил искрящиеся смехом глаза девушки. Ее тонкая льняная сорочка нечаянно – или нарочно? – сползла с плеча, чуть приоткрыв высокую белую грудь. Портий залюбовался кельтской красавицей.
Мэйв заметила и капельки пота на смуглой коже римлянина, и восторг, вспыхнувший в его взгляде. Юноша невольно потянулся к прекрасной наезднице, собираясь сжать ее в объятиях, но тут же отпрянул, вспомнив, что она дочь местного правителя.
– Вот вы, римляне, говорите, что в мире четыре стихии – земля, вода, воздух и огонь, – смеясь, сказала Мэйв. – А сам ты кто? Земля?
– Наверное, – улыбнулся он. – А ты кто?
– Я – огонь! – воскликнула девушка, подгоняя лошадь вперед. – Я вся – огонь!
На обратном пути в Сорбиодун Портий приноровился к соловому жеребцу.
– Великолепный скакун! – заметил юноша, спешиваясь у дуна. – А еще раз можно будет на нем прокатиться?
– Нет, – беспечно ответила Мэйв.
– Почему?
– Отец для моего жениха коня купил. Я просто разрешила тебе проехаться.
– А кто твой жених? – замявшись, спросил Портий.
– Не знаю, – улыбнулась она. – Кого отец выберет, тот и жених. Лишь бы в седле хорошо сидел. – Мэйв ухватила поводья жеребца и поскакала прочь.
Портий задумчиво смотрел ей вслед.
Всю ночь он беспокойно ворочался на жестком тюфяке, вспоминая случившееся. А какой стихией назвать Лидию? Портию она казалась водой, прохладной и текучей, утоляющей жажду. Он представил себе нежную смуглую кожу, блестящие черные глаза… В забытьи перед ним возникли огненно-рыжие пряди, развевающиеся на ветру, а звонкий голос воскликнул: «Я – огонь! Я вся – огонь!»
Два дня спустя пришло короткое послание от Лидии.
Любезный мой Гай!
Мы с Марком обручились. Наверное, я стану его женой прежде, чем ты получишь это письмо. Надеюсь, ты понимаешь, что так лучше для всех. Я часто тебя вспоминаю. Марк всегда о тебе тепло отзывается. Может быть, нам еще доведется встретиться.
Любящая тебя ЛидияСквозь пелену слез Портий с трудом разбирал слова. Винить Лидию он не мог, а предательство друга хотя и ранило, но было вполне объяснимым. Марк ни в чем не виноват. Сенатор Гракх ни за что не согласился бы отдать дочь за человека, прогневившего наместника провинции. Марк – юноша из благородного семейства, Лидия будет с ним счастлива.
Портий со вздохом написал поздравительное послание им обоим и приложил к письму отдельную записку для Марка.
Друг мой Марк!
После всего случившегося ясно было, что Гракх не отдаст мне дочь. Я очень рад, что моей возлюбленной повезло встретиться с тобой, наилучшим из римлян. Не забывай и ты меня.
Гай ПортийСтараясь забыть о Лидии, юноша полностью посвятил себя восстановлению императорских владений. Работа начинала ему нравиться. Вечером, после изнурительного труда, он верхом возвращался в Сорбиодун, оглядывая древние земли Сарума внимательным взглядом рачительного хозяина. Несколько раз по дороге домой он встречал Мэйв, и они гуляли по взгорью, ведя лошадей в поводу. В последнее время девушка стала смущаться в его присутствии и больше не предлагала устроить скачки.
Однажды Портий с Мэйв стояли на холме, глядя на колосящиеся поля в долине Тосутига, залитые алым светом заката.
– По-моему, тебе нравятся наши края, Гай Портий, – заметила девушка.
Он согласно кивнул.
– Да, хорошие земли, – негромко сказала она. – Богатые владения.
В ее словах Портий уловил намек, а когда, перед самым сбором урожая, Тосутиг пригласил юношу к себе, все сомнения развеялись окончательно.
В этот раз правитель Сарума, облаченный в традиционную кельтскую накидку-пенулу, не устраивал роскошных пиршеств. За оградой во дворе у дома Тосутига сновали люди. Бальба, распространяя вокруг кислую вонь, складывал в одной из хижин рулоны ткани. Мужчины и женщины, готовясь к сбору урожая, обкладывали плоскими камнями и обмазывали глиной стены глубоких ям для хранения зерна.
Тосутиг поздоровался с Портием и поманил его за собой в дальний конец двора, где виднелась небольшая хижина, крытая соломой, – фамильное святилище. Кельт впустил гостя внутрь и торопливо прикрыл за собой дверь.
Темноту рассеивал луч света из квадратного окошка на дальней стене под самой крышей. Постепенно глаза Портия привыкли к сумраку, и юноша различил небольшой каменный алтарь с деревянным изваянием кельтского бога Ноденса, повелителя туч, которого римляне отождествляли с Марсом. Рядом с изваянием поблескивал древний, тщательно начищенный рогатый шлем. Молодой человек почтительно склонил голову.
– Ноденс – покровитель нашего рода, – объяснил Тосутиг.
– У каждой римской семьи тоже есть свои лары и пенаты, – ответил Портий, – но мало у кого найдутся такие древние реликвии.
– Мой дед был доблестным воином. Это его шлем, – сказал кельт. – Но я пригласил тебя сюда не за этим.
У стены святилища стояли два огромных деревянных сундука, обитые широкими полосами железа. Тосутиг бережно приподнял крышку первого и вытащил длинный железный меч со следами ржавчины на выщербленном клинке – видно было, что древнее оружие кельтов недавно пытались отчистить.
– Это меч моего предка, Кулина-воителя, – торжественно возвестил Тосутиг. – Его жена, Алана, была последней из древнего рода Круна, строителя каменного святилища на взгорье. – Кельт со стуком опустил тяжелую крышку сундука и обернулся к Портию. – Мы, конечно, не римские сенаторы…
Портий запоздало сообразил, что правителю Сарума известно о Гракхе.
– …но ведем свой род от первых обитателей острова Британия, – заключил Тосутиг, подошел ко второму сундуку и неторопливо открыл его.
К изумлению юноши, сундук оказался до краев полон монет – не бронзовых сестерциев, а золотых ауреев и серебряных динариев. С нарочитой медлительностью Тосутиг нагнулся и сунул в сундук руку по самое плечо. Похоже, в сундуке хранилось целое состояние – не облагаемые налогами доходы имения за двадцать лет.
Правитель Сарума закрыл сундук и сказал, не глядя на Портия:
– Моя дочь – красавица.
– Она очаровательна, – согласился юноша.
– Я хочу найти ей достойного мужа, – произнес Тосутиг.
Портий почтительно склонил голову.
Кельт молчал, давая понять, что разговор окончен. Портий вежливо попрощался с Тосутигом и ушел.
Бессонными ночами юноша размышлял, как быть дальше: ни связей, ни влиятельных покровителей, ни Лидии… блистательного положения в Риме ему не добиться. Зато здесь, в провинции, у него внезапно появилась возможность обзавестись красавицей-женой и богатым имением.
«Отказываться глупо», – признал он, закрыв глаза и вызывая в памяти образ рыжеволосой красавицы верхом на гнедой лошади. Внезапно ему вспомнились голубые небеса и солнечные дни Южной Галлии, где находилось имение родителей, а еще величественные базилики Рима и роскошный особняк Гракхов… В Портии заговорило тщеславие: правитель Сарума немногим отличался от зажиточного крестьянина, а его красавица-дочь с трудом изъяснялась на латыни. Красавиц везде хватает – и в Галлии, и в Риме.
«Может быть, вернуться к родителям, в Галлию, начать все заново…» – думал Портий.
Исполненный сомнений юноша стал избегать встреч с Тосутигом и его дочерью. Вдобавок шел сбор урожая, и забот в императорском имении хватало. Однажды Портий увидел Мэйв на холме у дуна, но подходить к ней не стал.
А потом пришло письмо от отца.
Сын мой!
Увы, в эти тягостные дни мне нечем развеять твою грусть. Наш управляющий опрометчиво заключил ряд весьма невыгодных сделок, и теперь выяснилось, что наши доходы резко упали. В довершение всех бед нам грозит долгое судебное разбирательство, которое потребует дополнительных затрат. Мне пришлось продать виноградник, оливковую рощу и два лучших хозяйства в имении, так что, боюсь, твое наследство значительно уменьшилось.
Нет, мы не разорены и не нищенствуем, однако стеснены в средствах, так что одному из нас придется изыскать возможность поправить бедственное положение. Не отчаивайся и помни, что честность и достойное поведение – главное достояние человека.
Твой любящий отецКак ни странно, плохие вести принесли Портию некоторое облегчение. Он понял, что выбора у него не осталось: разумеется, Сарум не Рим, но иного не дано.
После сбора урожая он надел свою лучшую тогу, велел слуге приготовить коня и поехал в долину к правителю Сарума.
Ближе к концу свадебного обряда юношу с головой накрыла волна безудержного отчаяния. Грудь сдавил жуткий, всепоглощающий страх.
Свадьбу справляли в доме Тосутига. Правитель Сарума, Портий и трое легионеров надели тоги, отдавая дань римским традициям. Больше о Риме ничего не напоминало.
Во дворе расставили огромные столы, за которыми на деревянных скамьях сидели мужчины; женщины разносили угощение и прислуживали. Из всех окрестных поселений на свадьбу пришли крестьяне в ярких рубахах и накидках. Всего собралось человек пятьдесят, включая и мастеров-ремесленников Нумекса и Бальбу. Пир начался ранним вечером и длился до поздней ночи. Над двумя очагами на вертелах жарили туши косуль, быков и баранов. Столы ломились от яств. Длинноусые кельты пили за здоровье Портия эль и хмельной мед.
Мэйв на пиршестве не появлялась. Наконец, когда все наелись до отвала, за плетеной изгородью послышался звон бубенцов и бряцание кимвалов. Мужчины за столами радостно завопили и в притворном ужасе бросились запирать ворота. В створки настойчиво застучали, а потом троекратно попросили разрешения войти. По сигналу Тосутига ворота распахнули.
Во двор, приплясывая, ввалилась толпа ряженых. Лица восьми танцоров прятались за ярко раскрашенными масками, а девятый, настоящий великан, нахлобучил на голову деревянную личину быка с огромными рогами. Глухо звенели бубенцы, привязанные к щиколоткам. Двое ряженых дудели в камышовые дудки, а третий бряцал кимвалами. Рогатый исполин плясал между столами, топал, ревел, фыркал и бодал хохочущих гостей, скабрезными жестами давая понять, что представляет жениха. Наконец великан подскочил к Портию и протянул ему чашу.
– Пей, жених! Пей до дна! – закричали гости.
Портий взял чашу, до краев наполненную густой жидкостью.
– Пей! – неслось со всех сторон.
Юноша пригубил солоноватый напиток.
– Что это? – спросил он Тосутига.
– Старинное зелье, – ухмыльнулся правитель Сарума. – Меня в нем посреди дуна искупали, когда я стал вождем. Так что теперь ты кельт.
– А из чего оно сделано?
– Из молока, бычьей крови и каких-то трав, – ответил Тосутиг. – Ничего страшного.
Портий еще раз посмотрел в чашу с золотым ободком по краям и внезапно сообразил, что она сделана из распиленного человеческого черепа. Юношу замутило.
Тосутиг встал из-за стола.
– Ведите невесту! – заорали гости.
И вот тогда волна безудержного отчаяния накрыла Портия с головой. Он обвел взглядом толпу длинноусых гостей, поглядел на сидящих рядом краснолицых толстощеких коротышек Нумекса и Бальбу, на тошнотворный напиток в жуткой чаше. В ушах звучали слова Тосутига: «Теперь ты кельт».
«Остановись, Гай Портий Максим! Что ты делаешь?! – восклицал внутренний голос. – Неужели это – твоя свадьба? Если породнишься с варварами, то навсегда застрянешь здесь, в глуши».
Увы, свадебный обряд ничуть не походил на тот, который представлял Портий в мечтах о Лидии. Вот-вот приведут невесту…
Только сейчас Портий осознал, что происходит: неразрывными узами он навечно связывает себя и своих потомков с этими людьми. Юноша едва не вскрикнул: «Нет! Ни за что!», но Тосутиг с ряжеными уже вели к нему невесту. Поздно! Все пропало! Он променял свое будущее на рыжеволосую красавицу, солового жеребца и сундук золота.
Золотистые кудри Мэйв зачесали назад и скрепили золотой заколкой, широкие золотые браслеты обвивали запястья и щиколотки, белоснежное одеяние ниспадало ровными складками. Отец подвел дочь к Портию. Гости умолкли, восхищенно глядя на девушку. Жених, содрогаясь от ужаса, протянул к невесте руку и утешил себя мыслью: «Сегодня ночью она станет моей…»
Поздно ночью все собрались провожать молодых в Сорбиодун. Слуга вывел из конюшни солового жеребца и торжественно вручил уздечку Портию.
При свете факелов свадебная процессия вышла из долины и направилась к селению на берегу реки у заброшенной крепости. Взошла луна. У дверей своего скромного жилища Портий подхватил невесту на руки и перенес ее через порог.
Так началась жизнь римлянина Портия в Саруме.
Семейная жизнь удивила римлянина. Неутомимость Мэйв в любовных утехах стала приятной неожиданностью. В первую брачную ночь Портий смущенно улыбнулся, стараясь подбодрить и успокоить молодую жену, но она с восторженным вздохом бросилась к нему в объятия, повалила на постель и, смеясь, начала срывать с него тогу. В последующие месяцы поведение ее не изменилось: Мэйв часто приезжала в императорское имение и, отрывая мужа от работы, уводила его домой или в рощу по соседству, где набрасывалась на него с жадными ласками.
Мэйв все было внове: и замужество, и юный красавец с его римскими манерами, и сладость любовных утех. Она была богата и не знала забот. Каждый день приносил новые наслаждения, знакомые с детства окрестности Сарума заиграли новыми красками. Боги благосклонно послали ей чудесного мужа, и она с радостью принимала их дар.
Второй неожиданностью оказалось постоянное присутствие тестя.
Наутро после свадьбы, едва взошло солнце, Тосутиг принес в Сорбиодун любимые сласти Мэйв и, усевшись на пороге, терпеливо дожидался, когда новобрачные проснутся. Портий, решив, что это местный обычай, почтительно пригласил тестя войти. Тосутиг провел с ними полдня и ушел, обещая вернуться вечером.
То же самое повторялось каждый день. В отсутствие Портия Тосутиг приглашал дочь на верховую прогулку, а когда римлянин возвращался из имения, старый правитель заводил с ним бесконечные разговоры. Поначалу Портия это раздражало, но вскоре он привык к присутствию тестя и почти не замечал его. У себя дома Тосутиг тосковал, скучая по дочери и томясь одиночеством. Вдобавок ему хотелось приобщиться к жизни на римский манер.
– Римлянин взял Мэйв в жены, – объяснял он Бальбе и Нумексу. – В Саруме грядут перемены, вот увидите.
Сам Портий не знал, что делать дальше. В Риме о нем все забыли. Классициан оценил его усилия по восстановлению имперского имения и назначил весомую прибавку к жалованью, что несколько утешило Портия. Теперь он мог, исполняя сыновний долг, посылать деньги родителям в Галлию. Спустя год после свадьбы он снова обратился к прокуратору с просьбой о назначении на пост поважнее.
– Ты прекрасно справляешься в Сорбиодуне, вот и поживи там пока, займись имением тестя, – ответил Классициан. – К тому же в Риме сейчас неспокойно, а двор Нерона – настоящее змеиное гнездо.
Портию не терпелось выбраться из провинциального захолустья. Как ни странно, в этом его поддерживал Тосутиг. Всякий раз при упоминании столицы империи старый правитель радостно потирал руки и восклицал:
– Всю жизнь мечтал увидеть Рим! А может, и с самим императором встретиться… Давай все вместе поедем, а?
Мэйв с прохладцей относилась к этим замыслам.
– Подумаешь, Рим! – презрительно замечала она и, обводя рукой холмы и долины Сарума, говорила: – Нам и здесь неплохо живется.
Портия по-прежнему восхищала пылкая страсть и красота жены, однако равнодушие к Риму начинало понемногу раздражать. Вечерами он пытался научить ее лучше говорить на латыни. Сперва Мэйв согласилась, но потом ей прискучило.
– Мне нужен муж, а не наставник, – смеялась она, осыпая его поцелуями, а если он противился ее ласкам, то обижалась.
Портий увлеченно расписывал красоты великого города на семи холмах, Форум, прекрасные здания, дебаты в сенате и суде, огромные библиотеки и виллы сенаторов, но Мэйв оставалась безразличной ко всему, что поражало воображение ее мужа.
– Нас это не касается, – говорила она.
Молодой человек утешал себя тем, что, во-первых, его восторги разделяет Тосутиг, а во-вторых, совсем не обязательно, чтобы мнения мужа и жены совпадали. И все же, как он ни пытался примириться с равнодушием Мэйв, его задевало, что она не жаждет стать примерной римской женой. «Как можно любить человека, если питаешь отвращение к отдельным сторонам его натуры?» – часто думал Портий.
– Зря ты стала женой римлянина, если Рим тебе не по душе, – сказал он как-то Мэйв.
– Ах, ты жалеешь, что взял меня в жены? – лукаво спросила она, скидывая с плеч платье.
Портий страстно притянул ее к себе, возбужденный видом прекрасного тела жены.
– Ничуть не жалею, – пылко заверил ее он.
Мэйв не понимала разочарования мужа: он сам выбрал ее, а значит, выбрал и Сарум. Она любила Портия всей душой, считая его неотъемлемой частью привычного мира, а разговоры о Риме его словно бы отстраняли. Она старалась отвлечь мужа от чуждых мыслей единственным известным ей способом: соблазняя его своим желанным телом. Шли месяцы, но разговоры о Риме не прекращались, и Мэйв, не желая их слышать, убеждала себя, что это скоро пройдет.
– Сарум – твой дом. Ты никуда отсюда не денешься, – говорила она Портию, лаская его.
По ночам она часто просыпалась и при свете свечи озабоченно вглядывалась в лицо спящего мужа, стараясь понять, что ему снится.
Спустя полтора года Мэйв объявила, что ждет ребенка, и о Риме на время забыли.
– Раз уж у тебя скоро появится наследник, – сказал Тосутиг зятю, – пора бы подумать о новом доме. Деньги у нас есть, надо построить настоящую римскую виллу.
Портий согласно кивнул.
Для постройки выбрали место в глубине долины, в полумиле к се веру от жилища Тосутига. На восточном склоне холма над болотистым берегом реки Авон нависал плоский выступ, откуда открывался прекрасный вид на юго-запад. С севера выступ защищала роща на склоне. За холмом начиналось взгорье и меловые гряды, где пасли овец. На склоне, поросшем лесом, кое-где расчистили делянки, а на выступе стояла древняя хижина, заброшенный пастуший приют. Вдобавок у этого места было еще два преимущества.
О первом Портию рассказала Мэйв.
Чуть поодаль, на самом краю взгорья, росла купа деревьев. Мэйв торжественно привела туда Портия. На поляне посреди рощицы он заметил небольшое круглое возвышение диаметром в тридцать пять шагов – такие же холмики были рассыпаны по всему взгорью.
– Наверное, это могильный холм, – сказал Портий.
Мэйв согласно кивнула, хотя и не догадывалась о многовековой истории древних могильников на взгорье.
– Это священная роща друидов, – благоговейно прошептала она. – Здесь они молились своим лесным богам. – Портий недовольно поморщился, но Мэйв восторженно продолжила: – Благое предзнаменование! Хорошо, что наш новый дом будет рядом. А здесь надо построить святилище.
Римлянин огляделся: поляна и впрямь была очаровательна и словно бы источала покой.
– Делай как знаешь, – сказал он жене.
Вторым преимуществом было то, что к реке спускался широкий пологий берег, а небольшая глубина и медленное течение позволяло укрепить дно и построить здесь брод, безопасную переправу для людей и для скота.
– Как это место называется? – спросил Портий тестя.
– Да никак, – ответил Тосутиг. – Брод, он и есть брод – форд, если на местном наречии[6].
Так римлянин начал строить свой новый дом у брода на реке Авон.
Портию помогали Нумекс, Бальба и мужчины из окрестных селений. На месте полуразвалившейся хижины сложили из камней и глины невысокую прямоугольную постройку и присоединили к ней два крыла, разделенные на две комнаты; получился узкий длинный дом, обращенный на юго-запад. Вдоль задней стены тянулся широкий проход, соединенный еще с несколькими помещениями, выходящими в мощеный внутренний дворик. Стены оштукатурили и выкрасили в белый цвет; в верхней части стен установили толстые щиты, сплетенные из лозы. Крышу покрыли дорогой черепицей, привезенной с севера.
Разумеется, скромному сельскому дому далеко было до роскошной виллы Когидубна, когда-то восхитившей Тосутига, однако же, к восторгу правителя Сарума, прямоугольное строение с белеными оштукатуренными стенами и черепичной крышей было типично римским.
– Пол надо выложить мозаичной плиткой, во дворике построить фонтан, а в окна вставить зеленое стекло, – возбужденно требовал Тосутиг, обрадованный тем, что на его землях наконец-то появились неоспоримые признаки римского господства.
Однако теперь, когда Мэйв ждала ребенка, Портия больше занимало другое. «Раз уж поездка в Рим откладывается, придется воссоздать Рим в Саруме», – решил он и сказал тестю:
– С роскошью пока повременим. Надо заняться хозяйством.
– Но у нас хозяйство налаженное, – удивился Тосутиг.
Портий покачал головой:
– Оно по-кельтски налаженное. Я хочу сделать его римским.
К изменениям, предложенным Портием, сарумские жители отнеслись подозрительно.
Нововведения римлянина начались с долины.
– Зе мли по берегам реки очень плодородны, но вы их не возделываете, а отдаете под выпас скота и свиней, – объяснял он Тосутигу. – К тому же там много заболоченных участков.
– Нашим плугом землю у реки не вспашешь – почва слишком плотная, – возразил Тосутиг. – А болота… Болота тут всегда были.
– Но ведь можно обзавестись тяжелым плугом с чугунным лемехом и отвалом и пахать на волах. Поля у реки дадут прекрасный урожай.
– А болота как же?
– А болота легко осушить и тоже отдать под пахотные земли.
Тяжелый плуг был известен в Британии уже несколько десятков лет. Племена белгов привезли его с собой из Галлии и с успехом пользовались им для пахоты, но жители Сарума и западной оконечности острова, где преобладали плодородные меловые почвы, неохотно расставались с привычной легкой сохой, а повышение урожайности их не волновало.
– В империи всегда существует спрос на зерно, – настаивал Портий. – Чем больше продавать, тем выше наши доходы.
В осушении заболоченных земель римляне не знали себе равных. В южной и восточной оконечностях Британии уже возводили защитные дамбы, прокладывали гати и создавали сеть открытых осушительных систем, а топи на востоке острова превратили в плодородные пашни и луга. В сравнении с этим замысел Портия был весьма скромным.
– Болота легко осушить, – сказал молодой человек Нумексу, имея в виду заболоченные земли к северу и западу от Сорбиодуна.
– Конечно, – обрадованно закивал Нумекс, который многому научился у римлян на строительстве дорог. – Только местным эти земли ни к чему. Не станут они их обрабатывать.
– Ничего, привыкнут, – уверенно заявил Портий.
Увы, в этом он ошибся.
За несколько лет Нумекс вырыл сеть отводных каналов и канавок, по которым вода с заболоченных земель в низине стекала в реку, и проложил деревянные желоба, позволяющие регулировать отток воды. Портий отвел под пахоту несколько акров плодородной земли у реки и купил два тяжелых плуга.
– Теперь дело пойдет на лад, – сказал он Тосутигу.
Однако весенним половодьем затопило заливные луга, и жители окрестных селений обрадовались – им не хотелось пахать в низине. Нумекс и Портий терпеливо восстановили осушительные сооружения и укрепили речной берег, так что на следующий год можно было приступать к пахоте.
Увы, опасения Нумекса подтвердились, а надежды Портия не оправдались. Землепашцы неохотно вывели на поля упряжки волов с тяжелым плугом, но странным образом постромки рвались, волы упрямились или возникала еще какая-то важная причина, по которой обработка полей в низине откладывалась. Все наперебой жаловались Тосутигу. На третий год правитель Сарума не выдержал и попросил зятя отказаться от затеи.
– В низине они никогда не пахали и пахать не станут, – объяснил Тосутиг.
– А римляне низины веками распахивали, – напомнил ему зять.
– Так то римляне! – отмахнулся тесть. – А это – кельты. Они упрямые.
– Римляне тоже упрямые, – буркнул Портий.
Еще лет двадцать поля в низинах обрабатывали, но кое-как, а потому урожаи с них снимали посредственные. Даже Нумекс разочаровался в нововведении, и впоследствии осушительную систему забросили, а тяжелые плуги ржавели без дела. Сарумское земледелие продолжало процветать на взгорье.
Впрочем, кое в чем Портий преуспел.
Рядом с виллой он разбил небольшой сад, огороженный высокой каменной стеной, и посадил там персиковые и абрикосовые деревья, привезенные из Галлии. Абрикосы не прижились, а вот персики укоренились и вскоре принесли урожай румяных сочных плодов, дотоле невиданных в Саруме.
Однажды Портий спросил у Мэйв, где местные жители собирают мед.
– В лесу, – ответила она.
Портий удивленно покачал головой и велел Нумексу установить шесть небольших глиняных горшков на солнечном склоне, у каменной стены сада, и провертеть в стенках каждого горшка шесть дырочек.
– А это еще зачем? – удивленно спросил Нумекс.
– Для пчел, – объяснил Портий.
Никто не верил, что пчелиный рой можно заставить жить в горшке.
– Вам, римлянам, во всем порядок нужен, – возмутилась Мэйв. – Вот увидишь, пчелы тебе подчиняться не станут. Знаешь, сколько они летают, бедняжки, пока удобное местечко в лесу не найдут?
Портий только улыбнулся. На следующий год несколько пчелиных роев поймали и перенесли в горшки. К удивлению местных жителей, пчелы никуда не улетели.
– Вот что значит римская смекалка, – сказал Тосутиг Мэйв.
Бальба-красильщик вызвался стать пасечником.
– Я красками насквозь пропитался, пчелы меня не тронут, – заявил он Портию.
И в самом деле, пчелы красильщика не жалили: то ли их отпугивал едкий запах мочи, применяемой для окрашивания и отбеливания шерсти, то ли Бальбу сделала неуязвимым продубленная красителями кожа.
– Пчелы вони не любят, – серьезно объяснил Нумекс.
Но больше всего Тосутигу понравились фазаны – необычные длиннохвостые птицы с маленькой головой и золотисто-коричневым оперением.
– А что с ними делают? – спросил тесть.
– На них охотятся. У фазанов очень вкусное мясо, но их надо несколько дней провешивать, – объяснил Портий.
Двести фазанов, привезенных из Галлии, выпустили в лес, и они быстро обосновались в окрестностях Сарума.
– Надо же, мой зять даже охотничьи угодья улучшил! – восторгался Тосутиг.
Однако самых больших перемен Портий добился на взгорье. Его нововведение существенно повлияло на жизнь Сарума в последующие полторы тысячи лет.
Овец в Саруме было много, Портий заметил это сразу. В то время на острове существовала всего одна, древняя порода – соай: мелкие, худые и выносливые животные с короткими хвостами и гладкой бурой шерстью, прекрасно приспособленные к жизни на взгорье. Римляне считали их примитивными, потому что в имперских провинциях разводили много разных пород: в испанской провинции Беатика и в Малой Азии – рыжих, в Иберии – черных, но самое драгоценное, белое руно получали от тарентских овец из Южной Италии.
– Надо улучшить породу, – заявил Портий.
– Неужели всех наших овец придется заколоть? – ужаснулся Тосутиг.
– Нет, что ты! Мы их скрестим с тарентскими.
Портий, хоть прежде и не предполагал заниматься разведением скота, внимательно изучил трактат Марка Терренция Варрона о сельском хозяйстве. Труды великого философа натолкнули молодого человека на кое-какие мысли, а потому он выписал из Италии полдюжины лучших тарентских овец.
Через несколько месяцев к дуну подъехал крытый возок. Местные жители, прослышав о невиданных овцах, с любопытством следили, как Портий и Тосутиг выгружают животных. Портий откинул полог возка и по сходням бережно вывел первую овцу.
Все вокруг расхохотались, а Тосутиг побагровел от стыда – овца была плотно обернута кожаной попоной.
– Римские овцы плешивые! Их попонами накрывают, чтоб не мерзли! – выкрикивали в толпе.
Портий невозмутимо развязал кожаные ремни, удерживающие попону на месте, и объяснил:
– Попоны надевают для того, чтобы шерсть не путалась и не пачкалась.
Он сдернул попону, и смех немедленно умолк. Жители Сарума изумленно ахнули, впервые увидев тонкорунную овцу. Тончайшая белоснежная шерсть волнами ниспадала до самой земли и сияла в лучах солнца. К овце со всех сторон потянулись руки, люди с восхищением гладили шелковистые завитки, возбужденно переговаривались.
Когда Портий вывел из возка всех животных и снял с них попоны, Тосутиг недоуменно спросил:
– А где же бараны?
– Нам бараны не нужны, – ответил Портий. – У нас свои есть.
Улучшение, точнее, выведение новой породы заняло несколько лет. Портий терпеливо скрещивал тарентских овец с местными баранами. Первый помет дал овец разных цветов и с жесткой шерстью.
– Говорил же я тебе, бараны нужны, – удрученно вздохнул Тосутиг.
– Не торопись, овец нужно еще раз скрестить, – успокоил его Портий.
Из первого помета он выбрал баранов с белой шерстью и снова скрестил их с тарентскими овцами. Потомство удалось на славу – все с длинным белым руном, хотя и не таким шелковистым, но вполне подходящим для холодных зим Сарума.
Местные жители прониклись уважением к римлянину.
Портий объяснил, что овец лучше не ощипывать по весне, а стричь, потому что иначе при осенней линьке пропадает много шерсти. Он показал Тосутигу железный гребень и бронзовые ножницы для стрижки овец и заверил тестя, что количество собранной таким способом шерсти увеличится вдвое, а гребнем удобно отделять длинные волокна от коротких.
Вскоре на взгорье рядом с отарами бурых овец паслись и белые овцы – выносливые, ловкие и привычные к непогоде, так что попоны им не требовались. С них состригали прекрасное тонкое руно.
– Твой муж не только научил нас жить как истинные римляне, но и приумножил наше богатство.
После пяти лет семейной жизни Портий решил, что все-таки чего-то достиг. Мэйв родила ему двух сыновей и дочь. Мальчики получали римское воспитание, и Портий подумывал нанять им наставника. Имение процветало. Молодой человек с таким усердием предавался заботам о хозяйстве, что даже не вспоминал об отъезде из Сорбиодуна. Долгая судебная тяжба лишила его родителей имения в Галлии, однако деньги, посылаемые Портием, обеспечивали им скромное существование. В общем, жаловаться было не на что – ну или почти не на что.
Материнство изменило отношение Мэйв к мужу. Когда она ждала первенца, то, мучимая тошнотой, мечтала поскорее разрешиться от бремени и вернуться к прежнему, беззаботному существованию. Однако, ощутив в себе биение зарождающейся жизни, Мэйв с любопытством начала следить за ее развитием и пришла в невероятный восторг. Перед восхитительными ощущениями меркла даже первая встреча с Портием.
После рождения ребенка она часами сидела у колыбели, разглядывая младенца, – ее не занимало ничего, кроме сына. Верховые прогулки она забросила, а пылкие любовные утехи сменились сдержанными ласками. Спустя несколько месяцев Мэйв поняла, что хочет еще одного ребенка.
Поначалу Портию нравились эти перемены. «Моя жена превращается в настоящую римскую матрону», – с гордостью думал он. Увы, с появлением еще двоих детей Мэйв словно бы забыла о муже и, хотя всегда встречала его с нежной улыбкой, взгляд ее полнился иными заботами.
Ей все чаще казалось, что муж, этот странный римлянин, отец ее детей, совершенно не разделяет ее чувств. Неужели он не видит, какое чудо – дети? Почему он все время куда-то торопится? Она его, конечно же, любила, ведь он заботился о ней, приумножал доходы поместья. Он был ей нужен. Да, она его любила.
Изредка Портий жалел об угасшей страсти жены, но убеждал себя, что это к лучшему. Впрочем, на такие пустяки времени у него совершенно не оставалось.
Иногда, охваченная внезапной вспышкой былого чувства, Мэйв нежно обнимала мужа и шутливо спрашивала:
– Ну что, ты в Рим все еще собираешься?
Портий улыбался в ответ – ему было хорошо в Саруме.
Летом 67 года в Сорбиодун приехали Марк с Лидией.
Портий, Тосутиг и Мэйв стояли у крепости. Римлянин терзался противоречивыми чувствами. Зачем он пригласил в гости Марка и Лидию? Наверное, из приличия. Получив послание Марка с известием о его приезде в провинцию, Портий не мог поступить иначе.
Наконец-то он снова увидит Лидию… Вот уже два дня на вилле шли торопливые приготовления к встрече гостей. Виллу привели в образцовый порядок, а дорожку, ведущую к дому, засыпали свежим гравием. Портий, не в силах сдержать волнения, стал резок и несдержан с детьми и женой. Утром он поглядел в бронзовое зеркало на стене, размышляя: «Что они обо мне подумают? Наверное, я стал провинциалом… Ох, неужели я все еще в нее влюблен?»
Мэйв тоже волновалась. Портий никогда не говорил с ней ни о сенаторе Гракхе, ни о Лидии, но Мэйв давным-давно узнала обо всем от отца. Она невольно вздрогнула: мысль о сопернице страшила, но Мэйв не хотела, чтобы Портий об этом догадался. Рыжеволосая красавица боялась не внешнего сравнения с римлянкой, а того, что Лидия олицетворяла: загадочный мир Римской империи, ради которого Портий может оставить жену. Мэйв не знала, как с этим бороться.
Тосутиг, в своей лучшей тоге, счастливо улыбался.
– К нам в гости приедет дочь сенатора, – вот уже несколько дней объявлял он всем подряд, втайне неимоверно гордясь тем, что выдал дочь замуж за человека, которому когда-то благоволил римский сенатор.
Никто из обитателей Сарума не подозревал, что гости долго раздумывали, прежде чем сообщить Портию о своем приезде в Британию. Марк получил важное назначение в Африку – ему прочили головокружительную политическую карьеру. Прежде чем отправиться к месту службы, он хотел сдержать данное жене обещание и свозить ее в далекую северную провинцию, но они с Лидией долго не могли решить, надо ли сообщать об этом Портию.
– Он женился на местной, живет где-то в глуши, в стесненных обстоятельствах, ведь его родители в Галлии разорились. Пожалуй, ему неловко будет с нами встречаться, – вздохнул Марк.
– А если он узнает, что мы приезжали в Британию и ему об этом не сообщили, то обидится наверняка, – сказала Лидия.
Итак, они отправились в Сорбиодун.
– Не надо было приезжать, – прошептала Лидия, когда крытый возок и два сопровождающих его всадника свернули на дорогу, ведущую к дуну.
Наконец возок остановился, и Марк, спрыгнув на землю, радостно схватил Портия за руку:
– Здравствуй! Как я рад встрече, приятель!
Церемонный поклон, которого удостоились владыка Сарума и Мэйв, пришелся бы по душе самому сенатору Гракху. Марк почти не изменился, лишь несколько утратил юношескую стройность, на широком лице появились первые морщины, широко расставленные глаза светились довольством, а черные кудри надо лбом слегка поредели. Тосутиг с восхищением разглядывал человека, явно облеченного властью.
Портий не отрывал глаз от возка, из которого с достоинством вышла Лидия. Как и предполагал Портий, она изменилась.
Расплывчатые очертания детского лица приобрели четкость, плавным линиям сформировавшейся фигуры позавидовала бы любая родовитая римская матрона, гибкие движения полнились уверенности и грации. Лидия держала себя с отстраненным очарованием, свойственным женщинам высших имперских кругов. Изящная высокая прическа по тогдашней римской моде открывала лоб, безупречная смуглая кожа словно бы сияла изнутри, от нее исходил легкий аромат духов. Судя по всему, Лидия была довольна жизнью с Марком. За несколько лет наивная дочь сенатора, которая еще недавно восхищалась неуклюжими шутками и бездарными эпиграммами Портия, превратилась в недосягаемую патрицианку. Портий онемел от изумления.
Лидия улыбнулась, заметив произведенное ею впечатление, и негромко произнесла:
– Привет тебе, мой Портий!
Мэйв с любопытством разглядывала ее, понимая, что эта женщина явилась из неведомого мира, словно бы олицетворяя собой все то, о чем мечтал ее муж. Повозка медленно покатила к вилле на холме.
– А в Риме много таких женщин? – шепнула Мэйв Портию.
– Да, – ответил он, с трудом сдерживая возбуждение.
Мэйв задумчиво кивнула и, решив, что в Рим они никогда не поедут, с любопытством спросила:
– А она умеет ездить верхом?
– Не знаю, – усмехнулся Портий. – Вряд ли.
– Зато я умею, – гордо тряхнув головой, заявила Мэйв.
Однако разговор гостей, ненароком услышанный на пути к вилле, ранил Портия до глубины души. Лидия, не подозревая, что Портий скачет совсем рядом с возком, негромко сказала мужу:
– Ох, погляди, в какой лачуге они живут!
– Говорил же я, не стоит приезжать, – шепнул Марк. – Теперь улыбайся и нахваливай все, что тебе покажут.
Портий, обиженно выпрямившись в седле, посмотрел на крохотную виллу, которой еще недавно так гордился: и в самом деле, скромный домишко в захолустье. Стыд и отчаяние захлестнули Портия с головой, и он забыл о радости встречи с друзьями.
В доме к гостям вывели сыновей Портия, и мальчики почтительно произнесли слова приветствия на безукоризненной латыни.
– Твои дети делают тебе честь, – заметил Марк. – Моим сыновьям до них далеко.
Портий, как подобает радушному хозяину, повел гостей осматривать угодья. Впрочем, делал он это без особого удовольствия, а вот Тосутиг, напыжившись от гордости, с восторгом показывал гос тям все великолепные нововведения зятя, включая оштукатуренные стены дома. Марк, разглядывая отары белоснежных овец, завел с Портием осведомленную беседу о животноводстве, а потом расска зал старому приятелю о последних новшествах в осушении земель. Портий с благодарностью поддержал разговор, однако не преминул отметить неискренние улыбки и притворно-восторженные восклицания друга.
– Что ж, Портий, прекрасное у тебя имение! – повторял Марк.
Вечером, за ужином, приготовленным Мэйв и ее прислужницами, к Портию вернулась гордость – роскошь яств соперничала с римскими трапезами.
– Твоя… Маева… – произнесла Лидия, не справляясь с произношением имени жены Портия, – отличная хозяйка. Теперь понятно, почему ты на ней женился, мой Портий.
Она сопроводила свои слова печальным вздохом, будто это Портий ее оставил. Лидия попыталась заговорить с Мэйв, но беседа не задалась: рыжеволосая красавица бесстрастно выслушала похвалу яствам, вежливо улыбнулась, но к рассказам о Риме осталась равнодушной. Когда речь зашла о делах в дальних имперских провинциях, стало ясно, что Мэйв смутно представляет себе, где они находятся, а вот Тосутиг до самой ночи расспрашивал гостей о политике, об императоре Нероне и о всевозможных тонкостях управления империей. Наконец Портий, к явному облегчению усталых гостей, заявил, что пришла пора отдохнуть.
– Приезжайте к нам почаще, – настаивал старый кельт. – А когда мы соберемся в Рим, то обязательно вас навестим.
Утром все отправились к дуну провожать Марка с Лидией.
– Прощай, мой Портий, – с ласковой улыбкой изрекла Лидия. – Ах, я так рада видеть тебя счастливым!
Марк пожал Портию руку и произнес:
– Боги тебе благоволят, дружище! Да приумножатся твои богатства в этой провинции!
Однако Портий успел заметить на лице приятеля мимолетную гримасу сожаления – так преуспевающие люди смотрят на своих знакомых, с которыми не собираются поддерживать отношения.
Повозка покатила с холма, и Портий невольно сделал несколько шагов вслед, глядя на дорогу, убегающую к туманному горизонту. Внутри у римлянина все сжалось – он понял, что проиграл.
Наконец крохотные фигурки всадников и возок скрылись в сизом мареве, а Портий, вздохнув, медленно обернулся к тестю и жене.
В 68 году от Рождества Христова великие перемены сотрясали Римскую империю, провинцию Британия и семейство Портия.
Римский сенат объявил императора врагом народа, и Нерон, убоявшись расправы, наложил на себя руки. После его смерти в империи вспыхнули мятежи и бунты, а последующий год получил название года четырех императоров – по числу желающих облачиться в пурпурную тогу правителя Рима. Наместник Марк Веттий Болан и три британских легиона поддерживали Авла Вителлия. Гай Светоний Паулин, к этому времени римский сенатор, встал на сторону Марка Сальвия Отона и чудом уцелел после разгрома отонианцев легионами Вителлия в битве при Бедриаке, на севере Италии. Однако же победоносные вителлианцы, желая запугать претендентов на императорский престол, совершили величайшую ошибку: убили всех отоновских центурионов. В легионах начались волнения, и Вителлий лишился поддержки армии; вдобавок против него открыто выступили многие военачальники, в частности Тит Флавий Веспасиан, которого Нерон отправил подавлять восстание в Иудее. Вителлий потребовал, чтобы британские легионы пришли ему на выручку, однако Болан колебался, не зная, на чью сторону лучше стать. Тем временем Вителлий был убит, и императором стал Веспасиан, положив начало династии Флавиев.
Эти невероятные события свидетельствовали об упадке централизованной власти Рима: если человек незнатного происхождения мог, отличившись на воинской службе, стать императором, то того же мог добиться и наместник самой отдаленной имперской провинции.
Приход Веспасиана к власти привел к переменам и в далекой Британии. Нового императора поддержали римские войска, находившиеся в провинции, особенно легионеры Второго Августова легиона, которым некогда командовал Веспасиан. Однако опасения вызывал Двадцатый Победоносный легион – его солдаты выступили на стороне Вителлия, поэтому Веспасиан назначил легатом Двадцатого легиона Гнея Юлия Агриколу, отличившегося при подавлении восстания кельтов под предводительством Боудикки. Наместником Британии стал Квинт Петилий Цериал, бывший легат Девятого Испанского легиона, который отважно, хотя и безуспешно, пытался отбить Камулодун, захваченный войском Боудикки. Веспасиан считал, что эти способные военачальники совладают с управлением мятежной провинцией.
Тосутиг проведал, что Портий знаком с этими высокопоставленными особами, и безмерно обрадовался:
– Ты служил с Цериалом и Агриколой, а я разговаривал с самим Веспасианом! Вот повезло!
На следующий день Тосутиг написал императору длинное послание, напоминая о прошлом знакомстве. Портий с улыбкой прочитал письмо, исправил многочисленные ошибки и решил, что особого вреда оно не причинит – император наверняка получал тысячи таких посланий.
К безмерному изумлению Портия, на этот раз надежды старого кельта оправдались. Вскоре в Сорбиодун приехал посланник нового наместника и вручил Портию письмо, в котором говорилось:
По рекомендации прокуратора Классициана и в награду за верную службу Гай Портий Максим назначается личным бенефициарием наместника и смотрителем строительства новых терм в месте, называемом Акве-Сулис.
– Прекрасное назначение, – заверил Портия посланник. – И жалованье огромное. Поздравляю!
В Римской империи принято было как можно скорее привносить внешние признаки цивилизованной жизни в завоеванные провинции. В Британии повсюду спешно возводились храмы, амфитеатры и термы. Так возникло поселение у горячих источников под названием Сулиевы воды – Акве-Сулис, – впоследствии ставшее городом Батом. Построенными там великолепными римскими банями любуются и сейчас, две тысячи лет спустя.
Портий хорошо знал долину в южной оконечности Котсуолдской гряды, лежащую всего в тридцати милях к северо-западу от Сарума. Там добывали серый известняк и желтый песчаник. В долине били горячие ключи, обладавшие целительными свойствами. Вот уже много веков кельты считали это место священной обителью богини Сулии и устроили там купальни. Римляне отождествляли Сулию с Минервой, однако, чтобы добиться расположения коренных обитателей долины, дали местности название по имени кельтского божества.
Итак, Портию надлежало выстроить в Акве-Сулис традиционные римские термы, а впоследствии расширить и приукрасить их. На строительство выделили огромную сумму.
– Бани должны стать местом отдыха для римских легионеров и местного населения, – объяснил посланник и с усмешкой добавил: – Может быть, купание в горячих источниках смягчит воинственный нрав кельтов.
Однажды летним утром Портий отправился осматривать долину. Вместе с ним увязался коротышка Нумекс.
– Римляне научили меня строить дороги, – заявил каменщик. – Теперь я хочу узнать, как они строят дома.
Подготовка к строительству терм шла полным ходом. В АквеСулис отправили зодчих из Галлии, землемеров, каменщиков, плот ников и целую армию строителей. Портию впервые пришлось присматривать за таким количеством людей, однако управлять превосходно налаженным хозяйством было несложно. Землемеры осмотрели источники, прорыли канавы, исследовали почву и составили план строительства.
У священных источников предполагалось соорудить прямоугольный купальный зал с бассейном, в который вода поступала с одной стороны. К восточному крылу купальни следовало пристроить термальный бассейн поменьше, а в западном крыле расположить обогреваемые помещения: тепидарий с теплым воздухом и кальдарий – парну ю. Для украшения каменных построек использовали яркие мозаики и резные изображения римских и кельтских богов.
Строительство должно было занять несколько лет, и Портий с удовольствием погрузился в работу. Жизнь в провинции налаживалась.
Нумекс с восхищением следил за строителями. Давным-давно, когда он помогал легионерам строить дорогу, коротышка-каменщик понял, что новые правители острова не только отличные воины, но и прекрасные ремесленники, обладающие доселе невиданными умениями и мастерством. Портий договорился со строителями, и Нумекса приняли в гильдию ремесленников, где он принес священную клятву верности богине Минерве и начал учиться секретам строительного мастерства. С раннего утра до самой ночи он вперевалочку расхаживал по строительной площадке, дружелюбно заговаривал с рабочими и с любопытством наблюдал, как водопроводчики укладывают свинцовые трубы для подачи воды и облицовывают кирпичом водостоки, а мозаичных дел мастера вычерчивают на отведенных площадках прихотливые узоры, требующие точного геометрического расчета.
Однако больше всего Нумекса занимала сложная система обогрева терм – гипокауст: хитросплетение дымогарных гончарных труб под полами. Коротышка-каменщик, в жизни не видевший ничего подобного, вспомнил дымные очаги в жилищах кельтов и презрительно рассмеялся:
– В сравнении с римлянами кельтские вожди живут хуже скота.
За два года Нумекс многому научился у римских ремесленников.
Тем временем на юге Британии происходили значительные политические изменения. Император Веспасиан решил, что настало время окончательно цивилизовать дуротригов, покоренных четверть века назад, а потому заложил на юге их территории поселение Дурноварий. После смерти Когидубна, царя атребатов, северную часть его владений выделили в отдельную территорию, включавшую Сорбиодун и Акве-Сулис. Столицей этой территории стал Вента-Белгарум. Так в начале правления Флавиев были основаны города Дорчестер и Винчестер.
Правили этими городами советы – ордо, – состоящие из местной знати, над которыми был поставлен магистрат, получавший римское гражданство. Таким образом бывшие враги Римской империи становились ее горячими сторонниками.
Именно тогда, почти тридцать лет спустя, Тосутиг наконец-то получил долгожданное признание. Однажды на виллу Портия приехал посланник наместника и, почтительно испросив встречи с владыкой Сарума, отвесил Тосутигу церемонный поклон.
– Здравствуй, владыка Тосутиг, – торжественно начал посланник. – Наместник шлет тебе привет. Он получил письмо от императора Веспасиана, который тебя не забыл.
Портий ошарашенно уставился на гостя. Судя по всему, имперская канцелярия работала исправно и старалась ублажить всех мало-мальски значительных подданных империи.
– Как известно, Вента-Белгарум объявлена столицей новообразованной территории, и ты, Тосутиг, удостоился чести быть избранным в ордо, совет управления, – веско объявил посланник, пожилой самодовольный толстяк. – Ты назначен не просто советником, но старшим из двух магистратов. Как подобает такому важному чину, тебе даровано римское гражданство.
Портий обрадованно вздохнул: сбылись мечты Тосутига – он стал гражданином Рима.
К несказанному удивлению Портия, Тосутиг низко поклонился и с притворным уважением ответил:
– Передай наместнику заверения в моем всемерном почтении, однако я с глубочайшим сожалением вынужден отклонить эту невероятную честь. Увы, я слишком стар и слаб, здоровье не позволяет мне занять такой важный пост.
После отъезда посланника Тосутиг откупорил амфору лучшего вина и объяснил ошеломленному Портию:
– Наслышан я об этих советах! Магистраты отвечают не только за содержание целого города, но и за проведение всевозможных празднеств, а это неимоверные расходы. В молодости я мечтал стать римским гражданином, но ты сам римлянин, а значит, мои внуки тоже считаются римлянами. По-моему, лучше обойтись без напрасных трат.
Действительно, управление городами на римский манер разоряло местную знать. Хотя Портий и не разделял взглядов тестя на доблестное служение обществу, он не мог не признать правоту Тосутига.
– Давай выпьем за древнюю мудрость кельтов! – предложил Тосутиг, наполнив чаши вином, и довольно подмигнул.
На третий год строительства в Акве-Сулис Портий встретил пятнадцатилетнюю девушку.
Всякий раз, приезжая в Акве-Сулис, он останавливался неподалеку от лагеря рабочих, в доме на холме, где ему прислуживали два раба и кухарка. Один из рабов заболел, и Портий велел Нумексу подыскать ему замену. На следующий день коротышка-каменщик привел в дом хрупкую темноволосую рабыню и заверил Портия, что она здорова, трудолюбива и обладает нравом кротким и послушным. Портий согласно кивнул и вскоре позабыл о новой служанке.
Спустя несколько дней, поздним вечером, когда он придирчиво рассматривал рисунки мозаики, предложенные для украшения площадки перед входом в термы, девушка тихонько вошла в комнату зажечь светильники. Портий рассеянно взглянул на нее и спросил:
– Как тебя зовут?
– Аненклита, – прошептала она.
Греческое слово означало «невинная» – хозяева часто давали рабам подобные имена. Однако девушка на гречанку не походила.
– Нет, скажи мне свое настоящее имя, – потребовал Портий.
– Наоми.
– Откуда ты родом?
– Из Иудеи.
– А почему тебя продали в рабство?
– Мои родственники примкнули к мятежникам в Палестине, поэтому император Веспасиан велел продать в рабство всю мою семью.
Портий задумчиво кивнул. Он слышал немало подобных историй. В Римской империи процветала работорговля, тысячи людей разлучали с семьями и увозили в дальние края. Если девушке повезет, то она будет служить у хорошего хозяина и, может быть, получит вольную, выйдет замуж за вольноотпущенника и обзаведется детьми, которые в свою очередь за верную службу империи смогут получить римское гражданство. А если не повезет, то бедняжка будет переходить из рук в руки, ее выставят на продажу, и кто знает, к какому жестокому хозяину занесет ее судьба. В отличие от римлян, кельты не признавали пожизненного рабства; бедным семьям часто приходилось отдавать в услужение сыновей или дочерей, но всегда на определенный срок. Портий, которому больше нравился кельтский подход, так нанимал слуг в Саруме.
Юная рабыня испуганно посмотрела на своего господина.
– Здесь тебя не обидят, – сказал Портий и вернулся к работе, позабыв о служанке.
Через два дня он отправился в Сарум и в Акве-Сулис не приезжал больше месяца.
– Ты Аненклита, которую звали Наоми, – вспомнил он в свой следующий приезд.
Девушка смущенно покраснела и отвела большие карие глаза.
Вечером Портий прервал свои занятия и доброжелательно заговорил с рабыней: довольна ли она своей жизнью, хорошо ли ее кормят? Наоми согласно кивнула и на ломаной латыни ответила, что все к ней очень добры. Только сейчас Портий заметил, что она хорошенькая смуглянка с нежной кожей и по-детски пухлыми щеками. Впрочем, во взгляде ее сквозила сдержанная печаль.
Портий узнал, что девушку сразу разлучили с семьей. Чиновник, купивший Наоми, получил назначение в Северную Галлию и увез рабыню с собой, а через год продал ее работорговцу в Лондиниуме, откуда она и попала в Акве-Сулис.
– Ты, наверное, мечтаешь вернуться в Иудею? – небрежно спросил Портий.
– О да! – горячо воскликнула девушка. – Там, на земле моих предков, веруют в истинного бога.
Портий удивленно взглянул на нее и запоздало припомнил, что иудеи, в отличие от римлян, и вправду почитают только одного бога.
– Значит, ты не поклоняешься ни Аполлону, ни Минерве? – с любопытством спросил он.
Она потупилась, опасаясь хозяйского гнева, но упрямо помотала головой.
Портий равнодушно пожал плечами. Как все добропорядочные римляне, он верил в целый пантеон богов – на все случаи жизни существовали культы различных божеств. Вдобавок всеобъемлющая и гибкая имперская система верований позволяла с легкостью соотносить местных богов с римскими, так что Портию совершенно не претило возносить молитвы в родовом святилище Тосутига, ведь кельтский Ноденс вполне соответствовал римскому Марсу, а потому статуя римского бога мирно соседствовала с алтарем кельтского. В Акве-Сулис местные жители почитали не только Сулию Минерву, но и бога Солнца, поэтому Портий велел установить в нише у входа в термы великолепный горгонейон – скульптурное изображение бородатого и косматого кельтского божества, в котором римляне сразу же признали Аполлона, окруженного сияющим нимбом. Портий, привыкший к многочисленным богам, так никогда и не понял, отчего жители восточных провинций страстно настаивают на существовании единственного бога.
Вскоре у него вошло в привычку каждый вечер разговаривать с юной рабыней, расспрашивать ее о жизни и странных верованиях иудеев. С юных лет Портий знал о загадочных религиях Востока – тайные культы всевозможных богов существовали по всему средиземноморскому побережью; был среди них и мистический культ Митры, божественного быка. Впрочем, для Портия все эти верования оставались чисто умозрительными, а вот рабыня страстно верила в своего безымянного, незримого бога, который, по ее словам, был истинным создателем всего сущего и праведным судией.
– Наш император – единственный праведный судия, – с улыбкой напомнил ей Портий и удивленно заметил, как рабыня поспешно отвела глаза.
Ему все больше нравилось расспрашивать девушку – не потому, что он разделял ее веру, а потому, что его изумляло страстное убеждение рабыни.
С приходом зимы Портий позабыл о своей служанке – его отвлекли заботы и дела в Саруме. Однажды к нему пришел Нумекс и смущенно предложил:
– Почему бы нам не перестроить виллу?
Поначалу Портий отнекивался – для этого пришлось бы нанимать опытных строителей.
Коротышка-каменщик упрямо помотал головой и объявил:
– Я и сам прекрасно справлюсь.
Как выяснилось, Нумекс многому научился у римских мастеров и самостоятельно разработал систему обогрева для виллы в Саруме и даже предложил построить небольшие термы с подачей воды из близлежащего ручья.
– А пол выложим мозаикой, с изображением Нептуна и дельфинов, совсем как в Акве-Сулис! – воскликнул Нумекс. – Я знаю, как это сделать.
Портий улыбнулся и, поразмыслив, рассказал о предложении каменщика Тосутигу.
– Наконец-то в Саруме будет настоящая римская вилла! – с восторгом сказал старый кельт. – Не хуже, чем у Когидубна.
Портий и сам хотел расширить и улучшить дом. Имение приносило доход, а щедрого жалованья смотрителя хватило бы на постройку небольшого дворца. Семья ни в чем не знала нужды, сыновей обучал опытный наставник, а вдобавок Портий собирался прикупить участок земли в Венте и построить там еще одну виллу. Однако же дело было не только в деньгах.
Приезд Марка и Лидии заставил Портия пересмотреть свое отношение к Саруму. Он без лишних сожалений признал, что заблуждался, надеясь на возвращение в Рим. У него было прекрасное имение и жена, безразличная к имперской роскоши, а сам он занимал относительно важный, хотя и провинциальный пост… Самое время смириться с тем, что семья будет жить в глуши, ведь даже здесь, в далекой римской провинции, можно приобщиться к благам цивилизации.
Он с готовностью приступил к разработке планов нового жилища. Нумекс взялся за дело с неменьшим рвением, и, к немалому раздражению Мэйв, полы в доме взломали, стены снесли, и всему семейству на время пришлось переехать в дом Тосутига. Краснолицый каменщик, с ног до головы перемазанный глиной и мелом, целыми днями пропадал на стройке и при каждом удобном случае повторял:
– Потерпите чуть-чуть, уже немного осталось.
Нумекс, увлеченно копая канавы для системы подземного обогрева, внезапно обнаружил под полом старой виллы круг камней диаметром примерно десять футов – остатки древнего сооружения, очевидно служившего жилищем в незапамятные времена. Под одной из каменных стен, в куче щебня, нашлись три кремнёвых наконечника и каменная женская фигурка размером с кулак. Нумекс ре шил показать ее Портию.
Римлянин с любопытством разглядывал грубо высеченное изваяние, дышавшее странной силой, – тяжелые чресла, пышные груди…
– Это богиня Сулия, – сказал Нумекс.
Портий снова посмотрел на фигурку и задумчиво кивнул:
– Забери ее себе.
– Нет, – помотал головой каменщик. – Лучше построим ей святилище рядом с термами.
Портий улыбнулся – похоже, кельт наивно полагал, что примитивное изваяние и впрямь изображает богиню, – и согласно кивнул:
– Что ж, будет у нас храм Сулии Минерве.
Нумекс построил у западной стены терм небольшое святилище и благоговейно положил свою находку на алтарь. Так, почти две ты сячи лет спустя Акуна, жена древнего охотника, снова обрела дом – в некотором смысле она и впрямь была хранительницей здешних мест.
Строительство новой виллы закончили следующим летом. Тосутиг, преисполненный гордости, с удовольствием разглядывал особняк. К торцам дома пристроили два крыла, в одном из которых помещались термы. Мощеный двор позади виллы окружала изящная колоннада. Полы были выложены каменными плитами, а в главном зале – мрамором. Помещение обогревалось подземными трубами, по которым шел горячий воздух из печи, расположенной за домом. Термы украшало мозаичное панно с изображением фазанов. К вящему восторгу Тосутига, в окно главного зала виллы вставили толстое зеленое стекло. В Риме дом сочли бы скромной деревенской усадьбой, однако в Саруме он был настоящим дворцом.
Старый кельт благодарно хлопнул зятя по плечу, расцеловал Нумекса в обе щеки и воскликнул:
– Друзья мои, теперь нам есть чем гордиться!
Все эти нововведения оставили Мэйв безучастной. Она не возражала против улучшений, но восторгов мужа и отца не разделяла. Портий отнесся к этому равнодушно. Все свои силы он направил на воспитание сыновей и больше не заставлял жену учить латынь или жить по римским обычаям. Мэйв была довольна жизнью, гордилась умом и способностями мужа, прониклась важностью его назначения и с умилением взирала на новый дом, однако считала это частью чисто мужских увлечений, которые ее не касались.
Пылкая страсть Мэйв к мужу со временем поутихла. Сыновья росли под присмотром наставника, а Мэйв целые дни проводила с дочерью, знакомила ее с кельтскими обычаями, учила ездить верхом и часто уходила с ней в рощицу на холме, где стояло древнее святилище лесных богов. Мэйв по-прежнему делила ложе с Портием, но бурные ласки сменились ровным теплом, и ей часто казалось, что муж холоден к ее порывам. Она не жаловалась, однако стала сторониться Портия, который слишком много внимания уделял службе, а не жене.
Сам Портий, увлеченный делами и заботами, тоже забыл о своем влечении к Мэйв. Он завершил строительство новой виллы и вернулся в Акве-Сулис, где возобновил ежевечерние беседы с иудейской рабыней. Наоми рассказывала ему не только о своем всемогущем боге, но и о последних событиях в Палестине, о многочисленных сектах и религиозных распрях. По ее словам, одну из таких сект основал иудейский пророк из Назареи, которого римляне распяли на кресте. Многие называли его лжецом, но ходили слухи, что он-то и был настоящим иудейским Мессией, спасителем человечества, принявшим мученическую смерть. Теперь его культ распространился и за пределы Иудеи.
Портий никогда не слышал ничего подобного и мудро решил, что Римская империя справится и с этими фанатиками. Наоми постоянно говорила о своем боге – незримом и бесплотном, но вездесущем, всемогущем и всезнающем, в отличие от сонма римских богов, наделенных понятными, человеческими качествами. Она серьезно глядела на Портия и часто спрашивала:
– Что ты об этом думаешь?
– Ты задаешь вопросы не как женщина, а как философ, – со смехом отвечал он, смущенный настойчивостью девушки.
Портий с раннего детства усвоил, что философия – занятие ученых и знатных мужей и предаваться ему надо на покое и с достоинством, как учил Цицерон. Наставник Портия постоянно напоминал ему, что не следует обсуждать философские вопросы с людьми низкого рода – это возбуждает их и делает неуправляемыми. Портий понимал, что с женщинами говорить о религии не имеет смысла, да и мужчинам негоже изучать различные системы верований. Для истинного римлянина не существовало пылких убеждений в существовании незримой высшей силы – жизнь его опиралась на взвешенные размышления, трезвость суждений, сдержанность, храбрость и любовь к родине. Богов следовало почитать и приносить им подобающие жертвы – в этом, а не в мистических таинствах и заключался общественный долг римского гражданина. И все же Портия до глубины души волновала неколебимая вера кареглазой рабыни в незримое божество.
Дела на целый месяц задержали Портия в Акве-Сулис, и однажды вечером, как и следовало ожидать, он заключил Наоми в объятия и привлек ее на ложе. Юная невольница, измученная одиночеством, презрела запреты своей веры и пылко отдалась господину.
Тайная связь стала для Портия откровением. Наоми, отринув былое смущение, увлеченно пересказывала римлянину истории из священных книг иудеев – о вере в Яхве, о пророках, о древних военачальниках, о Моисее и его побеге в Землю обетованную – или восторженно шептала на родном наречии строки из Песни песней царя Соломона.
Рассказы о древних подвигах взбудоражили Портия, и он в не менее величественных выражениях поведал Наоми о том, как впал в немилость у Светония. Наивная девушка решила, что Портий, как иудейские пророки, жаждал справедливости для людей низкого рода, и полюбила его всей душой.
Прежде Портий не подозревал о духовном мире, но сейчас смутно ощущал его силу и притягательность. Юная рабыня, страстно верящая в своего бога, ничем не походила на своевольную язычницу Мэйв. Портий старался не выдать свою связь с Наоми, однако от домашних слуг ничто не ускользало, и сохранить тайну не удалось. Однажды утром Нумекс застал рабыню в господской постели, но смолчал, и Портий терзался сомнениями, не проболтается ли каменщик приятелям.
Как бы то ни было, о связи Портия с рабыней вскоре узнали в Саруме. Портий, вернувшись домой после необычно долгого отсутствия, сразу это понял. Мэйв ни словом не обмолвилась и ничем не показала, что ей известно об измене. Она радостно встретила мужа, вкусно накормила и окружила заботой и лаской, а ночью отдалась ему с прежней безудержной страстью.
Как ни странно, Тосутиг на вилле не появлялся. На следующий день после возвращения Портий с беспокойством осведомился о здоровье тестя, но Мэйв, равнодушно пожав плечами, сказала, что у отца много дел в поместье. Однако, когда Тосутиг не пришел и к ужину, Портий сообразил, что старый кельт наверняка все знает. Мэйв все так же беспечно хлопотала по хозяйству, и Портий подивился ее самообладанию. Через два дня он решил, что навещать Тосутига не стоит, дабы не рассердить его еще больше. В конце концов Портий устыдился и, мучимый угрызениями совести, объявил, что дела требуют его присутствия в Акве-Сулис. Мэйв, так ничего и не сказав, горячо расцеловала его на прощание и со счастливой улыбкой проводила в дорогу. Терпение жены восхитило Портия.
Сразу же после отъезда мужа выражение лица Мэйв изменилось. Об измене она узнала не от Нумекса, а от соседей. Поначалу Мэйв разгневалась, а потом взревновала. Ее бросало то в жар, то в холод, она дрожала и, охваченная жгучей страстью, забыв о детях, часами рассматривала свое тело, пытаясь понять, какой изъян заставил мужа искать утешения в объятиях рабыни. Мэйв даже собралась в Акве-Сулис, чтобы заставить Портия избавиться от невольницы, однако ее отговорили соседские старухи, к советам которых она прислушивалась с детских лет.
– Если прогонишь мерзавку, муж найдет другую, – объяснили они. – Надо поступить иначе.
– Как? – удивилась Мэйв.
Старухи подробно объяснили ей, что именно надо сделать.
Когда Портий с Нумексом вернулись в Сарум, служанки Мэйв долго беседовали с каменщиком, а потом отправили его домой с небольшим свертком для жены. В следующую поездку на строительство терм Нумекс отправился в глубокой задумчивости.
После отъезда Портия произошло странное событие. Вечером Мэйв и одиннадцать женщин пришли в рощу на холме, на поляну, где стояло святилище лесных богов. С восходом луны женщины тесным кругом уселись на траву и выложили в середину смятый тугим комком лоскут, оторванный от любимой рубахи Портия, и глиняную женскую фигурку с ладонь величиной, с нарисованным лицом, похожим на лицо иудейской невольницы.
Женщины нараспев затянули древние кельтские заклинания, восхваляющие Сулию и Модрон, и обратились к богиням за помощью. Одна из старух торжественно провозгласила, что Мэйв – верная жена, после чего мольбы повторились. Женщины три раза передали друг другу лоскуток и глиняную фигурку, а потом снова вернули их в центр круга. Наконец каждая из женщин по очереди выкрикнула: «Портий, Наоми!», а старуха торжественно провозгласила:
– Услышьте их имена!
После этого женщины встали и молча разошлись по домам.
На следующий день Мэйв, оставшись одна в доме, поставила горшок на огонь и сварила зелье из священных трав и корешков. От кипящего варева исходила едкая вонь. Мэйв трижды окунула глиняную фигурку в жидкость, приговаривая:
– Пей, Наоми, пусть тебе будет горько!
Странный обряд повторялся три дня.
В Акве-Сулис Портий застал Нумекса за разговором с кухаркой и очень удивился, когда коротышка-каменщик ушел не попрощавшись. Вечером Портий, как обычно, призвал к себе Наоми, и любовники предались пылкой страсти при свете одинокой свечи.
Портий проснулся в кромешной тьме, обливаясь по́том. Его била дрожь, смутно помнился какой-то кошмарный сон. Наоми беспокойно металась во сне и тихонько стонала. Портий решил, что за ужином съел испорченную пищу, и наутро строго отчитал кухарку. Нумекс снова зачем-то заглянул на кухню и поспешно ушел.
Вечерняя трапеза прошла как обычно, однако среди ночи любовники снова проснулись в холодном поту. Портий набросился на кухарку с обвинениями и пригрозил ее продать.
Кошмар, приснившийся на третью ночь, Портий запомнил до мельчайших подробностей. Вначале ему чудилось, что он преступник, ожидающий грозной кары, затем привиделось, что он скачет по сарумскому взгорью на соловом жеребце вслед за Мэйв. Жуткой тишины не нарушал даже стук копыт. Мэйв тряхнула головой, откинула густые рыжие пряди и, обернувшись, поглядела на Портия без улыбки, с отвращением. Гнедая кобыла рванулась вперед; жеребец безуспешно пытался ее нагнать, но расстояние между ними все увеличивалось. Мэйв снова обернулась – на смертельно бледном лице сияли ввалившиеся глаза. Портию захотелось догнать и утешить ее, но она стремительно ускакала прочь. Внезапно он остался в одиночестве на пустынном взгорье. Портий огляделся, заметил вдалеке человека, с головы до ног закутанного в накидкупенулу, и понял, что это Тосутиг. Портий радостно окликнул его, но Тосутиг не ответил и, приблизившись, скинул накидку с головы. Лицо старого кельта исказил гнев, глаза злобно сверкали. Он угрожающе вскинул руку, и тут лицо его превратилось в череп, медленно раскрывший челюсти. Портий испуганно отпрянул. Череп разрастался, заслонив собой небо. Челюсти сомкнулись и снова раскрылись над Портием. Римлянин в ужасе проснулся.
Наоми сидела рядом, скорчившись и глядя в стену невидящим взором.
– Что с тобой? – спросил Портий.
– Ничего, – прошептала она. – Кошмар привиделся.
Он приобнял ее за плечи, но она вздрогнула и отстранилась.
– Что тебе снилось? – забеспокоился Портий.
Наоми грустно покачала головой и ничего не ответила.
Страшные сны мучили любовников ночь за ночью: Портий попадал в змеиное гнездо, тонул в неведомой пучине, Тосутиг отрубал ему голову и делал из черепа чашу. И всякий раз Мэйв печально глядела на мужа и исчезала в туманной дали. На седьмую ночь Портий не мог уснуть. Наоми забилась в угол и тихонько стонала, умоляя Портия оставить ее в покое. Он не знал, что делать.
– Продай меня, – наконец потребовала рабыня.
– Почему это?
– Я прогневила Яхве, нарушила закон Моисеев. Делить ложе с женатым мужчиной – великий грех. Вдобавок я согрешила с человеком не нашей веры, – рыдая, объяснила Наоми.
– Я не хочу с тобой расставаться, – сказал Портий, решив, что кошмарные сны преследуют его из-за угрызений совести. – Все пройдет, вот увидишь.
– Я согрешила! – всхлипнула рабыня. – Продай меня, иначе нам не будет покоя.
Три дня Портий терзался сомнениями. Продавать Наоми он не хотел и пытался завлечь ее обещаниями дать ей вольную, чтобы девушка смогла вернуться в Иудею. Увы, все было напрасно: Наоми перестала есть, постоянно плакала и умоляла его забыть о ней. В конце концов Портий не выдержал:
– Что ж, я тебя продам, ежели такова воля твоего жестокого и беспощадного бога!
– Мой бог суров, но справедлив, – прошептала Наоми.
На следующий день Портий со слезами на глазах расстался с невольницей. Нумекс отвел ее на форум и продал работорговцу. Как бы то ни было – по воле незримого, но всемогущего Яхве, из-за кельтской волшбы и зелий Мэйв, подмешанных в еду кухаркой, или просто из-за угрызений совести, – но Портий и иудейская невольница расстались навсегда.
Несколько дней спустя Портий вернулся в Сорбиодун. Мэйв обрадовалась его приезду, а Тосутиг, как обычно, пришел на виллу и весь вечер тепло расспрашивал зятя о новостях. Наутро Портий, стоя рядом с владыкой Сарума на высоком земляном валу дуна, глядел на холмы, убегающие к горизонту, и с удивлением осознал, что почти не вспоминает ни о Марке, ни о Лидии и что вскоре забудет и иудейскую рабыню, и ее сурового бога.
Так Сарум стал для Портия родным домом.
Сумерки
427 год
Плацидия молчала, с огорчением взирая на сына и мужа. «Ах, отчего они все время ссорятся!» – устало думала она.
Петр обернулся к матери за поддержкой, но Плацидия поспешно отвела глаза – все еще красивые и выразительные, несмотря на возраст. В молодости ее взгляд лучился счастьем, а сейчас в задумчивых карих глазах таилась печаль.
Да, Плацидия постарела – о чем неустанно напоминал ей муж, – но все еще держала себя с достоинством, а ранние морщины лишь подчеркивали благородные черты лица. Никто, кроме нее самой, не понимал, какой выдержкой должна обладать женщина, знающая себе цену, хотя и обделенная вниманием родных и близких.
И все же она их любила. Петр унаследовал от матери прекрасные карие глаза, но не ее сдержанный нрав и считал, что, вступая в пререкания с отцом, исполняет сыновний долг и защищает мать. Муж Плацидии, Констанций, целыми днями приводил в образцовый по рядок конскую сбрую и втайне ненавидел всеми уважаемую жену, потому что к себе не испытывал ни малейшего уважения. И еще верный Нуминций, старый управляющий имением, большеголовый короткопалый коротышка, который обожал Плацидию и ради нее был готов на все…
Плацидия вздохнула. Ее близкие, самые дорогие для нее люди, снова рассорились.
Солнце стояло в зените, а Констанций Портий был уже пьян – как обычно в полдень. Вдобавок он орал во весь голос – не оттого, что напился, а от ярости. Благо на то имелась подходящая причина. В руках Констанций сжимал начищенную до блеска узду. Мутные от пьянства и гнева глаза уставились на стоящих перед ним людей. Благородная седовласая Плацидия обожгла его презрительным взором. Нуминций, старый управляющий, предупредительно загородил ее своим коренастым телом. Вот придурок! А рядом с ним стоял Петр, двадцатилетний оболтус. Констанций прищурился, гневно взглянул на сына и завопил:
– Щенок!
Юноша невозмутимо посмотрел на отца. Констанций не мог разобрать выражения, мелькнувшего в карих глазах сына. Что это – злость, презрение, страх? А, не важно!
– Кто в этом доме господин? – заорал Констанций. – Я, патерфамилиас, глава семьи. А ты никто!
Вызов – вот что сквозило во взгляде Петра. Да как он смеет перечить отцу?!
– Никаких германцев здесь не будет! – выкрикнул Констанций. – Тут христиане живут!
– И как ты этого добьешься? Напьешься до полусмерти, как обычно? – спросил невысокий юноша, тряхнув копной темных кудрей. Карие глаза гневно блеснули.
Презрение, звучавшее в каждом слове, обожгло Констанция; мутный взор застила багровая пелена ярости; язык заплетался, слова не шли на ум. Констанций раскрыл рот и, вспомнив, что держит в руках узду, неуклюже замахнулся на сына.
Ремни хлестнули не хуже кнута, и удар достиг своей цели. Констанций, с трудом удержавшись на ногах, радостно ухмыльнулся: вот теперь-то сын усвоит урок! В пьяном взгляде полыхнуло торжество.
Внезапно он недоуменно поморщился: что-то было не так. Петр не отшатнулся в испуге, не вскрикнул от боли, а гневно рванулся к отцу. Нуминций дрожал всем телом, злобно сжимая кулаки. Седовласая Плацидия стояла неподвижно. По невозмутимому лицу расплывалось красное пятно, из рассеченной губы капала кровь.
«Неужели я промахнулся?» – растерянно подумал Констанций.
Петр с гневным криком занес кулак над головой отца. Констанций торопливо прикрылся рукой, не понимая, что происходит.
– Прекратите! – воскликнула Плацидия и холодно обернулась к сыну: – Петр, оставь нас.
– Но ведь он…
Мать гневно взглянула на сына. Петр посмотрел на нее, и сердце дрогнуло от жалости, но ненависть к отцу пересилила. Пьянство Констанция погубит всех и вся!
Плацидия, из последних сил сохраняя достоинство, повторила:
– Оставь нас, Петр.
Юноша не сдвинулся с места.
– Ступай! – настойчиво приказала мать.
Петр неохотно повиновался.
– Нуминций, вели прислуге принести теплой воды, – сказала Плацидия.
Констанций смущенно поглядел на окровавленное лицо жены и попытался извиниться, но она резко оборвала его:
– Твой сын прав, надо что-то делать. А сейчас оставь меня в покое.
Констанций снова посмотрел на жену – прекрасную и холодную, как мраморная статуя. Она его презирала? Отвергала? Что она вообще чувствовала? Сгорая от стыда и унижения, он вышел из комнаты. «Надо что-то делать…» – мелькнула мысль.
Плацидия так и не дала воли слезам, хотя и понимала, что так долго продолжаться не может.
Тем временем Петр готовился к отъезду.
Впервые за четыреста лет Саруму грозила страшная опасность: неминуемое вторжение варваров, способное уничтожить и мирную долину, и виллу на холме, и все семейство. Помощи ждать было неоткуда. Римские легионы ушли с острова двадцать лет назад, а мест ные жители воевать не умели. К тому же Констанций не озаботился укреплением своего поместья, надеясь на то, что римское семейство в Саруме защитят христианские легионеры.
Констанций Портий, землевладелец-куриал, гордился не только римским гражданством, но и приверженностью христианской вере. За сто лет до описываемых событий император Флавий Валерий Аврелий Константин, именуемый Великим, принял христианство и объявил его государственной религией Римской империи. Разумеется, по-прежнему процветали и многочисленные языческие культы, но Констанций во всем следовал примеру императора и считал, что христианство – достойная им замена. Более того, Констанций, как и многие в Британии, исповедовал христианство особого толка, следуя воззрениям монаха Пелагия, учение которого взбудоражило Римскую империю. Пелагиане утверждали, что каждый хри стианин должен не только веровать в Бога, но и доказывать свою веру добрыми деяниями – лишь так ему откроется путь в Рай.
– Бог даровал людям свободу воли, – объяснял Констанций сыну, – и Он следит за нашими деяниями и поступками. Заповеди Господни способен исполнять каждый.
Официальная Церковь объявила это учение ересью, однако в Британии, на родине Пелагия, оно было широко распространено, и Констанций свято в него верил. Именно это и стало причиной очередной ссоры. Петр потребовал от отца взять на службу отряд германских язычников для защиты от неминуемого вторжения варваров на христианскую виллу. Свои дерзкие требования сын сопроводил обидными и оскорбительными обвинениями.
– Имперские легионы давно покинули остров и не собираются возвращаться! – заявил Петр. – На что подвигла тебя хваленая свобода воли? На пьянство и бездействие?
Констанция возмущала подобная наглость, хотя в глубине души он понимал, что сын прав.
– Я спасу наш род и наш дом, – упрямо бормотал он.
Вилла Констанция Портия стояла на том же месте, где четыреста лет назад построил свой дом Гай Портий Максим. Теперь в особняке было восемь комнат на первом этаже, с трех сторон окружавших прямоугольный двор, а спальни располагались на втором этаже. За домом находились многочисленные хозяйственные постройки. Внешне здание мало чем отличалось от прежнего: фундамент и стены первого этажа сложены из камня, стены второго этажа построены из плетеных щитов, промазанных глиной и оштукатуренных; строение венчала черепичная крыша. В старом саду, обнесенном каменной стеной, на клумбах цвели ирисы, маки и лилии, а посредине в два ряда высадили пышные кусты рододендронов.
Обстановка виллы заставила бы старого Тосутига трепетать от восторга: просторные, светлые комнаты, вестибюль, облицованный розовым мрамором, привезенным из Италии двести лет назад, стройные мраморные колонны с ионическими капителями у каждой двери и настенные фрески с изображениями охоты и пиров.
Однако главным предметом гордости семейства Портиев были великолепные мозаичные полы.
На вилле воцарилась тишина. Плацидия со служанкой удалилась к себе, Петр и Нуминций куда-то исчезли. Констанций замер на пороге триклиния – пиршественного зала, – разглядывая тридцатифутовое мозаичное изображение, заключенное в квадратную рамку, украшенную сложным геометрическим узором: в центре – Орфей, в алых одеждах, с лирой на коленях, вокруг – различные звери, растения и птицы, среди которых выделялись золотисто-коричневые фазаны, привезенные в Сарум основоположником рода Портиев. Мозаику сложили мастера из Кориния[7], города в двадцати милях к северу от Акве-Сулис, и в 300 году от Рождества Христова ее купил прадед Констанция. Подобными мозаиками украшали свои виллы знатные римские семьи в провинциях. «Наш род четыре века обитает в Британии, – говаривал отец Констанция. – И дом свой мы не покинем».
Констанций сглотнул подступившие слезы. Великолепная мозаика стала для него олицетворением всех достижений Римской империи; он не допустит, чтобы ее уничтожили.
Он вздохнул и отправился в молельню.
Вот уже четыреста лет Британия была римской провинцией; имперской власти не покорились только пикты и скотты на далекой северной оконечности острова. Семейство Портиев в Сорбиодуне наслаждалось мирной жизнью в захолустье. Шло время, росли города – Вента-Белгарум на востоке, Дурноварий на юго-западе, Каллева на севере, – термы в Акве-Сулис несколько раз перестраивали и расширяли. Римская империя казалась вечной и незыблемой.
Однако с течением времени имперская власть ослабела; становилось все труднее и труднее управлять огромной территорией, даже разделенной на четыре части – две на западе и две на востоке. Впрочем, и в тетрархии не обошлось без беспорядков и мятежей, в подавлении которых приходилось принимать участие и легионам, стоявшим на далеком северном острове Британия.
В довершение всех бед участились набеги восточных варваров, которые начались в III веке от Рождества Христова. Воинственные племена прибывали в Европу одно за другим – то Аттила со своими гуннами, то неведомые кочевники-степняки из далекой Азии, то отважные воины с берегов Балтийского моря. Их имена оставили неизгладимый след в истории – франки, готы, бургунды, лангобарды, тюринги, вандалы, саксы и многие другие.
Начался медленный, но необратимый распад Римской империи.
И все же далекий остров Британия процветал под защитой имперских легионов, за надежными крепостными стенами городов, а римский флот успешно отражал набеги пиратов-саксов.
Впрочем, примерно в 400 году неуемная алчность жителей Британии привела к окончательному выходу провинции из состава Римской империи. Все началось с того, что британские легионеры взбунтовались против малолетнего императора Флавия Гонория Августа и высадились на севере Галлии, избрав своим предводителем простого солдата, некоего Флавия Клавдия Константина, который стал узурпатором. Британия осталась без защиты.
Бургунды и саксы тем временем переправились через Рейн и вторглись в Галлию, наголову разбив римские легионы. Британцы, оказавшись отрезанными от империи, тоже решили взбунтоваться, объявили себя независимыми и изгнали имперских чиновников с острова.
Констанций, как и многие родовитые жители Британии, обрадовался такому повороту событий.
– Мы изнываем под бременем налогов, – объяснял он Плацидии. – Нам, землевладельцам-куриалам, приходится хуже всех. Имперские чиновники разоряют нас непомерными податями на нужды городов и армии, на строительство дорог и крепостей, а взамен не обещают ничего, кроме расходов.
Итак, британцы изгнали римлян, прекратили выплату налогов и стали ожидать дальнейшего развития событий, полагаясь лишь на свои силы. Поначалу ничего страшного не случилось: огромная империя будто бы и не заметила мятежной провинции. Легионы не возвращались.
Внезапно произошло невероятное событие. В 410 году, за три месяца до рождения Петра, Аларих, вождь вестготов, захватил Рим.
Вечный город, столица империи, священный символ римского владычества, пал под напором безземельных варваров из-за того, что гордый римский сенат отказался платить дань презренным вестготам. Весть об этом потрясающем событии мгновенно разнеслась до самых отдаленных уголков империи. Казалось, римской цивилизации пришел конец.
Однако Римская империя устояла. Год спустя в Равенне юный император Гонорий с радостью узнал, что войска Константина разгромлены, а сам узурпатор казнен. Вестготам уплатили дань, и варвары убрались восвояси. Пришло время восстановить былую славу Западной империи. Впрочем, возвращать легионы в далекую Британию Гонорий не собирался.
– Незачем тратить силы на захолустную провинцию, – говорили ему советники. – Налогов они не платят, имперских чиновников изгнали. Вот пусть теперь сами о себе позаботятся.
Впервые за четыре века Римская империя отвернулась от Британии. С тех пор прошло двадцать лет.
Поначалу в Саруме особых перемен не заметили. Местные жители своими силами отражали редкие набеги саксонских и ирландских пиратов, а когда в Сарум явились беглые галльские рабы-багауды и подожгли амбар с зерном, Нуминций собрал небольшой отряд и прогнал грабителей из долины.
Констанция больше тревожило другое: в провинции больше не чеканили звонкой монеты, торговля с Галлией прекратилась, денег на содержание флота не хватало и защищать остров было некому. Оставшимся в Британии легионерам жалованья не платили – солдатам приходилось искать себе другие занятия, а некоторые даже продавали себя в рабство. Констанций был вынужден отказаться от особняка в Венте – город обнищал и пришел в запустение. С каж дым годом дела шли все хуже и хуже.
Однажды до Сарума дошли слухи, что саксонские пираты собираются напасть на беззащитный остров. Констанций отказывался верить тревожным вестям, но торговец из Лондиниума утверждал, что своими глазами видел огромный флот саксов на восточном побережье. Жителей охватила паника. В Венте и Каллеве спешно укрепляли городские стены; магистрат Каллевы выписал из Лондиниума отряд германских наемников, и магистрат Венты подумывал сделать то же самое.
С этого и началась ссора между Петром и Констанцием.
– Я поеду в Венту и найму десяток германских солдат, – заявил Петр. – Разместим их в Сорбиодуне. Нельзя оставлять имение без защиты.
Констанций наотрез отказался, сын вспылил и…
Нет, пора молить Бога о защите. Господь наставит на верный путь. А после молитвы надо помириться с сыном.
Констанций не подозревал, что ждать милосердия Господня уже поздно.
С взмыленных лошадиных боков летели хлопья пены – Петр едва не загнал свою кобылу, торопясь к цели. Он твердо вознамерился исполнить задуманное и не испытывал сомнений в своей правоте. Впрочем, в своей правоте юноша всегда был уверен.
С виллы он уехал почти сразу же после ссоры с отцом и без остановок доскакал до Венты – города на холме, окруженного крепостной стеной. Дорога с запада вела к массивным, недавно укрепленным воротам между двумя приземистыми каменными башнями. За толстыми городскими стенами виднелись красные черепичные крыши.
Петр нетерпеливо откинул со лба непослушные черные кудри и снова пустил лошадь вскачь. На бледном лице юноши возбужденно сверкали темные глаза. Неукротимый, пылкий нрав сына доставлял немало беспокойства матери и приводил в ярость отца.
– Петр, пойми, уступчивостью можно добиться большего, – часто советовала Плацидия.
– Как это? – недоуменно спрашивал он.
Уступчивость была совершенно чужда его натуре.
Тяжелые ворота с грохотом распахнулись, и юноша въехал в город. Редкие прохожие с любопытством поглядывали на всадника. Тихие улочки пришли в запустение, брусчатка расшаталась, дорога заросла сорняками. Знатные горожане, как и семейство Портиев, недавно забросили свои городские особняки – на их содержание не хватало денег. Дом Портиев стоял на небольшой площади, посреди которой кто-то уже построил лачугу: булыжники мостовой служили неплохим полом, а муниципальным советникам, озабоченным защитой города, не было дела до нарушителей порядка. Форум по-прежнему выглядел ухоженным – окруженная красивыми зданиями чисто выметенная площадь с колонной, воздвигнутой в честь полузабытого триумфа императора Марка Аврелия Антонина.
– Где германские наемники? – спросил Петр у прохожего.
– Там, – равнодушно ответил мужчина, кивнув в сторону восточных ворот, где строители спешно укрепляли каменную кладку стен.
За воротами находилось небольшое кладбище, устроенное на христианский манер, с могилами, расположенными с востока на запад. Рядом с кладбищем разбили лагерь германцы.
С виду они производили устрашающее впечатление: широкоплечие бородатые воины с суровыми лицами, холодными голубыми глазами и длинными светлыми волосами, заплетенными в длинные косы. Полсотни наемников собрались у палаток и дерзко разглядывали юношу.
– Где ваш предводитель? – спросил Петр.
Один из наемников небрежно махнул рукой в сторону палатки, у которой сидел старый воин и худощавый смуглый торговец.
Петр подошел к ним.
Торговец внимательно выслушал юношу и, окинув его подозрительным взглядом, заносчиво произнес:
– Да, воинов можно нанять, но за высокую цену.
Петр с улыбкой снял с пояса кожаный кошель – перед отъездом мать украдкой вручила сыну деньги – и высыпал монеты на ладонь. Торговец удивленно распахнул глаза, увидев золотые солиды, отчеканенные сто лет назад, при Феодосии Великом. Такие монеты стали в Британии большой редкостью.
– На какой срок нанимаешь? – учтиво осведомился он.
– Наверное, на год, – помедлив, сказал Петр, понимая, что точную дату нападения саксов предсказать невозможно.
Торговец задумчиво кивнул, что-то объяснил германцу на его родном наречии и обернулся к Петру:
– Хорошо, выбирай людей.
Туманным утром Петр и шестеро германских воинов выехали из западных ворот Венты и отправились в Сарум. Бледный темноглазый юноша на красивой гнедой кобыле скакал чуть впереди небольшого отряда. Приземистые лошади наемников следовали позади, каждый всадник вел в поводу запасного коня, нагруженного поклажей и оружием. Старший из германцев, тридцатилетний, закаленный в боях воин, немного говорил на латыни, и Петр назначил его предводителем отряда.
Отъехав подальше от города, юноша остановил лошадь и повернулся к германцам.
– Запомните, что в Сорбиодуне вы подчиняетесь мне – и больше никому, – торжественно объявил он. – Я вас нанял, и я вам заплатил.
Шестеро воинов невозмутимо поглядели на него. Наконец старший медленно кивнул, и Петр жестом велел им следовать дальше. Чуть погодя до него долетел негромкий смешок.
Юноша замер на дороге, задумчиво глядя на город. Лицо Петра приняло странное, мечтательное выражение; он не сводил глаз с какой-то точки над горизонтом.
Над Вентой медленно всходил огромный шар солнца, заливая алым сиянием черепичные крыши и серые каменные стены. Казалось, что крепость плывет над туманными холмами. Петр медленно и торжественно начал произносить слова молитвы, которая привела бы в ужас его отца:
– О Гелиос, Гелиос, великий бог Солнца! Юпитер и Аполлон, владыка всех богов! Даруй силы своему рабу!
Петр, сын христианина, втайне исповедовал язычество.
Хотя император Константин и провозгласил христианство государственной религией Римской империи и армии, языческие культы повсеместно сохранились и процветали, несмотря на многочисленные попытки императоров их уничтожить. Люди поклонялись не только древним римским богам, но и всевозможным божествам кельтов, саксов, готов и прочих народов, вошедших в Римскую империю. Широкое распространение получили мистические воззрения Востока, с их странными обрядами и загадочными верованиями. Петр был знаком с поклонением египетской богине Исиде, потому что в Британии существовало несколько ее храмов, однако наибольшую известность среди жителей острова получил культ Митры-тавроктона, победителя быков. Митраизм быстро распространился в римских легионах Британии – солдат привлекала строгая дисциплина, чувство товарищества и непременное требование неподкупной честности. Петр точно знал, что верный управляющий Нуминций, сын центуриона, поклонялся Митре, невзирая на увещевания Констанция Портия. Вдобавок в Саруме существовал и дру гой культ, ярым приверженцем которого был Петр, о чем Констанций не подозревал.
Подобное смешение верований стало в Британии обычным делом. В пятидесяти милях к западу от Сарума, на берегах реки Северн, в местечке Лидни, восстановили заброшенный храм кельтскому богу Ноденсу. Это известие разгневало Констанция, но храм пользовался успехом среди местного населения.
Языческие верования нашли поддержку и среди римской знати, а за семьдесят лет до описываемых событий император Флавий Клавдий Юлиан – великий полководец, философ и оратор – поклонялся языческим богам и особым эдиктом отменил христианство, пытаясь восстановить языческие традиции в Римской империи. Петр и его друзья до сих пор считали Юлиана героем, хотя Церковь и называла его отступником.
Многие римские сенаторы поддерживали древние языческие религии, укоряя христиан в том, что те блюдут верность своему богу в ущерб верности империи, хотя сам Цицерон много веков назад утверждал, что тот, кто любит отечество, любезен богам. В пример часто приводили стоицизм императора Марка Аврелия, выдающегося философа, и высокие нравственные качества римских патрициев, которые изучали классические труды, не гнушались просить совета у оракулов, авгуров и гаруспиков и строили святилища предкам. Христиане не признавали подобных действий, а христианские императоры даже вынесли из римского сената великую святыню империи – алтарь Победы. Неудивительно, что Рим не устоял перед натиском варваров.
«Империей управляют невежественные выскочки, христиане и варвары, – заявляли сторонники языческих верований. – В Риме царит хаос».
Подобных взглядов придерживались не только знатные римляне. Петр с теплотой вспоминал своего школьного наставника в Венте, который всю жизнь поклонялся языческим богам.
– Христианство возникло среди рабов, – объяснял наставник. – Они дерзко объявили своего бога единственно истинным. Но это утверждение безосновательно, потому что доказать его невозможно.
Когда Петр привел этот аргумент в споре с отцом, Констанций взъярился, но так и не смог его опровергнуть.
Юноше нравились долгие дискуссии с наставником.
– Неужели мы мудрее Платона и прочих философов древности? – риторически вопрошал старик. – Даже Сократ, вечный искатель истины, не гнушался перед смертью заколоть петуха в жертву Асклепию!
– Христианская вера основана на существовании единого всемогущего бога, творца всего сущего, который наделил человека бессмертной душой. Как это опровергнуть? – спросил Петр.
– Это вовсе не требует опровержения, – ответил наставник. – Всякий, кто читал Платона, не станет отрицать, что Вселенная пред полагает существование непознаваемого божественного начала. У каждого человека есть душа, способная познать божественное бессмертие, а значит, стать его отражением и обрести вечную жизнь.
– А как же наши деяния? Христиане настаивают на превосходстве своих нравственных устоев.
– Добродетельные размышления очищают ум и тело, направляя их к божественному началу, – невозмутимо изрек наставник. – Языческие философы говорили об этом за сотни лет до появления христиан.
– А как же римские боги? Аполлон, Минерва, Марс… – попытался возразить Петр.
– Они олицетворяют собой многогранность божественного начала, вездесущего, бесконечного и непознаваемого. Обращая молитвы поочередно как бы к разным граням его сущности, мы славим подначальных ему богов и чтим божественное единство.
– Однако христиане отвергают пантеон богов.
– Христиане – глупцы, – сердито заметил старик. – Сначала они объявляют своего бога единственным, потом настаивают, что он воплотился в человека, а затем ведут бесконечные споры о сущности божественной природы – как будто человеческий разум способен это познать! – и обзывают друг друга еретиками. А сколько в христианстве сект – ариане, кафолики, донатисты, манихеи, пелагиане… – Он пожал плечами и презрительно добавил: – Спорить с христианином бесполезно – фанатиков ничем не убедишь. Лишь труды классических философов помогут раскрыть истину. – Старик устало улыбнулся. – Только никому не говори, что я тебе это сказал.
В будущем эту систему философского мышления назовут неоплатонизмом. Петр считал ее всеобъемлющей – она включала и цивилизацию Древней Греции, и величие Рима. Упрямое бездействие отца подтолкнуло юношу к дерзкому поступку: восхищаясь доблестью и патриотизмом своих предков, которые свято блюли имперский кодекс чести, Петр решил стать язычником.
Теперь, глядя на залитые солнцем черепичные крыши, колонну Марка Аврелия и треугольный фронтон старого храма, Петр пылко воскликнул:
– Жители Сорбиодуна и Венты еще вспомнят древних богов!
К полудню Петр с отрядом наемников приехали в Сорбиодун. Юноша предполагал, что германцы разобьют лагерь в долине, где в домах, окруженных деревянным частоколом, жили около десятка крестьянских семей. Предводитель наемников, оглядев окрестности, помотал головой и решительно кивнул в сторону дуна:
– Вот это место можно защитить.
– Как скажешь, – вздохнул Петр.
Крепость на холме забросили несколько поколений назад. На широкой площадке, окруженной высоким, поросшим травой земляным валом, еще сохранились покосившиеся лачуги, и Нуминций решил устроить в дуне загоны для скота. Из бревенчатой хижины на западной стороне вышел единственный обитатель древней крепости и медленно зашаркал навстречу Петру и германцам.
– Это Тарквиний, наш пастух, – объяснил юноша.
Морщинистое, узкое лицо старика потемнело от времени, длинные плети седых волос рассыпались по сгорбленным плечам, но хитрые, близко посаженные глаза, выдававшие принадлежность к речному народу – так до сих пор называли в Саруме семьи, жившие у реки, – оставались ясными и проницательными. Много лет назад он овдовел, ушел от детей и поселился в дуне. Семейство Портиев смирилось с присутствием старого пастуха. Однажды Констанций в приступе набожности разрушил святилище речной богини Сулии, несколько сот лет стоявшее рядом с виллой, а Тарквиний украдкой подобрал каменную фигурку и построил скромный алтарь у своей хижины в дуне. Местные жители относились к старику с боязливым уважением: поговаривали, что ему ведомы волшба и всевозможные заговоры.
– Привел? – спросил Тарквиний, разглядывая германцев.
– Они здесь лагерь разобьют, – объяснил Петр. – Присматривай за ними.
– Если что удумают, я им во сне глотки перережу, – презрительно усмехнулся старик.
– Мой управляющий принесет вам еду, – сказал Петр наемникам и направил лошадь к дороге.
Пастух медленно побрел следом.
Чуть погодя юноша склонился в седле и негромко спросил старика:
– Вечером увидимся?
– Да, все готово, – кивнул Тарквиний.
– Вот и славно, – ответил Петр и, довольный собой, поспешил на виллу к матери.
Плацидия с Нуминцием весь день занимались хозяйственными делами. Управляющий, приземистый вдовец, долгие годы служил Портиям, и Плацидия высоко ценила его неколебимую верность, расторопность и ум. Она обучила его чтению и письму, и теперь Нуминций не только присматривал за имением, но и вел строгий учет всем доходам и расходам. Делами имения занималась Плацидия, поскольку Констанцию претили скучные занятия и на все вопросы жены он рассеянно отвечал:
– Вы с Нуминцием и без меня прекрасно справитесь.
Такое безразличие поначалу удивляло Плацидию, однако вскоре перестало ее беспокоить. Ей было приятно общество управляющего, а беседы с ним приносили удовлетворение.
Нуминций только что рассказал ей, что местный скотовод предложил отдать Портиям часть своего скота за треть зерна будущего урожая. Плацидия, одобрив сделку, внезапно спросила:
– Как ты думаешь, не зря мы наняли германцев?
– Не зря, – помолчав, серьезно ответил Нуминций.
– Муж этого не одобрит, – вздохнула она.
– Имению нужны защитники, – нерешительно начал управляющий и, покраснев, добавил: – Особенно тебе.
Плацидия улыбнулась, догадываясь о чувствах, которые питал к ней Нуминций. Трудность заключалась в другом: надо было сообщить о наемниках Констанцию так, чтобы не ущемить его гордость.
Нуминций, по обыкновению, угадал ее мысли и негромко произнес:
– Это давно следовало сделать. Настало время прекратить споры и готовиться к обороне.
Плацидия согласно кивнула, обрадованная его поддержкой, и с ласковой улыбкой посмотрела на управляющего – отношения между госпожой и слугой иного не позволяли. Тут в вестибюле послышались шаги Петра, и Плацидия обернулась к двери.
Констанций Портий усердно молился.
Весь прошлый день он провел в одиночестве, сгорая от стыда за свой безрассудный поступок. К вину Констанций не прикасался, поэтому сейчас мыслил здраво и лихорадочно придумывал, как лучше всего защитить имение. «Для начала надо вооружить Нуминция и прочих слуг», – решил он, стоя на коленях в молельне.
Молельня располагалась в северо-восточном углу виллы. Скудость обстановки с лихвой возмещалась прекрасной напольной мозаикой: на темно-зеленом фоне выделялось изображение человека в белых одеждах, с поднятыми и раскинутыми в стороны руками ладонями наружу – в традиционном жесте заступнической молитвы, называемом «оранта». На бледном лице под широкими дугами бровей горели огромные черные глаза, глядящие в неведомую даль. В руке человек сжимал хризму – символ своего имени, Христос.
– Paternoster, qui in coeli… – молился Констанций. – Отец наш, сущий на небесах, не оставь своих рабов в беде!
Белую штукатурку стены напротив входа украшали алые письмена:
Сами по себе слова не имели особого значения, но внимательный читатель заметил бы, что они образуют полный палиндром, то есть читаются одинаково слева направо, справа налево и сверху вниз. Однако для христиан они были исполнены глубокого смысла, корнями уходящего в далекие времена, когда римские императоры запрещали христианскую веру и преследовали ее сторонников. Загадочная фраза представляла собой анаграмму, пять слов дважды складывались в выражение:
При этом оставались неиспользованными четыре буквы – две «А» и две «О», обозначающие греческие альфу и омегу – библейское определение Бога. После принятия христианства семейство Портиев молилось перед этой надписью.
Внезапно Констанций почувствовал, что у дверей молельни кто-то стоит, и, обернувшись, увидел на пороге Петра, Нуминция и Плацидию. На щеке жены пылало багровое пятно – след вчерашнего удара. Констанций залился краской стыда.
– Я нанял германцев, на целый год, – заявил Петр. – Они стоят лагерем в дуне.
Констанций, побледнев от гнева, уставился на сына. Юноша с вызовом посмотрел в глаза отцу. Сыновнее неповиновение вызвало у Констанция небывалую ярость. «Щенок, да как он посмел…» – мелькнула мысль, но Констанций сдержался, заметив озабоченный взгляд жены, встал с колен и холодно произнес:
– Ты пошел наперекор моей воле.
– Он поступил правильно, – ласково, примирительно сказала Плацидия.
Констанций, не обращая на нее внимания, вперил злобный взор в Петра и повторил:
– Ты пошел наперекор моей воле.
– Я сама его об этом попросила, – вмешалась Плацидия. – Умоляю, не гневайся!
«Она, как всегда, выгораживает мальчишку!» – раздраженно подумал Констанций и спросил:
– А как ты с ними расплатился?!
– Золотыми солидами, – ответил Петр. – Прокормить наемников мы сможем, еды у нас хватает.
– И где же ты взял солиды? – удивился Констанций.
– Я дала, – ответила Плацидия.
Ярость пронзила Констанция, будто острый клинок.
– Что ж, хоть вы с матерью и наняли германцев, я не позволю им осквернять мои владения, – хрипло произнес он. – Я выгоню их из поместья.
Петр равнодушно пожал плечами:
– У тебя ничего не выйдет. Наемники хорошо вооружены.
«Вот наглец!» – подумал Констанций, с усилием сдерживая крик, и обернулся к управляющему:
– Нуминций, немедленно приведи ко мне двадцать работников. Мы пойдем в дун и потребуем, чтобы наемники убирались восвояси.
Нуминций потупил взор, но не сдвинулся с места.
Все молчали.
Констанций тяжело сглотнул и понял, что вот-вот разрыдается от стыда и отчаяния. Дыхание перехватило, злоба сдавила грудь. Такого унижения он никогда прежде не испытывал. Он умоляюще посмотрел на жену, но подступившие слезы застили глаза. Констанций повелительно взмахнул рукой, требуя, чтобы домочадцы ушли.
Когда умолк звук шагов в гулких коридорах виллы, Констанций без сил упал на колени и распростерся на холодном мозаичном полу, орошая его слезами. Затем, все еще конвульсивно дрожа, Констанций Портий сообразил, что дела принимают дурной оборот, ведь если наемники не станут повиноваться владельцу имения, то слабая женщина и сопливый юнец с ними наверняка не справятся.
В полуночном небе сияла луна, озаряя крепость на холме. Петр обогнул холм и направился в близлежащую рощу. Под ногами похрустывала палая листва, тронутая первым осенним заморозком. Сердце юноши возбужденно трепетало.
У речной излучины, в двадцати ярдах от берега, посреди чащи виднелась поляна – самая обыкновенная, каких много в лесу. На ней происходило что-то странное.
Посреди поляны мужчины расчищали опавшие листья и оттаскивали в сторону длинные доски, под которыми оказалась круглая яма диаметром около восьми футов, накрытая щелястым бревенчатым помостом. В яму уходила деревянная лестница двенадцати футов длиной.
Из-за деревьев на поляну вышел старый Тарквиний. Его сопровождала шестнадцатилетняя племянница, худенькая, узколицая и остроглазая, но не лишенная прелести. Плечи девушки окутывала тяжелая меховая накидка, на ногах были сандалии. Тарквиний, девушка и Петр обменялись церемонными поклонами. По знаку пастуха юноша разделся донага. Девушка, ничуть не смущаясь, сбросила с плеч накидку и тоже осталась обнаженной. Бледная кожа призрачно светилась в лучах луны. Молодые люди опустились на колени. Тарквиний протянул к Петру раскрытые ладони, на которых покоилась каменная фигурка богини Сулии, покровительницы пятиречья. Юноша благоговейно поцеловал ее и прошептал:
– Сулия, храни меня!
Молодым людям предстояло пройти важный обряд посвящения, в котором богиня играла роль заступницы перед неведомыми небесными божествами.
Девушка поцеловала фигурку богини и повторила слова Петра. Потом молодые люди спустились по лесенке в яму и снова встали на колени.
– Да приимут боги своих рабов и да очистят их от скверны! – воскликнул Петр.
Тем временем Тарквиний и два его помощника куда-то удалились. Петр с девушкой молча ждали. Наконец послышались тяжелые шаги, и на поляну вывели огромного черного быка. Тарквиний с ласковой настойчивостью что-то шептал ему на ухо. Бык покорно подошел к яме, но, почувствовав под копытом бревна, заупрямился. Пастух продолжал свои загадочные нашептывания, терпеливо оглаживая крутые бока и высокую холку животного. Наконец бык неохотно ступил на бревна и, фыркая, замер над ямой.
Тарквиний снял с пояса длинный узкий меч и, не прекращая шеп тать заклинания, отступил на шаг, а потом ловким движением вонзил клинок между ребер, прямо в сердце быка. Громадный зверь покачнулся и с глухим ударом рухнул на помост. Старик неторопливо обходил тушу, делая в ней надрезы, чтобы кровь непрерывным потоком лилась в яму, обволакивая нагие тела неофитов вязкой, теп лой пеленой.
– Да очистят нас боги от скверны! – шептал Петр.
Так совершался тавроболий – священный обряд очищения, широко распространенный в Римской империи. Люди, прошедшие ритуал посвящения, считались свободными от скверны и приближенными к богам.
Час спустя Тарквиний, убедившись, что последние капли бычьей крови вытекли в яму, позволил молодым людям выбраться на поляну. Они, покрытые коркой запекшейся крови, снова опустились на колени, и старый пастух нараспев произнес благодарственную молитву. Тем временем его помощники разрубили тушу на части и унесли прочь. Участники обряда, облачившись в чистые одежды, обменялись церемонными поклонами на прощание. Тарквиний увел племянницу с собой. Девушка обернулась и послала Петру пылкий взгляд, но юноша ничего не заметил и, преисполненный осознанием свершившегося таинства, вернулся домой.
Констанций Портий всю ночь просидел в триклинии, разглядывая орфическую мозаику, и пил вино, но захмелеть не мог. Внезапно он заметил какое-то движение во внутреннем дворике, вздрогнул и недоуменно заморгал: к дому направлялся сын, с ног до головы покрытый кровью. Недавний гнев мгновенно улетучился. Неужели на Петра напали наемники? Констанций вскочил и бросился к сыну:
– Что с тобой? Ты ранен?
Петр обратил к отцу восторженный взор, улыбнулся и с тихой радостью объявил:
– Нет, я не ранен. Я очистился от скверны.
Констанций ошеломленно отшатнулся.
– Я тавробол. Древние боги вернулись в Сарум, – невозмутимо объяснил Петр и вошел в дом.
Констанций застыл в растерянности. Что это значит? Его сын – язычник?! Не может быть! Ему привиделось! Это дурной сон…
Через несколько минут он ворвался к жене.
Плацидия еще не спала. Она заметила бледность мужа, однако обрадовалась, что он не пьян.
Констанций с несчастным видом замер в дверях – он уже много лет не входил в спальню жены без особого разрешения. Впрочем, сегодня Плацидия из жалости едва не пригласила его разделить с ней ложе.
– Что случилось? – негромко спросила она.
Он, страдальчески заламывая руки, объяснил ей, что произошло, и горестно воскликнул:
– Подумать только, в нашем имении совершается тавроболий, гнусный языческий обряд! Ты знала, что наш сын – тайный язычник?!
– Нет, – ответила она.
Констанций недоверчиво взглянул на жену:
– Но ты наверняка что-то подозревала!
– Да.
– И ни словом мне не обмолвилась?! – сокрушенно спросил он.
Плацидия медленно откинулась на подушки и вздохнула:
– Петр скрытен. Я заметила, что он много времени проводит с Тарквинием, но не придала этому значения.
Невозмутимость жены вывела Констанция из себя.
– Пастуха давно пора выгнать! – простонал он. – Мы же праведные христиане! Что делать?! Сначала Петр привел в имение поганых язычников, а теперь еще и эта мерзость…
Плацидия с сожалением взглянула на мужа – она все еще питала к бедняге теплые чувства, несмотря на его вечное пьянство и недостаток ума. Вдобавок она знала пылкую, восторженную натуру сына и догадывалась, что Петр вскоре забудет увлечение языческими обрядами.
– Успокойся, – ласково сказала она мужу. – Наберись терпения, и все обойдется.
Да, наверное, она избаловала единственного сына, воспитывая его без излишней строгости, зато хорошо понимала все его достоинства и недостатки. Петр, как и отец, отличался безрассудством суждений и порывистой вспыльчивостью. Плацидия мечтала подыскать ему хорошую жену, которая смогла бы сдержать и направить юношу, сделать его настоящим, сильным мужчиной. Увы, своего мужа Плацидия изменить не смогла…
Констанций, не подозревая о мыслях жены, все больше и больше раздражался.
– Похоже, тебя это не волнует, – с горечью заметил он. – Ты во всем потакаешь Петру.
– Ничего подобного, – возразила она. – Ты же знаешь, я исповедую христианскую веру.
На самом деле Плацидию, смиренную и суровую, больше привлекали идеи стоицизма, чем христианские добродетели, а в языческих обрядах она и вовсе не видела смысла.
– Ты вечно оправдываешь мальчишку! – сердито вскричал Констанций.
– Ты же знаешь, если ему запретить, он заупрямится и еще что-нибудь придумает, – напомнила она мужу. – Вдобавок в Сару ме язычников и без того хватает. Вот, даже Нуминций…
Констанций вспомнил об управляющем, который совсем недавно отказался выполнить господское распоряжение, и озлобился еще больше. Он всегда завидовал трудолюбию Нуминция, сведущего в хозяйственных делах, и считал, что коротышка слишком много времени проводит с Плацидией.
– При чем тут Нуминций?! – завопил он. – Если он не христианин, я его выгоню. Завтра же!
– Это неразумно, – невозмутимо заметила Плацидия.
В словах жены Констанций услышал скрытое презрение и возмущенно выкрикнул:
– Ну конечно, для тебя это неразумно! Он же твой любовник!
Помолчав, Плацидия негромко произнесла:
– Оставь меня.
Констанций, измученный гневом и усталостью, вышел, хлопнув дверью.
Плацидия закрыла глаза, представила себе Нуминция – крупная голова с залысинами, острый нос, печальные глаза, широкие короткопалые ладони, – и не смогла сдержать улыбку. Она питала самые добрые чувства к своему верному слуге, но брать его в любовники не собиралась.
В последующие два года случилось два важных события.
Первым стал набег саксов.
С наступлением весны к берегу залива Те-Солент, в двадцати милях к юго-востоку от Сарума, причалили две лодки: вместо ожидаемой орды саксы послали на разведку тридцать воинов. Двадцать человек отправились прямиком в Венту, разграбив по пути окрестные селения, и встали под крепостными стенами города. Было ясно, что боем его не взять. Германские наемники числом превосходили саксов, но горожане отдали местные крестьянские хозяйства на разграбление, заявив, что оборона города дороже.
Десять воинов-саксов тем временем двинулись на северо-запад, к Сорбиодуну.
Петр, заранее предупрежденный о приближении неприятеля, основательно подготовился к бою. Жители долины укрылись в дуне, однако не стали гасить огни в очагах и оставили ворота частокола приоткрытыми, чтобы заманить саксов в ловушку. За частоколом прятались Нуминций, Тарквиний и еще с десяток вооруженных мужчин. Петр, облаченный в доспехи центуриона, доставшиеся Нуминцию от отца, вместе с шестью германскими наемниками поджидал врага у входа в крепость на холме.
Саксы подошли к Сорбиодуну после полудня, по тропке вдоль реки. Светловолосые бородатые воины двигались неспешно, распевая песни и ведя в поводу угнанных лошадей, которых запрягли в телегу, нагруженную награбленным добром. При виде огороженного, но беззащитного поселения грабители решительно направились к воротам. Петр и наемники понимающе переглянулись и начали бесшумно спускаться по склону холма.
Едва саксы подошли к распахнутым воротам, как створки с грохотом захлопнулись. Загремел засов. От неожиданности грабители остановились и стали обсуждать, что делать дальше – поджечь частокол или сломать ворота. Тут из рощицы неподалеку выскочили наемники.
– Да хранят нас боги! – прошептал Петр на бегу.
Защитники Сорбиодуна наголову разгромили врага. Саксы, зажатые между воротами, склоном холма и рекой, совершенно растерялись и не сумели слаженно отразить нападение. Германские наемники на приземистых лошадях крушили грабителей тяжелыми боевыми топорами. Несколько саксов отбежали к броду, но там их загнали в реку и безжалостно прикончили. Петр ловко вонзил меч в горло одному из саксов, заслужив одобрительный кивок предводителя наемников. Двум грабителям удалось сбежать, остальных убили. Телега с награбленным добром осталась стоять у частокола.
Бездеятельное житье в дуне давно прискучило германцам, и они обрадовались бою. После того как трупы саксов обобрали и скинули в канаву у реки, предводитель наемников указал на телегу и заявил Петру:
– Это наше.
Юноша замотал головой – добро, награбленное в окрестных селах, надо было вернуть хозяевам.
Германец невозмутимо посмотрел на Петра и повторил:
– Это наше.
– Вам же заплатили! – возмутился юноша.
– Это наше. Не дашь – уйдем.
Петр задумался: наемников с радостью возьмут на службу жители соседних поселений, а десяток саксов – наверняка всего лишь разведчики; вскоре в Сарум нагрянет огромная армия врагов. Нет, отпускать германцев не стоило.
– Ладно, – раздраженно кивнул Петр.
– После боя – женщины, – продолжил наемник. – Каждому по одной.
Нуминций приводил к германцам сарумских рабынь, но, очевидно, наемникам этого не хватало. Уверенные манеры воина подсказывали Петру, что спорить не следует.
– Мой управляющий найдет вам женщин. Всем достанется, – буркнул юноша и сердито двинулся к воротам, навстречу Нуминцию, весьма расстроенный тем, что сбывалось недавнее предсказание отца: «Берегись, от язычников неприятностей не оберешься!»
Вечером Петр неторопливо возвращался домой и, охваченный непонятным возбуждением, вспоминал схватку. Что бы там ни говорил отец, Петр доказал, что он настоящий мужчина, доблестный римлянин. На полдороге к вилле его остановила племянница Тарквиния. Петр с удивлением посмотрел на нее. После тавроболия он и думать о ней забыл, но сейчас перед его глазами вновь возникло обнаженное бледное тело девушки.
– Ты храбро сражался, – сказала она, в упор глядя на него, и он кивнул. – Вы победили.
– Да, – усмехнулся он.
– Говорят, ты бился не хуже германцев.
– Все может быть.
Она молчала, пожирая его взглядом. У Петра не осталось никаких сомнений в ее намерениях. Он вспомнил слова германца и чуть заметно кивнул. Наемник был прав: после боя воину нужна женщина. Петр спешился и последовал за девушкой в рощицу.
Летом 429 года произошло второе важное событие – и касалось оно непосредственно Констанция.
Церковники в Риме и Галлии уже давно выражали недовольство пелагианской ересью, получившей широкое распространение в Британии. В конце III века британский монах Пелагий прибыл в Рим, где начал распространять свое учение. Поначалу Отцы Церкви его терпели; признавали его и Амвросий Медиоланский, и даже сам Блаженный Августин[8]. Пелагий утверждал, что истинный христианский праведник по доброй воле, с помощью нравственных усилий сознательно избирает служение Господу. В таком виде учение благонамеренного монаха выглядело моралистическим наставлением и никого не задевало.
К сожалению, последователи Пелагия извратили его учение, дерзко утверждая, что человек может по собственной воле, одним лишь нравственным усилием, отринуть скверну, возрастать в добродетелях и очиститься от греха, не дожидаясь благодати Господней. Из этого следовало, что ежели человек и впрямь способен на по добные деяния, то обладает полной свободой выбора и независим от Бога, то есть волен по своему усмотрению спастись или согрешить, признать Божественное или сатанинское начало.
Разумеется, ни один здравомыслящий христианин не мог с этим согласиться, ведь Отцы Церкви учили, что человек, как и все сущее, является творением Господа и относительной самостоятельностью обладает исключительно по Божией воле, Его благодатью и промыслом. Представления пелагиан о свободе воли человека приравнивали единого вездесущего, всемогущего и всезнающего Бога хри стиан к языческим божествам, то есть человек сам выбирал, какому богу поклоняться. В таком виде учение Пелагия вызвало резкое осуждение Церкви, а его последователей и приверженцев обвинили в ереси и изгнали из Рима.
Многие пелагиане нашли убежище в Британии, где и продолжали распространять свои мятежные идеи.
Церковь не могла с этим смириться, и в 429 году галльские епископы созвали собор, на котором было принято решение направить в Британию апостольских епископов Германа Автисидорского и Лупа Треказенского[9] для искоренения пелагианской ереси.
Посланники прибыли в Веруламий, где намеревались провести диспут с пелагианами, среди которых было много знатных британских землевладельцев. Узнав об этом, Констанций решил, что его присутствие там тоже необходимо, и стал собираться в дорогу.
Готовясь к поездке, он взял себя в руки, бросил пить и вел себя сдержанно. Он решил, что прекрасно обойдется без Плацидии и без сына-язычника, поэтому в Веруламий поехал один, взяв с собой лучших лошадей и единственного слугу.
Итак, ранним утром Констанций, завернувшись в роскошный синий плащ, надеванный лишь в день свадьбы, отправился по старой римской дороге на север, к Веруламию.
– Британские христиане ничуть не хуже галльских епископов, – заявил он жене перед отъездом.
Плацидию не интересовали ученые богословские споры, но Констанций пребывал в приподнятом расположении духа, и она обрадовалась, решив, что поездка пойдет мужу на пользу.
Спустя десять дней Констанций вернулся в Сарум.
Петр на три дня уехал по делам в Дурноварий, и Плацидия оставалась на вилле одна. Как только слуги сообщили о приезде мужа, она радостно вышла на порог, но, завидев Констанция, расстроенно поникла.
Бледный и небритый, Констанций был с ног до головы забрызган грязью. Слуга вел в поводу лошадей, одна из которых хромала. Констанций, пошатываясь, вошел в дом, и Плацидия поняла, что муж пьян. Он скрылся в своей спальне и не выходил несколько часов.
Два дня прошли в тяжелом молчании. Констанций пил и ни с кем не разговаривал. Плацидия оставила его в покое и украдкой расспросила прислужника, что произошло. Слуга объяснил, что после встречи с епископами хозяин вернулся в расстроенных чувствах и запил.
На третий день все выяснилось. Констанций подошел к жене, тяжело опустился на ложе и пробормотал:
– Меня назвали еретиком.
Плацидия молча ждала продолжения.
– Я проклят! – простонал Констанций.
– Почему? – спокойно спросила Плацидия.
– Потому что пелагианство – ересь хуже язычества. Да, представь себе, по мнению галльских епископов, я хуже, чем мой сын-тавробол!
– Почему? – недоуменно повторила Плацидия.
Констанций с отвращением помотал головой:
– Они утверждают, что язычники про́кляты потому, что не ведают света истины, но еретик дважды проклят – он, озаренный светом веры, отвернулся от Господа нашего.
– Кто тебе это сказал?
– Луп, епископ Треказенский, вот кто! – Констанций вскочил с ложа. – Назвал меня еретиком и объявил, что я проклят навеки.
Он без сил повалился на ложе. Плацидия растерянно поглядела на мужа, не зная, как его утешить.
Искоренение пелагианской ереси в Британии и обращение заблудших к истинной вере стало одним из самых известных событий в истории раннебританской Церкви. На диспут явились богатые землевладельцы с многочисленными свитами. По обычаю того времени знать щеголяла роскошными яркими одеяниями, совершенно непохожими на строгие белые тоги прошлого. Констанций с гордостью присоединился к благородным горожанам. Толпа приверженцев Пелагия заполнила форум. По счастливой случайности Констанций оказался в первых рядах.
Посреди форума стояли епископы, а напротив них – известные проповедники-пелагиане, которые и начали ученый диспут. Епископы, выслушав доводы в защиту пелагианства, обратились к присутствующим. Галльские посланники, блистая дотоле неслыханным красноречием, ссылались на речи апостолов и евангелистов и подкрепляли свои рассуждения авторитетом Писания и словом Божьим. Страстная проповедь обличала заблуждения пелагианства, и вскоре слушатели согласно закивали, с восторгом признавая справедливые замечания епископов. Несколько раз Герман Автисидорский умолкал, давая своим противникам слово, но пелагианским проповедникам нечего было возразить.
Однако же благородные землевладельцы, отказываясь признать свое поражение, недовольно перешептывались: да, галльские епископы мудры и красноречивы, но Пелагий – уроженец Британии и достоин уважения. Британские аристократы не желали признавать доктрину христианского смирения, на которой настаивали чужестранцы.
– Да будет воля Твоя, о Господи! – воскликнул Луп Треказенский. – Единственно Твою волю мы исполняем и Твоим повелениям смиренно подчиняемся!
Гордым британцам, кичившимся своей независимостью, претило смиренное подчинение. Знатные господа недовольно переглянулись, и тут-то Констанций допустил роковую ошибку.
Он с великим трудом следил за ходом замысловатых богословских рассуждений, но решил, что его позиция непоколебима. Он свято верил в свободу выбора и самоопределение, хотя сам был не способен применить эти качества в повседневной жизни. Ощутив внезапный прилив смелости, Констанций выступил вперед и обратился к Лупу.
Разговоры в толпе стихли.
Запинаясь, неуверенно подбирая слова, Констанций завел невнятную речь о христианских воинах, доблестных защитниках христианской веры, которые без посторонней помощи боролись с язычеством во славу Господа. Говорил он бестолково и сбивчиво, но пылко и страстно. Сам себе он представлялся именно таким доблестным христианским воином, выступившим против гнусных языческих обрядов, против презренного сына-тавробола и проклятых германских наемников.
Толпа отозвалась одобрительным ропотом, поддерживая неизвестного храбреца, осмелившегося дать отпор мудрым галльским епископам. Констанций Портий, декурион Сорбиодуна, удовлетворенно улыбнулся, преисполнившись неведанным дотоле чувством собственного достоинства.
Луп Треказенский гневно посмотрел на Констанция: именно таких тщеславных провинциалов, подрывающих устои истинной веры своими нечестивыми еретическими воззрениями, и следовало безжалостно искоренить.
– Превосходно! – не скрывая презрения, провозгласил епископ. – Воззрите, се – человек, погрязший в гордыне и отвергающий Божий промысел!
Засим последовало весьма красноречивое опровержение путаных доводов и невнятных рассуждений Констанция. Правитель Сарума сгорал от стыда и унижения. В конце краткой речи епископ объявил самонадеянные утверждения Констанция ересью, а его самого назвал еретиком хуже язычника.
«Неужели я всю жизнь заблуждался?! – в отчаянии думал Констанций. – Неужели меня никто не поддержит? Нет, Плацидия моих убеждений не разделяет, сын мой – язычник, а в глазах знатных христиан я навсегда посрамлен и покрыт вечным позором!»
Слушателям диспута пришлось признать истинность утверждений галльских епископов.
Констанций окончательно пал духом и, вернувшись на постоялый двор, напился до беспамятства. Наутро он спросил лошадей и отправился домой.
– Если я хуже язычника, то моя жизнь прошла впустую, – с горечью признался он жене.
– У тебя есть семья и поместье, – напомнила ему Плацидия.
Однако Констанций ее не слушал.
В начале 432 года в Сарум пришло известие, что летом ожидают вторжения армии саксов.
В прошедшие два года Петр не сидел сложа руки. В Сорбиодуне, как и во многих поселениях на юге Британии, усиленно готовились к обороне. Окрестные города принимали на службу наемников.
Однажды в Сарум с запада прискакал небольшой отряд молодых людей, ровесников Петра.
– Мы собираем подкрепление на случай вторжения саксов, – объяснили они Петру. – Повсюду в округе владельцы имений вооружают своих людей и обещают прийти на помощь друг другу при первом же появлении врагов. Не желаешь к нам присоединиться?
Петр согласился.
– Если на вас нападут, мы сразу же придем на помощь, – заверили юноши и ускакали в соседнее поместье.
Жители Британии воспрянули духом. Поговаривали даже, что на остров вернутся имперские легионы, но слухи так и остались слухами.
Предубеждения Констанция против германских наемников оказались напрасны: германцы прижились в Сорбиодуне. Петр нанял еще четырех воинов, выделил им участки земли на склонах холма и позволил привести в крепость женщин. Запас золотых солидов неуклонно уменьшался, поэтому наемникам платили натурой. Они не возражали, однако потребовали, чтобы им разрешили забирать у саксов награбленное.
Жители Сорбиодуна переселились из долины в дун, который теперь, как в древности, стал укрепленным поселением. Крестьяне настороженно, но мирно существовали бок о бок с германцами.
Петр сдержал обещание, данное молодым людям с запада, и, поручив Нуминцию собрать отряд из местных мужчин, отправился с управляющим в Венту за оружием. Привезенные мечи и доспехи хранили на вилле. Нуминций заставил всех мужчин в Саруме обзавестись луками и двумя сотнями стрел и, припомнив наставления своего отца-центуриона, каждое утро проводил военные учения. Два десятка крестьянских парней, разумеется, не шли ни в какое сравнение с закаленными в боях германскими воинами, но помогли бы защитить крепость.
– Мы готовы к любому вторжению, – заверил Петр мать и поклялся во что бы то ни стало отстоять славное имя Британии.
Плацидия, скрывая беспокойство, наблюдала за приготовлениями к вторжению саксов.
Констанций ничуть не изменился и по-прежнему не принимал участия ни в ведении хозяйства, ни в подготовке к обороне имения. Всем занимался верный Нуминций. Петр с восторгом выслушивал предложения управляющего, но на деле мало чем помогал. Юноша выезжал лошадей, присматривал за укреплением дуна и изредка осведомлялся о состоянии поместья. Плацидия с сожалением признала, что порывистым нравом сын пошел в отца и вряд ли остепенится, если не подыскать ему подходящую жену.
Трудность заключалась в том, что после набега саксов Петр обзавелся наложницей – Сулиценой, племянницей старого пастуха. Их связь очень тревожила Плацидию.
Петр поселил девушку в двух милях от родительской виллы. Сулицена держала себя с подобающей скромностью, к Плацидии относилась почтительно, но в ее поведении сквозило скрытое презрение. Девушка не только дурно влияла на Петра, но и отвлекала его от поисков жены. Всякий раз, когда Плацидия заводила разговор о женитьбе, Петр раздраженно отмахивался, а однажды заявил:
– Жена – женой, а от наложницы я не избавлюсь.
– А вот это мне знать не обязательно, – устало вздохнула Плацидия, надеясь, что со временем сын одумается.
Петра такое положение дел вполне устраивало. Сулицена ублажала его плоть, ни о каких чувствах речи не шло. Петр часто навещал ее, и они до изнеможения предавались страстным усладам. Впро чем, он предупредил Сулицену, что так не будет продолжаться до бесконечности, и никаких обязательств перед ней не испытывал.
И все же юноша ни в чем не находил удовлетворения. Поклонение языческим богам не вызывало прежнего восторга: кроме старого Тарквиния, других язычников в округе не было. Петр погрузился в изучение героической истории Римской империи и даже читал труды великих философов, но на безмолвных холмах Сарума доблестные деяния героев Античности казались пустым звуком. Петр терзался, не зная, чем еще утолить свою жажду приключений, и даже стал подумывать о повторении тавроболия.
– Тебе нужна умная жена, – сказала ему Плацидия.
Весной 432 года представился подходящий случай. Дальняя родственница Плацидии сообщила, что овдовела и желает выдать замуж единственную дочь Флавию, наследницу поместья на западе, в устье Северна. Девятнадцатилетняя девушка уже прекрасно справлялась с обширным хозяйством.
Петр, понимая, что отказ оскорбит благородную вдову, согласился поехать в гости.
– Никаких обязательств это на тебя не накладывает, – заверила его Плацидия. – Если вы друг другу не понравитесь, вернешься домой.
– Я давно хотел посетить святилище Ноденса! – восторженно воскликнул Петр. – Сначала заеду туда, а потом отправлюсь к Флавии.
Видя, что сын загорелся мыслью о путешествии, Плацидия с облегчением вздохнула.
Вторжения саксов ожидали только к середине лета, поэтому ранней весной Петр попрощался с родителями, вручил Сулицене золотой солидий и отправился на запад по заросшей травой старой римской дороге.
На следующее утро он приехал в Акве-Сулис. Увы, город, хотя еще и населенный, утратил свое былое величие, а знаменитые римские бани пришли в запустение – не из-за набегов воинственных саксов, а потому, что засорились трубы, по которым поступала вода из горячих источников. Расходы на очистку оказались непомерными, и термы забросили задолго до рождения Петра.
Юноша ехал по пустынным улицам, с восторгом разглядывая великолепные особняки. Постепенно его охватило уныние. Он осмотрел храм Сулии Минервы с впечатляющим горгонейоном у входа, над пересохшим бассейном, покачал головой и печально прошептал:
– Мы восстановим былую славу…
Правда, он совершенно не представлял, как это сделать.
Ближе к вечеру он добрался до Кориния. Хорошо укрепленный город напоминал Венту; к тому же амфитеатр в центре города превратили в настоящую цитадель – высокие каменные стены служили надежной защитой и устояли бы даже перед тараном. Петр провел ночь на постоялом дворе у городских ворот, а с рассветом снова отправился в путь.
За чертой города, у крепостной стены стояла покосившаяся бревенчатая хижина, в которой располагалась экклезия – христианская церковь. Петр с усмешкой подумал, что бедным христианам не устоять перед натиском саксов. Нет, только языческие боги спасут Британию.
К вечеру он достиг устья Северна. Лодочник переправил юношу на западный берег, а оттуда Петр поехал на юг, к святилищу Ноденса. В пойме Северна с незапамятных времен добывали уголь и железную руду, и у рудников на склонах чернели высокие отвалы. Слева в лучах заходящего солнца сверкала речная гладь, а прямо перед собой Петр увидел святилище Ноденса, повелителя туч.
На холме у широкого устья Северна красовался величественный храмовый комплекс. Фронтон святилища покоился на стройных колоннах, к весеннему небу с двух алтарей тянулись тонкие струйки благовонных курений, из чащи доносились терпкие ароматы первой листвы, в кронах деревьев шелестел легкий весенний ветерок.
Петр удовлетворенно улыбнулся: вот таким и должен быть настоящий языческий храм.
Неподалеку от входа в святилище стоял длинный бревенчатый дом – постоялый двор для паломников. Восемь храмовых жрецов и многочисленные послушники жили отдельно, в домах, построенных на пожертвования благодарных приверженцев Ноденса.
Ноденс, повелитель туч, издавна считался покровителем семейства Портиев, и Петр благоговейно оставил на каждом алтаре по золотому солиду.
«Если я возьму в жены Флавию, то свадебный обряд мы заключим здесь», – мысленно поклялся юноша.
Вечер Петр провел за беседой с храмовыми жрецами, что возродило его веру в языческих богов. Теперь он со стыдом вспоминал свое недавнее разочарование в язычестве – в прошлом году он еще раз прошел ритуал тавроболия, но не ощутил ни мистического откровения, ни очищения, напротив, его раздражала липкая бычья кровь и хронический кашель старого пастуха. Однако же в тишине просторного храма все выглядело иначе.
Наутро Петр помолился у алтаря, залитого светом восходящего солнца, вдохнул ароматный дым благовоний и, слушая, как жрецы напевно возносят гимны Ноденсу, ощутил невероятное умиротворение. Казалось, повелитель туч благосклонно исцелил душу юноши.
Петр провел в храме еще день и на следующее утро медленно вернулся к переправе. Поместье Флавии находилось в дне пути от храма, на юге, у рудников в Мендипских горах, откуда в Сорбиодун привозили свинец. Юноша с восторгом разглядывал живописные, поросшие лесом холмы и, окончательно выбросив из головы племянницу пастуха, решил, что Флавия ему наверняка понравится.
К вечеру до поместья оставался час езды. Еще не смеркалось, но уже повеяло прохладой, и Петр, заметив портовый поселок на берегу, решил заночевать на постоялом дворе, чтобы отдохнуть перед встречей с невестой.
В поселке обнаружился десяток амбаров для зерна и прочих товаров, крохотный причал, несколько жилых домов и мансион – постоялый двор, где путники могли сменить усталых лошадей, – окруженный новым частоколом; старую ограду несколько лет назад сожгли ирландские пираты. У причала покачивались кораклы – легкие лодки из ивняка, обтянутые шкурами, – и одномачтовое деревянное судно, готовое отправиться в путь.
Петр оставил лошадь на конюшне, и хозяин постоялого двора провел юношу в столовую, обещая подать ужин. В просторном зале весело потрескивал огонь в очагах, а за длинным столом посреди комнаты сидели рыбаки и пожилой рыжеволосый мужчина с обветренным лицом – капитан одномачтового корабля. Все радушно поздоровались с Петром и усадили его за стол. Хозяин принес жаркое в огромной миске и несколько кувшинов эля. Завязалась оживленная беседа о мореплавании, и слушатели с почтением внимали рассказам старого капитана.
Немного погодя Петр заметил в дальнем конце стола еще одного путника: тот сидел в одиночестве, не обращая внимания на остальных, с головой завернувшись в тяжелую накидку бурой шерсти – биррус.
– А вот этот парень через месяц помрет, – негромко сказал рыжеволосый капитан на ухо Петру и резко провел краем ладони по горлу. – Ему глотку перережут, помяни мое слово.
Юноша удивленно уставился на незнакомца. По лицу, видневшемуся из-под накидки, ясно было, что он ровесник Петра или чуть старше.
– Откуда ты знаешь? – спросил юноша.
– Он завтра с нами отплывает, – объяснил мореплаватель. – В Ирландию, к Патрику. Только их всех убьют, помяни мое слово.
Петр, никогда прежде не слыхавший о Патрике, начал расспрашивать о нем капитана.
– Миссионеры они, – буркнул старый мореход. – Хотят обратить в христианскую веру ирландских язычников, да только эти разбойники их всех перебьют, помяни мое слово. Жаль, конечно. Он, похоже, славный парень.
Ирландские пираты и впрямь были печально известны своей жестокостью и разбойными набегами на прибрежные селения.
После ужина рыбаки собрались у очага в одном конце столовой, а незнакомец отошел в дальний конец и, развернув пергаментный свиток, погрузился в чтение. Рыбаки, захмелев, дружно затянули песни, но с наступлением темноты почти все ушли спать, только двое безмятежно подремывали у огня. Незнакомец продолжал читать.
Петр пил мало, спать ему не хотелось, и от нечего делать он разглядывал загадочного молодого человека. Тот, ощутив на себе любопытный взгляд, оторвался от пергамента и вопросительно посмотрел на Петра. На скуластом лице насмешливо поблескивали широко расставленные карие глаза, сильные руки говорили о привычке к труду. К удивлению Петра, незнакомец по-мальчишески улыбнулся:
– А ты чего спать не идешь? Мало эля досталось?
Он сбросил накидку с головы, открыв гладко выбритую макушку с венчиком темных волос вокруг. Хотя в то время в Британии монастырей почти не было, Петр узнал монашескую тонзуру. Новый знакомец жестом поманил Петра к себе.
– Меня зовут Мартин, – представился он и объяснил, что приехал из Галлии, чтобы навестить родных в Британии, а затем отправиться в Ирландию.
Мартин с интересом выслушал рассказ Петра о поездке в Лидни и о предполагаемом посещении Флавии. Как ни странно, монах не выразил ни малейшего возмущения тем, что Петр посетил языческое святилище, а услышав о Флавии, понимающе усмехнулся:
– Что ж, надеюсь, она тебе понравится и ты с чистой совестью возьмешь ее в жены.
После этого Петр без стеснения спросил Мартина, правда ли, что он собирается в Ирландию обращать язычников в христианство. Юный монах согласно кивнул.
– А тебе не страшно? – удивился Петр.
– Иногда страшновато, – признался Мартин. – Но страх быстро проходит. Если служишь Господу, бояться нечего.
– А вдруг тебя убьют?!
– Все может быть, – смиренно улыбнулся Мартин.
Спокойствие и уверенность юного монаха вызывали невольное уважение – таких христиан Петр прежде не встречал.
– А почему ты решил служить христианскому богу? – спросил Петр.
Для него это был совершенно естественный вопрос, но на лице Мартина отразилось искреннее недоумение.
– Я ничего не решал, – ответил он. – Меня Господь избрал.
– Может, и так, – сказал Петр. – Ты же все равно в Ирландию хотел поехать.
Мартин поморщился и расстроенно отвел глаза:
– Если честно, то ехать мне совсем не хочется.
Петр ошеломленно уставился на него: неужели монах пытается сбить его с толку словесными играми, как когда-то делал школьный наставник?
– Ты не хочешь ехать в Ирландию? – переспросил он.
– Нет, не хочу, – кивнул Мартин. – Будь на то моя воля, я бы остался у родителей. Они живут на севере, в двух днях езды отсюда. Но Господь повелел, и я ушел в монастырь, а теперь по велению Божьему уезжаю в Ирландию… – Он со вздохом развел руками и, заметив удивление собеседника, спросил: – Ты о Патрике слыхал?
Петр помотал головой, и Мартин начал свой рассказ.
Патрик происходил из зажиточной семьи, владевшей землями в западной оконечности Британии. Шестнадцатилетнего юношу похитили пираты, увезли за море, в Ирландию, и там продали в рабство.
– Его заставили пасти овец, – объяснил Мартин. – Он, бедняга, остался один-одинешенек, вдали от семьи, от родных, но веры в Бога не утратил.
– А его родные тоже были христианами? – спросил Петр.
– Да, его дед и отец приняли христианство. – Тут Мартин ухмыльнулся. – Скорее всего, чтобы налогов не платить.
По законам империи куриалам полагалось освобождение от налогов, если они принимали церковный сан, – именно по этой причине многие землевладельцы переходили в христианство. Петр невольно улыбнулся: откровенность собеседника вызывала доверие.
Патрик каждый день уходил в леса, где молился в одиночестве, и через шесть дней голос в ночном видении сказал юноше, что его ждет корабль, который увезет его домой.
– Так Патрик понял, что избран Господом, – продолжил Мартин. – Он оставил родной дом и уехал в Галлию, где стал монахом. А потом ему было второе видение: он должен был вернуться в Ирландию, чтобы обратить в христианство своих поработителей, языческих разбойников. Поначалу церковники не хотели отпускать Патрика и даже говорили, что он недостоин подобной миссии… Однако он настоял на своем, и его отправили в Ирландию. А я к нему завтра поеду.
С таким подходом к христианской вере Петр никогда прежде не сталкивался. Мартин поведал новому знакомцу о знаменитых монастырях Италии и Галлии, о епископах Мартине Турском и Германе Автисидорском, о монахе Ниниане, христианском проповеднике, основавшем первый монастырь в диких землях пиктов, на севере Британии. Петр с восхищением внимал рассказам о непоколебимости и храбрости святых, о совершаемых ими благочестивых деяниях и чудесах, о добровольно налагаемых на себя епитимиях, о власяницах, веригах и об изнурительном укрощении плоти…
– Эти люди – истинные служители Господа, – заключил Мартин. – Их дело мы продолжим в Ирландии.
Видя, что Петр сгорает от любопытства, монах рассказал ему о великих христианских мыслителях и философах, одним из которых был Августин, епископ Гиппонский, из Северной Африки.
– Знаешь, он в молодости тоже был язычником и прославился как замечательный ритор и наставник в италийских языческих школах – заметил Мартин. – Я еще в галльском монастыре переписал для себя его духовную биографию, называемую «Исповедь», и сегодня весь вечер ее читал.
– Там говорится о его святых деяниях? – спросил Петр.
– Это сейчас он ведет христианский образ жизни, – расхохотался монах. – А в юности… Ох, да ты сам можешь прочесть! Он сам говорит, что плотских утех не чурался, а со своей наложницей не расставался даже после обращения в христианство.
Юноша задумался. Похоже, Мартин готов был пойти на смерть за христианскую веру, но сам Петр не видел ничего героического в деяниях святых проповедников и признался в этом.
– Для тебя важен человек, а не Бог, – упрекнул его Мартин. – Однако человек грешен и несовершенен и благодатью проникается только после того, как обратит все свои мысли к Господу. Понимаешь, не важно, что мы с Патриком совершим в Ирландии. Важно то, что мы станем орудием Божьего промысла. Августин напоминает нам, что он, язычник, грешник и распутник, по воле Господа совершил великие деяния в Северной Африке. Прежде дух его пребывал в смятении, а сейчас утешился служением Богу.
Петр с удивлением отметил, что Мартин, его ровесник, не по годам серьезен и рассудителен.
– А сам ты тоже утешился? – спросил юноша.
– Да, – просто ответил монах.
Однако рассказ Мартина так и не развеял сомнений Петра. Юношу по-прежнему волновали судьбы Британии и Римской империи. Он вспомнил заброшенные термы в Акве-Сулис, пришедшие в запустение Венту и Кориний, неминуемое вторжение саксов и угрозу мирному существованию Сарума…
– Может быть, ты и утешился, а вот нашим владениям грозит страшная опасность, – сказал он. – Я хочу восстановить былую славу наших земель и утраченное величие Рима, его храмы, театры и термы…
– Рим, сияющий город на семи холмах… – улыбнулся Мартин. – Ты говоришь о цивилизации?
– Да.
Мартин понимающе кивнул:
– Даже Иероним, великий христианский богослов, не сдержал слез, узнав о падении Рима. Между прочим, недаром Блаженный Августин назвал свой основной труд «О граде Божьем». Для многих христиан Рим, град земной, является священным символом нерушимого града Божьего, вечного и сияющего как солнце во славу Господа. Сам посуди, друг мой, – пылко воскликнул монах, – ежели сейчас ты скорбишь о разрушении городов земных, то неужели останешься безразличным к судьбе града Божьего?!
Вдохновенные речи Мартина взволновали Петра, однако он с сомнением покачал головой.
Мартин ласково опустил руку на плечо юноши:
– Друг мой, ты хоть и язычник, но жаждешь познать истину. Я верую, что однажды Господь направит тебя и ты утешишься. А теперь пора на покой – завтра мы оба отправляемся в дорогу.
Петр с грустью признал, что ни в чем не находил успокоения: ни в материнской любви, ни в Сулицене, ни в тавроболии, ни в бурных страстях юности.
– А что повелел тебе Господь? – спросил он Мартина.
– То же, что и апостолу Петру, славное имя которого ты носишь, – ответил монах. – Паси овец Моих[10].
– Со мной Господь не говорит, – вздохнул юноша.
Мартин пристально посмотрел на него:
– А ты прислушайся. Иногда глас Божий тих.
До конца своей жизни Петр утверждал, что его обращение свершилось той же ночью. Перед рассветом юноше приснился сон.
Петр ехал верхом по взгорью, похожему на Сарумское. Вокруг паслись бесчисленные стада. Дорогу всаднику преградил белоснежный ягненок. «Петр, паси овец Моих», – изрек агнец и исчез. Чуть погодя над пустынными холмами снова прозвучало: «Паси овец Моих».
Петр вздрогнул, проснулся и снова погрузился в сон.
– А потом мне было еще одно видение, – взволнованно рассказал он наутро Мартину. – На этот раз я стоял у крепостных стен Венты, глядя на колонну Марка Аврелия. Черепичные крыши сияли в лучах солнца. Я только что расстался со своим школьным наставником и ехал домой, но за городскими стенами обернулся. По небу разлилось великое сияние, дома и крыши засверкали серебром и золотом, и откуда-то прогремел голос: «Град Мой небесный сложен не из камня и кирпича, но из духа Божественного, вечен он и нерушим. Оставь свои земные труды и заботы, Петр, и войди в град Божий». Я проснулся и понял, что делать дальше.
Мартин укоризненно посмотрел на юношу:
– Ежели ты действительно хочешь служить Господу, то должен научиться владеть собой. Ступай в один из галльских монастырей, поживи там пару лет, научись смирять свой порывистый нрав во славу Божию. Только после этого из тебя выйдет веропроповедник.
Петр вежливо поблагодарил монаха, однако, убежденный в истинности своего видения, оставил совет без внимания. Твердо решив, что услышал глас Божий, юноша с жаром принялся воображать бесчисленные героические деяния, которые ему предстояло совершить.
Вечером следующего дня старый Тарквиний, пригнавший стадо на луг в пойме реки, с изумлением увидел, как по берегу, в сопровождении десятка работников поместья, медленным шагом шествует Петр. Венчик черных кудрей обрамлял гладко выбритую макушку юноши. Пастух хотел было поздороваться, но Петр с отвращением поглядел на него и отвернулся. Тарквиний растерянно посмотрел ему вслед.
Тем временем Петр привел работников на поляну, где совершался тавроболий, и приказал разломать и сжечь деревянный помост, накрывавший яму, а саму яму закопать.
– Чтобы к ночи и следа не осталось! – велел он, а на мольбы старого пастуха презрительно ответил: – Ты служишь дьяволу, и скверна твоя будет уничтожена!
После этого юноша отправился домой.
Работники предупредили Нуминция о приезде Петра, и все на вилле с нетерпением ожидали его появления. У входа горели факелы.
Плацидия и Констанций вышли на порог.
– Может быть, богатая наследница пришлась ему по нраву, – буркнул Констанций.
Петр спешился и горячо обнял отца. Констанций удивленно разглядывал тонзуру сына.
– У меня прекрасные новости, – объявил юноша. – Я обратился в христианскую веру.
Констанций недоуменно заморгал.
– Я уничтожил поганое языческое святилище, очистил Сарум от скверны, – гордо продолжил Петр.
На глаза Констанция набежали слезы.
– Ах, сын мой! – воскликнул он. – Слава Богу!
Чуть погодя все собрались к ужину. Слуги внесли блюда жареной рыбы.
Плацидия, задумчиво глядя на сына, негромко осведомилась:
– Тебе понравилась Флавия?
Петр невозмутимо посмотрел на мать, улыбнулся и погладил обритую макушку:
– Флавия? Какое мне дело до Флавии?! Я принес клятву служить Господу нашему Иисусу Христу и принял обет безбрачия, поэтому встречаться с Флавией не стал.
Родители изумленно переглянулись.
– Через три дня я уезжаю в Ирландию, к Патрику, крестить язычников, – добавил Петр.
Петр Портий спорил с матерью не три дня, а все пять, выказывая при этом недюжинную силу воли и поразительное красноречие.
Констанций удрученно поник, услышав ошеломительное известие, Нуминций умоляюще глядел на Петра печальными серыми глазами, а Плацидия тем временем собиралась с мыслями. Она не питала никаких иллюзий относительно искренности намерений новообращенного христианина, однако, хорошо зная сына, настороженно отнеслась к его решению. Сначала она подробно расспросила Петра. Он рассказал ей о Мартине и о своих видениях.
– Скажи, Господь повелел тебе оставить Сарум язычникам на растерзание? – спросила она, внимательно выслушав сына. – Неужели ты покинешь родителей на произвол судьбы? Разве не сказано в Библии: «Чти отца твоего и матерь твою»?[11]
Понимая, что бесполезно подвергать сомнению истинность веры Петра, Плацидия мудро предложила истолковать его видения несколько иначе.
– Да, Господь повелел тебе пасти Его овец, но откуда ты знаешь, что под овцами подразумеваются ирландские язычники? Их и в Саруме предостаточно, – напомнила она. – Наше поместье тоже нуждается в защите.
Петр упрямо стоял на своем.
– Судьба Сарума в руце Божией, – заявил он. – Мы должны защищать град Господень, а не творение рук человеческих.
– Но ведь Господь не требовал от тебя безбрачия, – сказала Плацидия.
– Мои слабости мне ведомы, – ответил Петр. – Женщины отвлекут меня от Бога.
Разговор продолжался до рассвета. Плацидия отчаялась – все ее мольбы разбивались о непроницаемую, спокойную убежденность сына. «Ох, пусть даже женился бы он на Сулицене, наследниками бы обзавелся…» – с горечью думала она. Не важно, было его обращение результатом очередного юношеского порыва или истинным призванием, – если Петр уедет в Ирландию, то наверняка погибнет.
– Ты и впрямь уезжаешь через три дня? – со вздохом спросила Плацидия.
Петр решительно кивнул.
В беседу жены с сыном Констанций не вмешивался. Его весьма обрадовало обращение Петра в христианскую веру; кроме того, он сразу сообразил, что с отъездом сына станет полновластным владыкой Сарума и сможет изгнать из дуна проклятых германских наемников, – христианские владения должны защищать христиане, и Констанций всем покажет, как это делается. На радостях он напился и задремал.
Нуминций сидел молча, изредка моргая. Ближе к рассвету глаза его закрылись, и он уснул, где сидел.
Наконец все разошлись.
У себя в спальне Петр начал готовиться ко сну, причем делал это своеобразно.
Он скинул с кровати тюфяк и подушки, снял с нее деревянную решетку и уложил на каменный пол. Потом юноша разделся – под одеждой оказалась власяница, которую он выпросил у Мартина; жесткая шерсть нещадно колола нежную кожу, но Петр терпел. Он, дрожа от холода, улегся на дощатую решетку. Босые ноги заледенели, однако Петр, помня, что все великие христианские богословы умерщвляли плоть, терпел что было сил.
Наутро Плацидия, заглянув в комнату спящего сына, с трудом сдержала вздох.
На следующий день Петр отправился в дун.
Юноша проехал мимо лагеря германцев, не обращая внимания на их любопытные взгляды, и подошел к лачуге у дальней стены крепости, где жил Тарквиний.
Старый пастух робко выглянул из хижины – после вчерашних событий все в Саруме узнали о странном поведении господского сына, мало ли что он еще учудит…
– Принеси мне языческого идола! – повелительно изрек Петр, кивая на стоящее рядом святилище Сулии.
Тарквиний неохотно вынес каменную фигурку.
– В Саруме больше не будут поклоняться языческим богам, – объявил Петр. – Дай сюда гнусного истукана, я его разобью.
Старик прижал фигурку к груди:
– Не отдам!
Петр, изумленный неповиновением старого пастуха, зловеще пригрозил:
– Отдашь, иначе тебе не поздоровится!
Тарквиний промолчал, не отрывая рук от груди. Глаза старика злобно сверкнули. Петр запоздало вспомнил, что пастух слывет колдуном, но сейчас это не испугало юношу.
– Что ж, ежели так, то я навсегда изгоняю тебя из Сарума. Забирай свои пожитки и ступай прочь! – холодно заявил он.
Тарквиний молча скрылся в хижине, чуть погодя вышел с котомкой на плече и направился по дороге к заброшенному поселению Сорбиодун в долине, а оттуда – к речному берегу. Старик отвязал лодку и поплыл вниз по течению. Когда лодка вышла на стремнину, он повернулся и пробормотал, поглаживая каменную фигурку:
– Я еще вернусь, Петр Портий, и она тоже вернется. Но твои христианские глаза нас больше не увидят.
За земляным валом дуна к небу тянулся дым: Петр поджег хижину пастуха и крохотное святилище.
Несколько часов спустя юноша приехал к Сулицене. Она, одетая в тонкое льняное платье, перехваченное поясом на талии, встретила Петра у порога. При виде милого большеглазого лица в юноше вспыхнуло желание.
Сулицена шагнула вперед, ожидая, что он спешится, однако Петр дрожащей рукой перехватил уздечку и замер.
Девушка удивленно разглядывала его тонзуру.
– Я уезжаю в Ирландию, – холодно заявил он и вкратце рассказал о своем обращении в христианство и об обете безбрачия.
– И теперь до конца жизни ты не разделишь ложе с женщиной? – недоверчиво спросила Сулицена.
Он кивнул.
Она звонко расхохоталась и презрительно посмотрела на него. Петр побагровел – то ли от смущения, то ли от гнева. Сулицена медленно протянула руку и, пристально глядя в глаза юноши, погладила его по бедру:
– Ну как, ничего не чувствуешь? Я тебе больше не нравлюсь?
– Нет, – твердо ответил он, с трудом сдерживая напряжение.
– Лжешь! – сердито воскликнула она.
Он снова вспыхнул от стыда и признался:
– Я все равно уезжаю.
– Чтоб тебя ирландцы прирезали! – злобно прошипела Сулицена и плюнула ему под ноги.
– А ты что будешь делать? – виновато спросил он.
– Найду себе мужчину вместо мальчишки, – ответила она. – Убирайся!
– Я тебе денег принес, – сказал Петр и бросил на землю небольшой кошель.
Сулицена молча подобрала деньги и отвернулась.
– Ради служения Господу… – начал Петр, пытаясь что-то объяснить.
– Ирландцам свои сказки расскажешь, – оборвала она его и вошла в дом.
Вечером спор с матерью продолжился.
Петр, охваченный религиозным рвением, собирался уничтожить все языческие изображения на вилле, включая мозаичный пол в столовой, но Плацидии удалось образумить сына.
– Когда вилла станет твоей, делай с ней что хочешь, а до тех пор терпи. Твоего отца-христианина мозаика не смущает: на ней изображены твари Господни и человек, венец Божьего творения.
Петр неохотно признал правоту матери и согласился не трогать мозаику, однако от своего намерения уехать в Ирландию не отказался, несмотря на мольбы и просьбы Плацидии.
– Твой долг – защищать наши владения, – напомнила она.
– Мой долг?! – вскричал Петр, гневно сверкая черными глазами. – Те, кто любит Господа, отрекаются от земных благ! Долг, о котором ты говоришь, не угоден Богу. Имущество презренно, служение Господу – вечно и нерушимо.
– Здесь, на вилле, прошла вся наша жизнь и жизнь наших предков, – негромко сказала Плацидия.
– Ну и что? Господь превыше этого.
– И тебе меня не жалко? Моя судьба тебя больше не волнует? – спросила она.
– Веруй в Господа, сим спасешься, – убежденно ответил он.
Плацидия понуро опустила голову и сглотнула слезы, понимая, что безразлична мужу и сыну.
И все же Плацидия не сдавалась, будто одиночество придавало ей силы.
Вот уже третий день Петр готовился к отъезду. Внезапно в комнату юноши вошел Нуминций в сопровождении восьмерых работников и почтительно, но настойчиво выпроводил его во двор, где Петра втолкнули в амбар и крепко заперли дверь на засов. Четверо мужчин встали на страже у дверей.
Плацидия, подойдя к амбару, объяснила сыну:
– Прости, но я не отпущу тебя из Сарума.
Петр и не предполагал, что мать способна на такой поступок.
– Ты решила держать меня в заточении? – возмутился он.
– Да, – спокойно ответила она.
Верный Нуминций во всем поддерживал госпожу, и работники его слушались. Петр грозил и упрашивал стражников, но из амбара его не выпускали, а Нуминций язвительно заметил:
– Как жаль, что среди Портиев нет достойных мужей, способных защитить мою госпожу. Ты ее единственный сын, а потому твое место – рядом с матерью.
Каждый вечер Плацидия приходила к амбару и пыталась отговорить сына от его затеи. В холодном и сыром амбаре гуляли сквозняки, но Петр не поддавался уговорам. Втайне и мать, и сын гадали, как долго протянется такое положение дел.
На пятый день после возвращения Петра из неудавшейся поездки к невесте из Каллевы примчал гонец на взмыленной лошади и принес весть, что вторжение саксов началось.
Саксы высадились на юго-восточном побережье и отправили несколько сот воинов на запад. Как только известие о вторжении достигло Сарума, Плацидия подошла к амбару и, распахнув дверь, объявила сыну:
– Ты свободен.
– Почему? – ошарашенно спросил он.
– Мы собираемся укрыться в дуне, там безопаснее, – объяснила она. – Не оставлять же тебя здесь. Если хочешь, отправляйся в Ирландию.
Нуминций и работники уже грузили оружие на телегу. Седые волосы Плацидии серебром сверкали в лучах солнца, на лбу и у глаз залегли глубокие морщины. Петр взволнованно посмотрел на мать, восторгаясь ее силой духа, и улыбнулся:
– Я поеду с вами в дун.
К вечеру в древней крепости закончили все приготовления к обороне. В дун пришли все жители Сарума, привели скот, заперли животных в загонах, а сами расположились на широкой площадке, окруженной земляным валом. У прочных дубовых ворот лежали массивные брусья – ими подопрут створки, как только появится враг. Вооруженные работники под предводительством Нуминция занимали места на крепостном валу.
Петр отправил гонца на запад, за подкреплением.
– В одиночку мы долго не продержимся, – объяснил он матери. – Мои друзья на западе обещали помочь нам изгнать саксов из наших владений.
– Ох, только бы твои друзья сдержали свое слово! – вздохнула Плацидия.
– Обязательно сдержат, – заверил ее Петр. Он осмотрел оборонительные сооружения дуна и остался доволен. – Лучники не подпустят врага к стенам, – сказал он отцу, – а мы с наемниками будем совершать внезапные вылазки.
А еще Петр превратил дун в христианскую крепость, настояв, чтобы Нуминций, тайный приверженец митраизма, и язычники-германцы приняли христианскую веру. В этом Констанций горячо поддержал сына. Наемники, недовольно ворча, вышли к реке, где Констанций с Петром поочередно окунали их в воду и осеняли крестным знамением. В центре дуна Петр установил деревянный крест.
– Господь нас охранит, – заверил юноша жителей Сарума, собравшихся под защиту крепостных стен.
Осознание неминуемой опасности превратило Констанция из жалкого безвольного пьяницы в смелого воина, своим видом вселявшего надежду в защитников крепости. В роскошных бронзовых доспехах, прикрытых синим плащом, он расхаживал по дуну, сжимая в руках длинный, остро наточенный меч, подбадривал мужчин и успокаивал женщин. Черные глаза, некогда мутные и покрасневшие, теперь глядели ясно и уверенно, согбенные прежде плечи распрямились. Плацидия с любовью смотрела на мужа, восхищаясь его преображением.
Два дня Петр напряженно вглядывался в даль, на запад, ожидая подкрепления.
На третий день пришли саксы.
К сожалению, в тщательно продуманных планах защиты крепости оказалось слабое звено: Петр не предполагал, что германские наемники сбегут. Как только караульные на крепостном валу заметили на юго-востоке большой отряд саксов, германцы, собрав нехитрые пожитки, вместе со своими женщинами поскакали на северо-восток, в Каллеву. Петр не верил своим глазам – наемники готовы были сражаться за плату, но умирать не желали.
– Заприте ворота! – сердито приказал юноша и снова с надеждой посмотрел на запад, но обещанного подкрепления не было.
Сотня воинов-саксов решительно двинулась к дуну. Поселение в долине они оставили без внимания и, обойдя дун с севера, тщательно осмотрели укрепления, а потом собрались поодаль от ворот и стали оживленно переговариваться. Высокие светловолосые воины в толстых кожаных куртках и грубых шерстяных штанах, крест-накрест перевязанных бечевой, были вооружены мечами, копьями и топорами. На больших деревянных щитах поблескивали железные пластины. Головы предводителей были увенчаны рогатыми железными шлемами.
Крепость на холме устояла бы против сотни воинов, но саксы явно намеревались ее взять. Немного погодя отряд разделился на четыре части и всадники заняли свои позиции: одни остались у ворот, а прочие окружили крепость с севера, северо-запада и запада, собираясь одновременно напасть на дун со всех сторон. Петр быстро разделил своих людей на четыре отряда: Констанций держал оборону ворот, а Нуминций, сам Петр и один из работников возглавили остальных защитников крепости.
Готовясь к битве, саксы устрашающе завопили:
– Тунор! Воден!
В боевом кличе, эхом раскатившемся по округе, Петр узнал имена великих саксонских богов грома и войны. Саксы заколотили мечами по щитам:
– Тунор! Воден!
Защитники крепости побледнели от страха, но Констанций воскликнул:
– Нас хранит Господь, дети мои!
Саксы бросились вперед по пологим склонам холма. С высокого крепостного вала на противников посыпался град стрел. Перед римскими осадными орудиями дун бы не устоял, но для саксов отвесные стены крепости представляли серьезную преграду, а жители Сарума оставались в безопасности под надежной защитой древних кельтских укреплений.
У ворот нескольким захватчикам удалось взобраться на стену, где их встретило ожесточенное сопротивление защитников дуна. Особенно отличился Констанций: он ловко разил саксов своим мечом, одного противника убил наповал, а двоих столкнул с высокой стены.
Саксы дрогнули под градом стрел и начали отступать. Внезапно ворота приоткрылись, и навстречу противнику направился небольшой отряд: шестеро пеших воинов во главе с всадником – Констанцием. Именно это и намеревался сделать Петр с германскими наемниками.
Юноша изумленно следил за отцом. Шестеро воинов окружили группу отступающих саксов и ловко разделались с ними, а Констанций вырвался вперед и с победным криком поскакал по равнине, на ходу подрезая длинным мечом то одного, то другого противника.
– Он обезумел! – воскликнул Петр. – Его окружат и убьют!
Констанций, не обращая внимания на очевидную угрозу, продолжал скакать вслед за саксами и разить их мечом. Захватчики, оставшиеся у дуна, заметили храбреца и с яростными воплями помчались за ним. Тем временем Констанций убил еще семерых воинов.
Понемногу кольцо саксов смыкалось вокруг одинокого всадника, но Констанций и не думал отступать. Еще два захватчика пали под ударами его меча. В глазах Петра отец внезапно превратился в героя древних сказаний: бронзовые доспехи сверкают в солнечных лучах, синий плащ вьется за плечами, молнией блещет меч, безжалостно разя врагов…
Защитники крепости то подбадривали Констанция радостными криками, то испуганно умолкали, когда он вступал в ожесточенный поединок. Плацидия, стоя рядом с сыном, наблюдала за мужем. Ее лицо словно окаменело, лишь взгляд метался от одного сакса к другому.
Наконец саксы, окружив Констанция плотным кольцом, стащили его с лошади. В наступившей тишине слышались глухие удары мечей и топоров – захватчики беспощадно мстили одинокому всаднику за проигранное сражение.
– Зачем он это сделал? – ошеломленно пробормотал Петр.
Плацидия со слезами на глазах смотрела на далекие холмы.
– Бедняга! – еле слышно вздохнула она. – Ничего другого ему не оставалось.
Второй раз саксы нападать не стали, только оттащили своих убитых с поля боя. Петр понимал, что в битву с захватчиками лучше не ввязываться: на равнине лучники не справятся с опытными саксонскими воинами. Саксы сложили у стен дуна огромный погребальный костер для убитых, а к вечеру подожгли окрестные селения в долине и убрались восвояси.
На всякий случай защитники крепости выставили караульных на стены и выждали еще сутки. На заре лазутчики вернулись с сообщением, что захватчиков и след простыл.
Виллу Портиев разграбили, но, по счастью, сгорела только половина дома и все хозяйственные постройки во дворе.
– Да, придется потрудиться, – вздохнул Нуминций. – Мы постараемся все восстановить к твоему возвращению из Ирландии.
Петр недоуменно уставился на управляющего. Только сейчас юноша сообразил, что вот уже три дня не вспоминал о своей христианской миссии.
– Поездку в Ирландию придется отложить, – сказал он, обозревая обугленные руины.
Памятуя о впечатлительной натуре сына, Плацидия торопливо перевела разговор на другое.
Обитатели Сарума постепенно приходили в себя. Через два дня после нападения саксов Петр поехал на взгорье осмотреть стада овец и там в последний раз встретил Сулицену.
Девушка сидела в груженой телеге, рядом с коренастым бородачом – одним из работников поместья. Телега направлялась на запад, к Северну. За телегой следовал еще один возок – семейство родичей Тарквиния: родители, дети и старая бабка.
Сулицена даже не взглянула на Петра, поэтому он подъехал к возку и спросил:
– Куда вы?
– На запад.
– Зачем? Мы же прогнали саксов.
– Ну и что? Они наш дом сожгли, хозяйство разорили.
– И далеко вы собрались?
– За Северн.
Петр задумчиво кивнул, но останавливать их не стал. Кто знает, будут ли они в безопасности на новом месте…
– Удачи вам, – сказал юноша и уехал.
Его по-прежнему не оставляла надежда на лучшие времена. Да, германские наемники трусливо сбежали, люди уходили на поиски нового, безопасного жилья, окрестные хозяйства разрушены, но Сарум выжил.
Петр с матерью стояли во дворе виллы и глядели на солнце, заходящее за холмы. Внизу, в долине, поблескивала излучина реки, по воде величественно скользили лебеди, на склонах холмов смутно белели отары овец.
– Я останусь, – пообещал Петр матери. – И Господь дарует нам новый, светлый день.
Плацидия молчала. В ней росло и крепло неясное убеждение, что наступает не светлый день, а темная, мрачная ночь.
Набеги саксов не прекращались, но с запада на выручку Портиям так никто и не пришел. Многие жители Сарума, как Сулицена, снимались с насиженных мест и переселялись в юго-западную оконечность острова, на территорию современного Корнуолла, или на противоположный берег Северна, в горы Уэльса, куда саксы так и не вторглись, а потому и сейчас Уэльс населен потомками кельтских племен и самых первых обитателей Британии.
О вторжении воинственных саксов и их родичей – ютов и англов – рассказывают скудные письменные источники, сохранившиеся до наших дней, однако Петр Портий и его соотечественники, потомки римлян в Британии, оставили свой неизгладимый след в истории острова и положили начало прекрасной романтической легенде.
Именно там, на западе, среди плодородных холмов между Уэссексом, Уэльсом и Корнуоллом, примерно через два поколения возникла новая неукротимая сила под предводительством вождя по имени Арторий; его войско одержало победу в великом сражении против саксов у некой горы Бадон, точное местонахождение которой до сих пор неизвестно.
На основании немногочисленных упоминаний об этих событиях восемь столетий спустя средневековые историки и поэты создадут возвышенные образы христианских рыцарей Круглого стола и короля Артура.
И все же романтическая легенда содержит в себе смутные отзвуки реальных исторических событий. Мир короля Артура – мир кельтских христиан, в котором прослеживаются не только связи с Уэльсом и западной оконечностью острова, но и с Бретанью, куда переселились многие жители Британии в конце эпохи римского владычества.
История Сарума той поры теряется в сумраке времен, называемых Артуровской эпохой; солнце Римской империи закатилось, а мир феодального рыцарства еще не возник.
Две реки
877 год
Казалось, той зимой в Уэссексе, во владениях короля Альфреда, воцарился мир. Уилтон, городок, куда часто приезжал Альфред, возник у слияния двух рек пятиречья – Наддера и Уайли. В трех милях к востоку высилась на холме древняя крепость Сарума, а на западе, под меловым взгорьем, на пятнадцать миль простиралась широкая пологая долина, оконечность которой на севере перекрывал Сельвудский лес, стеной отделяющий равнины Центрального Уэссекса от глуши западных земель с их лабиринтами холмов, рощиц и болот.
Уилтон покоился между двумя реками. Смутные времена, грозовыми тучами накрывшие Британию, понемногу рассеивались, сквозь них пробивались робкие лучи надежды. Четыре века назад на остров вторглись англосаксонские племена, но с тех пор многое изменилось: в череде войн возникали могущественные королевства – сначала Нортумбрия, потом Мерсия, а теперь Уэссекс. Власть западного владыки саксов признали и разрозненные племена в Кенте, Суссексе и Восточной Англии, и юты в Кенте и на острове Уайт, и кельты в Девоне, на юго-западной оконечности Британии; с королевством считались даже обитатели далекого Корнуолла. Только Уэльс и Северная Шотландия избежали владычества саксов и на многие сотни лет сохранили свою независимость.
Однако же, хотя возникновение независимых королевств обычно сопровождалось кровопролитием, англосаксонские племена, к этому времени обращенные в христианство, жили в относительном благополучии.
Распространение христианской веры среди англосаксов заняло немало времени.
В 597 году в Кент приехал Августин[12] – монах-миссионер, посланный папой Григорием I в Британию, впоследствии ставший епископом Кентерберийским. Королева Берта, жена Этельберта, ко роля Кента, исповедовала христианскую веру, а потому король-язычник позволил Августину обращать своих подданных в христианство. В ходе массовых крещений представители Римской церкви столкнулись с остатками кельтской ветви христианства. Британские церковники и богословы, получившие теологическое образование в Ирландии, поначалу чуждались христианских проповедников римского толка, однако в 664 году на церковном соборе в Уитби удалось добиться объединения Кельтской церкви с Римской католической церковью.
Разумеется, Нортумбрии и Мерсии было далеко до величия Римской империи, однако королевские дворы блистали роскошью. Разбогатели церкви и монастыри, где зарождалась церковная культура, взращенная на трудах классических философов и теологов и преображенная монастырским восприятием. Особенно прославился своей ученостью нортумбрийский монах-бенедиктинец Беда Достопочтенный, ставший первым историком англосаксов. В эти годы Британская церковь распространила свое влияние на новые епархии, и папа римский в благодарность направил британскому архиепископу символ его сана – паллий. Воистину Господь хранил Британию.
А потом пришли викинги.
Они явились с полуострова Ютландия в Балтийском море. До поры до времени их набеги сдерживала священная империя Карла Великого, короля франков, но после его смерти в начале IX века норвеги и датчане осмелели, а с началом усобицы в Датском королевстве Европа вступила в новую эпоху – в эпоху викингов.
Несмотря на все попытки современных историков подправить репутацию викингов, по сути своей они были пиратами – жестокими и беспощадными. Награбленная добыча служила им основным источником существования. В течение нескольких десятков лет регулярные набеги викингов внушали страх всему населению Британии. Альфред стал королем Уэссекса в то время, когда Англия была разделена на две части: к северу от Темзы простирался Данелаг – область датского права, территория, фактически находящаяся под властью викингов, которые заставляли местных жителей платить непомерную дань завоевателям. Уэссекс изо всех сил пытался отстоять свою независимость: викинги совершали набеги на его южные окраины, но захватить их не могли.
Великая языческая армия викингов, совершенно разорив несчастных жителей Нортумбрии и Мерсии, распалась на несколько групп: одни начали делить между собой земли на севере – территорию современного Йоркшира, другие захватили Восточную Англию, третьи отправились грабить Ирландию, а четвертые снова напали на Уэссекс и почти дошли до южного побережья, но там их остановили войска саксов. Был заключен мир. На священном наручье, окропленном кровью, викинги поклялись не нападать больше на владения короля Альфреда, однако свою клятву вскоре нарушили и отошли на запад, к Эксетеру, дожидаться подкрепления.
Однако же Господь не оставил жителей Уэссекса в беде – корабли викингов у самого берега разметало штормом. К осени 877 года захватчики отступили к границам Мерсии и остались там зимовать.
Уэссекс получил передышку – хотя бы на зиму.
Все в толпе обратили взоры на худощавого седого мужчину, который смущенно переминался посреди круга.
Порт надеялся, что суд вынесет решение в его пользу – от этого зависело многое. Вот уже две недели он терзался неизвестностью, не зная, как лучше поступить. Что важнее – благосостояние семьи или желания сестры? И какой поступок произведет благоприятное впечатление на короля?
Кто-то кашлянул, и Порт очнулся от размышлений.
– Слушайте обвинения Порта! – хрипло выкрикнул королевский посланник.
Порт медленно размотал лоскут и воздел правую руку.
Толпа ахнула – вместо кисти виднелся лишь обрубок.
Стояло морозное утро – начинались два месяца зимы, известные под названием Йоль. Несмотря на холод, суд сотни[13], по обычаю, проводили на рыночной площади Уилтона, где уже собралось около шестидесяти крестьянских семейств. Мужчины были одеты в яркие шерстяные рубахи до колена и толстые шерстяные штаны, а женщины – в такие же рубахи, только длинные, до щиколоток. Напротив Порта стояли три свидетеля, в обязанности которых входило признать судебное решение. Возглавлял суд элдормен Вульфгар – коренастый краснощекий бородач с покрытым оспинами лицом и крупным носом. Он подозрительно вглядывался в присутствующих, зная, что при дворе короля Альфреда его не любят, но проигравший в судебном разбирательстве платил пошлину королевскому чиновнику, а Вульфгар своего упускать не собирался.
Выслушав обвинение истца, судьи приступили к разбирательствам. По древнему англосаксонскому обычаю в суде не было ни защитников, ни присяжных, ни рассмотрения доказательств, однако это не мешало успешно решать споры и тяжбы.
Нанесенный ущерб был установлен – отрублена кисть, а не рука. По знаку элдормена Порт опустил руку и снова перевязал культю.
– А другие ранения есть?
Порт помотал головой и добавил:
– Он меня четырежды ударил.
– Число ударов не имеет значения, – напомнил ему Вульфгар.
– Четырежды, – настойчиво повторил истец.
Люди вокруг заулыбались – скрупулезность Порта вошла в поговорку: «Когда мелют муку, Порт каждое зернышко считает».
Кисть Порту отрубили две недели назад, на этой самой рыночной площади. Сигевульф, местный крестьянин, забыл стреножить лошадь и отправился на постоялый двор, где просидел до вечера и, изрядно захмелев, вышел на площадь, куда Порт как раз привел беглянку в поводу. Решив, что Порт хочет украсть лошадь, Сигевульф, размахивая мечом, набросился на обидчика и случайно отрубил ему кисть. Четырех ударов Сигевульф не помнил, но Порт настаивал, что все было именно так, как он рассказал.
Потом судьи предоставили слово обвиняемому. Сигевульф, угрюмый толстяк, даже трезвым ни у кого не вызывал доверия.
– Порт первым на меня напал, – заявил он. – Я его ударил единожды, а не четырежды, потому что защищался. Он хотел украсть мою лошадь.
Неприязнь окружающих и невероятное утверждение обвиняемого никак не влияли на решение суда – в англосаксонском судопроизводстве доказательств не требовалось. Самым важным были клятвы свидетелей. По знаку Порта трое мужчин, вступив в круг, назвали свои имена и положение в обществе. Все трое были керлами – свободными земледельцами-крестьянами.
– Клянусь кровью Христовой, что обвинение Порта истинно, – торжественно произнес каждый из свидетелей.
Тут же в круг вступили еще три керла и поклялись в истинности заверения Сигевульфа.
Справедливый англосаксонский суд вершился на основе клятв, приносимых в поддержку истца и обвиняемого. Выигрывал тот, кто мог заручиться бо́льшим числом людей, желательно знатного рода, согласных поклясться в истинности сказанного. Клятва раба не учитывалась, клятва керла, свободного земледельца, имела определенный вес, но слово представителя служилого сословия – тана – ее перевешивало, а его, в свою очередь, могла опровергнуть только клятва элдормена, однако превыше всего, разумеется, было слово короля.
Неожиданно в круг вступил высокий сорокалетний мужчина, ладно сложенный, светловолосый и голубоглазый, который до этого стоял в стороне и беседовал с юношами и девушкой – очевидно, его дочерью. Сигевульф недовольно поморщился.
– Тан Эльфвальд, – представился мужчина и произнес традиционную фразу: – Клянусь, что обвинение Порта истинно.
В толпе возбужденно загомонили, а потом все стихло. Сигевульфу было нечем крыть. Вульфгар вопросительно посмотрел на трех старейшин, и те вынесли приговор:
– Суд решает в пользу Порта.
– За отрубленную кисть обвиняемый выплатит вергельд пострадавшему и его покровителю, – объявил Вульфгар.
Вергельд – денежная компенсация за увечье или смерть – играл важную роль в англосаксонском, скандинавском и древнегерманском судопроизводстве. Жизнь человека оценивалась в зависимости от его социального положения: жизнь керла стоила двести шиллингов, жизнь тана – в шесть раз больше. Стоимость увечья рассчитывалась пропорционально его тяжести, поэтому Порту и пришлось показать свою культю – за отрубленную кисть платили меньше, чем за отрубленную руку. Размеры вергельда, определенные в своде законов Этельберта[14], за сто лет до великого Ине, короля Уэссекса, неукоснительно соблюдались и в правление короля Альфреда, ведь иначе, по неписаному кодексу чести германских племен, семья пострадавшего имела право объявить кровную месть.
Однако же примитивные законы англосаксов обладали неоспоримым преимуществом: четко определенная стоимость жизни любого свободного человека означала, что никто, даже элдормен, не мог безнаказанно причинить вред. Судебное разбирательство вершили старейшины общины, они же выносили приговор. Так на основе древних традиций германских племен возникло английское общее право.
На этот раз обвиняемому повезло: король Альфред не смог присутствовать на суде, иначе пришлось бы платить не только вергельд семейству Порта и его покровителю, тану Эльфвальду, но и штраф королевскому риву за нарушение порядка в городе. Сигевульф помрачнел – ему предстояло расстаться с приличной суммой денег. Порт, будучи потомком знатного рода, занимал особое положение в англосаксонском обществе, и ему причиталось втрое больше, чем вергельд, положенный простому керлу.
В Саруме давно забыли и благородное римское имя Портиев, и роскошь имперской цивилизации. Римские дороги поросли травой, а путники чаще пользовались древними доисторическими тропами на взгорьях. Исчезли каменные особняки в городах, разрушились храмы и термы, только в Лондоне, на берегах Темзы, кое-где виднелись руины римских построек. В Винчестере, столице владений короля Альфреда, возникшей на месте города Вента-Белгарум, сохранились остатки римской крепостной стены, но Сорбиодун превратился в пастбище, на месте виллы Портиев стоял дощатый амбар под двускатной крышей, а в долине красовались просторные палаты тана Эльфвальда.
Впрочем, в округе еще сохранились кое-какие напоминания о римлянах и кельтах: реки по-прежнему носили кельтские названия Авон и Уайли; название поместья Фонтхилл у реки Уайли происходило от латинского слова «fontana» – источник. И хотя Римская империя прекратила свое существование, для Западной Европы Рим все еще оставался символом цивилизации, ведь и Библия, и все философские труды, и религиозные тексты были написаны на латыни, а император Карл Великий короновался в Риме, и туда же трижды приезжал король Альфред. Давным-давно исчезли римские легионы, но их наследие жило.
Славное имя рода Портиев исчезло только потому, что саксы не знали фамилий в их современном понимании – одним именем обходился и элдормен Вульфгар, и тан Эльфвальд. Семейство Портиев из поколения в поколение передавало рассказ о благородных римских предках, однако произносить фамилию разучились и стали называть себя Порт, Порта или Портер, что на саксонском наречии означало «привратник».
– Помните, – говорил Порт двум своим сыновьям, гордо указывая на развалины дуна, – это была наша крепость и мы ее храбро защищали.
И в самом деле, в «Англосаксонских хрониках» есть запись о 552 годе от Рождества Христова: «Кинрик сражался с бриттами в месте под названием Саробург и победил»[15].
Саксонское название Сорбиодуна – Саробург – означало «место сражения». Потомки Портиев не удержали крепость, но саксы, восхищенные доблестью единственного уцелевшего защитника дуна, оставили его в живых. Именно поэтому три столетия спустя Порт по-прежнему считался не простым керлом, а наследником знатного рода, хотя и не удостоился звания тана.
Богатство Портиев исчезло без следа. Плодородными землями в долине завладел тан Эльфвальд, а Портиям достались скудные пастбища на взгорье, где вот уже триста лет стоял их скромный дом и паслись стада белых овец. Решение суда поставило Порта в чрезвычайно затруднительное положение – он мог бы возвысить себя и семью, если бы не одно удручающее обстоятельство.
«Если добавить вергельд к моим сбережениям, то завтра я стану таном», – сокрушенно размышлял Порт, понимая, что таким поступком нарушит обещание, данное его сестре Эдите, с которой должен был встретиться после суда.
– Ты идешь? – с улыбкой спросил его Эльфвальд.
Тана сопровождали двое из его сыновей, дочь, подросток в рясе послушника и узколицый раб по имени Тостиг. Порт почтительно склонил голову – он, хоть и сам мечтал стать таном, к своему покровителю относился тепло и учтиво. Молодые люди с улыбками переглянулись. Старшему сыну тана Эльфрику минуло двадцать шесть лет, Эльфстан был ненамного моложе брата, а дочери Эльфгиве недавно исполнилось восемнадцать. По обычаю англосаксов все родовые имена начинались с одного и того же слога.
Порт скованно поклонился девушке – по его мнению, несдержанные мальчишеские проказы не приличествовали дочери тана, хотя над его церемонными манерами вечно подшучивали все дети Эльфвальда.
Тан удовлетворенно оглядел своих спутников. Как и все его соплеменники, он был человеком медлительным и уравновешенным, не принимал скоропалительных решений, особым умом не блис тал, а споров не любил, однако упрямо защищал свои взгляды. Вспыльчивые и порывистые кельты, к тому времени переселив шиеся в Уэльс, презирали саксов, захвативших плодородные долины Англии, и считали их недоумками, хотя обе народности уже давно мирно сосуществовали на острове; лишь изредка в пограничных областях вспыхивали стычки.
Эльфвальд по праву считал себя довольным жизнью. Ему принадлежали обширные владения в Уэссексе и леса на побережье. Старший сын тана женился и уже получил в наследство богатое поместье. Теперь Эльфвальд искал подходящего жениха для дочери.
– Вот только не знаю, кто такую проказницу в жены возьмет, – со смехом жаловался он жене.
Сейчас он собирался проводить Порта домой, к жене и сыновьям, и пригласить все семейство к себе на пир. Однако прежде всего надо было навестить сестру Порта.
С рыночной площади Эльфвальд и его спутники вышли на главную улицу Уилтона. Город, возникший в развилке рек Уайли и Наддер, семь лет назад пострадал от набега данов, и для защиты с запада его начали обносить бревенчатой стеной, хотя с наступлением зимы строительство прекратили. В южной оконечности города протекала извилистая речушка Наддер, на берегах которой росли величественные дубы и березы; на севере возвышалось меловое взгорье. Основными достопримечательностями Уилтона были рыночная площадь, окруженная деревянными домами, и большое каменное здание к востоку от нее – Кингсбери, королевский дворец. Хотя король Альфред с недавних пор облюбовал Винчестер, Уилтон все еще оставался вторым по значению городом Уэссекса. Сегодня король охотился в западных лесах, и дворец пустовал.
По соседству с королевским дворцом, за высокой оградой, виднелись постройки аббатства – обитель, служившая приютом двенадцати монахиням, в том числе и сестре Порта, деревянная церковь и столовая. Одна из монахинь провела посетителей в каменную часовню с деревянной крышей, крохотными оконцами и треугольными арками. Больше всего монахини гордились западным входом часовни, украшенным резными колоннами с замысловатым орнаментом и квадратными капителями с изображениями сплетенных драконов, – великолепным образцом англосаксонского искусства. В пропахшей ладаном церкви на стенах висели узорчатые тканые шпалеры, на алтаре красовался богато расшитый покров и повсюду стояли золотые и серебряные чаши и подсвечники – подношения знатных прихожан.
К гостям почти сразу же вышли настоятельница монастыря, дальняя родственница короля Альфреда, и Эдита, сестра Порта. После вежливого обмена любезностями Порт с сестрой отошли в сторону.
Эдита, на десять лет моложе брата, отличалась болезненной худобой и казалась олицетворением смерти: бледное лицо, впалые щеки, сухая пергаментная кожа, выцветшие глаза и синюшные губы. В аббатство она попала благодаря настойчивым просьбам Эльфвальда – монахини из состоятельных семей приносили в аббатство щедрые дары, но Порту это было не под силу. Несколько монахинь, включая настоятельницу, обучались в знаменитом монастыре Уимбурн, в двадцати милях к юго-западу от Уилтона, где под началом суровой аббатисы действовали две монастырские общины, мужская и женская. В Уимбурне с давних пор готовили помощников для великих христианских проповедников-миссионеров, например для Бонифация[16], обратившего в христианство языческие племена Северо-Восточной Европы. Эдита мечтала стать одной из таких монахинь, однако настоятельница Уилтонского аббатства прекрасно понимала, что бедняжка, слабая здоровьем, не вынесет тягот миссионерского существования. Эдита, поневоле смирившись с тем, что ей придется всю жизнь провести в Уилтоне, стала лелеять новую мечту. Ущемленная тем, что родственники не в состоянии должным образом вознаградить аббатство за данный ей приют, Эдита решила истратить полученное ею наследство на золотое распятие для обители. Брат пообещал исполнить ее желание, и девушка денно и нощно грезила о подарке – разумеется, не таком роскошном, как осыпанные самоцветными каменьями королевские дары, но все же достойном восхищения монахинь.
Узнав об увечье брата, она быстро сообразила, что причитающийся Порту вергельд составит значительную сумму, которой с лихвой хватит для покупки богатого подношения. Две недели Эдита, пре испол ненная тайной радости, к немалому удивлению монахинь, с удвоенным жаром возносила молитвы и пискляво распевала псалмы.
Тем временем Порта терзали сомнения.
Англосаксонские законы гласили, что керл, владеющий пятью гайдами земли – размер гайды колебался между 40 и 120 акрами, в зависимости от плодородности участка, – становится таном. У Эльфвальда были десятки гайд, а у Порта – всего четыре. Чтобы купить землю, дающую право на вожделенное звание, требовался не только вергельд, но и все сбережения Порта, а вдобавок наследство сестры, поэтому вот уже две недели он маялся, не зная, как поступить.
Да, он обещал Эдите купить золотое распятие для обители, но ведь покупку дара можно отложить. Впрочем, отложить можно и покупку земли… Нет! Ведь никто не узнает, что Порт нарушил данное сестре обещание. К тому же Эдита наверняка обрадуется, если он станет таном. Порт удрученно вздохнул, понимая, что сестру обрадует только золотое распятие.
Эдита подошла к брату, худыми пальцами коснулась культи, обвязанной лоскутом, и сочувственно прошептала:
– Ах, какое несчастье!
– Ничего страшного, – холодно произнес Порт.
Оба помолчали, а потом Эдита задала неминуемый вопрос:
– Виновный наказан?
Порт расстроенно кивнул.
– Сигевульф выплатил вергельд?
Он снова кивнул. Не выдержав, Эдита радостно улыбнулась, блеснув на удивление белыми и ровными зубами. Некрасивое лицо преобразилось, стало почти миловидным.
– Деньги уже у тебя?
Он еще раз кивнул.
– Их хватает на… – Она задохнулась от восхищения, не в силах продолжить.
– Пока не знаю, – ответил он.
– Но ведь… Я так надеялась… – Эдита осеклась: приличия не позволяли ей настаивать на своем.
– Посмотрим, – неохотно промолвил Порт и отвел глаза, не в силах продолжать разговор.
Эдита печально кивнула и робко попросила:
– Скажи мне, если сможешь купить распятие.
– Конечно, – с готовностью согласился он.
Брат с сестрой вернулись к остальным. Настоятельница с гордостью показывала Эльфвальду последнее приобретение монастыря – рукописное Евангелие. Огромный фолиант в кожаном переплете, украшенный крестом из самоцветных камней, содержал боль шое число великолепных красочных миниатюр.
Искусство лицевой рукописи возникло на севере Англии и в кельтских монастырях Ирландии, где были созданы такие шедевры, как Келлская книга и Евангелие из Линдисфарна, монастыря на острове у побережья Нортумбрии. В Мерсии и в Кентербери на юге Англии сложились свои школы иллюминированной росписи, примеру которых следовал монастырь в Винчестере. Однако великая языческая армия данов разграбила почти все монастыри на севере Британии, и Евангелие, чудом уцелевшее в Мерсии, досталось в дар настоятельнице Уилтонской обители.
Настоятельница обратила внимание гостей на каллиграфический шрифт в книге: унциал английских рукописных книг обычно основывался на одной из двух основных школ письма – на островной, или инсулярной, распространенной в Ирландии, либо на меровингской, разработанной франкскими монахами.
– Взгляните, мерсианский переписчик чуть видоизменил очертания букв меровингского письма, сделал их более четкими, – объяснила настоятельница.
Эльфвальд промолчал, не умея ни читать, ни писать, как и многие знатные саксы. Впрочем, король Альфред сейчас постигал мудреную науку грамоты и всячески подталкивал к этому свое окружение. Отведя взгляд от Евангелия, тан заметил кое-что, вызвавшее у него улыбку.
Двенадцатилетний Озрик был сыном плотника в поместье Эльфвальда. Низенький для своих лет мальчик унаследовал от отца выразительные серые глаза и короткопалые широкие ладони. Несколько лет назад второй сын Эльфвальда, Эльфвин, к всеобщему изумле нию, заявил, что желает стать монахом. Тан, надеясь, что впо следствии юноша изменит свое решение, построил для него и еще пяти монахов небольшую обитель в своем поместье близ поселения Твайнхем. Год назад, узнав, что Озрика тоже привлекает монашеская жизнь, тан решил отправить его в обитель и заверил отца-плотника:
– Эльфвин за ним присмотрит, а когда Озрику надоест – отправит его домой.
Недавно Озрик приехал домой погостить, и родители заметили, что мальчик необычно серьезен и молчалив. Ни отцу, ни тану не удалось выведать, в чем дело. Эльфвальд решил, что Озрику наскучило жить в монастыре, a не признается мальчик из гордости или из страха. Тан провел с Озриком три дня, время от времени спрашивая, нравится ли ему монашеское житье. Озрик согласно кивал, однако видно было, что его что-то тревожит.
Сейчас Озрик восторженно рассматривал прекрасные миниатюры на страницах Евангелия, пристально вглядывался в тщательно выведенные буквы и великолепные заставки, выполненные золотом, киноварью и лазурной краской. Мальчик, потомок бесчисленных поколений умелых мастеров, глубоко проникся искусством неизвестного переписчика. Эльфвальд принял неожиданное решение, надеясь, что оно обрадует Озрика и возвысит тана в глазах короля.
– А ты так сумеешь? – спросил он, с улыбкой коснувшись плеча мальчика.
– Наверное, мой господин, – задумчиво ответил Озрик.
– Хочешь попробовать?
– Да, мой господин!
– Что ж, я поговорю с королем. Может быть, летом поедешь в Винчестер или в Кентербери, станешь писцом.
Глаза Озрика засверкали.
– Похоже, у нас будет свой мастер-переписчик, – с улыбкой сказал Эльфвальд настоятельнице.
Тан был доволен своим решением – все устроилось как нельзя лучше, и Озрик забыл о своих тайных несчастьях.
Тем временем младший сын тана Эльфстан и Эльфгива нещадно подшучивали над бедняжкой Эдитой.
– Отец говорит, что если в ближайшие два месяца жених не объявится, то Эльфгиву отправят в монастырь, – заявил Эльфстан монахине и притворно вздохнул. – А жениха-то и нет.
Эдита обеспокоенно посмотрела на восемнадцатилетнюю красавицу: о порывистом нраве Эльфгивы знали все в округе. Молодые люди сокрушенно покачали головой. На изможденном лице монахини отразился ужас.
– В монастырь? – недоуменно пролепетала Эдита. – Может быть, не стоит торопиться… Через пару лет…
– Ничего не выйдет, – с притворным отчаянием изрек Эльфстан. – Отец никогда не меняет своих решений.
Эдита с трудом сглотнула.
– Не волнуйся, сестре монастырская жизнь по нраву придется, – заявил Эльфстан и вопросительно поглядел на Эльфгиву.
– Да-да, – весело подтвердила девушка. – Особенно если мне разрешат ездить верхом и ходить на охоту.
– На охоту? – ошеломленно переспросила монахиня.
– Ну хотя бы изредка, – добавила Эльфгива. Она славилась своим умением ездить верхом и несколько раз удостаивалась чести выезжать на соколиную охоту с королем.
– Нет, что ты! – встревоженно ответила Эдита, от страха позабыв о золотом распятии. – Мы тут все больше вышиванием занимаемся.
Эльфгива звонко расхохоталась и протянула к монахине широкие ладони с загрубевшими пальцами:
– Я даже иглу держать не умею!
– Мы живем смиренно и покойно, – с запинкой объяснила Эдита.
– Не разгуляешься тут у вас, – вздохнула девушка. – Скучно.
Эдита побледнела, утратив дар речи.
Эльфстан кашлянул, давая знак, что пора прекращать шутки, иначе придется объяснять отцу, в чем дело. Эльфвальд вопросительно посмотрел на сына. Брат с сестрой виновато переглянулись и поспешно отошли, оставив монахиню наедине с тревожными мыслями. Вечером настоятельница долго уверяла Эдиту, что никто не собирается отдавать Эльфгиву в монастырь, а когда монахиня наконец ушла к себе в келью, тихонько рассмеялась.
Пир у тана начался на закате.
Палаты Эльфвальда, сложенные из массивных дубовых бревен, стояли в самой середине поселения; вокруг теснились деревянные крестьянские дома, крытые соломой, и хозяйственные постройки. В пятидесяти ярдах поодаль, у тропы, вьющейся по долине, раскинулась деревушка Авонсфорд – десяток дворов, окруженных распаханными полями.
Земледелие саксов существенно изменило ландшафт Сарума. Прежде делянки распахивали ближе к вершинам холмов, но саксы постепенно вырубили леса в низине и начали возделывать плодородные почвы в пойме реки – именно об этом мечтал Гай Портий восемь веков назад. На сотни ярдов вокруг Авонсфорда простирались пашни, разделенные меловыми грядами на узкие полосы, – казалось, по склону прошелся широкий гребень. Селяне назвали восточное поле Раем, а западное – Чистилищем. Упряжки в шесть или восемь быков волокли по пашне тяжелые плуги, глубоко взрывавшие плодородный грунт. Пахотные земли добросовестно разделили на наделы, принадлежащие тану и керлам, которые, в свою очередь, сдавали их внаем свободным крестьянам победнее и бывшим рабам, получившим вольную. Селяне обрабатывали поля, собирали урожай и отдавали тану причитающуюся ему долю. Дед Эльфвальда осушил пойму реки, и теперь там раскинулись заливные луга, где пасли скот.
Итак, на месте виллы Портиев возникла новая община, которая впоследствии станет обычной английской деревней. В полумиле от поселка начинался лес, куда гоняли на выпас свиней, а на меловом взгорье по-прежнему паслись овцы.
Между особняком Эльфвальда и деревней, на лужайке, служившей пастбищем, стоял деревянный крест – зимой и летом здесь, под открытым небом, старейшины обсуждали важные дела общины, а по воскресеньям и в церковные праздники тут проходила служба, которую читал священник из Уилтона.
В лучах заходящего солнца вспаханные поля превратились в багрово-черную чересполосицу. Селяне потянулись в палаты тана, на пиршество. Ходили слухи, что Эльфвальд намерен объявить какую-то важную весть.
Пиршественный зал вмещал человек сто, а то и больше. По всей его длине расставили в два ряда деревянные столы для гостей. В конце зала, на помосте, за особым столом сидел Эльфвальд со своей женой Хильдой – ей минуло пятьдесят, однако она еще сохранила свою красоту, и ее возраст выдавали только серебряные пряди в густых светлых волосах и легкие морщинки на лбу. Сыновья тана и Эльфгива расселись среди селян.
Пир удался на славу. Стол ломился от блюд с говядиной, дичью и жареной рыбой, которую раб Тостиг наловил в реке. Вина пили мало, больше налегали на местный эль. Рядом с каждым гостем сто яла отдельная чаша, куда наливали хмельной сладкий мед – с незапамятных времен излюбленный напиток местных жителей.
В свете факелов и пламени очага поблескивала яркая эмаль расписных блюд, чаш и кубков на столе тана. Местные жители похвалялись, что пиры у Эльфвальда не хуже королевских. Перед таном лежал огромный рог, некогда украшавший голову полумифического зверя – тура. Желтоватый, до блеска отполированный древний рог, перехваченный шестью золотыми обручами, подарил деду Эльфвальда уэссекский король Эгберт. В рог входило восемь кварт эля.
К великой радости Порта, их с женой, женщиной скромной и неприметной, усадили за главный стол – место почетное, хотя и на самом краю. В зале царило веселье, в дальнем конце общего стола раздавались взрывы смеха: Эльфстан рассказывал, как утром подшутил над Эдитой. К счастью, ни тан, ни Порт не слышали его рассказа.
Гости больше смотрели не на тана, а на его жену и дочь, которые, как подобает хозяйкам дома, церемонно расхаживали среди гостей, радушно приветствовали каждого, подносили угощение и подливали сладкий мед. Ради пира Эльфгива надела лучшее платье алого шелка с пышными рукавами, богато изукрашенное вышивкой, и изящные туфельки из мягкой красной кожи. Шею девушки обвивала золотая цепь с подвеской из гранатов, а с пояса свисали тяжелые серебряные ключи – саксонский символ высокого положения женщины. Тщательно расчесанные золотистые кудри рассыпались по плечам и спине.
– Ей любой тан с радостью утренний дар заплатит, – перешептывались мужчины, имея в виду подарок, который по обычаю муж дарил жене после первой брачной ночи.
– За ночь с такой красавицей я все, что угодно, отдам, – заявил один из керлов.
– Только прежде помрешь с натуги, – рассмеялись его приятели.
Когда все насытились, в середину зала вышел бард, коренастый безбородый молодой человек, в сопровождении мальчика с небольшой арфой. Сначала бард затянул веселую песню, а потом перешел к загадкам, которые оглашал медленно и размеренно, заставляя гостей вслушиваться в слова и задумываться над ними.
Платье мое безгласно, пока я по земле ступаю, пока я тревожу воды, пребываю в селеньях; но над краем героев порой меня возносят белые мои доспехи и поднебесный воздух, — и тут я улетаю, тучами увлекаемый, прочь от земного народа, и наряд мой белый звучным и певучим звоном полнится, чистым звучаньем, когда я разлучаюсь с водой и с берегом, дух блуждающий… Кто я?[17]– Лебедь! – вразнобой закричали гости, вспоминая белых лебедей, во множестве обитающих в пятиречье Сарума.
После загадок настало время песен о древних германских богах – о Туноре-громовержце, о боге смерти Тиве и о великом Водене, боге войны и сражений, легендарном родоначальнике Уэссексов. В конце каждой песни мужчины одобрительно кричали и колотили кубками по столам.
Вот уже много столетий англосаксы исповедовали христианство, однако Церковь не сумела искоренить память о языческих божествах, сохранившуюся в повседневной жизни; даже в названиях дней недели звучали имена древних германских богов – Тунора, Водена, Фриги… Да и англосаксонские законы, и присяга в верности повелителю, и кровная месть, и вергельд, и древние песнопения – все это пришло из языческих времен. Эльфвальд ни на миг не задумывался о том, что англосаксонская культура несовместима с христианской религией. Тан был христианином-англосаксом, и это его вполне устраивало.
Мальчик-арфист трижды ударил по струнам, и бард торжественно объявил:
– «Беовульф».
В пиршественном зале воцарилось почтительное молчание: «Беовульф» был самым известным героическим эпосом англосаксов. К этому времени текст поэмы уже был записан, но бард знал наизусть все ее строки, хотя, разумеется, на пиршестве прозвучали лишь самые известные части, излюбленные слушателями. Бард читал низким, напевным голосом, размеренно подчеркивая ритм ударений и аллитеративные цепочки синонимов и парных формул. Он начал рассказ о том, как Беовульф отправился за море, на помощь Хротгару, датскому королю, как в пиршественном зале вступил в рукопашное единоборство с жутким чудовищем Гренделем и в смертельной схватке вырвал ему руку из плеча, а потом спустился в водяную бездну под болотом и мечом убил мать чудовища, а само му Гренделю отсек голову. Завершалось выступление рассказом о последней битве Беовульфа с драконом, хранившим несметные сокровища в древнем могильнике, и о смерти героя от ядовитых укусов.
Бард начал с описания морских странствий героя – в напевных фразах звучал плеск волн и шум ветра. Гости невольно стали покачиваться в такт ритмичным строкам. Порт зачарованно представлял себе корабль посреди зыбкого морского простора, под высоким небом, слышал, как его днище скрежещет по песку, причаливая к датскому берегу. Слушатели с затуманенными глазами словно бы перенеслись в эпоху древних героев.
Затем последовал рассказ о встрече короля Хротгара с Беовульфом и рассказ о подвигах героя, образцового англосаксонского воина-христианина, полагающегося на помощь Господню и всецело верного своему господину и повелителю, однако во всем остальном – язычника. Как только бард перешел к описанию схватки с чудовищем, речь его ускорилась, слова лились сплошным потоком, громыхая и звонко клацая, будто передавая звуки битвы.
…Неисцелимая в плече нечистого кровоточащая зияла язва — сустав разъялся, лопнули жилы; стяжал в сражении победу Беовульф, а Грендель бегством в нору болотную упасся, гибнущий, в берлогу смрадную…[18]Порт, с сияющим взором и бешено колотящимся сердцем, невольно сжал кулаки. Ах, как доблестно сражался герой!
И вот настал час последней битвы Беовульфа. Погибшего героя возложили на погребальный костер, а прах собрали и захоронили в кургане на морском берегу вместе с драконьими сокровищами, добытыми в честном бою, – достойная смерть доблестного воина.
…Среди владык земных он был щедрейший, любил народ свой и жаждал славы всевековечной!Голос барда затих. Слушатели долго молчали, вспоминая прекрасные строки, а затем громкими восторженными криками поблагодарили барда и подняли кубки в его честь. После этого Эльфвальд поднялся из-за стола и торжественно провозгласил:
– Пора жаловать кольца.
Древний обычай жалования колец играл важную роль в жизни англосаксов. Когда король вручал кольцо верному элдормену или тану, он тем самым устанавливал и закреплял неразрывную символическую связь, нарушить которую считалось бесчестьем. Такие кольца, украшенные языческими рунами, считались волшебными.
Тан Эльфвальд, владелец обширных земель, любил жаловать кольца. Дождавшись, пока гости успокоятся, тан указал на Порта.
– Сегодня, мои верные друзья, Порт получил вергельд за отсеченную правую ладонь, – торжественно начал Эльфвальд.
Из-за столов послышались смешки и одобрительные возгласы.
– Поэтому я жалую ему кольцо на левую руку и надеюсь, что уж его-то Порт не потеряет. – Тан, церемонно склонив голову, провозгласил: – Береги мой дар, Порт!
Порт разрумянился от удовольствия. Эльфвальд показал кольцо гостям, а его жена медленно подошла к Порту и протянула ему кубок меда. Затем, как только Порт пригубил хмельное питье, тан вручил ему широкое золотое кольцо с рунической надписью.
Порт надел кольцо на мизинец левой руки и стукнул по столешнице, требуя тишины. Гости почтительно замолчали – над чинным, придирчивым овчаром часто подшучивали, однако клятва при жаловании кольца считалась делом серьезным, поэтому слушать ее следовало с всемерным уважением.
– Тан Эльфвальд – мой господин! – с жаром воскликнул Порт. – Я вкусил его мед, я принял его кольцо и готов жизнь отдать за тана Эльфвальда!
Саксонские понятия о чести требовали подобных клятв верности, и Порт, хотя его предки и были кельтами и римлянами, честно намеревался сдержать данное слово.
Эльфвальд поднес к губам огромный турий рог и провозгласил:
– Мы пьем за тебя, Порт!
Обряд дарения колец продолжался, керлы один за другим присягали в верности своему господину. Порт преисполнился гордости; его жена сидела, смущенно улыбаясь. Однако же, глядя на пирующих гостей, он снова погрузился в тревожные размышления. Разумеется, стать таном – великая честь. Для этого к четырем гайдам земли надо прибавить пятую, только и всего. Может быть, на оставшиеся деньги купить Эдите не золотое, а серебряное распятие? Порт, вспомнив расстроенное, изможденное лицо сестры, недовольно поморщился.
Эльфвальд снова встал из-за стола и трижды стукнул по столешнице. Гости умолкли, ожидая важного объявления.
Тан торжественно оглядел собравшихся. Все приняли серьезный вид, и даже с лица Эльфстана слетела вечная ухмылка.
– Друзья мои, – начал Эльфвальд, – мы с вами пируем и клянемся в верности друг другу, но забыли о самом важном – о нашем долге перед Господом.
Гости с почтением вслушивались в слова тана о вечных христианских ценностях. Так король Альфред перед битвой обращался к своим воинам, напоминая им о всемогущем и вездесущем Господе, а брат короля, Этельред, покрыл себя неувядаемой славой, отказавшись вступить в бой, не закончив молитву.
– В этом году король наш, великий Альфред, наконец изгнал из своих владений жестоких викингов-язычников, и по воле Божией их корабли затонули во время бури, так и не достигнув наших берегов. Так возблагодарим же Господа за наше чудесное спасение!
Все торжественно склонили головы, и Эльфвальд произнес короткую молитву:
Тунор и Воден убоятся силы Господа, что наши грехи кровью святой искупил и на кресте за нас дух испустил.
Восславим же распятого Христа!
Тан помолчал и взволнованно продолжил:
– Краток наш земной путь… – Он оглядел пиршественный чертог: под самым потолком, в стропилах, гнездились воробьи, со щебетом влетая в крохотные оконца и снова выпархивая на свободу. – Мы, как кроткие птахи, появляемся из ниоткуда и исчезаем в никуда, и путь наш лежит из мрака в неведомую тьму, но отведенные нам годы мы проводим в земном чертоге. Однако есть и иной, Господний чертог, дарующий жизнь вечную.
Порт согласно кивал – слова были созвучны и его мыслям, которым он не мог найти выражения.
– У смертного одра матери я поклялся принести Церкви щедрые дары, – продолжил тан. – Четыре года назад я основал монастырь в Твайнхеме, где и сейчас монашествует мой сын Эльфвин. Сегодня я принял решение отправить Озрика, сына плотника, в Кентерберийское аббатство, где мальчика обучат искусству письма. А теперь, во исполнение клятвы, данной матери, я во всеуслышание объявляю, что построю новую церковь на лугу, там, где сейчас стоит крест, – не деревянную, а каменную, – и выделю землю священнику.
Воцарилось изумленное молчание. В то время приходских церквей в Англии было немного, а каменных храмов почти не существовало. Единственная каменная церковь, основанная предыдущим королем Уэссекса, стояла в нескольких милях к югу от пятиречья, в Бритфорде, скромном селении, и была построена из камней, взятых в развалинах римского Сорбиодуна. Расходы на подобное строительство были велики даже для состоятельного тана Эльфвальда.
Порт сокрушенно поник головой и залился румянцем стыда.
– Я недостоин называться таном, – пробормотал он и внезапно сообразил, что делать.
Едва Эльфвальд сел на место и в честь тана провозгласили здравицу, Порт вскочил. Гости изумленно уставились на него. У Порта закружилась голова, но он пискляво выкрикнул:
– Я, Порт, сдержу клятву, данную моей сестре Эдите, и подарю Уилтонской обители золотое распятие во славу Господа нашего!
Гости одобрительно загомонили.
Порт бессильно опустился на скамью. Да, он с честью сдержал слово, но таном ему никогда не бывать: денег на покупку земли не осталось. На щеках его вспыхнули алые пятна, а внутри все сжималось от отчаяния. Он затрепетал – то ли от гордости, то ли от сожаления. Эльфвальд благосклонно посмотрел на Порта, но тот расстроенно опустил голову и не заметил взгляда тана.
Ночью в Саруме выпал снег, накрыв округу девственно-чистой пеленой, словно в знак мира и спокойствия.
На рассвете в скромной деревянной часовне, где обычно молились монахи, Озрик поднялся с колен, закоченевших на холодном земляном полу, схваченном январскими морозами.
Новый день, как обычно, привел мальчика в отчаяние. Вот уже полчаса Озрик исступленно молился в одиночестве, но молитвы не приносили утешения. «Через полгода я уеду в Кентербери», – думал он, и эта мысль придавала ему силы.
В устье рек Авон и Стур, у самого залива, стояло небольшое поселение в два десятка дворов, получившее название Твайнхем, что означало «междуречье». Как и Уилтон, деревушка располагалась у слияния двух рек; мыс защищал мелкую гавань от штормов и бурь Дуврского пролива. К северу от гавани, в восточной оконечности Твайнхема, начинались болота, а за ними тянулись дремучие леса. Земли эти принадлежали тану Эльфвальду, и он часто приезжал сюда охотиться. На опушке леса он велел построить небольшую монашескую обитель.
Число монахов в Уэссексе неуклонно уменьшалось, старые монастыри приходили в запустение, и, несмотря на всяческое поощрение короля Альфреда, юноши неохотно склонялись к суровой монашеской жизни. Новая обитель, основанная Эльфвальдом, удостоилась королевской хвалы. В ней было всего три постройки – монашеская спальня, столовая и часовня, – однако тан подарил крохотному монастырю великолепную Псалтирь, а его жена – пару подсвечников, богато изукрашенных самоцветными каменьями.
Здесь обитали шестеро монахов, следуя мудрым наставлениям святого Бенедикта Нурсийского. По уставу им полагалось совершать семикратное моление в часовне, перемежая службы трудом и чтением. На рассвете творили утреню; до моления Первого часа Озрику полагалось начисто вымести дворик перед часовней, перед молением Третьего часа мальчик помогал готовить скромный обед, который подавали в полдень, по звону колокола. Два часа свободного времени – между молитвой Третьего часа и обедом – Озрик старался проводить вдали от обители, на болотах, потому что…
«Господи, сделай так, чтобы Эльфвин меня больше не трогал!» – безмолвно взмолился мальчик на пороге часовни.
Почему тан согласился с желанием сына вести монашеский образ жизни? Многие в Саруме считали, что Эльфвину недоставало силы и ловкости братьев.
– Эльфгива его мизинцем перешибет, – усмехались жители округи.
Юноша и впрямь уступал в силе своим крепким братьям и сестре. Однажды малышка Эльфгива, подравшись с братом, одержала над ним верх в присутствии десятка местных ребятишек. Пятнадцатилетний Эльфвин не вынес унижения и объявил родителям, что желает уйти в монахи. Сейчас ему минуло двадцать пять. Худощавый светловолосый юноша держал себя застенчиво и скромно, только его бледные голубые глаза иногда светились каким-то неземным восторгом, а от улыбки Эльфвина Озрика пробирала дрожь.
Поначалу все шло как обычно: Эльфвин наставлял юного послушника, относился к нему по-доброму и часто с похвалой отзывался о нем. Остальные монахи тоже любили мальчика, и монастырская жизнь, хотя и нелегкая, нравилась Озрику больше, чем житье в родительском доме. Эльфвин часто ласково гладил мальчика по голове или одобрительно похлопывал по плечу, а как-то раз, присев рядом на скамью, легонько сжал ему коленку. Ничего удивительного в этом Озрик не находил – он почтительно относился к сыну тана и считал за честь удостоиться его знаков внимания. Эльфвин заводил с ним пространные беседы о жизни, при любом удобном случае одаривал улыбкой и вместе с остальными монахами брал на прогулки у реки. Такое отношение радовало Озрика. Как-то раз Эльфвин, гуляя с мальчиком наедине, неожиданно приобнял его за плечи. Озрик напряженно замер, не зная, что делать дальше. Наконец Эльфвин отвел руку и махнул куда-то вдаль, указывая на цаплю, летящую над заливом.
А однажды осенним вечером случилось ужасное. Озрику поручили готовить ужин, и мальчик остался на кухне один. В очаге громко потрескивали горящие поленья, и Озрик не услышал, как Эльфвин вошел в кухню и встал у него за спиной. Мальчик обернулся и вздрогнул от неожиданности: юноша стоял очень близко. Эльфвин раскраснелся – наверное, от жара очага, – лоб покрыла испарина, а глаза восторженно сияли. Внезапно он крепко обнял Озрика, прижал его к себе и страстно поцеловал в губы. Мальчик ошеломленно отшатнулся, не зная, что и думать, и, дрожа от страха, попытался вырваться, но Эльфвин не разжимал объятий.
– Помни, Озрик, мы с тобой друзья! – прошептал он и поспешно удалился.
Перепуганный мальчик сгорал от стыда и омерзения.
С того самого вечера жизнь его превратилась в сплошную му ку. Казалось, Эльфвин следил за ним, поджидая удобного случая, чтобы остаться с Озриком наедине, – он подстерегал мальчика и в часовне, и в столовой, и во дворе, ласково трепал его каштановые кудри, приобнимал за плечи, гладил по голове, хотя целовать больше не пытался. Впрочем, Озрик знал, что бессилен его остановить.
Мальчик опасался говорить о случившемся, а за советом обратиться было не к кому – остальные монахи побаивались Эльфвина и не хотели прогневить настоятеля крохотного монастыря, а вдобавок – сына знатного тана. В Авонсфорде Озрик постыдился рассказать об этом и отцу, и Эльфвальду, но безмерно обрадовался, услышав, что тан посылает его в Кентербери, и каждое утро мысленно уговаривал себя: «Потерпи еще немного. Всего полгода осталось».
Утро выдалось туманным. Седая дымка, затянув болота, скрыла от взоров Твайнхем, но Озрик, хорошо зная каждую кочку и каждый куст в округе, уверенно отправился на прогулку к гавани. Над топями колыхались клочья тумана. Болотистая почва за ночь подмерзла, и под ногой тонко похрустывали льдинки. Мальчик радостно бежал вперед. «Ну уж сегодня-то Эльфвин за мной не увяжется!» – думал он. Внезапно ему что-то послышалось. Что это – треснула обломанная ветка, хлюпнула трясина или кто-то громко вздохнул? Озрик бесшумно двинулся к берегу. В тумане встревоженно вскрикнула цапля.
В сорока ярдах от берега из тумана выплыл корабль. Он лебедем скользил по глади вод, подгоняемый мерными взмахами восемнадцати пар весел, с легким плеском тревоживших волны. На боках судна крепились круглые желто-черные щиты.
– Викинги! – охнул Озрик и со всех ног припустил назад в монастырь.
Облако тумана поглотило мальчика. Он бежал, не разбирая дороги. Топот собственных ног отдавался в ушах грохотом боевых барабанов. Посреди болота Озрик с разбегу врезался в кого-то. Неизвестный схватил мальчика в охапку, и оба повалились наземь.
Эльфвин!
Сын тана крепко сжал Озрика в объятиях. Туман росой окропил густые светлые волосы юноши, насквозь пропитал его рясу.
– Здесь нам не помешают, – с улыбкой прошептал Эльфвин.
– Там викинги! – отчаянно отбиваясь, закричал Озрик. – Пусти меня! Викинги в гавани!
Эльфвин, укоризненно покачав головой, потянулся к губам мальчика. Озрик сообразил, что делать: он перестал сопротивляться и обмяк. Эльфвин поцеловал его и разжал объятия.
– Вот так-то лучше! – вздохнул он, ласково глядя на Озрика.
Мальчик изо всех сил пнул обидчика коленом между ног. Юноша взвыл и скорчился от боли, а Озрик вырвался и снова побежал к монастырю, подгоняемый единственным желанием – предупредить жителей Твайнхема о неминуемой опасности.
Тяжело дыша, он примчался на пустынный монастырский двор. Как предупредить людей на противоположном берегу? Он нетерпеливо огляделся и увидел монастырский колокол.
Через минуту все монахи собрались во дворе, где Озрик, отчаянно вцепившись в веревку, что было мочи звонил в колокол.
Тут из тумана вышел побелевший от злости Эльфвин и двинулся к мальчику.
– Викинги! – вопил Озрик. – Викинги!
Монахи недоуменно переглянулись: все знали, что зимой викинги набегов не совершают. Мальчика попытались успокоить, но он не сдавался:
– Викинги!
Наконец до Эльфвина дошло, что Озрик говорит правду. Юноша бросился к колоколу и вырвал веревку из рук мальчика.
– Не тронь меня! – взвизгнул Озрик.
Эльфвин поспешно зажал ему рот ладонью и прошипел:
– Тихо! Ты видел корабль викингов?
Озрик кивнул.
– Зря ты в колокол звонил, – укоризненно вздохнул Эльфвин и выпустил мальчика.
Только сейчас Озрик сообразил, что густой туман полностью скрыл монастырские постройки из виду. Лица монахов исказил ужас, и мальчик понял свою ошибку: теперь викинги точно знали, где находится обитель.
Все напряженно вслушивались, но из-за тумана с реки не доносилось ни звука.
– Надо уходить в лес, – негромко приказал Эльфвин.
Даже если викинги обнаружат монастырь, то, скорее всего, ограничатся грабежом и поджогом и вряд ли пойдут в чащу на поиски монахов. Шестеро мужчин и мальчик, осторожно ступая, двинулись в сторону леса.
Тут слева, у реки, кто-то хрипло кашлянул, – похоже, викинги уже отправились на разведку.
До леса оставалось ярдов двадцать, не больше. Вдруг впереди раз дался резкий посвист. Эльфвин тихонько выругался – враги опередили беглецов и уже вошли в лес. Чуть погодя еще один свист прозвучал справа. «Как им это удалось?» – подумал Озрик. Впрочем, все знали, что викинги передвигаются быстрее обычных людей. Монахи неуверенно взглянули на Эльфвина: если враги строем прочищают лес, то, наверное, лучше вернуться.
– Можно спрятаться на болоте, – прошептал Озрик. – Я знаю где.
Эльфвин невозмутимо взглянул на мальчика и задумчиво кивнул:
– Славно придумано.
Монахи бесшумно прошли мимо монастырских построек и направились к заливу, однако через сто ярдов снова замерли, услышав впереди громкие крики.
– Поздно, – вздохнул Эльфвин. – Следуйте за мной.
Все, дрожа от страха, направились к часовне. Эльфвин впустил монахов внутрь и прикрыл дверь.
– Молитесь! – велел он.
Скрыться от преследователей не удалось. Оставалась лишь слабая надежда, что викингам наскучит блуждать в тумане и что обитель они не отыщут. Монахи безропотно преклонили колена перед алтарем.
В крохотной часовне было тихо. Озрик стоял на коленях у стены. Сердце его билось так громко, что казалось, викинги его услышат. Мальчик закрыл глаза и начал беззвучно молиться, весь обратившись в слух. Медленно тянулись минуты. Может быть, Господь внемлет молитвам монахов?
«Боже, сокрой нас от вражьих глаз, спаси и сохрани нас в тумане», – умолял Озрик.
В нем затеплилась искра надежды, разгораясь все больше и больше, пока не превратилась в радостное предчувствие. Озрик поглядел на Эльфвина, склонившегося в молитве у алтаря, и подумал: «Я прощаю его».
Внезапно дверь распахнулась, и в часовню ворвались восемь свирепых воинов в железных шлемах и легких кольчугах. Тяжелые боевые топоры викингов разили без промаха.
Все случилось так быстро, что Озрик даже не успел испугаться. Беспомощные монахи, едва успев подняться с колен, тут же повалились на пол, подсеченные ловкими взмахами топоров. От одного меткого удара чья-то голова отлетела на несколько шагов в сторону, а коленопреклоненное тело на мгновение осталось стоять.
Эльфвин, будто вспомнив, что он сын великого воина Эльфвальда, подскочил к алтарю, схватил тяжелое деревянное распятие и бросился на врагов, размахивая крестом как мечом. Он попал одному из противников в глаз, и викинг взвыл от боли. Восемь воинов окружили Эльфвина, ударами топоров рассекли распятие в щепки, а самого юношу прижали спиной к алтарю.
Один из викингов что-то выкрикнул на своем наречии, и остальные со смехом пропустили его вперед. Воин подошел к Эльфвину, оглядел его с головы до ног, ухмыльнулся и занес топор. Эльфвин дерзко посмотрел в глаза врага.
Точно направленный удар рассек юноше грудную кость и отбросил тело на пол. Викинг, раскачивая лезвие топора из стороны в сторону, вывернул ребра наружу, запустил руку в кровавую полость и поставил еще живого Эльфвина на колени; затем медленно вытащил из его груди сначала одно легкое, потом второе и умело закинул их на плечи несчастному, как сложенные крылья. Изо рта Эльфвина хлестала кровь, белые обломки ребер жутко торчали из развороченной грудной клетки. Эльфвин в последний раз содрогнулся и повалился ничком.
Так выглядела излюбленная викингами жестокая казнь, известная под названием «кровавый орел».
А потом викинги заметили мальчика, оцепеневшего от ужаса, но не сдвинулись с места. Озрик, как во сне, сделал шаг им навстречу, потом другой и так дошел до середины часовни. Слева он заметил распахнутую дверь. Туман рассеялся, в небе ярко светило солн це. Озрик зачарованно повернулся к двери…
Один из викингов лениво махнул топором.
О смерти Эльфвина и Озрика тан Эльфвальд узнал много позже, потому что в тот же день в Саруме произошло знаменательное событие, едва не изменившее историю Британии.
В середине января 878 года на Уэссекс неожиданно напали датчане, застав короля Альфреда врасплох. Гутрум, король данов, покинул зимний лагерь под Глостером, в Мерсии, и, стремительно проведя огромное войско к Чиппенгему, ворвался в крепость. Альфреду чудом удалось спастись, а Гутрум отправил карательные отряды на юг, в долину реки Авон.
Впрочем, на этом викинги не остановились, ведь в Уэссексе все еще чеканили королевские серебряные монеты.
В Авонсфорд прискакал гонец от элдормена Вульфгара с приказом немедленно отправить вооруженный отряд в крепость Саробург. Тан Эльфвальд послал сыновей в деревню и велел кресть янам спешно собираться в путь.
– А Порта предупредили? – спросил тан.
– Да, – ответил гонец, поворачивая лошадь к дуну. – Поторапливайтесь!
Через час к дуну направились все жители Авонсфорда, следом за двумя телегами с оружием и четырьмя возками, доверху груженными всевозможным добром.
Элдормен Вульфгар с отвращением поглядел на обоз и приветствовал Эльфвальда отрывистым кивком:
– Ты что, всю деревню с места снял?
– А лучше было викингам на расправу оставить? – осведомился тан.
Вульфгар равнодушно пожал плечами: обозы подходили изо всех окрестных деревень.
Элдормен и тан сокрушенно разглядывали земляные валы дуна.
– Крепость нам не защитить, – заявил Вульфгар. – Ворот нет, крепостные стены вот-вот обвалятся…
– Ну, ворота соорудить недолго, – предложил Эльфвальд.
– Нет, король приказал отступать, – оборвал его элдормен. – Уходим в родные края, за Сельвудский лес.
Хотя сейчас королевство Уэссекс простиралось до самого Лондона, саксы по-прежнему называли родиной область за Сельвудским лесом – именно там была основана Уэссекская династия. Туда, в дремучие чащи и болота, лежащие к западу от мелового взгорья и сарумских долин, викинги не забирались.
– Мы оставляем юг на разграбление врагам? И Уилтон тоже? – ошарашенно спросил Эльфвальд.
Вульфгар бесстрастно посмотрел на него:
– Викинги вот-вот сюда нагрянут. Сам видишь, к бою мы не готовы.
Вереницы обозов, толпы безоружных крестьян и полуразрушенная крепость – слабая защита против свирепых, закаленных в боях викингов.
– Пока враги Уилтон будут грабить, твои крестьяне успеют спастись, – презрительно продолжил элдормен и хмуро добавил: – Пускай поторапливаются!
Сам Вульфгар, похоже, не горел желанием сразиться с неприятелем, и судьба людей его не тревожила. Эльфвальд неохотно признал правоту слов элдормена. Тяжело груженные телеги заполнили тропу, ведущую из долины к Уилтону. Обозом никто не управлял. Стоит сломаться оси или слететь колесу, как телеги застрянут на дороге и станут легкой добычей викингов. «Вот если бы от грузов избавиться…» – подумал тан, и тут его осенило.
На западной стороне долины, в низине у болота, обитало семейство трубачей, и поселок назвали Бемертон, от саксонского слова «bemer» – труба или охотничий рог. Неподалеку, у реки, во владениях тана, стояло еще одно небольшое селение в несколько дворов, где жили родственники Тостига, с незапамятных времен слывшие лучшими в округе рыбаками, отчего деревню назвали Фишертон, от саксонского слова «fi sc» – рыба. На берегу, рядом с крытыми соломой хижинами, лежали шесть лодок.
– Пускай Тостиг приведет все лодки в Уилтон, – велел тан. – Они удобнее и быстрее телег.
Когда обоз добрался до Уилтона, стало ясно, что Эльфвальд принял мудрое решение. Всех охватила паника, на главной улице образовался затор, люди спешили уйти подальше от города, и никто не озаботился спасением ценностей из королевского дворца и монастыря. Вульфгар не появлялся, и тану в одиночку пришлось наводить порядок в городе. Когда Тостиг пригнал шесть лодок к причалу у монастыря, Эльфвальд велел погрузить в них все драгоценные украшения из дворца и церкви.
– Уходите вверх по течению, – приказал тан своему сыну Эльфрику.
Эльфрик, Тостиг и несколько помощников медленно вывели лодки на протоку и отправились в путь. Младшему сыну Эльфвальд велел вооружить двадцать человек для сопровождения обозов, однако не догадывался, кто еще к ним присоединится.
К отряду вооруженных воинов незаметно примкнула Эльфгива. Поспешно выбрав себе доспехи и оружие, она ушла переодеваться в один из опустевших домов у рыночной площади. Длинные волосы, заплетенные в тугую косу, скрылись под саксонским шлемом с изображением кабаньей головы и серебряным крестом. Немного погодя на площадь вышел саксонский воин в кольчуге, с коротким мечом у пояса и с копьем в руке. Высокая широкоплечая девушка в доспехах ничуть не отличалась от остальных мужчин.
Эльфстан заметил сестру и ухмыльнулся – Эльфгива ни в чем не отставала от братьев, поэтому ее дерзкая выходка его не удивила.
– Лишь бы отец тебя не узнал, – шепнул он, подъехав к сестре.
Когда отец спросил, где Эльфгива, юноша честно ответил:
– Где-то здесь, я только что ее видел.
Убедившись, что все жители покинули город, Эльфвальд облегченно вздохнул. Отряд Вульфгара выехал на взгорье у северных склонов, чтобы следить за приближением противника. Обоз отошел на милю от Уилтона, и тут настоятельнице сообщили, что Эдита пропала. Чуть раньше кто-то заметил, как монахиня торопливо направлялась в конец обоза, но потом ее никто не видел.
Настоятельница известила об этом Эльфвальда. Тан, раздраженный непредвиденной задержкой, все же приказал одному из стражников вернуться в город и отыскать монахиню, не подозревая, что выполнять поручение вызвалась его дочь.
Лошадиные копыта гулко стучали по мостовой опустевшего города. По главной улице Эльфгива подъехала к дворцу и тут заметила Эдиту. Монахиня, пошатываясь от усталости, брела по переулку, прижимая к груди огромный фолиант – иллюстрированное Евангелие, которое в спешке оставили в монастыре. Эдита заметила всадника, и в глазах, горящих восторгом, вспыхнул страх.
Эльфгива, склонившись в седле, легко подхватила Эдиту с земли, усадила перед собой и послала лошадь в галоп. От неожиданности монахиня выронила тяжелую книгу в грязь и пронзительно завизжала:
– Евангелие! Святое Евангелие!
Эльфгива не останавливалась.
– Да постой же! – завопила Эдита, отчаянно отбиваясь, и с ужа сом услышала знакомый голос девушки:
– Некогда! Подумаешь, книга и книга…
Евангелия больше никто не видел.
Тем временем выяснилось, что семейство Порта к обозу не присоединилось.
Гонец, выезжая из Уилтона, встретил Порта и крикнул ему, что едет предупредить тана о грозящем нападении викингов. Порт решил, что его близкие уйдут с Эльфвальдом, но гонец сказал тану, что Порт знает об опасности, поэтому тан никого не отправил за семейством Порта. Только сейчас, следуя за обозом в долине, Порт обнаружил, что жена с детьми остались дома.
– Я поеду за ними! – воскликнул он.
Солнце уже клонилось к закату. «Викинги вот-вот доберутся до Сарума, если уже не добрались», – хмуро подумал Эльфвальд. Возможно, они не пойдут на взгорье, где стоял одинокий двор Порта, а удовлетворятся разграблением Авонсфорда, раскинувшегося в долине.
– Эльфстан, возьми шестерых воинов и четырех лошадей, езжайте к Порту! – велел Эльфвальд младшему сыну и придержал овчара за плечо. – А ты оставайся со мной!
Порт, однорукий и безоружный, расстроенно вздохнул, понимая, что толку от него все равно не будет, однако умоляюще посмотрел на тана. Эльфвальд решительно помотал головой, и шесть всадников стремительно помчались в Сарум.
Эльфгива, приблизившись к обозу и заметив брата во главе отряда всадников, бесцеремонно выпихнула Эдиту из седла на дорогу и последовала за ними.
Девушка нагнала их на крутой тропе, ведущей по склону к Саробургу. Эльфстан, сердито отмахнувшись, велел сестре возвращаться к обозу.
– Нет, я с вами! – упрямо возразила она.
Эльфстан торопливо объяснил, что случилось, и отряд поскакал по гряде. Всадники пристально всматривались в окрестности, но викингов не обнаружили. Эльфгива с облегчением вздохнула. Похоже, семью Порта успеют спасти.
Увы, помощь опоздала.
Викинги неторопливо двигались вверх по склону, по тропе к Уилтону. Они только что разграбили пустующий крестьянский двор, но поджигать его не стали, а послали разведчиков на взгорье.
По дороге они заметили саксонский отряд.
Завидев врага, Эльфстан повернулся к сестре и воскликнул:
– Бери запасных лошадей и поезжай к Порту!
С Эльфгивой отправились еще два всадника, а Эльфстан бросился наперерез викингам.
Десяток смуглых темноволосых воинов с мечами и топорами восседали на коренастых лошадях. Эльфстан отвлек их внимание от сестры и с вершины холма бросился на неприятеля.
Схватка была недолгой. Саксы сшибли викингов с лошадей, убили троих воинов и вступили в рукопашный бой, уничтожив еще двоих и ранив троих. Викинги, сообразив, что проигрывают схватку, повернули коней и поскакали в долину. Саксы с восторженными криками отправились на подмогу Эльфгиве.
Подворье Порта лежало в узкой лощине. К скромному пятикомнатному дому примыкали хозяйственные постройки, выходящие на юго-восток. Во дворе располагались загоны для овец и пастушья хижина. Лощина простиралась на двести ярдов, чуть расширяясь к юго-востоку, и заканчивалась небольшим обрывом; ее трудно было заметить даже с взгорья. Обитатели подворья жили в уединении, не зная, что творится в долине.
Рано утром Порт уехал в Уилтон по делам, а пастух с сыном вывели стада на взгорье. В полдень пастух заметил, что овцы держатся подальше от края пастбища, но не придал этому значения, решив, что их напугала лиса.
Пока Эльфстан сражался с отрядом разведчиков, тридцать викингов бесшумно пересекли пастбище и, привлеченные дымом очага, обнаружили скрытое в лощине подворье.
Викинги и отряд Эльфгивы въехали в лощину одновременно, с разных концов.
Во дворе беспомощно застыли жена Порта и двое детей.
Враги, заметив трех саксонских всадников, перегородили им дорогу. Эльфгива решила объехать неприятеля с фланга, чтобы успеть на помощь беззащитному семейству, и, не дожидаясь своих спутников, помчалась вперед.
Викинги бросились ей наперерез. Завязалась ожесточенная стычка.
Яростное сопротивление саксов удивило свирепых северных воинов. Особенно отличился в бою предводитель саксов. Всадник ловко уворачивался от ударов топора и метко разил коротким мечом, прикончив четырех бойцов противника. Разъяренные викинги удвоили усилия и вшестером накинулись на всадника.
Скользящий удар топора сбил шлем с головы девушки, коса расплелась, густые волосы рассыпались по плечам. Викинги изумленно уставились на Эльфгиву.
– Воительница! – выкрикнул один. – В одиночку четверых поразила!
Враги с похотливыми криками бросились к Эльфгиве. Багровая пелена гнева застила глаза девушки. Эльфгива яростно отбивалась, думая лишь об одном: как спасти беспомощных людей. Викинги дрогнули и стали отступать. Внезапно за спиной Эльфгивы раздался голос брата:
– Уведите ее!
Девушка рвалась вслед за викингами, но ее коня схватили под уздцы и повернули к Саруму. Через миг она пришла в себя. Отряд саксов скакал по взгорью. Эльфстан улыбнулся сестре.
– Надо спасти семью Порта! – воскликнула Эльфгива.
– Поздно, – сокрушенно вздохнул брат.
Девушка невольно вздрогнула. К счастью, в пылу битвы она не видела, что происходило на подворье, а вот Эльфстан стал свидетелем жестокой резни. Трое викингов схватили жену Порта и по очереди изнасиловали ее. Когда забава им прискучила, один из них, здоровяк с широким лицом в оспинах, хладнокровно перерезал женщине горло. Пастуха и его сына-подпаска тоже убили. Рабы беспомощно метались по двору, ища укрытия. Несколько минут викинги невозмутимо следили за испуганными людьми, а потом перебили их одного за другим. Двое детей Порта – семилетний сын и малышка-дочь – испуганно жались друг к другу посреди кровавой бойни. Два викинга занесли топоры, но тут с вершины холма раздался хриплый крик:
– Бар-ни-кель!
С холма спускался настоящий великан – он отправился на разведку в одиночку, но, услышав звуки битвы, пришел узнать, в чем дело. Викинги недоуменно уставились на него.
– Бар-ни-кель! – снова проревел он.
Странный приказ «Bairn ni Kel» – «детей не убивать» – удивил свирепых бойцов; обычно викинги убивали всех подряд.
Исполинский воин подошел к детям, с отвращением оглядел залитый кровью двор и, покровительственно опустив тяжелую длань на голову старшего мальчика, хмуро помотал головой. Викинги неохотно опустили топоры, не осмеливаясь перечить суровому великану.
В дальнем конце лощины послышался смех – соратники исполина знали о его странной привычке сохранять жизнь малолетним детям, а потому прозвали его Барникель; впоследствии это прозвище станет фамилией далеких потомков великана.
Викинги разграбили подворье Портия, но дети остались в живых и испуганно забились в загон, ища тепла и утешения среди овец.
Пять дней жители Уилтона провели в дороге, скрываясь от викингов. По пути к беглецам присоединялись обитатели соседней деревушки Шафтсбери. Викинги не появлялись, и крестьяне, утратив страх, стали уходить из обоза в окрестные леса и долины. Эльфвальд пытался их отговорить, но элдормен Вульфгар заявил:
– Пусть убираются восвояси! Нам всех не прокормить.
Впрочем, жители Сарума не оставили своего тана.
Обозы достигли южной оконечности Сельвудского леса, за которым начинались болотистые равнины и плодородные красноземы Юго-Западной Англии. На пятый день беглецы подошли к древнему аббатству в Гластонбери – здесь, по утверждению монахов, был похоронен Артур, легендарный воитель кельтов. Вульфгар послал бойцов в разведку и заявил тану:
– Король скрывается где-то неподалеку.
На следующее утро обозы пришли в лагерь Альфреда на острове Этелни. На невысоком холме посреди болота стояли палатки, наскоро сооруженные хижины и камышовые шалаши. В лагере было сыро и холодно. Каждый день на подмогу беглому королю прибывали жители окрестных деревень. Люди Вульфгара, Эльфвальда и других танов усилили войско, а знатных господ сразу же отвели к королю.
Альфред, невысокий и щуплый, с детства отличался слабым здоровьем и всю жизнь мучился странными болями в животе, однако неукротимый нрав и проявленная в сражениях доблесть сделали его великим правителем.
Король радостно приветствовал танов и, устремив на них напряженный взгляд голубых глаз, горячо пожал им руки.
– Мои верные друзья, как я счастлив вас видеть! – воскликнул он и удрученно добавил: – Многие решили, что я погиб, ведь мы были совершенно не готовы к нападению.
Неожиданное появление викингов едва не сокрушило короля. Вот уже семь лет он пытался укрепить Уэссекс и привести в исполнение свои великие замыслы: выстроить храмы, восстановить монастыри и школы и возродить утраченную культуру латинян, которой в прошлые века по праву славились северные англосаксонские королевства Нортумбрия и Мерсия.
– Примером нам должны служить древние англосаксонские королевства и франкская династия, – убеждал король своих придворных.
И действительно, после упадка Римской империи двор франкского императора Карла Великого был средоточием культурных ценностей Западной Европы, и Альфред мечтал о подобном величии для Уэссекса. Однако постоянные набеги викингов на север Британии и нерасторопность ее южных правителей измучили жителей острова.
Уэссекс необходимо было во что бы то ни стало защитить от разорения свирепыми викингами, иначе все дерзкие замыслы Альфреда пошли бы прахом.
– Нужно укрепить города, создать флот и охранять побережье, – объяснял он танам. – А войско…
Англосаксонское войско, так называемый фирд, на деле являлось ополчением. Каждый тан обязан был послать на войну свободных земледельцев из своих владений, причем на строго определенное число дней в году; воины неохотно покидали свои подворья, и даже самые верные керлы часто оставляли службу, чтобы вовремя собрать урожай. Фирд не выдерживал столкновения с сильным противником и не был приспособлен для наступательных действий. Альфреду предстояло существенно преобразовать армию. Более того, в Уэссексе практически не было надежных крепостей – первыми оборонительными сооружениями англосаксов стали недавно возникшие города-бурги, обнесенные крепостными стенами. По замыслу Альфреда бурги должны были сетью покрыть всю территорию королевства, так чтобы любой поселок находился не далее чем в двадцати милях от крепости.
– На каждом отрезке крепостной стены должны находиться четыре защитника, то есть один воин на каждые пять футов, – настаивал Альфред. – Значит, необходимо наделить каждый бург землей для пропитания воинов, из расчета одна гайда на человека.
Так была заложена система земельных наделов для укрепленных саксонских городов. Уилтону, окруженному стенами в милю длиной, полагалось 1400 гайд земли.
Альфред также намеревался заложить флот, состоящий из быстроходных шестидесятивесельных кораблей, однако неожиданное вторжение викингов посреди зимы разрушило все его замыслы.
– Вот я и прячусь тут, в болотах, как преступник, – жаловался он танам, прибывшим из Сарума.
В лагерь все чаще и чаще приходили дурные вести: викинги свирепствовали на всей территории Уэссекса.
– Поделят они Уэссекс между собой, как Мерсию, – пробурчал элдормен Вульфгар. – И во всей Британии установят Данелаг.
Эльфвальд особой приязни к элдормену не испытывал, однако понимал, что если англосаксы не дадут отпор викингам, то королевство Уэссекс исчезнет навсегда.
– Весной поднимем людей и пойдем в наступление, – уверенно пообещал король Альфред.
Через два дня Эльфвальду сообщили, что Эльфвин и Озрик погибли в разоренном викингами Твайнхеме. Тан отыскал семью плотника и как мог утешил их. О мерзком обращении Эльфвина с Озриком никто так и не узнал.
– Мы отомстим за Эльфвина, – сказал Эльфвальд сыновьям. – И за Озрика, и за родных Порта.
Прошло три недели. Холода не отступали, однако на болота прибывали все новые и новые люди, и в душе Эльфвальда затеплилась надежда.
В королевской палатке постоянно толпились таны и элдормены. Король Альфред ничем не выказывал отчаяния и настойчиво возвращался к обсуждению дел первостепенной важности.
– Вот, поглядите, – говорил он танам, указывая на стопку книг на столе. – Мои наставники читают мне историю нашего народа, написанную больше столетия назад Бедой Достопочтенным. Великий был человек! В наше время таких нет. А я так надеялся… – печально вздохнул король и пылко продолжил: – Однако, друзья мои, не следует отчаиваться. Я черпаю утешение в трудах Боэция[19]. Когда-нибудь я переведу их с латыни на родной язык… – Он с улыбкой поглядел на Эльфвальда. – Так что поскорее учись читать!
В «Утешении философией», труде четырехсотлетней давности, написанном знаменитым римским философом перед казнью, утверждалось, что душевного покоя можно достичь, лишь устремив ум к вечной, божественной истине, что нашло отклик среди многих христиан; труды Боэция, наряду с трактатами Августина Блаженного, определили развитие философской и богословской мысли в Средние века.
– Для развития ума весьма полезно изучение трудов Боэция и Августина, и всякий должен знать «Правду Ине»[20], – часто говорил король Альфред. – Только ученость поможет нам превозмочь трудности.
К середине февраля нехватка еды в лагере стала ощутимой. Охотники ежедневно уходили на поиски провизии, но возвращались ни с чем. Тогда Эльфвальд решился на отчаянный поступок.
Отправив из Уилтона по реке лодки с королевскими и монастырскими ценностями, тан даже не надеялся, что они сумеют уйти от викингов, однако Тостиг и младший сын тана, Эльфрик, провели шесть лодок по рекам и прибыли в лагерь Альфреда всего через три дня после прихода туда обозов. Все ценности удалось спасти.
Лазутчики сообщили, что отряды викингов стоят по всей долине Уайли, но во владениях тана в Саруме неприятеля нет.
Однажды утром Эльфвальд позвал к себе раба и объяснил ему свою задумку.
Тостиг, узколицый и остроносый, с близко посаженными глазами и длинными сальными волосами, производил неприятное впечатление; тощие руки и длиннопалые ладони делали раба похожим на муху-поденку, кружащую над рекой. Раб угрюмо молчал, слушая хозяина, и не отрывал взгляда от земли. Впрочем, Тостиг всегда выполнял приказания и постоянно снабжал кухню тана свежей речной рыбой.
– Как по-твоему, получится у тебя или нет? – спросил Эльфвальд.
– Наверное, – буркнул Тостиг, не поднимая глаз.
– Возьми в помощники, кого пожелаешь. Эльфстан или Эльфрик с удовольствием с тобой пойдут.
– Нет, они только мешать будут, – упрямо помотал головой раб.
– Ну, как хочешь. Удачи! – пожелал тан, и на этом разговор закончился.
Вечером Тостиг и его семейство в молчании столкнули шесть лодок в реку и уплыли. Тан решил, что больше никогда их не увидит.
Через десять дней раб вернулся. Ему удалось незаметно провести лодки по рекам мимо всех стоянок викингов, под покровом ночи проплыть мимо Уилтона и без труда добраться по Авону во владения тана. Сарумские кладовые не разграбили, и Тостиг, выполняя повеление Эльфвальда, нагрузил лодки съестными припасами и так же неприметно отправился назад на Этелни.
Тан пригласил короля на берег, и по лицу Альфреда расплылась довольная улыбка.
Из лодок выгрузили десять бочонков меда, две сотни голов сыра, сорок мешков муки, кувшины эля, двести фунтов корма для скота и двадцать бараньих туш.
– В этом году я сам тебе феорм доставил, – гордо объявил Эльфвальд.
Альфред захохотал, хлопнул верного тана по плечу и едва не разрыдался от избытка чувств – подумать только, Эльфвальд вспомнил про феорм даже в то время, когда стране грозила страшная опасность!
Феорм представлял собой англосаксонскую разновидность полюдья, когда король с дружиной объезжал владения своих вассалов и собирал натуральную дань: зерно, муку, скот, мед, воск, шкуры и прочее.
– Ничего, тан Эльфвальд, еще наступит день, когда король Уэссекса сам к тебе за феормом явится, – вздохнул Альфред и повернулся к Тостигу. – С этой минуты ты свободный человек. Я возмещу твоему тану стоимость выкупа.
Раб угрюмо отвесил почтительный поклон, но не произнес ни слова.
Однако больше всего Эльфвальд обрадовался, увидев в последней лодке двух ребятишек.
– Зовите Порта, скорее! – крикнул тан со слезами на глазах.
Вечером дети рассказали отцу, что несколько недель прятались в овечьем загоне, а потом – в опустевших палатах тана и что жизнь им спас седобородый великан по имени Бар-ни-кель.
Битва при Эдингтоне состоялась весной 878 года. Хотя в битве участвовали скромные силы англосаксов, ее значение для последующей истории страны ничуть не уступает битве при Гастингсе, разгрому испанской Армады или битве за Англию.
К началу весны в лагере Альфреда остро ощущалось напряженное ожидание. Король разослал лазутчиков следить за действиями викингов и отправил гонцов за подкреплением. В конце марта пришло известие, что дружина, отправленная королем на юго-запад, собрала значительные силы и одержала победу над викингами, прибывшими к берегам Уэльса на двадцати трех кораблях. Англосаксонские воины уничтожили тысячу бойцов неприятеля. Весть о первом успехе воодушевила обитателей лагеря. Сыновья тана рвались в бой с врагом.
– Давайте нападем на Гутрума прямо в Чиппенгеме, – требовал Эльфстан. – Зададим ему трепку!
Король Альфред в бой не торопился: слишком долго сражения с викингами чередовались временным перемирием, выплатой данегельда[21] и кратким отступлением врага.
– На этот раз викингов надо разбить окончательно и бесповоротно, – настаивал Альфред.
Гонцы приносили вести, что окрестные таны готовы примкнуть к королевской дружине.
На Пасху все обитатели лагеря собрались в поле, где установили высокий деревянный крест. Уилтонские монахини и монахи из свиты короля отслужили праздничное богослужение, а затем Альфред встал у креста и обратился к толпе:
– Да поможет нам Господь изгнать проклятых викингов из Уэссекса!
Однако, прежде чем выступить в поход, тан Эльфвальд столкнулся с непредвиденной трудностью: Эльфгива тоже собралась на войну с викингами.
Стычка дочери с викингами в Саруме весьма обеспокоила тана; по возвращении Эльфгивы он отправил ее в повозку к матери, а в лагере девушка смиренно помогала по хозяйству, убирала и готовила еду.
– Дочь моя удержу не знает, – признался тан Альфреду, – но отцовской воле подчинится.
Однако же пасхальным вечером Эльфгива заявила отцу:
– Я тоже буду сражаться с викингами.
– Женщинам воевать негоже, – сурово ответил Эльфвальд.
– Ну и что? – упрямо возразила она.
– Останешься в лагере! – велел тан. – И больше я говорить об этом не желаю.
– Я не хуже любого воина, – сказала Эльфгива.
Эльфвальд разгневался и вперил в дочь грозный взгляд. Да как она смеет ему перечить! Впрочем, втайне он гордился необычайной силой и доблестью дочери, однако опасался насмешек своих знатных соотечественников – девице так себя вести не пристало.
– Останешься в лагере! – повторил он и отвернулся.
На следующее утро, когда к Эльфвальду пришли сыновья, он разгневался еще больше.
– Эльфгива никогда не подведет, а в бою от нее больше толку, чем от иного воина, – сказал Эльфстан.
– А если ее убьют? – раздраженно спросил отец.
– Ты же знаешь, она своего всегда добьется, а коли суждено ей погибнуть от меча викинга, так лучше в честном бою.
С этим согласился даже старший сын тана, рассудительный Эльфрик.
– Еще бы ему не согласиться! – рассмеялся Эльфстан. – Эльфгива пригрозила, что руку ему сломает, если он сестру не поддержит.
Эльфвальд понял, что спору следует немедленно положить конец.
– Приведите ко мне Эльфгиву, – велел он. – О сражениях и речи быть не может. А если станет упираться, приставлю к ней стражу.
Братья смущенно переглянулись.
– Она уже сбежала из лагеря, – признался Эльфрик. – Сказала, что, если ты ей запретишь, она тайком за нами последует. Но если ты вдруг передумаешь, то мы дадим ей знать.
Эльфвальд ошеломленно посмотрел на сыновей:
– А почему вы ее не остановили?
– Как же, остановишь ее! – ухмыльнулся Эльфстан. – Она первой меч ухватила.
Поначалу тан не находил слов от возмущения, а потом смирился и вздохнул:
– Надо мной все войско будет смеяться. Ладно, передайте ей, что я разрешил ехать с нами.
Спустя несколько дней королевское войско отправилось в поход. Для охраны лагеря оставили небольшой отряд, и Эльфвальд велел Порту примкнуть к стражам.
– Позволь мне пойти с вами! – взмолился однорукий овчар. – Я поклялся отомстить врагам за жену.
Тан со вздохом кивнул. Жена Эльфвальда и настоятельница монастыря возглавили женскую общину лагеря. Женщины обзавелись оружием, и даже Эдита гордо потрясала копьем.
Все ценности погрузили на лодки, и Тостиг по приказу тана должен был спрятать их в Саруме. Рыбак, с напряжением упираясь длиннопалыми ступнями в берег, столкнул лодку в бурную реку. На англосаксонских воинов он не обращал внимания, и тану стало любопытно, о чем он задумался.
Поначалу спутники тана посмеивались над свитой Эльфвальда: всего три воина, один из которых – женщина.
– Ха, защитница выискалась! – язвительно воскликнул один.
– Викингам будет не до смеха, – уверенно возразил его приятель.
Тан, слушая такие разговоры, втайне гордился своей храброй дочерью.
Королевское войско собиралось на опушке Сельвудского леса, в двух днях пути от Этелни. Эльфвальд надеялся, что и остальные уэссекские таны сдержат свое обещание и пришлют королю подкрепление. Он едва не вскрикнул от радости, когда увидел у леса огромную армию.
Англосаксонское ополчение двинулось на север, на битву с захватчиками.
На следующий день в пятнадцати милях к югу от Чиппенгема англосаксов встретила языческая армия Гутрума. Шлемы викингов грозно блестели на солнце. Королевское войско приготовилось к наступлению. Рядом с Эльфвальдом стояли его дети – Эльфрик справа, Эльфстан и Эльфгива слева, а Порт занял место за спиной тана.
– Это наш последний бой! – воскликнул Эльфвальд.
Для сражения выбрали широкую равнину, часть которой занимала пашня. Над вспаханной землей летали во́роны. Внезапно Эльфвальда охватила уверенность в победе – англосаксонское ополчение защитит свои земли.
Битва продолжалась долго. Викинги ожесточенно сражались, но англосаксы не отступали, отстаивая свою независимость, и раз за разом бросались в кровавую сечу, под устрашающие боевые топоры неприятеля.
«Как волны морские», – подумал Эльфвальд.
Король Альфред бесстрашно ринулся в самую гущу битвы, и англосаксонские воины, вдохновленные его примером, умножили усилия и стали теснить врага.
Эльфстан с сестрой доблестно бились бок о бок. Юноша хмуро вглядывался в лица врагов и наконец увидел того, кого искал, – высокого викинга с рябым, изрытым оспой лицом, насильника и убийцу жены Порта. Эльфстан рванулся к негодяю, но тут неприятели заметили Эльфгиву.
– Саксонка-воительница! – раздался крик.
Враги тесным кольцом окружили брата с сестрой, горя желанием сразить дерзкую девушку. Англосаксонские воины ринулись на помощь.
– Эльфгива! – вскричал Эльфрик, ведя небольшой отряд на подмогу.
В пяти ярдах от Эльфстана рябой викинг заметил пристальный взгляд сакса и занес топор над головой, но юноша стремительно взмахнул мечом и рассек врага пополам, отомстив за поруганную честь жены Порта.
Тем временем овчар сражался с небывалым мужеством. Он прикрепил к искалеченной руке круглый щит, а левой искусно разил неприятеля коротким легким мечом.
– У тебя левой рукой лучше получается! – крикнул Эльфвальд.
Порт, ни на шаг не отходя от господина, прикрывал его со спины, когда Эльфвальд бросался в самую гущу сражения, или живым щитом заслонял слева.
Викинги, дрогнув, перешли к отчаянной обороне, и тут Порту представился случай доказать свою доблесть. На Эльфвальда с обеих сторон набросились два свирепых викинга. Тан взмахнул мечом, но оскользнулся и упал. Порт прикрыл его своим щитом, однако мощный удар разнес деревянные плашки в щепу. Викинг занес топор над Эльфвальдом, и Порт, не раздумывая, подставил здоровую руку под сверкающее лезвие. Топор с хрустом разрубил кость. Эльфвальд, вскочив на колено, вонзил меч в сердце противника, а потом торопливо отволок Порта в сторону.
Овчар выжил, хотя левую руку ему отрубили по локоть.
Вскоре викинги отступили. Спустя час Альфред провозгласил победу в сражении. Гутрум увел войско в Чиппенгем, а англосаксы окружили город.
Эльфвальд перевязал страшную рану Порта, сыновья тана спешно соорудили носилки и отнесли овчара в лагерь. Вскоре о подвиге Порта узнали все.
– Порт принес мне клятву верности и с честью сдержал слово! – провозгласил Эльфвальд.
– Овчар сражался благородно, – согласились остальные таны.
Порт слабо улыбнулся, однако его мучила мысль: «Как жить безрукому?»
На закате младший сын тана вернулся на поле боя, разыскал среди трупов тело рябого викинга и за полчаса, ловко орудуя острым ножом, содрал с него кожу, туго свернул ее и приторочил к седлу. Юноша со своей страшной ношей поехал в деревянную часовню у Чиппенгема, где, по древнему обычаю саксов, прибил кожу врага к двери.
Осада Чиппенгема продолжалась две недели. Наконец Гутрум попросил пощады и дал обещание навсегда уйти из Уэссекса, а спустя неделю вместе с тридцатью своими соотечественниками приехал к Альфреду на остров Этелни и там обратился в христианскую веру; его крестным отцом стал сам король.
Спустя несколько дней после поражения Гутрума Альфред созвал своих танов в чистом поле и щедро наградил воинов, отличившихся в битве.
– Где Порт? – спросил король.
К нему подвели безрукого овчара.
– Этот кельт сражается благородно, как настоящий сакс, – провозгласил Альфред и, с улыбкой взглянув на Эльфвальда, продолжил: – Поэтому с сегодняшнего дня я объявляю его таном.
На глазах всей свиты король обнял ошеломленного Порта, а потом кивнул двум монахам, которые тут же выступили вперед, развернув длинные пергаментные свитки – королевские дарственные грамоты, ведь по англосаксонским законам тану полагались земельные владения. Обычные поместья облагались повинностями, однако король мог пожаловать и особые земли – бокленд, – освобожденные от большей части податей, в том числе от феорма, хотя их владелец по-прежнему должен был поставлять воинов в ополчение и содержать в порядке дороги, мосты и укрепления.
– Тан Порт, наделяю тебя боклендом! – торжественно изрек король.
Овчар раскраснелся от удовольствия. Монах начал читать грамоту на латыни и переводить ее на англосаксонский:
– Именем Вседержителя, Творца и Спасителя нашего, Всемогущего Господа, я, Альфред, милостью Божией король англосаксов, настоящей грамотой отдаю и жалую Порту поместье на моих землях в вечное и наследственное владение…
Порт задохнулся от радости – он стал владельцем собственного имения, настоящим таном!
Монах тем временем продолжал читать:
– И подтверждаю, что владения эти, жалованные моему дражайшему и любезному подданному от щедрот моих, составляют двадцать гайд земли у реки Авон, с севера прилегающих к владениям тана Эльфвальда…
Двадцать гайд! Теперь Порт – состоятельный человек и сможет не только купить для сестры золотое распятие, но и осыпать его самоцветными камнями. Монах начал описывать границы владения, и овчар напряженно вслушивался в каждое слово – местность была ему хорошо знакома.
– …в пойме реки и на излучине, включая заливные луга до старого дерева, а затем к северу, от граничной межи до холма, и к западу вдоль насыпи, включая место, называемое подворьем Одды, и луг для выпаса шести волов…
– Погодите! – воскликнул овчар.
Монах ошеломленно умолк.
– Там не шесть волов, а восемь, – заявил Порт.
Альфред с любопытством посмотрел на овчара и улыбнулся:
– Точно восемь?
Порт кивнул.
По знаку короля монах внес в грамоту поправку и продолжил:
– …и хозяйство, приносящее двадцать голов сыра, пятнадцать ягнят и руно с пятнадцати овец…
Порт помотал головой и объяснил королю:
– Не двадцать, а двадцать пять голов сыра.
Все вокруг расхохотались. Монах с усмешкой внес очередную поправку и торжественно огласил заключительные строки грамоты:
– …чтобы он владел и распоряжался поместьем, как ему будет угодно, свободно от всех повинностей, за исключением воинской службы и строительства мостов и укреплений. А тот, кто по дьявольскому наущению и ради мирской тщеты и соблазнов нарушит или уменьшит это пожалование в любой частности, малой или большой, то окажется отсеченным от всех добрых христиан и перед престолом Христовым в Судный день будет осужден на вечные муки в адовом огне с Иудой и прочими клятвопреступниками, ежели не пожелает должным образом возместить ущерб и дополнить наше пожалование.
Эльфвальд и остальные таны засвидетельствовали дарственную грамоту. Порт, оставшись без рук, однако же, обрел часть древних родовых владений.
Тану Эльфвальду король жаловал драгоценный перстень, ларец, осыпанный самоцветными каменьями, и богатое селение Шокерли, к северу-западу от Уилтона. Селение раскинулось на лесистых склонах холма между поймами рек Уайли и Наддер, в месте, именуемом Дубрава Гроувли. Название Шокерли происходило от саксонских слов «shocker» – сноп и «lee» – лесная опушка.
– Вы храбро сражались, – сказал Эльфвальд дочери и младшему сыну. – Эльфрику я завещал имение в Авонсфорде, а вам отдам Шокерли в совместное владение.
– И пусть ваши новые владения будут вечным напоминанием о чудесном спасении Уэссекса и о битве при Эдингтоне! – воскликнул король, обращаясь к присутствующим.
Еще одну памятку о славной победе англосаксов оставил не Альфред, а Эльфстан. Спустя несколько дней он позвал приятелей на холм неподалеку от поля сражения и объяснил им, что хочет увековечить подвиг сестры.
– Она тоже заслуживает почестей! – пылко воскликнул юноша.
Три дня подряд молодые люди старательно срезали дерн с мелового грунта, а потом вернулись в лагерь. На зеленом склоне холма осталось изображение белой лошади, сорок футов длиной, видимое и по сей день.
По возвращении на остров Этелни тану сообщили, что Тостиг исчез. Он ушел один, не предупредив никого из родных. Вместе с Тостигом пропали и доверенные ему ценности. Больше его не видели.
Впрочем, на этом беды Уэссекса не закончились: прежде чем во владениях короля Альфреда воцарился мир, предстояло еще много битв с викингами. К тому же элдормен Вульфгар после битвы при Эдингтоне перебежал на сторону неприятеля и скрылся в Данелаге.
Однако же Уэссекскому королевству больше не угрожало уничтожение. По велению короля построили бурги – укрепленные города, – монастыри и школы, а разрушенное Уилтонское аббатство восстановили. Король Альфред даже нашел время перевести любимые труды древних философов на англосаксонский.
Мало-помалу короли Уэссекса распространили свое влияние и на Данелаг – области, занятые викингами. Свирепые северяне обжились на насиженных местах и приняли христианство. Так постепенно возникло единое королевство.
Незадолго до Нормандского завоевания датскому королю Кнуду Великому удалось на короткий период сделать королевство частью своей империи, однако за этими областями уже закрепилось название Англия, а ее жители стали англичанами.
Все это произошло благодаря стараниям и рвению короля Альфреда в Уэссексе зимой и весной 878 года.
Крепость
1139 год
Неделю назад отпраздновали Пасху. На крепостной стене Сарисбери стояли двое. С плеч мужчины повыше ниспадал черный плащ с шелковым подбоем, скрепленный у горла золотой цепью; длинные каштановые кудри разделял прямой пробор, высокий лоб закрывала челка, на висках и в аккуратно завитой бороде серебрилась седина. Вытянутое лицо с орлиным носом пересекали глубокие морщины.
Ришар де Годефруа, нормандский рыцарь из захудалого рода, скривил тонкие губы в язвительной полуулыбке, глядя на своего спутника. Николас, приземистый каменщик в кожаной куртке, спросил на своем родном английском наречии:
– Милорд, а зачем епископ оружие в крепость привез?
Нормандский рыцарь не удостоил его ответом.
За полями начинался город Уилтон, где в мирные времена шериф вершил суд графства; к северу, в долине, раскинулось поместье Авонсфорд. Там три поколения назад обосновались предки рыцаря, и там, на землях уилтширского лендлорда Вильгельма Сарисберийского, и находилось ленное владение Годефруа.
Ришар де Годефруа устремил взгляд вдаль. Ярко светило солнце, теплый ветерок полнился весенними ароматами, но в обманчиво ясном небе ощущалось приближение дождя – так в невинном взгляде предателя кроется угроза.
– Милорд, может, он собирается выступить против короля? – не унимался каменщик.
Именно этого и опасался Ришар.
Нормандская крепость, грозная и неприступная, возвышалась над пятиречьем. Таких построек Сарум прежде не знал.
На самой вершине мелового холма, где некогда стоял древний дун, высилась куртина – внешняя оборонительная стена, сложенная из гладких булыжников. Внутри земляных валов дуна нормандцы насыпали высокий курган площадью почти в акр и обнесли его еще одной стеной, за которой и взметнулась к небесам огромная серая башня. Сооружение походило на складную подзорную трубу: от холма к куртине, от куртины – к внутреннему кургану, от кургана – ко второй стене и вверх, к оборонительной башне, увенчан ной зубцами. Когда в 1066 году Вильгельм Незаконнорожденный (впоследствии прозванный Завоевателем) и его разномастное войс ко – нормандцы, бретонцы и прочий сброд из Северной Европы – вторглись в Британию и покорили англосаксонское королевство, то такие нормандские крепости быстро возникли повсюду на ост рове. В отличие от англосаксонских бургов, нормандские укрепления были воистину неприступны. Поначалу башни строили из бревен, но в правление сыновей Вильгельма и его внука Стефана укреп ления стали возводить из камня. Крепость в Сарисбери, хотя и не самая большая, была знаменита тем, что именно здесь Вильгельму Завоевателю вручили подробную опись всех феодальных владений Англии – «Книгу Страшного суда». И именно в Сарисбери он созвал всех знатных землевладельцев, дабы они присягнули ему в верности и публично признали верховную власть короля; на этом собрании присутствовал и дед Годефруа. Между внешними и внутренними стенами крепости возник целый город: дома и хижины, хозяйственные постройки и даже величественный собор и резиденция епископа. Особняки, крытые черепицей, и лачуги, крытые соломой, теснились вокруг насыпного холма, где за прочными стенами высилась зловещая громада донжона.
Замок принадлежал королю. В отсутствие короля за его владениями присматривал шериф – так было в годы правления Вильгельма Завоевателя, так продолжалось и в годы правления его сыновей Вильгельма II Рыжего и Генриха, когда власть верховного правителя не подвергалась сомнению, а замок служил символом военной мощи и порядка. Однако четыре года назад английский престол занял племянник Генриха, Стефан. Несмотря на первоначальную поддержку знати и Церкви, вскоре выяснилось, что многие недовольны новым правителем. И вот теперь замок оказался в руках епископа, который с недавних пор начал пополнять запасы оружия.
Феодальный строй, сложившийся к этому времени в Европе, обладал рядом существенных недостатков. После распада Римской империи и могущественной империи Карла Великого языческие племена и отдельные роды завладели огромными территориями, которые впоследствии превратились в современные европейские страны. Король-сюзерен, обладающий значительной властью, повелевал сеньорами-лордами, однако мелкие феодалы постоянно враждовали между собой. Государства и нации как таковые еще не сложились. Европа представляла собой разрозненные владения, которые покупались, продавались, переходили по наследству или дарились в приданое. Даже не особо знатные семейства, как, например, род Годефруа, владели землями по обе стороны Дуврского пролива. Разумеется, феодальные отношения регулировались множеством законов, а Церковь время от времени объявляла христианские перемирия и требовала, чтобы землевладельцы прекращали распри, однако все это лишь приводило к бесконечным судебным разбирательствам и возобновлению жестокой резни.
Нормандские герцоги и графы пытались бороться с узаконенным хаосом вначале в Нормандии, а потом – с бо́льшим успехом – на территории захваченной Британии. Владения короля Гарольда теоретически оказались во власти герцога Вильгельма, который пожаловал своим соратникам отобранные у англосаксов поместья, но на условиях ленного права, то есть с обязанностью нести военную службу. В отдельных случаях монарх наделял своих верных сторонников особыми полномочиями, хотя сохранял за собой исключительное право вершить суд. Подобная централизованная система, созданная в Британии, прекрасно действовала в том случае, если монарх обладал существенной властью.
Стефан оказался слабым правителем, а его право на престол уже оспаривала императрица Матильда – дочь Генриха I и вдова германского императора Генриха V. Английским баронам это было выгодно: соперники стремились заручиться поддержкой как можно большего числа сторонников, что приносило баронам значительные преимущества. К весне 1139 года в стране зрело недовольство, грозящее перерасти в мятеж.
Самым мятежным среди недовольных был епископ.
– Он настоящий дьявол, милорд, – вздохнул Николас.
Годефруа сурово посмотрел на него, хотя втайне согласился с такой оценкой: он и сам опасался сурового епископа.
Рожер из нормандского города Кана, в прошлом – бедный священник захудалого рода, пользовался благосклонностью Генриха I. По слухам, король, отправляясь на охоту, заехал в часовню помолиться и поразился скорости, с которой священник читал службу. Вскоре Рожер стал канцлером Англии и фактически управлял страной. Несмотря на полагающийся священнослужителю обет целомудрия, Рожер не соблюдал предписаний о целибате, открыто жил с любовницей и имел незаконнорожденного сына, который впоследствии сменил отца на посту канцлера. По указанию короля Рожера избрали епископом Сарисберийским, а его племянники – Александр и Нигель – стали епископами Линкольнским и Илийским. Теперь во всей Британии не было равных Рожеру по богатству и влиянию.
К весне 1139 года он владел не только замком в Сарисбери, но и замками на юге страны – в Мальмсбери, Девизесе и Шерборне – и теперь спешно свозил в них оружие.
– Если король совершит ошибку, то в стране начнется междоусобная война, – недавно сказал Годефруа жене.
Ему, владыке Авонсфорда, война была совсем некстати. Он хмуро поглядел на коротышку-каменщика и ответил по-английски:
– Укрепи себя молитвой.
Нормандский рыцарь с уважением относился к каменных дел мастеру. Потомки Эльфвальда после поражения в битве при Гастингсе лишились своих земель. Их поместья были пожалованы знатному роду, главой которого сейчас был Вильгельм Сарисберийский, а Годефруа получили Авонсфорд в ленное владение. Смена господ не нанесла особого ущерба свободным крестьянам и ремесленникам – вилланам, таким как Николас. Они по-прежнему выплачивали дань своему лорду и подчинялись его решениям. Положение вилланов мало чем отличалось от положения керлов в правление Кнуда, Эдуарда Исповедника или Гарольда. Годефруа, суровые нормандские воины, не выказывали жестокости по отношению к своим вассалам и вскорости выучились объясняться с местными жителями на их родном английском наречии. Отец Николаса построил для семейства Годефруа особняк, и когда выяснилось, что сам Николас – отличный каменщик, Ришар позволил ему наняться на хорошо оплачиваемую работу в епископский замок и платить оброк звонкой монетой.
После вторжения нормандцев семья Николаса обзавелась прозвищем. Господа не утруждали себя запоминанием имен вассалов, поэтому обращались к Николасу и его отцу «масон», что на нормандском наречии означало «каменщик». Подобную манеру обращения переняли и жители Авонсфорда, называя мастера Николасмасон.
Коротышка-каменщик, желая обратиться с просьбой к господину, пристально поглядел на Годефруа и перевел взгляд на свои короткопалые ладони. Главное – угадать, в каком расположении духа находится рыцарь, и правильно выбрать время.
– Милорд, в поместье есть один виллан, – наконец произнес Николас. – Его зовут Годрик Боди…
Годефруа знал, о ком идет речь. Семнадцатилетний юноша был племянником Николаса, сыном сестры каменщика и местного рыбака. Его родители умерли, а из близких у мальчика остались лишь Николас и двоюродный брат отца, сомнительный тип.
– И что? – холодно спросил Годефруа.
Николас кашлянул, собираясь что-то сказать, но тут раздался пронзительный вопль.
Годрик Боди не верил своему счастью.
Во-первых, вчера его угостили мясом – редкое везение. Мясо было роскошью и лишь изредка перепадало вилланам и серфам; разве что случалось поймать кролика или два раза в год – в середине лета и в начале зимы – получить свою долю при забое скота. Николас, дядя Годрика, хоть и простой виллан, считался человеком зажиточным; мастер-каменщик получал в два раза больше обычного работника, и его родные не только регулярно ели мясо, но и угощали бедных родственников.
– Моя жена – как сочная груша, – гордо заявлял Николас, глядя, как жена, улыбчивая толстушка, хлопочет по хозяйству. – А дети – как наливные яблочки.
Румяные круглолицые ребятишки и впрямь походили на спелые плоды.
Годрик закрыл глаза, вспоминая вкус и запах солонины; рот его наполнился слюной, по унылому лицу расплылась счастливая улыбка.
Юноша был невысок и тщедушен, с впалыми щеками, острым носом и близко посаженными глазами; нечесаные рыжие патлы торчали в разные стороны. Тонкие руки с длинными пальцами были слишком нежны для тяжелой работы; к тому же Годрик родился калекой, с искривленным позвоночником – хорошо хоть не с уродливым горбом; голова на тонкой шее нелепо торчала вперед над приподнятыми плечами, за что в детстве его дразнили крысенышем. Родительской любви он не знал – мать не надеялась, что ребенок выживет, а отец презрительно называл недоноском.
Однако же Годрик вырос и стал старательным работником. К удивлению соседей, неуклюжий, рассеянный подросток оказался прекрасным резчиком по дереву. Когда мальчику минуло тринадцать, родители умерли, и он остался сиротой, мечтая в один прекрасный день добиться лучшей доли.
Во-вторых, сегодня его дядюшка Николас согласился замолвить за племянника слово перед лордом Авонсфорда – самому Годрику для этого не хватало смелости.
А в-третьих, он неожиданно стал свидетелем забавного происшествия на рыночной площади. В жизни Годрика было мало развлечений. Юноша ужом скользнул в толпу, собравшуюся под стенами замка, и пробрался в первые ряды зевак.
Посреди площади стояли две женщины. Одна из них, величественная толстуха в алом шерстяном платье, побагровела от гнева; презрительно суженные глаза превратились в узкие щелочки над румяными пухлыми щеками. Годрик, признав Герлеву, жену двоюродного дяди, Виллема атте Бригге, разглядывал ее с опасливым восхищением.
– Шлюха! Воровка! – выкрикнула толстуха с искаженным от ярости лицом и, помедлив, с отвращением добавила: – Батрачка!
Оскорблениями Герлева осыпала светловолосую миловидную женщину лет двадцати пяти, пухленькую и улыбчивую, в голубом платье, туго перехваченном поясом на тонкой талии, – жену Джона из Шокли.
Красотка беспечно тряхнула светлыми кудрями. Она и впрямь была батрачкой, наемной работницей у нормандского лорда, до тех пор пока не вышла замуж за свободного крестьянина-англосакса.
– Год и день, – со смешком ответила она.
Зеваки расхохотались. Все знали, что Виллем атте Бригге в юности сбежал из поместья Авонсфорд в прибрежный городок Твайнхем. По законам того времени считалось, что беглый виллан, не пойманный господином в течение года и одного дня, становился свободным человеком. Виллем решил стать кожевником – занятие малоприятное, потому что для дубления кожи использовались чрезвычайно вонючие и едкие составы, – и переселился в Уилтон, где из-за вспыльчивого нрава не снискал любви соседей. Его прозвали атте Бригге, потому что он построил себе дом близ деревянного моста на берегу реки.
– Твой муж – свободный человек, потому что Годефруа им брезгуют, – добавила красотка.
Вокруг раздались одобрительные возгласы – жители Авонсфорда с неприязнью относились к дубильщику.
Герлева взъярилась еще больше, с воплем бросилась на красотку, сорвала ей платье с плеча, повалила наземь и придавила своей тушей. От боли женщина заверещала, а толстуха продолжала осыпать ее оплеухами и драть за волосы. Бедняжка отчаянно отбивалась, царапала и пинала Герлеву. Никто из толпы в драку вмешиваться не собирался. Зеваки наслаждались развлечением. Годрик радостно потер узкие ладони, глядя, как на щеках Герлевы кровоточат глубокие царапины.
Распря между семействами Шокли и атте Бригге длилась уже несколько поколений. Когда потомки тана Эльфвальда лишились своих поместий, подворье Шокли в долине реки Уайли пожаловали настоятельнице Уилтонского монастыря. Аббатиса по доброте душевной позволила прежним обитателям Шокли стать испольщиками. Они любили напоминать всем в округе о древности и знатности своего рода, но по сути были скромными свободными крестьянами, мало чем отличаясь от зависимых вилланов. Дочь семейства из Шокли вышла замуж за горожанина из Уилтона и завела тяжбу с братом, утверждая, что исполье в Шокли завещано ей, а не ему. Настоятельница монастыря встала на сторону брата и присудила ему спорный надел, однако на этом дело не закончилось. Долгие годы горожанин с женой безуспешно пытались отсудить надел и даже обращались в высший суд, поэтому при составлении великой поземельной переписи, «Книги Страшного суда», было отмечено, что надел является предметом судебного иска. Горожанин с женой не забыли нанесенной им обиды; помнила о ней и их дочь, Герлева. Когда она вышла замуж за Виллема атте Бригге, упрямый и алчный кожевник поклялся, что отомстит семейству Шокли.
– Я до самого короля дойду, вот увидите! – не раз говорил он. – Вас с нашей земли сгонят!
Подобные судебные разбирательства годами отравляли людям жизнь; всякий раз, встречая кого-нибудь из Шокли, Виллем и Герлева набрасывались на них с оскорблениями. Словесные перебранки никого не удивляли, но до драки прежде не доходило. Дородная Герлева ткнула жену Джона Шокли в грязь лицом, разорвала ей платье на спине и замолотила кулаками, беспрестанно оглядываясь в поисках подходящего орудия.
Внезапно зеваки умолкли и почтительно расступились, пропустив в круг Ришара де Годефруа. За ним боязливо следовали мужья драчливых спорщиц. При виде нормандского рыцаря Герлева притихла и неловко поднялась с колен. Жена Шокли торопливо поправила разорванное платье.
– Вы нарушаете покой замка, – ледяным тоном произнес Годефруа. – Выбирайте – колодки или позорный стул?
Именно такое наказание грозило обеим драчуньям, если рыцарь уведомит о случившемся судебного пристава сотни или города. Вдобавок позорный стул, на котором женщин дурного поведения окунали в воду, представлял опасность для жизни – палач мог замешкаться и слишком долго продержать несчастную под водой. Жена Шокли задрожала от страха.
– Уведите своих женщин, – приказал рыцарь. – Если подобное повторится, обе предстанут перед судом. – Он обернулся к толпе и повелительно махнул рукой. – Расходитесь!
Джон Шокли поспешно увел свою жену, а кожевник, грозно сведя густые черные брови, посмотрел на Герлеву.
Виллем атте Бригге походил на своих предков-рыбаков, давних обитателей пятиречья, – их потомки до сих пор жили в Фишертоне и других селениях на берегах рек. Как и Годрик, Виллем был длиннопалым, с узким лицом, острым носом и близко посаженными глазами, однако на этом сходство заканчивалось. Высокий сухощавый кожевник был темноволос, жилист и очень силен; в черных глазах светилась жестокость. Сейчас он был зол – не оттого, что жена ввязалась в драку, а потому, что его самого выставили дураком. Герлева, побледнев от страха, робко посмотрела на мужа. Тот гневно зыркнул на нее и оглядел рыночную площадь.
Годрик так увлекся происходящим, что не заметил, как толпа разошлась. Виллем атте Бригге всегда ненавидел увечного племянника и сейчас, решив, что тот над ним смеется, злобно сверкнул глазами, огляделся по сторонам – не видит ли кто – и одним ударом свалил юношу с ног, а потом пнул раз-другой и убрался восвояси.
Годрик подождал, пока родич скроется из виду, медленно поднялся и с кривой улыбкой побрел к воротам замка, еле слышно шепча:
– За побои ты еще ответишь…
В тени ворот Джон Шокли спорил с женой. Годрику всегда нравилось семейство Шокли, и он снова подумал: «Виллем за все заплатит». Впрочем, он утратил бы всякую приязнь к ним, если бы слышал их разговор.
– Помирись с Герлевой, – настаивал крестьянин.
– Она первая начала, шлюхой меня обозвала! – возмутилась женщина.
– А ты не слушай, подставь другую щеку.
– Вот еще! Я лучше ей другую щеку расцарапаю!
– Надо с ними замириться, – умоляюще сказал Шокли.
Женщина считала, что муж проявляет слабость – не потому, что ему смелости не хватало, просто он ссор не любил, а при первом же признаке разногласий отводил голубые глаза, расстроенно чесал светлую бородку и шел на уступки. Угрозы Виллема тревожили Джона, постоянно напоминая об утрате фамильных владений, и каждый вечер он молил Бога, чтобы кожевник отозвал иск.
– Не гневи Виллема, – просил он жену. – Мы последнего имущества лишимся!
– Тоже мне, потомок танов! – фыркала она. – Ну почему ты такой трусливый?!
На самом деле Джону храбрости было не занимать – он невозмутимо останавливал разъяренного быка, однако перед кожевником робел, хотя и сам не мог объяснить почему. Джон Шокли любил свой надел и всегда старался избегать размолвок.
– Сходи к Герлеве, повинись, – попросил он жену.
– Нет, пусть Виллем первым к нам придет, – возразила она.
Годефруа вошел в церковь во дворе замка, между внешними и внутренними стенами. Как обычно, трехнефный храм с тяжелыми полукруглыми арками построили в форме простого креста, но епископ Рожер добавил к нему великолепные украшения.
В окна собора лился прохладный свет. Первая церковь, заложенная здесь сорок лет назад, пострадала от пожара, и Рожер начал возводить на ее месте новый храм. Именно здесь долгие годы трудился Николас и целая армия каменщиков; сейчас строители завершали укладку крыши. Годефруа оглядел толстые каменные стены, четкие полукружья высоких арок и удовлетворенно вздохнул; раздражение покинуло его.
Ришар подошел к скромному надгробию в северной стороне нового пресвитерия, опустился на колени и почтительно склонил голову, коснувшись камня. Здесь лежали останки Осмунда, первого епископа Сарисберийского, который и заложил храм. Ришар смутно помнил благородного седого старца, всегда окруженного детьми. Осмунд привнес дух святости в стены храма на пустынном холме, основал здесь школу и создал обряд богослужения, впоследствии получивший название сарумского чина, которым долгое время пользовались в большинстве приходов Англии. Годефруа чтил блаженного праведника и полагал кощунством назначение на его место злодея Рожера.
– Как мне спасти свою душу? – прошептал рыцарь.
Этим вопросом задавались все, от короля до последнего серфа. Повсюду шла война между силами добра и зла, Богом и дьяволом, духом и плотью. Завершится сражение лишь в Судный день, а до тех пор жизнь каждого – короля, рыцаря, горожанина или крестьянина и даже самого епископа Рожера – полнилась томительным ожиданием; всякий старался молитвой и покаянием искупить свои грехи, дабы избежать после смерти вечных страданий в геенне огненной.
Однако же Церковь считала, что нормандские рыцари могут искупить грехи и другими способами – к примеру, передать Церкви свои владения или отправиться в Крестовый поход к святым местам. Во времена папы Урбана II дед Годефруа отправился освобождать Гроб Господень от язычников. Ришар с завистью вспоминал рассказы деда о тяготах пути и доблестных подвигах в далеких краях, под палящим солнцем. Любые упоминания о славных приключениях будоражили воображение рыцаря.
Впрочем, его обуревало не только желание прославиться – в Ришаре де Годефруа жила неистребимая тяга к путешествиям, к завоеванию новых земель. Объяснялась она просто: нормандские завоеватели Британии были потомками датских викингов, которые вторглись на территорию Северной Франции всего полтора сто летия назад. Беспокойный нрав гнал нормандских рыцарей в дальние странствия. В Италии отряды нормандских наемников захватили огромные территории, стали ярыми сторонниками папы римского и правили Сицилией. Боевые корабли нормандцев бороздили простор Средиземного моря. Рыцари обзаводились обширными владениями на побережье и отправлялись все дальше и дальше на юг, огнем и мечом прославляя Христианскую церковь. Так некогда их предки, викинги, странствовали по северным морям, и славных воинов хоронили вместе с их грозными кораблями, чтобы они могли пройти по мосту душ к своим доблестным предкам, на пир среди языческих богов. В крови Ришара де Годефруа по-прежнему обитал неукротимый дух северных искателей приключений.
Если рыцарь отправлялся в Крестовый поход и храбро сражался во славу Божию, то ему отпускались все грехи. Чего еще желать? Увы, Ришару де Годефруа не повезло – Крестовых походов пока не созывали. Оставалось только одно – отправиться паломником в Святую землю.
Долгие годы Ришар де Годефруа заботился о жене и троих детях. Теперь поместье приносило доход, и рыцарь снова возмечтал о дальних странствиях.
– Мне скоро пятьдесят, – прошептал он. – Времени почти не осталось…
И надо же такому случиться, чтобы именно сейчас неразумный король, окруженный влиятельными советниками, решил ввязаться в междоусобные распри. Если начнется гражданская война, Годефруа не сможет бросить семью на произвол судьбы. А его сюзерен, Вильгельм Сарисберийский, вряд ли позволит своему вассалу отправиться даже в Италию, а тем более – в Святую землю.
Полчаса рыцарь провел у гробницы Осмунда – не за молитвой, а за размышлениями, – но так и не решил, как ему поступить. Наконец он поднялся и медленно вышел из храма.
У церкви Николас почтительно дожидался своего господина. Годефруа холодно улыбнулся, вспомнил разговор на крепостной стене и, не желая выслушивать долгих объяснений, отрывисто спросил:
– Что там с твоим племянником?
Наутро Годрик вышел в залитые солнцем поля. Похоже, жизнь налаживалась: дядя обещал замолвить за него слово, а побои Виллема не оставили следов. Юноша ласково потрепал по загривку тощего приблудного пса – черного, с рыжими подпалинами и блестящими черными глазами. Годрик звал его Гарольдом и считал ищейкой.
– Мы с тобой за все отплатим Виллему, – с хитрой улыбкой сказал юноша.
Впрочем, как это сделать, он не знал. Следовало соблюдать осторожность – неделю назад деревенский староста предупредил Годрика:
– Ты не шкодничай! Мы за тобой следим.
Жители каждой деревни избирали двенадцать мужчин, в обязанности которых входило следить за порядком в общине и карать за мелкие преступления. Если же преступник сбегал, то им приходилось платить штраф в королевскую казну. Годрик приворовывал по мелочи и иногда недодавал оброка, поэтому наказание его не пугало – староста часто придирался к беспомощному, хилому юноше.
Годрик вел весьма унылое существование. Имущества у него почти не было. Староста, самый важный человек в деревне, владел целой гайдой земли – многочисленными наделами, разбросанными по двум широким полям у Авонсфорда, называвшимся Рай и Чистилище. Семейству Николаса принадлежала виргата, четверть гайды – тридцать акров, – а еще у них было сорок голов овец, которые паслись на общинных угодьях. У бедняги Годрика было всего два акра на чересполосной пашне. После смерти отца Годрику пришлось платить лорду гериот – плату за вступление в наследство, – и Годефруа забрал лучшую из трех тощих коров. Вдобавок Годрик должен был четыре дня в неделю работать на господских землях – собирать урожай, таскать навоз, пропалывать сорняки; обычно этим занималась вся крестьянская семья, но у Годрика не было родных. На Пасху он обязан был подарить священнику дюжину яиц, а после сбора урожая – отдать в церковь десятину зерна. В одиночку Годрик с трудом управлялся с хозяйством; ему нужно было обзаводиться семьей. Мать с жалостью глядела на тщедушного калеку, понимая, что жены ему не найти.
Впрочем, Годрик не отчаивался – у него уже была невеста на примете. Младшая дочь кузнеца, косоглазая Мэри, в детстве переболела какой-то хворью, оставившей глубокие оспины на лице. Девушка выросла щуплой, а косоглазие придавало ей подозрительный и несчастный вид. Кузнец заметил, что Годрик к ней приглядывается, и возражать не стал – лучшего жениха ей все равно не сыскать. Мэри неохотно принимала ухаживания юноши и пару раз даже позволила ему взять ее за руку. Годрик с вожделением глядел на два бугорка, едва наметившихся на груди тринадцатилетней девушки под грубой холстиной платья, и думал, что к осени уж точно осмелится их пощупать.
На Пасху кузнец сказал жене и дочери, что Годрик хоть и увечный, но будет хорошим мужем, недаром Господь наградил его умением резать по дереву. Особенно хорошо у Годрика выходили пастушьи посохи, с резными набалдашниками в виде барсуков, овец и лебедей. Годефруа заказал ему резные панели для господского дома – манора – и хорошо заплатил за работу, однако от нищеты это не спасало.
– Задохлик он, – вздохнула жена кузнеца. – Трудно ему в полях работать. Вот если бы он пастухом был…
Именно об этом Годрик и мечтал всю жизнь. Улучив свободную минутку, он уходил на взгорье, где паслись овцы, беседовал с пастухами и помогал им, чем мог. На пастбище от него было больше толку, чем на пашне. Летом пастуху ежедневно полагалась миска пахты, горшок молока по воскресеньям, один ягненок после отела и руно одной овцы после стрижки. Об этом одолжении и просил Николас своего господина.
– Возьмите Годрика в пастухи, милорд, – умолял он Годефруа. – Я за него ручаюсь.
Ришар де Годефруа обещал подумать, но определенного ответа не дал.
– Ну, он же не отказал, – успокоил Николас племянника.
В Хоктайд, через неделю после Пасхи, в деревне забот хватало. Общинных овец отгоняли на господские пастбища до самого дня святого Мартина в ноябре, чтобы стада удобрили поля навозом. Все утро Годрик помогал вилланам строить на холмах загоны для овец, а в полдень его позвали на пашню вести по полю четверку волов, впряженных в тяжелый плуг, – надо было оборотить участок под паром. Впрочем, когда Годрик закончил работу, до сумерек было еще далеко. Юноша обрадованно вернулся в деревню, кликнул пса и пошел в долину.
Там ему подвернулся случай отомстить Виллему.
В долину Годрик отправился без всякой цели, лишь бы не оставаться в деревне, где староста наверняка нашел бы для него занятие. День выдался ясный и теплый, пес весело бежал впереди, и юноша, обогнув крепостную стену, устремился на восток, в лесистую лощину.
Он прошел с милю и внезапно сообразил, что неосмотрительно проник на запретную территорию – в Кларендонский лес, заповедные владения короля.
Королевские леса занимали почти пятую часть Англии, а Сарум находился в центре одного из них. К востоку, между реками Уайли и Наддер, простиралась древняя Дубрава Гроувли, а с севера на юг, как и во времена короля Альфреда, широкой полосой протянулся Сельвудский лес. На юго-западе, где еще виднелись заросшие травой остатки древней римской дороги в Дорчестер, темнел дремучий Кранборн-Чейс, королевские охотничьи угодья. Однако самый большой лесной массив на юге Британии раскинулся к востоку от пятиречья – сорок семь квадратных миль глухих чащоб и заповедных дубрав, от северо-восточной оконечности Солсберийской возвышенности до самых берегов пролива Те-Солент. В Средние века отдельные его части получили названия, сохранившиеся до наших дней: Савернейкский лес на севере, Кларендонский лес – у деревни Бритфорд, неподалеку от Сарума, Новый лес, или Нью-Форест, – на побережье. Встречались в нем и непроходимые чащи, и широкие поляны, заросшие сочной травой, вполне пригодные для выпаса скота. Все в лесу – и деревья, и трава, и ягоды, и звери, и птицы – принадлежало королю и считалось королевскими охотничьими угодьями.
Заповедный лес охранялся строгими законами: за срубленное дерево сурово наказывали, а собирать хворост и валежник, равно как и пасти скотину, можно было лишь по особому разрешению королевских лесничих, за которое надо было платить. Позволялось ловить мелкую дичь и птицу – зайцев, лис, белок, куропаток, фазанов и вальдшнепов, – а за убитого оленя незадачливый охотник лишался жизни.
Годрик с ужасом вспомнил, что у пса не удалены три когтя на передних лапах – серьезное нарушение лесного права. Юноша мечтал, что Гарольд станет настоящим пастушьим псом, упорно учил его загонять овец и не хотел калечить. Он поспешно подозвал к себе пса и собрался уходить, но через сотню шагов замер.
Среди деревьев задумчиво брел лесник; на сей раз он не выискивал злоумышленников-браконьеров, а размышлял, как исправить ошибку, вкравшуюся в грамоту, которую следовало предоставить королевскому лесничему. Лесник Эдвард ле Портьер слыл человеком требовательным и скрупулезным – впрочем, его чаще называли дотошным и придирчивым – и обладал немалой властью в округе. Когда нормандцы вторглись в Англию, дед Эдварда, старый Порт, к немалому недовольству остальных танов, объявил, что поддерживает Вильгельма, коль скоро Завоеватель сражается под христианскими знаменами и с одобрения папы римского.
Местные жители считали его предателем, однако Вильгельм пожаловал семейству богатые угодья. О римских предках Порты давно забыли, хотя имя сберегли, изменив его на нормандский лад – ле Портьер, а отец Эдварда и сам Эдвард стали лесниками-агистерами; в их обязанности входил сбор платежей за выпас скота в королевских лесах.
Худощавый, темноволосый и круглолицый Эдвард отличался серьезным нравом, шуток не понимал и говорил с писклявой хрипотцой. Сейчас он стоял в пятидесяти шагах от Годрика.
Юноша, спрятавшись за толстым стволом древнего дуба, сжал морду псу и затаил дыхание. Ле Портьер на миг остановился в раздумье, а потом пошел дальше. Годрик долго не двигался с места. Гарольд терпеливо сидел рядом.
Наконец юноша собрался уходить, но тут из чащи вышла свинья, взрывая пятачком палую листву. На округлом свином боку красовалось клеймо Виллема атте Бригге. Кожевник держал полдюжины свиней и платил за их выпас в королевском лесу. Тут-то Годрик и сообразил, как отомстить Виллему за побои и бесконечные унижения. Годрик погладил пса, показал на свинью и велел:
– Следи!
Три дня спустя, на закате, Годрик Боди пришел к кузнецу и пригласил Мэри на прогулку. Девушка хмуро поглядела на него, кивнула и вышла из дому. Годрик без спросу схватил ее за руку и повел к пашне. Гарольд весело бежал рядом. В поле уже зеленели первые всходы, но к вечеру тянуло прохладой.
Годрик нерешительно обнял девушку за плечи:
– Ты тайны хранить умеешь?
– Смотря какие, – равнодушно ответила она.
Он ничего не сказал, и молодые люди повернули к деревне.
– Что у тебя за тайна? – не выдержала Мэри.
– Сейчас увидишь, – с запинкой сказал он.
Убогая лачуга юноши стояла на самой окраине поселка. Над соломенной крышей вился тонкий дымок. В дверях Мэри нерешительно замерла.
– Входи, не бойся, – улыбнулся Годрик.
Перегородка разделяла хижину на две части – передняя половина, с земляным полом, служила курятником и сараем, где хранились нехитрые сельскохозяйственные орудия, плетеные щиты для изгороди и деревянные колья. В задней половине пол был устлан сухим камышом, а посреди комнаты, под дырой в крыше, горел огонь в очаге. В дальней стене проделали небольшое оконце, закрытое тонким промасленным листом пергамента.
На вертеле над очагом жарилась свинина. Девушка жадно вдохнула лакомый запах – мяса она не пробовала вот уже месяц.
– Хочешь? – тихонько спросил Годрик.
– А ты где взял? – опасливо спросила она, стараясь не поддаться соблазну.
– Где надо, там и взял. Хочешь или нет?
Видя, что она застыла в нерешительности, Годрик неторопливо отрезал острым ножом большой кусок свинины. Мэри медленно подошла к деревянному табурету у очага и без сил опустилась на сиденье. Свинина была съедена без остатка.
Годрик серьезно взглянул на Мэри и спросил:
– Ты никому не скажешь?
Она отвела глаза. Молодые люди прекрасно понимали, какой опасности подвергался Годрик: если узнают, что он незаконно раздобыл кусок мяса, то в наказание ему придется выплатить невероятную сумму денег, а за воровство могли и повесить.
Мэри помотала головой.
– Никому не говори, – напомнил Годрик.
Девушка кивнула и направилась к двери.
– У меня еще есть, – шепнул Годрик, следуя за ней.
– Где?
– В надежном месте припрятано.
Он проводил ее до хижины кузнеца и на пороге поцеловал в щеку. Мэри не возмутилась.
Годрик медленно побрел домой, радуясь, что их с Мэри объединила причастность к тайне.
День летнего солнцестояния, праздник середины лета, Ришар де Годефруа начал с краткой, но важной встречи с Джоном Шокли.
Крестьянин уже несколько раз обращался к рыцарю за советом, как заставить Виллема атте Бригге отозвать судебный иск о наследстве. Годефруа полагал волнения Джона Шокли излишними, но терпеливо выслушивал его и рассудительно говорил:
– Не показывай ему, что боишься. И ради бога, усмири жену.
Однако сегодня Ришар де Годефруа сам послал за крестьянином, а поручение касалось жены рыцаря.
К середине лета политическая ситуация в Англии стала чрезвычайно напряженной. Неделю назад франкский торговец в Твайнхеме, небольшом укрепленном порту, рассказал рыцарю, что императрица Матильда собирается вернуться в Англию и что ее поддерживает Роберт, граф Глостер, – один из многочисленных побочных сыновей короля Генриха I – и его союзники в богатых неприступных городах Бристоль и Глостер на реке Северн. И хотя у императрицы Матильды было много противников, а на стороне Стефана был и папа римский, и франкский король Людовик, мятежники решили, что смогут свергнуть законного монарха с престола.
Годефруа тоже полагал, что им это удастся. Стефан выказывал слабость и добродушие, недостойные могущественного монарха. Второй муж Матильды, свирепый Жоффруа Анжуйский, неустанно искал способы отобрать Нормандию у Теобальда II Блуаского, старшего брата и союзника Стефана. Король терял поддержку в Европе. Единственной одержанной им победой оставалась битва при Норталлертоне в Йоркшире, получившая название битвы Штандартов, в которой он разгромил шотландское войско. В Англии назревали беспорядки.
На поддержку владельцев маноров в Саруме Стефану рассчитывать не приходилось. Землями на юге, в Даунтоне, владел Генрих, епископ Винчестерский, брат короля, недовольный тем, что Стефан назначил его всего лишь папским легатом, а не архиепископом Кентерберийским.
– Вот увидишь, он изменит королю, – говорил Годефруа жене.
Настоятельница аббатств в Уилтоне и Шафтсбери, владелица многочисленных маноров на юге, скорее всего, не примкнет ни к одной из сторон, а вот на местные знатные семейства – Гиффардов, Маршаллов и Дунстанвиллей – полагаться не стоило. Вильгельм Са рисберийский наверняка поддержит императрицу Матильду, если сочтет это выгодным для себя, а епископ уже готовит свои за́мки к войне.
Что же делать Годефруа? Он оказался в непростом положении. Вильгельм Сарисберийский, ленный владелец, получивший земли от короля, обязан был послать на помощь Стефану определенное число воинов-рыцарей – им, в свою очередь, отводились имения на землях Вильгельма. Однако в действительности размер вассальных владений разнился и составлял где четверть, где одну десятую, а где и одну сороковую часть земель, полагавшихся рыцарю, и владельцы этих участков обычно платили ленную дань звонкой монетой. Манор Годефруа представлял собой именно такой участок, однако Ришар де Годефруа был хорошо обученным воином, и Вильгельм наверняка собирался призвать его на военную службу – за плату. Хотя долг вассала состоял в служении сюзерену, Годефруа, в сущности, выступал в роли наемника. А что, если ему велят сражаться против короля? Как это отразится на рыцарской чести и долге? Даже после долгих размышлений Годефруа так и не знал, как поступить. Впрочем, одно решение он все же принял.
– У тебя есть родственники в Лондоне? – спросил Годефруа у голубоглазого англосаксонского издольщика.
– Да, они горожане, милорд, – гордо ответил Джон.
К тому времени свободные горожане Лондона уже обладали огромным влиянием и пользовались всеобщим уважением.
– Прекрасно, – кивнул рыцарь. – Ты согласен отвезти мою жену и детей в Лондон и оставить их под присмотр родственников?
– Да, милорд, – ответил Джон Шокли, зардевшись от оказанной ему чести.
Годефруа почтительно склонил голову:
– Я тебе очень благодарен.
Джон Шокли догадался, что это означает, и неуверенно спросил:
– А долго они в Лондоне пробудут?
– Пока не знаю, – ответил рыцарь, не желая продолжать обсуждение. – В путь отправитесь завтра же.
Издольщик удалился, а Годефруа задумчиво оглядел комнату. Усадьба мелкого феодала представляла собой хорошо укрепленный дом; толстые каменные стены первого этажа и массивные колонны-подпорки делали его похожим на сводчатое подземелье. На втором этаже, куда вела наружная деревянная лестница, находились жилые помещения – просторный зал, занимавший две трети общей площади, и спальни, разделенные перегородками. В одну из стен зала был встроен огромный камин, а в северо-восточном углу находилась гардеробная башенка, где хранили одежду и ценности. В широкие окна верхнего этажа вставили мягкие пластины калиевого стекла – менее стойкого, чем римское содовое стекло, но пропускавшего в помещение такой же приятный зеленоватый свет. Окна на пер вом этаже были всего-навсего узкими бойницами, для защиты от неприятеля.
Годефруа сидел за массивным дубовым столом. На стене висел деревянный щит, выкрашенный алым, с изображением белого лебедя. Геральдическое искусство только зарождалось, но среди рыцарей уже вошло в обычай обзаводиться если не гербом, то символом своего рода. Для Годефруа таким символом стали лебеди, во множестве водившиеся в окрестностях Авонсфорда. Каминное отверстие перегораживала деревянная перегородка, потемневшая от дыма; по обоим концам ее красовались резные лебеди – творение умелых рук Годрика. Годефруа все-таки взял его в пастухи, и юноша в благодарность преподнес своему господину изящную резьбу.
«Надо бы попросить его еще что-нибудь вырезать», – рассеянно подумал рыцарь.
Впрочем, сейчас было не до украшений. На следующий день Николас должен вынуть стекла из окон верхнего этажа и заложить проемы кирпичом, превратив их в бойницы. Пришла пора укреплять манор.
– На всякий случай, – вздохнул Годефруа.
Он призвал к себе троих детей и жену – миловидную и услужливую дочь бретонского рыцаря – и объявил им:
– Джон Шокли завтра отвезет вас в Лондон. Я дам вам половину наших денег. Родственник Джона подыщет вам жилье и позаботится о вашей безопасности.
Лондон еще со времен Альфреда Великого занимал особое положение. Самый крупный порт в королевстве был неприступной крепостью, и, хотя Вильгельм Завоеватель и построил в нем грозный замок для устрашения покоренных англосаксов, вольные жите ли города выдвигали свои условия любому монарху, взошедшему на престол. Годефруа знал, что там его семья будет в безопасности, а если сам рыцарь окажется на стороне побежденных в междоусобной войне, то из Лондона жене будет легче договориться о выкупе мужа.
– Ах, и какие беды грядут? – спросила она.
– Скорее всего, мятежники захватят запад и бои начнутся в окрестностях Сарума. Мы должны быть готовы к худшему.
Отпустив родных, Годефруа вернулся к работе. На столе лежали два фолианта и счетная доска-абак, привезенная рыцарю в подарок из Средиземноморья. Годефруа быстро научился ею пользоваться и сегодня с раннего утра занимался хозяйственными делами.
В «Книге Страшного суда», всеанглийской земельной описи Вильгельма Завоевателя, манор Авонсфорда описывался так:
«Ришар де Годефруа получил Авонсфорд в ленное владение от Эдуарда Сарисберийского. В царствование короля Эдуарда выплачивалась дань с 6 гайд. Земли достаточно для 30 пахотных полей. В домене 10 пахотных полей и 20 серфов; 30 вилланов и 15 бордариев, у которых 20 пахотных полей. Есть луг размером в 4 пахотных поля и пастбище для общинного скота. Есть церковь».
В общем, поместье было обычным феодальным манором с доменом – господской землей, которую обрабатывали отдельно, – и общинной землей, которую лорд делил с вассалами. Доходы поместья составляли двадцать фунтов в год. Еще десять фунтов в год приносило поместье в Нормандии, за которым присматривали родственники жены, но туда Годефруа приезжал редко.
А несколько лет назад Годефруа приобрел право опеки поместья в Девоне – по закону опекуну позволялось получать доход с земель, принадлежащих вдове или несовершеннолетнему отпрыску покойного до повторного замужества вдовы или совершеннолетия наследника. Право опеки возникло для защиты наследуемых владений, но в действительности сложная система имущественных отношений приводила к злоупотреблениям: опекуны с выгодой для себя продавали самые ценные участки и возвращали законным наследникам жалкие остатки. Годефруа с честью относился к своим обязанностям опекуна, и поместье в Девоне приносило ему еще двадцать фунтов в год.
Этой весной он решил продать как можно больше товаров и обратить движимое имущество в звонкую монету. Годефруа велел сельскому старосте откормить коров и овец и к середине лета отвести стада на рынки в Уилтоне и в Сарисберийском замке. На взгорьях начался сезон стрижки овец; половину руна забирал фламанд ский торговец (в то время Фландрия славилась шерстяными тканями), а остальное тоже продадут на окрестных рынках, вместе с зерном и сыром из сыроварен в поместье. По подсчетам Годефруа, через две недели он сможет послать семье в Лондон еще десять фунтов.
Наконец он закончил дела, со вздохом оттолкнул счетную доску и потянулся к одному из двух фолиантов на столе.
В отличие от большинства рыцарей, Годефруа знал грамоту. Школы теперь существовали повсеместно, не только в монастырях, как в прошлые века. В школах Лана, Шартра, Парижа и Болоньи обучались праву, философии и литературе великие средневековые схоласты, например Пьер Абеляр, возлюбленный Элоизы. В Оксфорде возникла богословская община; школа существовала и при Сарисберийском соборе, и среди ее учеников был прославленный богослов и схоласт Иоанн Сарисберийский, ставший впоследствии епископом Шартрским. Впрочем, среди знати обучение грамоте считалось занятием презренным, однако Годефруа гордился своими скромными познаниями. Он неплохо читал по-латыни, что позволяло ему понять содержание королевских грамот и изучить труды по истории Британии, написанные Вильгельмом Мальмсберийским. По-английски Годефруа читал бегло; среди его драгоценных восьми книг был сборник трактатов Боэция, двести пятьдесят лет назад переведенных на английский Альфредом Великим, – стоицизм раннехристианского философа успокаивал рыцаря. Однако больше всего Годефруа любил лирические баллады франкских поэтов-трубадуров, повествующие о доблестных подвигах и о куртуазной любви к прекрасной даме, служению которой благородные рыцари посвящали всю жизнь. Чудесные стихи открывали ему волшебный мир, далекий от мрачной действительности Сарисбери, и суровый нормандец восхищался недосягаемыми идеалами рыцарства.
Неделю назад ему прислали новую книгу – небольшой том, дурно переведенный с латыни на франкское наречие; вдобавок у переписчика оказался ужасный почерк. И все же крохотная книжица, умещавшаяся в ладонях рыцаря, доставила ему огромное удовольствие. Он с улыбкой положил ее в кожаный кошель на поясе и вышел из дому.
Час спустя он завершил обход полей, вместе со старостой осмотрел стада – здоровы ли овцы, не начнется ли мор – и одобрил качество руна, а потом отправился на излюбленное место.
Годефруа часто приходил на холм у взгорья, в полумиле от манора, и часами сидел на поляне. В детстве он любил здесь гулять и всякий раз шел одним и тем же путем: по крутой тропке, вьющейся по березняку в долине, потом по склону, через пустошь, заросшую густым кустарником, Годефруа выходил на взгорье, откуда открывался великолепный вид на пустынные меловые гряды, тянущиеся на север и на восток. Там, в кольце деревьев на пригорке, была поляна, посреди которой высился круглый холмик девяносто шагов в поперечнике, с легкой впадинкой посередине.
Поляну эту первым обнаружил отец Ришара, не предполагая, что холм – на самом деле древний могильник и что больше тысячи лет назад это место почитали кельты. Незадолго до рождения сына Годефруа-старший высадил здесь по кругу два ряда тисов. Подросшие деревья защищали поляну от ветра, поэтому Ришар велел установить здесь две скамьи и назвал поляну своей беседкой.
На поляне, открытой высокому небу, стояла глубокая тишина. Сюда никто больше не приходил, лишь на голых склонах, где все еще были заметны борозды, процарапанные древним кельтским плу гом, овцы щипали редкую траву. Годефруа сел на скамью и удовлетворенно погрузился в чтение.
Некий Гальфрид Монмутский, по рождению бретонец, воспитанный в Южном Уэльсе, четыре года назад написал удивительную книгу «История бриттов», которая доставила удовольствие не только его вспыльчивому покровителю графу Глостеру, но и многочисленным читателям в Европе; книгу перевели с латыни на несколько языков.
Больше всего Годефруа нравилось читать о короле Артуре – из обрывочных упоминаний в ранних хрониках автор составил замечательный рассказ о древнем христианском короле-рыцаре, правителе Англии, и его благородных соратниках, которые доблестно сражались против сил зла. Романтическое произведение напоминало знаменитую «Песнь о Роланде» и вдохновляло на подвиги. Рассказ не имел ничего общего с настоящим полководцем Артуром, который безуспешно защищал римскую культуру в Британии от язычников-саксов. Впрочем, в рассказе Гальфрида еще не упоминались ни Ланцелот и Парсиваль, ни Тристан и Изольда, ни легендарный Круглый стол, ни Священный Грааль – все это было добавлено романтически настроенными писателями столетие спустя. И все же книга растрогала Годефруа больше, чем баллады трубадуров или стоическое «Утешение философией» Боэция. В ней описывался идеальный христианский монарх, феодальный правитель сродни франкскому императору Карлу Великому, англосаксонскому королю Альфреду или Эдуарду Исповеднику, последнему из Уэссекской династии, прикосновение которого чудесным образом излечивало золотуху.
«Увы, в наше время нет великих королей!» – с горечью подумал Годефруа и закрыл книгу.
Что ж, может быть, когда пройдет смутное время, он оставит заботы о маноре, забудет о короле Стефане и о проклятом епископе Рожере и отправится паломником в Святую землю.
«Земная юдоль мне постыла, – размышлял Годефруа. – Но даст ли мне Господь время спасти мою грешную душу?!»
В середине лета вход в королевской лес был запрещен, дабы никто не тревожил новорожденных оленят. На склонах Сарума началась стрижка овец.
Годрик Боди был счастлив.
Все утро он помогал купать овец в перегороженном плетеными щитами ручейке, сбегавшем с взгорья.
Вот уже два месяца Годрик был пастухом и целые дни проводил на холмах. Жизнь его теперь шла по пастушьему расписанию. В день святой Елены, что празднуется в мае, уводили на продажу откормленных ягнят; в день святого Иоанна, праздник середины лета, на полях пропалывали сорняки, а старых овец отправляли на убой. Сегодня пастухам помогали все вилланы – надо было искупать и остричь почти тысячу животных. Мужчины ловко зажимали овец коленями и железными ножницами срезали густое руно. Выпущенные овцы разбегались во все стороны, сверкая обстриженными боками.
Годрик всегда брал на пастбище Гарольда. Подросший пес терпеливо следил за овцами и помогал хозяину перегонять отары с гряды на гряду. Юноша смастерил себе красивый пастуший посох с рукоятью в форме собаки, похожей на Гарольда, и радостно бродил по склонам.
Ухаживание за Мэри шло своим чередом. Девушка привыкла к Годрику, и даже ее родители стали относиться к нему с теплотой.
– С пастухом хорошее житье, – говорила Мэри мать.
Годрик с робкой надеждой ухаживал за девушкой и постоянно предлагал ей еду.
Украденную свинью он засолил, а тушу хорошенько припрятал и потихоньку подъедал, изредка угощая мясом и Мэри, чтобы девушка не считала это за должное.
Виллем атте Бригге, узнав о пропаже свиньи, пришел в ярость, но сделать ничего не мог – свинья пропала бесследно. Кожевник не успокаивался, приставал к прохожим то в Уилтоне, то в Сарисбери, придирчиво расспрашивал их о свинье и сделался предметом постоянных насмешек, отчего взъярился еще больше.
– Эй, ты свинью видел? – окликали его на рынке и непременно добавляли: – Наверное, она на подворье Шокли сбежала.
Виллем злобно фыркал и сверкал глазами. Однажды он остановил Мэри и начал ее расспрашивать, но та, по обыкновению, подозрительно оглядела кожевника, и он оставил ее в покое.
Годрик предлагал ей самые разнообразные лакомства, мясо тех зверей и птиц, которых позволялось ловить в силки: зайца, фазана, куропатку и даже новое лакомство – кролика. Кроликов завезли на остров нормандские завоеватели, и юноша быстро научился ловить юрких плодовитых зверьков и поджаривать их на огне очага. Несколько раз в неделю он приглашал Мэри к себе в хижину и украдкой любовался радостными искорками во взгляде девушки.
Мэри все больше и больше привязывалась к Годрику, стала ему улыбаться, а однажды даже позволила себя поцеловать. Юноша не торопился и ни на чем не настаивал, только настойчиво оказывал ей мелкие знаки внимания. Постепенно все в деревне привыкли к его ухаживаниям и стали считать Годрика и Мэри парой. Даже Годефруа, узнав об этом, благосклонно кивнул Годрику.
С недавних пор лицо Мэри утратило прежнее настороженное выражение; девушка стала застенчивой и глядела ласково и смущенно. Годрик сообразил, что происходит, и удвоил усилия.
Однажды на закате, в день стрижки овец, Мэри отправилась на взгорье. Смеркалось; вокруг зеленели поля пшеницы и ячменя, золотилось скошенное сено на лугах. Весь день девушка работала в сыроварне и сейчас несла в подарок Годрику небольшую головку козьего сыра и полбуханки хлеба.
Мэри поглядела на меловые гряды впереди и вздохнула – пора было принимать важное решение. Она долго раздумывала о будущем. Конечно, она еще очень молода, но крестьянская жизнь коротка, доля тяжела, а после смерти – рай или ад, кто знает… Для женского счастья нужно немного: еда в достатке и мужчина-защитник. Особого выбора у девушки не было – с ее внешностью достойного жениха не найти, а вот увечный пастух наверняка соблазнится наивной прелестью ее щуплого, почти детского тела. Иногда Мэри воображала, что на нее обратит внимание какой-нибудь знатный красавец, да только ни в Уилтоне, ни в Сарисбери таких не водилось. Впрочем, хотя она и понимала, что все это – пустые мечты (мужчины с ней никогда не заговаривали), однако с затаенным восхищением поглядывала на владельца Авонсфорда: вот он, настоящий рыцарь – высокий, широкоплечий, задумчивый и суровый, с благородной сединой на висках…
Мэри так привыкла, что ее никто не замечает, что поначалу отнеслась к Годрику с подозрением – наверняка он решил посмеяться над бедняжкой, – но потом сообразила, в чем заключался его расчет, ведь калеке не подыскать себе лучшей пары. Такая расчетливость пришлась девушке по нраву; вдобавок Годрик мастерил красивые резные вещи и кормил Мэри, да и ее отец хорошо отзывался о пастухе.
Теперь Мэри находила привлекательным даже уродливое телосложение Годрика – не из жалости, а потому, что в сравнении с ним была вполне миловидной.
Итак, она решила, что настала пора устроить свою судьбу.
Работники в долине с любопытством глядели на девушку, будто понимая, куда и зачем она направляется.
В сумерках Мэри пришла на взгорье, где только что закончили стричь овец. Повсюду валялись белые клочья шерсти, едко пахло овечьим навозом, а в воздухе зависла тонкая дымка пыли. Работники укладывали мешки шерсти в груды и тихонько переговаривались.
Годрик помогал собирать шерсть и заметил девушку только тогда, когда к ней радостно подбежал Гарольд.
– Ты уже работу закончила? – с улыбкой спросил юноша и перевел взгляд на узелок в руках Мэри. – А это что?
– Вот, тебе принесла, – сказала она, протягивая ему сыр и хлеб.
Он недоверчиво посмотрел на нее, однако подарок взял. Мужчины ухмылялись и перемигивались, понимая, что это означает.
– А мы еще тут… – начал он.
– Годрик Боди, на сегодня работа закончена, – громогласно объявил староста и широко улыбнулся.
Все расхохотались.
Годрик покраснел.
– Ступай! – велел староста.
Годрик робко взглянул на девушку:
– Пойдем?
– Ага, – кивнула она, взяла его под руку и повела на взгорье.
Гарольд радостно бежал впереди, гонясь за собственной тенью.
Молодые люди в молчании шли по меловым грядам, поросшим травой, которая уже начинала выгорать на солнце.
На дальнем краю авонсфордского пастбища в лощине находилась длинная каменная постройка – несколько столетий назад здесь было крестьянское подворье, а теперь его использовали как загон для овец. Чуть поодаль тускло поблескивал круглый пруд футов пять глубиной, где даже сейчас, в летнюю жару, вода стояла на локоть.
Мэри удивленно поглядела на пруд – поблизости не было ни ручья, ни речушки. Откуда здесь вода?
– Это рукотворный пруд, – объяснил Годрик. – Для овец. Здесь собирается дождевая вода и роса.
Каждые десять лет работники обмазывали дно пруда глиной, перемешанной с соломой, чтобы вода не впитывалась в почву. Летом сюда приводили овец на водопой.
Сидеть у пруда было приятно, но Мэри решила увести Годрика подальше. Молодые люди еще с полчаса шли по пустынному взгорью, над которым порхали стаи синих бабочек. На закате Мэри с Годриком дошли до хенджа. Величественные сарсены и древние голубые камни священного круга давно обвалились, земляной вал и ров были едва заметны, как межевые полосы на поле; исчезла и меловая дорога, лишь у входа в хендж высился одинокий столб. Закатное солнце заливало серые камни теплым алым сиянием, и древнее святилище выглядело приветливо и умиротворяюще.
– Говорят, его великаны построили, – сказал Годрик. – Древние великаны-волшебники.
Мэри взяла его за руку и потянула за собой. Лучи заходящего солнца пробежали по древней дороге в самую середину священного круга, а луна в тот день взошла точно напротив заходящего солнца. Молодые люди даже не догадывались, что именно тут приносили кровавые жертвы богам.
Годрик знал, что если Мэри понесет, то они поженятся. Его это вполне устраивало.
В день святого Иоанна, 24 июня 1139 года, началась междоусобная война, известная в истории Англии под названием «анархия». Ее предпосылки сложились за несколько лет до того – слабый и нерешительный Стефан не мог противостоять напористому нраву своей двоюродной сестры, императрицы Матильды.
– В императрице живет неукротимый дух Вильгельма Завоевателя, – говорил Годефруа.
Поползли слухи о неминуемом вторжении Матильды в Англию.
Однако начало распрям положила не императрица, а епископ Сарисберийский.
Стефан созвал своих вассалов на встречу в Оксфорде. Там на одном из постоялых дворов завязалась драка между челядинцами Рожера и сторонниками Стефана. Поводом для нее послужил какой-то пустяк, однако поговаривали, что случилось это с ведома короля. В драке погиб рыцарь и несколько человек получили серьезные ранения.
Стефан немедленно обвинил епископа Рожера в нарушении порядка и спокойствия в городе, призвал к себе сына епископа, тогдашнего канцлера, и двух его племянников, епископов Илийского и Линкольнского, и велел им возместить причиненный ущерб, а свои замки передать под присмотр короля. Епископы растерялись: ослушаться королевского приказа было равносильно измене. Король отпустил их, но чуть погодя послал стражу с приказом арестовать смутьянов. Увы, задержать удалось только Рожера, его сына и епископа Линкольнского. Нигель, епис коп Илийский, сумел сбежать.
– Епископ Нигель теперь сидит в замке Девизес, – поведал Годефруа гонец на взмыленной лошади. – Король Стефан отправил туда войско.
Замки мятежных епископов широким полукругом лежали на взгорье у Сарума: в двадцати пяти милях к северу – Мальборо, потом Девизес, Троубридж и Мальмсбери на северо-западе, Шерборн на юго-западе и Сарисбери в самом центре.
Годефруа возблагодарил Господа за свою предусмотрительность – недаром он отправил семью в Лондон.
– Укрепи поместье, масон, – велел он Николасу. – Я еду в Девизес.
Королевское войско встало лагерем под стенами Девизеса. Годефруа быстро отыскал шатры Вильгельма Сарисберийского и его брата Патрика.
– Епископ Рожер с сыном вон в том шатре, под охраной, – объяснил ему юный оруженосец. – Их заковали в кандалы и с самого Оксфорда не кормят.
Годефруа удивленно присвистнул:
– А в замке кто?
– Епископ Илийский и Матильда Рамсберийская, – ухмыльнулся юноша: о любовнице епископа Рожера, матери его сына-канцлера, знали все.
– Ну и семейка! – рассмеялся рыцарь. – Похоже, король решил от них избавиться.
– Как сказать, – загадочно прошептал оруженосец и пропустил Годефруа в шатер.
Вильгельм прервал оживленную беседу с братом, недоуменно оглядел рыцаря, а потом шагнул к нему и приветственно пожал руку.
– Хоть мы тебя и не приглашали, Ришар, хорошо, что ты сам пришел, – небрежно сказал он. – Новости слыхал?
Годефруа кивнул. Вильгельм отвел его в сторону, обратил к нему узкое благородное лицо с кривоватым носом и доверительно сообщил:
– Ежели ничего не переменится, король в этой стычке одержит верх.
– А что может перемениться? – удивился рыцарь.
– Ты же знаешь, Стефан вечно мечется из стороны в сторону, за все хватается, ничего до конца не доводит. Вот прискучит ему осада, он войско из-под стен уведет.
– И что тогда?
– Тебе объяснят, что делать, – ответил Вильгельм и отвернулся.
В тот день Годефруа несколько раз видел короля. Стефан, по своему обыкновению с непокрытой головой, расхаживал по лагерю в сопровождении свиты. Вильгельм Ипрский, глава королевского войска, велел бойцам готовиться к длительной осаде. Неожиданно из королевского шатра вышел гонец, вскочил на коня и устремился к замку.
Повеление короля удивило даже Вильгельма Сарисберийского.
– Он заявил защитникам крепости, что канцлера на воротах повесит, если замок не сдадут, – объяснил он Ришару. – А епископа Рожера голодом уморит, ему даже воды не дают.
Однако король недооценил упорство епископа Илийского.
– Епископ говорит, пусть вешает кого хочет, – принес весть оруженосец.
– А теперь поглядим, кто кого переупрямит, – невозмутимо заметил Вильгельм.
На следующее утро толстяку-канцлеру связали руки, накинули на шею веревку висельника, вывели из шатра и, усадив на лошадь, провезли под стенами замка. Епископ Илийский упрямо молчал.
В полдень на переговоры к мятежникам отправили епископа Рожера под конвоем из шести рыцарей. Даже после голодовки епископ Сарисберийский являл собой устрашающую фигуру – высокий и грузный, он величественно шествовал по лагерю, дерзко выпятив тяжелый подбородок.
Впрочем, переговоры ни к чему не привели: Рожер считал, что лучше сдать крепость, однако его племянник, епископ Нигель, упорствовал – судьба дяди и двоюродного брата его нисколько не волновала.
На следующий день Вильгельм Сарисберийский нетерпеливо воскликнул:
– Раз грозился повесить канцлера, пусть вешает – и дело с концом!
Однако мягконравный Стефан не решался на такой свирепый поступок, и это делало его слабохарактерным правителем.
Прошел еще день. Неожиданно в королевский лагерь прискакал гонец с известием, что мятежники готовы сдаться, если епископа Рожера и его сына освободят. Король возрадовался, объявил перемирие и отпустил узников на свободу.
Его вассалам это не понравилось.
– Гонца прислал не епископ Нигель, а Матильда Рамсберийская, – с презрительной гримасой объяснил Вильгельм. – Повезло королю, что мать сжалилась над сыном. А вот императрицу Матильду Стефану не запугать.
Однако король был вполне удовлетворен достигнутым: он получил замки Девизес, Мальмсбери, Шерборн и Сарисбери вместе со всеми ценностями и оружием. Казалось, что опасность миновала.
Вечером король устроил пир, а на следующее утро войско стало готовиться к отходу.
К безмерному удивлению Годефруа, в лагерь явился Виллем атте Бригге. Угрюмый кожевник, пробираясь между телегами, лошадьми, оружейниками и рыцарями, предстал перед оруженосцем Стефана с прошением о королевском суде, дабы раз и навсегда решить тяжбу о наделе Шокли. В то время подобные просьбы были обычными – король вершил дела не во дворце, и любой свободный человек имел право испросить королевского суда. Нормандские монархи в Англии выслушивали прошения повсюду, а мно гие просители даже уезжали вслед за королем в Европу.
Годефруа, завидев мрачного кожевника, сразу понял, зачем он пришел, и встревоженно поспешил за ним. Впрочем, волновался он напрасно. Виллем атте Бригге приблизился к Стефану и его свите, гневно выпалил свои требования – мол, он человек оскорбленный, у него незаконно отбирают владения, и только король может рассудить тяжбу по справедливости – и выжидающе уставился на короля. Стефан изумленно посмотрел на кожевника: он что, хочет немедленного решения?
– Ты откуда? – с улыбкой спросил король.
– Из Уилтона, – буркнул Виллем.
– А, у нас там замок есть, – пояснил Стефан придворным.
Те расхохотались. Виллем атте Бригге побагровел.
– Вот в Сарисберийском замке мы тебя и выслушаем, – объявил король и велел кожевнику удалиться.
Виллем обрадовался: хоть придворные над ним и смеются, король обещал рассмотреть дело. Годефруа возмущенно покачал головой, догадываясь, что Джону из Шокли трудно придется, вскочил на коня и вернулся в Сарум.
Рыцаря по-прежнему тревожило положение дел в стране. Да, король одержал временную победу, но Ришара де Годефруа преследовал голос его сеньора: «Тебе объяснят, что делать».
В последующие месяцы Годефруа охватило отчаяние. Его волновала не только неминуемая угроза гражданской войны, измена и страх смутного времени. Нет, тревога заключалась в ином: вся Англия, все христианское королевство снедала странная хворь. Об этом свидетельствовало поведение епископов в Девизесе. Авонсфордский рыцарь, будучи человеком рассудительным, полагал Церковь священной, но епископы попирали все ее законы.
– Я верую в Святую церковь Господа нашего, – однажды признался он Джону Шокли, – но не ведаю, где ее обрести.
В прошлом дела обстояли намного лучше. Святость епископа Осмунда была несомненна, власть таких священнослужителей, как Ланфранк и Ансельм, бывших архиепископами Кентерберийскими в царствование прежних монархов, тоже никто не оспаривал. Эдита, бывшая настоятельница Уилтонского аббатства и наследница древнего рода англосаксонских королей, давным-давно была возведена в ранг святых. Когда папа Урбан II объявил Первый крестовый поход на язычников-сарацин, все знали, что делается это по Божьей воле и во славу Господа. Истинная церковь правила духовной жизнью Европы так же, как в прошлом военная мощь Римской империи правила миром; Церкви подчинялись все европейские монархи и по ее первому требованию заключали перемирия.
Ришар Годефруа твердо верил, что епископ – святой праведник, человек Божий, пусть даже его и назначает король, но выбирать епископа следует, как в прошлом, не из знатных господ, а из монахов и клириков. Единственной допустимой уступкой была передача церковных земель в награду за особые заслуги перед королем и страной – особого вреда в этом рыцарь не усматривал. Однако же выскочки и негодяи из рода епископа Рожера наносили непоправимый ущерб репутации Церкви и священному званию церковнослужителя.
Да, и Церковь, и государство необходимы, но они должны быть сторонами одной монеты и существовать в мире и согласии друг с другом, а в последнее время складывался новый конфликт regnum et sacerdotium, то есть между государственной и церковной властью, который сохранится на многие века. Кто повелевает всем в бренном мире – папа римский или монарх? Кто наделяет епископов духовной властью и землями? Кто назначает епископов и настоятелей? Если клирик совершает преступление, кто вправе его судить – суд церковный или суд королевский? В лучшем случае этот конфликт сводился к противостоянию между монархом и Вселенской церковью за моральное превосходство и духовную независимость; в худшем его проявлении он выливался в циничные политические манипуляции монарха и церковников. Именно эта борьба за господство привела к жестокому убийству Фомы Бекета, архиепископа Кентерберийского, в правление следующего английского короля, Генриха II.
После осады Девизеса спор между Церковью и государством обострился до предела. Стефан издал вторую Хартию вольностей, подтвердившую невмешательство государства в церковные дела. Епископ Рожер и его гнусные племянники заявили, что король не имеет права арестовывать служителей Церкви. Брат короля, Генрих, епископ Винчестерский, переметнулся на их сторону и, по праву папского легата, в конце августа созвал в Винчестере церковный собор, требуя от короля признать незаконным арест епископов и захват их собственности.
К счастью, в начале сентября из Нормандии в Англию прибыл Гуго, архиепископ Амьенский и Руанский, строго напомнив церковникам, что укрепленные замки им ни к чему. Епископы на коленях просили прощения у короля, а Рожер вернулся в Сарисбери и на люди не показывался.
Все это очень расстроило Годефруа. Если царство Божие на земле – крепость и твердыня, то действия церковников всего лишь замазывают трещины в стенах, а само основание прогнило.
В конце сентября императрица Матильда высадилась в Арунделе, на юго-восточном побережье Англии. Король, следуя совету своего вероломного брата, епископа Винчестерского, позволил Матильде беспрепятственно проследовать к своим сторонникам в Бристоле и даже предоставил отряд рыцарей для ее сопровождения. Приверженцы Стефана не находили объяснений нелепому поступку короля. Разумеется, месяц спустя начались военные действия.
Годефруа смирился с тем, что гражданская война придет и в Сарум.
Годрик Боди с верным Гарольдом украдкой пробирались по долине. Под ногами шуршала палая листва. Прошел Михайлов день, урожай убрали, и поля засеяли озимыми. В стадах на взгорье с баранов уже сошли следы охры (животных помечали на время случки, так сразу видно, какие ярки покрыты, а какие – еще нет). Теперь овец из загонов выпускали позже, чтобы успела подсохнуть подмокшая за ночь трава, иначе стадо захворает. Теплая дождливая осень – тяжелое время года для пастухов.
К Михайлову дню забили старых овец и засолили туши. Мясо просолится как раз к зимнему празднику Хеллоуину, и в следующий за ним День Всех Святых в деревне устроят пир. Однако сегодня Годрик размышлял не об овцах, а о пропавшей свинье Виллема атте Бригге.
Пастух думал, что к концу лета кожевник успокоится, но Виллем, обнадеженный встречей с королем, в Михайлов день объявил, что заплатит целых три марки тому, кто скажет, куда подевалась его скотина. Три марки – огромные деньги, свинья стоила дешевле, но кожевник был упрям и вздорен. Пока что обещанным вознаграждением никто не соблазнился.
Годрик вел себя с превеликой осторожностью и вот уже четыре месяца не приближался к тому месту, где зарыл свиные кости, однако из любопытства решил проверить, не отыскал ли их кто, и углубился в лес. В середине сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, началась охота на оленей, косуль и кабанов, нагулявших жир, поэтому лесники пристально следили за крестьянами.
Спустя полчаса юноша добрался до густых зарослей колючего кустарника и хорошенько оглядел местность. Свиные кости были зарыты глубоко, грунт плотно утрамбован, и все вокруг покрывал толстый слой палой листвы. Годрик удовлетворенно перевел дух и пошел дальше, надеясь поймать кролика. По лесу он бродил целый час, но никакой дичи так и не отыскал, поэтому к вечеру решил возвращаться домой.
В сгустившихся сумерках он увидел косулю. Ее передние ноги попали в хитроумные силки, растянутые между тонкими стволами деревьев, и, пытаясь вырваться, косуля сломала ногу. Годрик силками почти не пользовался, считая их слишком жестоким приспособлением, но не решался приблизиться к несчастному животному – олени и косули принадлежали королю. Предупредить лесника Годрик тоже побаивался, потому что так и не обрезал псу когти на передних лапах. Лучше всего было поскорее убраться восвояси, но юноша медлил и, укрывшись в кустах неподалеку, с жалостью следил за мучениями косули. Уже совсем стемнело, а он все не уходил.
Косуля застонала, негромко всхлипывая, а потом пронзительно завизжала. По лесу разнесся отчаянный крик искалеченного зверя. Ветви деревьев шелестели под легким ветерком. Внезапно похолодало, и лес словно бы замер. Откуда-то издали до Годрика долетел заунывный вой. Волки! В окрестностях Сарума их было немного, но иногда они загрызали овец, по недосмотру пастухов отбившихся от стада. Косуля испуганно притихла, а немного погодя снова тихонько застонала, как будто звала Годрика на помощь.
Юноша знал, что лесники обязаны прирезать искалеченное животное, и не выдержал. Поблизости никого не было.
«Свинью я спря тал, может, и с косулей получится? – подумал он, выбираясь из укрытия. – Зато завтра дичью полакомлюсь!»
Годрик подошел к косуле и приобнял ее за шею. Бедняжка задрожала от страха, а юноша тихонько вытащил нож и ловко перерезал ей горло. Косуля повалилась на землю. Годрик опустился на колени рядом с тушей, но внезапно ему на плечо опустилась длань лесника.
Уже около часа ле Портьер наблюдал за юношей и подкрался к нему так ловко, что даже Гарольд его не учуял.
Ришар де Годефруа сидел в тисовой беседке, греясь в ласковых лучах осеннего солнца, и в который раз с наслаждением перечитывал повествование Гальфрида Монмутского о короле Артуре. Завидев Николаса, рыцарь недовольно поморщился: кто позволил каменщику нарушить покой своего господина?
– В чем дело, масон? – хмуро спросил Годефруа.
– Мой племянник, Годрик! – воскликнул Николас, утирая вспотевший лоб. – Он в королевских угодьях оленя убил. Помогите нам, милорд!
Рыцарь немедленно закрыл книгу и последовал за каменщиком.
Чуть погодя в сторожке лесника ле Портьер объяснял Годефруа, что вина Годрика несомненна: юношу задержали с окровавленными руками, у туши косули. По нормандским лесным законам такое преступление каралось смертью.
– И когти у собаки не обрезаны, – добавил ле Портьер и вытащил Гарольда из будки, чтобы показать, что пес слишком велик и не пролазит в особый кожаный обруч; собакам поменьше когти можно было не обрезать.
– А что сам Годрик говорит? – спросил Годефруа.
Он предварительно расспросил юношу и поверил его рассказу.
Лесник невозмутимо посмотрел на рыцаря:
– Это не важно. По закону, коли руки в крови…
– Законы мне известны, – нетерпеливо оборвал его Годефруа, понимая, что объяснений Годрика суд в расчет принимать не станет. – Может, не стоит дело до суда доводить?
Решение о передаче дела в суд должен принять свейнмот – общее собрание королевских служителей, ведающих лесами, – и от заявления лесника зависело многое.
– Может, вины его здесь нет? – настойчиво повторил рыцарь.
– Закон предельно ясен, – упорствовал ле Портьер.
Вечером Годефруа призвал к себе Николаса и со вздохом сказал:
– Увы, надеяться не на что.
Месяц прошел в напряженном ожидании.
Свейнмот собирался в день святого Марина, одиннадцатого ноября, после чего заседал суд ареста; вдобавок выездной Лесной суд, который вершили в Уилтоне раз в три года, был назначен на конец ноября. В довершение всех несчастий Годефруа узнал, что судьи выездного суда на этот раз будут беспощадны к нарушителям закона.
– Судьи опасаются, что их обвинят в небрежном исполнении обязанностей, – объяснил рыцарю один из лесников.
Годрик был старательным работником и к тому же племянником каменщика. Годефруа верил в его невиновность, поэтому пытался сделать для него все, что мог. Рыцарь обратился к Валерану, смотрителю королевского леса, который должен был возглавить суд ареста, поговорил с лесничими и придворными, и по его просьбе юношу снова допросили. К концу октября у чиновников сложилось благоприятное мнение, но Валеран предупредил Годефруа:
– Я склонен вынести снисходительный приговор, но если лесник упомянет об окровавленных руках, то дело придется передать на рассмотрение выездного Лесного суда.
– И что потом? – спросил Годефруа.
Валеран не ответил. Оба знали, чем закончится слушание дела.
Ле Портьер по-прежнему оставался глух к просьбам и настаивал на своем.
Тем временем отовсюду приходили дурные вести. В стране полыхал пожар гражданской войны. Мятежники захватывали земли и замки в Западной Англии – Мальмсбери, Уоллингфорд, Троубридж. Стефан, как обычно, метался от одной крепости к другой, но толком ничего не достигал. В начале ноября пошли слухи, что бунтовщики вот-вот возьмут Вустер и Герефорд.
– К Рождеству вся Западная Англия будет в руках мятежников, – сказал Годефруа Джону Шокли и снова возблагодарил Господа, что отправил жену с детьми в безопасное место.
В Лондоне Шокли провел целый месяц, присматривая за семейством Годефруа, хотя и самому издольщику забот хватало. В благодарность рыцарь предложил Шокли любую помощь, но тот лишь усмехнулся:
– Разве что избавьте меня от Виллема атте Бригге, милорд.
В Сарисбери пока сохранялся мир. В замке стоял небольшой отряд королевских рыцарей. Если Вильгельм Сарисберийский, Гиффарды и прочие бароны и замышляли худое, то виду не показывали. Епископ Рожер на люди не появлялся; поговаривали, что его мучает лихорадка.
Уныние, охватившее Годефруа, усугубила случайная встреча с Мэри на улице Авонсфорда. Девушка стояла не поднимая взгляда, и рыцарь заговорил с ней, стараясь утешить. Мэри помотала головой и печально погладила себя по животу.
– Ты от Годрика понесла? – спросил рыцарь. – Мы постараемся его выручить.
Она кивнула. На бледном личике мелькнула странная гримаса, косые глаза презрительно сощурились:
– Пустое это все. Он же оленя убил, его все одно повесят.
Годефруа уехал, зная, что она права.
Все надежды на лучшее были напрасны. Мятежники захватили не только Вустер и Герефорд, но и еще два замка на юго-западе.
– Может, Лесной суд не состоится? – спросил Годефруа Валерана.
– Нет, судьи обязательно приедут.
За день до свейнмота Николас предпринял последнюю отчаянную попытку спасти племянника. В сумерках он пришел в манор и протянул Годефруа кожаный кошель. Рыцарь высыпал на стол монеты: девять марок, или шесть фунтов, – целое состояние. Наверняка каменщик копил деньги долгие годы. Николас неуверенно поглядел на своего господина.
– Что это, масон? – спросил рыцарь.
– Леснику, милорд, – ответил каменщик.
– Девять марок?
– Все, что у меня есть, милорд.
– Ты хочешь, чтобы я ему заплатил? – недоверчиво уточнил Годефруа.
Николас покраснел и кивнул.
– А он возьмет? – удивился рыцарь.
– Говорят, что берет, – пробормотал Николас.
Годефруа изумленно уставился на каменщика. Неужели в Саруме вершатся грязные делишки?
– Да как ты смеешь меня об этом просить?! – гневно осведомился рыцарь.
Николас потупил взор, короткопалые руки задрожали.
– Я простой виллан, милорд, лесник со мной говорить не станет.
«Зато деньги твои возьмет», – сокрушенно подумал Годефруа и прикрикнул на каменщика:
– Ступай прочь!
Николас поспешно вышел, но девять марок остались на столе.
На следующее утро Годефруа из любопытства пришел в сторожку лесника и молча швырнул ему кошель с деньгами.
Ле Портьер развязал кошель, тщательно пересчитал деньги и спросил:
– Это чтобы юнца вызволить?
– Разумеется.
– Девяти марок мало, – невозмутимо заметил ле Портьер.
– Больше денег нет.
Лесник упрямо помотал головой.
– И сколько же ты хочешь? – изумленно спросил Годефруа.
– За Годрика Боди? Двенадцать марок.
Рыцарь презрительно отсчитал леснику еще три марки.
Ле Портьер отвесил почтительный поклон.
– И как же ты его вызволишь? – осведомился Годефруа.
Лесник поджал тонкие губы и, поразмыслив, объяснил:
– Олень был последыш, чахлый и хилый, королю на такого охотиться негоже. К тому же на следующий день после того, как схватили Годрика, я спугнул в лесу неизвестного, который устанавливал такие же силки, так что юнец невиновен. Вдобавок я сам велел Годрику перерезать оленю глотку, потому что у животного была сломана нога. А вот за то, что у пса когти не обрезаны, суд наложит денежное взыскание.
– Тебе бы священником быть, – хмуро сказал Годефруа и вышел, до глубины души возмущенный равнодушием лесника к судьбе Годрика.
Впрочем, о бесчинствах и алчности лесников и смотрителей королевских заповедных угодий было известно всем.
«Не миновать тебе виселицы», – мрачно подумал рыцарь.
Ле Портьер, поджав тонкие губы, невозмутимо смотрел ему вслед.
«Странный он какой-то, – размышлял Годефруа, возвращаясь домой. – Суров, как древний римлянин, только честь свою понимает превратно. Что ж, деньги он взял, теперь Годрик в безопасности».
Рыцарь не догадывался, как его мысли близки к истине, но поразился бы, узнав, что далекие предки ле Портьера в незапамятные времена доблестно сражались в дружине короля Артура.
Свейнмот совещался все утро, а после полудня в замке началось заседание суда. Возглавил его Валеран. На суд собрались все чиновники, ведающие делами королевских заповедников: хранители, смотрители, лесники, лесничие и сборщики податей. На камзолах судей красовались эмблемы занимаемых ими постов: лук смотрителя, охотничий рог лесника. Двенадцать присяжных заняли свои места, и заседание началось. Зал наполнился любопытными. Годефруа стоял в первом ряду, у помоста; Николас занял место чуть поодаль. Сквозь толпу пробирались Мэри и Виллем атте Бригге.
Как только ввели Годрика, Валеран обратился к леснику:
– Суд слушает тебя, ле Портьер.
Лесник встал, невозмутимо оглядел присутствующих и чуть заметно улыбнулся, увидев Годефруа.
– Годрик Боди обвиняется в… – начал он.
И тут в зале суда раздался возмущенный крик.
Четырнадцатилетняя Мэри, ничуть не сомневаясь в том, что Годрика повесят, все утро размышляла о своей горькой доле. Теперь-то уж точно мужа не найти – порченую дурнушку-бесприданницу никто в жены не возьмет. И сколько ей жить осталось? Если ее оставят в маноре на маслобойне, то еще лет сорок протянет, а ежели в поля пошлют, то раньше помрет. А тут еще и дитя… «Может, не доношу…» – подумала она.
Соседи в деревне теперь чурались девушки, Николасу было не до нее, а родители считали дочь обузой, лишним ртом.
– Нам тебя с ребенком не прокормить, – заявила мать.
В последний раз Мэри видела Годрика два дня назад. Он попросил ее принести из хижины деревяшек – не хотел сидеть без дела, собрался вырезать новый пастуший посох, но теперь приуныл.
– Может быть, тебя отпустят? – спросила Мэри.
Он удрученно покачал головой.
Наутро в день суда Мэри отправилась в Сарисбери, разыскала на рыночной площади Виллема атте Бригге, удостоверилась, что он все еще сулит награду за сведения о пропавшей свинье, – и рассказала ему все, что знала. В конце концов, рассуждала она, Годрик во всем признается и скажет, где зарыты свиные кости. Виллем атте Бригге завопил от восторга, вручил ей три марки и поволок в за́мок.
Мэри всегда была девушкой рассудительной.
Смотритель заповедных лесов обдумал услышанное, а потом спросил:
– Ты обвиняешь Годрика Боди в убийстве еще одного зверя в королевском лесу?
– Да! – торжествующе воскликнул кожевник.
– Лесной суд рассматривает все убийства зверей в заповедных угодьях, – торжественно объявил Валеран и сурово посмотрел на Годрика. – Что ж, мы выслушаем оба обвинения. Кто твой свидетель, кожевник?
Виллем атте Бригге ухмыльнулся и указал на Мэри. Годрик вздрогнул от неожиданности.
Пока все присутствующие изумленно разглядывали косоглазую девицу, ле Портьер подошел к Годефруа, незаметно вложил ему в ладонь кошель с деньгами и пробормотал:
– Ничего не выйдет.
Суд над Годриком Боди свершился быстро.
Первого декабря под моросящим дождем юношу подвели к виселице, сколоченной на рыночной площади у замка, и заставили подняться на помост. На шею Годрика накинули веревочную петлю, и он устремил взор в толпу, где стояли Годефруа и Николас, а чуть поодаль – Мэри. Однако Годрик смотрел только на своего верного пса Гарольда – когти на передних лапах ему уже обрезали, и он смирно сидел у ног Николаса.
Палач столкнул Годрика с помоста, и худенькое сгорбленное тело заплясало в воздухе. Толпа молчала – ни восторженных воплей, которыми встречали повешение злодея, ни сочувственного вздоха. Бледное лицо юноши побагровело, выпученные глаза вылезли из орбит.
Все было кончено.
Внезапно Гарольд высвободился из ошейника и помчался по булыжной мостовой к телу своего хозяина. Николасу пришлось силком увести пса с площади.
В декабре 1139 года в Сарисберийском замке случилось несколько важных событий.
Годефруа приехал на рынок 10 декабря. Из епископского особняка доносились страшные крики, а чуть погодя на площадь выбежал слуга.
– Что происходит? – спросил рыцарь.
– Епископу худо, лихорадка не отпускает. Он совсем обезумел, его вчетвером держат.
Рожер уже месяц не выходил из дому, и все в городе знали, что он тяжело болен.
– А почему он кричит?
– Требует, чтобы ему вернули отобранные замки и сокровища, милорд, – поморщился слуга.
Годефруа печально посмотрел на епископский особняк. Внушительные каменные стены с зигзагами декоративной кладки свидетельствовали о безмерном богатстве и власти.
– И мысли о Господе его не утешают?
– Нет, милорд.
В доме что-то стукнуло, началась суматоха и суета.
– Боже правый, он опять вырвался! – обеспокоенно воскликнул слуга и бросился в особняк.
Рожер, епископ Сарисберийский, скончался 11 декабря 1139 года.
Вскоре после этого в Сарисбери приехал король Стефан. На время рождественских праздников объявили перемирие, но Стефан вел себя так, словно в королевстве воцарился вечный мир.
Осмотрев замок и епископский особняк, Стефан изумленно воскликнул:
– Надо же, епископ богаче короля!
Разумеется, все сокровища он забрал себе.
Каноники Сарисберийского собора решили откупиться от гельда – пошлины, которой облагались земельные владения, – и предложили королю огромную сумму: две тысячи фунтов. Стефан, обрадованный нежданным пополнением казны, даровал клирикам сорок марок на починку крыши собора.
Годефруа явился на аудиенцию к королю засвидетельствовать свою верность.
– Нам нравится ваш город, – заявил Стефан. – Епископ нам верно служил, пока взбунтоваться не удумал, да и теперь епархия приумножила нашу казну.
Величественный Сарисберийский собор привел короля в восторг.
За несколько дней до Рождества король устроил в замке праздничный прием, созвав на него всю знать, включая Годефруа. Внезапно в зал робко вошли горожане – Виллем атте Бригге, Джон Шокли, их жены и толпа свидетелей. Кожевник, довольный жестоким наказанием вора Годрика, держался уверенно и заносчиво, а бедняга Джон, побледнев от тревоги, испуганно оглядывал собравшихся.
На вопрос, зачем они явились к королю, Виллем дерзко ответил:
– В Девизесе король обещал мне справедливо рассудить тяжбу.
Стефан недоуменно уставился на кожевника, но потом с усмешкой обратился к своей свите:
– И впрямь обещал. Давайте-ка его выслушаем.
Виллем пустился в пространные объяснения, но королю вскоре прискучило слушать.
– Тяжбу начал дед твоей жены?
Кожевник кивнул.
– Пятьдесят лет тому назад? – уточнил король.
Виллем подтвердил, что это так.
Несмотря на свои недостатки, Стефан был человеком умным и проницательным. Он быстро оценил и алчность кожевника, и покорный нрав молчаливого голубоглазого виллана.
– Что ж, я исполню твою просьбу, – изрек король. – Тяжбу рассудят, но не судом присяжных.
На лице Виллема отразилось глубокое разочарование – вот уже несколько месяцев он готовил надежных свидетелей, полагая, что король, по обыкновению, созовет суд присяжных.
Король невозмутимо поглядел на кожевника:
– Тяжба у вас давняя, Виллем атте Бригге, и судить ее следует по старинному обычаю, так, как разрешались земельные споры во времена наших предков. Спор выиграет тот, кто победит в честном поединке.
Кожевник угрюмо насупился, а виллан вздохнул с облегчением – больше всего он опасался долгого и запутанного судебного разбирательства – и храбро взглянул на короля. Джона из Шокли, потомка доблестного тана Эльфвальда и бесстрашной Эльфгивы, ничуть не пугал честный бой. Господь рассудит по справедливости, и по милости Божией Джон не лишится своих наследственных владений.
Король с благосклонной улыбкой поглядел на виллана.
– Я назначу поединщика! – воскликнул Виллем, не собираясь сдаваться.
Стефан недовольно поморщился. К сожалению, старинный обычай и в самом деле позволял спорщикам назначать для поединка наемных бойцов. Кожевник был человеком состоятельным и легко мог заплатить большие деньги опытному воину. Запретить этого король не мог.
– Ты тоже себе защитника выберешь? – спросил Стефан у виллана.
Джон Шокли, уверенный в своих силах, помотал головой.
Наступило неловкое молчание.
И тут Годефруа хладнокровно выступил вперед. Кожевник и вил лан изумленно уставились на него, а король удовлетворенно улыбнулся.
– Я вступлю в поединок за Джона из Шокли, – объявил рыцарь.
Виллем исподлобья поглядел на Годефруа, понимая, что ни за какие деньги не найдет желающих сразиться с закаленным в боях рыцарем, ведь меч нормандского воина легко поразит любого противника.
– Что ж, продолжим? – нетерпеливо осведомился король.
Кожевник понуро свесил голову и пробормотал:
– Нет, ваше величество.
– В таком случае тяжба прекращается, – объявил Стефан и лукаво подмигнул Годефруа.
Придворные расхохотались. Виллем, багровый от ярости и унижения, поспешно вышел из зала.
– Ничего, мы с Шокли еще сочтемся, – шепнул кожевник жене.
В день святого Рождества знатные землевладельцы явились в Сарисберийский замок, где принесли клятву верности королю Стефану, однако семья авонсфордского рыцаря по-прежнему оставалась в Лондоне.
– Рано им возвращаться, – сказал Годефруа Шокли.
Временное перемирие подходило к концу. Над замком на меловом холме снова витала смутная угроза.
Весной 1140 года Ришар де Годефруа, скромный нормандский рыцарь, уставший от тягот земного существования, с глубоким удовлетворением наконец-то отыскал путь к спасению своей грешной души.
В начале января рыцарь, по обыкновению, пришел в собор, преклонил колена у гробницы епископа Осмунда и начал читать молитву:
– Радуйся, Мария, благодати полная…
Дыхание облачком висело в морозном воздухе, однако же Годефруа почудилось, что от надгробия блаженного епископа исходит чудесное тепло. Рыцаря охватило умиротворение. Он провел за молитвами дольше обычного и закончил привычной просьбой:
– В эти безбожные времена, о блаженный Осмунд, наставь меня, как спасти грешную душу.
У входа в собор Николас, коротая время в ожидании господина, разглядывал обрывок пергамента.
– Что это, масон? – спросил рыцарь.
– Ох, милорд, так сразу и не разберешь, – ответил каменщик, показывая рисунок Годефруа.
В разделенном на четыре части круге вилась полоска, змейкой скручиваясь в спиральные петли.
– Да, замысловатый узор. Для чего он? – удивился Годефруа.
– Это лабиринт, – пояснил Николас. – Вот смотрите, милорд… – Он провел коротким толстым пальцем по петлям и завиткам, которые непрерывной лентой переходили из одной части круга в другую, симметрично повторялись в ней и свивались кольцом в самом центре. – Такие узоры выкладывают на полу храмов, да и под открытым небом в дерне вырезают. Даже в Риме такой есть. Говорят, узор изображает путь в град Божий, Иерусалим, – если пройти лабиринт на коленях, с покаянной молитвой, то это зачтется как паломничество в Святую землю.
– Может, и так… – усмехнулся рыцарь.
На этом разговор оборвался.
Два дня спустя Годефруа отправился на холм, в свою любимую тисовую беседку, и неожиданно вспомнил о лабиринте – уединенная поляна, окруженная кольцом высоких деревьев, представляла собой прекрасное место для такого сооружения. Неужели епископ Осмунд снизошел к мольбам рыцаря?
Годефруа решил посоветоваться с каменщиком.
В феврале 1140 года в Англии установился непрочный мир. В ко шарах на взгорье блеяли новорожденные ягнята, а Николас по прозвищу Масон вывел работников на холм, к древнему могильнику.
В дерне на поляне прокладывали странный узор – круг, разделенный на равные четверти, поочередно пересекала извилистая тропа, в точном соответствии с рисунком на пергаменте. Сначала она шла от внешней окружности к центру, потом резко поворачивала, выписывала замысловатые петли, снова возвращалась к внешнему кругу, переходила в соседний сегмент, где повторяла свой извилистый путь, пока наконец в последней четверти не выводила точно в середину круга.
Годефруа часами изучал рисунок и пришел к выводу, что он служит прекрасным символом блужданий и стремления души к совершенству, а потому вполне заменяет паломничество.
– Великий мудрец создал этот лабиринт, – сказал он как-то каменщику.
Николас согласно кивнул, хотя в узоре его привлекала только строгая соразмерность линий.
Соорудить лабиринт оказалось проще простого: вначале на траве разметили узор, а потом срезали верхний слой дерна, открывая белый меловой грунт, по которому вилась зеленая тропа шириной в два фута. Размеры лабиринта привлекали своей чудесной простотой: диаметр круга составлял тридцать шесть шагов, а длина тропы до входа в серединный круг – шестьсот шестьдесят шагов; чтобы добраться точно в центр, требовалось сделать шестьсот шестьдесят шесть шагов.
Строительство лабиринта завершили за три дня до конца февраля.
В последующие годы лабиринт Годефруа, владельца Авонсфорда, прославился на всю округу, но жителей Сарума гораздо больше восхищало неустанное благочестие достославного рыцаря. Каждое утро до восхода солнца он отправлялся на холм, в лабиринт, где опускался на колени и медленно, с молитвой, за час проходил всю тропу. Годефруа долгие годы держал это в секрете, но, пока в Англии бушевала гражданская война, семейство рыцаря оставалось в Лондоне, а сам он в любую погоду, зимой и летом, совершал свое паломничество в Иерусалим.
Зачем он это делал, осталось неизвестным. Скорее всего, Ришар де Годефруа, не будучи религиозным фанатиком, преисполнился мрачного отвращения к миру, однако, считая это недостойным истинного христианина, наложил на себя своеобразную епитимию.
За год он проходил по лабиринту не меньше сотни миль и наверняка замолил свои грехи и спас душу от геенны огненной.
Впрочем, к спасению души стремился не он один. Черная громада Сарисберийского замка на меловом холме нависала над пятиречьем.
Стояли смутные времена.
Спустя три дня после завершения лабиринта Годефруа, 1 марта 1140 года, случилось полное солнечное затмение.
Гражданская война вспыхнула с новой силой.
Новый Сарум
Начало
1244 год
У слияния пяти рек, в широкой излучине, почти в миле от замка на холме, вырубили рощицы на равнине и расчистили огромную, в несколько сот акров, строительную площадку, на которой вырастало странное величественное сооружение, будто сказочный цветок, неспешно раскрывающий запыленные лепестки, или неведомое существо, высвобождающееся из кокона. Вдоль улиц стояли дощатые оштукатуренные дома, а посреди площади высилась громада из серого камня – незавершенный собор, поражающий воображение своими внушительными размерами и строгими очертаниями.
Новый город Солсбери отличался и от нормандского города-крепости, и от англосаксонского укрепленного бурга тем, что не имел ни крепостных стен, ни рва, а просторно раскинулся в широкой долине. Построили его для удобства торговцев и купцов.
История его возникновения становится яснее, если вернуться в недалекое прошлое.
После бурного правления Стефана в Англии наконец-то установился мир. На престол взошел Генрих II Плантагенет, племянник Стефана, сын императрицы Матильды. В наследство ему досталась огромная Анжуйская империя, так что царствовал он не только в Англии, но и в Нормандии и на большей части Франции. Войны он вел в Европе, а на остров Британия принес мир, справедливую систему правления и новые королевские законы, а также ввел присяжные суды. Нововведения Генриха II сохранились и в правление его сына, героического воителя Ричарда Львиное Сердце, и в последующее царствование его младшего отпрыска, несчастного Иоанна, который лишился владений в Анжу и Нормандии. Крупные феодалы, разочарованные правлением Иоанна, в конце концов восстали при поддержке рыцарей, горожан и духовенства. Под их давлением Иоанн подписал Великую хартию вольностей. Тем временем Людовик, сын французского короля Филиппа II Августа, воспользовавшись сумятицей, предпринял попытку захватить власть на востоке Англии. Вскорости Иоанн Безземельный умер, бароны изгнали французов с острова, восстановили мир и возвели на престол сына Иоанна, девятилетнего Генриха III.
Неудивительно, что благосостояние страны стало улучшаться. В средневековой Англии возникали новые города, возводились величественные соборы, выросло население. Источником богатства служила сельскохозяйственная продукция и овцеводство. Шерсть английских овец считалась лучшей в Европе, ее с удовольствием закупали в Италии и во Фландрии, где в то время процветали ткацкие и сукновальные мануфактуры. Пошлины и акцизные сборы были невелики, поэтому в XIII веке в феодальной Англии начался прирост капитала.
Для землевладельцев – особенно для крупных феодалов – наступили прекрасные времена. Властью и могуществом знатные бароны превосходили даже короля и неохотно платили налоги в королевскую казну, оскудевшую из-за постоянных войн, а Великая хартия вольностей и вовсе ограничила власть монарха.
Последующие английские короли, чтобы удовлетворить тщеславие могущественных феодалов, наделили их безмерными полномочиями и отдали в их распоряжение огромные области Англии. В своем имении феодал, выступая от имени короля, единолично вершил суд и собирал подати и оброк; зачастую в эти владения не допускались даже королевские чиновники, а королю приходилось довольствоваться лишь поземельной данью и правом созыва ополчения.
Со временем власть монарха развилась и окрепла, влияние отдельных феодалов уменьшилось, но владение землей по-прежнему оставалось основным источником богатства.
В правление короля Иоанна в частных владениях находилась треть сотен в Уилтшире; сто лет спустя на землях, принадлежавших крупным феодалам, было уже две трети сотен, каждая со своим управлением и судом. Обширными земельными угодьями владели родовитые семейства – Лонгспе, унаследовавшие титул графа Солсбери по женской линии, бароны Певерель, Пейвли и Гиффарды. Однако самым крупным землевладельцем оставалась Церковь – в одном только Уилтшире огромные поместья принадлежали монастырям в Гластонбери, Мальмсбери и Уилтоне, аббатствам в Винчестере и Эймсбери и, конечно же, епископу Солсберийскому.
Церковники-землевладельцы выплачивали денежную ренту в ко ролевскую казну, но все доходы с земель пополняли их сундуки.
Больше всего дохода приносили города – землевладелец получал арендную плату за сооружения, возведенные на его земле, долю назначенных судом штрафов, акцизные сборы за ввозимые и вывозимые товары.
В мирное время новые города возникали чуть ли не каждый день. В конце XII века епископ Винчестерский основал десятки городов, которые приносили епархии существенный доход. Разумеется, епископ Солсберийский решил последовать его примеру. Оснований для закладки нового города было достаточно. Во-первых, прежний собор был построен в неудобном месте – в замке на холме было ветрено и не хватало воды; белизна меловых склонов резала глаза; за крепостными стенами церковникам приходилось жить бок о бок с шумным королевским гарнизоном, что нарушало покой храма и мешало проводить богослужения. А вот к югу от холма, в долине, где сливались русла пяти рек, простирался широкий луг под названием Мирифилд, где во владениях епархии стояла скромная церковь Святого Мартина.
В 1218 году от Рождества Христова епископ Ричард Пур, младший брат предыдущего епископа Солсберийского, Герберта, получил милостивое разрешение папы римского и юного короля Генриха III на постройку нового собора в лугах. Разумеется, епископ выторговал себе позволение основать у храма новый город.
К этому времени градостроительство в Англии испытывало подъ ем, невиданный со времен римского завоевания. Города создавались по плану – где полукругом, где клином, но крупные поселения типа Солсбери строились по прямоугольной сетке.
Новый город расположился в широкой излучине реки Авон, которая полукольцом огибала город с севера, запада и юга. Сам город разделили на две части: соборное подворье, с храмом посередине и особняками клириков по краям, и торговое подворье с прямыми улицами и большим рынком в центре. Все это – собор и священники, рынок и торговцы – принадлежало епископу, феодальному владыке и господину Солсбери, что подтверждалось королевской хартией, пожалованной в 1227 году.
В июльскую жару трудиться тяжело. Работники то и дело утомленно переводили дух, но больше всего маялся тринадцатилетний большеголовый крепыш, с короткопалыми ладонями и серьезными серыми глазами. Суровый каноник не сводил с работников укоризненного взгляда, но мальчик все равно косился на улицу. Там, в долине, к северу от города, сегодня проходила важная встреча, на которой присутствовали Годфруа и Шокли. Если им удастся обо всем договориться, то больше гнуть спину ему не придется.
Он печально вздохнул – нудную работу он ненавидел и отчаянно мечтал изменить свою жизнь.
Каноник Стивен Портеорс холодно взглянул на него.
Юный Осмунд Масон был самым ничтожным из всех жителей Сарума, и священник не раз ему об этом напоминал:
– В глазах Господа нашего ты даже не горсть праха, ты мельче пылинки. Но помни, что Отец наш небесный всеведущ и вездесущ, ему известны все твои прегрешения.
Каноник поманил к себе мальчика. Осмунд знал почему – ведь он согрешил.
Куда ни глянь, повсюду витала пыль: дрожащим маревом висела над громадой собора, лежала на грудах серого чилмаркского камня, на телегах и повозках, на досках и бревнах, на лесах и на помостах, на бухтах канатов и на кучах щебня, тонким слоем покрывала каждый клочок двухсот акров соборного подворья и строящиеся дома каноников с садами и огородами, выходившими к излучине Авона. Пыль сизой пленкой затягивала речную гладь, обволакивала длинные пряди водорослей на отмелях и дымным облаком окутывала горделивых лебедей у берегов, где зелень травы будто припорошило серым снегом. Пыль оседала на заливных лугах, что тянулись от Фишертона и Бемертона до самого Уилтона, покрывалом устилала недостроенные кварталы нового города у соборного подворья и колыхалась над темным опустевшим замком на холме. На взгорье южный ветер сдувал с овец меловые облачка, осыпал тускло сверкающей пылью синих бабочек на склонах. Пыль нового города долетала даже до обвалившегося круга громадных камней в восьми милях от Сарума.
Пыль собиралась на плечах хмурого каноника, покрывала Осмунда с головы до ног, липла к коже, мешала дышать.
– Город наш построен на твердыне, основа его нерушима, – сказал каноник.
И в самом деле, хотя город и окружали болота, место для строительства собора было выбрано мудро – под Мирифилдом залегал толстый слой гальки и кремнёвого гравия.
– Возблагодари Господа за то, что тебе повезло родиться в годы великих деяний во славу Божию, – заявил Осмунду седовласый священник, грозно блеснув темными глазами из-под кустистых бровей, и потребовал: – А теперь назови семь смертных грехов.
– Гнев, чревоугодие, зависть, уныние, сребролюбие, блуд и гордыня, – покорно пробормотал мальчик накрепко затверженный список пороков, отправлявших грешника прямо в ад.
– И в чем ты сегодня покаешься? – спросил Портеорс.
«Неужели каноник обо всем прознал?» – испуганно подумал Осмунд.
Все лето мальчик трудился на строительстве хитроумного изобретения Стивена Портеорса – водостоков, подобных которым не бы ло ни в одном городе. От реки к городу провели сеть каналов, а по самой середине улиц проложили каменные желоба шириной от двух до шести футов, через которые перекинули деревянные мостки.
– Мы приведем реку в город, – гордо заявлял Портеорс.
Каналы и водостоки значили для него больше, чем сами улицы.
Как-то раз он обнаружил изъян в уровне одной из улиц, бегущих с севера на юг, и заставил работников не только исправить ошибку, но и изменить планировку всей части города, так чтобы улицы шли по ровному грунту.
– Во всем нужна точность, – утверждал каноник, – иначе вода течь не будет.
Точность… Услышав любимое слово священника, рабочие приуныли – жители Сарума хорошо знали о пристрастии Портеорса и его брата к скрупулезности и тщательности. Спорить было бесполезно; пришлось прокладывать улицу заново и рыть новый канал.
Осмунд всей душой ненавидел это занятие.
Мальчика, как и его отца и деда, называли семейным прозвищем Масон, но ему редко доводилось работать с камнем, разве что иногда обтесывать плиты для проклятых водостоков. Осмунд мечтал стать настоящим каменщиком, как те, что работали на строительстве собора. По вечерам он украдкой пробирался на соборное подворье и с жадным любопытством наблюдал за мастерами, которые приехали сюда со всей Англии и даже из Европы. Простому серфу из Авонсфорда попасть в гильдию каменщиков было невозможно, ведь в ученики и подмастерья обычно брали сыновей или племянников самих мастеров.
Любовь к работе с камнем была у Осмунда в крови. Отец и дед его считались лучшими каменщиками в Авонсфорде, и мальчик дал себе клятву, что и сам он в один прекрасный день примет участие в строительстве собора.
Вот уже сто лет прошло с тех пор, как Годрика Боди вздернули на виселице под стенами замка на холме. Спустя несколько месяцев после казни незадачливого пастуха косоглазая Мэри родила сына, а сама умерла родами. Николас, дядя Годрика, взял младенца под свою опеку, так что внуков Годрика Боди тоже стали называть семейным прозвищем Масон. Лет через восемьдесят после смерти Годрика один из его потомков женился на девушке из рода Николаса, и дети его унаследовали приземистое телосложение, короткопалость и большеголовость семьи Масонов. Внешне Осмунд походил на Масонов, но в нем, как некогда в нескладном юном резчике, жила тайная любовь к прекрасному.
А сейчас его заставляли выполнять тяжелую, скучную работу.
Он посмотрел на тощего седого каноника и грустно признался:
– Я повинен в грехе уныния.
– Вот именно, – удовлетворенно кивнул Стивен. – Потому что тебе работа не нравится. Но Господь сотворил тебя не для наслаждения жизнью, а для служения. Только в служении Господу нашему ты обретешь небесную благодать.
Осмунд поник тяжелой головой – каноник был суров, но справедлив.
– Погоди! – настойчиво произнес Портеорс. – Ты забыл еще об одном грехе, сын мой.
«Откуда он знает?» – забеспокоился мальчик, не поднимая глаз.
– Покайся! – потребовал каноник.
Осмунд молчал.
– Что ж, я сам тебе скажу. Грех твой – сребролюбие, – прошипел Стивен Портеорс.
Мальчику платили пенни в день – нищенское жалованье.
– Тебя заманивают нечестивые обольстители, отвлекают от богоугодного дела, – укоризненно провозгласил Стивен.
Увы, каждое его слово было правдой. Все утро Осмунд ждал появления Годфруа и Шокли – они обещали нанять его на работу за полтора пенни в день; за год скопится приличная сумма. И почему каноник назвал их нечестивыми обольстителями? Они же добропорядочные христиане! Мальчик медленно поднял голову и исподлобья посмотрел на каноника.
– Ради низменной наживы, из любви к деньгам ты готов бросить важную работу. Помни, сребролюбие – смертный грех, – упрекнул его священник и неожиданно сменил гнев на милость: – Ты умеешь с камнем обращаться. А еще говорят, что ты хорошо по дереву режешь.
Осмунд кивнул. Он и впрямь украсил замысловатой резьбой входную дверь в особняк Годфруа; священник наверняка ее видел.
– А на строительстве собора потрудиться не желаешь? – спросил Стивен Портеорс.
Мальчик решил, что ослышался. Неужели его мечте суждено исполниться?
– За работу платят пенни с четвертью в день, – добавил каноник. – На большее не надейся. Вот завершим водостоки укладывать, в Михайлов день отправишься в собор. Согласен?
– Да, – выдохнул Осмунд, не веря своему счастью.
– Вот и славно. Только помни, – помедлив, добавил Стивен, – ежели наймешься к Шокли и его приятелям, в собор тебя не допустят. Никогда и ни за что.
Осмунд побледнел, но смолчал.
Стивен Портеорс догадывался, что из юного Осмунда выйдет настоящий мастер.
Заметив, как из-за угла выехали Шокли и Годфруа, священник двинулся им навстречу.
У моста стоял узколицый мужчина – остроносое лицо его неуловимо напоминало морду хорька. Копна жестких черных волос слиплась от грязи и пота, и сальные пряди торчали в разные стороны, будто ветви обгорелого куста. Вдобавок, как и все вокруг, мужчину покрывала вездесущая пыль нового Солсбери.
Для Уильяма атте Бригге настал худший день в жизни.
Прищуренные близко посаженные глаза горели злобой. Ранним утром Уильям нагрузил тележку, вышел из Уилтона, пересек Авон по мосту у Фишертона и отправился на рынок в новом городе. Там он оставил товар на попечение уилтонского торговца, а сам ушел к реке.
Поведение Уильяма выглядело более чем странным.
Он замер у каменного моста, в два коротких пролета пересекавшего Авон. Посреди стремнины виднелся островок, где стояла церковь Святого Иоанна. Слева от Уильяма находилась лечебница Святого Николая. Оба здания и мост построил епископ Роберт де Бингхем.
Уильям атте Бригге взошел на мост, хмуро посмотрел на дорогу на юго-запад, обернулся к новому городу и перевел взгляд на церковь. Внезапно он дернулся, подпрыгнул, всплеснул тощими руками и, злобно плюнув в сторону лечебницы, завопил:
– У, проклятый епископ и его благочестивые деяния!
Уильям слыл человеком вздорным и обид никогда не забывал, но сегодня к обиде примешивалось горькое разочарование. На этот раз виноватым оказался преподобный Роберт Бингхем, епископ Солсберийский.
Со времен короля Альфреда, а может, и раньше, Уилтон был столицей округа, а впоследствии графства. Здесь проводили заседания суда, которые возглавлял местный шериф, англосаксы чеканили здесь монету, а у слияния двух рек возник шумный рынок.
Рынок в старом замке на холме уилтонским торговцам нисколько не мешал – далеко, покупателей мало, да и места меньше, то ли дело в западной долине. Однако двадцать пять лет назад жители Уилтона встревожились, узнав, что епископ Пур затеял строительство нового рыночного города по соседству да еще выхлопотал позволение ежегодно проводить ярмарку и держать рынок раз в неделю; фримены нового города, по примеру Винчестера и Бристоля, получили право на всевозможные торговые уступки и освобождение от пошлин. Но хуже всего было то, что всего в двух милях от нового города начинались королевские заповедные угодья в Кларендонском лесу, где часто охотился король Генрих III, а о любви короля к строящимся храмам знали все.
– Все деньги в новый город уйдут, – ворчали недовольные жители Уилтона. – А до нас королю дела нет.
Впрочем, поначалу дела шли на лад: к новому городу потянулись торговцы с юга и с запада, которым приходилось пересекать реку по Уилтонскому мосту. Двадцать лет горожане были довольны соседством, но в 1244 году епископ Бингхем решил построить новый мост, близ Эйлсвейда, к югу от собора. Приезжие торговцы с радостью выкладывали небольшую мзду за переход, потому что это значительно сокращало путь, однако Уилтон оставался в стороне.
С незапамятных времен в Уилтоне было два рыночных дня в неделю, а епископ получил разрешение только на один, но торговцам в новом городе Солсбери никто не запрещал выходить на рыночную площадь хоть каждый день. Сколько жители Уилтона ни жаловались королю, новый город переманивал к себе торговлю и прибыли.
За прошедшие сто лет семейство атте Бригге не преуспело. Кожевенное дело они забросили, и Уильям атте Бригге – правнук того самого Виллема, который неустанно судился с семейством Шокли, – приторговывал шерстью; он ссужал небольшие суммы мелким крестьянским хозяйствам, а взамен получал руно. Цены на шерсть оставались высокими, торговля заблаговременно купленным товаром приносила скромный доход. Жена Уильяма и его свояченица унаследовали надел в поместье Годфруа и тридцать голов овец, которые паслись на взгорье над Авоном; из шерсти женщины ткали на кроснах грубое полотно, а Уильям по дешевке сбывал ткань на местных рынках. Прадед-кожевник был человеком состоятельным, но Уильям жил бедно. Семейство атте Бригге таило давнюю неприязнь к зажиточным Шокли.
– Воры они, – убежденно внушал Уильям своим детям.
В довершение всех бед Шокли обзавелись домом в новом городе, разорявшем Уилтон.
– Да будут они прокляты! – злобно ворчал Уильям, возвращаясь на рынок. – И мост этот тоже проклят!
На рынке его ожидала еще одна неприятность.
У тележки с сукном собралась толпа зевак. Уилтонский торговец, на попечение которого Уильям оставил товар, хмуро отошел в сторону, а к повозке приблизился высокий суровый мужчина: Алан ле Портьер, алнажер – королевский чиновник, ведавший качеством и размерами тканых полотен. За ним следовала его дочь, Алисия.
Его появления Уильям атте Бригге опасался больше всего.
– Это твое сукно? – спросил ле Портьер.
Полвека назад король Ричард Львиное Сердце ввел особый закон, получивший название «Ассиза о мерах», который определял размеры и качество шерстяных тканей. Алан ле Портьер, брат каноника Стивена Портеорса, носил чуть измененное родовое имя, но был таким же придирчивым и дотошным. Уильям Лонгспе, граф Солсбери, назначив Алана на пост алнажера, с усмешкой объяснил королевским советникам:
– Он каждую шерстинку в штуке сукна пересчитает.
Худощавый и темноглазый Алан, как и его брат, поседел рано.
Шестнадцатилетняя Алисия, миловидная девушка со светло-карими глазами, с любопытством глядела на отца.
– Это твое сукно? – повторил алнажер.
Уильям угрюмо кивнул.
– На четверть дюйма у же, чем полагается, – невозмутимо объявил ле Портьер.
И как он только заметил?! Мелкое мошенничество – зауживание полотна – приносило Уильяму неплохой доход. Ох, не надо было оставлять тележку на виду!
– Заплатишь штраф, а сукно отвезешь назад в Уилтон. Здесь худым товаром торговать запрещено.
Уильям огорченно вздохнул. Впрочем, хорошо хоть товар не отобрали. Однако теперь сукно не продать, два месяца работы впустую. Уильям атте Бригге безмолвно поволок тележку с рынка.
– За этой семейкой глаз да глаз нужен, – объяснил ле Портьер дочери.
Уильям выругался себе под нос.
Тем временем в полумиле к югу от Авонсфорда, на берегу реки, происходила встреча, которая так занимала воображение юного Осмунда.
На прибрежной тропе стояла повозка, запряженная парой великолепных лошадей. В двадцати шагах от повозки негромко переговаривались двое мужчин и юноша; у самой воды задумчиво расхаживал мужчина, с ног до головы закутанный в длинный черный плащ.
Жоселен де Годфруа, Эдвард Шокли и его восемнадцатилетний сын Питер с нетерпением ожидали, какое решение примет мужчина в плаще.
– Если он даст согласие, то мы разбогатеем, – восторженно прошептал Эдвард Шокли.
За прошедшие сто лет семья Шокли сохранила надел во владениях Годефруа и жила в скромном достатке. Эдвард купил дом в новом городе и открыл небольшое дело: приобрел три ткацких станка и нанял ткачей. В округе Шокли уважали; он вступил в гильдию торговцев, и к 1240 году стал почтенным горожанином. За усадьбой Шокли присматривал виллан-управляющий.
Жоселен де Годфруа был невозмутим.
С беспокойных времен правления короля Стефана род Годефруа упрочил свое положение. Хотя сюзерен Ришара де Годефруа, Эдуард Сарисберийский, вместе с братом переметнулся на сторону императрицы Матильды, своего влияния при королевском дворе они не утратили и семья рыцаря не пострадала. В правление Генриха II и Ричарда Львиное Сердце потомки Годефруа прославились доблестью и отвагой. Ранульф де Годефруа храбро сражался в Третьем крестовом походе, и в авонсфордской церкви была гробница с величественной статуей рыцаря: молитвенно сложенные руки, длинный меч на боку и скрещенные ноги – традиционная поза крестоносца. Оловянный медальон, который Ранульф привез из монастыря в Святой земле, украсил бок церковного колокола. За эти заслуги король пожаловал семейству еще одно имение в Саруме; Жоселену прочили должность шерифа графства.
От своих славных предков с имениями в Англии и во Франции Жоселен отличался еще и тем, что считал Англию родиной.
В первые полтораста лет после Нормандского завоевания многие нормандские и бретонские рыцари, владея поместьями в Англии и во Франции, на вопрос о родине ответить затруднялись. Французский король Филипп II отобрал у Иоанна Безземельного его владения в Нормандии, и феодалам пришлось выбирать: отказываться от имений в Англии и возвращаться во Францию или, наоборот, избавляться от поместий во Франции и оседать в Британии. Годе фруа решили остаться в Англии. Для сюзеренов в то время семейные связи были важнее смутного понятия нации, поэтому у вассалов было время привести свои дела в порядок. Владения Годефруа в Нормандии давным-давно продали, а Жоселен первым в роду признал, что по происхождению он англичанин, и изменил имя на староанглийский манер – Годфруа.
Жоселен де Годфруа был гладко выбрит; длинные волосы спускались на плечи тщательно завитыми локонами, высокий лоб прикрывала ровная челка; в темных глазах на благородном узком лице светился ум. Верхняя льняная рубаха-котта ниспадала до щиколоток, плечи укрывал плащ, подбитый лисьим мехом, длинноносые башмаки из мягкой кожи, расшитые серебряной нитью, застегивались у лодыжек. В руках Жоселен держал треугольный фетровый берет, шею обвивала золотая цепь с двумя талисманами, привезенными из походов к святым местам – в Галицию, к гробу святого Иакова Компостельского, и к могиле святого Фомы Бекета, епископа Кентерберийского, невинноубиенного семьдесят лет назад, после ссоры с Генрихом II. Лошадиную сбрую украшали два медальона изумрудной эмали с изображением фамильного герба – белый лебедь на червленом поле.
Все мужчины рода Годфруа были ярыми сторонниками рыцарства. В конце прошлого века Ричард I, для укрепления доблести и славы рыцарства, начал устраивать турниры в полях между старым замком в Сарисбери и Уилтоном. Ранульф де Годефруа горячо поддерживал этот обычай, а его сын и внук во всем следовали примеру деда. Однако Жоселен не забывал и о хозяйственных делах, поэтому к сегодняшней встрече отнесся со всей серьезностью.
Какое же решение примет гость?
Дородный тридцатилетний мужчина в черном плаще откинул капюшон и, тяжело ступая по мягкой траве на склоне холма, направился к собеседникам. Голова у него была большая, с залысинами, на лице с крючковатым носом и четко очерченными губами светились широко расставленные голубые глаза.
– Течение сильное, грунт надежный, – с улыбкой обратился он к Годфруа на французском наречии. – Ссуду я тебе дам.
Если судить по роскошному плащу, прекрасному коню и французскому говору, мужчина принадлежал к правящему классу нормандцев, однако на груди его белела нашивка – два прямоугольника в два дюйма шириной и три дюйма длиной, – называемая табулой, в память о ветхозаветных скрижалях Моисеевых.
Аарон из Уилтона был иудеем.
Иудеи, живущие в Англии, назывались слугами королевской казны и принадлежали королю. В Британию они переселились с се вера Франции; Вильгельм Завоеватель, а позже его сыновья и наследники, Вильгельм II Рыжий и Генрих I, всячески поощряли их переезд, хотя иудеям возбранялось владеть землей или заниматься ремеслом. Тем не менее они находились под королевской защитой и опекой, поскольку ссужали деньги в рост, посредничали в международной торговле и всячески пополняли королевскую казну, приумножая богатство. Впрочем, этим занимались и итальянские торговцы, и христианский орден тамплиеров, рыцарей-храмовников, однако в Англии, где на Крестовые походы, войны и содержание наемного войска требовались значительные суммы, первыми банкирами и финансистами стали именно иудеи. Они славились хорошим воспитанием и образованием, прекрасно говорили по-французски и пользовались доверием знатных господ и священнослужителей. Церкви необходимы были деньги на строительство новых соборов и монастырей, и иудеи охотно ссужали нужные суммы под залог шерсти и сукна.
В долгое правление короля Генриха II, несмотря на отдельные проявления недовольства со стороны местного населения, иудейская община в Англии процветала. Иудеи обслуживали королевскую казну, выдавали ссуды под залог будущих поступлений из графств и, таким образом, заложили основу системы последующих государственных займов. Они по-прежнему принадлежали королю, который позволял им ссужать деньги под залог земельных угодий, однако после смерти любого иудея его имущество переходило королю. А в конце XII века в Англии ввели талью – произвольно взимаемый налог в казну, которым облагались иудейские общины. Генрих II не был жестокосердным правителем, и его притязания оста вались терпимыми, однако в конце его царствования налоги, получаемые с иудейских общин, составляли примерно седьмую часть годового дохода страны.
– Мы приносим пользу королю, – наставлял Аарона его отец, – но спокойной жизни нам это не обещает.
Причин для опасений было множество. Подозрительное отношение к иудеям усилилось при подготовке Крестового похода короля Ричарда II, неприязнь горожан переросла в ненависть, начались мятежи. В Йорке сто пятьдесят иудеев, запертых в городской башне, покончили с собой, убоявшись разъяренной толпы. Чтобы успокоить население, потребовалось вмешательство короля, который издал несколько дополнительных указов о защите иудеев.
Однако же тальи неуклонно росли, а когда Ричард Львиное Сердце попал в плен, возвращаясь из Святой земли, одну иудейскую общину обязали выплатить в счет его выкупа пять тысяч марок – в три раза больше, чем жителей Лондона, крупного торгового города и порта. Преемник Ричарда, Иоанн Безземельный, еще боль ше увеличил налоги.
Тем временем Церковь провозгласила ростовщичество презренным занятием, несовместимым с христианскими добродетелями, и объявила его мздоимством. Таким образом, король Англии оказался в странном положении: формально он признавал требования Церкви, но, увеличивая размер тальи, пользовался всеми преимуществами иудейской финансовой системы, которая находилась под его защитой, а значит, сам превратился в мздоимца.
Несмотря на многочисленные недостатки, устройство иудейской общины было отлично налажено; в ней существовали свои суды и казначейство; по королевскому указу в городах, в том числе и в Уилтоне, создавались архивы для хранения документов обо всех сделках с участием иудеев.
Семья Аарона обосновалась в Уилтоне сто лет назад и занимала влиятельное положение в городе. Сам Аарон был хорошо знаком с Годфруа и Шокли; дед его любил подолгу беседовать с доблестным Ранульфом де Годефруа, а отец ссудил небольшую сумму Эдварду Шокли, когда тот решил начать дело в новом Солсбери. Неудивительно, что обе семьи решили воспользоваться услугами ростовщика и сейчас.
– Позволь спросить, – серьезно сказал Аарон, обернувшись к Эдварду, – у тебя есть надел и ткацкая мастерская в городе. Кто будет вести новое дело?
– Мой сын Питер, – ответил Эдвард.
Аарон внимательно посмотрел на юношу – в Питере чувствовалась некоторая порывистость, свойственная молодым людям.
– Что ж, тебе придется за ним присматривать, – заметил ростовщик и направился к своей лошади.
Годфруа и Шокли растерянно переглянулись – Аарон не упомянул о самом важном условии.
– Погоди! – остановил его Эдвард и с запинкой напомнил: – Ты же ставку не назвал.
– Ох, я и забыл, – усмехнулся иудей. – Весьма неосмотрительно с моей стороны. Для вас ставка обычная.
Начинающие предприниматели вздохнули с облегчением – на такую удачу они и не надеялись.
В XIII веке бурный рост промышленности и сельского хозяйства привел к недостатку наличных денег, и процентные ставки на ссуды были очень высоки. Обычная ставка составляла одно-два пенни за фунт в неделю, что соответствовало годовой ставке от двадцати одного до сорока трех процентов. Как только король увеличил налоги на доходы ростовщиков, ставки подскочили до шестидесяти, а то и до восьмидесяти процентов от ссужаемого капитала. Впрочем, христианские ростовщики и менялы из Ломбардии и Кагора требовали в залог имущество, в полтора раза превышавшее сумму ссуды, которую следовало вернуть до конца года, то есть ставка составляла около пятидесяти процентов за несколько месяцев, однако же землевладельцы и торговцы с готовностью платили несоразмерно высокие цены. Аарон давно знал семейства Шокли и Годфруа, поэтому брал с них сравнительно скромную по тем временам ставку – двадцать пять процентов годовых.
Аарон и Годфруа вскочили на лошадей, Шокли с сыном уселись в повозку и все неспешно вернулись в город.
По дороге Эдвард Шокли повернулся к сыну и прошептал:
– Строительство начнем немедленно. Считай, мы разбогатели.
Питер кивнул и чуть заметно улыбнулся, твердо уверенный в том, что добьется успеха в задуманном предприятии, а потом женится на Алисии. Вряд ли ле Портьер откажется выдать дочь замуж за владельца мельницы.
Мельница, о которой думал юноша, не имела отношения к зерну. Годфруа и Шокли решили заняться самым доходным занятием того времени – производством сукна.
Ткачество, известное с древнейших времен, за две тысячи лет почти не претерпело изменений. Сначала овец стригли, руно трепали и вычесывали частым гребнем и кардами – досками с зубьями разной формы и толщины, – чтобы распрямить волокна, а потом отмывали от жира и грязи и тщательно просушивали. После этого шерсть пряли вручную – свивали в нитку с помощью веретена, потому что прялки еще не изобрели, – затем сматывали в мотки и лишь тогда приступали к ткачеству.
Устройство ткацких станков тоже не изменилось: кросны представляли собой вертикальный брус, на который накидывались нити основы, утяжеленные небольшими грузиками, а нити утка пропускались между нитями основы и для плотности прибивались особым ручным приспособлением – бёрдом. Монотонный процесс повторялся тысячекратно, полотно медленно, дюйм за дюймом, увеличивалось, пока работник не доходил до конца нитей основы.
Однако же с недавних пор появились горизонтальные ткацкие станки, где нити основы обвивали вокруг вращающейся перекладины – навоя – и натягивали на раму, что позволяло ткать бесконечно длинное полотно. Теперь ткачи могли сидеть по обе стороны полотна, передавая уток друг другу, что увеличивало ширину ткани. Горизонтальный станок совершил переворот в ткачестве. Именно такими станками и обзавелся Шокли.
Сыровье, то есть сырое сукно, требовало дальнейшей обработки: его следовало обезжирить, что достигалось вымачиванием в широких чанах, наполненных смесью воды с мочой, а потом свалять, вытаптывая мокрую ткань ногами. От влаги ткань уплотнялась и сбивалась, едкая моча растворяла жир и грязь; вымоченное сукно тщательно полоскали в большом количестве воды, чтобы избавиться от вони, а потом обрабатывали особыми ворсильными щетками из головок репейника, тщательно состригали ворс ножницами и, наконец, растягивали полотно на рамах для просушки.
Валяние сукна было тяжелым и долгим делом, занимающим до двадцати часов в сутки; чем толще сукно, тем тщательнее его следовало вымачивать и валять.
Руно английских овец пользовалось спросом в Европе, но к XIII веку отношение к торговле шерстью изменилось по двум основным причинам. Во-первых, производство английского сукна неуклонно возрастало, хотя на остров все еще привозили ткани из Фландрии и Италии. Во-вторых, появились сукновальные мельницы – механические приспособления для валяния сукна.
Эдвард Шокли быстро оценил их значение.
– Понимаешь, сукновальная мельница работает так же, как обычная, мукомольная, и приводится в движение водяным колесом, только вместо жерновов в ней движутся деревянные валяльные молоты, которые отбивают ткань, – объяснял он Годфруа. – Даже с самым толстым полотном мельница справляется лучше десятка работников.
Сукновальные мельницы уже применялись в Британии, особенно в западной оконечности острова. Местные сукновальщики относились к ним недоверчиво, опасаясь лишиться привычной, хотя и изнурительной работы. С виду сукновальни ничем не отличались от обычных мельниц, выдавал их лишь ритмичный стук тяжелых деревянных молотов и едкая вонь мочи. Во владениях епископа Винчестерского, в Даунтоне, уже установили именно такую сукновальню.
– С каждым годом производят все больше и больше сукна. Если построить сукновальню, у нас будет преимущество, – настаивал Шокли.
Для этого требовалось купить участок земли на берегу, там, где можно построить водяную мельницу с черпальным колесом и сукновальным лотком, и подыскать поручителя из состоятельных людей. Разумеется, за помощью и поддержкой Шокли обратился к Годфруа.
Они уговорились, что Годфруа возьмет у Аарона ссуду под залог своих земель и построит сукновальню в своем новом ленном владении, а Шокли будет отдавать ему половину денег, полученных за обработку сукна сторонних заказчиков, и все деньги, уплаченные за обработку сукна вилланов Годфруа, которым по феодальному обычаю позволялось пользоваться только господской сукновальней. Новая постройка одновременно увеличивала и ценность владений, и непосредственные доходы феодала – смесь черт феодализма и нарождающегося капитализма была весьма характерна для того времени.
Для строительства требовались умелые каменщики и плотники.
– Кто стены класть будет? – спросил Аарон у Годфруа.
– Есть у меня виллан на примете, юный Осмунд. Он сейчас в городе работает.
– Все лучше, чем мастера-каменщика на стороне нанимать, да и дешевле обойдется, – с улыбкой заметил ростовщик.
– Тоже верно, – согласился Годфруа.
Полчаса спустя Годфруа, Аарон и Шокли въехали на рынок, где Шокли и Годфруа направились к одному из торговцев. Уильям ат-те Бригге подозрительно поглядел на всадников и, улучив минуту, подошел к Аарону. Особой приязни мужчины друг к другу не испытывали, но жили в Уилтоне по соседству, поэтому держали себя с подобающей вежливостью.
– В чем дело? – спросил Уильям. – Зачем им деньги понадобились?
Аарон промолчал.
– Может, беда какая приключилась? – с надеждой осведомился атте Бригге.
– Нет, как раз наоборот, я очень удачно вложил деньги, – признался ростовщик и вкратце описал задуманное Шокли предприятие. – Выгодное дельце.
Уильям, помрачнев, погрузился в размышления. Кросны жены и стада овец находились во владениях рыцаря, а значит…
Тут к нему подъехал Годфруа, и худшие опасения Уильяма подтвердились.
– Твои родственники ткут сукно в моих владениях? – презрительно спросил Жоселен.
Уильям уныло кивнул.
– Обрабатывать ткань будешь на моей сукновальне, – приказал Годфруа и послал коня вперед.
Повозка Шокли покатила следом. За спиной Уильяма послышался смех, но торговец не стал оборачиваться.
Значит, сукно, которое он задешево валял в Уилтоне, теперь придется сдавать на сукновальню проклятых Шокли и Годфруа, а они наверняка заломят непомерную цену. Он разорен!
Уильям атте Бригге решительно ухватился за ручки тележки, но, вспомнив о перенесенных унижениях, вывалил сукно в дорожную пыль и заорал во все горло:
– Проклятый епископ! Проклятый мост! Да будьте вы все прокляты – и ле Портьер, и мерзкий иудей, и Шокли!
Он сплюнул, отвернулся и под палящим солнцем побрел домой, в Уилтон.
Аарон остался на рыночной площади, а Годфруа и Шокли подъехали к работникам, которые под присмотром каноника Портеорса рыли канавы для водостоков. Рыцарь остановился и поманил к себе Осмунда.
Мальчик хотел было вылезти из канавы, но каноник строго поглядел на него и сам направился к Годфруа.
– Зачем он тебе понадобился? – сурово спросил Портеорс.
– Мне надо поговорить с моим вилланом, – спокойно ответил Годфруа.
– Он занят.
– Я его не задержу, святой отец, – почтительно ответил Жоселен.
– Я не позволю тебе его переманить, так и знай, – заявил священник.
Годфруа возмущенно поглядел на него – виллан подчинялся только своему господину, и каноник не имел права ему приказывать.
– Не вмешивайся в мои дела, святой отец, – надменно бросил рыцарь и, не желая продолжать разговор с каноником, добродушно обратился к Осмунду: – Завтра утром начинаем строить сукновальню. На рассвете зайдешь к старосте.
– Юнец занят богоугодным делом, – немедленно заявил Портеорс.
Разумеется, желания самого Осмунда никого не интересовали, хотя считалось, что он волен делать все, что ему вздумается, в дни, свободные от работы на феодала. Каноник упрямо стоял на своем.
– Богоугодным делом ты именуешь рытье канав на твоей улице? – презрительно уточнил Годфруа.
– С завтрашнего дня он занят на строительстве собора! – выпалил священник, в мгновение ока изменив участь Осмунда.
Годфруа задумался. Труд вассала принадлежал господину, но благочестие не позволяло забирать работника со строительства храма. И все же рыцарь осознавал, что Портеорс кривит душой.
– Он будет занят в моих владениях, – холодно произнес Годфруа.
Каноник грозно свел брови:
– Не гневи Господа нашего и не оскорбляй Святую церковь! Я на тебя епископу пожалуюсь, до самого короля дойду.
– Не говори глупостей, – рассудительно заметил Жоселен, но в глазах его мелькнуло опасение.
Портеорс сурово поджал губы.
Годфруа неспроста опасался обвинений каноника, связанных с церковными делами.
Богобоязненный король Генрих III, взошедший на престол двадцать лет назад, отличался редким благочестием и в правлении своем во всем подражал Эдуарду Исповеднику, королю англосаксов и последнему представителю Уэссекской династии. Генрих любил церковные службы и всячески поощрял строительство храмов. Он часто охотился в заповедном Кларендонском лесу и никогда не упускал случая приехать в Солсбери, чтобы взглянуть, как идет постройка собора. Если он узнает, что работников отвлекают от богоугодного дела, то наверняка взъярится, и тогда Годфруа несдобровать.
Однако же дело было не только в благочестии короля. Между государством и Церковью уже давно шла борьба за власть. Все началось с размолвки между королем Вильгельмом II Рыжим и Ансельмом, архиепископом Кентерберийским. Противостояние между церковной и светской властью продолжилось в правление Генриха II, что привело к убийству архиепископа Фомы Бекета у алтаря Кентерберийского собора. Затем Иоанн Безземельный отказался признать нового архиепископа Кентерберийского, Стефана Лэнгтона, из-за чего папа Иннокентий III наложил на всю страну интердикт, запрещавший любые церковные службы – освящение, крещение, бракосочетание и даже похороны. Народ охватило уныние и страх. Шесть долгих лет Иоанн сопротивлялся и неистовствовал, изгонял священников, исполнявших папское повеление, а их земли отбирал в казну. В ответ Иннокентий отлучил короля от Церкви, освободил его подданных от присяги на верность королю, объявил его низложенным и благословил вторжение французского короля Филиппа II. Иоанн понял, что проиграл. Ему пришлось покаяться, преклонить колена перед папским легатом и получить назад королевство в виде папского лена, за который следовало ежегодно платить Риму дань. Священнослужители торжествовали: господство церковной власти над светской было неопровержимо доказано.
И все же самым важным оставалось то, что Церковь и государство не могли существовать друг без друга: Церковь оказывала нравственное влияние на гражданское управление и законодательство, а государство охраняло внешние интересы Церкви и ее обширные земельные владения. После отмены папского интердикта в Англии между Церковью и государством установилось сотрудничество, что благоприятно повлияло на развитие страны. Когда бароны взбунтовались против жестокого и необузданного Иоанна Безземельного, именно архиепископ Стефан Лэнгтон присмирил их и составил Хартию вольностей, основные положения которой строго соблюдались на протяжении последующих веков. Теперь Церковь поддерживала и английских монархов, и английский народ, а ее нравственные идеалы не допустили возвращения беспорядков, свойственных правлению Стефана.
Случилось это еще и потому, что епископы теперь пользовались всеобщим уважением, верно служили королю и заботились о благосостоянии страны. Назначали их по предложению Церкви Англии или папы римского. Любые разногласия между Церковью и местными властями разрешались в суде. Нынешний епископ Солсберийский, Роберт Бингхем, в отличие от беспутного Рожера, был че ловеком достойным и благочестивым, и семейство Годфруа относилось к нему с почтением. Новый город с величественным собором и шумным рынком служил символом примирения и содружества Церкви и государства.
Именно поэтому Жоселен де Годфруа умолк, едва только каноник Портеорс упомянул богоугодное дело.
Вокруг них уже собралась толпа зевак.
Осмунд смотрел из канавы на рыцаря и каноника, сам не зная, кому желает победы в споре. Тут Стивен Портеорс едва заметно вздернул бровь, и мальчик понял, что сейчас священник приведет свой самый веский довод.
Портеорс не только отличался суровым и непреклонным нравом, но и представлял собой новую, могущественную силу.
Недавно в Английской церкви возникло новое учение, основоположником которого стал Роберт Гроссетест, известный схоласт и епископ Линкольнский. Основной задачей Церкви он считал спасение души, а значит, епископы и архидиаконы обязаны следить за моралью и нравственностью не только священников епархии, но и всех прихожан.
– В целом я не возражаю против наставлений Гроссетеста, – признался однажды Годфруа седовласому Бингхему. – Однако многие клирики слишком буквально воспринимают его слова.
И действительно, чрезмерно строгие требования Римской церкви часто вызывали недовольство добропорядочных англичан. Бингхем снисходительно улыбнулся, но осуждать реформы не стал.
Стивен Портеорс недаром слыл в округе закоренелым фанатиком веры. Он считал, что если Христос пришел к нам с мечом, то и учение Церкви должно разить непокорных наповал, как острый клинок.
Каноник поглядел на рыцаря, предвкушая легкую и скорую победу. Он назубок затвердил все наставления Гроссетеста и знал, что делать дальше.
– В тебе обитает грех гордыни, Жоселен де Годфруа! – вскричал Портеорс, тыча пальцем в рыцаря. – А в тебе, Эдвард Шокли, живет грех сребролюбия. И в сыне твоем, Питере… – Он перевел дух и торжествующе воскликнул: – В Питере – блуд! Вижу, вижу все грехи ваши! Покайтесь!
– Да любой восемнадцатилетний мальчишка о блуде мечтает, – пробормотал Годфруа.
– Покайтесь! Понесите достойное наказание за грехи ваши, – продолжал вещать каноник, охваченный религиозным рвением. – Не смейте препятствовать богоугодным деяниям!
Воцарилось неловкое молчание. К месту размолвки стекалось все больше и больше людей, привлеченных криками священника. Годфруа медлил в нерешительности, Эдвард и Питер Шокли встревоженно глядели на него, а Осмунд затаил дыхание.
Неожиданно из-за угла вышел ни о чем не подозревающий Аарон и, приблизившись к спорщикам, учтиво поклонился Портеорсу, поглядел на Осмунда и спросил Годфруа:
– Вот этот юнец будет мельницу строить?
Каноник подскочил как ужаленный – ему открылась вся глубина богопротивной затеи.
– Мздоимец! – завопил он, указывая на Аарона длинным тощим пальцем. – Проклятые грешники! Нечестивцы!
Аарон невозмутимо посмотрел на священника. Оскорбления не задевали ростовщика, но во взгляде его мелькнуло раздражение, не ускользнувшее от Портеорса.
– Нечестивый безбожник-иудей хочет обокрасть Господа нашего, ставит препоны богоугодным деяниям! – провозгласил каноник, обращаясь к толпе.
Отец Аарона из Уилтона часто предупреждал сына:
– В споре с глупцом одержать верх легко, да как бы потом самому в дураках не остаться.
К несчастью, Аарон, человек добродушный и честный, глупцов не выносил и был с ними слишком резок. Он сразу понял, что имеет дело с человеком ограниченным и недалеким, поэтому решил выставить глупость каноника напоказ.
– Иудейская община в Йорке дала деньги на богоугодное деяние – постройку девяти цистерцианских монастырей, да только иудеев все равно перерезали… – сухо заметил он.
Действительно, монастыри на севере Англии в недавнем прошлом поддерживали добрые отношения с иудейскими общинами.
Портеорс злобно посмотрел на ростовщика:
– Иудейских денег Церкви больше не надобно!
– А Четвертый Латеранский собор требует, чтобы мы платили церковные подати, – продолжил Аарон.
– Вы же отказались! – фыркнул священник.
– Верно, – с хмурой улыбкой ответил ростовщик. – Мы и так много сделали на благо Церкви.
Он собрался уходить, но Портеорс не унимался:
– Вы жаждете христианские земли к рукам прибрать!
– Ничего подобного, – спокойно возразил Аарон. – Если помнишь, епископ Илийский нам в залог святые реликвии отдал.
И правда, сто лет тому назад именно этот поступок Нигеля, племянника беспутного епископа Рожера, весьма позабавил иудейскую общину и вызвал негодование духовенства.
Каноник, побагровев от ярости, пригрозил ростовщику:
– Король с вами расправится, вот увидишь!
Генрих III питал противоречивые чувства к иудеям. Четыре года назад он позволил публично сжечь Талмуд и всячески потворствовал злоупотреблениям чиновников, ведавших казной еврейской общины, однако же ему постоянно требовались деньги на строительство храмов и монастырей.
– Король собственноручно принял от нас золото в Вестминстере, – напомнил священнику Аарон.
– Я пекусь о строительстве храма Господнего! – завопил Портеорс.
– Разумеется, – кивнул ростовщик. – Мы тоже об этом печемся. Король сам обратился к нам за ссудой на восстановление Вестминстерского аббатства.
Каноник ошеломленно умолк, услышав неожиданное известие (работы по восстановлению церкви Святого Петра в Вестминстере, заложенной Эдуардом Исповедником, действительно начались в 1245 году), однако, не желая признать себя побежденным, с горечью воскликнул:
– Вы, иудеи, христианских младенцев распинаете!
В то время иудеев называли врагами Церкви и еретиками, но самым страшным было обвинение в совершении чудовищных ритуальных убийств. Впервые это произошло сто лет назад в Норвиче, где обнаружили труп якобы распятого ребенка. Подобные нелепые слухи с готовностью распускали несостоятельные должники, чтобы избавиться от кредиторов.
Спорить с каноником было бесполезно. Аарон презрительно отвернулся и уехал. Портеорс торжествующе посмотрел ему вслед и снова набросился на Годфруа и Шокли:
– Ежели вы оторвете юнца от богоугодного дела и не прекратите якшаться с христопродавцами, то я отлучу вас от Церкви.
По закону каноник не имел права привести свою угрозу в исполнение, но Годфруа, не желая ссориться с церковными властями, не стал продолжать спор.
– Как тебе будет угодно, – пожал плечами рыцарь, кивком попрощался с Шокли и отправился домой.
Так в 1244 году от Рождества Христова каноник Стивен Портеорс спас Осмунда-каменщика от смертных грехов уныния и сребролюбия и, за жалованье пенни с фартингом в день, отправил его на строительство нового собора Пресвятой Девы Марии в новом Солсбери.
Днем Питер Шокли встретился в городе с Алисией ле Портьер и сообщил ей радостную весть.
– Мы начинаем строить сукновальню, – гордо объявил он, откидывая со лба непослушные светлые волосы. – Отец обещал поставить меня управляющим.
Питер всегда хотел добиться успеха. Напористая целеустремленность юноши привлекала Алисию, хотя она и не упускала случая над ним подшутить.
– Надеюсь, у тебя силенок хватит, – лукаво заметила девушка.
– Еще как хватит! – горячо воскликнул он. – И вообще, это только начало…
Она чуть отвернулась, чтобы Питер не заметил ее улыбки, и с напускным сомнением произнесла:
– Не знаю, справишься ли ты…
– Справлюсь, вот увидишь! – раскрасневшись, заверил ее юноша и пустился в пространные объяснения об устройстве сукновальни: тяжелые валяльные молоты, черпальное колесо и лотки для замачивания сукна… – Все будет лучше, чем сукновальня в Даунтоне.
Алисия серьезно посмотрела на него:
– Я в тебя верю.
Питер едва не задохнулся от радости. Они с Алисией были знакомы с детства, но ее похвала приводила его в восторг. «Я обязательно добьюсь успеха, разбогатею, и через год-два мы сыграем свадьбу», – мечтал юноша.
Алисия была миловидной веснушчатой девушкой с рыжеватыми, по-мальчишески коротко остриженными волосами. Складная и резвая, в детстве она любила бегать наперегонки и лучше всех плавала. Уолтер, единственный сын Алана ле Портьера, был намного старше Алисии, и отец пристроил его на службу в Вестминстер, где тот стал влиятельным королевским чиновником. Старшего брата девушка любила, а отца обожала – его спокойный, но требовательный нрав приводил ее в восхищение. «Я хоть и девчонка, но не хуже любого мальчишки», – заявляла семилетняя Алисия своим приятелям.
За прошедшие два года она очень изменилась, стала красавицей, окруженной загадочным ореолом тайны. Глядя на девушку, Питер дрожал от восторга. Больше всего он восхищался ее глазами, унаследованными от матери: обычно светло-карие, с сине-зелеными крапинками у самых зрачков, они внезапно меняли цвет и становились фиалковыми.
– Пойдем на рынок? – предложила она.
На рыночной площади толпились люди, стоял шум и гомон.
С западной стороны виднелась приземистая церковь Святого Мученика Фомы Бекета, у которой раскинулись палатки торговцев сыром. В восточной оконечности рынка расположили загоны для скота. В центре площади высился позорный столб с колодками для устрашения злоумышленников и мелких воришек. Вдоль южного края тянулись шумные торговые ряды: колесный, горшечный (там продавали не только глиняные горшки и плошки, но и оловянную посуду), рыбный, скобяной, съестной и кожевенный, где обосновались сапожники и башмачники. Были там мясники и пекари, торговцы сукном и портные, серебряных дел мастера, плотники, кожевники, пряхи и кузнецы, перчаточники и шляпники, продавцы пряностей, зеленщики и торговцы чесноком. Бондари сидели у груд бочек, торговцы углем, солью и овсом наперебой зазывали покупателей, продавцы свиней и домашней птицы расхваливали свои товары. У креста, в юго-восточном углу рынка, торговали шерстью. Впоследствии названия всевозможных средневековых ремесел превратятся в родовые имена и станут распространенными английскими фамилиями: Картер – возчик, Купер – бондарь, Бутчер – мясник, Тейлор – портной.
Между рядами бродили покупатели, горожане из Уилтона и крестьяне из близлежащих деревень, простые вилланы и знатные господа, богатые священники и бедные монахи, каменщики-строители собора и молчаливые пастухи с длинными посохами. Суровые каноники придирчиво выбирали сыры, уилтонские монахини приценивались к пряностям, уличные мальчишки с криками носились у прилавков. В воздухе пахло углем и кожей, сыром, медом и свечным воском.
Питер приметил что-то на прилавке серебряных дел мастера и торопливо отошел; Алисия притворилась, что не обратила на это внимания. Молодые люди провели на рынке почти час и теперь направились к северному выходу с площади, мимо Кабаньего Ряда.
Епископ выстроил город квадратами, как на шахматной доске. Каждый квадрат разделили на одинаковые участки, шириной примерно пятнадцать ярдов и длиной тридцать пять ярдов, и стали сдавать их за шиллинг в год под застройку. Ремесленники и торговцы строили дома с лавками или мастерскими на первом этаже, а те, кто побогаче, – особняки. К югу от рынка лежали кварталы Нью-стрит – Новой улицы, а к северу еще шла застройка кварталов Кабаньего Ряда.
За Кабаньим Рядом, на улице, ведущей на север, к старому замку, стоял дом ле Портьера – трехэтажный дощатый особняк с оштукатуренными стенами и остроконечной двускатной крышей, выложенной черепицей.
Молодых людей встретила мать Алисии и проводила Питера задумчивым взглядом фиалковых глаз. Юноша решил, что она оценивает будущего зятя. Мать Алисии, маленькая и хрупкая, нравилась Питеру еще и тем, что умудрилась сохранить моложавый вид, несмотря на портящую ее сутулость. Юноша надеялся, что его избранница унаследовала осанку от надменного отца, а привлекательность и юную свежесть – от матери.
Питер с гордостью посмотрел на Алисию и подумал, что в выборе невесты не ошибся.
Они вышли на задний двор, где вместо хозяйственных пристроек разбили сад, обнесенный оградой из стройных вечнозеленых тисов; в саду росли кусты роз и жимолость.
Алисия села на деревянную скамью посреди сада, и Питер небрежно протянул ей подарок, купленный на рынке, – крошечный серебряный медальон на тоненькой цепочке (серебро добывали в открытых карьерах в устье реки). Алисия недоверчиво посмотрела на юношу.
– Это тебе, – с запинкой произнес он.
Она смущенно отвела взгляд и, взяв подарок, спросила:
– И что это значит?
– Надень его, чтобы все знали: ты – моя! – хвастливо заявил Питер.
– Так уж и твоя?! – возразила Алисия, втайне польщенная подарком.
– А чья же? Моя, конечно.
– Ну, это еще неизвестно…
Питер, весьма довольный собой, равнодушно пожал плечами.
– Может, мне и вовсе не захочется быть твоей, – покраснев, тихо сказала Алисия.
Юноша решил, что она упирается из приличия, и гордо напомнил:
– Я же тебе подарок сделал!
– Ну и что? Больше тебе нечего сказать? – обиженно спросила девушка: ей хотелось услышать признание в любви.
– Такому подарку любая обрадуется, – упрямо ответил Питер. – Ежели тебе он не по нраву, я найду, кому его отдать.
Алисия, побледнев, утратила дар речи. К глазам подступили слезы.
– Тогда забирай свой подарок! – всхлипнула она. – Мне такого не надобно. И тебя мне не надобно!
Питер понял, что слишком далеко зашел, но не знал, как выкрутиться.
– Я завидный жених, мужчина состоятельный…
Фиалковые глаза потемнели, в них мелькнуло презрение.
– Ты не мужчина, а мальчишка. Мне таких не нужно. Ступай прочь! Видеть тебя не желаю, – холодно произнесла Алисия и протянула ему медальон.
Питер ошеломленно взял безделушку и вышел из сада, разочарованно думая: «Ничего страшного, она образумится!»
Вечером мать позвала Алисию в спальню и заставила принарядиться к ужину.
– Это еще зачем? – удивленно спросила девушка.
Мать задумчиво посмотрела на нее:
– Ты за кого замуж хочешь?
Обычно Алисия со смехом отвечала: «За Питера Шокли», но сегодня обиженно заявила:
– Не знаю.
– Питер – прекрасный юноша, но слишком молод. К тому же незнатного рода, торгового сословия. Тебе нужен человек посолиднее.
На щеках Алисии вспыхнул румянец. Она догадывалась, что сегодня вечером произойдет что-то необычное. Мать сосредоточенно поглядела на Алисию, попросила снять скромное платье-блио и льняную нижнюю рубаху-котту, а взамен надела на дочь белую шелковую сорочку. Алисия с восторгом погладила тонкую ткань.
– Грудь у тебя красивая, негоже ее прятать, – сказала мать и достала из сундука у кровати синее платье, богато расшитое золотой нитью.
Платье, подвязанное золотым пояском чуть выше талии, пышными складками ниспадало до самого пола. Мать затянула шнуровку впереди, соблазнительно приподняв грудь дочери, прикрытую тонким шелком. Алисия покраснела от смущения, а мать аккуратно повязала ей голову белым повойником и надела поверх льняной чепец. Алисия погляделась в бронзовое зеркало на стене и изумленно ахнула. Она и не подозревала, что так красива.
– Ты взрослая женщина, дитя мое, – усмехнулась мать.
– Ради кого все это? – спросила Алисия.
– Сегодня Уолтер приезжает из Винчестера с важным гостем, старым другом твоего отца, – объяснила мать. – Его зовут Жоффрей де Уайтхит, он владелец большого имения. В прошлом году он потерял жену и сына – в усадьбе пожар случился, – так что сейчас хочет обзавестись наследником.
– Отец меня насильно выдаст замуж?
– Нет, что ты! – вздохнула мать. – Он надеется, что Жоффрей тебе понравится, да и Уолтер считает его завидным женихом.
К отцу и брату Алисия относилась с глубоким почтением и знала, что худого они ей не пожелают.
– А он очень старый? – робко спросила она.
– Нет, – рассмеялась мать. – Не первой молодости, но седина украшает мужчину. Они скоро приедут.
Алисия чинно спустилась на первый этаж. Подол длинного платья с шелестом скользил по ступеням. Внезапно девушка ощутила себя вполне взрослой – Питер Шокли слишком юн, чтобы оценить ее по достоинству.
Осмунд неожиданно осознал, что совершил третий смертный грех.
Мальчику очень нравилось работать на строительстве собора – здесь, на строительной площадке, начинался новый мир.
По велению каноника Осмунда взяли не простым работником – подносить камни и таскать тяжелые корзины со щебнем, – а учеником каменщика. Впрочем, пятьдесят каменщиков словно бы и не замечали новичка. Среди мастеров особое положение занимали Николас из Или и его помощник Роберт, которые руководили строительством, но самым главным был Элиас де Деренхем, зодчий собора, прославившийся возведением многих замечательных храмов, в том числе и гробницы святого Фомы Бекета в Кентербери. Преклонный возраст не удерживал зодчего от частых разъездов – вот и сейчас Элиаса не было в соборе.
Каменщики, подмастерья и остальные ученики не обращали на мальчика внимания, однако он не унывал. Его мечта свершилась, он будет строить собор!
Поначалу он трудился на самых простых работах – резал глыбы серого камня на блоки, помогал их обтесывать. Жаркими летними днями, в тени медленно растущих стен он наблюдал за работой каменщиков. Ночевать ему позволяли в бревенчатых хижинах каменщиков, у северной и восточной стены соборного подворья. Вечерами он скромно сидел в стороне и прислушивался к разговорам, но скрытные каменщики крепко хранили тайны своего ремесла и не торопились посвящать в них новичка.
Ежедневно Осмунд приходил в восточную оконечность собора, где уже построили небольшую часовню – одноярусную капеллу Богоматери. Там на столе красовалась деревянная модель здания, и всем работникам позволяли ее рассматривать.
Собор представлял собой длинное узкое сооружение с двумя огромными трансептами посредине, пересекающими продольный неф и образующими средокрестие; два трансепта поменьше располагались в восточной оконечности собора; ровно посредине длинной крыши находилась двадцатифутовая квадратная башня. Таким было типичное устройство средневековых соборов того времени – прямые линии и четкие очертания свидетельствовали о скромности и сдержанности.
Старые нормандские храмы больше походили на крепости – толстые стены, круглые сводчатые арки и узкие бойницы окон, – а новый собор выглядел изящным и просторным. Особенно поражали воображение два яруса высоких стрельчатых окон – стекло выгодно оттеняло серый чилмаркский камень стен. Здание казалось воплощением простоты и естественности.
Однажды утром Осмунд, как обычно, любовался моделью. Внезапно раздался негромкий голос:
– Ну как, нравится тебе?
Осмунд испуганно обернулся – в капеллу вошел старик с залысинами на широком лбу.
– Да, – с запинкой ответил мальчик, не зная, кто к нему обратился. – Все так просто и понятно…
– Вся прелесть в простоте, – улыбнулся старик. – Вот посмотри на окна. Видишь, они совсем простые, никакой ажурной резьбы. В Европе сейчас принято украшать и окна, и своды замысловатыми каменными кружевами, но мне так не нравится. К сарумскому чину это совсем не подходит.
– Наверное, это самый большой собор на свете! – восхищенно прошептал Осмунд.
– Нет, что ты! – рассмеялся старик. – Амьенский собор во Франции в два раза больше нашего, только изнутри это незаметно. Знаешь почему? Все дело в пропорциях. Видишь, своды опираются на стройные пилястры из пурбекского мрамора; камень очень прочный, и колонны можно сделать тоньше. А по углам средокрестия свод будут поддерживать четыре массивные колонны, но они так высоки, что их толщины не замечаешь. Главное – четкие линии.
Осмунд запоздало сообразил, что с ним разговаривает сам главный зодчий, и обомлел от изумления.
– Ты каменщик? – дружелюбно осведомился каноник Элиас де Деренхем.
– Нет, – потупился Осмунд. – Я еще только учусь.
– А резать умеешь?
– Да, – кивнул мальчик; он хорошо резал по дереву и не сомневался, что справится и с камнем.
Старик кивнул и вышел.
Два дня спустя к Осмунду обратился один из мастеров:
– Ты хочешь стать каменщиком?
Осмунд торопливо закивал.
– Ежели ты согласен пойти в помощники к нашему ученику, то, может быть, мы примем тебя в гильдию, – сказал мастер.
Мальчик знал, что только через семь лет ученичества его признают подмастерьем в гильдии каменщиков, но почтительно склонил голову.
– Пойдешь в помощники к Бартоломью, – велел мастер. – Он тебя всему научит.
Так началась новая жизнь Осмунда Масона.
Пятнадцатилетний Бартоломью, тощий и бледный, с сальными черными волосами и незаживающим чирьем на шее, хмуро поздоровался с новым помощником и неохотно пообещал обучить его основам ремесла.
На следующий день Роберт, мастер-каменщик, расспросил Осмунда о его житье и приказал во всем слушаться Бартоломью. Угрюмый наставник научил мальчика орудовать долотом, объяснил, как определять разные сорта камня, рассказал о многочисленных строительных ремеслах. Осмунд погрузился в удивительный мир каменщиков. Он с трепетом следил, как мастер, тщательно отмеряя расстояния угольником и циркулем, вычерчивает серебряной палочкой на льняном полотне планы отдельных участков собора.
– На ткани легче чертить серебром, а не свинцом, – объяснил Бартоломью. – Линии видны лучше.
Осмунд внимательно присматривался к работе плотников, которые устанавливали не только стропила, но и строительные леса; доски для них распиливали на козлах, на особой площадке, рядом с которой высились груды бревен, срубленных в Кларендонском лесу.
На северо-восточной стороне соборного подворья, у ворот епископского дворца, трудились стекольщики, собирая огромные витражи из кусочков цветного стекла, обожженного в печах. Осмунд с восторгом рассматривал изображения святых, которые вскоре украсят высокие окна собора.
На соборном подворье стояли огромные амбары, мастерские художников и маляров, столовые, кухни, уборные – за двадцать лет здесь вырос целый город мастеров. Вдоль южной стены собора расположились длинные деревянные сараи каменщиков. Здесь работали каменотесы и пильщики, разметчики и укладчики камня, резчики и полировщики, шлифовальщики и точильщики, которые готовили сотни капителей и каменных украшений для колонн, арок и сводов. План расположения колонн чертили в натуральную величину на полу, а в углах были свалены груды деревянных образцов – модели каменных конструкций и соединений.
Все это должен был изучить и освоить тот, кто хотел овладеть ремеслом каменщика.
Камень для строительства собора привозили из разных мест. Стены возводили из местного известняка, добываемого в каменоломнях Чилмарка, в двенадцати милях к западу от Солсбери. Серый камень, едва заметно отливающий зеленью, обрабатывать было легко. Колонны, на которых держалась массивная крыша, сооружали из другого, прочного камня – пурбекского мрамора, привозимого с южного побережья, из каменоломен у замка Корф. Каменоломни принадлежали некой благочестивой вдове Алисе Брюэр, которая пожертвовала на строительство храма весь камень, добытый в течение двенадцати лет.
Больше всего Осмунду нравился серый чилмаркский известняк. Мальчик часто приносил обломки домой, в Авонсфорд, и всю дорогу рассматривал их, вглядываясь в шершавую поверхность камня.
– Каждый камень, как дерево, имеет свое зерно – об этом надо помнить при обработке и распиле, – наставлял его Бартоломью. – От зерна зависит, как долго выдержит под ветром и дождем камень, уложенный в стену.
Каждая глыба отливала своим цветом – голубоватым или красноватым, но больше всего прозеленью.
Часть обучения каменщика проходила в Чилмаркских каменоломнях, где глыбы наскоро обтесывали, прежде чем отвозить в Солс бери. В начале августа туда отправили и Осмунда.
Рано утром, сгорая от нетерпения, мальчик вышел в путь. Дорога вела мимо Уилтона, но за городом, в долине, только глубокие колеи, оставленные тяжело нагруженными телегами, говорили о чем-то необычном. Неожиданно тропа резко повернула в лес, и Осмунд сообразил, что добрался до Чилмарка. На лесной поляне стояли шалаши и палатки каменотесов, деревянный сарай, в котором резали и обтесывали камень, а чуть поодаль – телеги, ждущие груза. Мальчик удивленно огляделся: где же каменоломни?
Осмунд подошел к одному из работников и объяснил, что его прислали учиться. Молодой человек дружелюбно улыбнулся, взял факел и повел Осмунда к деревьям, близ которых чернел вход в пещеру.
Вскоре мальчик ахнул от восхищения: в склоне, за сравнительно небольшим отверстием, скрывался просторный зал, земля под ногами полого спускалась куда-то вглубь, пещера разветвлялась на многочисленные запутанные проходы, глубокие выемки, таинственные пустоты – внизу и наверху, справа и слева, куда ни бросишь взгляд. Потом, когда глаза его привыкли к полумраку, он различил в неверном свете далеких факелов, что все эти залы и проходы были единым огромным пространством, из которого извлекли камень, оставив только столбы-подпорки.
– Ох, это совсем как собор, только под землей! – изумленно воскликнул мальчик.
Извилистые проходы убегали в темноту, своды над головой, под которыми гуляло эхо, были выше арок собора. Чилмаркская каменоломня казалась подземным храмом.
– Солсберийский собор рожден из этого камня, – заметил молодой работник. – Здесь и еще на одну церковь хватит.
Два часа Осмунд завороженно бродил по пещере – ему доставляло необычайное наслаждение думать, что величественный собор с его парящими арками и сводами появился на свет из-под земли с помощью кирки и человеческих рук.
Осмунд провел в каменоломнях полмесяца, а потом возчики предложили отвезти его назад в Солсбери. В собор отправляли шесть телег с подготовленным камнем, а еще на шести повозках везли щебенку.
– А для чего нужен щебень? – спросил мальчик.
– Погоди, сам увидишь, – ответил возчик.
Обоз отъехал на пять миль от каменоломни, и возчики один за другим принялись сбрасывать щебенку на дорогу.
– Заодно и дороги улучшаем, – улыбаясь, объяснил возчик. – Когда камень вырубают, щебня много набирается, надо же его куда-то девать. А так – польза.
Месяц спустя Осмунда отправили вниз по реке, к гавани. В прибрежном городке к этому времени появилась небольшая каменная крепость на насыпном кургане и нормандская церковь, которая и дала новое имя поселению – Крайстчерч, церковь Христа; старое англосаксонское название Твайнхем давно забылось. В тихую гавань, к мысу, защищенному холмом, подходили огромные деревянные баржи, нагруженные мрамором из западных каменоломен, а затем отправлялись к Саруму по реке Авон.
Стены собора медленно, но неуклонно становились все выше и выше. Работники затаскивали на стены бочки с мелом, известью и кремнёвой щебенкой, высыпали содержимое в проемы между внутренними и наружными камнями кладки.
– Во-первых, полые стены строить быстрее и легче, чем цельно-каменные, – объяснял Бартоломью. – А во-вторых, известь и мел надежно спекаются с камнем.
Мальчик сообразил, что собор вобрал в себя не только местный камень, но и меловые утесы и известняковые холмы.
А в один прекрасный день Осмунд совершил невероятное открытие, которое касалось окон собора. Деревянную модель он разглядывал так часто и пристально, что знал каждую ее черточку, но вдруг, непонятно почему, решил сосчитать в ней окна. К его совершенному изумлению, окон оказалось триста шестьдесят пять.
– Столько же, сколько дней в году! – ошеломленно прошептал он, схватил дощечку и пересчитал окна снова.
Число было верным – триста шестьдесят пять окон, не больше и не меньше.
Неужели это случайность? Или именно так и задумал Элиас? Спросить зодчего мальчик не осмеливался, но счел это за знак Божьего благоволения и истово перекрестился.
Чем больше Осмунд узнавал о секретах ремесла, тем больше убеждался в своем невежестве и в глубине познаний строителей величественного собора. Вечером он приходил в часовню Богоматери, опускался на колени перед деревянной моделью и жарко шептал:
– Пресвятая Дева Мария, помоги мне стать каменщиком!
Через несколько месяцев именно здесь, в часовне, Осмунд снова встретился с великим Элиасом де Деренхемом. Каноник пришел сюда из своего особняка, Леденхолла, названного так за свинцовую кровлю[22], и остановился у входа, с удивлением глядя на мальчика, погруженного в молитву перед деревянной моделью собора.
– В чем дело, сын мой?
Осмунд поглядел на зодчего грустными серыми глазами и вздохнул:
– Святой отец, я недостоин… Я горсть праха, жалкий грешник…
– Вспомни слова Господа нашего, – с улыбкой произнес Элиас и легко коснулся несоразмерно крупной головы мальчика. – Отец Небесный даже малых птах наделил зрением. Ты не прах, юный каменщик, ты зоркая птаха.
Осмунд, охваченный неизъяснимой радостью, на время позабыл о смертных грехах.
Близилась полночь.
Торговцы на рыночной площади давно свернули яркие навесы над прилавками; загоны для скота опустели; на городских улицах не было ни души.
У приземистой приходской церкви Святого Фомы, между деревянными столами сырных рядов неуверенно пробирался человек в длинном сером плаще с широким капюшоном. В ночном небе ярко светили звезды. Человек, пошатываясь, добрался до западной оконечности рынка, вышел из тени и побрел по улице, ведущей на север, мимо Кабаньего Ряда.
Питер Шокли напился вдрызг.
Медленно ковыляя по Кастл-стрит – За́мковой улице, – он наконец добрался до высокого особняка ле Портьеров, подобрал с земли камешек и запустил его в самое верхнее окно.
Там была спальня Алисии. Девушка последний раз ночевала в отцовском доме.
С третьего раза Питеру удалось попасть в стекло. Немного погодя в оконном проеме показалось бледное лицо Алисии.
Питер откинул капюшон.
Отросшие волосы Алисии волной ниспадали на плечи, прикрытые тонкой белой тканью ночной сорочки. Юноше показалось, что он чувствует тепло и аромат нежного девичьего тела.
– Алисия! – прошептал он.
– Ступай прочь! – вздохнула она.
Питер являлся к ней под окна третью ночь подряд.
– Спускайся! – умоляюще воскликнул он.
– Уходи!
Вот уже три раза он настойчиво уговаривал ее сбежать, но Алисия резонно возражала:
– И как мы будем жить дальше?
– Что-нибудь придумаем! – отмахивался он.
Алисия считала Питера безрассудным юнцом, но втайне досадовала, что, поддавшись на уговоры отца и брата, согласилась выйти замуж за рыцаря из Винчестера. Впрочем, это не мешало ей с пренебрежением относиться к юноше.
– Уходи, забудь меня! – прошипела она в темноту.
– А ты меня сможешь забыть?
– Я тебя уже забыла. Я люблю Жоффрея де Уайтхита, – презрительно обронила она и закрыла окно.
Питер уходить не собирался. Он набрал горсть камней и принялся швырять их в окно. Вскоре в ночной тишине раздался звон разбитого стекла. Входная дверь распахнулась. На улицу вышел Алан ле Портьер с палкой в руках.
– Иди домой, Питер! – снисходительно велел он, словно проказливому ребенку. – За разбитое окно завтра заплатишь.
Питер уставился на него и обиженно выкрикнул:
– Ты ее продал дряхлому рыцарю!
В окнах соседних домов появились любопытные лица. Ле Портьер надменно выпрямился:
– Сопляк!
В темноте Питер не заметил взмаха палки и взвыл от боли: удар пришелся по локтю.
– Убирайся! – приказал ле Портьер.
В Питере вскипела злость, и он с кулаками бросился к чиновнику, но тут заметил в дверном проеме Алисию. Лицо ее, освещенное дрожащим пламенем свечи, выражало безмерное презрение и упрек.
Юноша оцепенел.
– Ступай прочь, мальчишка! – холодно вымолвила Алисия и ушла в дом.
Питер недоуменно посмотрел ей вслед, пожал плечами и, провожаемый любопытными взглядами соседей, побрел вдоль улицы, не подозревая, что из темноты за размолвкой злорадно наблюдает еще один свидетель.
Уильям атте Бригге допоздна засиделся в трактире на постоялом дворе, а по пути домой заметил одинокого захмелевшего прохожего и, признав в нем Питера Шокли, решил за ним проследить. Со злобным удовольствием он отметил разбитое окно и попытку ввязаться в драку с ле Портьером, и сразу сообразил, что на этом юноша не остановится.
Питер вернулся на рыночную площадь и принялся угрюмо пинать деревянные столы, потом подобрал с земли булыжник и с яростным воплем запустил им в стену.
Уильям, гадко ухмыльнувшись, отыскал под прилавком увесистое полено, с размаху швырнул его в окно церкви Святого Фомы и побежал к дому бейлифа.
Немного погодя бейлиф явился на рыночную площадь и задержал Питера, уныло бродившего между прилавками.
– Я своими глазами видел, как он бил окна в доме ле Портьера. Все соседи на Кастл-стрит подтвердят, – объяснил Уильям судебному приставу. – А потом здесь церковное окно расколотил.
Спустя десять дней Питер Шокли предстал перед епископским судом по обвинению в нарушении общественного порядка. За разбитое окно церкви его присудили к шести часам стояния у позорного столба на рыночной площади.
– Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, – сказал бейлиф Эдварду Шокли.
Однако Уильям атте Бригге этим не удовлетворился.
Стояние у позорного столба было унизительным и постыдным наказанием: преступника заковывали в колодки – тяжелые деревянные бруски с отверстиями для рук и шеи, – а толпа забрасывала его гнилыми овощами и даже камнями.
Эдвард Шокли разгневанно набросился на сына:
– Ты опозорил семью! Теперь я тебе сукновальню не доверю!
На следующее утро Питера вывели на рыночную площадь и приковали к позорному столбу.
«Все пропало! Все мои мечты пошли прахом, – уныло думал юноша. – Ни Алисии, ни сукновальни…» Он едва не заплакал, представив любимую в старческих объятиях винчестерского рыцаря, и невидящими глазами уставился в толпу, даже не заметив, что уличный мальчишка, метко швырнув гнилое яблоко, раскровенил ему губы. Спустя некоторое время Питер сообразил, что рядом с ним кто-то стоит. Колодка на шее мешала повернуть голову, но он видел ноги в грубых сандалиях и запачканный грязью подол серой рясы францисканского монаха.
К тому времени в Саруме появились два монашеских ордена: проповедники-доминиканцы в строгих черных одеяниях, основавшие монастырь неподалеку от Уилтона, и последователи Франциска Ассизского, нового святого, недавно канонизированного Римской церковью. Серые братья, как называли францисканцев, следовали заповедям апостольской бедности, провозглашали любовь к ближнему и своими добрыми деяниями уже заслужили уважение жителей Солсбери и благоволение короля. Они пришли в Сарум из Италии пятнадцать лет назад, и епископ отвел им скромный дом на Сент-Энн-стрит – улице Святой Анны, – у соборного подворья.
Питеру прежде не доводилось встречаться с францисканцами, и теперь он с любопытством рассматривал стоящего перед ним монаха. Молодой человек, смуглый и темноволосый, оказался ровесником Питера.
– Ты за что в колодки попал? – с мелодичным итальянским выговором спросил францисканец.
– В наказание за мои прегрешения, – ответил Питер. – И из-за девушки. А ты что здесь делаешь?
– То же самое. – Монах сверкнул белозубой улыбкой и представился: – Меня зовут брат Иоанн. – Он уселся у ног юноши и дружелюбно попросил: – Ну, рассказывай.
Питер пустился в пространный рассказ о своих злоключениях, а под конец признался:
– Знаешь, хоть я и был пьян, но не припомню, чтобы церковные окна бил.
Иоанн в свою очередь поведал юноше о жизни в Италии – он тоже был родом из семьи торговцев. За беседой с монахом незаметно пролетел час.
– Отец меня никогда не простит, – удрученно вздохнул Питер. – Ведь я семью опозорил…
– Простит, дай ему время, – улыбнулся Иоанн.
– А как мне прощение заслужить?
– Прилежным трудом и послушанием, – ответил монах.
Тут его окликнул другой францисканец, и Иоанн отошел. Питер остался в одиночестве.
Солнце медленно поднималось к зениту. Питер взмок от жары, но, по счастью, никто из посетителей рынка не обращал на него внимания. Около полудня на площади появился Уильям атте Бригге с корзиной гнилых овощей и здоровенной репой в руках. Он гадливо улыбнулся и, озираясь, подошел к позорному столбу. За торговцем увязались уличные мальчишки, предвкушая забаву, – до этого их отпугивало присутствие францисканца.
Уильям атте Бригге решил, что ему представился великолепный случай поквитаться с проклятыми Шокли за давнюю обиду. Он опустил корзину на землю и велел мальчишкам выбрать подходящие снаряды. В лицо Питеру тут же полетел кочан капусты. Дети завопили от восторга.
От гнилых овощей большого вреда не было, однако Уильям, злорадно ухмыляясь, примеривался запустить в юношу увесистой репой. Питер пригляделся, с ужасом заметил, что в корнеплод вонзен острый осколок кремня, и приготовился звать на помощь. Уильям атте Бригге молниеносно замахнулся и изо всех сил швырнул репу.
Питер, неловко отшатнувшись, стукнулся затылком о колодку. В глазах потемнело, лицо исказилось от боли. Кто-то вскрикнул, но сам юноша ничего не почувствовал. Неужели Уильям промазал?
Он осторожно приоткрыл глаза. В трех шагах от него распростерся молодой францисканец. Лицо монаха заливала кровь из глубокого пореза на лбу. Уильям торопливо подхватил корзину и бросился бежать.
– Ты зачем это сделал? – ошеломленно спросил Питер.
– Нас, францисканцев, не зря называют блаженными, – скорбно изрек брат Иоанн и потерял сознание.
Многие покупатели заметили, что произошло, и с отвращением смотрели вслед Уильяму. Из-за прилавков выскочили продавцы, бросились помогать монаху. Кто-то побежал за бейлифом. Чуть погодя с Питера сняли колодки.
На следующий день Питер с отцом отправились во францисканский монастырь. Брат Иоанн уже хлопотал по хозяйству. На лбу монаха багровела огромная рваная рана.
– Ну что, ты с отцом помирился? – спросил он Питера.
Питер Шокли никогда не отличался религиозным рвением, но до конца жизни делал ежегодные пожертвования францисканской обители в Солсбери.
Следующей весной Шокли едва не лишились сукновальни. Повинен в том был целый ряд непредвиденных и весьма неприятных событий, которые происходили не в Саруме, но затрагивали жизнь всех англичан.
Король Генрих III все пятьдесят шесть лет своего правления не оставлял мысли о возвращении французских владений, утраченных его отцом Иоанном Безземельным, и не желал смириться с потерей Нормандии. Когда французский король Людовик VIII вторгся в провинцию Пуату на атлантическом побережье, все еще считавшуюся владениями английской короны, Генрих решил, что настала пора действовать.
Чтобы разобраться в хитросплетениях тогдашней европейской политики, следует помнить, что при феодализме предпочтение отдавалось не государственным, а фамильным интересам. Европейские государства росли и богатели стараниями английских торговцев шерстью, фламандских и итальянских ткачей, однако были связаны тесными родственными узами правящих домов, цели и стремления которых диктовались непрочными личными связями и предпочтениями, часто наперекор здравому смыслу.
В подобной ситуации оказался и король Генрих III. Его жена Элеонора была второй дочерью графа Раймунда Беренгера V, владыки Прованса – солнечного края на юге Франции, известного своими трубадурами и менестрелями. Мать Генриха, Изабелла Ангулемская, после смерти мужа вернулась во Францию, где вышла замуж за Гуго X Лузиньяна, разорвав его помолвку со своей дочерью Иоанной. Вдобавок Генрих был родственником Хайме I, короля Арагона, который претендовал на земли Южной Франции, и шурином Фридриха II, короля Германии и императора Священной Римской империи, который жаждал ослабить Францию и захватить Северную Италию.
Для всех этих правителей Генрих был всего-навсего пешкой в крупной игре. В 1242 году от Рождества Христова он ввязался в совершенно нелепую интригу – настолько запутанную, что сами ее участники плохо понимали, чего добиваются. Правители владений в Южной Франции, при поддержке короля Арагона, Лузиньянов и даже императора Священной Римской империи, должны были изгнать Людовика VIII из областей на юго-западе страны и вернуть их Генриху. Осознавая бессмысленность этой затеи, некоторые заговорщики украдкой заключили мирные договоры с французским королем. Английские бароны, хорошо зная, что дипломатическими способностями Генрих не обладает, отказались выступить в поход. Король резко увеличил щитовой сбор и обложил иудеев непомерной тальей, а его союзники на юге Франции, догадываясь, что и полководец из Генриха никудышный, благодарно приняли у него деньги. Этим дело и закончилось. Генрих бесславно возвратился в Англию, за несколько месяцев растратив немыслимую по тем временам сумму – сорок тысяч фунтов.
Разумеется, казна была разорена.
В 1244 году случилось еще одно неприятное событие.
Во дворе лондонской церкви Святого Бенедикта обнаружили труп младенца, якобы покрытый зловещими иудейскими письменами. Каноники собора Святого Павла поверили кровавому навету и с почестями похоронили младенца у алтаря как христианского мученика. Король объявил иудеев виновными в злодейском убийстве и обязал их выплатить огромный штраф, в двенадцать раз больше обычного годового сбора, – шестьдесят тысяч марок, или ровно сорок тысяч фунтов.
Аарон из Уилтона, приехав к Годфруа и Шокли, со вздохом сказал:
– Увы, ссуды я вам дать не смогу – денег у меня просто не осталось.
Иудейские общины по всей Англии спешно собирали наличные для выплаты штрафа.
Через неделю Годфруа и Шокли встретились снова, чтобы обсудить, как быть дальше. Встреча запомнилась Питеру на всю жизнь, потому что именно с нее началось его знакомство с политикой.
Наличных денег для постройки сукновальни не было ни у одного из семейств.
– Придется продать усадьбу, – вздохнул Эдвард Шокли.
– Я бы и рад денег дать, но… – Годфруа развел руками.
Владелец Авонсфорда, как и многие феодалы в то время, считался человеком состоятельным, но, хотя жил по средствам, наличными не располагал. Своими имениями он управлял прилежно, хорошо разбирался в сельском хозяйстве и получал доход от многочисленных нововведений: авонсфордские поля засеивали не два, а три раза в год, и озимая пшеница, овес и ячмень прекрасно продавались на рынке в Солсбери; он разводил и тонкорунных линкольнских овец, за шерсть которых платили большие деньги – из нее ткали самое лучшее сукно. В общем, Жоселен делал все возможное, чтобы обеспечить десятилетнему Гуго, своему сыну и наследнику, безбедное существование в будущем.
Однако наличности постоянно не хватало, ведь знатные господа и жить должны подобающе. Об этом знали все, кто был знаком с балладами французских трубадуров или со сказаниями о короле Артуре и его рыцарях. Расходов было много – пиры и развлечения, рыцарские турниры, новое крыло особняка с готическими окнами…
– Богатство есть, а денег нет, – объяснил он сыну.
В таком положении находились почти все феодалы того времени.
Годфруа и Шокли подумывали даже обратиться за ссудой к кагорским менялам.
– Они нас до нитки разденут! – удрученно заметил Эдвард Шокли.
И тут обычно невозмутимый Годфруа не выдержал:
– Во всем король виноват! Король и его проклятые чужестранные советники и фавориты! И его жена-иноземка, и все их алчное семейство!
Питер всегда считал рыцаря верным сторонником короля, поэтому сейчас изумленно заморгал, но последующие слова Годфруа совершенно ошеломили юношу.
– Он хуже ребенка! – воскликнул рыцарь. – Пока мал был, английские советники за него правили, прекрасно обходились без чужеземцев. А теперь он только деньгами сорит да государство разоряет.
Непочтительные высказывания о благочестивом монархе Питер счел чуть ли не богохульством, однако взгляды Годфруа разделяли многие его современники – и знать, и крупные промышленники. Король мечтал об утраченных владениях, но его вассалы о них давно забыли. Недовольство баронов вызывали сводные братья короля и многочисленные французские родственники, которых назначали на доходные должности и щедро одаривали землями. Король облагал баронов непомерными щитовыми сборами, а бароны, в свою очередь, взимали их со своих рыцарей-вассалов. Впрочем, недавнее требование денег бароны сочли чрезмерным и напомнили Генриху о существовании Великой хартии вольностей, которая ограничивала его власть. Годфруа не стал говорить Шокли о слухах, что бароны, возмущенные произволом, собираются избрать совет четырех и ограничить королевскую власть.
Для сына провинциального торговца такие рассуждения граничили с изменой. Питер не знал, что и думать, однако понимал, что расточительность короля разоряет его подданных, в том числе и семейство Шокли. Чтобы не допустить этого, необходимы решительные действия.
Два месяца спустя тяжелые дубовые бревна, из которых должны были сделать валяльные колотушки, по-прежнему лежали на земле; на берегу высились нетронутые груды строительного камня. Наконец в поместье Годфруа снова приехал Аарон.
– Я привез вам деньги, – объявил он. – Но если король снова увеличит талью, эта сумма станет моей последней ссудой.
– А ставка увеличилась? – спросил Годфруа, зная, что иудейским ростовщикам придется увеличить процент, под который выдавались деньги.
– Для вас ставка остается прежней, как и уговаривались, – ответил Аарон.
Жоселен де Годфруа вышел в гардеробную, где хранилось его самое ценное имущество, и, вернувшись, торжественно протянул ростовщику небольшой томик в сафьяновом переплете – полученный от прадеда французский перевод «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского.
– На память о нашей встрече, – сказал рыцарь.
Аарон с благодарностью принял дар.
Через два дня в поместье прискакал гонец от Аарона из Уилтона и с поклоном передал Годфруа небольшой сверток, в котором оказалась еще одна книга – собрание басен под названием «Лисьи сказки», написанных иудеем из Оксфорда; автора звали Берекия ха-Накдан, или, на английский манер, Бенедикт Грамматист. Басни, переведенные на французский, были роскошно иллюстрированы.
«Гордец он, подарков так просто не принимает», – мысленно усмехнулся Годфруа и на следующий день сказал Эдварду Шокли:
– Теперь можно начинать строительство.
1248 год
Осмунд так и не понял, почему Бартоломью, его угрюмый наставник, вдруг невзлюбил своего подопечного. Случилось это примерно через год после начала ученичества Осмунда.
Вечером после работы мальчик сидел у огня в домике каменщиков и наводил последний лоск на лебедя, вырезанного из цельного куска дуба, – фигурку предстояло укрепить на одной из массивных дверей в авонсфордской усадьбе Годфруа. Один из каменщиков заметил, что делает Осмунд, внимательно осмотрел фигурку и подозвал приятелей.
– Да, у него прекрасно получается, – согласились они и пообещали, что научат мальчика резать по камню.
С того вечера жизнь Осмунда волшебно переменилась. С ним несколько раз беседовал Роберт, помощник и заместитель мастера Николаса из Или, а старшие каменщики окружили мальчика вниманием и часто подзывали к себе, показывая различные приемы обработки камня и объясняя секреты ремесла. Гильдия средневековых каменщиков держалась на тесной сплоченности, взаимопомощи и поддержке.
Бартоломью знал и умел многое, к праздности был не склонен, трудился старательно, однако не отличался ни богатым воображением, ни талантом камнереза, а потому удивительные способности ученика его раздражали. Он начал придираться к работе мальчика и несколько раз жаловался мастерам, однако, почувствовав неприязненное отношение старших каменщиков, перестал к ним обращаться. Осмунд все меньше и меньше нуждался в советах своего угрюмого наставника.
Три месяца спустя Бартоломью совсем забросил обучение своего подопечного, а к Михайлову дню и вовсе начал строить каверзы: то оставит с подветренной стороны горку толченой извести, чтобы едкую пыль задуло Осмунду в глаза, то подменит камень, над которым трудился мальчик. Поначалу Осмунд не замечал подвохов, но потом сообразил, что всякий раз, как дело не идет на лад, Бартоломью появляется, словно бы невзначай, и строго распекает ученика, поглядывая на него с плохо скрытой злобой и до крови расчесывая гнойный волдырь на шее.
Впрочем, Осмунд не обращал внимания на придирки. Время ученичества стало для него самым счастливым в жизни. Весна сменялась летом, лето – осенью, осень – зимой, Осмунд рос и наливался силой, но основными вехами для него служили его собственные достижения: он точно помнил день, когда стал опытным распильщиком, и день, когда научился верно обтачивать камень.
Летом каменщики начинали работу с первым лучом солнца и трудились до заката, с небольшими перерывами на завтрак и обед; ужинали вечером, когда звонил церковный колокол, созывая священников на вечернюю молитву. Осмунд изредка возвращался домой, в Авонсфорд, но все больше и больше времени проводил на соборном подворье, почти не замечая, что происходит за его стенами.
На четвертый год, в сентябре, один из старших мастеров сообщил Осмунду ошеломительное известие:
– В виде исключения мы решили принять тебя в гильдию каменщиков.
О подобной чести Осмунд даже не мечтал – ученичество обычно продолжалось семь лет, и даже Бартоломью оставалось пробыть в учениках еще год.
– Не забудь, ты должен показать мастерам свое умение, – напомнил мальчику каменщик.
Осмунд сразу понял, чем подтвердить свои способности.
В готических соборах было множество декоративных украшений: замысловато выточенные базы колонн и пилястров, изящные капители с резными изображениями зверей и растений, горгульи, гротески и химеры, барельефы на гробницах епископов (древние захоронения перенесли в новый собор из старого замка на холме). Однако самым сложным были розетки замковых камней для сводов собора: на них вырезали всевозможные узоры, в частности причудливый растительный орнамент – каменное кружево. Ажурное переплетение листьев, стеблей и цветов свидетельствовало о высоком мастерстве резчика.
– Я сделаю потолочную розетку, – уверенно заявил Осмунд.
Он подготовил двенадцатидюймовую круглую плашку, в центре которой красовалась махровая роза, как на дверях особняка Годфруа; ободком служило кольцо буковых листьев, а пространство вокруг срединного цветка занимали изящно сплетенные дубовые ветви с желудями, стебли камыша и вьющиеся побеги плюща – растения, с детства знакомые мальчику. Он трудился над розеткой ранним утром и поздним вечером, при свечах или при свете очага и, завершив свое великолепное творение за два дня до собрания гильдии каменщиков, в канун Рождества, спрятал розетку под кровать, в сундук с инструментом.
На следующий день, после работы, Осмунд выволок сундук из-под кровати и ошеломленно ахнул – розетка исчезла.
Тогда Осмунд и согрешил в третий раз – он разгневался. Никогда прежде он не испытывал подобного чувства. Юноша задрожал всем телом, глаза застила красная пелена, а короткие пальцы побелели, крепко вцепившись в рукоять молотка и долота. Оцепенев от злости, он еле слышно пробормотал:
– Бартоломью…
Что же делать? Через два дня ему надо показать свою работу мастерам-каменщикам, иначе его не примут в гильдию.
Вечером в жилище каменщиков пришел Бартоломью и как ни в чем не бывало уселся на свою кровать. Осмунд ничего не сказал – обвинить обидчика без доказательств было невозможно. Бартоломью с удовлетворенным вздохом растянулся на кровати и спокойно уснул, а Осмунд всю ночь провел без сна. Злость его не отпускала.
Перед рассветом Осмунд решил убить Бартоломью и потянулся за долотом: один удар в горло – и все будет кончено. А что потом? Бежать? Куда? Осмунд удрученно покачал головой, и тут его осенило… Гнев подстегнул воображение юного каменщика.
В предрассветных сумерках он, не глядя на мирно спящего Бартоломью, вышел на подворье, выбрал кусок из груды чилмаркского известняка и направился в Авонсфорд.
Следующим вечером в просторной комнате на втором этаже постоялого двора мастера-каменщики с любопытством глядели на Осмунда. Юноша побледнел и осунулся – впрочем, неудивительно, ведь он два дня не спал. Сегодня он впервые не вышел на работу, и Бартоломью с напускным сочувствием заявил, что Осмунд боится предстать перед каменщиками, однако похоже, что юнец все-таки справился с робостью.
– Ты готов показать свою работу? – спросил мастер.
Осмунд протянул ему полотняный мешочек.
– Здесь потолочная розетка?
– Нет, не розетка, – ответил юноша.
– Ты же сам сказал… – недоуменно поморщился каменщик.
– Розетка исчезла, пришлось заново резать.
– Что ж, показывай, – разочарованно вздохнул мастер.
Из мешочка Осмунд достал каменную фигурку в двенадцать дюй мов высотой – такие химеры устанавливали над капителями собора, – опустил ее на стол перед каменщиками и молча отступил на шаг.
Мастер удивленно распахнул глаза.
Фигурка изображала Бартоломью. Осмунд с удивительным сходством передал угрюмое выражение длинного лица, торжествующе вздернутый подбородок, злорадную ухмылку и даже волдырь на шее. На раскрытых ладонях покоилась круглая розетка с крошечной махровой розой посредине.
Каменщики рассматривали фигурку не произнося ни слова – все и так было понятно.
– И как долго ты ее делал? – спросил мастер.
– Один день, – сказал Осмунд и, помедлив, честно признался: – И одну ночь.
На лицах каменщиков засияли довольные улыбки. Мастер оглядел своих товарищей и удовлетворенно кивнул:
– Добро пожаловать в гильдию каменщиков, Осмунд Масон.
Гнев и злоба, которую так долго таил в себе юноша, тут же исчезли без следа.
Ночью Осмунд вышел на соборное подворье, посмотрел на недостроенные стены собора и прошептал:
– Я посвящу ему всю жизнь!
1264 год
Если бы Питеру Шокли сказали, что в этом году родится парламентская демократия, он бы сначала не понял, а выслушав объяснение, рассмеялся бы – такого не бывает и быть не может.
Питера Шокли в Саруме считали человеком рассудительным и к мнению его прислушивались. В сукновальне равномерно постукивали тяжелые дубовые колотушки, и дело приносило хороший доход. Такие же сукновальни работали в Мальборо, за двадцать пять миль к северу, и в Даунтоне, в шести милях к югу, но в окрестностях Сарума их было только две: епископская, на окраине Солсбери, и мельница Шокли – в Авонсфорде.
Питера приняли в гильдию торговцев, у горожан он пользовался уважением, дело свое знал, так что богатство семьи росло и множилось. Эдварда Шокли печалило лишь одно: сын отказывался жениться.
– И ведь не скажешь, что женщины ему не по нраву, – вздыхал Эдвард, которому не раз приходилось успокаивать разгневанных отцов местных красавиц, а однажды даже заплатить отступные разъяренному мужу.
– Да женюсь я, женюсь, – со смехом говорил ему Питер. – Рано мне пока семьей обзаводиться.
Но в 1264 году все изменилось.
Как обычно, во всем был повинен Генрих III, который за несколько лет до того ввязался в очередную политическую интригу, на этот раз устроенную папой римским Александром IV. Папа посулил второму сыну Генриха, Эдмунду, королевский престол в Сицилии, который требовалось отвоевать у Манфреда – незаконнорожденного сына императора Фридриха II Гогенштауфена. Брат Генриха, Ричард Корнуоллский, ставший к тому времени королем Германии, прекрасно осознавал нелепость подобной затеи и предупредил об этом короля, но тот стоял на своем, мечтая создать могущественный союз христианских монархов Англии, Германии и Франции. С характерным для него непостоянством Генрих поспешно заключил перемирие с королем Людовиком IX Святым, отказавшись от всех притязаний на владения во Франции, на всякий случай женил старшего сына, Эдуарда, на Элеоноре, дочери кастильского короля-рыцаря Фернандо III, и пообещал Александру IV деньги на ведение военных действий в Сицилии, хотя королевская казна была пуста.
Абсурдное соглашение вызвало резкое недовольство среди английской знати. Все понимали, что война за чужестранные земли приведет к весьма плачевным последствиям для Англии.
– Кому все это нужно?! – возмущался Годфруа. – В Уэльской марке неспокойно, королевством управляют дурно, сам Генрих погряз в долгах… Лучше бы дома порядок навел.
К тому времени папа римский отправил своего легата ко двору Генриха за обещанными деньгами, пригрозив, что за нарушение договора отлучит короля от Церкви и объявит интердикт по всей Англии.
Давно было ясно, что Генрих – никудышный правитель, поэтому бароны объединились и потребовали от короля реформ и изгнания чужеземцев. В 1258 году по образцу Великой хартии вольностей были составлены так называемые Оксфордские провизии. Бароны объявили Генриху, что не станут исполнять условия договора с папским престолом до тех пор, пока король не согласится с предписаниями Оксфордских провизий. Генриху пришлось принять унизительные условия, по которым королевская власть фактически передавалась выборному совету аристократов, куда входили как английские бароны, так и Лузиньяны, французские родственники Генриха по материнской линии.
Одним из создателей Оксфордских провизий стал Симон де Монфор. В истории Англии он занимает весьма противоречивое место. Дело в том, что основатель английского парламента был не англичанином, а французом и происходил из знатного рода графов Тулузских. В свое время Монфор прогневил короля тем, что женился на его овдовевшей сестре Элеоноре, вопреки ее обету постричься в монахини; из-за этого Генрих отказался дать за сестрой приданое, и Монфор начал долгое судебное разбирательство. Вдобавок Симон де Монфор презрительно относился к англичанам и, подобно суровому схоласту Роберту Гроссетесту, требовал улучшать нравственность местного населения любыми возможными методами, даже насильственными. Он был прекрасным полководцем, который, не стесняясь в выражениях, пенял Генриху на недостатки его военных кампаний, а видя, что король не умеет управлять страной, не скрывал желания показать, как это делается. Иначе говоря, он был типичным европейским аристократом – умным, заносчивым и беспардонным.
Несомненно, он обладал огромным талантом, способностью подчинять окружающих своей воле и, в отличие от Генриха, знал, чего именно добивается. В истории Англии он оставил заметный след, как сияющий росчерк метеора в ночном небе.
В 1258 году за несколько месяцев Монфор изменил всю систему правления страной: теперь три раза в год именем короля созывалось особое собрание баронов и рыцарей – парламент, – на котором обсуждались общее состояние и нужды государства; королевские шерифы графств избирались из местных жителей сроком на год. Монфор считал, что подобные обширные преобразования системы государственного управления больше всего соответствуют независимому складу ума жителей острова Британия.
В октябре 1258 года об этом было объявлено на латыни, по-французски и по-английски в каждом графстве, а король и так называемое содружество общин – все бароны, рыцари и свободные люди – должны были принести клятву верности новому правительству.
Питер Шокли принес эту клятву вслед за мужчинами семейства Годфруа.
– Новое правительство наведет порядок в стране, – ухмыльнулся сын Жоселена, Гуго.
– Вы видели Монфора? – спросил Шокли.
– Да, – негромко ответил старший Годфруа. – Редкий наглец, но свое дело знает.
Вскоре после этого Урбан IV, новый папа римский, объявил о расторжении договора с Генрихом в отношении Сицилии и заключил союз с Карлом Анжуйским. Впрочем, в Англии это не удивило никого, кроме разве что короля, который только теперь сообразил, что задаром отдал власть в руки Симона де Монфора и парламента.
– Что ж, королю придется смириться и жить по новым законам, – объявил Годфруа.
Увы, в этом он ошибся. События последующих четырех лет развивались характерно для феодального общества.
Поначалу казалось, что Эдуард, старший сын Генриха, восстанет против отца и с помощью Симона де Монфора захватит власть, однако отец с сыном вскоре помирились. Генрих упросил папу римского освободить его от данной клятвы и объявить ненавистные провизии недействительными, изгнал Монфора и, как прежде, окружил себя иностранными аристократами в ущерб английской знати. Разумеется, недовольные бароны призвали Монфора и вместе с ним подняли восстание, вошедшее в историю под названием Баронской войны. Ситуация менялась ежемесячно – политические победы одерживали то сторонники короля, то мятежные бароны, но до кровопролития пока не доходило.
Впрочем, все эти важные события не оказали большого влияния на Сарум. Бассеты и Лонгспе, уилтширские аристократические семейства, придерживались умеренных взглядов или выступали на стороне короля. В 1261 году шерифа, склонявшегося к поддержке Монфора, поспешно сменил ставленник короля Ральф Рассел, в под чинении которого был отряд воинов, разместившийся в старом замке на холме. В новом городе с тревогой следили за развитием событий.
– Воевать с королем никто не хочет, но дальше так жить нельзя. Надо все решить раз и навсегда, – сказал однажды Годфруа, выражая общее мнение.
Однако ни одна из враждующих сторон не желала идти на уступки.
Наконец в 1263 году решено было прибегнуть к арбитражу французского короля Людовика IX Святого.
С виду это был прекрасный выбор: благочестивый и миролюбивый король-крестоносец, образец справедливого и благородного феодального монарха, заключил с Англией мирный договор и вдобавок считался номинальным сюзереном Генриха III, которому все еще принадлежала одна французская провинция – Гасконь.
Итак, к Рождеству 1263 года Людовик Святой приготовился рассудить короля Англии и его мятежных баронов.
В последний день января 1264 года из-за междоусобной розни в Англии жизнь Питера Шокли в корне переменилась, а между отцом и сыном Годфруа едва не вспыхнула вражда.
Все началось на сукновальной мельнице. В тот год выдалось раннее половодье, и бурная река едва не вышла из берегов. Гуго де Годфруа и Питер оживленно обсуждали будущие продажи шерсти, как вдруг к ним подъехал Жоселен.
Рыцарь постарел, но все еще горделиво сидел в седле, словно перед выездом на ристалище. Благородное узкое лицо покрылось глубокими морщинами, волосы серебрились сединой. Жоселен с гор достью поглядел на сына.
Тридцатилетний Гуго лицом, ростом и осанкой пошел в отца. Он женился на дочери девонширского рыцаря, которая родила Гуго сына, но вскорости умерла от лихорадки. Жоселен надеялся, что сын женится во второй раз. С восемнадцати лет Гуго храбро сражался на турнирах и заслужил похвалу наследного принца Эдуарда, великого любителя рыцарских поединков. Зрители на трибунах ликующими выкриками встречали появление герба Годфруа – белый лебедь на червленом поле. Прошлым летом недавно овдовевший Жоселен передал ведение дел сыну, а сам целыми днями предавался излюбленным занятиям: чтению и верховой езде. Утром он целый час провел в лабиринте на холме и теперь пребывал в прекрасном расположении духа.
Внешность мужчин соответствовала их положению в обществе – Годфруа явно принадлежали к рыцарскому сословию и даже разговаривали между собой по-французски, а вот широколицый и коренастый Питер Шокли, их друг и совладелец прибыльного предприятия, был типичным торговцем.
– И когда вы уже женитесь?! – шутливо воскликнул Жоселен – с этим вопросом он всякий раз обращался к сыну и Питеру.
Внезапно на прибрежной тропке показался старый возок, резво подпрыгивающий на кочках. Согбенный и одряхлевший Эдвард Шокли угрюмо погонял лошадь; ветер сорвал с головы старика капюшон и ореолом взметнул седые волосы.
– Король Франции объявил, что правда на стороне Генриха! – дребезжащим старческим голосом выкрикнул Эдвард. – Монфору конец пришел!
Король Генрих и английские бароны приехали в Амьен и попросили Людовика Святого рассудить их по справедливости. Людовик не колеблясь признал справедливым решение папы римского заклеймить Оксфордские провизии как подрывающие королевскую власть и феодальное право. Французский король напомнил баронам, что феодальный монарх волен править своими владениями по своему усмотрению, равно как и выбирать себе друзей и советников независимо от того, угодны они его вассалам или нет. Английские мятежники потерпели поражение.
Услышав дурные вести, мужчины обеспокоенно переглянулись: мирным путем дело разрешить не удалось, значит…
– Баронам следует смириться, – наконец произнес Жоселен.
Отец и сын Шокли обратили на рыцаря удивленные взгляды.
– Почему?! – негодующе воскликнул Гуго. – Отец, вы же сами говорили, что Генрих – дурной правитель.
Жоселен сокрушенно покачал головой:
– Увы, вассалам недостойно спорить с решением короля Людовика и папы.
– А как же Монфор? – напомнил ему сын.
– Он слишком далеко зашел в своем рвении, – вздохнул рыцарь.
Вот уже год Годфруа с неприязнью следил за деятельностью Симона де Монфора, считая, что тот без должного почтения обращается с королем и подвергает его излишним унижениям. Да, Генрих был бестолковым правителем, но устои феодальной монархии священны, а покушаться на них – преступление. Именно поэтому баронам следовало смириться с решением Людовика и папы римского.
– Власть монарха и Церкви можно изменить, но нельзя отменить, – неоднократно повторял Жоселен, напоминая сыну о двух незыблемых столпах порядка и добродетели. – Ежели избавиться от Святой церкви и монархии, то в мире воцарится хаос.
– Нет, отец, я не покорюсь! – решительно заявил Гуго.
– Ты не желаешь признать справедливое решение короля Людовика? Решение папы римского? – разгневанно спросил Жоселен.
– Нет, не желаю! Они оба чужеземцы и не понимают нас, англичан.
Жоселен не видел смысла в подобном доводе, но Гуго упрямо стоял на своем.
Недовольство англичан давно вызывали чужеземные фавориты короля и итальянские клирики – ставленники папы римского, получавшие от короля щедрые дары и доходные церковные должности, так называемые бенефиции. Однако же Гуго возмущало другое: решение папы и короля Людовика шло вразрез с понятием естественной справедливости, присущей жителям Англии.
– Ты поступишь, как требует закон, – холодно приказал Жоселен сыну. – Монарх устанавливает законы, а Церковь их утверждает. Надеюсь, с этим ты согласен?
Гуго презрительно помахал рукой:
– Нет, отец, король сам подчиняется высшему, естественному закону – государственной власти. Ты желаешь сохранить монархическую власть, пусть и видоизмененную, а Монфор доказал, что существует власть государства, которой вынужден подчиниться монарх. Именно к этому нам и надо стремиться.
Жоселен ошеломленно поглядел на сына, хотя в заявлении Гуго не содержалось ничего нового. Вот уже сто лет подобные идеи широко обсуждались в европейских университетах и пользовались под держкой знаменитого теолога и философа Фомы Аквинского. Подписание Великой хартии вольностей означало, что английские монархи фактически разделяли власть с баронами, которые, однако же, скромно именовали себя советниками и утверждали, что всего лишь помогают королю осуществлять надлежащее управление стра ной. Подобное уклончивое допущение не нарушало святости монар хии и сохраняло право короля действовать по своему усмотрению.
– Но ведь папа римский… – в ужасе пробормотал рыцарь.
– Большинство епископов поддерживают Монфора, – горячо возразил Гуго.
И в самом деле, многие епископы считали, что Генрих не имеет права нарушить клятву и обязан исполнять требования Оксфордских провизий.
– А ты с этим согласен? – спросил Жоселен старого Эдварда.
Шокли не торопился с ответом – философические доводы его не интересовали.
– Вот что я тебе скажу, – поразмыслив, сказал он. – Если начнется война, лондонские торговцы встанут на сторону Монфора.
Жоселен презрительно поморщился. О могуществе лондонской торговой гильдии было известно всем, но рыцарская честь требовала защиты высоких идеалов.
– Монарх – помазанник Божий, и отвергать это – кощунство, – надменно изрек рыцарь и гневно обратился к сыну по-французски: – Ежели ты не признаешь решение французского короля справедливым, я лишу тебя наследства. Ты мне больше не сын!
Питер Шокли, наблюдая за ссорой отца и сына Годфруа, кое-что уяснил в запутанном философском споре, хотя многого в нем не понимал.
– Не важно, кто нами правит – король или его советники, – сказал он отцу, попрощавшись с Годфруа. – Для успешного ведения дел нам нужен мир и низкие налоги. Вот за это и следует бороться.
Слухи о размолвке между отцом и сыном Годфруа быстро разлетелись по Саруму. Из родительского особняка Гуго, оставив малолетнего сына на попечение отцовских служанок и нянюшек, переселился в Солсбери, где, по мнению отца, вел себя вызывающе.
В Саруме тоже зрело недовольство, и к февралю король прислал в замок на холме отряд рыцарей для устрашения местного населения. Угроза возымела действие, и Гуго пришлось сдерживать свой пыл, хотя несколько раз он тайком уезжал из города.
В феврале и марте до Сарума докатились слухи, что жители Лондона горячо поддерживают мятежных баронов, что Монфор сломал ногу и лежит при смерти – нет, что он скрывается, готовя решительное наступление… Принц Эдуард во главе войска разъезжал по стране, усмиряя недовольных. В апреле король Генрих захватил Нортгемптонский замок. Гражданская война разгоралась.
Тем временем сукновальня Шокли продолжала приносить доход, и к концу марта Питер решил расширить старую водяную мельницу, чтобы увеличить производство. По просьбе Жоселена за ходом строительства надзирал Осмунд-каменщик.
Однажды в середине апреля Питер с Осмундом, придя на мельницу, увидели Гуго де Годфруа на черном скакуне. В поводу Гуго вел запасного боевого коня и лошадь, навьюченную рыцарским обмундированием, включавшим в себя длинную кольчугу, щит с фамильным гербом – белый лебедь на червленом поле, – меч, копья и железный шлем, похожий на перевернутое ведро с двумя прорезями для глаз. Поверх кожаного дублета Гуго накинул красный плащ с белым крестом крестоносца.
– Где мой отец? – осведомился рыцарь.
Жоселен вот уже два месяца занимался делами поместья и каждые два дня приходил на сукновальню. Всякий раз Питер рассказывал ему о жизни сына в городе, словно бы не подозревая о семейном разладе.
– Скоро приедет, – ответил Шокли.
Мужчины молчали, догадываясь о цели приезда Гуго.
Вскоре на тропе показался Жоселен. Рыцарь, гордо выпрямившись в седле, холодно взглянул на сына:
– Кто дал вам право надеть плащ крестоносца, мсье?
– Епископ Вустерский и еще три епископа, – почтительно склонив голову, ответил Гуго.
Клирики недавно объявили восстание мятежников священной войной, что весьма обрадовало Симона де Монфора.
– Я прошу вашего благословения, – продолжил Гуго.
Жоселен отрывисто кивнул – негоже рыцарю спорить с решением епископов – и спешился.
Гуго молча преклонил колено перед отцом. Старый рыцарь снял цепь с медальоном святого Фомы Бекета из Кентерберийского собора и, торжественно надев ее на сына, хмуро провозгласил:
– Хоть я с тобой и не согласен, но дарую тебе свое благословение.
Гуго благоговейно коснулся медальона и встал рядом с отцом.
– Вы отправляетесь к гробнице святого Фомы, – с едва заметной улыбкой произнес Жоселен. – Прошу вас, не забудьте привезти мне оттуда такую же реликвию.
Молодой человек улыбнулся отцовской шутке. Все знали, что Монфор собирает войска в Кенте, на Кентерберийской дороге.
– Обязательно привезу, мсье, – заверил Гуго. – Я долго не задержусь.
Он вскочил на коня и уехал, а потом и Жоселен, внезапно забыв о делах, отправился на взгорье – наверняка чтобы подольше посмотреть на сына.
Ни Годфруа, ни Шокли не подозревали, что за их встречей наблюдают еще двое, – за сукновальней спрятались Уильям атте Бригге и его семнадцатилетний сын Джон, смуглый остроглазый юноша. Уильям, сообразив, что оказался свидетелем важного события, погрузился в размышления.
– Запомни это накрепко, – шепнул он сыну. – Кто знает, может, потом пригодится.
Битва при Льюисе произошла 14 мая 1264 года.
Городок находился на побережье, в шестидесяти милях от Дуврского пролива, под высокой меловой грядой Саут-Даунс. Там стоял замок и старинное аббатство Святого Панкратия, принадлежавшее ордену бенедиктинцев.
Войска Генриха и Эдуарда расположились лагерем на окраине города. Ранним утром воины Симона де Монфора, в алых плащах крестоносцев, выстроились боевым порядком на меловой гряде; отряд лондонцев стоял на левом фланге. Епископ Вустерский благословил войско на битву.
Сражение было недолгим: Эдуард напал на левый фланг, отрезал лондонцев от войска противника, обратил их в бегство, а сам бросился в погоню, оставив поле боя. В это время Симон де Монфор двинул в наступление своих рыцарей, которые смяли королевское войско и захватили в плен короля и его брата Ричарда Корнуоллского. Мятежники одержали победу.
Потери обеих сторон были незначительны. Одного рыцаря, устремившегося на помощь лондонцам, окружили пехотинцы принца Эдуарда, и, стащив с коня, зарубили насмерть. Опознали убитого только по алому щиту с белым лебедем. А среди погибших сторонников короля был старый рыцарь по имени Жоффрей де Уайтхит.
После двадцатилетнего отсутствия Алисия вернулась в родительский дом на Кастл-стрит. Внешне она почти не изменилась, в волосах не сквозила седина, и лишь у глаз собрались тонкие, едва заметные морщинки, что ее вовсе не портило. Однако внутренне…
Нет, несчастной она себя не чувствовала. Через год после свадьбы родилась дочь, однако Жоффрей мечтал о наследнике. Увы, его мечте не суждено было сбыться. К старости на широком добродушном лице рыцаря застыло огорченное выражение. В прошлом году дочь выдали замуж, и Жоффрей, окончательно разочаровавшись в жизни, угрюмо бродил по своим владениям.
Потом он объявил, что отправляется воевать за короля, хотя с трудом натянул на себя кольчугу. Алисия поняла, что он задумал, но останавливать его не стала. Жоффрей ласково простился с женой и отправился на битву, возвращаться из которой не собирался.
Земли Жоффрея унаследовал его брат, а Алисии досталось приличное состояние, так что Винчестер она покинула без особого огорчения, хотя и не знала, как жить дальше. «Я уже не молода, но еще не стара», – грустно думала она.
Алисия с изумлением разглядывал город, в котором провела детство и юность. Кварталы на северной окраине Солсбери полностью застроили, рынок заполонили толпы покупателей, приезжавших сюда не только со всей округи, но и из Бристоля, Лондона и Норвича. Над черепичными крышами домов высилась громада почти завершенного собора.
Отец Алисии умер пять лет назад, фамильный особняк унаследовал Уолтер. Три дня Алисия провела в доме брата, посетила собор и встретилась с одряхлевшим дядюшкой, каноником Портеорсом, который гордо показал ей уличные водостоки. Впрочем, знакомых в городе у нее почти не осталось.
Вечером третьего дня Уолтер осторожно завел с ней разговор:
– Любезная сестра, не задумывалась ли ты о том, как теперь устроить свою жизнь?
– Ты собрался меня снова выдать замуж?
– Да, – признался он. – У меня и жених на примете есть. Прекрасная партия, между прочим.
– Правда? – рассмеялась Алисия. – И кто же это?
– Рыцарь, с богатым имением… – Уолтер помолчал, ожидая дальнейших расспросов, и наконец объявил: – Жоселен де Годфруа ищет жену.
Пятидесятисемилетний рыцарь, скорбя о погибшем сыне, решил снова обзавестись семьей – ради внука.
«Мальчику три года, – рассуждал он. – Может быть, я доживу до его двадцатилетия…»
В те времена мало кто доживал до семидесяти, но Жоселен отличался крепким здоровьем и надеялся на лучшее. «Ребенку нужна мать, – печально думал рыцарь. – Надо бы подыскать хорошую жену».
Уолтер ле Портьер, прознав об этом, предложил рыцарю взять в жены недавно овдовевшую Алисию. Жоселен не стал возражать – хотя ле Портьер и не знатного рода, но Алисия – вдова Жоффрея де Уайтхита, а значит, прекрасно умеет вести хозяйство; к тому же она еще молода – всего тридцать шесть лет. Рыцарь довольно улыбнулся и подумал: «Я еще крепок, может быть, она родит мне наследника. В конце концов, у меня два имения. Одно достанется внуку, а второе, если повезет, унаследует сын».
– Я согласен встретиться с твоей сестрой, – сказал он Уолтеру.
Питер Шокли вернулся в город из отцовской усадьбы и замер, не веря своим глазам: на углу рыночной площади, у Кабаньего Ряда, стояла Алисия. Он не видел ее двадцать лет и не подозревал, что она недавно овдовела. С трудом переборов оцепенение, Питер торопливо подошел к ней и с улыбкой сказал:
– А ты совсем не изменилась!
Алисия, вздрогнув от неожиданности, недоуменно уставилась на видного привлекательного мужчину и лишь потом сообразила, что это Питер, о котором она не вспоминала вот уже двадцать лет. Немного погодя он уже знал и о погибшем муже, и о том, что сегодня Алисия встречается с Жоселеном де Годфруа.
– Он жену подыскивает… – задумчиво сказал Питер.
– Знаю, – улыбнулась Алисия и, заглянув ему в глаза, дерзко произнесла: – Только вряд ли найдет.
Через неделю все было решено.
Хотя Питер Шокли и пытался убедить себя, что все эти годы не ждал возвращения Алисии, сейчас в этой лжи не было нужды. Рядом с Алисией он по-прежнему трепетал от восторга, а на третий день притянул ее к себе и поцеловал.
– Мы с тобой словно и не расставались никогда! – вздохнул он.
Она радостно улыбнулась. Для Питера встреча стала подарком судьбы, а вот Алисия твердо решила выйти замуж за Питера Шокли лишь после того, как брат отвез ее в Авонсфорд, где их встретил благородный седовласый старец с грустным лицом.
Уолтер расстроился, когда сестра наотрез отказалась от брака с Годфруа, а спустя неделю, узнав, что она собирается замуж за Шокли, пришел в ярость:
– Ты же теперь знатная госпожа! Зачем тебе этот торговец?!
Ему льстило быть в родстве с благородным де Уайтхитом, да и возможность породниться с де Годфруа представлялась донельзя выгодной.
– Деньги у меня есть, – невозмутимо ответила Алисия. – Выйду замуж, за кого захочу.
К превеликой радости старого Эдварда Шокли, свадьбу сыграли через месяц, и Питер во второй раз подарил Алисии скромный медальон на серебряной цепочке.
Не помня себя от счастья, Питер увел жену в родительскую спальню на втором этаже усадьбы и снова почувствовал себя восемнадцатилетним юношей. Поначалу Алисия покорно принимала его ласки, с улыбкой глядя на его страсть, но посреди ночи сама пылко прильнула к нему.
Жоселен побледнел от гнева, услышав о свадьбе Алисии и Питера Шокли. Это не только задевало честь рода де Годфруа, но и оскорб ляло его лично.
– Низкий торговец, как посмел он посягнуть на мою невесту!
Питер поначалу не заметил, что Годфруа перестал приезжать на сукновальню, и несколько недель спустя радушно с ним поздоровался. Рыцарь надменно выпрямился в седле и презрительно заявил:
– В конце месяца я передаю сукновальню другому арендатору, а в твоих услугах больше не нуждаюсь.
Питер ошеломленно уставился на него. Ссуду Аарону давно выплатили, сукновальня стояла на земле Годфруа. Конечно, Шокли мог обратиться в суд, но долгая тяжба превратит его жизнь в ад. Питера охватило отчаяние. Два дня он провел в глубоком унынии, не в силах рассказать жене о случившемся. Алисия потребовала объяснений, и он во всем признался.
– Попроси отца поговорить с Годфруа, – посоветовала Алисия.
Питер грустно покачал головой. Эдвард был стар и немощен, волновать его не стоило.
– Нет, я сам все улажу, – мрачно пообещал он.
Алисия ничего не сказала. Но все следующее утро после отъезда Питера она провела в спальне, а в полдень отправилась в Авонс-форд. Прислуга с удивлением глядела на богато разодетую госпожу, которая въехала во двор особняка и велела конюху помочь ей спешиться.
За двадцать лет замужества Алисия обрела изящные манеры бла городной дамы. Завидев ее, Жоселен встал из-за стола и почтительно поклонился.
Она решительно обратилась к нему по-французски:
– Сеньор, мне стало известно, что вы намерены отобрать сукновальню у моего мужа.
Он сдержанно кивнул, слегка покраснев под внимательным взглядом фиалковых глаз.
– Я пришла к вам без ведома мужа, попросить прощения за мою дерзость, – продолжила Алисия. – Позвольте выразить мое глубочайшее сожаление, если вы сочли мой поступок оскорбительным, однако я полагала, что вам безразличен мой выбор.
Рыцарь невольно улыбнулся, оценив острый ум женщины, и церемонно ответил:
– Мадам, я был бы счастлив, если бы ваш выбор пал на Авонс-форд.
– Я питаю глубочайшее уважение к Авонсфорду и к его владельцу, – почтительно произнесла Алисия. – Видите ли, я двадцать лет прожила в любви и согласии с человеком вдвое меня старше и хотела доставить толику счастья тому, с кем рассталась в юности. Увы, похоже, мой опрометчивый поступок причинил только страдания и Шокли, и тому, кого я в иных обстоятельствах могла бы полюбить…
Она склонилась в изящном реверансе и вышла из комнаты.
Вечером Жоселен де Годфруа, пожелав малютке-внуку спокойной ночи, направился в гардеробную и поглядел в отполированный лист железа, служивший ему зеркалом.
«Я для нее слишком стар, – вздохнув, признал рыцарь. – А жаль!»
На следующий день гонец из Авонсфорда сообщил Питеру Шокли, что Годфруа не станет отбирать сукновальню.
Питер так никогда и не узнал, что заставило рыцаря изменить свое решение.
Война не прекращалась все лето, но в Саруме этого словно не замечали. Питер Шокли наслаждался семейной жизнью и трудился на сукновальне, а Годфруа в политические дрязги вмешиваться не желал.
«Еще неизвестно, в чью пользу разрешится спор между королем и Монфором, – рассуждал он. – Главное – сохранить поместье в наследство внуку».
Сторонники Монфора знали о взглядах Годфруа и, памятуя, что сын его погиб, сражаясь на их стороне, поддержки отца не искали.
Летом 1264 года опасность грозила отовсюду. Монфор, взяв в плен короля и его сына, чувствовал себя победителем, но сторонники Генриха во главе с Людовиком Святым помышляли о вторжении в Британию, уэльские друзья принца Эдуарда тоже собирали войско, а папский легат отказывался признавать законность новых правителей Англии. В октябре папа римский отлучил от Церкви Симона де Монфора и тех, кто ратовал за соблюдение Оксфордских провизий.
И все же англичане склонялись к поддержке правительства, действовавшего в соответствии с требованиями Великой хартии вольностей. В декабре Симон де Монфор объявил, что заседание парламента пройдет в Лондоне в конце января.
Услышав это известие, Годфруа удивленно покачал головой, а Питер Шокли захлопал в ладоши и сказал жене:
– Наконец-то королю покажут, как править страной!
Разумеется, весть о созыве парламента немедленно отправили баронам – сторонникам Монфора, а приверженцы короля получили ее с запозданием. В парламент вызывались рыцари из каждого графства, епископы и настоятель Солсберийского собора, однако главным нововведением было приглашение горожан – из Лондона и из городов на севере страны.
– Пусть бароны узнают, что думает простой народ! – восторженно воскликнул Питер.
Алисия ласково посмотрела на мужа – она слишком хорошо понимала, что знатные господа вряд ли прислушаются к словам торговцев.
– Горожан пригласили, чтобы народ не взбунтовался, – резонно заметила она. – К тому же приглашенным это льстит, так что они будут вести себя смирно, молчать и пыжиться от гордости, что их заметили.
– Может быть, и так, – кивнул Питер. – Только ежели их сейчас пригласили, то и потом придется звать. Другие города тоже захотят послать в парламент своих представителей. А дальше, глядишь, наберутся смелости, привыкнут и заговорят.
– Странно все это, – неуверенно произнесла Алисия.
Приближался январь. Графство Уилтшир направило в парламент рыцарей – Жоселен де Годфруа отказался, зато согласились Генри и Уильям Гузей из Кингтона, Годфри де Скудамор и Ричард из Зилса. Мысль о том, что горожанам и торговцам позволено принять участие в заседании парламента, не давала Питеру покоя. В конце января он объявил:
– Я еду в Лондон.
– На заседание парламента? – удивилась Алисия. – Тебя же не звали.
– Ну, в этот раз я только погляжу, как все происходит, а потом… – мечтательно протянул Питер.
– Что ж, поезжай, – сказала она, целуя мужа, и лукаво добавила: – Только не тяни, к лету возвращайся. У нас будет ребенок.
Питер восторженно вскрикнул и обнял жену.
Парламент Симона де Монфора глубоко разочаровал Питера.
Шокли ожидал увидеть в Лондоне пышное собрание, где король в окружении советников принимает важные решения, выслуживает жалобы на чиновников, назначает новых шерифов и разрабатывает мирный договор с папой римским и Людовиком Святым. Увы, ничего подобного Питер не обнаружил. Знакомый лондонский торговец показал ему большое каменное здание с деревянной крышей, в котором должен был заседать парламент, но сколько раз Питер ни приходил туда, оно пустовало.
По улицам у здания парламента сновали какие-то люди, обменивались приветствиями друг с другом, собирались на постоялых дворах и вели оживленные беседы. Вскоре Питер сообразил, что рыцари и прочие представители, которых пригласили на заседание, проводят своего рода подготовительную работу, изучая вопросы, подлежащие дальнейшему обсуждению. Сам он ни с кем из представителей знаком не был, а потому одиноко бродил по городу, лишь однажды раскланявшись с настоятелем Солсберийского собора. Больше всего Питера занимал вопрос о торговле с Фландрией – распри между баронами и королем мешали успешному ведению дел.
– Ежели не наладить торговлю шерстью, то денег не будет ни для королевских войн, ни для Монфорова мира, – объяснял он Алисии.
Не меньше интересовал его и вопрос об отношении к иудеям. Развитие успешного производства требовало вложений капитала, за которым приходилось обращаться к ростовщикам. Кагорским и лом бардским менялам Питер Шокли не доверял, предпочитая иметь дело с Аароном из Уилтона.
– Без ссуд в деле никак не обойтись, а надежных ростовщиков найти сложно, – говорил Питер жене.
Однако в последнее время преследования иудеев ужесточились, кровавые наветы следовали один за другим, участились погромы, на ростовщиков налагали штрафы и увеличивали налоги. Теперь иудейская община должна была внести шестьдесят тысяч марок в королевскую казну. Иудеи Уилтона были на грани разорения. За неделю до отъезда Питер столкнулся с Аароном и едва узнал его – некогда крепкий мужчина, всего на двенадцать лет старше Питера, выглядел глубоким стариком, еле держался на ногах, а вместо щегольского наряда носил чуть ли не лохмотья.
– Я поеду в парламент, – пообещал ему возмущенный Питер, – и во всеуслышание заявлю, что с иудеями так обращаться негоже!
Аарон схватил его за руку и умоляюще зашептал:
– Не смей этого делать, на себя беду накличешь! Мне уже ничем не поможешь. – Питер хотел было возразить, но ростовщик торопливо продолжил: – Вспомни, что стало с францисканцами!
И действительно, францисканские монахи десять лет назад возмутились жестоким обращением с иудеями, однако не смогли побороть предрассудки и ненависть местных жителей, которые перестали доверять монахам. Питер был одним из немногих, кто по-прежнему делал пожертвования францисканской обители в Солсбери.
– Но ведь Монфор – реформатор! – удивился Питер.
– Друг мой, Симон де Монфор расточительнее короля, – с горькой усмешкой сказал Аарон. – Он кругом в долгах, а поэтому ненавидит нас больше всех.
Питер расстроенно простился с ростовщиком.
В Лондоне он не раз пытался завести разговор с приглашенными на заседание парламента, но с огорчением понял, что горожан Йорка и Линкольна не интересуют волнующие его практические вопросы.
– Сначала нужно определиться с политикой, – объясняли ему, – разобраться, кому какие земли принадлежат, уговорить принца Эдуарда принять наши условия. Иначе ничего с места не сдвинется.
В этих вопросах торговец совершенно не разбирался и через четыре дня решил вернуться домой, однако надежды не утратил. «Что ж, это – не мой парламент, – думал он. – Но придет время, и тогда…»
В 1265 году парламент заседал до марта, и на нем решилось многое. Феодальные владения короля и принца были подтверждены, что умиротворило сторонников монархии; притязания Монфора удовлетворили, назначили новых королевских чиновников, рассмотрели тяжбы и возобновили торговлю с Фландрией. Монфору пришлось смягчить свое нетерпимое отношение к иудеям: он осознал, что, если не ослабить давления на еврейскую общину, королевская казна опустеет.
Тем временем папский легат ждал своего часа. Папа римский оставался непоколебим: Монфор осмелился нарушить повеление Святой церкви и должен быть изгнан из страны. Валлийские сторонники принца Эдуарда, хотя и принесли клятву верности Монфору и новому правительству, тоже заняли выжидательную позицию.
В Саруме все оставалось по-прежнему; борьба на политической арене Питера Шокли не волновала, и он следил за ней издалека. Когда принц Эдуард сбежал на запад, к своим друзьям в Уэльской марке, собрал войско и выступил против мятежников, Питер надеялся, что Монфор одержит верх, но 4 августа 1265 года в битве при Ившеме Монфор был убит. Впрочем, Питера Шокли это особо не огорчило.
– Пусть себе бароны между собой ссорятся, – сказал он Алисии. – Главное, что горожан допустили в королевский совет.
Жена считала его чрезмерно наивным, но Питер был уверен: в один прекрасный день справедливость восторжествует.
В последующие два года произошел ряд значительных исторических событий. Соратники Монфора лишились своих владений. К счастью, Жоселена де Годфруа репрессии не коснулись – его верность королю не вызывала сомнений. Сын Монфора бежал в Европу, а его сторонники продолжали сражаться с королевскими войсками, но, потерпев поражение в Или, в конце концов сложили оружие. Папский легат Оттобуоно де Фиески (будущий папа римский Адриан V) торжественно прибыл в Англию, где издал знаменитый Кенильвортский диктум – указ, по которому мятежникам, лишенным земель, после выплаты весомого штрафа возвращали отобранные владения; оглашенные впоследствии законодательные акты, получившие название Статута Мальборо, не только подтверждали положения Великой хартии вольностей, но и включали в себя бо́льшую часть провизий Симона де Монфора.
– Монфор погиб, но дело его живет, – весьма точно подметил провинциальный торговец Питер Шокли в разговоре с женой.
В июне 1265 года Алисия родила ему дочь, здоровую, крепкую девочку со светлыми волосами и очаровательными фиалковыми глазами; ее назвали Мэри.
– Я отпишу ей имение, – пообещал Питер жене. – А сын унаследует дом и сукновальню.
Алисия улыбнулась.
По мнению Осмунда Масона все эти исторические события меркли перед величием огромного собора.
В 1265 году основное строительство было завершено.
На соборном подворье стоял простой крестообразный храм с длинным нефом и светлыми просторными трансептами – восемьдесят семь футов высотой, почти пятьсот футов длиной; посреди крыши, обшитой свинцом, над средокрестием собора, виднелась приземистая квадратная башенка. В северной оконечности подворья, в сорока ярдах от храма, стояла высокая, в двести футов, каменная колокольня, и звон церковных колоколов разносился по всей долине.
В 1265 году Осмунд Масон начал главный труд своей жизни и в этом же году попал под власть смертного греха, едва не погубившего каменщика.
Холодным мартовским днем Осмунд привел родных полюбоваться собором – эту традицию каменщик соблюдал вот уже десять лет, с рождения сына Эдварда. Они вышли из Авонсфорда, миновали старый замок на холме и по шумным улицам добрались до соборного подворья. Осмунд, коротконогий и коренастый, с огромной головой и пунцовыми щеками, шествовал торжественно и чинно; за ним следовали жена Анна, сын и две дочери. С мастером-каменщиком в длинном кожаном переднике уважительно раскланивались прохожие; жители Солсбери относились к Осмунду с почтением, а подмастерья побаивались – он был суров, но справедлив. В Авонсфорде его любили все, особенно дети – Осмунд ловко мастерил деревянные игрушки и ничьим просьбам не отказывал. Жена его Анна, высокая и худощавая, редко выходила из дому; на ее узком смуглом личике застыло недовольное выражение. Впрочем, оно сменялось улыбкой, когда дочери уговаривали ее купить на рынке в Солсбери яркие ленты или безделушки. Если дочери во всем походили на мать, то сын пошел в отца – такой же коренастый, приземистый и большеголовый, он вперевалку брел вслед за родителями.
На соборном подворье Осмунд пустился в пространные объяснения. Сначала он обратил внимание сына на недавно завершенный западный фронтон, с рядами пустых ниш у входа и вокруг огром ного центрального окна.
– В нишах будут стоять статуи, – сказал Осмунд.
– Какие статуи? – спросил мальчик.
– Королей, епископов и святых, – терпеливо объяснил каменщик.
Собор воплощал в себе идеальное единение бренного и духовного мира.
Западная стена возносилась на сотню футов в высоту. Эдвард задрал голову, перевел взгляд с вершины стены на башню колокольни и невольно отшатнулся – ветер гнал по небу облака, и казалось, что стена накреняется.
– Не бойся, она не упадет, – рассмеялся Осмунд и провел семью в собор.
Огромный неф и боковые трансепты как будто терялись в необозримой дали, сквозь окна струился яркий свет, и собор изнутри переливался многоцветьем; своды, колонны, ажурная резьба, скульптуры и гробницы в часовнях были расписаны яркими красками – алой, изумрудной, лазоревой; зелень каменной листвы спорила с лесами и долинами Авона. Эдвард, глядя на стройные колонны, изумленно вос кликнул:
– Мы словно в лесу!
– Пойдем резьбу посмотрим, – предложил Осмунд.
Резьба была повсюду. Каменную ограду, разделявшую хор и пресвитерий, украшали раскрашенные киноварью, лазурью и золотом статуи английских монархов – от саксонского Эгберта до Генриха III.
– Вот Альфред Великий, их общий предок. Вначале он правил Уэссексом, а потом и всей Англией, – сказал каменщик. – А вот благочестивый Эдуард Исповедник, доблестный Вильгельм Завоеватель и Ричард Львиное Сердце, король-крестоносец.
Как и все его современники, Осмунд твердо верил, что все английские короли связаны кровным родством, как истинные помазанники Божии.
На своде над хором виднелись яркие розетки, а в восточной части нефа работники, взобравшись на леса, спешно докрашивали потолок. Огромные колонны, установленные одна над другой, поддерживали три ряда арок, ведущих к сводам. Посреди собора, в средокрестии, взгляд скользил по массивным колоннам, взметнувшимся к самому потолку.
Эдвард осторожно коснулся гладкого твердого камня.
– Это пурбекский мрамор, – объяснил Осмунд. – Его привезли из каменоломен в Корфе, вначале по морю, а затем по реке. Прочный камень выдерживает любую нагрузку, и красить его незачем.
И действительно, отшлифованная серо-голубая поверхность камня радовала глаз.
Осмунд с сыном прошли к хору, и каменщик объяснил мальчику, как устроен собор.
– Прежде своды выкладывали полукругом, как половина разрезанной вдоль бочки, опирая их на стены здания, а чтобы тяжелый камень не обрушился, стены приходилось делать толстыми, укреплять их деревянными распорками, как лесами. А сейчас… – Он указал вдоль нефа, и Эдвард увидел, что стрельчатые готические своды образованы не параллельными, а скрещенными арками.
– Неф построен с запада на восток, а арки пересекаются с северо-востока на юго-запад и с юго-востока на северо-запад. Каждый участок свода разделен на четыре части.
– А зачем? – полюбопытствовал мальчик.
– Понимаешь, остов из скрещенных арок – мы называем их нервюрами – служит как бы ребрами, костями сводов собора. А доли сводчатых перекрытий или перемычки составляют плоть сводов, запалубку. Ее выкладывают вот из такого камня… – Осмунд кивнул на клиновидные блоки разной величины. – Они входят в кладку, как пробка в горлышко бутылки, и держатся прочно.
– Почему они разных размеров?
– Чем выше изгиб арки, тем шире должен быть каменный блок, – объяснил Осмунд. – Пильщики готовят их по особым деревянным моделям, ширину которых можно менять.
Выйдя из обходной галереи хора, каменщик снова привлек внимание сына к ажурным потолочным аркам:
– Теперь потолок не давит на стены, а вся нагрузка перенесена на арки, которые опираются на колонны. Это позволяет увеличить высоту здания, уменьшить толщину стен и сделать в них широкие оконные проемы.
Действительно, по сравнению с массивным нормандским храмом в замке на холме Солсберийский собор выглядел хрупким и легким.
Однако самым великолепным украшением собора каменщик считал гротески и химеры, которые он вырезал вот уже двадцать лет, с того самого дня, как создал изображение Бартоломью. Ярко раскрашенные головы людей, зверей и сказочных созданий выглядывали из-за перегородок, гнездились в углах, а самое почетное место занимали портретные изображения древних королей, святых и епископов высоко под потолком, в пяте свода – оконечности широких арочных ребер, упирающихся в столбы-устои.
– Всего здесь пятьдесят семь портретных голов, – гордо сказал Осмунд. – Мы вырезаем их с самого начала строительства.
– А ты сколько сделал? – спросил Эдвард.
– В одиночку я вырезал целых восемь.
Портретные изображения, вырезанные из мягкого чилмаркского камня или из пурбекского мрамора, были расположены строго друг против друга. Сам Осмунд много лет оттачивал свое мастерство и даже ездил в Винчестер поглядеть на языческие римские статуи, привезенные туда епископом Генрихом Блуаским, братом короля Стефана, однако образцы классического искусства не вдохновили каменщика – он считал их безжизненными и невыразительными. В камне, как и в дереве, Осмунду хотелось передать естественную живость.
– Погляди-ка! – Он легонько подтолкнул сына и указал на одну из голов.
Эдвард изумленно ахнул – с высоты на него укоризненно глядел морщинистый, суровый каноник Портеорс.
Осмунд отвел сына в мастерскую – сам он теперь был не простым каменщиком, а мастером-резчиком и пользовался уважением среди товарищей по работе – и показал очередную незавершенную фигурку: снизу, там, где она крепилась к стене, виднелись переплетенные буквы «М» и «О», высеченные в камне.
– Это значит «Осмунд Масон», – объяснил он сыну. – Таким знаком я отмечаю все свои работы. Вот подрастешь, и у тебя будет своя метка… – Кусочком мела он нарисовал на столе вензель из «М» и «Э».
– Но ведь собор почти завершен, – недоуменно сказал мальчик. – Когда я вырасту, здесь будет нечего делать.
– Не беспокойся, работы на всех хватит, – улыбнулся Осмунд и провел сына в боковую дверь.
К южной стороне нефа пристраивали широкий клуатр, а чуть поодаль возводили восьмиугольное здание.
– Тут будет капитул, место собрания клириков. А еще надо расширить подворье, построить жилье для каноников, лечебницу и школу… – сказал Осмунд. – Работы каменщикам хватит на десятки лет.
Вдоль западной оконечности соборного подворья, у реки, строились роскошные каменные дома – разумеется, намного скромнее Леденхолла, особняка со свинцовой крышей, возведенного Элиасом де Деренхемом; ссуду, выданную на его строительство, выплачивали и по сей день, двадцать лет спустя. У реки, близ лечебницы, расположился колледж Святого Николая в долине. У ворот Святой Анны рядом с францисканской обителью основали новую школу, а с южной стороны собора красовался епископский дворец, отделенный от подворья пышным садом.
– Во всей Англии не найдешь лучшего места для каменщиков, – заявил Осмунд.
Место и впрямь было превосходным – и для каменщиков, и для священников, и для богословов, и для школяров. Под покровительством епископа Уолтера де ла Уайли в колледже у реки изучали не только богословие, но и гражданское право, математику, классическую литературу и Аристотелеву логику. В Крестовых походах европейцы познакомились с научными достижениями Ближнего Востока и с открытиями арабских ученых, что подстегнуло интерес к развитию науки в английских университетах. С недавних пор в Солсбери перебирались профессора и студенты из оксфордских кол леджей, обеспокоенные распрями между жителями города и папским легатом; предыдущая волна оксфордских беженцев осела в Кембридже – городке на востоке Англии.
Саруму не хватало только одного.
– Ах, поскорее бы нашего епископа Осмунда причислили к лику святых! – вздыхал каменщик.
Солсберийская епархия давно уже просила папу римского канонизировать благочестивого епископа – в его святости и добродетели никто не сомневался, а на поклонение к гробнице святого, признанного Церковью, потянутся паломники, что пойдет на пользу городу. Однако высшее духовенство в Риме не торопилось принимать решение.
Осмунд Масон, при крещении названный в честь епископа, торжественно заверил сына:
– Придет время, и мы с тобой гробницу святого Осмунда построим.
Днем, отправив семью домой, Осмунд вернулся в мастерскую. На соборном подворье появилась светловолосая девушка лет четырнадцати, медленно прошла по нефу и направилась в клуатр. Осмунд поначалу не обратил на нее внимания, но час спустя девушка снова показалась у мастерской.
– Это дочь Бартоломью, – сказал один из каменщиков. – Он недавно семью из Бемертона в Солсбери перевез.
Девушка совсем не походила на высокого, смуглого Бартоломью. Бывший соперник Осмунда забросил попытки стать мастером-резчиком, но в гильдии его уважали за старательность и трудолюбие, и теперь он руководил строительством клуатра. Осмунд с любопытством посмотрел на девушку и вскоре о ней забыл.
Неделю спустя она снова заглянула в собор, дожидаясь отца. Осмунд с нарочитой важностью принялся осматривать незавершенную статую для западного фронтона, искоса поглядывая на девушку.
Он и прежде слышал разговоры, что Бартоломью повезло: нескладный каменщик с чирьем на шее женился на миловидной женщине, и дочь, вероятно, пошла в нее. Под тонкой коттой проглядывали очертания худенького, но хорошо сложенного тела.
«Ноги коротковаты», – отметил про себя Осмунд.
Девушка, голубоглазая и белокожая, заплела золотисто-рыжеватые волосы в две косы и скрепила их на затылке. Обычно Осмунд вглядывался в лица людей, представляя, как вырежет в их камне. На овальном личике девушке застыло милое, наивное выражение, но во взгляде и в складке пухлых губ чудилась какая-то кошачья похотливость. Каменщик позволил себе едва заметную усмешку – надо же, как воображение разыгралось! – и вернулся к своим делам.
Этой весной у него было много работы. Два года назад умер Жиль де Бридпорт, епископ Солсберийский, и Осмунд создал для прелата великолепную гробницу. Над изваянием епископа возвели скромный монумент с двумя арками по обеим сторонам, похожий на ковчег, в котором обычно хранили святые реликвии; постамент украшали замысловатые барельефы, изображающие сцены из жизни клирика. Пока Осмунд завершал работу над своим творением, девушка, приходя навещать отца, всякий раз лукаво поглядывала на каменщика. Ее внимание ему отчего-то льстило.
В июне Роберт, главный каменщик собора, давно сменивший на этом посту Николаса из Или, пригласил Осмунда к себе. К удивлению Осмунда, на встречу явились еще два мастера: один из Лондона, а другой из Франции.
– Вы лучшие резчики в мире, и у меня для вас есть важная работа, – без обиняков начал Роберт, расстилая на столе свитки пергамента. – Мы строим капитул.
Здание капитула Солсберийского собора решено было возвести по образцу капитула Вестминстерского аббатства. Оно представляло собой восьмиугольное помещение шириной пятьдесят шесть футов, посредине которого тонкий пучок колонн вздымался на высоту тридцати футов, где от него пальмовыми листьями расходились нервюры сводов. Как и собор, капитул отличался простотой и четкостью линий. Осмунд, впервые увидев план капитула, восторженно воскликнул:
– Да здесь одни окна!
Каждое высокое стрельчатое окно, разделенное на четыре части, занимало практически всю стену, начинаясь в десяти футах от земли. Единственным каменным украшением капитула были стройные колонны по углам. Сейчас строительство здания почти завершилось.
– Как восьмиугольный бочонок, полный света! – восхитился Осмунд.
– Да, верно, – улыбнулся Роберт. – А вам предстоит заняться помещениями у входа и нижней частью стен.
Из клуатра широкий, почти квадратный проход вел под строгую арку, где начиналось собственно помещение капитула. Вдоль стен тянулись каменные скамьи, за которыми высился ряд небольших арок, по пять у каждой стены, отмечая места, отведенные клирикам.
– Вам следует обратить особое внимание на арку входа и арки над скамьями, – объяснил Роберт.
Над стрельчатой аркой входа расположили по семь узких ниш с каждой стороны, где предстояло установить четырнадцать статуй, символизирующих добродетели – стоящие женские фигуры в складчатых одеяниях – и попранные пороки: Справедливость торжествовала над Несправедливостью, Терпение усмиряло Гнев, Смирение укрощало Гордыню. Однако Осмунда больше всего поразил замысел украшения ниш внутренних стен капитула.
Над каменными скамьями следовало вырезать замысловатые барельефы с изображением библейских сюжетов, от Сотворения мира до ниспослания заповедей Моисею на горе Синай.
– Всего должно быть шестьдесят барельефов, разделенных на группы: Сотворение мира, изгнание из райских кущ, Каин и Авель, жизнеописание Ноя, Вавилонское столпотворение, жизнеописание Авраама, Содом и Гоморра, жертвоприношение Исаака, а также жизнеописания Иакова, Иосифа и Моисея, – пояснил Роберт и поглядел на мастеров-резчиков. – Разделите их между собой по вашему усмотрению и принесите мне наброски.
В клуатре приезжие мастера, переглянувшись, объяснили Осмунду, что их больше всего интересуют статуи в арке входа. Похоже, они считали барельефы занятием, недостойным великих резчиков. Осмунд безмолвно возблагодарил Господа, почтительно склонил голову и с притворным сожалением ответил:
– Хорошо, я займусь барельефами.
Несколько дней спустя Роберт показал Осмунду две богато изукрашенные лицевые рукописи – псалтирь и героическую поэму – и объяснил, какими, по мнению настоятеля собора, должны быть барельефы.
– Ты вот так сможешь? – спросил он, бережно перелистывая страницы с яркими, выразительными иллюстрациями вокруг текста.
Осмунд задрожал от восторга – вместо застывших фигур его просили создать почти что живые картины в камне. Ничего подобного он прежде не резал, но ему очень хотелось попробовать свои силы.
– Через несколько недель я покажу, что у меня получится, – пообещал каменщик.
Все лето Осмунд рисовал наброски, пытаясь добиться струящихся, выразительных линий, и даже пробовал вырезать небольшие сценки – не в камне, а в мягких меловых блоках. Чужеземные резчики уже приступили к статуям пороков и добродетелей, а Осмунд все еще пытался добиться совершенства.
– Настоятель хочет ознакомиться с твоими замыслами, – предупредил Роберт в конце июля. – Если ты не готов, я поручу работу над барельефами кому-нибудь другому.
– Дай мне еще месяц, – взмолился Осмунд и с жаром погрузился в работу.
Целыми днями он думал только о барельефах, не обращая внимания ни на других резчиков, ни на жену и детей. Иногда резные каменные блоки представали перед его внутренним взором – все шестьдесят сюжетов, само совершенство, – однако ни зарисовать, ни тем более высечь их в камне Осмунду не удавалось. Он приходил в часовню, падал на колени и долго молился:
– О Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия, дай мне силы!
Глухой шепот шелестел под безмолвными сводами собора. Успокоившись, Осмунд возвращался в мастерскую и снова начинал резать камень, стараясь вдохнуть жизнь в неподдающиеся фигуры рельефов. Работа шла медленно. Осмунд черпал силы в вере, памятуя священные слова Евангелия: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?»[23] Он творил во славу Божию и во всем полагался на волю Господа, однако всякий раз, как дело не шло на лад, впадал в беспросветное отчаяние и с горечью восклицал:
– Ну почему камень меня не слушается?!
Однажды жарким августовским утром он отправился из дома в Авонсфорде на соборное подворье. Извилистая тропка бежала вдоль реки, вилась сквозь прибрежные заросли камыша; по речной заводи величаво плыли лебеди. Осмунд брел, погрузившись в унылые размышления. Внезапно откуда-то донеслись детские голоса, радостные выкрики, звонкий смех и плеск воды. Мелководье у излучины реки облюбовали деревенские ребятишки. Осмунд, скрытый густыми камышами, рассеянно взглянул на детей, плескавшихся в прохладной воде, и вздрогнул: вместе с малышами купалась дочь Бартоломью. Каменщик оцепенел – как раз сейчас она выходила из реки на берег.
Нагишом, как все остальные дети.
Такой он ее себе и представлял: высокая девичья грудь и четко очерченные округлые бедра, совсем как у греческих статуй в Винчестере; коротковатые ноги, бледная кожа, с которой стекают капли; блестящие пряди намокших золотистых волос змеятся по спине… Вот девушка повернула голову, посмотрела в камыши – прямо на него! – и улыбнулась. Неужели заметила? Нет, вряд ли… Осмунд не мог оторвать завороженного взгляда от залитой солнцем стройной девичьей фигурки, от острых розовых сосков.
Девушка заливисто рассмеялась и побежала к одежде, оставленной на берегу.
Осмунд залился краской стыда – надо же, уважаемый мастер-резчик, а подглядывает за купальщицей, будто мальчишка! – попятился и торопливо свернул с тропы на дорогу в Солсбери, на время заставив себя забыть о случившемся.
Однако в воображении Осмунда снова и снова всплывали соблазнительные видения, обнаженное девичье тело мучило его своей прелестной недосягаемостью, внезапные приступы желания заставляли прерывать работу. Волновало его и другое: а вдруг она заметила, кто за ней подглядывал?
Неделю спустя каменщик снова увидел девушку, молча стоявшую у входа в западный трансепт. Что-то словно подтолкнуло Осмунда, и он медленно и чинно направился к ней:
– Бартоломью – твой отец?
Вместо того чтобы смущенно потупиться, девушка с любопытством оглядела каменщика и ответила:
– Да.
– Как тебя зовут? – неуверенно спросил Осмунд, несколько опешив от такой дерзости.
– Кристина.
– А он знает, что ты здесь?
– Да, – сказала она, не отводя глаз, в которых мелькнуло… Что? Удовлетворение? Веселье? Сопричастность?
Неужели она все-таки заметила Осмунда и теперь намекает на связывающую их постыдную тайну?
Под пристальным взглядом девушки каменщик слегка покраснел, коротко кивнул и направился в мастерскую. Ему почудилось, что Кристина провожает его глазами. В дверях мастерской он оглянулся – Кристина исчезла.
С тех самых пор наваждение не отпускало каменщика. Он невольно вздрагивал при виде светловолосых девушек на улицах города, а когда отрывался от работы, то замечал Кристину в нефе или в клуатре. Ее присутствие ощущалось дома и в мастерской, в городе и в долине, мешало Осмунду сосредоточиться на скульптурных изображениях.
С каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже. Бартоломью жил на северо-востоке города, за рыночной площадью, в квартале суконщиков, где во дворах сушились широкие полотнища обработанной шерстяной ткани. По вечерам Осмунд отправлялся домой кружным путем и часто останавливался поговорить с жителями квартала в надежде мельком увидеть девушку, хотя и понимал, что это нелепо. Иногда она и впрямь проходила мимо, и тогда Осмунд, напустив на себя важный вид, здоровался с ней коротким кивком.
Дома Осмунд без причины корил домочадцев, за ужином жаловался на невкусную еду, а потом и вовсе перестал есть. Жена, за долгие годы совместной жизни привыкшая к странностям каменщика, не обращала на него внимания и привычно объясняла дурное настроение мужа тем, что работа у него не ладится. Свои душевные муки каменщик хранил в тайне.
По ночам он, отвернувшись от жены, угрюмо молчал, а потом, распаленный навязчивым образом обнаженного девичьего тела, набрасывался на нее с жадными ласками, доводя себя до исступления.
В начале сентября он все-таки представил свои наброски Роберту, хотя сам был ими не удовлетворен. Каноникам изображения понравились, и Осмунду велели приступать к работе. Каменщик по праву гордился некоторыми барельефами: из восьми крошечных окон Ноева ковчега выглядывали головы зверей, строители в поте лица своего воздвигали Вавилонскую башню, а разрушенные крепостные стены явственно свидетельствовали о Божьей каре, постигшей Содом и Гоморру. Впрочем, остальные рельефы не приносили ему утешения – фигурки людей выглядели безжизненными и скованными.
– Ох, все из-за девчонки этой! Проклятье какое-то! – сокрушался Осмунд, расстроенно качая головой. – Нет, я сам виноват, несчастный грешник…
Ни укоры, ни мольбы, ни проклятия не отгоняли наваждения. К концу сентября каменщик отчаялся. Теперь он старался обходить стороной квартал суконщиков и всячески отгонял преступные мысли. Некоторое время его ухищрения срабатывали, и он возгордился собой, но тут в собор пришла Кристина, и все началось заново. Осмунд приходил в часовню Богородицы, падал на колени и горячо молился:
– Господи, спаси мою грешную душу!
Он сознавал, что повинен в смертном грехе блуда. Хуже всего был не сам грех, а страх, что об этом узнают.
Осмунду чудилось, что его похоть заметна всем. Он с тревогой глядел на собратьев-каменщиков, вздрагивал и резко оборачивался, заслышав чей-то смех, а в обрывках разговоров улавливал язвительные замечания: «Осмунд возжаждал дочь Бартоломью!» Дома он с ужасом глядел на жену, ожидая, что та вот-вот обвинит его в неверности, подозрительно косился на деревенских ребятишек, которые приходили за игрушками, а при встречах с Бартоломью сгорал от стыда и поспешно отводил глаза.
В первую неделю октября, после Михайлова дня, Осмунд стоял в средокрестии собора, разглядывая величественные колонны пурбекского мрамора, поддерживающие башню. Тут в нефе появилась Кристина. Каменщик, торопливо отступив в нишу, следил за тем, как девушка, освещенная яркими лучами солнца, идет в клуатр. Она прошла в десяти шагах от каменщика, обдав его свежим ароматом юного тела. Осмунд, сгорая от избытка чувств, с трудом удержался от восторженного восклицания.
Выбравшись из своего убежища, каменщик с ужасом обнаружил, что в соборе есть кто-то еще. В противоположном конце нефа стоял, неподвижный как статуя, каноник Стивен Портеорс. Тощий седовласый клирик опирался на посох, вперив в Осмунда укоризненный взор темных глаз.
Никто не произнес ни слова. Осмунда била мелкая дрожь.
На следующее утро каменщик увидел, что над аркой входа в капитул завершили еще одну скульптурную композицию: Целомудрие, попирающее Блуд.
С того самого дня Осмунд, охваченный стыдом, начал ходить, как монах, низко склонив голову. Целых три месяца, до самого Рождества, он не отрывал глаз от земли и не глядел по сторонам – только так ему удалось смирить свою позорную страсть и с новым рвением продолжить работу.
Каждый барельеф следовало разместить в широком перевернутом треугольнике между арками и прямоугольным пространством над ним, что создавало непрерывный фриз по периметру зала капитула. Первая композиция, слева от входа, изображала Господа, творящего свет; на втором барельефе Господь, воздев правую руку, создавал твердь земную; изображение следующих трех дней творения вполне удовлетворяло Осмунда, а вот изображение Дня шестого вызвало у него затруднение – предстояло изваять сотворение тварей земных и человека. После нескольких неудачных попыток каменщик перешел к Дню седьмому – отдохновению Господню от трудов. Далее предстояло высечь пять рельефов с изображением библейских сюжетов об Адаме и Еве, но все усилия Осмунда ни к чему не привели.
«Как представить Адама, прародителя человеков? – размышлял каменщик. – А Еву? Она невинная дева и соблазнительница, ввергшая Адама в грех, безупречная женщина и мерзкая блудница, жена и матерь человеческая…» Он не знал, как изобразить все эти противоречивые качества первых людей, сотворенных Богом. Осмунд внимательно изучил скульптуры добродетелей и пороков, высеченные его собратьями, но остался недоволен изображениями, созданными по привычным, застывшим образцам. Его барельефы требовали иного подхода.
Он разочарованно вздохнул и перешел к работе над тремя рельефами с изображением истории Каина и Авеля. До самого Рождества Осмунда ничего не отвлекало.
Вечером перед светлым праздником Рождества каменщик закончил дневные труды и, торопясь домой, позволил себе расслабиться. Первое, что он увидел в нефе, – коленопреклоненную фигуру Кристины, молящейся у алтаря. Дрожащее пламя свечей освети ло лицо девушки и пряди золотистых волос, струящиеся по спине. Кристина казалась ангелом.
Осмунд затрясся от охватившего его желания. Ему страстно хотелось ее поцеловать.
– Соблазнительница! – пробормотал он. – Ангелом притворяется!
Он чуть ли не бегом выскочил из собора и вернулся в Авонсфорд, дав себе клятву никогда больше не отрывать взгляда от земли.
После Нового года Осмунд начал высекать историю Ноя: ковчег, плывущий по волнам, а потом и самого патриарха, уснувшего во хмелю… К марту каменщик завершил барельеф с изображением Вавилонской башни, похожей на старую крепость на холме, два сюжета из жизни Авраама и гибель Содома и Гоморры. Роберт и каноники пришли в восторг, а сам Осмунд приобрел уверенность в своих силах.
«Я сумею высечь историю грехопадения Адама и Евы и их изгнания из Рая», – подумал он.
Возведение Солсберийского собора завершилось 25 марта 1266 года. На строительство, длившееся двадцать шесть лет, была за трачена неслыханная сумма – сорок две тысячи марок. Собор стал одним из самых ярких образцов ранней готической архитектуры.
Солсберийский собор освятили за восемь лет до завершения строительства; на церемонии присутствовал король Генрих III, однако совершенствование подворья и внутреннего убранства собора продолжалось еще долгие годы – завершали декоративную резьбу, стеклили свинцовые переплеты огромных окон.
Вечером, когда закат окрасил багрянцем небо над рекой, строители с домочадцами и жители города пришли в собор; после богослужения на рыночной площади собирались устроить праздничные гулянья. Осмунд привел семью в переполненный храм, где уже толпилось две тысячи прихожан. Сын каменщика, Эдвард, изумленно оглядывался – он никогда прежде не видел такого скопления народа. Сквозь громадное трехарочное витражное окно в западном фасаде собора светило заходящее солнце, и лучи, дробясь и множась в разноцветных стеклах, заливали радужным сиянием длинный неф и роскошно убранный хор.
Постепенно свет померк. Серые каменные арки, возносясь над головами, скрывались в полумраке. Мальчик сжал отцовскую руку и не сводил широко распахнутых глаз с алтаря. Служки в длинных одеяниях сновали между людьми, зажигая свечи у колонн в нефе, в трансептах, под арками галерей и наверху, в трифории, клерестории и в обходной галерее хора. Минут через десять за окнами совсем стемнело, а внутреннее пространство собора преобразилось, освещенное тысячами дрожащих огоньков. Осмунд обратил взгляд к потолку и радостно улыбнулся – мастерски отполированный камень колонн и арок переливался золотом и сапфирами, рубинами и изумрудами, многоцветье красок отражалось в стеклах, а с высоты на людей смотрели резные лики святых.
Эдвард потянул отца за руку:
– А праздник уже начался?
Залитый огнями храм и впрямь напоминал роскошную пиршественную залу.
Наконец двери западного входа распахнулись. В собор вошли мальчики-певчие с зажженными свечами в руках, распевая гимны; за певчими, шелестя подолами белых одеяний по каменным плитам пола, торжественно шествовали каноники и диаконы. Следом, в окружении юных служек, несущих священные сосуды, величественно ступал епископ в роскошной мантии, шитой золотом, серебром и драгоценными камнями. Он сурово взирал прямо перед собой, а митра, украшенная серебряным крестом, увеличивала его и без того высокий рост. Сухощавые пальцы крепко сжимали церемониальный посох с изящной выгнутой рукоятью. При виде епископа прихожане благоговейно преклонили колена, и прелат неспешно проследовал к хору, в пресвитерий.
Торжественные звуки церковных песнопений наполнили собор, возносясь к алтарю. В этот миг Осмунд заметил Кристину, стоявшую рядом с Бартоломью. Епископ вошел в пресвитерий, огромные двери западного входа с громким стуком захлопнулись, и девушка, оглянувшись, увидела каменщика. По лицу ее скользнула едва заметная улыбка.
Осмунд содрогнулся от внезапно нахлынувшей страсти.
Богослужение шло своим чередом, внушая пастве благостное умиротворение. Каменщик тем временем терзался адскими муками.
– Agnus Dei… – звучали слова литании. – Агнец Божий, берущий на себя грехи мира…
Осмунд изо всех сил пытался представить себе ягненка, безропотно идущего на заклание, приносящего себя в жертву, но перед глазами вставало совсем другое.
Звон колокола возвестил таинство евхаристии: свершилось пресуществление – хлеб и вино претворились в плоть и кровь Христову, а дьявол ниспослал бедняге-каменщику иное видение: на алтаре трепетало обнаженное девичье тело.
После службы на рыночной площади накрыли длинные пиршественные столы; над углями на вертелах жарились говяжьи туши. Горожане радостно переговаривались, дети звонко смеялись, даже на вечно недовольном лице жены Осмунда играла улыбка, но каменщику было не до веселья. Он сидел, снедаемый безудержной похотью. В отчаянии он набросился на угощение, надеясь грехом чревоугодия изгнать сладострастие, а потом в хмельном забытьи сполз под стол.
В июне наваждение Осмунда привело к ужасному концу.
Мастер-резчик завершил два рельефа – превращение Лота в соляной столп и жертвоприношение Авраама – и был весьма доволен своей работой: фигуры получились живыми и выразительными. После этого Осмунд перешел к истории Исаака и Иакова.
Весна выдалась на удивление теплой. Осмунд ощущал небывалый прилив сил и творческий порыв, как в юности, при вступлении в гильдию каменщиков; в резчика словно бы вселился добрый гений пятиречья, воодушевляя на новые свершения.
«Да, я грешен, – размышлял Осмунд, – но Господь в милости Своей позволил мне увидеть свет».
Работа спорилась.
Ранним утром он шел в Солсбери. Долина Авона покрылась мягкой зеленой травой, на деревьях шелестела свежая листва, в роще куковала кукушка. Примерно в миле от Авонсфорда тропа сворачивала к реке, через лесок. На опушке Осмунд испуганно замер – перед ним возник призрак, посланный самим дьяволом.
Каменщик торопливо перекрестился. Призрак… Кристина захохотала.
Она стояла, прислонившись к стволу дерева, и дерзко разглядывала Осмунда. Сорочка тонкого полотна, подвязанная на талии, едва прикрывала налитую грудь, распущенные волосы волнами ниспадали на плечи. Каменщик снова перекрестился и больно ущипнул себя за руку, убеждаясь, что это не сон.
– Что с тобой? – спросила Кристина.
Он недоуменно уставился на нее. Неужели это еще одно дьявольское испытание?
– Кто ты? – прохрипел он.
– Сам знаешь кто, – улыбнулась девушка. – Я Кристина.
Словно в беспамятстве, он подошел поближе и оглядел ее с головы до ног. Что она здесь делает?
– Чего ты хочешь?
Она пожала плечами:
– С тобой повидаться. Я знала, что тебя здесь встречу.
Осмунд понимал, что лучше всего уйти, и как можно скорее, но не мог сдвинуться с места и, задыхаясь, смотрел на девушку.
– Ты за мной следишь, – сказала она.
– О чем ты? – покраснев, спросил он.
– Сам знаешь о чем, – улыбнулась Кристина. – Ты с прошлого лета за мной следишь, всякий раз, как я в собор прихожу, и у дома моего рыщешь.
Каменщик побагровел от стыда и начал оправдываться.
– Ничего страшного, – с понимающей улыбкой кивнула она, окинула его оценивающим взглядом опытной женщины и поудобнее оперлась о ствол. – Если хочешь, поцелуй меня.
Осмунд ошарашенно поглядел на нее, чувствуя себя напроказившим мальчуганом, хотя Кристина была ровесницей его старшей дочери.
«Это колдовство, – подумал он. – Наверное, она ведьма! Надо уходить поскорее…»
Однако каменщик не сдвинулся с места.
Кристина смотрела на него большими голубыми глазами, на пухлом детском личике мелькнуло обиженное выражение.
– Ну, если не хочешь… – укоризненно прошептала она.
Вокруг все стихло. Осмунд, не помня себя, неуверенно шагнул вперед и склонил тяжелую голову к ее губам, а девушка обвила его шею руками, притянула каменщика к себе и прильнула к нему всем телом. Осмунд коснулся сладких девичьих губ, вздрогнул и вместе с Кристиной повалился на траву.
Девушка, не переставая что-то нашептывать, начала снимать с него рубаху. Осмунд Масон, забыв о своих страхах, порывисто вскочил, торопливо разделся и, раскрасневшись от гордости, явил свою наготу. Наконец-то Кристина будет принадлежать ему! Он жадно потянулся к девушке.
Она захохотала, увернулась и отбежала шагов на десять. Он удивленно посмотрел ей вслед.
На бегу она с улыбкой обернулась:
– Догоняй!
Осмунд бросился за ней – нагишом, грузно переваливаясь на коротких ногах и тряся толстым пузом. Ветки и листья хлестали его по щекам, он спотыкался о корни и кочки на тропе, видя только мелькание света среди деревьев и белую сорочку Кристины в нескольких шагах от него.
У самой реки тропа выходила на широкий луг. Осмунд решил, что там он и догонит девушку, и, задыхаясь, выбежал на траву. Кристина обернулась. На ее лице играла торжествующая улыбка.
Посреди луга Осмунд услышал звонкие голоса и заливистый смех. Внезапно каменщика со всех сторон обступили дети. Из-за деревьев выходили все новые и новые ребятишки – человек двадцать, все из Авонсфорда. Каменщик сделал им много игрушек. Дети смеялись и тыкали в Осмунда пальцами.
Кристина захохотала как одержимая, повернулась и исчезла в чаще. Голый Осмунд остался стоять посреди луга. Ребятишки покатывались со смеху.
Каменщик побрел к лесу, за своей одеждой, пытаясь сообразить, почему Кристина подстроила такую злую шутку. Неужели Бартоломью, ее отец, до сих пор завидует успеху своего бывшего ученика? Осмунд, осознав всю глубину своего унижения, покрылся холодным потом и задрожал от ярости – через час о случившемся узнают в Авонсфорде, а к обеду вести разлетятся по всему Саруму. Теперь ни о каком уважении и почете не может быть и речи: его выставили на посмешище, превратили в шута. И взрослые, и дети будут смеяться над ним до скончания века, а домочадцы…
Осмунд дошел до поляны, где осталась лежать его одежда, и в ужасе замер: вещи исчезли. Только сейчас он понял, как долго и тщательно Кристина готовила западню. Каменщик, едва не плача от стыда, начал осторожно пробираться между деревьев.
А дальше все произошло именно так, как он и предполагал: дочери на него обозлились, перестали с ним разговаривать и с презрением отворачивались всякий раз, когда Осмунд входил в дом, а малыш Эдвард с ужасом смотрел на отца и боялся к нему подойти, смутно понимая, что тот совершил какое-то страшное преступление.
Как ни странно, жена жалела Осмунда и не обращала внимания ни на гнев дочерей, ни на выразительное молчание соседей. Все долгие годы совместной жизни супруги не испытывали пылких чувств друг к другу; женщина остро сознавала свою непривлекательность и не укоряла мужа за внезапно вспыхнувшую страсть к другой. Робкими прикосновениями она пыталась утешить Осмунда, но видела, что облегчения ему это не приносит.
На улицах Солсбери каменщика встретили насмешливые перешептывания горожан; на соборном подворье священники презрительно глядели на него, резчики в мастерской ухмылялись, а на лице Бартоломью играла довольная усмешка. Осмунд притворился, что ничего не замечает, но то и дело краснел от стыда – ему чудилось, что в разговорах каменщики частенько упоминают имя Кристины.
Весь день Осмунду не удавалось сосредоточиться. Мастер-резчик погрузился в бездну отчаяния. «Вот наказание за мои грехи», – беспрестанно думал он, не в силах продолжать работу над барельефами.
Так продолжалось четыре дня, а на пятый Осмунд снова увидел Кристину.
Случилось это ненароком, и девушка не подозревала, что ее заметили. Осмунд возвращался домой мимо старой крепости на холме, откуда сбегала в долину узкая тропа. По тропе, держась за руки, шли двое – Кристина и юный Джон, сын торговца Уильяма атте Бригге. Осмунд замер, глядя им вслед. Внезапно юноша привлек к себе Кристину и поцеловал.
Каменщик оцепенел, а потом с удивлением осознал, что ему все равно. Он не чувствовал ни злобы, ни ревности, ни желания, лишь равнодушно пожал плечами и подумал, что наконец-то отделался от наваждения.
И все же соблазнительный образ обнаженной золотоволосой прелестницы неотступно преследовал Осмунда. Как ни сопротивлялся каменщик, он не мог сдержать невольную дрожь при воспоминании об очаровательном видении. В мастерской он глядел на свои неудачные попытки, падал на колени, отчаянно молил Господа о прощении и, вспоминая давние слова каноника Портеорса, со стоном восклицал:
– Отец наш небесный, я недостойный грешник, горсть праха, малая пылинка! Пошли мне смерть!
Осмунд, страдая от невыносимого унижения, рассеянно поглядел на незавершенный барельеф, где изображалось сотворение Адама и Евы, и уныло продолжил работу, даже не надеясь, что у него что-нибудь получится. К его удивлению, фигура Адама под резцом приобретала очертания самого каменщика: коренастое тело, короткие кривоватые ноги, огромная голова. Казалось, рука Господа творит самого Осмунда, нагого и дрожащего. Резчик замер в неуверенности – разумно ли выставлять напоказ свое унижение? – но потом решил, что терять ему больше нечего. Вдобавок трогательная робость и надежда, сквозившие в изображении, вызвали улыбку у каменщика. Спустя полчаса, довольный своей работой, он приступил к фигуре Евы.
Теперь Осмунд точно знал, что и как изобразить. Он ловко наметил очертания женской фигуры, и к концу дня в камне возник четкий силуэт Кристины. Длинные волосы девушки прикрывали спину, а в лице сквозили невинность и распущенность одновременно – то самое сочетание, которое так долго не удавалось уловить мастеру.
Спустя шесть недель барельефы с изображением райского сада были окончены. Вначале Адам гордо срывал яблоко с древа познания Добра и Зла, а затем его, униженно склонившего голову, с позором изгоняли из Рая – так сам Осмунд вначале гордился своим мастерством резчика, а затем познал горечь стыда.
Осмунда больше не волновало, что все в Саруме над ним смеются. Он работал от зари до зари, осознав, что Господь вначале вверг его в пропасть унижения, а затем наградил чудесным даром – из-под руки резчика вышло совершенное творение.
Так Осмунд Масон завершил фризы капитула Солсберийского собора.
1289 год
Над Солсбери словно бы установили огромный стол, на котором гордо высилась башня. Мраморные колонны над средокрестием походили на ножки стола, а поверх них каменщики начали возводить еще одно сооружение – квадратную двухъярусную башню на крыше, уходящую ввысь на сотню футов. Массивные ярусы, украшенные узкими стрельчатыми арками, были видны отовсюду в пятиречье. После завершения строительства башни над ней предполагалось установить высокий шпиль.
Осмунд Масон объяснил сыну великий замысел зодчих:
– Собор поднимется до самых облаков.
Величественное сооружение привлекало внимание всех жителей Сарума, а многочисленные путники благоговейно замечали его издалека.
Однако теплым сентябрьским утром 1289 года люди на Фишертонском мосту смотрели не вверх, а вниз, на речной берег. Старый Питер Шокли, кряхтя, выбрался из возка и подошел к лежащему у реки человеку.
– Живой? – спросил Жоселен де Годфруа, печально глядя из седла.
– Еле дышит, – мрачно кивнул Шокли.
Порыв ветра сдул дорожную пыль с лохмотьев несчастного путника.
Длинные плети водорослей покачивались в воде под узкими изящными арками моста. На противоположном берегу епископские мельницы перемалывали зерно в муку; ниже по течению реку разделяла узкая отмель – брод для паломников победнее, ведь за пере ход по мосту надо было платить дань, хоть и скромную. Течение здесь убыстрялось, и городские ребятишки часто собирались на мосту посмотреть, как бедолаги пытаются перебраться вплавь, теряя нехитрые пожитки. Брод облюбовали утки и болотные курочки, а за речной излучиной гнездились лебеди. К западу от моста, у дороги в Уилтон, виднелась деревня – два десятка хижин.
Человек, без сознания лежавший на берегу, был одет в черное; в босые ноги глубоко въелась дорожная грязь, из-под низко надвинутого капюшона торчала всклокоченная седая борода, на груди желтела большая прямоугольная нашивка-табула – королевским повелением теперь так метили иудеев. Над головой несчастного с жужжанием вились мухи.
За сорок лет Аарон из Уилтона превратился из преуспевающего ростовщика в нищего, став символом торжества добропорядочных христиан над неверными и язычниками. Богобоязненный король Эдуард I Длинноногий по примеру отца, благочестивого Генриха III, не прекращал преследовать иудеев. Их обложили непомерными налогами, запретили заниматься ростовщичеством и торговлей, постоянно требовали откупаться от тюремного заключения, так что к старости Аарон из Уилтона был полностью разорен. У него не осталось ни родных, ни близких, и за помощью обращаться было некуда. Он, как и горстка его соплеменников в Уилтоне, нищенствовал и просил подаяния на улицах.
В то утро он отправился в Солсбери, но по дороге потерял сознание и без сил упал у моста. Помочь презренному иудею никто не осмелился.
С моста на него смотрели глаза трех поколений. Одряхлевший Жоселен де Годфруа все еще уверенно держался в седле. Старому рыцарю удалось сохранить два имения в долине, предназначенные в наследство его внуку. Жоселен по праву гордился двадцатисемилетним Рожером – тот, как некогда его отец, доблестно сражался на турнирах и являл собой образец истинного рыцаря. Глядя на синюшные кончики своих пальцев, Жоселен понимал, что внуку недолго осталось ждать наследства, но мысль о смерти не пугала старого рыцаря. Имения приносили прекрасный доход, которого не коснулась ни прошлогодняя засуха, ни недавняя болезнь овец. Жоселен даже немного расширил родовую усадьбу, пристроив к особняку крыло и обнеся дом стеной.
Шестидесятилетний Питер Шокли своим видом внушал невольное уважение – в правление Эдуарда I его, степенного горожанина, не раз приглашали на заседания парламента, но всякий раз он отказывался, ссылаясь на занятость. Женитьба на Алисии пошла ему на пользу.
– С Алисией я чувствую себя совсем молодым, – говорил Питер, с любовью глядя на жену, которая, несмотря на седые пряди в волосах, сохранила свежесть и миловидность веснушчатого лица.
Вместе с Питером в возке сидели сын Кристофер и дочь Мэри, оба светловолосые, голубоглазые и розовощекие, в отца.
Все пятеро смотрели на иудея, обуреваемые самыми разными чувствами: Жоселен видел перед собой обходительного молодого человека с галантными манерами, с которым когда-то вел дела, Питер – пожилого ростовщика, на защиту которого готов был встать в парламенте Монфора, юный Рожер де Годфруа – презренного иудея, а Кристофер и Мэри Шокли – нищего старика, который сам был повинен в своих несчастьях, потому что отверг истинную веру.
– Уложите его в повозку, – велел Жоселен. – Отвезем его в Авонсфорд.
Дети в ужасе ахнули. Рожер поморщился, не желая марать руки о бродягу, но беспрекословно подчинился приказу деда. Питер Шокли помог поднять Аарона и уложить в возок. Кристофер и Мэри пересели поближе к краю, чтобы невзначай не коснуться старика.
Рожер все-таки решил обратиться к Жоселену:
– Может быть, не стоит…
Старый Годфруа, пользуясь большим уважением в округе, исполнял обязанности выездного судьи графства и исчитора – чиновника, в ведении которого находилось выморочное имущество и королевские земли; его долгом было во всем поддерживать интересы короля и соблюдать его повеления, в частности оказывать всевозможное давление на иудеев. Однако Жоселен сурово покачал головой:
– Едем в Авонсфорд. Если не придет в себя, то умрет.
Возок покатил по дороге. Никто не заметил, что из лохмотьев Аарона на обочину выпала его личная печать.
Полчаса спустя Джон, сын Уильяма атте Бригге, увидев в пыли печатку, подобрал ее и уложил в кошель на поясе – на всякий случай, вдруг для чего-нибудь пригодится.
Повозка въехала во двор Авонсфордской усадьбы, и Аарона внесли в дом. Мэри Шокли молчала всю дорогу от Солсбери, но как только они с отцом отправились домой, не выдержала и воскликнула:
– Негоже рыцарю с иудеями знаться! И нечего нас заставлять!
– Аарон помог твоему деду построить сукновальню, – напомнил ей Питер.
– Ну и что? Все иудеи – гнусные мздоимцы, а водить с ними дружбу – грех!
Питер равнодушно пожал плечами.
– Я бы его в реке утопила, – заявила Мэри.
Кристофер ухмыльнулся – о горячем нраве сестры знали все в округе. Двадцатилетняя Мэри ростом и силой не уступала брату. Светловолосая, крепкая и ладная девушка внешне походила на своих саксонских предков, а от матери унаследовала две черты: россыпь веснушек на лбу и ясные глаза необычного фиалкового цвета. В детстве Мэри слыла озорницей, часто дралась с соседскими ребятишками, пускалась с ними наперегонки и всегда выходила победительницей. Отец, глядя на красавицу-дочь, с сожалением признавал, что упрямством и настойчивостью она превзошла любого мужчину; даже Алисия давным-давно отказалась от мысли, что Мэри можно заставить одеваться и вести себя, как подобает скромной девушке из хорошей семьи.
– Если и найдется смельчак, который захочет взять Мэри в жены, то ему придется смириться с ее нравом, – вздыхала Алисия.
Рожер де Годфруа не торопился обзаводиться семьей, и однажды Жоселен в шутку посоветовал внуку обратить внимание на дочь торговца, настоящую красавицу, хоть и не благородной крови. Рожер, победитель многочисленных турниров, со смехом заметил:
– Да что ты, она меня с легкостью на обе лопатки положит!
Как бы то ни было, Питер Шокли недолго раздумывал, как разделить между детьми свое имущество:
– Мэри унаследует земельный надел и усадьбу, а Кристофер будет вести дела в городе.
Брата с сестрой это вполне устраивало: Кристофер и впрямь отличался деловой хваткой и смекалкой, а Мэри с радостью заправляла хозяйством и любила работать в полях.
Кроме любви к мальчишеским проказам, девушку отличала еще одна черта: непреклонная вера в учение Церкви и слова клириков. Часто, нагрузив телегу овощами и фруктами, Мэри отвозила их не на рынок, а в Уилтонское аббатство, в дар бедным монашкам, как она их называла, хотя монастырю принадлежали обширные угодья в Саруме, а его обитатели так привыкли к роскоши, что настоятелю Солсберийского собора пришлось пригрозить аббатисе отлучением от Церкви за постоянную неуплату долгов и чрезмерные излишества. Девушка считала своим долгом всячески ублажать «бедных монашек», строго соблюдала все наставления священников и свято верила причитаниям монахинь о коварстве проклятых иудеев и проповедям викария об алчности и злодеяниях иудейских мздоимцев.
Вот и сейчас она стукнула кулаком по бортику возка и поклялась:
– Я больше никогда не встану рядом с иудеем, даже если сам король мне прикажет!
Тем временем на соборном подворье Осмунд Масон изумленно уставился на сына:
– Почему это мне больше нельзя работать в соборе?
– Так решила гильдия каменщиков, – смущенно признался Эдвард Масон.
– Не может быть… – выдохнул ошарашенный мастер.
Строительство капитула и клуатров было завершено, и Осмунд обрел покой. Его великолепные барельефы заслуживали всемерного восхищения, и каменщики, еженедельно собираясь в капитуле, где им выплачивали жалованье, всякий раз признавали необычайное изящество резного фриза. О постыдном происшествии давно забыли, а Кристина вышла замуж за Джона атте Бригге.
Осмунд с нетерпением ждал, когда строители начнут возводить башню, – у него было много новых замыслов. Строительство требовало необычайных усилий. Первым делом плотники соорудили над средокрестием огромный деревянный помост, будто столешницу на четырех центральных колоннах, отделявший основание башни от пустых пространств нефа и трансептов; только после этого крышу разобрали, а квадратный помост остался под открытым небом. Там, на высоте в сотню футов, каменщики начали возводить сдвоенные стены башни – прочные, но не столь массивные, как стены собора, – между которыми засыпали смесь извести и щебня. В каждом углу башни располагались винтовые лестницы.
Работа на строительстве Осмунду нравилась; он часто восхищенно разглядывал стены и квадрат неба в высоте. Для постройки башни требовалось меньше каменщиков, но мастерам-резчикам дел хватало. Осмунд вырезал узорный орнамент – гирлянду каменных трилистников с шарами в середине, – обрамлявший высокие стрельчатые арки.
Сейчас каменщика больше всего волновало другое: у башни не было контрфорсов, подпирающих стену снаружи.
– Без контрфорсов стены разойдутся в стороны, – жаловался Осмунд каноникам.
Успокоился он лишь после подробных объяснений одного из зодчих:
– Мы стянем башню полосами железа и накрепко вобьем их в стены длинными чугунными клиньями. Они прекрасно выдержат напряжение, башня полтысячи лет простоит, а то и больше.
Зодчие сдержали обещание: стены, сложенные из серого чилмаркского известняка, обвили толстыми железными обручами.
Здесь, на высоте, шла особая жизнь: стучали долота и молотки ка менщиков, скрипели лебедки, поднимавшие камни на крышу, над стенами легонько посвистывал ветерок. Осмунд был доволен. Дочери вышли замуж, собратья-каменщики его уважали. Единственным поводом для недовольства был скоропалительный поступок сына – юноша вызвался в ополчение к королю Эдуарду, который начал войну с Уэльсом. Впервые со времен римского завоевания неприступный горный край покорился англичанам, и в награду они полу чили не только новое графство, но и новое оружие – большой лук. Эдвард Масон быстро освоил новое умение и стал великолепным лучником, покрыв себя славой в сражениях. Домой он вернулся с по четом и с увесистым кошелем серебра, однако подвиги сына особой радости Осмунду не принесли.
– Ты каменщик, а не лучник, – ворчал он и разочарованно вздыхал, если сын уходил на окраину города стрелять по мишеням.
Когда Эдварда приняли в гильдию каменщиков, Осмунд лишь раздраженно хмыкнул.
Осмунду исполнилось пятьдесят девять лет. И жена, и сам он пребывали в добром здравии; в преклонном возрасте Осмунд потерял всего три зуба. Вблизи он видел плохо, однако за долгие годы привык ощупывать камень короткими сильными пальцами, замечая мельчайшие выступы и впадины, так что слабое зрение ему ничуть не мешало; предметы вдали он различал прекрасно.
Впрочем, в последнее время в Осмунде что-то переменилось. Поначалу он винил в этом постаревшую жену, с которой по-прежнему делил ложе, однако заметил, что тело больше не отвечает на ее привычные ласки. Он решил, что увядшая и высохшая женщина его не привлекает, и попытался пробудить в себе вожделение, разглядывая хорошеньких горожанок, – увы, все было впустую. Сообразив, что мужские силы его покинули, Осмунд стал раздражительным и без причины корил жену.
На соборном подворье он взял в привычку проверять работу своих собратьев-каменщиков, находил в ней мнимые изъяны и резко распекал мастеров или досадливо фыркал и укоризненно качал головой. Эдвард несколько раз напоминал ему, что такое поведение недопустимо и вызывает нарекания, но Осмунд только отмахивался, и оскорбленные каменщики гильдии решили отказаться от его услуг.
– Хороших резчиков много, – объяснил глава гильдии Эдварду. – Твой отец и так много сделал для собора.
Спорить с гильдией было бесполезно, и Эдвард смирился, попросив лишь об одном: чтобы ему самому позволили известить отца.
Эдвард, глядя на безвольно ссутулившегося Осмунда, испытал внезапный прилив сожаления.
– Что же мне теперь делать?! – в отчаянии воскликнул старый резчик.
– На соборном подворье всегда работа найдется, – ответил сын.
И действительно, у собора продолжали возводить дома священников, а епископский дворец постоянно перестраивали, хотя сам епископ Уильям де ла Корнер редко посещал Сарум. Осмунд расстроенно понурился. Только вчера он завершил фриз с изображением песьих голов, лентой обвивавший середину башни, и был полон новых замыслов.
– Но я всю жизнь строил собор! – прошептал он.
– Отец, прости, но с решением гильдии не спорят, – помолчав, напомнил ему Эдвард, еще немного постоял рядом с Осмундом и ушел.
Старый каменщик угрюмо смотрел ему вслед.
Не может быть, чтобы его, самого опытного резчика, отвергли! Он разочарованно вздохнул и сокрушенно признал, что это правда. Унижение ранило больнее, чем хитроумная проказа Кристины, ведь это случилось не по вине Осмунда. Резчик остро ощущал свою слабость и беспомощность.
Эдвард, не оглядываясь, свернул за угол.
Осмунд сгорбился, будто под грузом лет, и поник тяжелой головой:
– Жизнь кончена!
Он окинул взглядом собор – свое любимое детище! – и лицо его исказила злобная гримаса. Внезапно Осмунд возненавидел всех: же ну, братьев-каменщиков и даже сына.
– Что ж, будь по-вашему! – с горечью прошептал он. – Хоть вы и молоды, а работать с камнем все равно не умеете.
Бормоча проклятия, он поплелся прочь от собора, впервые в своей жизни по-настоящему изведав смертный грех зависти.
В октябре 1289 года, вскоре после праздника перенесения мощей святого Эдуарда Исповедника, Эдуард I со свитой выехал из Вестминстера в Сарум. Король и его спутники пребывали в прекрасном настроении – все знали о великих замыслах, которые вскоре изменят жизнь Англии.
Королевство процветало, благосостояние населения росло, возделанные пашни приносили щедрые урожаи, а стада овец – пышное руно, которое теперь покупали не только во Фландрии, но и во Франции, в Германии, Италии и Нидерландах. Пять лет назад Эдуард I покорил Уэльс и возвел в новых владениях многочисленные замки, среди которых выделялся величественный Карнарвон. Младший сын короля стал первым английским принцем Уэльским, а само графство впервые после римского завоевания присоединилось к Англии.
После победы над Уэльсом Эдуард отправился в Гасконь, единственную европейскую территорию, принадлежавшую Англии, и три года провел в герцогстве, устраивая все по-своему. Теперь настало время решить важные государственные дела в Англии.
Во-первых, следовало полностью изменить систему королевского феодального управления. Обнаружив, что среди королевских чиновников процветает взяточничество, король отправил доверенных людей расследовать жалобы населения и назначил новых шерифов и судей.
Во-вторых, назрела необходимость присоединить к Англии воинственную Шотландию. Поводом для этого стала внезапная смерть шотландского короля – сорокачетырехлетний Александр III погиб, упав с лошади. Наследницей престола оказалась его малолетняя внучка Маргарет, рожденная дочерью Александра в браке с королем Норвегии. Шотландские регенты настояли, чтобы девочку, прозванную Норвежской девой, перевезли из Норвегии в Эдинбург, и озаботились поисками мужа для нее.
Эдуард I решил, что Маргарет следует выдать замуж за своего младшего сына, и вступил в переговоры с шотландцами. В Солсбери ему предстояло встретиться с четырьмя шотландскими посланниками.
Король являл собой величественную фигуру: высокий и широкоплечий, он был доблестным воином и покрыл себя славой в многочисленных рыцарских турнирах, а вдобавок обладал острым умом – необычное сочетание в те времена. Как и его отец Генрих III, Эдуард отличался редким благочестием и ходил в Крестовые походы, однако накрепко затвердил уроки, преподанные восстанием Монфора, и понимал, как воздействовать на парламент, чтобы подчинить непокорных баронов и заставить их платить налоги.
Грива поседевших волос и тщательно подстриженная борода обрамляли благородное лицо; от проницательного взгляда короля не укрывалось ничего, хотя приспущенное левое веко – фамильная черта, унаследованная от отца, – придавало ему полусонный вид.
Предстоящее посещение Солсберийского собора и охота в Кларендонском лесу привели короля в отличное расположение духа.
Осмунд с нетерпением ждал, когда в западные двери собора войдет король со свитой придворных.
Стояло ясное октябрьское утро. В соборе зажгли свечи, осветив золотые и серебряные украшения и богато расшитые шелковые шпалеры на стенах. Королевские чиновники и знатные рыцари, в том числе и старый Жоселен де Годфруа с внуком, ожидали прибытия короля у хора; чуть поодаль собрались мэр города и богатые горожане, среди которых выделялся Питер Шокли. Горожане и ремесленники попроще, как и сам Осмунд, столпились в нефе. Все прихожане, возбужденно перешептываясь, устремили взгляды к западному входу, где вот-вот должен был появиться король в сопровождении шерифа Уилтшира и настоятеля собора.
Осмунд держался особняком, не смешиваясь с толпой. За несколько месяцев резчик изменился до неузнаваемости: румяные не когда щеки побледнели и ввалились, тяжелая голова поникла, спина сгорбилась, вальяжная походка сменилась стариковским шарканьем. Он перестал бриться, и на подбородке торчала седая щетина. Мастер-каменщик, превратившись в дряхлого старика, избегал встреч с собратьями по гильдии и сторонился жены и домочадцев. При виде сына он напряженно вытягивал шею и злобно шипел:
– Вот какие нынче мастера-каменщики! Башню строят, а резать камень не умеют.
Осмунду не раз предлагали работу на стороне, но он отказывался, не поддаваясь никаким уговорам:
– Я слишком стар, вижу плохо.
Его часто видели в городе, у реки, напротив соборного подворья. Осмунд рассеянно разглядывал лебедей на берегу, однако то и дело печально косил глазами на величественную серую громаду собора.
Сегодня он пришел в храм по просьбе настоятеля.
– Король, любуясь рельефами в капитуле, выразил желание увидеть резчика, – объяснил посыльный. – Настоятель требует твоего присутствия на службе.
Осмунд угрюмо кивнул, втайне польщенный приглашением, однако в соборе намеренно отстранился от сына и жены и стоял поодаль, не в силах сдержать довольной улыбки: король оказал ему невероятную честь, выделив из прочих каменщиков. Осмунд невольно распрямил согбенную спину.
Люди вертели головами, стараясь не пропустить прихода короля. Старый резчик недоуменно поморщился – ему почудилось что-то неладное. Похоже, кроме него, никто этого не заметил. Пытаясь понять, в чем дело, он окинул собор придирчивым взглядом, пристально всматриваясь в каждый уголок. Все выглядело как обычно, но недовольная гримаса не сходила с лица Осмунда.
Откуда-то раздавался еле слышный звук, какой-то шорох, как будто из-под земли. Осмунд напряженно вслушался: может быть, это люди перешептываются в толпе или звучат шаги королевской свиты? Или шуршат тяжелые рясы священников?
У ограды пресвитерия курились кадильницы, сладкий дым благовоний вздымался к потолку. Все чувства Осмунда обострились до предела. Он ощутил, как под ногами подрагивают тяжелые плиты пола, и снова прислушался. Нет, от камней собора исходил не шорох, а слабое потрескивание.
«Что-то неладно!» – встревоженно подумал Осмунд, всматриваясь в изящные потолочные арки.
Прошла минута. Звук повторился – сначала поскрипывание, а затем слабый резкий треск откуда-то с высоты. Осмунд изумленно ахнул: четыре центральные опоры, поддерживающие огромную башню, едва заметно искривились. Стройные мраморные колонны сопротивлялись давлению какой-то неведомой силы, что стремилась согнуть их, будто лук. Снова раздался протяжный треск, и Осмунд едва сдержал крик ужаса.
Тут у входа прозвучали приветственные восклицания, певчие затянули гимн, и в собор потянулась вереница богато разодетых придворных во главе с королем. Все обернулись к ним, а Осмунд не отрывал испуганного взгляда от сводчатого потолка.
«Пресвятая Дева, спаси и сохрани!» – прошептал каменщик.
Искривление опор, замеченное Осмундом, являлось малой частью сложных процессов, происходивших в структуре огромного собора. Нагрузка сводов на стройные опорные колонны готического сооружения с высокими стенами и низкой несущей способностью была слишком велика. Арки в восточной части, над хором, уже слегка клонились к алтарю, будто мехи огромной каменной гармоники, а вершины центральных опор едва заметно вдавливались внутрь – каменное полотно испытывало огромное напряжение. С подобными явлениями зодчие сталкивались и при строитель стве других соборов, успешно применяя контрфорсы и аркбутаны для ослабления давления на стены. Сравнительно небольшие контрфорсы основного здания собора оказались малоэффективны. Вдобавок зодчие, не озаботившись точными расчетами, приступили к возведению многотонной каменной башни над средокрестием в надежде на то, что опоры пурбекского мрамора выдержат нагрузку.
Если надежды оправдаются, то колонны выдержат, хотя и изогнутся под немыслимым весом. А если нет…
Осмунд затаил дыхание.
Король Эдуард величественно шествовал по нефу.
После окончания богослужения священники и знатные господа почтительным полукругом собрались в восточной оконечности нефа, подле короля, который призвал к себе нескольких каменщиков и зодчих, трудившихся на строительстве собора. Последним к королю приблизился Осмунд. Старому резчику вручили небольшой, но тяжелый кошель с серебром, и Эдуард во всеуслышание провозгласил:
– Твои барельефы в капитуле великолепны, Осмунд Масон.
Каменщик отвесил низкий поклон.
– Вскоре Солсберийский собор будет по праву считаться лучшим собором в Англии, – продолжил король.
Осмунд решительно замотал головой. Придворные удивленно уставились на него.
– Башня слишком тяжела! – заявил старый резчик, указывая на центральные опоры. – Колонны не выдержат, они уже гнутся под тяжестью! Хвала Господу, что сегодня не обвалились!
В ошеломленном молчании священники и знатные господа поглядели на колонны.
– Ваше величество, каменщик одряхлел и больше не работает на строительстве собора, – прозвучал уверенный голос одного из клириков. – Мрамор выдержит нагрузку.
Осмунда поспешно отвели в сторону, и он не слышал, что обсуждалось дальше. Чуть погодя до него донесся взрыв смеха.
На соборном подворье, к несказанному удивлению Осмунда, его нагнал один из спутников короля и объявил:
– Завтра утром явишься в Кларендонский дворец. Король пожелал украсить свои покои резными деревянными панелями.
Старый каменщик привычно сослался на дряхлость и плохое зрение, но вельможа не стал его слушать:
– Приходи на заре, пока король на охоту не уехал. Твое мастерство он оценил, хоть ты и не угодил каноникам.
Осмунд со вздохом согласился.
Кроме Осмунда, на следующее утро в Кларендонский дворец отправились еще два путника. Впрочем, их туда не приглашали.
Джон, сын Уильяма атте Бригге, унаследовал многие его черты, но странным образом внешне не походил на отца. Уильям сутулился, а Джон держался прямо, развернув плечи; Уильям ходил быстро, размашистыми шагами, а Джон вышагивал размеренно и степенно; на узком лице Уильяма чаще всего появлялась жестокая и злобная ухмылка, а с лица его сына не сходило выражение доброжелательной заинтересованности и участия. Он торговал сукном в Уилтоне и еще при жизни отца приобрел репутацию честного и добропорядочного человека. Окружающие привычно звали его Джоном, сыном Уильяма, а чаще – Джоном, сыном Уилла, то есть Джоном Уилсоном.
У Джона Уилсона не было врагов, а некоторые – в основном для пользы дела – даже считали его другом. Самой большой ценностью в его жизни была жена.
Кристина и в тридцать семь лет оставалась необычайно привлекательной – она словно бы застыла в двадцатипятилетнем возрасте, и даже признанным сарумским красавицам приходилось соглашаться, что она во всем их превосходит. В замужестве она родила пятерых детей, но оставалась тонкой и гибкой, будто девушка, и сохранила нежную гладкую кожу, лишь у глаз расходились едва заметные лучики смешливых морщинок. Густые волосы по-прежнему отливали золотом, а в движениях женщины сквозила природная грация и осознание своей красоты. Мужу Кристина оказывала огромную помощь в делах.
Говорила она мало, с торговцами не заигрывала, но своим присутствием и одобрительной улыбкой очаровывала их и заставляла идти на уступки. Джон Уилсон хотел этим воспользоваться для заключения более выгодных сделок, но жена мудро предостерегла его:
– Не стоит наживать себе врагов. Мы люди маленькие, нам нужны влиятельные друзья.
Жители Сарума давно забыли ее злую проделку; о хитроумии и сладострастии Кристины знал только ее муж.
Сегодня Джон Уилсон был очень взволнован – предстоял самый важный день в его жизни.
Ранним утром, когда солнце едва осветило вершины деревьев, Джон Уилсон с женой добрались до Кларендонского дворца, представлявшего собой подворье в королевских охотничьих угодьях. Здесь стояли деревянные дома в два этажа, построенные как придется, по надобности – покои для гостей и свиты, псарни и конюшни. Основные постройки крыли черепицей, остальные крыши выстлали деревянной планкой, требующей постоянного ухода.
У входа в охотничье подворье Джон попросил провести его в королевские палаты. Стражник, поразмыслив, решил, что незваные гости – либо ремесленники, как старый каменщик, пришедший ранее, либо отстали от менестрелей, явившихся развлекать короля и его свиту, и указал на группу построек в середине подворья.
Королевские покои отличались от остальных только огромным числом оленьих рогов, развешанных по стенам, – охотничьим трофеям. У входа в покои весело переговаривались охотники, держа на привязи великолепных охотничьих псов.
За распахнутыми дверями виднелся богато убранный зал. Блестел пол, выложенный яркими керамическими плитками, которыми славились уилтширские монастыри; посредине лежал искусно ткан ный ковер, привезенный женой Эдуарда, королевой Элеонорой Кастильской, из родной Испании; на стенах красовались изображения королей на зеленом фоне. Джон Уилсон ошеломленно поглядел на невиданную прежде роскошь и взволнованно обернулся к жене.
– Ты готов? – невозмутимо спросила Кристина.
Джон кивнул, хотя руки его едва заметно дрожали.
– Ты же знаешь, дело очень важное, – напомнила ему жена.
Внезапно в дверях появился седовласый король Эдуард в окружении свиты. Этим утром он пребывал в превосходном расположении духа, и один из придворных осмелился оповестить короля, что уилтонский торговец явился с прошением.
С тех пор как Эдуард, взяв в руки бразды правления страной, ввел законы, карающие взяточничество, в королевскую канцелярию нескончаемым потоком хлынули жалобы и прошения, которые затем спешно направлялись на расследование в соответствующие суды графств. Король, так же как и его прапрадед Генрих II, и сам не гнушался слушанием дел. Вот и сейчас он дал охотникам знак подождать и, благосклонно кивнув торговцу, сложил руки на груди и повелел:
– Излагай коротко и внятно.
Джон Уилсон приготовил небольшую речь с описанием своего дела и произнес ее так искренне, что даже Эдуард, считавший себя великим знатоком людей, ему поверил.
– Это моя земля, – объяснял торговец. – Пятнадцать лет назад, когда иудеям еще было позволено совершать денежные сделки с христианами, Аарон из Уилтона ссудил семейству Шокли денег под залог имения. Долг они не вернули, поэтому ростовщик отнял у них землю и, поскольку по закону не имел права ею владеть, продал ее мне. Аарон получил от меня деньги, но Шокли из имения не выгнал, поэтому я не смог вступить во владение землей. Так что хоть я и заплатил свои кровные, но в обмен ничего не получил. – Он пожал плечами, всем своим видом выражая, что этого и следовало ожидать от гнусных ростовщиков. – Более того, так как сейчас с иудеями вести дела запрещено, мои несчастья никого не волнуют. А мои деньги, заработанные честным трудом, так и пропали.
Весь рассказ Уилсона был чистым вымыслом.
Король сочувственно кивнул: иудеев он презирал и лет десять назад не только запретил им вести дела, но и закрыл все архивы иудейской общины и сейчас вполне поверил в то, что в последующей канцелярской неразберихе честный торговец и его прелестная белокурая жена лишились имущества, приобретенного законным путем.
– Тебе следовало обратиться в суд графства или в казначейство, ведающее делами иудеев, – чуть шепелявя, изрек Эдуард.
– Там мне справедливости не добиться, – заявил Уилсон.
Король пристально посмотрел на него и спросил:
– Это почему еще?
Джон Уилсон, который с раннего детства накрепко затвердил, что подлые Шокли, сговорившись с Годфруа, обманом лишили его наследства, решил, что сейчас самое время возвести еще один навет:
– Годфруа меня ненавидит, а вдобавок ведет дела с Шокли и с иудеем. Он всем в судах заправляет, поэтому-то справедливости мне и не добиться.
Король Эдуард с сомнением взглянул на торговца. Старый рыцарь занимал должности выездного судьи графства и исчитора, то есть ведал делами выморочного и королевского имущества, однако обвинить его в злоупотреблениях и мздоимстве было невозможно.
– Жоселен де Годфруа – наш верный слуга, – холодно произнес король.
Джон Уилсон упрямо стоял на своем:
– Он с Шокли сукновальню строил и вот уже месяц как приютил старого иудея в своем поместье.
Эдуард нахмурился: помощь иудеям противоречила требованиям христианской морали, хотя закон этого не запрещал.
– Это правда? – сурово спросил король придворных.
– Да, ваше величество, – ответил один из них. – Иудей – дряхлый старик, говорят, он при смерти.
– Годфруа – доблестный рыцарь и служит нам верой и правдой, – хмуро повторил король.
– Ваше величество, – торопливо вмешался Джон Уилсон, – он же водил дружбу с врагами короля, выступал на стороне Монфора.
– Это его сын выступал на стороне Монфора и погиб в сражении, – промолвил Эдуард. – Отец всегда был верен короне.
– Жоселен благословил сына, когда тот отправлялся к Монфору на битву при Льюисе, – торжествующе заявил торговец, который четверть века ждал удобного случая, чтобы сообщить об этом. – Это у сукновальни случилось, и Шокли там был. Я своими глазами видел!
Воцарилось ошеломленное молчание.
Король подозрительно уставился на Джона Уилсона: обвинение торговца было вполне правдоподобным. Может быть, семейство Годфруа и впрямь поддерживало мятежников? Эдуард раздраженно вздохнул, про себя проклиная торговца, испортившего ему настроение.
Внезапно из-за спин придворных выступил Осмунд – он стоял чуть поодаль, но теперь решился на смелый поступок, за который Уилсон возненавидел все семейство каменщика. Торговец совсем забыл, что четверть века назад Осмунд тоже присутствовал при прощании отца и сына Годфруа, и не ожидал никакого подвоха со стороны резчика.
Осмунд протолкнулся через толпу придворных, выступил вперед и обратился к королю:
– Ваше величество, я тоже там был. Когда Гуго де Годфруа вознамерился присоединиться к мятежникам, отец его проклял.
Старый каменщик шестьдесят лет верно служил рыцарю Авонсфорда и теперь солгал во спасение.
– Ты лжешь, старик! – негодующе воскликнул Джон Уилсон.
Король, поверив Осмунду, с облегчением вздохнул и перевел взгляд на торговца:
– О Годфруа больше ни слова! Чем ты докажешь свои права на владение землей?
От бессильной злобы Джон Уилсон дрожал как в лихорадке. Кристина осторожно коснулась его руки и умоляюще поглядела на короля. Торговец, переведя дух, вытащил запечатанный свиток, решительно протянул его Эдуарду и презрительно взглянул на каменщика, уверенный, что письменное свидетельство перевесит слова Осмунда.
Джон Уилсон и не подозревал, что совершает ужасную, непоправимую ошибку: письменное свидетельство, игравшее такую важную роль в хитроумном замысле, представляло собой грубую подделку, очевидную для любого грамотного человека. Увы, изворотливый торговец грамоте не разумел.
Хмурое чело короля, неторопливо читавшего свиток, постепенно разгладилось, и Джон с Кристиной радостно переглянулись: теперь уж они тяжбу выиграли наверняка. Внезапно Эдуард негромко хохотнул, а потом, смеясь, передал свиток одному из придворных, который бросил взгляд на пергамент и тоже захохотал.
В то время в Саруме обосновалось множество бедных священников и певчих, и за поддельную купчую Джон Уилсон заплатил полуграмотному дьячку, который накорябал ее на смехотворной смеси плохого французского, испорченной латыни и корявого английского. Сам документ был составлен не по форме, не засвидетельствован и не носил отметки об уплате пошлины. Ясно было, что грамотный и образованный ростовщик не приложил к нему руку. Подлинной была только печать Аарона, которую Джон Уилсон месяц назад подобрал на дороге у Фишертонского моста.
Отсмеявшись, король разгневанно обратился к торговцу:
– Твоя купчая – подделка, а сам ты мошенник! В тюрьме сгниешь!
– Но печать же настоящая! – испуганно вскричал Джон Уилсон.
– Печать не доказательство, – презрительно ответил Эдуард.
Торговец свято верил в то, что печать на купчей – незыблемое подтверждение сделки, однако не знал, что несколько лет тому назад королевский суд, рассматривая множество сходных дел о подлоге документов, вынес решение, что присутствие печатей больше не считается абсолютным доказательством, потому что их слишком легко потерять или выкрасть. Джон Уилсон в растерянности обернулся к жене, которая тут же обворожительно улыбнулась королю. Эдуард, не обращая внимания на женщину, сердито воскликнул:
– И ты, гнусный мошенник, смеешь обвинять наших верных слуг в предательстве?! Немедленно зовите стражу! – велел он придворным. – В темницу его, под замок! И жену его тоже.
На охоте король немного развеялся, однако его все еще терзали сомнения: что, если в обвинениях торговца содержится частичка правды? Может быть, стоит начать расследование? Но зачем? Лишь для того, чтобы узнать о давнем предательстве? Нет, дело прошлое, лучше не ворошить былое.
– Годфруа – наш верный слуга, – чуть слышно пробормотал Эдуард, но зерно недоверия уже пустило ростки.
На дальнейшую судьбу Джона Уилсона повлияли обстоятельства, не имевшие ничего общего с владениями Шокли. Торговцем и его женой заинтересовался один из королевских советников, ведущих переговоры с шотландскими посланниками, и за ужином, улучив минуту, объяснил королю свой замысел.
Целый день Джон и Кристина просидели в заброшенной псарне – крыша протекала, в щели между бревнами задувал холодный ветер, едко воняло псиной. Узников не кормили, огонь разводить запретили, и к вечеру оба продрогли от холода. Внезапно за ними явились стражники и снова отвели в королевские покои, где под невозмутимым взглядом Эдуарда советник сделал Джону Уилсону весьма странное предложение.
Переговоры с шотландскими посланниками в последнюю неделю замедлились – как выяснилось, секретарь одного из посланников, имевший большое влияние на своего господина, решил помешать их успеху.
– Если его не отвлечь, он так и будет чинить нам препоны, – объяснил советник королю. – Без него мы с посланниками обо всем договоримся.
– А что его может отвлечь?
– Женщины. Он неимоверно сладострастен. К нему уже посылали трех местных девок, только они ему быстро прискучили. А вот жена торговца – редкая красавица, – с ухмылкой заявил молодой человек.
Король Эдуард оценил изобретательность советника, однако недовольно поморщился – подобных действий он не одобрял. К своей жене, испанской принцессе Элеоноре Кастильской, он относился с любовью и благоговейным почтением и редко с ней расставался.
– Ты предлагаешь отправить женщину к шотландцу в обмен на освобождение из тюрьмы? Нет, это слишком унизительно, – с отвращением заявил король.
– Что вы, ваше величество! Они сами об этом попросят, – заверил советник, объяснил, что собирается предпринять, и поспешно добавил: – Разумеется, с вашего позволения, ваше величество.
– Что ж, в таком случае я согласен, – неохотно кивнул Эдуард.
Джон Уилсон, выслушав предложение советника, неуверенно уточнил:
– Нас освободят без суда?
– Да, – ответил молодой человек. – Король склонен простить тебе подлог.
– И нам отпишут поместье?
– Да.
– Но за это моей жене придется неделю ублажать шотландца?
– Если хотите получить поместье, то да, придется. Ты, считай, сделаешь королю одолжение, – улыбнулся советник.
Джон Уилсон, даже не взглянув на жену, погрузился в размышления, а потом спросил:
– А если она проведет с ним больше недели? Что нам за это полагается?
От неожиданности советник вздрогнул, но быстро взял себя в руки:
– Там видно будет.
Только тогда торговец обменялся с женой многозначительным взглядом и радостно ответил:
– Она согласна.
Советник снова улыбнулся. Король неохотно кивнул. Час спустя торговцу вручили дарственную, по которой Джону Уилсону и его наследникам отводили в пользование земельный надел размером в виргату, с усадьбой. Усадьба представляла собой небольшую хижину, сама земля была посредственной, но Джона Уилсона это не смущало – его новые владения примыкали к землям Шокли.
Переговоры между шотландскими посланниками и английскими советниками об управлении Шотландией завершились, и 6 ноября 1289 года королю Эдуарду I торжественно вручили договор, по которому сын короля официально становился женихом малолетней Норвежской девы.
После этого король отправился на охоту в Нью-Форест, затем проследовал на юг, в Крайстчерч у мелкого залива, и провел там целый месяц. В Лондон Эдуард I приехал к Рождеству и созвал парламент, заседавший до конца февраля. Великий пост король провел в верховьях Темзы, а Пасху отпраздновал в своем дворце в Вудстоке, после чего вернулся в Сарум и посетил аббатство в Эймсбери, в двух милях от древнего хенджа, – там приняла постриг его мать Элеонора Прованская, вдова Генриха III. Затем он вернулся в Лондон, где опять заседал парламент.
По многим причинам летний парламент 1290 года стал судьбоносным для Англии – король наводил порядок в управлении страной, искал способы пополнения казны, обсуждал положение в Шотландии и отписал Церкви обширные земельные угодья. А еще он занимался законотворчеством. По королевскому статуту, известному под названием Quo Warranto, то есть «на каком основании», феодальным сеньорам требовалось доказать право на владение землей – отсутствие королевской дарственной грамоты позволяло вернуть земли королю. Однако же иногда применение статута оказывалось безуспешным – к примеру, король пытался опротестовать право Уилтонского аббатства на владение приходом Челк, но монахини предъявили древнюю дарственную грамоту саксонского короля Эдвига.
А еще король подписал эдикт, приказывающий всем иудеям под страхом смертной казни покинуть пределы Англии. Случилось это 18 июля 1290 года, что совпало с днем 9 ава по иудейскому календарю – днем траура в ознаменование разрушения Иерусалима. К Дню Всех Святых всем иудеям, которые пока еще формально находились под покровительством короля, было предписано уехать из Анг лии. Издание этого эдикта никого не удивило – преследования иудеев продолжались долгие годы. Считается, что король сделал это по настоянию своей богобоязненной матери, и за сей благочестивый поступок Церковь щедро пополнила королевскую казну.
За два дня до кануна Дня Всех Святых Аарон из Уилтона снова сидел в повозке Шокли: вместе с несколькими иудеями из Уилтонской общины он направлялся в Крайстчерч, откуда уходил корабль к берегам Франции. Питер Шокли с сыном Кристофером уехали по делам, поэтому торговец велел своей дочери Мэри проводить Аарона в порт и проследить за его посадкой на судно.
Три телеги, нагруженные нехитрым скарбом нескольких иудейских семейств, медленно катили на юг, к Крайстчерчу, по ухабистой дороге вдоль реки Авон, мимо деревенек Фордингбридж и Рингвуд, а затем по западной окраине заповедного леса Нью-Форест. Двадцатипятимильное путешествие заняло двое суток, и на мощенные брусчаткой улицы Крайстчерча телеги въехали только к вечеру. На невысоком холме у залива темнели стены древнего нормандского аббатства и крепости.
Аарон был на удивление спокоен. За время пребывания в Авонсфорде он отдохнул и оправился от истощения. Жоселен де Годфруа вручил ему небольшой кошель с серебром, заставил опрятно одеться и коротко подстричь седую бороду. Старый ростовщик сидел в возке, ясным взглядом провожая издавна знакомые луга и долины. К изгнанию из страны, которую он считал своей родиной, Аарон отнесся философически и на прощание с улыбкой сказал Жоселену:
– Похоже, Господь пожелал, чтобы я перед смертью увидел мир.
Мэри сообразила, что ей представилась возможность обратить старого ростовщика в христианскую веру. Повелению отца она перечить не смела, но, поскольку иудея отправляли в изгнание, решилась на богоугодное деяние. Честная и добросердечная девушка отличалась пристрастием к земледелию и к схваткам, чем походила на своих саксонских предков. Твердо убежденная в том, что необращенным иудеям грозит геенна огненная, Мэри считала, что король должен обратить их в христианскую веру или стереть с лица земли – так в давние времена Римская империя поступала с языческими племенами саксов. Сейчас Мэри предстояло провести двое суток бок о бок с неверными, и чем больше она раздумывала, тем яснее понимала, что обязана обратить их в христианство.
Как только телеги пересекли Эйлсвейдский мост и направились по дороге на юг, полуграмотная девушка объявила Аарону о своем намерении и начала напористо уговаривать старика покаяться. Всю дорогу от Бритфорда до Фордингбриджа она рассказывала о величии христианской веры и недостатках иудаизма.
Аарон, пряча невольную улыбку, не стал спорить с Мэри, которая, хотя и понимала, что ее уговоры успеха не приносят, тем не менее удвоила усилия:
– Не бойся, старик, мы спасем твою душу!
У Фордингбриджского моста она живописала Аарону ужасы геенны и заявила, что он обязан покаяться в злодеяниях своих соплеменников – ведь именно иудеи Христа распяли! – и что в Судный день не будет пощады тем, кто отвернулся от Спасителя. Старик терпеливо отвечал на ее вопросы, однако объяснил, что не желает отрекаться от бога своих предков.
Заночевали они в Рингвуде, а на второй день Мэри, не желая признавать поражение, перешла от объяснений к обвинениям:
– Ты мздоимец, а мздоимство – грех, так в Библии написано.
– Я не мздоимец, – ответил Аарон.
– Глупости! Ты ссужаешь деньги под проценты!
– Верно, но Библия называет мздоимством чрезмерную наживу, – объяснил он. – За денежную ссуду положено брать процент, иначе давать в долг не имеет смысла.
– Ты вообще не должен брать никаких денег за то, что ссужаешь в долг, – наставительно возразила Мэри, раздраженно качая головой. – Так учит Церковь!
Аарон печально вздохнул – учение Церкви пренебрегало основными принципами торговли и финансирования – и поглядел на саксонскую красавицу: фиалковые глаза, золотистые кудри, крепкая, складная фигура. Он не желал ей зла и хотел лишь, чтобы она перестала с ним спорить, но привычка к точности заставила его ответить:
– Увы, священники не во всем правы. Да, брать чрезмерные проценты за ссуду – преступление, но деньги должны приносить доход.
Он искренне хотел объяснить девушке, в чем заключается ее ошибка, но Мэри недоуменно поморщилась, не понимая, как можно сомневаться в словах клириков.
– Когда твой дед вложил капитал в сукновальню, – продолжил Аарон, – он надеялся, что капиталовложение принесет доход, точно так же как крестьянин, возделывая землю, надеется, что его труды окупятся сполна. Если вложенный труд не приносит отдачи, то продолжать его нет смысла. За зерно и фрукты, привезенные на рынок, платят деньги. Точно так же, если кто-то просит ссудить денег на покупку надела или на строительство сукновальни, за это полагается платить. Ведь те, кто возделывает землю или работает на сукновальне, надеются, что им заплатят за произведенный товар. Пойми, процентная ставка – это всего лишь плата за товар.
Мэри погрузилась в размышления – Аарон объяснял все просто и доступно, но ей все равно что-то не нравилось. Наконец она обрадованно заявила:
– Я возделываю землю, которая приносит плоды, а мой брат делает сукно на сукновальне – так мы зарабатываем деньги.
– Верно, – улыбнулся старик. – Разницы никакой нет. Деньги, вложенные в сукновальню, работают и приносят доход.
– А вот и нет! – торжествующе воскликнула девушка, стукнув кулаком по стенке возка. – Деньги не могут работать, это люди работают! Вот и тебе следовало работать, а не сидеть сложа руки.
Подобных взглядов придерживались не только землевладельцы, но и многие средневековые мыслители, к примеру Роберт Гроссетест и Фома Аквинский. Разумеется, ограниченный ум Мэри был не в состоянии постичь абстрактные принципы, лежащие в основе экономической деятельности цивилизованного общества. Аарон знал, что с предубеждениями, глубоко укоренившимися в сознании девушки, спорить бесполезно.
«Старый иудей так погряз во грехе, что больше не видит разницы между честным трудом и воровством», – подумала Мэри.
Остаток пути они проделали в молчании.
В канун Дня Всех Святых, когда мертвые встают из могил, от пристани в Крайстчерче отошел одномачтовый ботик с прямоугольным парусом. В лодке теснились Аарон и еще трое взрослых и четверо детей – последние представители иудейской общины Уилтона. За провоз капитану заплатили вперед, по шиллингу с человека.
Капитан, сгорбленный и узколицый, вел свой род от древних обитателей пятиречья, которые населяли побережье задолго до прихода римлян. Он грубо подтолкнул иудеев к мачте, чтобы не путались под ногами. На ботике было всего два матроса – капитанские сыновья.
Мэри Шокли отрывисто помахала отходящей лодке и нетерпеливо дернула поводья, направляя возок мимо аббатства Крайстчерч к дороге в Сарум. Лодку оттолкнули от пристани, и она медленно выплыла в спокойные воды мелкого залива. Аарон жадно смотрел на болотистый северный берег гавани, поросший густым камышом, – там гнездились лебеди, а на лугах паслись табуны диких лошадей; по правую руку виднелись полуразрушенные земляные валы древней крепости и невысокий длинный мыс, защищавший гавань от волн. Ботик миновал песчаную отмель и по узкому проливу направился в открытое море. У отмели покачивались рыбацкие лодки; ры баки взглядами провожали судно под парусом, медленно устремлявшееся вдаль от мыса, к Те-Соленту и меловым утесам острова Уайт.
Через двадцать минут Аарон обернулся – под тусклым серым небом чернели очертания мыса.
– Остров в дальнем море, – вздохнул старик.
Иудеи издавна дали это название Британии – острову за узким проливом, скрытому туманной дымкой.
Холодным сумрачным днем мыс казался тоскливым напоминанием об утраченной родине. По морщинистым щекам старика покатились слезы.
Капитан, увлеченный беседой с сыновьями, не обращал внимания на прилив. Внезапно, примерно в миле от берега, суденышко село на мель. Капитан грязно выругался, а иудеи испуганно вздрогнули.
Всем пришлось выбраться на песчаную косу, по колено в холодной морской воде. Капитан с сыновьями с усилием столкнули лодку с отмели и оттащили на глубину, приказав иудеям оставаться на месте. Сыновья забрались в ботик, капитан последовал за ними. Восемь несчастных покорно стояли на песчаной косе.
– Как же вы нас подберете? – выкрикнул один из них.
– А никак, – злорадно ухмыльнулся капитан.
Иудеи растерянно переглянулись.
– Презренным язычникам на моей лодке нет места, – пояснил капитан.
– Но тебе же заплатили!
– Сколько заплатили, туда и довез.
Сыновья налегли на весла, и ботик устремился вдаль.
– Прилив начинается! Придется тебе, старик, морские воды разводить, как Моисею – выкрикнул капитан и захохотал.
Парус наполнился ветром, и ботик повернул к берегу.
Только тогда иудеи поняли, что их обманом заманили на песчаную косу.
– Что делать? – обратился к Аарону мужчина помоложе.
– Ты плавать умеешь?
– Нет.
Даже если бы двое мужчин и женщина умели плавать, у них не хватило бы сил добраться до берега. Трое изможденных детей испуганно молчали. До мыса было около мили, до залива – все полторы. Вода уже покрывала колени взрослых, доходила до пояса детям.
– Придется перебираться вплавь, – ответил старик, хотя и понимал, что это бесполезно.
– Может, нас заметят, – с надеждой произнес один из мужчин.
На берегу никого не было. У мыса все еще покачивались рыбацкие лодки, но рыбаки не торопились на помощь. Крайстчерч скрывался за мысом.
– А вдруг капитан передумает и вернется за нами? – неуверенно произнес кто-то.
– Лучше вплавь, – помолчав, произнес Аарон.
Женщина стала звать на помощь.
Тяжелые черные тучи, застилавшие далекий западный горизонт, внезапно сгустились над заливом, накрыв морскую гладь, будто зловещее крыло хищной птицы. Шторм налетел неожиданно, порывы ветра окатывали мыс каскадами брызг, швыряли на прибрежную гальку тяжелые темные волны. Ботик обогнул мыс и вошел в спасительные воды залива, а рыбаки у отмели наконец-то услышали слабые крики и заметили людей, оставленных на косе, но, поглядев на черные штормовые тучи, поняли, что спасать несчастных слишком поздно. Рыбаки переждали бурю в хижине у дюн и выглянули из своего укрытия только спустя час.
От Аарона и его спутников не осталось и следа.
Потом рыбаки часто указывали на косу и наставительно повторяли:
– Вон там иудеи за свои грехи и потонули.
Долгие годы местные жители говорили, что перед штормом в морских волнах слышен тихий плач.
Изгнание иудеев свершилось стремительно, и Церковь торжествовала, празднуя победу христианской веры над язычниками. В ознаменование этого славного события настоятель Солсберийского собора решил установить статую, символизирующую победоносную Святую церковь, попирающую неверных. Работу над статуей хотели предложить Осмунду Масону, но, памятуя о его сварливом нраве, передали заказ другому мастеру-резчику.
Мэри Шокли, узнав о гибели Аарона, невозмутимо пожала плечами:
– В грехе жил, в грехе и помер. Я пыталась его душу спасти, да все впустую.
В субботу, спустя неделю после поездки в Крайстчерч, Шокли отправились на рынок в Солсбери. Алисия хотела купить дочери яркие атласные туфельки, но Мэри отказалась, заявив, что ей в сапогах удобнее. У овчарен стоял лысый толстяк в длинном черном плаще, отороченном дорогим мехом. Складки черного одеяния, ниспадая до самой земли, туго обтягивали живот, что делало незнакомца похожим на церковный колокол; гладко выбритые щеки лоснились, пухлые губы изогнулись в блаженной улыбке, маленькие черные глаза хитро поблескивали.
Мэри подошла к нему и спросила:
– Ты кто такой?
– Торговец, – ответил он глубоким, низким голосом.
По выговору Мэри поняла, что он чужестранец.
– Ты из Италии?
– Из Ломбардии, госпожа, – кивнул он.
– А чем торгуешь?
– Деньгами, – улыбнулся он. – Денег все хотят.
Он окинул девушку оценивающим взглядом и забегал глазами по рынку.
Мэри удивленно насупилась:
– Тебе Церковь разрешила деньгами торговать?
– Разумеется. Я представитель известного ломбардского банка. Сам папа римский нам благоволит, Церковь у нас деньги часто покупает. Мы ссудами торгуем, – мечтательно протянул он. – Тебе ссуда нужна?
Она грозно уперла руки в бока:
– А на каких условиях?
– Все очень просто, госпожа. Если попросишь ссудить тебе двенадцать марок, я дам тебе десять, а через год ты вернешь мне двенадцать.
– А еще две марки куда делись?
– Это мое вознаграждение.
– Нет, это проценты!
Улыбка исчезла с губ толстяка, и он болезненно поморщился:
– Мы зовем это вознаграждением.
– Как ни зови, а это проценты. Ты мздоимец!
Он хмуро помотал головой, а потом снова улыбнулся:
– Деньги должны работать, госпожа. Деньги всегда должны работать.
Мэри, вспомнив, от кого прежде слышала это выражение, горячо возразила:
– Так в чем же разница между вами и иудеями?
– В том, госпожа, что ломбардцы здесь, а иудеи – нет, – ухмыльнулся толстяк.
Мэри раздраженно ушла, подозревая, что ее обвели вокруг пальца, и много лет досадливо морщилась при любом упоминании о ссудах и иудеях-ростовщиках, будто все связанное с деньгами подрывало устои ее христианской веры.
В то время в Саруме жил старый францисканский монах, ужасно раздражавший всех жителей округи. Безобидный старик отличался чудным нравом и утверждал, что ему сто лет. Священники на соборном подворье с трудом выносили его присутствие. Тяжелый труд и нищенское существование оставили на францисканце свой отпечаток: согбенная спина, беззубый рот, ввалившиеся глаза. Он часто сидел у входа на подворье и не привлекал особого внимания до тех пор, пока не начинал проповедь. Тогда спина его распрямлялась, глаза возбужденно блестели, а высокий, пронзительный голос разносился по соборной площади.
Проповедовал он всегда одно и то же:
– Побойтесь Бога, вы, горожане, и вы, священники! Град погряз в грехе гордыни! Трепещите, несчастные, ибо Господь вас покарает, ежели вы не смиритесь и не покаетесь во грехе. Вы строите башню, что подпирает небеса, аки башня Вавилонская! Вы возвели каменный храм, но презрели Господа нашего! Вами движет гордыня и тщеславие! Но Господь всемогущ, Он повергнет в прах и вашу гордыню, и вашу башню!
От подобных слов каноники вздрагивали, но францисканца не прогоняли. Опорные колонны гнулись под весом массивных башенных стен, но башню еще предстояло увенчать высоким шпилем – во славу Господа. Увы, многие горожане буквально воспринимали проповеди старика, а уличные мальчишки бегали следом за канониками с криками: «Гордыня! Гордыня!»
Безумный проповедник никогда не просил милостыни, но прохожие швыряли ему монетки, опасаясь подходить слишком близко, а Питер Шокли часто останавливался и подолгу беседовал со стариком. Шокли утверждал, что они с францисканцем – ровесники, но ему не верили. Лоб проповедника пересекал длинный уродливый шрам.
По весне Осмунд Масон внес самый ценный вклад в строительство собора. Впрочем, об этом никто не подозревал, что приносило старому резчику странное удовлетворение.
В нормандском замке на меловом холме в Олд-Саруме теперь располагалась тюрьма; там же стоял гарнизон, на рыночной площади собирались торговцы, а жители старого города посылали своего представителя в парламент. Обитатели Солсбери редко заглядывали на холм, открытый всем ветрам, хотя в старом храме епископа Рожера по-прежнему служили обедни. Теперь Олд-Сарум стали называть цезаревой крепостью, ошибочно принимая за римское поселение стены древнего форта, а не исчезнувшие развалины Сорбиодуна у реки.
Осмунд любил приходить на меловой холм. Старый резчик закончил резные украшения Кларендонского дворца – замысловатые изображения зверей вокруг двери, – но с тех пор работы ему не предлагали. Заброшенный нормандский замок навевал на Осмунда умиротворение; каменщик взбирался на крутой холм над рекой и подолгу стоял на земляном валу, глядя на новый город вдали. Однажды в куче щебня у разрушенной сторожки привратника Осмунд подобрал странный серый булыжник размером чуть больше кулака. Резчик ощупал камень короткими толстыми пальцами и радостно улыбнулся – на ладони покоилась грубо вырезанная фигурка нагой пышногрудой женщины с тяжелыми чреслами.
Изображение Акуны, жены древнего охотника, вот уже восемь веков не видело света. Язычник Тарквиний сначала увез изваяние в верховья реки, а потом тайно вернулся и спрятал его в Сорбиодуне; затем римское поселение забросили, а опустевшие дома разобрали – камень использовали для строительных надобностей. Нормандские зодчие, перенося щебень на холм, ненароком подобрали фигурку, и она долгое время пролежала в стене одного из домов, до тех пор пока ее не обнаружил старый резчик.
Он унес фигурку домой, в Авонсфорд, и несколько дней раздумывал, что делать с изваянием.
Вопреки опасениям Осмунда соборная башня не обрушилась, хотя осадка величественного храма продолжалась. Старый каменщик притворно ворчал и по-прежнему корил строителей, но втайне радовался, что собор выдержал нагрузку и что искусным резным украшениям ничто не угрожает.
Спустя несколько дней, выждав, когда сгустятся сумерки, Осмунд отправился в собор. Строители уже завершили дневные труды и удалились на покой; соборное подворье опустело. По длинной лестнице Осмунд вскарабкался на верхний ярус собора – сначала к верхушкам арок, потом в клересторий над ними, а затем и к самим сводам, на самый верх. Сквозь окна струился свет догорающего заката. В полутемном нефе никого не было. Осмунд заметил полуприкрытую дверь, ведущую к одной из четырех винтовых лесенок башни. По узким ступеням он поднялся на сорок футов, к первому лестничному пролету, огороженному балюстрадой, откуда открывался прекрасный вид на город. В небе зажглись первые звезды. На стене Осмунд заметил одно из своих изваяний – собачью голову.
– Как башню строить, так я недостоин, а как моей резьбой украшать – так с удовольствием, – недовольно пробурчал он и, тяжело дыша, вскарабкался выше, на самый верх башни, на высоту двести двадцать футов.
Постройка шпиля еще не началась. Над головой Осмунда простирался усеянный звездами небосвод. Звезды горели ярче, чем огоньки в городских домах. Казалось, величавая каменная башня подпирает небесную высь.
Осмунд пошел вдоль парапета с многочисленными нишами – в некоторых уже стояли скульптурные изображения, некоторые пустовали. У внешнего края парапета он обнаружил подходящую по размеру выемку, вытащил из котомки молот и долото и, не страшась высоты, наклонился над стеной и выдолбил в камне углубление, куда опустил фигурку Акуны так, что над краем выемки торча ла только голова изваяния. Чуть поодаль стояло ведро с известковым раствором. Осмунд сноровисто укрепил камень в углублении и довольно усмехнулся – небольшую фигурку в стене, обращенной на север, к взгорью, вряд ли когда-нибудь заметят, но его обрадовало, что он все-таки внес свой вклад в строительство башни, несмотря на запрет гильдии каменщиков. Старый резчик ласково коснулся изваяния:
– Ежели башня устоит, то и ты устоишь.
Так Акуна обрела свою новую обитель, высоко над долиной пятиречья.
1310 год
Строительство собора приближалось к концу; оставалось лишь увенчать башню шпилем неописуемой красоты – подобного чуда прежде не было ни в Британии, ни в Европе. На башне над средокрестием возвели узкий восьмигранный шатер, уходящий ввысь на сто восемьдесят футов, – тем самым общая высота собора составила невиданные дотоле четыреста футов. Великолепное сооружение изумляло даже самих строителей.
Больше всех восхищался собором старый Осмунд. О былых обидах и огорчениях он давно забыл, больше не досаждал каменщикам упреками, и Эдвард несколько раз в год приглашал его на башню полюбоваться ходом строительства.
– Отец мой очень стар, – всякий раз говорил Эдвард строителям. – Кто знает, может быть, он в последний раз сюда пришел.
Это повторялось так часто, что стало шутливой присказкой. Осмунд, примирившись со старостью, однако же, не одряхлел и по-прежнему, хоть и гораздо медленнее, раз в неделю проходил несколько миль из Авонсфорда в Солсбери, впрочем, в повозке он проделывал этот путь с бо́льшим удовольствием.
– Он еще увидит, как мы новый собор построим, – усмехались каменщики, глядя, как согбенная, высохшая фигурка взбирается по винтовым лестницам к шпилю.
Год за годом взбираться приходилось все выше и выше. Осмунд придирчиво осматривал колонны и контрфорсы, взявшие на себя основную тяжесть арочных перекрытий, – пурбекский мрамор не подводил.
При сооружении шпиля строителям пришлось преодолеть немало трудностей. Во-первых, восьмиугольный шатер следовало уста новить на квадратное основание башни и надежно закрепить восемь вертикальных опор и восемь горизонтальных распорок. Для этого в углах башни соорудили арки, разделившие пространство на восемь частей, но шпиль давил не только на углы башни, но и на стены, угрожая обрушением. Строители решили еще раз стянуть башню железными обручами под самым парапетом – изнутри и снаружи. Полосы железа так надежно прикрепили к кладке, что менять их потребовалось только через четыреста лет. К углам башни пристроили башенки-пинакли, принявшие на себя часть несущей нагрузки шпиля. Когда шатер взметнулся на двадцать пять футов в высоту, Осмунд в четвертый раз пришел на стройку и с удивлением заметил, что верхние пять футов стен гораздо тоньше, чем нижние двадцать. Он забрался на леса и ахнул: стены оказались с ладонь толщиной.
– А что же на самом верху будет? – спросил он строителей. – Яичная скорлупа?
– Чем тоньше, тем легче, – согласно кивнул Эдвард.
И действительно, толщина кладки шпиля составляет всего девять дюймов; в это трудно поверить, учитывая, что высота его – почти двести футов. Хотя вес башни со шпилем – шесть с половиной тысяч тонн, сам шпиль весит лишь восемьсот тонн.
Осмунд спустился в неф, оценивающе осмотрел изгиб основных колонн средокрестия и впервые за многие годы с одобрением отозвался о работе зодчих, хотя и проворчал:
– Если колонны укрепить и контрфорсов добавить, то, глядишь, все и устоит.
Во-вторых, леса пришлось установить не снаружи, а внутри шпиля; строительные материалы и камень поднимали громадной ручной лебедкой; камни выкладывали не друг на друга, как при возведении основных стен собора, а восьмиугольными венцами, скрепленными чугунными скобами; швы между венцами заливали расплавленным свинцом. Стены шпиля наращивали точно так же, как гончар наращивает стенки горшка.
В феврале, когда шпиль достиг шестидесяти футов в высоту, жена Осмунда умерла от воспаления легких. Старый резчик, переживший всех своих друзей и знакомых, немного погоревал и переехал жить к Эдварду.
Жоселен де Годфруа скончался в 1292 году, а в сентябре 1295 года умер Питер Шокли – через два дня после смерти жены, которая тихо угасала всю весну и лето. Перед самой кончиной Алисия в бреду что-то шептала на французском наречии – Питер так и не понял, о чем она говорила. После похорон на кладбище у церкви Святого Фомы он пожаловался на усталость, а вечером его нашли бездыханным в любимом кресле у камина.
Осмунда смерть не брала.
– Дедушка, а ты долго жить будешь? – спрашивали его внуки.
– Пока шпиль не построят, – с улыбкой отвечал он.
Как ни странно, король Эдуард I стал причиной несчастий, постигших семейства Годфруа и Уилсон в начале нового столетия.
После 1289 года для короля наступила черная полоса. Летом 1290 года умерла юная Маргарет, Норвежская дева, что не позволило воплотить в жизнь замыслы по присоединению Шотландии к Англии, а в ноябре того же года скончалась Элеонора Кастильская. Король, преисполненный скорби, сопровождал гроб с телом возлюбленной супруги из Линкольна в Лондон, и все двенадцать остановок погребальной процессии отмечались воздвижением каменных крестов – последним таким монументом стал крест в лондонском предместье Чаринг, которое в наши дни носит название Чаринг-Кросс.
К середине 1290-х годов между Англией и Францией началась война за Гасконь, а в мятежном Уэльсе и в Шотландии, где после смерти Маргарет объявилось множество претендентов на шотландский престол, заполыхали кровавые восстания.
Как обычно, для ведения непрерывных военных действий требовались огромные средства. Англия процветала, в основном благодаря росту городов и торговле шерстью, однако королевская казна оставалась пуста – для ее пополнения было недостаточно доходов, получаемых с королевских земель, феодальных податей, судебных пошлин, а также всевозможных налогов, которыми облагались как миряне, так и духовенство. Самым большим землевладельцем в стране являлась Церковь, которой постоянно завещали свои поместья богобоязненные дворяне, тем самым увеличивая ее богатство за счет короля, навсегда лишавшегося права на эти земли. Стараясь обуздать чрезмерную власть духовенства, Эдуард издал так называемый Статут о мертвой руке или о церковных людях, из которого следовало, что даровать земельные владения – исключительно королевская прерогатива. В ответ на этот шаг папа Бонифаций VIII в 1296 году буллой «Clericis Laicos» – «Духовники миряне» – запретил облагать духовенство налогами без особого соизволения римской курии и угрожал строго покарать виновных, вплоть до отлучения от Церкви.
На следующий год Эдуард созвал парламент в Солсбери, требуя от баронов послать войска в Гасконь, но вельможи отказались, заявив, что службу будут нести только бок о бок с королем.
– Клянусь Богом, граф, или ты пойдешь, или будешь повешен! – в гневе воскликнул Эдуард.
– Той же клятвой клянусь, король, и не пойду, и не буду повешен![24] – ответил непокорный граф Маршалл, чем незамедлительно склонил на свою сторону многих магнатов.
Итак, Эдуард I оказался в том же положении, что и его дед Иоанн Безземельный до подписания Великой хартии вольностей или отец Генрих III перед гражданской войной под предводительством графа Монфора, – у короля не было ни денег, ни власти; управлять страной он не мог.
В те годы основным источником дохода страны была торговля шерстью. Эдуард всячески поощрял разведение овец и производство сукна в своих владениях, а вдобавок взимал налоги с торговцев шерстью и сукном. Более того, он обложил вывозимые товары таможенными и акцизными сборами, а в 1294 году ввел мальтот – так называемую дурную пошлину на шерсть.
В результате этих мер Джон Уилсон разорился. Впрочем, он сам был в этом виноват.
Надел, полученный в дар от короля, внушил торговцу уверенность в своих силах. Джон Уилсон обзавелся богатым нарядом с меховой оторочкой, а Кристина, уговорившая шотландского секретаря расстаться с золотой цепью, с гордостью носила ее на груди. По воскресеньям торговец с супругой гордо шествовали в церковь по улицам города.
В 1291 году Джон Уилсон начал спекулятивные торговые сделки с шерстью. Поначалу все шло успешно. Торговец договаривался с мелкими хозяйствами о закупке шерсти, обычно со значительной скидкой, и вручал им денежный залог, ничем особо не рискуя, потому что шерсть пользовалась большим спросом. В первый год сделки принесли Уилсону значительный доход, и торговец решил расширить деятельность. Теперь он не только платил овцеводам свои деньги, но и обратился за ссудами к торговцам побогаче, под залог своего надела. За два года доходы его увеличились, и он забыл об осторожности.
Однако с введением дурной пошлины оптовые торговцы снизили закупочные цены на шерсть. Джон Уилсон, в закромах которого за два года скопились огромные запасы шерсти, оплаченной вперед деньгами, полученными в ссуду, не смог выручить за товар нужной суммы, поэтому ему пришлось продать дом и дело в Уилтоне, скот и даже земельный надел, полученный от короля. К весне 1296 года, всего лишь после пяти лет достатка, семейство Уилсон разорилось.
Сын Джона, пятилетний Уолтер, на всю жизнь запомнил этот случай.
Холодным весенним днем Джон с Кристиной расстроенно стояли во дворе у дома. По тропе из усадьбы Шокли к ним решительно шла Мэри – высокая статная женщина с коротко остриженными светлыми волосами, в мужском наряде и тяжелых сапогах. Она поглядела на супругов фиалковыми глазами и уверенно произнесла:
– Ну что, хорек, говорят, ты надел свой продаешь?
Джон Уилсон, покосившись на нее, промолчал.
– А сами где жить будете?
– Не знаю, – пожал плечами Уилсон.
Мэри задумчиво хмыкнула:
– Мне работники нужны. Давай я твой надел куплю, только вы здесь останетесь, будете у меня работать четыре дня в неделю. Договорились?
Малыш Уолтер обрадовался: значит, никуда уезжать не придется. Однако Джон Уилсон, побледнев от злости, процедил сквозь зубы:
– Нет, я свободный человек, фримен. Не хочу становиться твоим вилланом.
– По-другому не получится, – невозмутимо ответила Мэри. – Тебе же все равно работа нужна.
Обнищавшие фримены часто нанимались в работники к землевладельцам-лендлордам, что фактически делало их зависимыми крестьянами, вилланами, которые отрабатывали повинности в пользу своего хозяина. Нередко виллан, накопив денег, выкупал свою свободу. Однако же Джон Уилсон пришел в ярость при мысли о том, чтобы пойти в услужение к ненавистным Шокли.
– Дом оставлять не придется, – добродушно напомнила Мэри.
Джон Уилсон понуро кивнул. Малышу Уолтеру стало жаль родителей, и он по-детски осерчал на странную женщину, которая заставила их делать то, чего им не хотелось.
– Будь по-твоему, – угрюмо буркнул Джон.
– Вот и славно, – улыбнулась Мэри и, заметив на шее Кристины золотую цепь, с интересом спросила: – Ожерелье тоже продаешь?
Кристина сжала украшение, словно кто-то пытался содрать его с шеи, и расстроенно кивнула:
– Ага.
– Тогда я его возьму, – заявила Мэри, считая, что делает Уилсонам одолжение, – украшений она в жизни не покупала.
Как только Мэри ушла, лицо Джона Уилсона исказила злобная гримаса. Уолтер навсегда запомнил ярость, полыхнувшую в глазах отца, и его гневное восклицание:
– Ничего, дай срок, и мы надел вернем! И у проклятых Шокли имение отберем, и сукновальню тоже! Ежели у меня не выйдет, у тебя обязательно получится, затверди это накрепко.
Отцовский завет Уолтер Уилсон запомнил на всю жизнь.
Рожер де Годфруа был транжирой. Два поместья, унаследованные от Жоселена, приносили прекрасный доход; при жизни старый рыцарь во всем потакал внуку, с удовольствием отправлял его на турниры, покупал ему достойное снаряжение и роскошные одеяния, подобающие знатным господам. После смерти деда Рожер не изменил своему образу жизни – в свите короля ходил войной на Уэльс, сражался на рыцарских турнирах и давал великолепные пиры в авонсфордском маноре. Все это стоило немалых денег, однако доходов поместий хватало. На одном из турниров Рожер встретил девушку, дочь знатного, но обнищавшего рода из Корнуолла – необычайную красавицу с копной каштановых кудрей и ярко-синими глазами. Разумеется, он взял бесприданницу в жены, ни в чем ей не отказывал, дарил богатые наряды и украшения, привезенные из Лондона. Супруги де Годфруа по праву считались самой красивой парой в Саруме. Доходов имений теперь едва хватало. Рядом с манором Рожер разбил сад, обнесенный высокой стеной, и посадил в нем тутовник, орехи, розы, виноград и ивы. К счастью, он так и не собрался пристроить к манору новый пиршественный зал. Вдобавок он привык щедро жертвовать больницам и монастырям – впрочем, на это доходов уже не оставалось.
Так, понемногу, не сразу, а за годы, скопились большие долги.
С введением дурной пошлины цены на шерсть упали и доходы имений резко уменьшились. Рожер обругал своего управляющего, но предпринимать ничего не стал.
К 1300 году положение дел в имениях значительно ухудшилось, а еще через пять лет стало безнадежным.
Рожер, не будучи глупцом, прекрасно понимал грозящую ему опасность, но продолжал оставаться образцовым рыцарем, щедрым и галантным. Он, как и многие аристократы в последующие века, поддался уговорам внутреннего голоса: «Ежели не будешь вести себя, как подобает знатной особе, тебя не будут уважать».
К тому времени у Рожера де Годфруа было две дочери и малолетний сын. Дочерей следовало выдать замуж, а сыну обеспечить наследство. Рожер, образцовый рыцарь, видел лишь один выход из создавшегося положения. «Состояние можно вернуть лишь доблестью и отвагой», – решил он.
Увы, он не успел принять участие в военных кампаниях в Шотландии против Уильяма Уоллеса и Роберта Брюса[25] – дела задержали его в Авонсфорде, – но теперь медлить было нельзя.
– Надо, чтобы меня заметил король или его вельможи, – сказал Рожер жене.
В 1305 году в Саруме проходил очередной турнир – состязались рыцари Уилтона и старого замка на холме. На турнир собрались рыцари из всех уголков страны. Клирики турниры недолюбливали – при большом скоплении вооруженных людей всегда вспыхивали стычки, а горожане, при поддержке мэра и городских советников, с недавних пор отказывались платить подать епископу. Напрасно соборное духовенство грозило отлучить от Церкви нарушителей порядка – Сарум охватило всеобщее безудержное возбуждение.
– Наконец-то мне повезло! – воскликнул Годфруа.
На турнир авонсфордский рыцарь, облаченный в роскошные доспехи, явился на великолепном сером жеребце в сопровождении сквайра и двух пажей. Щит и плащ-сюрко Рожера украшал фамильный герб де Годфруа – белый лебедь на червленом поле.
– Король услышит о моем воинском искусстве и в очередную военную кампанию поставит меня во главе отряда, – объяснял Рожер жене. – Это не только большая честь, но и верный заработок.
Рожер тщательно подготовился к турниру: обзавелся новым оружием и легкой кольчугой со стальными пластинами, предохранявшими от ударов руки и ноги. Все это стоило немало, и Рожеру снова пришлось занимать деньги, однако он уговаривал себя, что хорошо вооруженному рыцарю легче достанется победа на турнире.
Рожер де Годфруа подъехал к ристалищу, окруженному яркими палатками, на которых развевались рыцарские стяги и знамена. Толпы зрителей заполонили все вокруг, с любопытством разглядывая рыцарей и их свиты. Рожера охватило знакомое восторженное чувство. «Рыцари – самые достойные люди на свете!» – с восхищением думал он.
Однако чуть позже в тот день он испытал и иное, неведомое доселе ощущение.
Перед началом турнира обычно устраивали представление для развлечения зрителей. В этот раз на ристалище выехали две шутихи в рыцарских доспехах и начали гарцевать, обмениваясь скабрезными шуточками на ломаном французском. На голове одной из шутих вместо шлема красовался чугунный котелок. Зрители, среди которых, несмотря на строгий епископский запрет, было немало клириков, сопровождали выступление громким хохотом и восклицаниями, а дети швыряли в шутих огрызки и кочерыжки. Торжественно прозвучали фанфары, герольды объявили начало боя, и шутихи приготовились к сражению. Мужчины спешно делали ставки на победительницу, женщины в знак благоволения бросали на ристалище перчатки и ленты. Шутихи трижды съезжались в притворном бою, комично размахивая копьями, пока одна не вышибла соперницу из седла, к неподдельному удовольствию зрителей.
Годфруа угрюмо следил за представлением, которое почему-то его больше не развлекало. Рыцаря не оставляли мысли о непомерных долгах. Он сидел на великолепном скакуне, готовый ринуться в бой, чтобы отстоять свою честь, и терзался невыразимой мукой. Его охватило отчаяние: неужели рыцарский турнир ничем не отличается от представления шутих на потеху толпе? Неужели великолепные доспехи, яркие гербы и сверкающее оружие – всего-навсего тщеславные попытки утолить гордыню? Он тряхнул головой, отгоняя горькие мысли.
В тот день Рожер стал победителем турнира. Зрители им восхищались, и он привлек внимание нескольких вельмож.
– Приезжай к королю, – посоветовал ему один из баронов. – Ты достоин великой награды.
В мае 1306 года Эдуард I призвал ко двору всю знать королевства на торжественную церемонию в Вестминстерском аббатстве, где он посвящал в рыцари своего сына и отпрысков знатных родов. Великолепное празднество стало последним в правлении одряхлевшего короля. Наследный принц Эдуард отстоял всенощную службу в аббатстве и на следующий день принял от отца посвящение в рыцари, после чего сам посвятил в рыцари триста своих спутников.
Празднование, обставленное с неимоверной роскошью, получило название Лебединого пира. Казалось, обрели жизнь артуровские легенды о Круглом столе. Эдуард I приложил все усилия, чтобы напомнить вельможам об их вассальном долге перед королем и наследником престола. Годфруа, сидевший за длинным столом, отведенным для менее знатных семейств, проникся благородным духом рыцарства.
Повсюду в пиршественном зале виднелись изображения двух лебедей – символ отца и сына. Тканые шпалеры с лебедями украшали стены, во главе каждого стола поставили кресло с высокой спинкой в виде лебедей, напоминая гостям о верности повелителю.
В разгар пира слуги торжественно подали блюдо с двумя лебедями. Старый король, которого принесли в паланкине, встал, расправив плечи, и принес торжественную клятву перед Богом и лебедями, что пойдет войной на Шотландию и разгромит мятежников, а потом отправится в Святую землю на битву с неверными. Присутствующие встретили слова короля восторженными восклицаниями.
Вскоре после этого один из придворных подозвал Годфруа к королю. Сердце рыцаря радостно забилось – Эдуард наверняка заметит, что на гербе Годфруа тоже изображен лебедь!
Постаревший король обессиленно поник на троне, склонив седовласую голову. Изборожденное морщинами чело и впалые щеки говорили о страданиях. Эдуард с усилием кивнул одному из вельмож.
– Ваше величество, позвольте представить вам Рожера де Годфруа, победителя прошлогоднего Сарумского турнира, – объявил придворный.
Король из-под набрякших век смотрел на герб, украшавший грудь рыцаря, и молчал.
– Да, мне говорили, – наконец прошептал он, не отрывая глаз от герба.
– По счастливому совпадению, герб де Годфруа – белый лебедь, – заметил вельможа.
Эдуард не произнес ни слова.
– Ваше величество, Рожер – внук Жоселена де Годфруа, вашего верного слуги, – продолжил придворный. – Он жаждет выступить в поход на усмирение мятежных шотландцев.
Король задумался, а потом смутно вспомнил переговоры с шотландскими посланниками. Что тогда произошло? Кажется, верность рода де Годфруа была поставлена под сомнение…
Эдуард устало взглянул на стоящего перед ним рыцаря:
– Увы, вы опоздали. Мне больше люди не нужны.
Рожер отвесил почтительный поклон и удалился.
Все было кончено.
Годом позже, после смерти короля Эдуарда I, на престол взошел его сын, Эдуард II. Увы, народной любовью он не пользовался, а царствование его сопровождалось многочисленными заговорами и мятежами. Ходили слухи, что король – содомит и мужеложец.
В 1309 году, по настоянию высшего духовенства, в том числе Симона Гентского, епископа Солсберийского, королевского фаворита Пирса Гавестона изгнали из Англии. Река Авон, выйдя из берегов, затопила соборное подворье и сам собор.
Впрочем, все эти беды не занимали Рожера де Годфруа.
К концу года он продал второе имение.
Нет, полное разорение семейству не грозило – Рожер сохранил и сукновальню, и манорное владение в Авонсфорде, – однако следовало признать, что роскошная жизнь осталась позади.
Рожер пытался управлять делами имения, но без особого удовольствия – к постоянной напряженной работе он не привык и в хозяйстве не разбирался. Самым большим достижением он счел восстановление заброшенного лабиринта на холме и долгие часы проводил там в одиночестве, хотя, в отличие от деда, не читал и не молился, а предавался бесплодным мечтаниям.
Своему сыну Жильберу он дал единственный совет:
– Отправляйся воевать. Если повезет, вернешь наши владения.
Рожер отчаянно надеялся на прощение сына, но мальчик, глядя на отца, делал свои, только ему одному ведомые умозаключения.
Острие шпиля окружали строительные леса, будто орлиные гнезда на горной вершине, – при сооружении последних пятидесяти футов хрупкого шатра леса пришлось возводить снаружи, пропуская горизонтальные опоры через каменную кладку. Теперь их требовалось разобрать, но шпиль на головокружительной высоте был так тонок, что казалось, не выдержит человеческого веса. Отверстия, в которых крепились бревна опор, заткнули каменными пробками с чугунными рукоятками, чтобы впоследствии, для починки, леса снова можно было установить. На самой вершине шпиля укрепили замковый камень, точнее, четыре венца замковых камней, стянутые чугунными скобами, а поверх водрузили большой чугунный крест.
Крест Солсберийского собора был не просто украшением – его вертикальная перекладина насквозь пронзала замковые камни навершия и спускалась к деревянным перекрытиям внутри шпиля, где присоединялась к стягивающему устройству, служащему для регулирования внутреннего напряжения шатра.
Впрочем, зодчие полагались не только на свое мастерство: под замковый камень благоговейно уложили небольшую круглую дарохранительницу с клочком ткани – частицей одеяния Богородицы.
Наконец, спустя почти сто лет после закладки первого камня, строительство кафедрального собора Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии было завершено.
Сумрачным вечером в конце декабря, вскоре после окончания строительных работ, в нефе собора Эдвард Масон, изумленно глядя на отца, чуть слышно прошептал:
– Ни в коем случае.
Однако переупрямить старого каменщика ему не удалось.
В канун дня поминовения святых невинноубиенных младенцев вифлеемских, то есть 27 декабря 1310 года от Рождества Христова, Осмунд Масон, на восьмидесятом году жизни, совершил самый ужасный из семи смертных грехов.
Более того, он явно желал себе смерти.
В Саруме с давних пор существовал странный обычай: в канун дня поминовения невинноубиенных младенцев избирали отрока-епископа.
Верующие со всей округи заполнили храм, с нетерпением ожидая начала церемонии. Тут была и поседевшая Мэри Шокли, и ее родственники-торговцы, и Рожер де Годфруа с сыном Жильбером. Даже юный Уолтер Уилсон, забросив ловлю ужей на реке, пришел в собор, хотя его родители, Джон и Кристина, на службу не явились.
Обычай возник в XII веке – в этот день юным служкам и певчим позволялось занять места священников и избрать одного из отроков епископом со всеми почестями, полагающимися высокому духовному сану.
В последнее время соборное духовенство вызывало недовольство прихожан. Вопреки настоятельным просьбам мэра Солсбери и городских советников епископ сохранил за собой право феодала по отношению к городу и заставлял горожан платить подати. По городу толпами бродили нищие дьячки, новоиспеченные священники без прихода, бывшие служки, певчие и звонари, ввязывались в драки, нарушали покой горожан. Несмотря на все усилия епископа Симона Гентского, уважение к соборным клирикам было утрачено: виной тому были итальянские каноники, назначенные папой римским в богатые приходы.
Однако в канун дня поминовения святых невинноубиенных младенцев все раздоры и обиды были забыты.
Эдвард тешил себя напрасной надеждой, что отец одумается.
Семье каменщика из уважения уступили место поближе к хору; считалось, что Осмунд – самый старый житель Сарума.
Певчие в парчовых одеяниях пресвитеров, держа зажженные свечи, провели отрока-епископа к алтарю Пресвятой Троицы и Всех Святых. В день святых младенцев вифлеемских читали поучение из Откровения, а потом певчие нараспев произнесли строки гимна «Sedentem in supernae» – «На престоле небесном восседающий…».
Осмунд с улыбкой слушал звонкие юные голоса и кивал тяжелой лысой головой, подрагивая тонкими седыми прядками за ушами. От старости он будто усох, но сохранил бодрость духа и мысли; на руку сына он опирался не из необходимости, а потому, что ему так было приятнее.
Сегодня он привел семью полюбоваться завершенным шпилем и снова заставил их пройти по собору, рассказывая о статуях святых, резных украшениях и розетках в стрельчатых сводах. Сын и внуки терпеливо слушали рассказы старика, который неизменно называл имена давно забытых резчиков, сотворивших все это великолепие, ведь, кроме него, этих имен уже никто не помнил. Впрочем, сам Осмунд часто говорил, что настоящим мастерам имена ни к чему – они вечно живут в камне.
Отрок-епископ начал каждение у алтаря, раскачивая тяжелую серебряную кадильницу, из которой вырывались облака благовонного дыма. По собору поплыл аромат фимиама. За цветными стеклами окон угасал декабрьский закат.
Когда Осмунд насладился тщательным осмотром нефа и хора, он увел родных в клуатр, а оттуда – в капитул. Там, в капитуле, он и совершил ужасный грех.
Певчие торжественно шли по собору. Отрок-епископ, светловолосый паренек с лукавым выражением лица, решительно направил ся к епископской кафедре, сжимая длинный посох с загнутым резным навершием. У кафедры отрок обернулся, мелодичным голосом благословил прихожан и занял свое место. Певчие начали повечерие.
Иногда отрок-епископ с напускной суровостью читал проповедь, шутливо перечисляя прегрешения каждого из певчих, а прихожане с трудом сдерживали смех. После богослужения каноники приглашали отрока-епископа и его сверстников на пир, где их досыта кормили телятиной, бараниной, жареными утками, вальдшнепами, ржанками и прочей дичью, в изобилии водившейся на взгорье и в долинах пятиречья.
Несмотря на общее веселье, мысли Осмунда то и дело возвращались к зданию капитула. Старый каменщик пришел туда впервые за много месяцев. Сквозь огромные окна лился сумрачный зимний свет. Осмунд окинул взглядом творения своих рук – резные барельефы в арках над скамьями каноников – и с тайным восхищением признал, что они совершенны.
Всю свою жизнь он прожил скромно, довольствовался лишь осознанием хорошо исполненной работы, будь то изображение зверя или человека, а похвалу принимал сдержанно, с достоинством. Сейчас, глядя на завершенный собор, Осмунд впервые понял, что знает каждый его камень, и пришел в такой восторг, что старый каноник Портеорс, давно почивший в бозе, обязательно укорил бы его в самом ужасном смертном грехе – гордыне.
Старый резчик порывисто схватил сына за руку и воскликнул:
– Это все – моя работа, мои труды! Мои барельефы – лучшие в соборе! Таких во всей Англии не сыскать!
– Да, они превосходны, – негромко согласился Эдвард.
– Превосходны? – с язвительным смехом переспросил Осмунд.
Голос его заполнил зал капитула, и даже по клуатру заметалось эхо.
– Превосходны?! – презрительно повторил старый резчик. – Да на такое ни один каменщик не способен!
Он вскарабкался на скамью, нежно провел короткопалой рукой по изображению Адама и Евы и обернулся к родным:
– Это все – моя работа!
Так на восьмидесятом году жизни Осмунд Масон впал в смертный грех гордыни.
В собор каменщик вернулся бодрым шагом, чуть ли не вприпрыжку. В полутемном нефе дальнозоркий старик заметил десятки свидетельств своего мастерства: гробницу епископа Жиля де Бридпорта, розетки, капители колонн, суровое лицо каноника Портеорса, глядящее с высоты… Внезапно Осмунду почудилось, что ему принадлежит весь собор. Он вспомнил, как мастера-каменщики прогнали его со стройки, и едва не закричал: «Глупцы! Жалкие, подлые глупцы, такие же, как мерзкий Бартоломью!»
В соборе он возбужденно обернулся к сыну и объявил:
– Завтра утром мы с тобой пойдем в башню. Я хочу подняться на шпиль.
Декабрьское утро выдалось на удивление ясным и теплым.
У парапета башни стояли двое: дряхлый старик и его сын, мужчина зрелых лет.
Спорить с Осмундом было бесполезно.
– Ежели я с ним не пойду, он сам туда проберется, – объяснил Эдвард жене. – Уж лучше я за ним присмотрю.
– Все равно ему лестницу не осилить, – улыбнулась она.
Однако на душе у Эдварда было неспокойно.
Отец его, дряхлый старец, решительно поднялся по ступеням, остановившись только на ярусе клерестория и на первой лестничной площадке башни.
– Прямо муравей какой-то, – с изумлением прошептал Эдвард. – Не остановишь его.
Осмунд, в превосходном расположении духа, бодро взбирался по знакомой лестнице, будто сами камни стен чудесным образом придавали ему силы. На крыше башни он остановился передохнуть – от подъема закружилась голова, – но вскоре побрел вдоль парапета под огромными наклонными стенами восьмиугольного шатра, уходящими ввысь.
Эдвард с облегчением отметил, что отец больше не вспоминает о недавнем желании подняться на шпиль. Осмунд расхаживал по площадке у стен, задумчиво глядел вдаль и что-то бормотал себе под нос. На северной стороне башни он, перегнувшись через парапет, придирчиво осмотрел крошечную женскую фигурку, вмурованную в одну из ниш, и довольно усмехнулся. Эдвард решил оставить отца в покое и уселся чуть поодаль, греясь в ласковых лучах зимнего солнца.
Чуть погодя Осмунд отошел за угол и не показывался. Эдвард встревоженно подбежал к основанию полого шпиля и взглянул внутрь.
Ровный ряд чугунных скоб уходил на двести футов ввысь, к основанию креста. Осмунд медленно упирал ступни на нижнюю скобу и обеими руками крепко хватался за верхнюю, подтягивая высохшее старческое тело вверх по крутому склону шатра. Эдвард с ужасом увидел, что отец поднялся уже на тридцать футов.
Что делать? Первой мыслью было броситься вслед за Осмундом, но это вряд ли поможет: если он соскользнет, то поймать его не удастся. Эдвард со вздохом пожал плечами – раз уж отец решил окончить жизнь таким своеобразным способом, ничего не поделаешь. Он опасливо глядел на крошечную одинокую фигурку отца высоко под куполом шпиля, втайне надеясь, что старик не сорвется.
– Залезет на самый верх, а потом спустится, – негромко произнес Эдвард, словно успокаивая себя. – Будет о чем внукам рассказать.
На колокольне ударили колокола, отбивая время – десять часов утра.
Невозмутимый в своем величественном спокойствии, восьмигранный шпиль взмывал к ясному голубому небу, равнодушно взирая на сукновальню Шокли и на манор Годфруа, на стада овец, пасущиеся на взгорье, на рыночную площадь, на соборное подворье и на епископский дворец, на засухи и половодья, на пашни и на сбор урожая, на смену времен года и на мельтешение людей внизу.
Осмунд размеренно, не торопясь, карабкался к вершине шпиля. Колокола пробили полчаса, и старый резчик наконец-то обхватил обеими руками замочный камень. Люди на соборном подворье удивленно смотрели на шпиль. Легчайшее дуновение западного ветра коснулось лица Осмунда.
Собор и все вокруг принадлежало старому мастеру – ему одному, и никому больше.
Дальнозоркие глаза каменщика скользнули по постройкам соборного подворья, по рыночной площади, по крепости на холме за городом, по взгорью, где бродили стада; вдали, у самого горизонта, высился разомкнутый круг серых дольменов древнего Стоунхенджа, а гряды холмов застывшими волнами убегали на север.
Осмунд завороженно глядел на Сарум, и новоявленный грех гордыни развеялся в небесной высоте.
Немного погодя старик спустился к сыну.
Смерть
1348 год
Теплым августовским утром, на заре, корабль обогнул низкий мыс и медленно вошел в тихие воды залива, направляясь к пристани в Крайстчерче. На корабле везли вино из Гаскони, английской провинции на юго-западе Франции. Восемь коренастых моряков, сбежав по сходням на причал, принялись сгружать бочонки.
На корабле скрывалась незваная гостья, укутанная в черный мех; вместе с ней затаилась и ее крохотная спутница. Во французском порту загадочная странница ненароком забралась в ящик, да там и просидела все время, а теперь, на пристани в Крайстчерче, с радостью выбралась наружу и, не желая встречаться с людьми, стала искать убежища. Одинокая фигурка незаметно скользнула вдоль берега и свернула на узкую тропку, ведущую мимо аббатства к ряду домишек с двускатными крышами. Странница по опыту знала, что их обитатели чужаков не привечают, поэтому украдкой пробиралась по обочине, стараясь не привлекать излишнего внимания. Вскоре тропка сменилась мощеной улочкой.
После долгого путешествия есть не хотелось. Людей вокруг было немного; к пристани проехала телега, обрызгав путницу грязью. Справа, ярдах в пятидесяти, журчала река, а неподалеку, на холме близ аббатства, темнели массивные стены крепости Твайнхем. Там наверняка много укромных мест и сточных канав, заваленных мусором и отбросами съестного. Усталая странница побрела туда.
У крепостной стены ее встретили три серых стража. Путница знаком показала, что пришла с миром, но они, грозно оскалившись, надвинулись на бедняжку, и она проворно шмыгнула в сторону, к реке.
Несчастная путница ослабела – перед самым прибытием с ней случился приступ лихорадки, а теперь мучила головная боль. Бедняжка понуро побрела прочь от городских стен, к каменному мосту, под которым тихо покачивались на волнах длинные стебли водорослей. У нее кружилась голова.
На противоположном берегу, ярдах в пятидесяти от моста, стояла мельница, но к людям путешественница идти не желала. Ей хотелось отдохнуть, укрывшись от посторонних глаз. От пристани ее отделяло пятьсот ярдов. У самой воды виднелась куча мусора, и странница направилась туда.
Час спустя бедняжка, тяжело дыша, сползла на берег. Ее никто не заметил. Медленно, постанывая от боли, она побрела куда глаза глядят, лишь бы отыскать убежище. Минут через пятна дцать она добралась до деревянной мельницы и протиснулась в кладовую, уставленную мешками муки. Крошечная спутница по-преж нему оставалась со своей хозяйкой.
С путешественницей творилось что-то непонятное: ее била лихорадка, десны кровоточили, дыхание стало прерывистым, в легких скопилась жидкость. Через полчаса бедняжка умерла, но крошечная спутница ее не покинула.
Немного погодя к неподвижному телу странной черной крысы, лежавшему в луже крови, шмыгнула серая крыса, осторожно принюхалась – и тут блоха, вот уже неделю жившая на черной крысе, перепрыгнула к новой хозяйке.
На следующее утро изголодавшаяся блоха решилась на невероятный поступок. Кровь серой крысы почему-то ее не насыщала. На мельницу приехал торговец с десятилетним сыном, и блоха проворно перескочила с крысы на мальчугана, который ненароком забрел в кладовую. Увы, кровь мальчишки тоже не утолила блошиного голода. Блоха торопливо вернулась к крысе.
Дело в том, что в крови черной крысы расплодилась новая жизнь, которая полностью закупорила блошиный зоб, не позволяя пище попасть в желудок. Укусив мальчишку, блоха отрыгнула в ранку кровь вместе с возбудителем болезни.
Мальчика звали Питер Уилсон.
Возбудитель страшной болезни – крошечная форма жизни, клеточный организм. Под мощным микроскопом бацилла больше всего напоминает английскую булавку. Как и прочие бактерии, она размножается делением и быстро образует колонии в крови мелких грызунов, за что и получила свое официальное название Yersinia pestis[26]. Ее и сегодня можно встретить в самых разных уголках земного шара, где она существует вполне безобидно: в Крыму, в Индии и в Соединенных Штатах Америки. В естественном резервуаре обитания, то есть в крови грызунов, развитие бациллы сдерживают особые антитела, и в зараженном зверьке она может обитать постоянно, как хроническая и часто бессимптомная инфекция.
Однако же время от времени происходит нечто невероятное: бациллы внезапно начинают активно делиться, что приводит к своеобразному взрыву и превращается в смертоносную эпидемию. Существует множество научных теорий, пытающихся объяснить причины этого явления, но ни одна из них не предлагает удовлетворительного ответа на вопрос, какие изменения окружающей среды вызывают подобную реакцию.
Как бы то ни было, распространение подобной инфекции практически невозможно остановить – преградой ей служат лишь горы, ледяные пустыни или океан, да и то не всегда.
Современной медицине известны способы лечения, с помощью которых в 1970-е годы успешно остановили вспышку чумы среди населения США, однако третья пандемия чумы, зародившаяся в Азии к середине XIX века, унесла десять миллионов жизней в Индии, а волны ее прокатились по всем континентам земного шара.
Одна из таких эпидемий произошла в 1340-е годы.
Началась она в Средней Азии, а оттуда распространилась к востоку, в Китай, к югу, в Индию, и к юго-западу, по древним торговым путям на Ближний Восток и в Турцию. В декабре 1347 года, скорее всего кораблями, чуму занесли одновременно в Константинополь, в Грецию, в Геную – на северо-западе Италии и в Марсель – на юге Франции. Затем болезнь прокатилась по всей территории Западной Европы.
Бацилла, передающаяся двумя путями, вызывает две разновидности чумы – бубонную и легочную. Основные переносчики бубонной чумы – блохи, которые с одинаковой легкостью заражают чумной палочкой семьдесят два вида животных, в том числе кроликов, зайцев, белок, прочих мелких грызунов, кошек, собак и, разумеется, крыс. Зараженных животных можно разделить на две группы: дикие, обитающие в природных популяциях на территории очагов инфекционного поражения и вследствие этого редко вступающие в контакт с человеком (именно они являются основными распространителями чумы в США), и синантропные, то есть связанные с человеком, грызуны – мыши и особенно крысы. Легочная чума распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем.
Вторая пандемия чумы, получившая название Черная смерть, волной захлестнула всю Европу, переместившись из Италии сначала на запад, а затем на север, на территорию Скандинавии и Балтики.
Стремительному распространению заболевания способствовало несколько причин. К XIV веку население Европы существенно увеличилось – подобного роста впоследствии не наблюдалось до XVIII столетия. Неурожаи в начале века привели к всеобщему недоеданию, существенно ослабив защитные способности человеческого организма. Считается также, что в XIII веке значительно возросло число черных крыс – до этого в Британии их не было вовсе. Однако же все эти теории не подкреплены документальными свидетельствами. Сохранилась единственная запись о причинах появления чумы, сделанная медицинским факультетом Парижского университета в 1348 году.
«…В 1345 году от Рождества Господа нашего, 20 марта, в час пополудни, наступила конъюнкция планет Сатурн, Юпитер и Марс в знаке Водолея.
Конъюнкция Сатурна и Юпитера предвещает смерть и несчастье.
Конъюнкция Марса и Юпитера предвещает моровое поветрие, поскольку теплый и влажный Юпитер извлекает ядовитые миазмы заразы из земли и воды, а горячий и сухой Марс воспламеняет заразу и превращает ее в бушующий пожар…»
В начале 1348 года чума пришла в Венецию и Пизу, а в марте докатилась до густонаселенной Флоренции, где мерли как мухи жители, которых великий Данте Алигьери, изгнанный за тридцать лет до того, презрительно обозвал волками. Черная смерть пронеслась по Южной Франции и, распространившись до самого севера страны, к июню достигла Центральной Испании, а затем подобралась к берегам Англии.
Питер Уилсон возвращался домой, в долину реки Авон; бацилла, занесенная в его кровь блошиным укусом, к тому времени проделала путь в семь тысяч миль, но смертоносности своей не утратила.
Вечером Уолтер Уилсон и его младший сын Питер приехали в Сарум и сразу же отправились в усадьбу Шокли.
Мэри Шокли умерла несколько лет назад, и усадьбу унаследовал ее племянник, Уильям, который жил в городе. Из пяти детей Джона Уилсона при усадьбе оставался только Уолтер. Несмотря на добросердечное отношение Шокли, Уилсоны продолжали ненавидеть своих хозяев.
Питер Уилсон был рад возвращению домой. Ни он сам, ни его родители о чуме не помышляли еще двое суток.
Впрочем, никто в Саруме об этом не помышлял, за исключением Жильбера де Годфруа.
Поначалу странное поведение рыцаря вызвало пересуды среди жителей Сарума, однако причиной ему служило письмо, полученное Жильбером в день возвращения Питера Уилсона из Крайстчерча. Письмо прислал торговец сукном, недавно прибывший в Лондон из Европы.
До Жильбера и раньше доходили слухи о страшном моровом поветрии, вспыхнувшем на юге Франции, но он не обращал на них внимания. В письме, однако же, говорилось следующее:
Зараза уже достигла Парижа и быстро движется на север за мной по пятам. Никто не знает, как от нее спастись. Говорят, она распространяется по воздуху, через дыхание больных. Некоторые не расстаются с пучками душистых трав и вдыхают их аромат, дабы не подпустить к себе хворь. На юге многие бегут из городов, где свирепствует мор, ищут спасения в деревнях. Наверняка ужасный недуг вскоре придет и в Англию. Запаситесь травами, держитесь подальше от города и горожан, наведите чистоту в доме и не покидайте его. Да, и лучше заблаговременно составить завещание…
Торговец сукном был давним знакомцем семейства де Годфруа, уважаемым человеком. Жильбер побеседовал с женой и немедленно занялся делами. Брусчатку во дворе манора подмели и отчистили щетками; полы в доме устлали свежим камышом, а мусорную кучу у дворовых построек сгрузили на телеги и вывезли в поле, за полмили от особняка. Кладовые заполнили запасами съестного, а в кухне, зале и спальнях расставили корзины душистых трав. Теперь семейство Годфруа могло полностью отгородиться от внешнего мира.
– Заразу порождает зловонный дух города и нечистое дыхание его обитателей, – объяснил Жильбер слугам.
Он пришел в деревню, осмотрел хижины вилланов и заставил жителей навести чистоту в помещениях и сжечь свинарник, дабы не распространять зловония по округе. Местному священнику было велено совершать молебны об избавлении от мора. Жители Авонсфорда недоумевали – никто в Саруме о заразе не слыхал, – но повиновались.
Сам Годфруа не знал, помогут ли эти меры предосторожности уберечься от хвори, но считал своим долгом защитить вассалов и родовое владение.
– Авонсфорд мы сохраним любой ценой, – не раз повторял он жене.
Фразу эту Жильбер затвердил с самого детства, не желая по примеру отца вести расточительный образ жизни. Боясь потерять Авонсфорд, он прослыл чрезмерно осмотрительным и осторожным, хотя в 1314 году по настоянию Рожера, жаждавшего для сына почестей и богатства, отправился с войском короля Эдуарда II на войну с шотландцами. Увы, надежды Рожера не оправдались: англичане потерпели сокрушительное поражение при Баннокберне и разочарованный Жильбер вернулся домой. При дворе Эдуарда II он оставаться не желал – ему претили распущенные нравы придворных, особенно Пирса Гавестона и Хью ле Диспенсера, королевских фаворитов; к тому же королева, Изабелла Французская, не скрывала своей преступной связи с Роджером Мортимером, графом Марчем. Бароны, недовольные правлением короля, заставили его отречься от престола в пользу пятнадцатилетнего сына, Эдуарда III. Годфруа вздохнул с облегчением и нисколько не удивился, услышав об убийстве Эдуарда II в замке Беркли.
Эдуард III проявил себя мудрым правителем и десять лет назад даровал графство Солсбери своему другу детства, Уильяму Монтегю. У Годфруа появилась возможность проявить себя – новый граф, феодальный сеньор Жильбера, славился щедростью. Однако же Годфруа по привычке осторожничал, а потому остался в Авонсфорде.
– При дворе легко попасть в опалу, – объяснял он жене. – Не хочу рисковать.
И все же главная ошибка его заключалась в том, что он не присоединился к военной кампании во Франции.
Распри англичан с французами продолжались со времен Эдуарда I, а сейчас обострились из-за того, что по материнской линии Эдуард III наследовал право на французский престол. Поначалу юный король, как и его незадачливый предок Генрих III, решил создать великий европейский альянс, но его дорогостоящая затея не удалась, а вельможи едва не взбунтовались. Однако же Эдуард III, отличаясь гибким и острым умом, решил обойтись без ненадежных союзников и отправил во Францию небольшие английские отряды, вооруженные на деньги, вырученные от продажи шерсти. Основу войска составляли превосходные английские и валлийские лучники, а рыцари-конники не гнушались спешиваться и сражаться бок о бок с простыми солдатами. Ряд удачных вылазок завершился победоносной битвой при Креси в 1346 году, когда Эдуард и его старший сын Эдуард Вудсток, прославившийся под именем Черный принц, наголову разбили французскую конницу. Спустя год англичане захватили порт Кале. Шотландцы, решив, что все силы англичан брошены на войну с Францией, начали грабительские набеги на север Англии, однако северные графства отчаянно оборонялись, и шотландская армия потерпела поражение при Невиллс-Кроссе, а король Шотландии Давид II был взят в плен. Впервые за долгие годы войны стали приносить доход англичанам – завоеванные земли можно было безнаказанно разорять, а за пленных рыцарей получать выкуп.
Жильбер де Годфруа весьма сожалел, что не участвовал в сражении при Креси, – имение отчаянно нуждалось в деньгах. К ведению хозяйства он всегда относился осмотрительно и внес скромные улучшения в манор: велел оборудовать умывальню, где раз в неделю служанка наполняла горячей водой большую деревянную лохань, починить сводчатый потолок кухни и установить там два больших очага. В те времена землевладельцы побогаче строили каменные хоромы с пиршественными залами на первом этаже, но Жильбер предпочитал старинные нормандские традиции – зал с узкими окнами-бойницами по-прежнему находился на втором этаже манора.
– Мой дед так жил, и мы проживем, – говаривал Жильбер.
В своем поместье он, в отличие от деда и отца, возделывал только самые плодородные земли, дабы получить наибольший доход с наименьшими затратами. Как-то раз, просматривая хозяйственные ведомости двадцатилетней давности, он сравнил их с нынешними и несказанно удивился.
ГОСПОДСКИЕ ЗЕМЛИ ПОД ЗЕРНОВЫМИ
(в акрах)
Овец тоже стало меньше; теперь стада паслись не на каменистом взгорье, а на лугах в долине, отчего качество руна улучшилось. С уменьшением размеров пахотных земель необходимость в барщине почти отпала, и многие вилланы платили оброк деньгами, что вполне устраивало Жильбера. Из-за его осмотрительности доход имения оставался скромным даже в самые урожайные годы.
И сам Жильбер, и его жена были вполне довольны жизнью, однако иногда Розе хотелось, чтобы муж почаще забывал о своей осмотрительности и действовал увереннее.
На второй день своих приготовлений Годфруа решил, что сделал все возможное для защиты манора и деревни. Как только в зале накрыли стол для полдневной трапезы, украсив его замысловатой серебряной солонкой и перечницей, Жильбер обернулся к жене:
– Может быть, послать за сыном? Или все-таки не стоит?
Роза ласково посмотрела на мужа.
В поисках невесты для сына Рожер остановил свой выбор на дочери винчестерского рыцаря Танкреда де Уайтхита, хотя за девушкой не сулили богатого приданого. Брак оказался удачным, и Жильбер часто повторял, счастливо улыбаясь:
– Единственный раз в жизни отец заключил превосходную сделку!
Все в Саруме восхищались Розой де Годфруа, высокой и грациозной, с точеной фигурой, узким благородным лицом и длинными каштановыми волосами. Впрочем, к тридцати годам Роза неожиданно поседела, однако серебристая седина ее красила.
– Леди Авонсфорда – словно белая лебедь, – говорили местные жители.
Вот уже двадцать лет супруги нежно любили друг друга. Роза родила троих детей, но выжил лишь старший, Томас, а его брат и сестра умерли в младенчестве.
По тогдашнему обычаю Томаса отдали на воспитание родственникам. Сначала он был пажом, а теперь, когда ему минуло пятнадцать лет, стал оруженосцем в замке дяди Ранульфа де Уайтхита – семейство Уайтхит было знатнее и богаче Годфруа. Поговаривали, что для трапезы там подают серебряные вилки – неслыханная роскошь, ведь в то время даже самые знатные господа во время еды пользовались только охотничьими ножами.
– Обзаведешься придворными манерами, мы подыщем тебе богатую жену, и заживешь, как подобает настоящему рыцарю, – объяснял Жильбер сыну.
Теперь, когда над Авонсфордом нависла угроза неведомого мора, Годфруа не знал, как поступить: вернуть сына домой или оставить его в Уайтхите.
Как было заведено в Авонсфорде, трапеза сопровождалась музыкой, а после обеда деревенский викарий, одновременно бывший господским капелланом, услаждал слух супругов чтением. Сегодня Жильбер отказался от услуг музыканта – местного паренька, который старательно, но не слишком умело играл на волынке. За едой супруги обсуждали, что делать с Томасом, но так и не пришли к удовлетворительному решению.
Слуги убрали со стола, и в зал вошел капеллан. Жильбер дал ему знак начинать.
Капеллан, двадцатилетний молодой человек с ранними залысинами, почтительно подошел к столу, раскрыл книгу, предложенную Жильбером, смущенно улыбнулся, обнажив щербатые зубы, и высоким звонким голосом объявил:
– Повесть о сэре Орфео.
Жильбер очень любил эту рыцарскую балладу – артурианское переложение греческого мифа об Орфее и Эвридике: Орфео, король-рыцарь, отправлялся на поиски своей жены, леди Эуридицы, похищенной феями. Жильбер де Годфруа не подозревал, что под землей, на которой стоит его манор, скрыта древняя римская мозаика с изображением Орфея.
Капеллан нараспев читал мелодичные строки:
Был сэр Орфео королем, И Англия цвела при нем… …Был сэр Орфео, между прочим, До арфы тож весьма охочим…[27]Жильбер, знавший поэму наизусть, согласно кивал, слушая печальный рассказ о том, как леди Эуридица уснула в саду, а король фей, явившись ей во сне, пообещал ее украсть.
…Тебя отыщем мы везде, И от людей не жди помоги, Поотрываем руки-ноги, И так, разъятая на части, Равно ты будешь в нашей власти…Сэр Орфео, узнав об угрозе, сделал все возможное, чтобы защитить жену.
…И вот, назавтра, в час полденный, Король, в доспехи облаченный, И десять сотен с ним – вся рать Пришла под яблоней стоять, Полна решимости и гнева, А в середине – королева. Сомкнув ряды, они стоят И клятву верную творят: Мол, все поляжем, как один, Но леди им не отдадим. И все ж оттуда, из-под древа, Исчезла как-то королева — Никто не знал, куда и как Ее унес волшебный враг…После этого сэр Орфео, в личине бродячего менестреля, отправился странствовать по миру в поисках жены. Жильбер вздохнул и, забыв об осмотрительности, вообразил себя пилигримом, который пожертвовал всем ради возлюбленной.
Наконец сэр Орфео встретил короля фей, выехавшего в лес на охоту, и заметил среди свиты придворных свою жену.
…Пред ним она — Его пропавшая жена. Она глядит, и он глядит. Она молчит, и он молчит. Но королева, видя, сколь Он изнурен, ее король, Слезу ронила из очей. И тут же подскакали к ней И прочь влекут ее подруги — Встречаться не должны супруги.Жильбер смахнул невольную слезу – рассказ о мимолетной встрече и расставании супругов был пронизан чувством невосполнимой утраты.
Тем временем сэр Орфео украдкой проследовал за кавалькадой всадников, пробрался в замок фей и очаровал короля своей игрой на арфе. Растроганный король фей предложил менестрелю просить любой награды.
Сказал Орфео: «Сэр король, Молю тебя, отдать изволь Прекрасную мне леди ту, Что спит под яблоней в цвету»…Наконец сэр Орфео воссоединился с возлюбленной и, все еще в личине менестреля, предстал перед изумленными придворными.
…Король вернуться рад В Винчестер свой. Король идет — Его ж никто не узнает…Жильбер нежно коснулся руки жены и прошептал:
– Я готов сотню лет скитаться ради тебя.
– Мы должны быть вместе, – с ласковой улыбкой ответила она. – Завтра пошлем за Томасом.
Перед уходом капеллан заверил своего господина, что в округе не было ни одного случая страшного недуга.
– Я ежечасно молю Господа о призрении жителей Авонсфорда. Наверняка сия ужасная участь нас минует.
Наутро Жильбер отправил слугу в Винчестер, а сам решил съездить в Солсбери, но у самых ворот его остановили.
В семействе Масон было шесть человек: два внука Эдварда и их вдовая мачеха Агнеса с тремя малыми детьми. Ричард, отец Джона и Николаса, умер три года назад, и братья – обоим перевалило за двадцать – взяли на себя заботы о его второй семье. По семейной традиции Джон и Николас были каменщиками, а Джон, прекрасный лучник, отличился в битве при Креси и вернулся домой с кошелем серебра.
Годфруа со смесью восхищения и неприязни поглядел на Агнесу – невысокую и худенькую, с упрямо выставленным подбородком и честными серыми глазами. Рыжие волосы и резкие, отрывистые движения делали ее похожей на белочку. За вспыльчивый нрав местные жители ее недолюбливали, хотя она всегда ревниво оберегала родных и бесстрашно вставала на их защиту.
Джон и Николас, почтительно стянув шапки с головы, поклонились господину.
– Мы хотим снять внаймы овчарню на взгорье, – выпалила женщина. – Сколько вы за нее просите?
Жильбер вспомнил, что в лощине на взгорье действительно стоит заброшенная овчарня – длинный полуразвалившийся сарай из серого камня. Пастбища на взгорье давным-давно опустели – овец теперь пасли в долине. Зачем Агнесе понадобилась эта развалина? Впрочем, он не желал терять время на пустые размышления и ответил:
– Шесть пенсов в год.
Агнеса удовлетворенно кивнула – сумма была невелика – и поспешно добавила:
– Так мы ее сразу займем.
– Если вам угодно… – Рыцарь удивленно пожал плечами и ускакал в город.
Агнеса повернулась к Джону с Николасом:
– Пошевеливайтесь! Пора вещи собирать.
В Солсбери Годфруа незамедлительно отправился к Шокли. Уильям, в основном промышлявший торговлей шерстью и сукном, жил в доме на главной улице, Хай-стрит. Весь первый этаж особняка он отвел под лавку, в которой продавались устрицы из Пула, вино и фрукты, синиль, мыло и растительное масло, привозимые из Крайстчерча и Лимингтона, сельдь и соленая рыба из Ирландии и Бристоля, шелковые наряды из Лондона и Саутгемптона, а еще – чудесные лакомства и пряности из неведомых южных стран: перец, имбирь и финики. Купцы привозили не только товары, но и слухи из самых дальних уголков, поэтому к Уильяму Шокли всегда приходили за новостями. Уильям, дородный краснощекий мужчина, любил наряжаться в яркие одеяния. Вот и сейчас просторное парчовое сюрко с застежкой на груди складками ниспадало до самых колен, а длинный шлык яркого капюшона-гугеля был тюрбаном обмотан вокруг головы.
Уильям Шокли поздоровался с Жильбером и, отведя его в сторону, угрюмо прошептал:
– В Саутгемптоне чума.
– Давно?
– Со вчерашнего дня. Мне сегодня утром сообщили. Двое уже умерли от заразы.
– А в Солсбери об этом известно? – озабоченно спросил Годфруа.
– Я предупредил мэра и городских чиновников, только мне не поверили. Нет, в городе от чумы не спастись, поэтому я сегодня увожу семью в усадьбу.
Годфруа хмуро кивнул – у торговца было шестеро детей, им негоже оставаться в переполненном городе.
Торговец велел приторочить к седлу рыцаря две бутыли в соломенной оплетке и объяснил:
– Мне из Крайстчерча только что мальвазию привезли. Говорят, от заразы помогает уберечься.
В Саруме чуму обнаружили к полудню того же дня.
Уильям Шокли с толстушкой-женой, шестью детьми и двумя слугами уселись в две повозки и медленно выехали из Солсбери на Уилтонскую дорогу. Час спустя повозки остановились у бревенчатых домов близ Дубравы Гроувли – усадьбы Шокли. О своем приезде Уильям предупредил заранее и с радостью увидел, что дом проветрен, а в очаге пылает огонь. Впрочем, во дворе никого не оказалось, хотя Уилсон обязан был дождаться хозяина и разгрузить повозки.
– Вот лентяй! – раздраженно буркнул торговец и пошел к хижине Уилсонов.
За отцом увязались двое детей постарше.
Уилсон, не здороваясь, выслушал просьбу Шокли, молча кивнул и направился к усадьбе. Дети тем временем со смехом вбежали в хижину, но двенадцатилетняя дочка Уильяма почти сразу же выскочила во двор и бросилась к отцу:
– Питеру худо!
Жена Уилсона сидела в углу полутемной хижины; у стены, на соломенном тюфяке, лежал Питер Уилсон. Шокли, ничего не заподозрив, склонился над мальчиком. Внезапно Питер приподнялся и зашелся глубоким кашлем, обрызгав слюной лицо торговца.
– Уходите, быстро! – прикрикнул Уильям на детей и сам выбежал во двор. – Отсюда надо уезжать!
На тропе они столкнулись с Уолтером Уилсоном – на обычно хмуром лице работника играла зловещая ухмылка.
Марджери Даббер, низенькая добродушная толстуха со светло-зелеными, отчаянно косящими глазами, была кухаркой у Розы де Годфруа и лучше всех знала, как излечивать всевозможные хвори. Хозяйка внесла на кухню бутыль мальвазии в соломенной оплетке и стала объяснять Марджери, как приготовить целебное питье:
– Вино надо выпарить на треть, потом добавить перец, имбирь и мускатный орех и томить еще час, после чего добавить аквавит и венецианскую патоку и снова хорошенько прокипятить. Говорят, это лучшее средство против чумы, если пить его каждый день, утром и вечером.
Кухарка недоверчиво посмотрела на госпожу, но возражать не стала.
– Ежели зараза в Авонсфорд придет, без меня им все равно не обойтись, – вздохнула она, оставшись в одиночестве.
Ни Марджери, ни Роза не заметили, как с соломенной оплетки на складки господского платья прыгнула блоха.
На следующий день стало известно о чуме в усадьбе Шокли. До Авонсфорда хворь пока не добралась, и супругов Годфруа больше всего тревожило отсутствие вестей о сыне.
По мнению обитателей Авонсфорда, весть о неведомой хвори так напугала Агнесу, что бедняжка повредилась умом – ничем иным они не могли объяснить ее странное поведение. Непонятные приготовления владельца манора крестьяне сочли очередной причудой знатного господина, а вот бессмысленные поступки Агнесы вызвали у всех праведное возмущение. Никто не мог понять, почему Джон и Николас ее не остановят.
Спустя час после разговора с Годфруа Агнеса, нагрузив ручную тележку нехитрым скарбом и запасами съестного, непонятно зачем заставила Джона взять с собой пращу и лук со стрелами и повела семейство на взгорье, к овчарне. Затем она отправила пасынков в лес за дровами и хворостом, а сама, не обращая внимания на прохудившуюся крышу и стены, опустилась на четвереньки и стала пристально разглядывать земляной пол. Через полчаса она встала с колен, удовлетворенно вздохнула и объявила:
– Крыс нет, и даже пауков не видно.
После этого Агнеса велела пасынкам разобрать обвалившийся участок стены и установить камни вокруг овчарни, в пяти шагах друг от друга.
– А это еще зачем? – недоуменно спросил Джон.
– Потом узнаете, – пообещала Агнеса.
Джон и Николас, привыкшие во всем повиноваться мачехе, безропотно подчинились и к вечеру установили вокруг овчарни шестьдесят три камня.
Если не считать обвалившейся стены в одном конце, старая постройка была в хорошем состоянии – просторная и не затхлая; прохудившуюся крышу легко можно было починить.
– А где воду брать? – полюбопытствовал Николас.
– Сейчас покажу, – торжествующе улыбнулась Агнеса, подхватила деревянное ведро и отвела пасынков на четверть мили от овчарни, к небольшому пруду на взгорье, служившему поилкой для овец.
Стада на взгорье не пасли вот уже лет двадцать, и дно водоема давно не обмазывали глиной, но в пруду по-прежнему скапливалась чистая вода.
У овчарни Агнеса подошла к кольцу камней и объяснила:
– Камни нас охранят – внутрь круга не проникнет ни человек, ни зверь. А кто сюда сунется – отгоним или пристрелим.
– А откуда нам знать, что кто-то сунется?
– Будем денно и нощно в карауле стоять, – ответила Агнеса.
– Что, и людей прогонять придется? – удивился Джон.
– Да, – кивнула Агнеса и уверенно повторила: – Если сунутся, пристрелю. Иначе нельзя.
Пасынки знали, что спорить с мачехой бесполезно.
По правде говоря, Агнеса и сама не очень понимала, зачем все это нужно.
Когда Жильбер де Годфруа предупредил жителей Авонсфорда о приближении чумы, Агнеса, в отличие от соседей, поверила его словам и, поразмыслив об услышанном, сообразила, что именно представляет наибольшую опасность. Эта безграмотная женщина обладала великолепной памятью, сохранившей огромный запас сведений на все случаи жизни. Мать Агнесы не только научила дочь вести хозяйство, но и поведала ей о разнообразных народных средствах лечения болезней; вдобавок Агнеса с детства запомнила рассказы отца о Гаскони и Уэльсе, куда он ходил с войском старого короля Эдуарда I; ее братья и сестры всегда говорили: «Спросите у Агнесы, она все помнит». Однако же основным источником знаний Агнесы оставалось Священное Писание в изложении авонсфордского викария и странствующих монахов-проповедников. Поучения священников, то гневно-обличительные, то умиротворяющие, поддерживали в ней непреклонную веру.
Агнеса твердо знала, что страшный мор послан Господом в наказание за людские прегрешения, ведь недаром Библия упоминает и о разрушении Вавилона, Содома и Гоморры, и о Великом потопе; недаром изображения Божьей кары и гнева Господня во устрашение паствы помещали и на витражи, и на резные рельефы собора. Агнеса хорошо помнила слова Моисея из Книги Второзакония, услышанные в детстве на рыночной площади Сарума от старого францисканского монаха с горящим взором:
– Ежели не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты во граде и проклят ты на селе… Пошлет Господь на тебя скудость, голод и истребление, и ты скоро погибнешь за злые дела твои. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли… Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою и ветром тлетворным, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь…[28]
Похоже, Сарум настигла Божия кара – именно об этом говорил владелец манора.
«Многогрешным обитателям Авонсфорда не избежать праведного наказания, – решила Агнеса. – Но ведь Господь в милости своей являлся праведникам и поучал их, как избежать кары…»
После долгих размышлений она сообразила, как спасти семью, и уверенно заявила:
– Чуму разносят звери.
Никто в Авонсфорде с ней бы не согласился – ни знатные господа, ни бедняки-вилланы; в то время считалось, что болезнь передается либо через прикосновение больного, либо через зловоние, разносимое ветром и дождем. И все же Агнеса хорошо помнила, как двадцать лет назад доминиканский монах на обочине Уилтонской дороги сурово напоминал путникам слова из Книги Левита:
– Мир нечист и полон зла. Кролики и зайцы жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, потому нечисты они для вас; мяса их не ешьте и трупов их гнушайтесь; скверны они для вас. И филин, и кукушка, и нетопырь, и все животные, пресмыкающиеся по земле; хорек и ласка, мышь и ящерица с ее породою, сии нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к ним, нечист будет![29]
Путники не обращали на доминиканца внимания, но Агнеса, запомнив его проповедь, уверовала, что именно так свершится наказание Господне. После долгих размышлений она придумала, как его избежать.
На каменистых пустошах взгорья не водилось зверей; гряды меловых холмов напоминали пустынную гладь океана, и Агнеса решила, что именно эту местность Господь предназначил для спасения праведников.
– Из деревни надо уходить, подальше от нечистых животных, – уговаривала она пасынков. – Пожалейте своих братьев и сестру!
Джон и Николас привыкли считать Агнесу матерью, а сводных братьев и сестру – родными, а потому согласились, поддавшись настойчивым уговорам. Однако Агнеса не знала, как их удержать в овчарне. Обычно пасынки во всем полагались на мачеху, и она всячески это поощряла, ведь ей, вдове с тремя детьми, вряд ли удастся еще раз выйти замуж, а без кормильца не проживешь. Она втайне радовалась, что пасынки не спешили обзаводиться своими семьями, хотя Джон и Николас часто раздражали ее своей медлительностью и нерасторопностью. Отец их отличался острым умом и резким, вспыльчивым нравом, под стать Агнесе, а сыновья унаследовали от него лишь трудолюбие и умение работать с камнем. Агнеса понимала, что без помощи пасынков не обойтись, хотя ей и претила их беспрекословная покорность, а потому не давала воли своему острому языку.
Теперь ей предстояло утвердить свою власть над Николасом и Джоном и ни в чем не давать им спуску.
Вечером Агнеса накормила семью пшеничными лепешками, а после трапезы Джон вышел из овчарни и направился к тропе, ведущей к близлежащему холму.
Агнеса бросилась следом:
– Ты куда?
– В лабиринт, силки на кроликов поставлю.
Лабиринт Годфруа, на холме в двух милях к востоку от овчарни, давным-давно забросили, а замысловатый узор, вырезанный в дерне, не подновляли – Жильбер, в отличие от Рожера, приходил туда редко. В мягкой земле под корнями тисовых деревьев устроили норы кролики – они могли бы приносить имению неплохой доход, но владелец манора считал это пустячным делом и не возбранял вилланам ловить их в силки.
– Нет, кролики – животные нечистые, – строго сказала Агнеса.
– А на рынке за них хорошую цену дают, – возразил Джон.
Агнеса упрямо стояла на своем, понимая, что иначе он выйдет из-под ее власти:
– О братьях своих подумай! А вдруг в Авонсфорде уже мор начался?
Джон неуверенно посмотрел на мачеху.
– Пока хворь свирепствует, нам отсюда уходить нельзя. Иначе худо будет.
Джон вздохнул и вернулся в овчарню.
На пороге Агнеса снова потребовала:
– Обещай, что будешь во всем мне повиноваться.
Он обратил к ней недоуменный взор серых глаз и неохотно кивнул. Агнеса с облегчением перевела дух. Все это время она молила Господа о послушании пасынков.
Увы, молитвы ее оказались напрасны.
К несказанному удивлению Агнесы, ее запрет нарушил Николас.
Светловолосый коренастый парень во всем походил на старшего брата и был таким же медлительным и хладнокровным; оба работали каменщиками в соборе, а когда Джон ушел на войну во Францию, Николас стал кормильцем Агнесы и детей.
На заре он выскользнул из овчарни и отправился в город.
Агнеса, обнаружив его отсутствие, озабоченно поджала губы – теперь ей придется сдержать данное слово.
Николас рад был уйти из овчарни – настойчивость мачехи пугала его. Как ни скрывала Агнеса свой вспыльчивый нрав, братья о нем хорошо знали: от нее, как жар из кузни, волнами накатывало напряжение. К тому же Николас не верил, что от чумы можно спастись, если держаться особняком.
Он спустился с взгорья в долину, где привольно раскинулся город. На крыше собора поблескивали капли росы. Николас, погрузившись в размышления, прошел мимо городских ворот и только на рыночной площади заметил неладное. Обычно здесь с раннего утра толпились покупатели, но сегодня рынок обезлюдел, а в торговых рядах почти не было продавцов. Николас недоуменно пожал плечами и невозмутимо отправился привычным путем по восточному краю рынка на Хай-стрит. Ставни в лавке Шокли все еще не поднимали. На улице не было прохожих, лишь в водостоке посреди мостовой копошились черные крысы.
Николас свернул на обычно шумную Нью-стрит, где сегодня почему-то царила тишина. «Что-то горожане сегодня припозднились», – равнодушно подумал каменщик и по Минстер-стрит подошел к новым каменным воротам соборного подворья.
Подворье было излюбленным местом Николаса. Лет десять назад с позволения короля Эдуарда III епископ Роберт Уайвил велел строителям разобрать старый собор в крепости на холме, а из камней соорудить ограду соборного подворья. Николас вместе с остальными каменщиками работал на строительстве и с любопытством рассматривал метки неизвестных мастеров на старых камнях. Прочные стены с воротами на северо-восточной и южной стороне подворья надежно отделили собор от остального мира, придавая еще больше величия громаде храма с высоким шпилем.
Старый привратник удивленно покосился на Николаса, но заговаривать с ним не стал. На зеленых лужайках подворья не было ни одного человека.
В соборе стояла тишина. Николас прошел по нефу, рассматривая высокие колонны с едва заметным прогибом, принявшие на себя тяжесть башни и шпиля. В трансепте над хором Ричард Масон, отец Николаса, построил стрельчатые распорки, по форме схожие с готическими арками, – они принимали на себя несущую нагрузку, предотвращая отклонение стен к востоку. Николас предполагал, что вскоре необходимо будет установить такие же распорки над колоннами в средокрестии, но зодчим не хотелось прерывать изящную линию колонн, возносящихся к сводам, так как после постройки башни и шпиля прогиб колонн не изменился.
– Шпиль нашей верой держится, – шутливо утверждали каноники.
Около часа Николас работал в клуатре, где требовалась небольшая починка, а потом отправился к привратнику узнать, куда подевались остальные каменщики.
– Ты не слышал, что ли? В Саруме чума. И в городе тоже, – объяснил привратник.
– И многие захворали? – встревожился Николас.
– Неизвестно. Все дома сидят, на улицу носа не высовывают.
Николас снова вышел в город. У лавки Шокли толпились люди, стучали в дверь, колотили по опущенным ставням.
– У него там целебные травы, те, что от мора спасают! – выкрикивала какая-то женщина. – Открывай, аспид!
Из дома Шокли не доносилось ни звука.
В поисках новостей Николас обошел весь город. Говорили, что чума добралась до окрестных деревень, однако никто не знал, куда именно. На рынке торговец рассказал Николасу, что кто-то помер на ходу и свалился в водосток. Люди осторожно выглядывали из дверей домов, переговаривались, не понимая, что происходит. Обычно все новости узнавали у Шокли, но торговец до сих пор не открыл лавку.
К полудню Николас решил вернуться в Авонсфорд. Жители, собравшись на главной улице, напряженно глядели в небо – нет ли там черных туч, несущих заразу, – и с подозрением косились на Николаса.
Он обошел их стороной и задумался. Неужели Агнеса права? Казалось, зараза витала в самом воздухе Авонсфорда. Он заглянул домой, на всякий случай взял два одеяла и кожаную куртку-джеркин и собрался на взгорье.
На окраине деревни стоял дом викария – такая же лачуга, как и все остальные в деревне; к дому был пристроен небольшой загон для скота. Щербатый священник выскочил из дому, подбежал к Николасу и, схватив его за руку, потянул во двор:
– У меня с овцами что-то неладно!
В загоне неподвижно лежали три овцы.
– Что с ними? – испуганно спросил священник, дрожащей рукой приглаживая встрепанные редкие волосы.
– Не знаю… Наверное, хворь какая напала, – предположил Николас.
– Не знаешь?! – умоляюще протянул священник и, неожиданно расплакавшись, тоненько заголосил: – Это мор! Кара Господня! Божье наказание!
Каменщик пожал плечами и пошел дальше. Вслед ему неслись рыдания и вопли викария.
Николас, к обеду добравшись на взгорье, с улыбкой оглядел камни, рядком уложенные вокруг овчарни. «Все-таки Агнеса – умная женщина. С ней мы не пропадем», – подумал он. И действительно, здесь, на пустынном холме, дышалось легче, чем в городе или в деревне.
В дверях овчарни самый младший из сводных братьев Николаса, четырехлетний мальчуган с темными кудряшками, стоял на страже, крепко сжимая в руках лук. При виде брата малыш радостно вскрикнул и побежал навстречу.
Для Агнесы утро тянулось бесконечно. Джон помогал ей по хозяйству, а самым сложным оказалось удержать детей в круге, огороженном камнями. На взгорье стояла удивительная тишина. По небу проносились только облака, ведь сюда, на продуваемую ветрами возвышенность, не залетали даже птицы. Любопытный лис осторожно подкрался к овчарне в поисках поживы и, увидев Агнесу, поспешно отскочил. Она, к радости малышей, успела метко выпустить камешек из пращи, который попал зверьку в бок. Лис, взвизгнув, пустился наутек.
В полдень дети задремали, а Агнеса уселась на пороге. Из овчарни доносился чуть слышный шорох – Джон вытачивал древко стрелы. Через час один из малышей проснулся и вызвался сторожить. Агнеса ушла прикорнуть. Разбудили ее громкие крики.
Она выбежала из овчарни, протирая глаза и щурясь от яркого солнечного света.
В сотне ярдов от круга камней показалась знакомая фигура Николаса. Малыш с радостным криком бежал навстречу брату.
Агнеса, окончательно стряхнув остатки сна, сурово прикрикнула на сына:
– Ступай в дом и не выходи, пока не позову!
Она схватила лук и, приблизившись к кругу камней, велела Николасу остановиться. Он удивленно посмотрел на нее.
Агнеса упрямо выпятила подбородок, покрепче сжала лук и хмуро поглядела в глаза пасынка.
Джон вышел на порог овчарни, и Николас с улыбкой посмотрел на брата.
– Ты где был? – холодно спросила Агнеса.
– В Солсбери. И в Авонсфорде, – ответил Николас и шагнул к ней.
Она предостерегающе вскинула руку:
– Не подходи. Что о заразе слышно?
– Говорят, в Солсбери кто-то помер, но сам я не видел. А наш викарий решил, что его овцы от чумы перемерли, – усмехнулся Николас.
Агнеса решительно натянула тетиву:
– Убирайся прочь! И больше сюда не приходи.
У нее защемило сердце – пасынков она любила, как родных сыновей, но отступать было нельзя. Рука дрогнула, однако Агнеса тут же вспомнила о троих малышах и сосредоточилась.
Николас в полном недоумении уставился на нее. Если он не остановится, ей придется выпустить стрелу ему в грудь. А дальше что?
Они стояли друг против друга в напряженном молчании.
Джон подошел к Агнесе и негромко, рассудительно произнес:
– Впусти его, матушка.
– Ты обещал во всем мне повиноваться, – напомнила она.
– Впусти его, – настойчиво повторил Джон.
Агнеса замерла, не спуская глаз с Николаса. Если она сейчас пойдет на уступку, то все погибло.
Джон потянулся отобрать у мачехи лук.
– Не трогай, а то я Николаса пристрелю! – властно приказала Агнеса.
Джон поспешно отдернул руку.
– Говорят, в город хворь пришла. Если Николас заразу с собой принес, то мы все здесь помрем, – сказала Агнеса.
Джон промолчал.
– Она права, – вздохнул Николас. – Мне лучше уйти. Но я буду каждый день приходить, рассказывать, как дела идут.
Агнеса не опускала лук до тех пор, пока Николас не скрылся из виду.
Добродушное лицо Джона исказила злоба.
– Что ты наделала! – презрительно процедил он.
– Я нам всем жизнь спасла, – невозмутимо ответила Агнеса.
Первые признаки болезни у Розы де Годфруа появились на следующий день, но поначалу их никто не заметил.
Хозяйка Авонсфорда, весьма довольная принятыми мерами предосторожности, считала, что теперь-то зловещая хворь не коснется ее родных. Вечером Роза, напоив домочадцев целебным снадобьем, неожиданно побледнела и пошатнулась. Голова кружилась, пол словно уходил из-под ног. Жильбер ничего не заметил, а чуть погодя слабость прошла. Однако же через полчаса Розу охватил внезапный приступ лихорадки, но в тусклом свете свечей ни служанки, ни муж не заметили дрожи. Роза торопливо ушла в спальню.
Спустя полчаса Розу де Годфруа замутило, началась рвота. Теперь никаких сомнений не оставалось – хозяйку Авонсфорда настиг смертельный недуг.
Жильбер дремал в своем любимом кресле. У Розы было совсем немного времени, чтобы поразмыслить, как охранить домочадцев от хвори. Очевидно, не имело смысла просить их покинуть манор. Если зараза пришла в дом, то все его обитатели под угрозой.
Роза представила себе улыбчивое лицо сына, его вечно встрепанные волосы. Она так скучала по Томасу! Что ж, придется встретить смерть, не повидавшись с сыном. Ему ни в коем случае нельзя возвращаться в Авонсфорд.
Вестей из имения Уайтхитов все еще не было. Может быть, Томас уже в пути… При мысли об этом Роза вздрогнула. Надо бы предупредить мужа, послать гонца в Уайтхит, но сил не оставалось. Она закрыла глаза.
Очнулась Роза от стука копыт по брусчатке двора. Свеча у постели почти догорела. Роза испуганно приподнялась на кровати – наверняка это приехал Томас!
Она с трудом встала и, пошатываясь, подошла к окну, глядя на темный двор. Слуга распахнул дверь; пламя факела осветило стройную фигуру всадника. Роза забарабанила по оконному переплету. Лишь бы сына не впустили в дом! Она встревоженно огляделась, но тут слабость накатила снова, и Роза без чувств упала на пол.
Немного погодя дверь в спальню распахнулась, и Жильбер де Годфруа застыл на пороге, с ужасом глядя на неподвижное тело жены. Серебристые волосы Розы саваном накрыли ее лицо.
Гонец, присланный Ранульфом де Уайтхитом, объяснил:
– Ваш слуга приехал, когда хозяин был в отъезде. Ваш сын здоров, но до нас дошли вести, что в Саруме чума. Стоит ли отправлять Томаса домой?
Жильбер привел жену в чувство, уложил на кровать.
– Не посылай за сыном, – прошептала Роза.
По ее настоянию Жильбер провел ночь в зале манора, беспокойно задремав в кресле. Несколько раз он поднимался к жене, уверял ее, что она скоро выздоровеет, и заставил выпить целебного настоя мальвазии. Розу снова стошнило.
К вечеру под мышками и в паху у нее появились карбункулы – воспаленные, болезненные на ощупь бугорки, которые ночью превратились в огромные чирьи. Крики и стоны Розы разносились по всему дому. Наутро всем в Авонсфорде стало известно, что у хозяйки манора чума.
Роза из последних сил старалась успокоить мужа. Жильбер послал за капелланом, но выяснилось, что щербатый священник сбежал из деревни. Годфруа, глядя на жену, измученную смертельным недугом, вспомнил печальные строки баллады: «И от людей не жди помоги… Равно ты будешь в нашей власти…»
Он не мог и помыслить о смерти Розы.
– Господи, спаси и сохрани! – прошептал Жильбер.
Он велел принести в спальню душистые травы, денно и нощно молился, послал за священниками в Солсбери… Увы, все было напрасно. Уродливые нарывы на теле жены не исчезали. На третий день Жильбер, отчаявшись, был согласен на все.
Свои услуги предложила косоглазая кухарка Марджери Даббер. Два дня она отсиживалась на кухне, дожидаясь, пока ее позовут. В деревне она слыла умелой целительницей, о чем не раз с гордостью говорила рыцарю, но тот не обращал на нее внимания. Сейчас Марджери сама отправилась к госпоже и заявила, что сумеет избавить ее от страданий.
Обессиленная женщина посмотрела на кухарку ввалившимися глазами и наотрез отказалась.
На следующий день Розе стало хуже, и кухарку снова призвали к больной. Марджери, победоносно сверкнув косыми глазами, сказала, что знает верное средство.
– Надо взять живую лягушку и привязать ее к чирью. Лягушка весь яд высосет, – объяснила она.
– А потом что? – удивленно спросил Годфруа.
– Лягушка насосется яду да и лопнет. Тогда надо взять еще одну лягушку и…
Роза обессиленно возвела очи горе и промолчала.
Принесли лягушек, приложили их к карбункулам, но лучше от этого не стало.
– Хворь неизлечима, – изрекла Марджери, качая головой, и поспешно ушла в деревню.
Жильбер всю ночь просидел в своем излюбленном кресле, читая повесть о сэре Орфео.
Николас Масон провел день в Авонсфорде. Двух работников, потерявших сознание на пашне, отволокли по домам.
На следующее утро Николас пришел к овчарне, остановился у круга камней, известил родных, что чума пришла в Авонсфорд, а потом отправился в Солсбери – все равно заразы не избежать ни в деревне, ни в городе.
Улицы Солсбери опустели, а редкие прохожие торопливо шли, прижимая к лицу лоскуты или платки. Никто не знал, скольких человек болезнь уже скосила, но на рыночной площади Николас увидел возок с двумя трупами, направлявшийся к городским воротам. В городе царил беспорядок – мэр и олдермены, озабоченные лишь собственной безопасностью, заперлись в своих особняках.
Прохожие обходили стороной лавку Шокли – оттуда изредка доносился хриплый, харкающий кашель.
– Они все грудью маются, – объяснил Николасу сосед Шокли через закрытую дверь. – Говорят, их сынишка Уилсона заразил, в усадьбе. Уильям Шокли грозился Уилсонов с земли согнать, да только сам теперь долго не протянет.
Из дома снова послышался надрывный кашель, и Николас ушел восвояси.
На углу Нью-стрит ему встретился обоз – семьи побогаче, включая семейство алнажера ле Портьера, уезжали из города в крытых повозках. Николас спросил возчика, куда они путь держат.
– На север велели ехать, – поморщился старик. – А кто его знает, что там, на севере? Ну, раз заплатили, так придется везти.
На соборном подворье не было ни души, исчезли даже шумливые дьячки, которые обычно гуляли с собаками в клуатре или пьянствовали на лужайках. Николас направился к собору, и тут услышал за спиной знакомый голос:
– Эй, Масон!
Даже среди необузданных дьячков Адам слыл заядлым выпивохой, гулякой и разгильдяем. Он постоянно ввязывался в дурацкие потасовки и беззлобно, но едко подшучивал над приятелями, а на вопрос, зачем он пошел в священники, отвечал, как многие его сверстники:
– А как бедняку иначе успеха добиться?
В те времена у юношей без денег и связей не было иного выхода.
Адама узнавали издалека не только по зычному голосу, но и по его наряду: вместо скромной рясы священника он носил яркий котарди – облегающий камзол до середины бедра, перехваченный широким узорчатым поясом. Впрочем, беззлобный и добродушный юноша умел расположить к себе окружающих.
– Эй, Масон! – снова завопил Адам. – Погляди, как мир переменился! Все священники сбежали, одни мы с тобой остались.
Обычно в городе от клириков проходу не было, но сегодня они будто растворились в воздухе.
– Здорово-то как! – расхохотался Адам.
– А ты чумы не боишься? – спросил Николас.
– Нет, у меня верное средство есть, – усмехнулся дьячок, указывая на котомки, прицепленные к поясу. – В одной – шесть головок чеснока, а в другой – связка луковиц. Ко мне зараза и близко не подойдет.
Николас так и не понял, в шутку или всерьез говорил дьячок. Впрочем, от страшной хвори каждый оберегался как мог.
– Вот увидишь, Масон, ничего со мной не будет, – с улыбкой заявил Адам и решительно зашагал к воротам.
Николас весь день проработал в соборе, а вечером отправился в Авонсфорд, где узнал о чуме в особняке Годфруа. Две женщины в деревне тоже заразились – у одной появились карбункулы, а у другой болезнь проникла в легкие.
Наутро Николас пришел на взгорье предупредить родных.
– Не подходите ко мне! – крикнул он, не приближаясь к камням ограждения. – Чума повсюду.
Весь кошмар происходящего открылся ему в последующие десять дней. Страшный мор распространился по Саруму, как река в половодье, не щадя никого.
Некоторые умирали спустя несколько часов после заражения; те, у кого зараза проникла в легкие, мучились дольше, заходясь надсадным кашлем и отхаркивая кровь и гной, – легочная чума всегда приводила к смертельному исходу. По телу жертв бубонной чумы расползались ужасающие гнойники и кровоточащие нарывы, однако выживал один из трех больных.
Из города ежедневно вывозили телеги трупов, хоронили тела во рвах за городскими стенами. Однажды утром Николас увидел, как дверь лавки Шокли распахнулась, и три человека с лицами, замотанными обрывками ткани, бесцеремонно вышвырнули грузное тело торговца на улицу, где спустя два часа его подобрала телега труповозов. На следующий день та же судьба постигла жену Шокли, а затем – двоих его детей и слугу. Впрочем, на это никто не обратил внимания; смерть Розы де Годфруа в Авонсфорде тоже прошла незамеченной.
Не избежали чумы и обитатели соборного подворья. Первые два дня ворота подворья не открывали, пытаясь оградить собор от заразы, но вскоре заболел и умер привратник, и о всякой предосторожности забыли. Многие священники и монахи отправились в город, где невозбранно ходили из дома в дом, причащая умирающих.
Страх и уныние царили в городе. Зловещий дух чумы проникал повсюду, гниющие на обочинах трупы распространяли мерзкое зловоние; ужас сковал сердца и души горожан. Не унывал лишь Адам, гуляка-дьячок. Он бродил по пустынному городу, хохоча и приплясывая. Поговаривали, что он сошел с ума.
Николас не поддавался напрасным страхам, полагаясь на волю Божию и считая, что от судьбы не уйдешь, однако же вел себя осторожно, держался особняком, на улицах прикрывал нос и рот чистым лоскутом, ел в одиночестве и к больным не подходил. Каждый день он трудился в соборе – каменная кладка требовала надлежащего ухода и починки, – а по вечерам выходил в город или навещал родных в овчарне на взгорье.
Спустя неделю после смерти Шокли Николас все-таки испугался. Однажды он осторожно переходил по мосткам водосток, но тут с проезжавшей мимо телеги свалился труп, с ног до головы обдав Николаса холодными брызгами воды. Каменщику почудилось в этом прикосновение смерти. На следующий день он отправился в Авонсфорд, где узнал, что чумой заболели соседи, а потом пошел на взгорье.
– Я теперь буду реже приходить, – предупредил он Агнесу и брата. – В Авонсфорде опасно, так что я решил переждать мор в укромном месте.
– И где же? – полюбопытствовал Джон.
– Там, где нет ни людей, ни зверей, – с улыбкой ответил Николас. – В башне собора.
В сумерках он, никем не замеченный, взобрался по лестнице на башню – ключи он попросил у священника за день до того, объяснив, что хочет проверить кладку. С собой каменщик прихватил корзину, куда уложил несколько буханок хлеба, два бурдюка эля, сыр, солонину и немного фруктов. Еды и питья должно было хватить на несколько дней. Он запер за собой все двери и вскарабкался на парапет.
Огромный собор, погруженный во тьму, остался под ногами. Ночь выдалась теплой, и Николас решил переночевать под открытым небом. Он улегся на крышу башни и поглядел на шпиль, уходящий к звездам, куда сорок лет назад, за год до смерти, взобрался прадед Николаса, резчик Осмунд.
«Может, когда чума пройдет, я тоже до самой верхушки доберусь», – решил каменщик.
На вершину башни не долетало зловоние городских улиц, воздух был чистым и свежим. Здесь, среди серых камней, под шатром небес, Николас чувствовал себя в безопасности и вскоре безмятежно уснул.
Следующий день он провел на башне, наблюдая с высоты за жизнью города. На заре из домов выносили трупы, грузили их на телеги и увозили ко рвам под стенами. Из трех домов на соборном подворье тоже вынесли мертвых; какой-то служка стал рядиться с возчиками о плате, но те пригрозили оставить трупы во дворе, и ему пришлось расстаться с требуемой суммой. Несколько раз Николас видел Адама, бесцельно бродившего по городу.
На следующее утро каменщик решил навестить родных на взгорье и, не желая встречаться с труповозками, начал спускаться с башни затемно, еще до рассвета. В кромешной тьме собора мерцал огонек. Из любопытства Николас направился туда.
Ночью в собор пробралось отчаявшееся семейство. Вокруг гробницы епископа Осмунда стояли пятеро, благоговейно приложив ладони к холодному камню. На надгробной плите неподвижно лежал совершенно голый старик, покрытый воспаленными чумными карбункулами.
Гробницу епископа Осмунда издавна называли чудотворной; мно гие паломники утверждали, что прикосновение к ней исцеляет любые хвори. Каноники, надеясь, что Римская церковь все-таки признает епископа святым, не отрицали слухов. Вот и сейчас пожилая женщина и четверо ее взрослых детей – два сына и две дочери – с надеждой взирали на больного, измученное тело которого сотрясала мелкая дрожь.
Николас, поежившись, торопливо вышел из собора.
У овчарни Николас спросил Агнесу, не нужно ли принести еды.
– Наших запасов надолго хватит, – заверила она.
Видно было, что одинокое житье дается родным нелегко. Джон хмуро смотрел на брата, однако, услыхав о жизни в городе, не захотел покидать овчарню. Малыши испуганно жались друг к другу, Агнеса устало поникла.
Николас еще немного постоял у камней ограды, подбадривая родных, а потом ушел.
Вечером он, набрав корзину припасов, снова вскарабкался на вершину башни, улегся на спину и смотрел, как легкий ветерок гонит по темному небу белые облака. Внезапно шпиль покачнулся. Николас решил, что ему почудилось, и пристально уставился на крест в небесах. Крест задрожал и накренился.
От ужаса Николаса прошибло по том. Каменщик испуганно приподнялся и, чувствуя, как камни под ним заходили ходуном, обессиленно привалился к парапету. Что происходит? Собор дает осадку? Может быть, колонны все-таки не выдержали нагрузки и сейчас все рухнет? Не отрывая взгляда от колышущегося шпиля, он попытался встать, но каменные плиты ушли из-под ног.
Немного погодя Николас очнулся. Как ни странно, шпиль, парапет башни и сам собор по-прежнему стояли на месте. На западе догорала багровая полоса заката, в небе вспыхнули первые звезды.
Николас, взмокший от испарины, приложил дрожащую руку к пышущему жаром лбу. Голова кружилась. Только теперь каменщик понял, в чем дело.
Всю ночь его лихорадило и тошнило, звезды расплывались перед глазами, шпиль выписывал круги, по темному небу в безумной пляске метались созвездия – Орион, Кассиопея, Большая Медведица. Началась кровавая рвота.
К утру в подмышках образовались нарывы.
– Матерь Божия, спаси и сохрани! – взмолился Николас.
Он всю жизнь отдал собору. Может быть, Пресвятая Дева снизойдет к мольбе своего верного раба?
Силы покинули его, он не мог сдвинуться с места. Наконец, измученный жаждой, он с трудом глотнул эля из бурдюка. К полудню вспыхнула невыносимая боль в паху, где тоже появились нарывы. Ночь прошла в невыразимых мучениях.
На заре Николас понял, что не выживет. Перед его мысленным взором встали изуродованные болезнью трупы на улицах, тело старика в соборе… Нет, такой жалкой участи Николас не желал. Он подполз к парапету и поглядел на спящий город. На севере молчаливые гряды холмов уходили к далекому горизонту. В нише у парапета Николас заметил крошечную каменную фигурку, безмятежно смотрящую вдаль.
Он застыл у парапета, изредка вскрикивая от боли.
По соборному подворью прошел Адам, обогнул колокольню и скрылся в арке ворот.
Николас со стоном оттолкнулся от парапета, подальше от стен, и полетел вниз.
Жильбер де Годфруа позабыл и о Масонах, и об овчарне. Чума истребила половину жителей Авонсфорда. День за днем владелец манора сидел в опустевшем доме и, глотая слезы, рассеянно перелистывал страницы «Повести о сэре Орфео».
Вот уже две недели он ждал вестей о сыне.
Семья Агнесы провела в овчарне на взгорье шесть недель. После того как Николас не появлялся три дня, все поняли, что произошло. Джон не произнес ни слова, но Агнеса знала, о чем он думает, – она мучилась той же мыслью. Всякий раз, когда Николас, не выказывая ни малейших признаков хвори, приходил навещать родных, Агнеса остро сознавала, что напрасно не впустила его в самый первый день: теперь на нее ляжет вина в том, что он подхватил заразу. Молчание Джона было хуже обвинений.
Сюда, на пустошь, никто не приходил. Тянулись недели, однако неизвестно было, закончился ли мор.
Спустя месяц запасы еды истощились, а воды в пруду осталось на самом донышке.
– Еще день подождем – и вернемся в Авонсфорд, – решительно заявил Джон.
К счастью, ночью прошел дождь, пруд наполнился свежей водой, и семейство провело в овчарне еще две недели. Их охватила вялость и странное безразличие; все двигались медленно, как во сне, и целыми днями ничего не делали, лишь глядели, как над взгорьем проплывают облака.
К середине сентября Агнеса не выдержала.
– Я больше не могу, – неохотно призналась она, впервые за все время проявив слабость.
Спустя час, нагрузив тележку нехитрым скарбом, семейство двинулось в долину.
Авонсфорд – и весь привычный мир – изменился до неузнаваемости.
1382 год
Впоследствии Эдвард Уилсон утверждал, что успех семейства – заслуга старого Уолтера. Судьба даровала Уилсонам возможность не только насладиться местью, но и восторжествовать над врагами. Отец и сын стоили друг друга, однако именно усилия Уолтера направили семью в русло успеха.
Случилось это с приходом чумы.
В тот год Эдварду исполнилось пятнадцать лет. Когда стало ясно, что десятилетний Питер заразился, всех детей выгнали из дома в Дубраву Гроувли. Чума не коснулась Эдварда и его старшего брата, недоумка Элиаса, крепкого и сильного как вол, однако не пощадила матери и остальных детей. Заразился даже Уолтер. Эдвард, заметив опухоли у отца в подмышках, сбежал в лес и провел там три недели. О лесных законах никто не вспоминал, поэтому Эдвард помышлял браконьерством: ловил в силки зайцев и даже убил косулю. Изредка он украдкой совершал вылазки в окрестные деревни, но, видя, что там тоже свирепствует чума, всякий раз возвращался в чащу. Усадьбы Шокли и родительского дома он боялся как огня.
Однажды ранним утром Эдвард увидел отца. Уолтер медленно, подволакивая ногу, брел по склону холма и с каждым шагом болезненно морщился. На шее виднелись воспаленные бугры чумных карбункулов. Эдвард, не понимая, зачем умирающий отец отправился в лес, убежал и спрятался в зарослях. Вслед ему неслись отцовские проклятия.
Целый день Эдвард бродил по чащобе, а к вечеру устроился ночевать в кустах. Едва он задремал, как чья-то рука схватила его за горло. Знакомые длинные пальцы сдавили глотку, не давая вздохнуть.
– Придурок, – прохрипел Уолтер, обдавая сына гнилостным запахом рыбы.
Эдвард покорно обмяк, надеясь ускользнуть, как только отец разожмет руку.
– Что, сбежать хочешь? Чумы страшишься или меня? – злобно рассмеялся Уолтер.
Его и впрямь боялись все в семье.
Уолтер схватил руку сына, притянул ее к лицу, и Эдвард с ужасом ощутил под пальцами твердый бугорок.
– Вот это – моя шея, – прошипел Уолтер.
Эдвард испуганно вскрикнул.
– А вот это – подмышка, – зловеще добавил отец, прижимая ладонь сына к туго натянутой коже. – Заболеть-то я заболел, да только хворь со мной не справилась. Не бойся, я больше не заразный. – Он разжал пальцы на горле Эдварда и, не выпуская руки сына, повелительно произнес: – Пойдем, дело есть.
Впоследствии Эдвард с улыбкой вспоминал о тех днях – отец научил его многому.
Старший брат, Элиас, чумой так и не заболел.
– Нашего недоумка даже хворь стороной обходит, – ворчал Уолтер.
Трупы матери и детей зарыли близ хижины.
– Люди в Саруме перемерли как мухи, – заявил Уолтер на следующий день. – Сбегай к родичам, глянь, кто есть живой, и приводи всех сюда. Смотри мне, к вечеру чтоб вернулся.
Старшего брата Уолтера и его семью чума не тронула, но они отказались иметь с ним дело. Из остальных родичей уцелели две вдовы, двое малых ребятишек – мальчик и девочка – и муж одной из сестер Уолтера.
– Пусть у нас в хижине пока поживут, – с ухмылкой велел Уолтер сыну. – Гляди, чтобы не сбежали.
На следующее утро он радостно объявил Эдварду:
– Проклятый Шокли помер, и вся семья его перемерла. Один только Стивен выжил, младшенький. Собирайся, мы с тобой его навестим.
В лавке на Хай-стрит царило запустение. От чумы умерли все Шокли, кроме чудом уцелевшего Стивена, ровесника Эдварда.
Теперь бедняга удивленно уставился на вошедших.
– Настоятельница Уилтонского аббатства дала вам усадьбу в из долье, – без обиняков начал Уолтер. – Что ты теперь делать будешь?
Стивен нерешительно пожал плечами.
– У тебя работников не осталось, всех мор изничтожил, – заявил Уолтер. – Вот только я уцелел да сын мой. Землю возделывать некому.
Юный Шокли недоуменно глядел на него.
– Придется тебе от усадьбы отказаться, – пояснил Уолтер.
Стивен вздрогнул, словно от удара, и возмущенно воскликнул:
– Мы испокон веку там живем!
– Значит, сам будешь землю пахать? – осведомился Уолтер.
Юноша молчал. Торговое дело в городе и сукновальня в долине Авона приносили больше дохода, чем усадьба, и ими надо было заняться в первую очередь. Но если забросить усадьбу, то настоятельница отберет землю.
– Я найму работников, – уныло сказал Стивен.
– Где ж ты их найдешь? – Уолтер покачал головой. – В округе почти все перемерли.
Стивену это было хорошо известно. Молчание затягивалось.
– Мне тут наняться в работники предлагают, – наконец сказал Уолтер. – За хорошие деньги.
Неизвестно, так ли это было на самом деле, но Стивен Шокли ему поверил. Чума – Черная смерть, или моровое поветрие, как ее называли в те времена, – сгубила треть населения Англии, если не больше. Подобного мора в Англии не было вот уже семь веков – в последний раз о нем писал саксонский летописец Беда Достопочтенный. По оценкам современных историков, с 1347 по 1350 год в Европе от чумы погибло двадцать пять миллионов человек.
Эдвард знал, что одни селения в Саруме полностью вымерли, а другие пострадали меньше. Хозяева сулили работникам превосходную плату, однако в тот год многие поля остались невозделанными.
– Ты мне по оброку два дня в неделю должен отработать, – напомнил Стивен.
– Так это ж до чумы было! – возразил Уолтер.
Юный торговец задумчиво посмотрел на него. Теперь, после мора, вилланы часто покидали своих господ и нанимались к тем, кто платил больше. На подобные нарушения закона перестали обращать внимание – в них были повинны не только вилланы, но и сами господа. Если Уолтер уйдет из усадьбы, то Стивену придется вернуть землю в монастырь. Юноша вздохнул – похоже, Уолтер Уилсон его обхитрил – и устало спросил:
– Чего ты хочешь?
Так было положено начало процветанию Уилсонов.
– Ступай к настоятельнице, проси, чтобы издольную плату снизила, – велел Уолтер Стивену Шокли.
– А потом что?
– А потом отдашь землю мне в исполье. Я ее буду обрабатывать, а назначенную плату тебе отдавать. Может, посчастливится работников найти… А пока мы с сыном поля будем пахать. Такая сделка нам всем выгодна – и усадьба за тобой останется, и нам жить будет на что.
Действительно, во владениях Уилтонского аббатства из-за чумы работников осталось мало. Настоятельница наверняка согласится снизить издольную плату для хорошего хозяина. Стивену некогда будет заниматься усадьбой и искать работников – вдобавок они ему дорого обойдутся. Разумеется, Уолтер не стал говорить, что уже обзавелся рабочими руками – недаром он приютил родичей в своей хижине.
Два дня спустя настоятельница согласилась уменьшить плату за землю, а Уолтер Уилсон стал испольщиком Стивена Шокли на чрезвычайно выгодных условиях: вместо обычных десяти пенсов за акр он платил Стивену всего четыре.
– Мы больше не вилланы! – радостно воскликнул Эдвард.
– Дурень! И когда ты уже поумнеешь?! – рявкнул Уолтер. – Еще немного потерпим, а на будущий год от Шокли и вовсе избавимся.
Недюжинную смекалку Уолтер проявил и впоследствии. Эдвард думал, что они начнут разводить овец и торговать шерстью, но Уолтер решительно помотал головой:
– В этом году – только зерно. Все поля надо пшеницей засеять.
– Зачем? – удивился Эдвард. – Ведь столько народу померло, что хлеба теперь на всех хватит.
– Сам увидишь, – презрительно усмехнулся отец – и оказался прав.
На следующий год цены на зерно взлетели до небес: работников не хватало, поля остались невозделанными, а землевладельцы заботились только о себе и набивали зерном закрома.
К осени 1349 года Уилсоны, отдавая Стивену Шокли мизерную плату за пользование землей, сколотили огромное состояние. Еще одним источником дохода стали работники, которыми предусмотрительно обзавелся Уолтер. Родичи – старик, Элиас, две женщины и дети – всецело принадлежали ему. Он их кормил, одевал – и держал в вечном страхе, обманом и силой подчиняя своей воле. Деваться им было некуда.
Они возделывали поля, в страду работали с раннего утра до позднего вечера, а урожай собирали даже по ночам, при свете факелов. Иногда Уолтер отдавал их внаем окрестным землевладельцам, а заработанные деньги прикарманивал. Родичи пробовали жаловаться, но он грозно восклицал:
– Против кормильца голос подымаете?!
Он так запугал несчастных родственников, что те даже не думали от него сбежать.
– Ты женщин скоро в гроб вгонишь, – заметил однажды Эдвард.
– Ничего, пару лет еще протянут, – равнодушно отмахнулся отец.
Старшего сына Уолтер ценил за силу и покорность. Элиас был на голову выше отца, таким же длиннопалым, с близко посаженными глазами, однако на лице его, широком и плоском, будто расплющенном неведомой силой, застыло глупое выражение. Он вечно сутулился и ходил вперевалку, но отца обожал и повиновался ему беспрекословно.
– Видно, мать на луну засмотрелась, когда его носила, – привычно хмыкал Уолтер. – Вон какой недоумок уродился. Все одно в хозяйстве сгодится.
В раздражении он часто охаживал Элиаса плеткой и осыпал бранью, но с удовольствием отправлял его работать на окрестные усадьбы – землевладельцы платили за силача два пенса в день, по тем временам невероятную сумму.
Эдварду повезло больше: Уолтер не принуждал его работать целыми днями и часто брал с собой, когда отправлялся по делам в город.
– Ты только рот не раскрывай, слушай больше, – строго предупреждал он сына.
Однажды Уолтер вернулся из Солсбери в прекрасном настроении и объявил:
– У сопляка Шокли дела идут совсем худо.
Хотя Стивен Шокли и унаследовал от отца незаурядный ум и деловую сметку, обширные торговые предприятия Уильяма Шокли требовали немалых сил. Стивен, худощавый семнадцатилетний юноша, тяжело перенес внезапную смерть родных, и теперь ему было трудно в одиночку заправлять отцовскими делами. Уолтер Уилсон быстро заметил отчаяние в бледно-голубых глазах Стивена и не преминул этим воспользоваться.
В целом дела Шокли шли превосходно – и лавка, и сукновальня приносили доход, однако в одночасье освоить науку управления предприятиями не смог бы даже опытный торговец. К тому же Стивену не хватало наличных денег.
На следующий день Уолтер с сыном отправились к Стивену. Уолтер держал себя на удивление доброжелательно и с напускной заботой произнес:
– Ты в одиночку сразу двумя делами заправляешь, а это непросто. У меня к тебе есть предложение… Если хочешь, я возьму на себя монастырское издолье, а тебе заплачу вперед за три года. Пятнадцать фунтов.
Стивен изумленно посмотрел на него: предложение было весьма заманчивым. Даже Эдвард удивился – он, хоть и не разумел грамоте, с невероятной скоростью считал в уме и прекрасно знал, что таких денег у отца нет; наверняка он их украл.
– Откуда у тебя такие средства? – осведомился Стивен.
– Наследство получил, – невозмутимо ответил Уолтер.
Шокли погрузился в размышления. Отдавать фамильную усадьбу в чужие руки не хотелось, но предложенная сумма поможет удержать на плаву отцовские предприятия, которые приносили больший доход.
– Ладно, договорились, – со вздохом кивнул он.
Так Шокли навсегда расстались с землей, почти пять веков назад полученной их саксонскими предками в дар от короля Альфреда и давшей им имя.
На следующий день бывший виллан, а ныне – новый издольщик усадьбы, явился к эконому Уилтонского аббатства. Уолтер не взял сы на на встречу, поэтому Эдвард так и не узнал, какими исхищрениями отцу удалось еще больше снизить плату за пользование землей.
– Ну вот, от проклятых Шокли мы отделались! – удовлетворенно заявил Уолтер. – Самое главное впереди.
– Что? – полюбопытствовал Эдвард.
Уолтер зыркнул на сына и ничего не сказал.
Следующий, 1350 год выдался неурожайным, однако Уолтер приберег немалые запасы зерна и продал его с превеликой выгодой. Он по-прежнему щедро отвешивал Эдварду оплеухи и бранил за промахи, однако, заметив, что к сыну люди относятся с бо льшим доверием, начал советоваться с ним и даже позволял самостоятельно совершать мелкие сделки.
– Ты, главное, улыбайся почаще, располагай людей к себе, – наставлял Уолтер сына.
Вскоре они с Эдвардом наловчились заключать сделки с наибольшей выгодой для себя, и к лету 1350 года Уолтер решил предпринять неимоверно важный шаг.
Эдвард до сих пор с довольной улыбкой вспоминал свою первую встречу с Жильбером де Годфруа.
Смерть жены глубоко потрясла Годфруа; единственным утешением для него теперь стал любимый сын. Почти все обитатели Авонсфорда умерли от чумы, в живых осталось человек десять, включая семью Масон и Марджери Даббер. Для Годфруа настали трудные времена.
Поначалу дела шли неплохо. Хотя поместье испытывало недостаток рабочих рук, Годфруа причиталась посмертная дань, взимаемая с крестьянских семей за смерть виллана; он собрал с вассальных дворов двадцать фунтов, что в целом несколько улучшило положение дел в поместье. Рыцарю пришлось потратиться, нанимая людей для работы в полях, так что прибыли он не получил. А тут еще среди овец начался мор, и стада уменьшились. Имению срочно требовались издольщики.
Однажды поутру Уолтер Уилсон с сыном пришли в манор и почтительно осведомились у владельца Авонсфорда, нельзя ли им взять землю в издолье.
Жильбер с сыном провели Уилсонов по имению. Плодородных земель хватало, но все они были запущены. Эдвард с любопытством разглядывал Томаса, господского сына, – темноволосого красавца с благородным бледным лицом и горящим взором. Учтивое обращение и горделивая поступь юноши очень понравились Эдварду. Впрочем, он не забывал о цели своего прихода. Уолтер придирчиво оглядывал поля и луга, что-то неразборчиво бормотал себе под нос и напускал на себя унылый вид.
– Земли истощились, – наконец печально изрек он, хотя прекрасно знал, что поля имения щедро удобряли навозом и известью. – Нет, вы уж простите, нам такого не нужно.
Жильбер разочарованно посмотрел на него, и Эдвард понял, что настала его очередь вмешаться.
– Отец, эту землю можно под выпас отдать, – предложил он. – Овцы ее унавозят, глядишь, и…
– Земля худородная, толку с нее не будет, – оборвал Уолтер сына.
– Но может быть…
– Ох, ну и бестолочь же ты! Говорю же, земля худая, никакого урожая не получишь. Пойдем в соседнем поместье справимся…
Эдвард согласно кивнул и умоляюще взглянул на отца:
– Ты же говорил, что позволишь мне взять надел…
– И во сколько тебе это обойдется? – презрительно фыркнул Уолтер.
– Может, пенни за акр, – нерешительно протянул Эдвард, назвав половину цены, на которую готов был согласиться Годфруа.
– Да ты нас разоришь! – возмущенно воскликнул Уолтер.
Притворная размолвка отца и сына продолжалась. Годфруа нуждался в издольщиках, но других желающих не находилось. Полчаса спустя Уилсоны ушли из манора, договорившись с Годфруа об издольщине на весьма выгодных условиях: за мизерную плату владелец поместья отдал им треть лучших земель, а вдобавок почти за бесценок выделил огромный участок пастбища на взгорье.
– Да там тысячу овец можно пасти! – расхохотался Эдвард, когда они вышли за ворота манора.
– А навозом пашню удобрить, – добавил Уолтер.
– Знатный господин, а дурак дураком, – сказал Эдвард. – Ни о чем понятия не имеет.
На самом деле на этот раз Жильбера подвела его осмотрительность. В то время крупные землевладельцы либо вкладывали деньги в развитие хозяйства и повышали плату наемным работникам, либо отдавали землю надежным издольщикам и совершенно отстранялись от сельскохозяйственных занятий. Годфруа денег тратить не желал и, хотя ему следовало придирчивее отнестись к выбору издольщика, не счел возможным дожидаться выгодного предложения и согласился на первое же, пусть и невыгодное, решив, что лучше выручить хоть какие-то деньги за землю.
У самого дома Уолтер благосклонно хлопнул сына по плечу – мол, молодец, справился. Эдварда же больше всего удивляло поведение Томаса. Юноша, стоя рядом с отцом, с плохо скрытым презрением следил за переговорами – судя по всему, обсуждение низменных хозяйственных дел ему претило.
– А Томасу-то, похоже, все равно, чем дело кончится, – сказал Эдвард отцу.
– Рыцари – они такие, – согласно кивнул Уолтер. – Честной работы гнушаются, им лишь бы воевать.
Годы, проведенные в имении Уайтхитов, превратили Томаса в истинного рыцаря. Он ловко вырезал из дерева изящные безделушки, пел и умел читать и писать, хоть и с трудом. Родным языком для него был английский, но он мог изъясняться и по-французски – во всяком случае, заучил обычный набор вежливых фраз, достаточных для общения с противником, а если повезет, то и со знатным пленником, за которого дадут щедрый выкуп. Томаса воспитывали для ратного дела, для ристалищ и сражений. Как и его предки, он любил воевать, ведь только в битве можно обрести славу и богатство. Дела поместья его совершенно не волновали.
В последующие четыре года Эдвард редко видел Томаса – тот постоянно находился в отъезде, – зато изучил каждый уголок Авонсфордского имения и извлекал из него немалую прибыль.
В 1350-е годы для предприимчивых людей в Саруме открывались прекрасные возможности. Графство Уилтшир быстро оправилось от последствий Черной смерти; теперь здесь интенсивно развивалась не только торговля шерстью, но и сукноделие.
В прошлом руно английских овец продавали в Европу, а оттуда привозили сукно. На севере Солсберийской возвышенности, в Мальборо, ткали дешевую бурель – грубую шерстяную ткань – и войлок, подлежащий дальнейшей обработке на сукновальнях. Теперь же спрос на сукно вырос не только в Англии, но и в Европе. Ткачи, валяльщики и красильщики не сидели без работы. Повсюду строились новые сукновальни, торговцы богатели, а крупные землевладельцы, открыв для себя новый источник дохода – продажу шерсти, – спешно обзаводились овцами. На пустошах и на меловых взгорьях Северного Уэссекса теперь паслись многотысячные стада, принадлежавшие и епископу Винчестерскому, и монастырям, и знат ным семействам, таким как Хангерфорды.
Уолтеру Уилсону и его сыну предприимчивости было не занимать. Уолтер своей выгоды ни в чем не упускал и выжимал из своих работников последние силы.
Лишь одно-единственное семейство в округе ему не подчинилось.
Агнеса Масон осталась в Авонсфорде, однако в ее жизни тоже произошли перемены.
О смерти Николаса почти никогда не упоминали. Джон по-прежнему работал каменщиком в соборе, но к мачехе теперь относился сдержанно, а через полгода женился и стал жить отдельно. Впрочем, он ежедневно навещал родных и заботился о сводных братьях, однако Агнеса обнаружила, что справляется и без его помощи. Годфруа не повысил аренду за дом Масонов в Авонсфорде, и Агнеса со старшими детьми три дня в неделю работала в поместье за небольшую плату, а в свободные дни нанималась в услужение к местным издольщикам, которые щедро оплачивали ее труд, так что семья не нищенствовала.
Уолтер Уилсон, взяв в издольщину земли Годфруа, настоял на том, чтобы Агнеса теперь работала на нового хозяина, и велел Эдварду не давать ей спуску. Злопамятный Уолтер хорошо помнил, как в Кларендоне Осмунд Масон опроверг обвинения Джона Уилсона и встал на сторону Шокли.
– У нас с Масонами старые счеты, – объяснил Уолтер сыну.
Однако он не учел независимого нрава Агнесы.
Первый месяц все шло как обычно: Агнеса отрабатывала положенные три дня, а Уолтер ворчал, но платил ей установленное жалованье. Затем Уолтер заявил, что она должна работать на час дольше, – Агнеса твердо отказалась. Уолтер потребовал, чтобы в поместье работала не только она, но и двое старших детей, – Агнеса не подчинилась. Он попытался ее запугать, но Агнеса, упрямо выпятив подбородок, не побоялась угроз.
Эдвард, видя, как отец наливается злобой, благоразумно решил не вмешиваться.
– От этого проклятого семейства одни неприятности! – восклицал Уолтер.
Агнеса, зная, что дешевле работников ему не найти, не обращала внимания на его гнев.
Только через год Уолтеру удалось ее приструнить, а помог ему в этом парламент.
Высокий спрос на рабочую силу и свободный рынок труда принес многим, в том числе и Уолтеру Уилсону, огромные прибыли, однако вызвал резкое недовольство в обществе. В Англии заработная плата неуклонно росла с начала XIV века, но из-за чумы рост ее многократно ускорился. Вдобавок феодальным сеньорам было невыгодно терять вассалов, которые, несмотря на свои обязательства перед господином, часто уходили работать к тем, кто платил больше.
– Наемные работники совсем обнаглели, огромных денег требуют, – возмущался Уолтер.
– Но мы же разбогатели, – напоминал ему Эдвард.
– Болван ты! Теперь другие времена – не нам платят, а мы платим.
В ту пору с подобными затруднениями сталкивались не только феодалы, но и те, кто задешево приобретал пустующие земли: торговцы, фримены и бывшие серфы. Разумеется, все они считали, что наемные работники требуют слишком многого. К 1349 году землевладельцы открыто выражали недовольство завышенной оплатой труда, а в 1351 году парламент принял Статут о работниках, позволивший судам устанавливать размер заработной платы.
Уолтер, прослышав о статуте, вместе с сыном отправился к Агнесе и объявил:
– Жалованье я тебе урезаю.
– Ну и урезай, – равнодушно ответила она. – Я к другому издольщику наймусь.
– А я тебя за это засужу, – грозно предупредил Уолтер.
Принятый парламентом статут запрещал работникам уходить от хозяина в поисках лучшего жалованья.
– А сколько Элиасу платят? – осведомилась она.
– Не твое дело, – буркнул Уолтер, зная, что его родичам платят больше всех в округе.
– Вот и мне будешь столько же платить, и старшим детям тоже полное жалованье положишь, – невозмутимо заявила Агнеса. – А ежели в суд подашь, так тому и быть.
Она отрывисто кивнула и захлопнула дверь. Уолтер с Эдвардом остались стоять во дворе.
Эдвард невольно восхитился упрямицей, дерзнувшей перечить Уолтеру. Впрочем, она была в своем праве. Статут о работниках применялся исключительно по желанию землевладельца; издольщики нанимали рабочую силу, не обращая внимания на законодательство. Затевать тяжбу против Агнесы не имело смысла, однако Уолтер сердито буркнул:
– Я на нее управу найду, вот увидишь.
Впрочем, дела Уилсонов шли прекрасно. Они торговали зерном и разводили овец, которые привольно паслись на взгорье – Жильбер де Годфруа давным-давно забросил пустоши и старую овчарню.
На руку Уилсонам был и еще один ордонанс, принятый парламентом, – Статут о стапельной торговле. Прежде оптовая торговля шерстью сосредоточивалась во Фландрии, в руках горстки богатых купцов-стапельщиков, что давало им монопольные привилегии и облегчало взимание налогов в королевскую казну; вдобавок стапельщики с готовностью ссужали королю огромные суммы денег. Однако же подобное положение вызвало недовольство мелких торговцев, и в 1353 году Статут о стапельной торговле разрешил осуществлять складскую торговлю и на территории Англии.
– Теперь можно сбывать товар в Винчестере и Бристоле, – обрадовался Уолтер и вскоре, заключая выгодные сделки и мошеннически завышая качество шерсти, добился отменных прибылей.
Однако же больше всего ему повезло в 1355 году, когда Томас де Годфруа отправился на войну.
Военными кампаниями под предводительством Черного принца восхищались все англичане. Томас решил, что пробил его звездный час.
– Ишь ты, воображает себя рыцарем Круглого стола, – проворчал Уолтер.
Впрочем, ничего удивительного в этом не было: в те времена все пропиталось духом рыцарской доблести и учтивости. За десять лет до того Эдуард III дал обет возродить артуровский Круглый стол в Виндзоре и начал строительство дворца, а 23 апреля 1348 года, в день святого Георгия, учредил высший рыцарский орден – орден Подвязки, одними из основателей которого стали Черный принц и Уильям Монтегю, второй граф Солсбери. Многие юные рыцари меч тали окружить себя сиянием доблести и славы так же, как благородный король Эдуард и его верные сыновья – Эдуард Вудсток, Черный принц; Иоанн Гентский, называемый также Джон Гонт, герцог Ланкастер; и Лионель Антверпенский, герцог Кларенс, – посвятившие себя стремлению к правде и чести, свободе и учтивости.
Томас де Годфруа и не подозревал, где именно зародились истоки рыцарского поведения, которому он прилежно учился в поместье Уайтхитов. На юге Франции придворные трубадуры прославляли идеалы учтивости и преданного служения прекрасной даме, а Церковь настаивала, что всякий рыцарь обязан служить Пресвятой Деве. Учение древних философов, отраженное в трудах Боэция, столь чтимого королем Альфредом, напоминало знатным господам о незыблемой стойкости, с которой следует встречать победы и поражения. Романтические легенды о короле Артуре превратились в своеобразный кодекс идеализированного рыцарства, воплощением которого служил старший сын короля, Эдуард, принц Уэльский, именуемый Черным принцем.
Томас де Годфруа стремился во всем подражать своему кумиру, неустанно напоминая себе, что Эдуард всего на несколько лет старше. Чума превратила Англию в мрачную пустыню, но славные победы доблестных английских войск рассеяли тьму и уныние. Следует признать, что война привлекала возможностью не только прославиться, но и разбогатеть. Валлийским пехотинцам платили два пенса в день, а конному лучнику – шесть пенсов, в то время как пахарь зарабатывал двенадцать шиллингов в год; эту сумму простой пехотинец мог получить всего за семьдесят два дня военной кампании. А набеги на богатые французские провинции давали возможность солдатам разжиться награбленным, рыцари же брали в плен знатных господ, за которых платили щедрый выкуп.
– Помни о чести, о долге и о пленниках, – напутствовал Жильбер сына. – Иначе нам имение не спасти.
Взятых в плен рыцарей выкупали родственники – как правило, за огромные суммы в несколько тысяч фунтов. Пленники превратились в выгодный товар, их покупали и перепродавали вельможам и даже торговцам, так что нередко французский дворянин оказывался собственностью не одного, а нескольких хозяев, которым причиталась определенная часть от общей суммы назначенного выкупа.
Однако же участие в победоносной войне обходилось дорого: рыцарь отправлялся в сражение не только в доспехах и при оружии, но и в сопровождении оруженосца и целой свиты слуг. Основной статьей расходов был боевой конь; особенно ценились породистые, хорошо обученные лошади из дальних стран – Испании и Сицилии, – за которых платили сотню фунтов, а то и больше.
У Жильбера де Годфруа наличных денег не водилось.
А вот Уолтер Уилсон за шесть лет после чумы накопил сто фунтов – по тем временам целое состояние. Даже Эдвард не понимал, как отцу это удалось. Именно с этих денег начался стремительный взлет Уилсонов.
В 1354 году Уолтер ссудил сто фунтов Жильберу де Годфруа; владелец Авонсфорда потратил их на снаряжение сына, отправлявшегося воевать. Как ни странно, Уолтер не стал требовать возвращения денег с процентами, а выставил весьма заманчивые усло вия, на которые осмотрительный Годфруа с радостью согласился.
– Если Томас возьмет в плен рыцаря, то вернет ссуду и двадцатую долю от суммы выкупа, – объяснял Уолтер Эдварду. – Если же пленника он не заполучит, то просто возвратит деньги – или расстанется с залогом.
– А что он дает в залог? – уточнил Эдвард.
– Лучшие земли и сукновальню, вот что! – ухмыльнулся Уолтер.
Эдвард с трудом сдержал смех. По обыкновению, отец в любом случае внакладе не останется. Если юный Годфруа захватит пленника, то Уилсоны получат немалую прибыль; в противном случае денег в имении все равно не будет, и тогда…
– Вот увидишь, мы заполучим сукновальню Шокли! – торжествующе объявил Уолтер.
Эдвард с любопытством следил за приготовлениям к походу. Имение заполонили валлийские пехотинцы в полосатых бело-зеленых куртках, оруженосцы, всадники и слуги. Больше всего Эдварду нравились конные лучники с шестифутовыми тисовыми луками за спиной – в бою они спешивались и осыпали противника градом стрел – до двенадцати за минуту – с расстояния четырехсот ярдов; стрела с легкостью пробивала рыцарский доспех. Наконец настал день, когда Томас, облаченный в алое сюрко с белым лебедем на груди, отправился на великолепном скакуне искать счастья на поле боя.
Военная кампания Черного принца против Иоанна II Доброго, короля Франции, прошла успешно. В 1355 году армия Эдуарда захватила Бордо и с богатыми трофеями двинулась вглубь страны, где 16 сентября 1356 года двадцатипятилетний принц одержал легендарную победу над превосходящими силами французов в битве при Пуатье.
Перед битвой Черный принц обратился с зажигательной речью к своим солдатам, а потом вместе с ними преклонил колена, молясь о благословении Господнем. Томас де Годфруа покрыл себя славой в сражении, радовался вместе с остальными, узнав о пленении короля Франции, а потом стоял у шатра, где принц устроил пир в честь своего царственного пленника. За Иоанна Доброго назначили поистине королевский выкуп – три миллиона крон, что составляло пятикратный годовой доход короля Эдуарда. Англичане также захватили огромные территории противника.
Томас по праву гордился своим участием в битве – недаром сам принц одарил юношу благосклонной улыбкой. Увы, в пылу сражения доблестный рыцарь совсем забыл о пленниках и один из немногих вернулся домой с пустыми руками. Его соратники привезли из похода богатые трофеи и еще несколько лет беспрепятственно грабили захваченные края. Знакомый рыцарь предложил Томасу присоединиться к отряду наемников, но юноша холодно отказался:
– Годфруа сражаются ради славы, а не ради денег.
Так что гордый Томас де Годфруа не привез домой ничего, кроме славы.
Вот только одной славой сыт не будешь.
С подобающим рыцарям благородством Жильбер де Годфруа и его сын отдали Уолтеру Уилсону лучшие земли и сукновальню, что делало Уолтера не только владельцем лена и вассалом короля, но и лендлордом Шокли.
– Ну, Годфруа мы почти разорили, скоро и от проклятых Шокли избавимся, – торжествовал Уолтер.
Его жестоким замыслам не суждено было воплотиться – впервые в жизни Эдвард воспротивился отцу. Обычно при заключении сделок Эдвард выступал в роли покладистого и добродушного человека, в противовес расчетливому и хитроумному Уолтеру, которого всегда недолюбливали, а в последнее время стали явно выказывать недовольство его поведением. Эдвард решил, что мягким обращением можно добиться большего. Торговцы Солсбери относились к Стивену Шокли с уважением, и настраивать их против себя не стоило.
– Шокли теперь в гильдии торговцев заправляет, человек почтенный, с ним ссориться негоже, – сказал Эдвард отцу. – Нам друзья нужны, врагов и без того хватает.
– Ты с проклятым Шокли задружиться желаешь? – удивился Уолтер.
– А что такого? Глядишь, польза будет.
Уолтер, недовольно поморщившись, погрузился в размышления. Всю жизнь он добивался одного: отомстить Шокли – и теперь мечтал о возможности унизить торговца, однако понимал, что сын прав.
– С Шокли лучше остаться друзьями, – настаивал Эдвард. – Нам ведь главное – разбогатеть. Он нам в этом поможет.
Уолтер, гневно воззрившись на сына, неожиданно махнул рукой:
– А, делай как знаешь!
На следующий день Эдвард Уилсон отправился в Солсбери, где встретился с экономом Роберта Уайвила, епископа Солсберийского, и за щедрое вознаграждение отписал сукновальню епископу.
– Теперь и епископ нам благоволит, – с улыбкой доложил отцу Эдвард.
Впоследствии он не раз вспоминал отцовскую дальновидность – сукновальня приносила прекрасный доход. Производство сукна в Англии увеличивалось год от года, но росли и другие отрасли промышленности. Хотя многие графства еще не оправились от последствий чумы, Уилтшир и Солсбери процветали, а вместе с ними богатело и семейство Уилсон.
Бытует ошибочное мнение, что эпидемия чумы в 1348 году была ограниченной вспышкой, не повторившейся до пришествия Великой чумы в 1665 году. На самом же деле в последующие столетия очаги чумы возникали неоднократно; в частности, в 1361 году болезнь, снова вернувшись в Англию, свирепствовала в Лондоне.
Агнеса Масон, услышав о новой вспышке чумы, велела родным собираться.
– Пойдем в овчарню, – объявила она, полагая, что пастбища пустуют.
Дети Агнесы давно подросли, дочь вышла замуж, однако же, как и двенадцать лет назад, все послушно погрузили вещи на тележку и отправились на взгорье. Агнеса предупредила и Джона с семьей, но не удивилась, узнав, что он не желает покидать Авонсфорд.
Сама Агнеса тоже изменилась: рыжие волосы поседели, морщины избороздили лицо, тело исхудало и усохло, суставы болели, а пылкий нрав с годами поостыл.
На взгорье путникам преградил дорогу Уолтер Уилсон.
– Ты куда это собралась? – грозно обратился он к Агнесе.
– В овчарню.
– Я там овец держу, – заявил Уолтер. – Возвращайся в деревню.
Овчарня и впрямь стояла там, где изредка паслись стада Уилсонов, но в этом году пустовала.
– Нет там никого, – упрямо возразила Агнеса.
– Сегодня нет, а завтра будет, – поморщился он. – А тебе на мою землю хода нет.
– Господа из манора мне всегда дозволяли… – начала она.
– А теперь я здесь издольщик, – напомнил он.
Агнеса поняла, что Уолтер не врет, и пожала плечами:
– Ну, мы еще куда-нибудь уйдем.
Уолтер не собирался ее отпускать:
– Ты мне три дня работы задолжала.
– Так чума же! – воскликнула Агнеса.
– А работать кто будет?
– Мы в деревне не останемся, – заявила она.
– Сунешься на взгорье, я тебя собаками затравлю, – пообещал Уолтер и ухмыльнулся. – И дохлыми крысами забросаю.
Агнеса осеклась, сообразив, что Уолтер не погнушается исполнить угрозу: злопамятный старик никому прошлых обид не спускал.
– Ну что, может, в суд пойдем? – рявкнул он.
Помолчав, Агнеса ответила:
– Господь тебя покарает.
– Ну и пусть, но сперва ты от чумы сдохнешь, – рассмеялся Уолтер.
Агнеса отвернулась и повела родных назад в деревню.
– Что, с этим отребьем тоже прикажешь задружиться? – издевательски спросил Уолтер сына.
Эдвард равнодушно пожал плечами – семейство Агнесы его не интересовало.
После смерти Уолтера Эдвард перевез семью в Солсбери и завел тесную дружбу со Стивеном Шокли.
– Мы живем в смутное время, – со вздохом произнес Шокли.
С недавних пор Эдвард часто слышал эту фразу из уст приятеля.
Впрочем, с ней соглашались многие.
Вспышки чумы повторялись одна за другой – в 1361 году от чумы умерла Агнеса Масон, а в 1374-м болезнь снова пришла в Сарум. О победных баталиях давно забыли; Черный принц умер, и на престол взошел его сын Ричард, не обладавший ни благородством, ни доблестью отца. Из некогда обширных английских владений во Франции остались лишь Бордо и портовый город Кале. Жители Сарума с тревогой ожидали вторжения французов, и Солсбери спешно обносили крепостной стеной. Смута назревала не только в стране, но и в Церкви. Больше полувека резиденцией глав Католической церкви служил Авиньон, город на юге Франции, – там папы чувствовали себя в безопасности. Однако же в 1378 году начался Великий папский раскол, когда сразу два претендента объявили себя истинными папами; французы поддерживали одного, англичане и голландцы – другого.
– Теперь никому верить нельзя, – вздыхал Стивен Шокли.
И все же в это смутное время Эдвард Уилсон не поддавался страхам и часто наставлял детей:
– Люди – глупцы, своего счастья не понимают. В смутное время лучше всего дела вершить.
В доказательство он всегда приводил отца. Уолтер Уилсон скончался в 1370 году и оставил в наследство сыну значительную сумму денег (Эдвард держал это в секрете) и составленный по всей форме документ – имущественное завещание, в котором перечислялись земельные участки:
«…В Уинтерборне усадьба, каруката[30] и семь акров пашни, выделенные из земель графа Солсбери; в Шокли две виргаты из земель настоятельницы Уилтонского аббатства; в Авонсфорде двести акров из земель короля; близ Авонсфорда, из земель епископа Солсберийского, усадьба, голубятня, каруката пашни и десять акров покосных лугов…»
В стадах Уилсонов насчитывалось свыше тысячи овец. Из года в год семья богатела, как и многие другие бывшие вилланы или торговцы. Даже знатные господа не гнушались доходным промыслом – барон Томас Хангерфорд, стюард Джона Гонта и первый спикер парламентской палаты общин, разводил огромные стада овец на меловых взгорьях Уилтшира. На юго-западе Англии обосновались прядильщики, ткачи, валяльщики, ворсовщики и красильщики; за полвека, прошедших после эпидемии чумы, производство английского сукна увеличилось в девять раз. В начале правления Ричарда II Солсбери был шестым по величине городом в Англии.
Эдвард Уилсон, унаследовавший от отца предприимчивость, но не вздорный нрав, никогда не упускал своей выгоды и вместе с Шокли организовал суконную мануфактуру, на которой производили новый тип ткани.
– Вот оно, наше богатство, – гордо сказал Эдвард родным, показывая отрез плотной материи с горизонтальными полосами, придававшими ей сходство с твидом, – шерсть предварительно прокрашивали и только после этого ткали.
Так называемое солсберийское сукно пользовалось огромным спросом, и Шокли с Уилсоном расширили свое предприятие.
Эдвард, философически относившийся к переменам в мире, дальновидно предупреждал детей:
– Торговля – надежное занятие. Торговцы даже короля заставят поступать так, как им выгодно.
И действительно, власть, о которой некогда мечтал Питер Шокли на заседании парламента Монфора, в правление Эдуарда III постепенно переходила из рук высокородных господ к людям родом пониже, к мелкопоместным дворянам и горожанам. В 1353 году они вынудили короля подписать Статут о стапельной торговле, в 1360-е годы – отменить ненавистный мальтот, дурную пошлину, а в 1376 году, незадолго до смерти короля, состоялось заседание так называемого Доброго парламента. Высшая знать и епископы собрались в Белой палате королевского дворца[31], а мелкопоместные дворяне и горожане – представители общин – совещались в восьмиугольном капитуле Вестминстерского аббатства, послужившем образцом для капитула Солсберийского собора, а потом направили высокородным господам свои требования: изгнать фаворитку коро ля Алису Перрерс, а также неугодных чиновников, в противном слу чае палата общин не утвердит новых налогов. Прежде подобные требования выдвигали только мятежные бароны, горожане на это не осмеливались. Как ни странно, требования палаты общин были исполнены.
Частые созывы парламента и, соответственно, усиление его влияния на управление страной объяснялись финансовыми нуждами ко роля. Выкупы, полученные за французских пленников, пополнили казну, но хватило этого ненадолго. К началу 1340-х годов Эдуарду III требовались значительные средства для ведения затянувшейся военной кампании. Он обратился за ссудами к флорентийским банкирам Барди и Перуцци, но затем отказался платить по своим обязательствам, что привело к краху одного из крупнейших торговых домов Италии. Деньги королю ссудили купцы-стапельщики, но и они едва избежали разорения. Эдуард постоянно искал новые источники доходов, пытался обложить налогами духовенство и лондонских торговцев или ввести таможенные пошлины, однако палата общин твердо настаивала на соблюдении принципа, провозглашенного еще Великой хартией вольностей, – «Нет налогов без представительства». Если в прошлом Питер Шокли мог только надеяться на то, что король прислушается к советам представителей торгового сословия, то теперь Эдвард Уилсон уверенно заявлял, что требования палаты общин будут выполнены.
Представители палаты общин предпочитали выбирать в суды графств местных жителей, положив начало институту мировых судей, и неприязненно относились к назначению чужестранцев на доходные церковные должности – бенефиции. «Вечно к нам из Авиньона присылают иноземцев, которые по-английски ни слова не разумеют, да и в собор не заглядывают», – ворчали жители Сарума. Теперь же их представители в палате общин заставили короля отдать эти должности англичанам. В 1362 году произошло знаменательное событие, о котором редко упоминают в учебниках истории: официальным языком судопроизводства стал не французский, а английский. Жильбер де Годфруа огорчился, однако его чувства мало кто разделял. Спустя двадцать лет на языке, весьма близком к современному английскому, были созданы такие шедевры мировой литературы, как «Видение о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда и «Кентерберийские рассказы» Джефри Чосера.
– Теперь мы хозяева Англии, – уверенно заявлял Эдвард Уилсон своим детям.
Слова эти не были пустой похвальбой – предприимчивый торговец прекрасно понимал, куда движется мир.
Однако события, произошедшие в Саруме в 1381 году, удивили даже дальновидного Эдварда Уилсона. Впрочем, он ухмылялся всякий раз, вспоминая, с чего все началось и какую роль в этом выпало играть ему самому.
Всеобщее негодование вызвал не кто иной, как сын Стивена Шокли, Мартин.
Стивен по праву гордился тем, что отправил сына учиться – нет, не богословию, а современным наукам и премудростям. Богатые землевладельцы и знатные господа обычно не стремились дать своим детям образование, а вот сыновья торговцев часто становились студентами английских университетов. Стивен послал сына в Оксфордский университет, но впоследствии очень об этом жалел.
Именно там, в Оксфорде, Мартин Шокли проникся учением Джона Уиклифа.
Джон Уиклиф, великий реформатор и предшественник протестантства, был скромным священником, жившим на доходы своих бенефициев. Он отличался скверным нравом и не терпел возражений, а потому всегда настаивал на своем.
Вопреки традиционным постулатам католичества Уиклиф был приверженцем философских взглядов о связи человека с Богом без посредничества Церкви, а потому его объявили еретиком. Он выработал свою теорию, согласно которой правом на владение землей и собственностью обладают лишь праведники, а люди неправедные такого права лишены. Разумеется, эта доктрина вызвала недовольство влас тей и духовенства, однако Уиклифа это не остановило. Он утверждал, что священникам и даже папе римскому негоже владеть собственностью, а в 1379 году стал отрицать таинство пресуществления, заявив, что евхаристия не обращает субстанцию хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Более того, он требовал перевести Библию с латыни на английский язык, чтобы обеспечить возможность прямой связи человека с Богом.
Последователи Уиклифа, которых стали называть лоллардами, вульгаризировали его взгляды, считая, что духовенство следует упразднить за ненадобностью, и весьма спорно истолковывали переведенную Библию. Как ни странно, лолларды пользовались поддержкой знати. В то время многие дворяне были недовольны силой и властью священников – Римская церковь по-прежнему требовала десятину, а король и парламент хотели удержать эти деньги в казне. Уиклиф заклеймил папу римского Антихристом и утверждал, что король – наместник Господа на земле и ему должны подчиняться епископы, поэтому Джон Гонт, брат Эдуарда Черного принца и дядя короля Ричарда II, поддерживал непокорного схоласта, учение которого помогало бороться с церковниками.
Тем временем в Оксфорде шли ожесточенные философские дебаты. Мартин Шокли, идеалистически настроенный юноша, с восторгом внимал каждому слову Уиклифа.
Весна выдалась на удивление холодная. Однажды майским утром все семейство Шокли отправилось в собор к мессе отметить возвращение Мартина из Оксфорда.
Стивена, солидного мужчину средних лет, сопровождала жена Цецилия и пятеро детей, старшим из которых был двадцатилетний Мартин. Торговец, с гордостью глядя на сына, шепнул жене:
– Сейчас самое время его к делу приставить.
В холодном воздухе дыхание вырывалось изо рта клубами пара. В соборе собралось человек тридцать прихожан.
Священники в тяжелых облачениях, подбитых мехом, – в то время такие одежды носили только высокопоставленные клирики – начали службу.
Младшие дети с любопытством поглядывали на брата – стройного юношу с каштановыми волосами и ясными синими глазами. Домой он приехал поздним вечером, и родные ни о чем не успели его расспросить. Цецилию тревожила непривычная скованность сына, но Стивен ее успокоил:
– Говорят, учение нелегко дается. Все оксфордские студенты науками замучены. Ничего, вот отдохнет, будет мне помогать.
Служба окончилась, и священники двинулись к дверям собора. Прихожане почтительно склонили голову. Внезапно Мартин выступил в проход и во весь голос воскликнул:
– Воры и развратники, погрязшие в грехе! Ваши молитвы оскорбляют слух Господа!
Священники остановились и – вначале недоуменно, а потом с возмущением – уставились на Мартина.
– Преступники! – выкрикнул Мартин.
Цецилия испуганно взвизгнула, а Стивен кинулся к сыну и выволок его из храма.
На соборном подворье, у колокольни, Мартин пустился в пылкие объяснения.
Полчаса спустя, заперев сына в доме, Стивен объяснял возбужденным родственникам:
– Он речей Уиклифа наслушался.
Стивен Шокли был осведомлен о страстных проповедях в Оксфорде и о богословских трактатах Джона Уиклифа. По приказу герцога Ланкастера Уиклиф явился в парламент, где выступил с гневной речью, обличавшей Церковь, за что был предан суду прелатов; впрочем, заступничество высоких покровителей ненадолго спасло проповедника от дальнейших преследований.
– Боюсь, Мартин сглупил, поверив словам бунтовщика, – со вздохом признал Стивен.
– По-моему, бедняжку лихорадит, – вступилась за сына Цецилия.
– Ну так полечи его, отваром целебным напои, – посоветовал торговец, укоризненно качая головой. – Только боюсь, не миновать ему епископской темницы. Да и нам тоже не поздоровится.
На следующий день к Шокли явился тощий молодой священник по имени Портеорс.
– Настоятель собора и епископ Эргхем весьма обеспокоены поведением вашего сына, – заявил он. – Мне поручено выяснить, чем вызваны его нападки на клириков.
– Что ж, побеседуйте с ним, – хмуро произнес Стивен.
Последующий разговор привел торговца в еще большее уныние.
Юный Портеорс, на два года старше Мартина, был на ладонь выше и гораздо бледнее и без того бледного юноши. Дед его, алнажер ле Портьер, увез семейство из Солсбери во время чумы, но молодой человек, вернувшись, решил стать священником и взял фамилию Портеорс в честь троюродного деда, известного каноника Портеорса. Как и все его родственники, Портеорс отличался придирчивой дотошностью.
– Ты знаком с еретическим учением Уиклифа? – осведомился он у Мартина.
– Да.
– И ты во всем согласен с его взглядами?
– Да, почти во всем.
– В чем, к примеру?
– Каноники владеют богатыми бенефициями, а земли в своих владениях сдают в аренду за большие деньги. Вы, священники, живете не хуже знатных господ.
– Разве это плохо?
– Хуже не бывает! Господь наш учит, что алчность – зло. Апостолы презрели земные блага и отринули свое имущество.
– Но ведь Отцы Церкви этого не воспрещают.
– Они заблуждаются.
Портеорс поморщился, словно от боли:
– По-твоему, священникам следует отринуть земные блага и от казаться от владения любым имуществом?
– Разумеется, – кивнул Мартин.
– Ты не прав. Раз уж ты читал Евангелие, – с отвращением заявил Портеорс (в то время для мирян это было едва ли не преступлением), – то наверняка помнишь, как в Гефсиманском саду, когда Господа нашего схватили стражники, апостол Петр пытался его защитить.
– Помню, конечно.
– А помнишь, что Господь сказал Петру? – наставительно произнес каноник. – Вложи твой меч в ножны[32].
Мартин согласно закивал.
– Обрати внимание, Христос сказал «твой меч», из чего следует… – для пущей убедительности Портеорс возвысил голос, – что у апостолов были принадлежащие им вещи. Опять же Господь наш упрекнул Петра не за то, что у него есть меч, а за то, что Петр собрался воспользоваться оружием в неподобающее время и в неподобающем месте. – Тут он удовлетворенно улыбнулся. – Так что Священное Писание не воспрещает владения личным имуществом.
Мартин был знаком с подобными рассуждениями, которыми широко пользовались средневековые схоласты, а потому промолчал.
Портеорс, заметив, что ему не удалось переубедить упрямца, хмуро спросил:
– А еще что?
– Еще я против того, что вы за деньги отправляете заупокойные службы и продаете индульгенции, как будто от кары Господней можно откупиться презренным серебром. А еще вы деньги берете за возжигание свечей и лампад перед образами святых!
– А с этим что не так? – не выдержал Стивен Шокли (гильдия торговцев выделяла немало средств на то, чтобы перед изображениями тех святых, которые считались покровителями торговли, всегда горели свечи). – Как иначе почтить их память?
– В Библии говорится, что праведник должен вести скромный образ жизни и с молитвой вершить добрые дела. О жадных господах, разжиревших на церковных хлебах, там не упоминается, – невозмутимо заявил Мартин.
Уиклиф нещадно клеймил алчных вельмож, которых король за их заслуги назначал епископами, отписывая в дар богатейшие церковные земли. Такими ставленниками короля были и прежний епис коп Солсберийский, Роберт Уайвил, и нынешний, Ральф Эргхем.
От подобной дерзости Портеорс вначале онемел, а потом с угрозой спросил:
– И что еще?
– А еще я против того, чтобы папа раздавал бенефиции в Саруме всяким чужестранцам, которые сюда все равно носа не кажут.
– Между прочим, по настоянию епископа такого давно уже не происходит, – язвительно ответил каноник. Действительно, тут Мартин ошибся – растущее недовольство жителей Сарума привело к тому, что подобного вот уже два года как не случалось. – Может, ты, как Уиклиф, и папу римского потребуешь изгнать?
– Папу римского… – задумчиво произнес Мартин и не менее ехидно осведомился: – А какого из них?
Портеорс досадливо хмыкнул, а потом внезапно спросил:
– Ты признаешь таинство евхаристии? Как, по-твоему, превращает молитва хлеб и вино в тело и кровь Христову?
Именно в отрицании этого и заключалась самая страшная ересь, но Мартин уклончиво ответил:
– Я хочу, чтобы священники по-настоящему чтили Господа нашего.
После ухода Портеорса Стивен, втайне гордясь убежденностью сына, удалился к себе в лавку, где в одиночестве просидел несколько часов, пытаясь разобраться, согласен ли он с воззрениями Мартина или нет.
Два дня спустя Стивена Шокли предупредили, что за сыном следует лучше присматривать, – на этом все и кончилось. Портеорсу, конечно же, очень хотелось, чтобы дерзкого мальчишку вздернули на дыбу, но в то время английские церковники к сторонникам Уиклифа относились с прохладцей. Инквизиции в Англии не было, и даже Симон Садбери, архиепископ Кентерберийский, не торопился наказывать непокорного проповедника.
– И кто же, по-твоему, праведные христиане? – спросил Шокли сына.
– Нищие монахи, отшельники и мистики, – ответил Мартин.
Торговец в глубине души согласился с мнением сына. Впрочем, после страшного мора к такому выводу пришли многие. Именно в то время Фома Кемпийский и Юлиания Норвичская писали свои благочестивые мистические сочинения, оказавшие огромное влияние на духовную жизнь христианской Европы в последующие века, напоминая о бренности земного существования.
Тем не менее Стивен Шокли был человеком приземленным и практичным.
– Что ж, недовольство свое ты выразил, но об участи родных стоит подумать, – заявил он сыну. – Либо забудь о семье и навсегда убирайся из Сарума, либо держи язык за зубами.
С превеликой неохотой Мартин поддался на уговоры матери и согласился помалкивать, хотя и сказал отцу:
– А вот в Оксфорде или в Лондоне было бы иначе…
Родителям пришлось признать, что в Саруме сын оставаться не собирается.
Вынужденное перемирие между канониками собора и Мартином нарушили июньские события 1381 года, вызванные введением новых подушных налогов.
Поначалу великие крестьянские волнения Сарума не затронули – от взбунтовавшейся бедноты под предводительством Уота Тайлера больше всего пострадали графства Кент и Эссекс и Лондон, где мятежники захватили королевский замок Тауэр. Впрочем, с бунтовщиками быстро покончили – король Ричард II пообещал удовлетворить их требования. Уот Тайлер был убит в стычке, а предводителей бунтовщиков казнили.
Жители Сарума вздохнули с облегчением, однако недовольство вскоре расплескалось по всей стране. На востоке мятежники на все лады повторяли слова проповедника Джона Болла: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был господином?» Подобные заявления власти восприняли с огромной тревогой, ведь цивилизованное общество не может существовать без разделения на господ и слуг. Такими же нелепыми считались и требования отменить феодальную зависимость и ненавистный Статут о работниках.
Неудивительно, что в разжигании недовольства обвинили Джона Уиклифа, хотя восстание нанесло доходам его бенефициев весомый ущерб.
– Своими выступлениями против Церкви Уиклиф внушает глупцам, что они способны взять власть в свои руки, – наставительно изрек Портеорс. – Ничего, Мартин Шокли вскоре осознает свои заблуждения.
Однако же никто не представлял себе, на какую дерзость способен отчаянный юноша.
Когда до Солсбери дошли вести о гибели архиепископа Кентерберийского – Симона Садбери растерзала обезумевшая толпа в Лондоне, – Мартин Шокли, встав посреди рыночной площади, во весь голос выкрикнул:
– Прекрасная новость! Одним проклятым святошей меньше!
Слышали это полсотни горожан.
Епископу Солсберийскому пришлось вмешаться.
Ральф Эргхем, епископ Солсберийский, питал необычное пристрастие к часовым механизмам. В те времена часы были диковинкой. Звонари на церковной колокольне отбивали время суток по меткам на зажженных свечах, изредка сверяясь с песочными часами, но Эргхема это не устраивало.
Едва он погрузился в изучение нового часового устройства – сложной системы шестеренок и противовесов, – как к нему ворвался встревоженный Портеорс с рассказом о преступной выходке Мартина.
К разочарованию молодого священника, почтенный епископ не разгневался, а пренебрежительно махнул рукой, продолжая разглядывать рисунки. Портеорс в замешательстве удалился, так и не заметив окаменевшего лица епископа.
Спустя несколько дней торговца известили, что епископ намерен отлучить от Церкви все семейство Шокли, а вдобавок отобрать сукновальню, – ужасная гибель архиепископа и страх перед бунтовщиками заставили власти ужесточить меры наказания сторонников Уиклифа. Так называемых лоллардов объявили еретиками, а их имущество отбирали в казну.
– Ты нас всех разорил, – упрекнул Стивен сына. – Епископ – наш лендлорд, сукновальня на его земле стоит.
– Уиклифа поддерживают многие бароны – и герцог Ланкастер, и граф Солсбери, – напомнил отцу Мартин.
– Епископ с герцогом, может, и не совладает, зато с нами легко расправится, – удрученно вздохнул торговец.
И действительно, для епископа Эргхема, который заставил могущественного графа Солсбери прилюдно покаяться в своих грехах, не составляло труда разобраться с семейством Шокли.
Летом 1381 года Шокли грозило разорение.
Эдвард Уилсон со смехом вспоминал события тех дней и часто рассказывал о них детям.
Стивен Шокли, отчаявшись, пришел к Уилсону просить совета.
– Ну, я его и успокоил, – с усмешкой говорил Эдвард своим слушателям.
Сотрудничество Уилсона и Шокли процветало, а властный епископ слишком часто вмешивался в их дела, что Эдварду было совсем не с руки. Вдобавок ему было кое-что известно о Портеорсе – молодой священник добродетелями не блистал. Вот уже год он тайком приударял за женой торговца скобяным товаром, уродливой толстухой; о преступной связи знали немногие, в том числе и Эдвард Уилсон.
Спустя три дня, якобы случайно, произошло следующее.
Вечером Стивена Шокли задержали дела на окраине города. Детей – тоже совершенно случайно – дома не оказалось, и Цецилия Шокли с наступлением темноты осталась в одиночестве. Женщина удалилась на покой, как вдруг в доме раздался шум, дверь в спальню распахнулась, и в темном проеме возник высокий тощий незнакомец.
Цецилия Шокли, миловидная дородная особа, отличалась нравом смирным и ласковым, однако сил ей было не занимать. Незнакомец – лицо его было скрыто маской – кинулся к женщине и начал срывать с нее ночную сорочку, но Цецилия завизжала и принялась отбиваться от насильника. Незнакомец, осыпаемый градом весомых ударов, грязно выругался и сбежал. Несчастная женщина без сил повалилась на пол.
Крики привлекли внимание Эдварда Уилсона, который – совершенно случайно – с двумя помощниками проходил мимо лавки Шокли.
В тот день канонику Портеорсу – тоже совершенно случайно – передали просьбу жены торговца скобяным товаром о встрече на углу рыночной площади, неподалеку от лавки Шокли. Правда, незадачливый священник напрасно прождал возлюбленную – на свидание она почему-то не явилась.
Уилсон с помощниками бросились в погоню за тощим незнакомцем, выскочившим из дома Шокли, и – совершенно случайно – у рыночной площади наткнулись на высокого и тощего Портеорса, укутанного в плащ.
Наутро Эдвард Уилсон – уже не случайно – потребовал аудиенции с епископом Эргхемом.
– Ваше преосвященство, – почтительно начал Уилсон, – вам наверняка известно о нападении на жену Шокли.
Епископ сдержанно кивнул: насилия над женщинами он не терпел.
– Ваше преосвященство, я видел насильника, – заявил Уилсон.
– Сообщи о нем бейлифу, пусть немедленно схватит преступника, – потребовал Эргхем.
Эдвард Уилсон смущенно отвел взгляд:
– Нет, ваше преосвященство, бейлифа звать не стоит.
– Это почему еще? – спросил епископ.
– Ваше преосвященство, времена нынче смутные, – с запинкой сказал Уилсон. – Видите ли, преступник – ваш капеллан Портеорс.
– Не может быть! – возмутился епископ. – Он на такое не способен.
– Увы, ваше преосвященство, еще как способен… – с притворным прискорбием вздохнул Уилсон и в мельчайших подробностях изложил все, что ему было известно о связи Портеорса с женой торговца скобяным товаром. – Конечно, молодость удержу не знает…
Епископ с неожиданной теплотой взглянул на Уилсона:
– И что, ты своими глазами видел, как он из дома Шокли удирал?
– Да, – вздохнул Эдвард.
– А кто еще его видел?
– Мои помощники, но я их предупредил, чтобы никому словом не обмолвились. Вообще-то, посчастливилось, что мы его спугнули, иначе он бы надругался над…
– Да-да, конечно, – торопливо оборвал его епископ, прекрасно понимая, к чему клонит Уилсон.
– В городе неспокойно, – продолжил торговец. – Все знают, что Шокли впали в немилость, однако если личность насильника откроется и о вашем попустительстве станет известно… – Он замялся.
Епископ Эргхем, догадываясь, что Эдвард Уилсон как-то замешан в этой истории, поразился его хитроумию. Мнимое преступление капеллана наверняка вызовет недовольство горожан. Нет, мятежа допускать нельзя!
– И что же делать? – спросил он. – По-твоему, Шокли надо помиловать?
Уилсон молчал.
– Ладно, приструни мальчишку, – проворчал епископ. – Лоллардов в городе я не потерплю! Ясно тебе?
Уилсон почтительно склонил голову, и епископ дал знак, что аудиенция окончена.
Стивен Шокли с радостью согласился на несколько месяцев отправить Мартина в Кале по делам. Тем временем епископ о сукновальне больше не вспоминал, а насильника так и не отыскали.
Эдвард Уилсон всю свою долгую жизнь с довольной улыбкой повторял излюбленные слова:
– Люди – глупцы.
Роза
1456 год
В преддверии праздника город охватило радостное возбуждение. Дома с островерхими крышами украсили гирляндами цветов и разноцветными полотнищами, узкие улочки заполонили толпы горожан в праздничных одеждах – люди шли в трактиры и в палаты гильдий. Отовсюду слышался шум пирушек.
Часы епископа Эргхема на соборной колокольне звонко отбили шесть пополудни, и под звон колоколов из домов в разных концах города по своим особым делам отправились четверо: Евстахий Годфри, Майкл Шокли, Бенедикт Мейсон и Джон Уилсон.
Празднество в Солсбери не имело никакого отношения к тому, что происходило в мире за пределами пятиречья, – вот уже полвека обитатели Сарума старательно не обращали на это внимания.
Тем временем жизнь в Англии шла своим чередом. Престол несчастного Ричарда II занял Генрих IV Болингброк, сын герцога Ланкастера, чьи владения раскинулись в Уэссексе, неподалеку от Сарума. Его наследник Генрих V в славной битве при Азинкуре возвратил Англии ее французские владения, однако с тех пор французы, вдохновленные примером юной безумицы Жанны д’Арк, потихоньку отвоевывали свои земли. Смутные времена продолжались.
Впрочем, все эти великие исторические события не касались Сарума, разве что однажды солдаты, отправлявшиеся воевать во Францию, подрались с городскими забияками на Фишертонском мосту. Горожане покорно платили военную дань и ни во что не вмешивались.
– От войн одно разорение, – говорил Шокли сыну. – Нам торговля нужна.
Однако же история не стояла на месте. За год до битвы при Сент-Олбансе начался затяжной династический конфликт между враждебными группировками английской знати, Ланкастерами и Йорками, претендовавшими на королевский престол, впоследствии получивший название Войны Алой и Белой розы. Впрочем, название это неверное, потому что, хотя белая роза и была эмблемой династии Йорков, алую розу много позднее избрали своим символом вовсе не Ланкастеры, а Тюдоры.
Считалось, что Англией и Францией теперь правит король Генрих VI из рода Ланкастеров, хотя на самом деле всем вот уже тридцать лет заправлял совет могущественных вельмож; поначалу власть прибрал к рукам двоюродный дед короля Генри Бофорт, епископ Винчестерский, а потом – королева, гордая и волевая Маргарита Анжуйская.
Увы, Генрих VI, как и Генрих III два века назад, был безвольным и слабым правителем; вдобавок сын Екатерины Валуа, дочери безумного Карла VI, короля Франции, унаследовал от деда склонность к душевным расстройствам; на время приступов болезни его запирали в Кларендонском дворце.
Жители Солсбери к династическим распрям относились равнодушно, но знатных господ принимали с почтением, облачаясь в лучшие одежды, и отправляли в Кларендон менестрелей. В битвах между Йорками и Ланкастерами сражались наемные войска, а горожане неспешно занимались своими торговыми делами, не обращая внимания на выходки знатных господ.
К какому же празднованию так возбужденно готовились в Солсбери?
В 1456 году, после многовекового ожидания и длительных переговоров, Римская церковь наконец-то согласилась признать епископа Осмунда святым. Радости горожан не было границ: в Солсбери вот-вот появится свой святой! Пока представители Солсберийского капитула подробно обсуждали в Риме все подробности предстоящей канонизации, церковники и торговцы уже торопливо подсчитывали будущие доходы, которые принесет городу новый святой и его нехитрые чудеса.
Впрочем, жизнь собора горожан тоже почти не интересовала. К началу XV века Католическая церковь уладила Великий папский раскол; папа римский по-прежнему властвовал над духовной жизнью Англии, но в государственные дела не вмешивался, чужеземных священников из далекой Италии не присылал и больше не отлучал от Церкви ни короля, ни страну. В городе возникли гильдии ремесленников и религиозные братства со своими церквями и часовнями в приходах Святого Фомы, Святого Мартина и Святого Эдмунда. Религию теперь считали местным делом, не требующим высокого вмешательства церковных властей, епископов и пап.
Величественный собор раздражал горожан исключительно потому, что служил постоянным напоминанием о епископе Солсберийском, феодальном владыке города, а с присутствием господина, пусть и благосклонного, мириться они не желали. Неприязнь горожан имела долгую историю: вот уже полтораста лет мэр и олдермены безуспешно пытались избавиться от феодального ярма и обзавестись городской хартией вольности. С недавних пор противостояние епископа и подвластного ему города усилилось. Прошлого епи скопа, Уильяма Аскью, горожане невзлюбили до такой степени, что шесть лет назад, когда Джек Кэд поднял мятеж в Кенте, мирные жители Сарума тоже взбунтовались и растерзали епископа на Солсберийской возвышенности. Зачинщиков бунта повесили, а в Солсбери выставили на рыночной площади часть четвертованного трупа Джека Кэда, дабы горожанам впоследствии неповадно было бунтовать. Однако особого воздействия угроза не возымела – жители Солсбери поутихли, но епископа по-прежнему не любили. Всего два года назад Джон Холл, мэр города, снова обратился к королю с просьбой пожаловать городу хартию вольности.
– Не хотим мы над нами епископа, не нужен он нам, – не раз говорил Шокли.
Его убеждения разделяли все торговцы Солсбери.
А все потому, что в XV веке не было в Англии места лучше, чем Сарум.
Во-первых, этому способствовало весьма удачное расположение местности: на северных меловых грядах паслись тучные стада овец, а в долинах процветали молочные хозяйства и сыроварни – графство Уилтшир недаром славилось мелом и сыром. Солсбери, рыночный город, стал средоточием торговли. Междоусобные распри и вой ны в Европе ослабили положение многих английских портов, тогда как Солсбери находился посредине между тремя самыми благополучными: Лондоном на востоке, Бристолем на западе и Саутгемптоном на юге.
Во-вторых, здесь производили сукно – самый ходовой товар того времени. Торговля шерстью и сукном, начатая в предыдущем столетии Шокли и Уилсоном, оказалась весьма прибыльным делом. Вывоз шерсти-сырца неуклонно снижался, что неблагоприятно сказывалось на положении таких городов, как Винчестер, Оксфорд и Линкольн, а вот суконные мануфактуры процветали. Особенно это было заметно в Солсбери и в западной части Уэссекса, от Уилтшира до Сомерсета, где в огромных количествах производили разнообразные шерстяные ткани – источник несметного богатства торговцев, землевладельцев и даже воинов, таких как сэр Джон Фастольф[33]. В каждой деревне возникали общины ткачей и красильщиков, на берегах многочисленных рек и речушек строили сукновальни, а в Сарум стекались доходы всего Уэссекса.
В Солсбери без дела не сидел никто – ни ученики ремесленников, семь лет постигавшие азы избранного мастерства, ни сорок восемь горожан, составлявших городской совет, которым заправляли двадцать четыре торговца.
Сегодня, на тридцать четвертом году правления короля Генриха VI, все в Солсбери готовились к великому празднеству – к кануну дня святого Иоанна.
Святых Иоаннов было множество, и чтили их в разные дни: в мае поминали Иоанна Богослова, в августе отмечали день усекновения главы Иоанна Крестителя, но самым великим праздником считался день Рождества Иоанна Предтечи, совпадавший с днем летнего солнцестояния[34].
В 1456 году, в канун Рождества Иоанна Предтечи, у жителей Солсбери был великолепный повод для празднования.
В шесть часов вечера Евстахий Годфри вышел из своего дома в Луговом приходе, занимавшем юго-восточную оконечность города. На благородном лице застыло решительное выражение. В длинном алом одеянии, отороченном лисьим мехом, Годфри чинно шествовал по улице, гордо запрокинув голову, украшенную золотым обручем. По замыслу Евстахия сегодняшний день должен был положить начало возвращению былой славы древнему роду Годфруа, или Годфри, как теперь именовали семейство. Сегодня Евстахий собирался заключить брачные союзы своих отпрысков.
Для уверенности были все основания.
– Породниться с Годфруа – великая честь для всякого, – напоминал Евстахий жене.
Его дед в конце концов продал родовое имение Авонсфорд. К тому времени многие английские землевладельцы, даже такие знатные господа, как герцог Ланкастер и епископ Винчестерский, от давали все свои земли в издольщину – для их возделывания требовался наемный труд, а работникам приходилось платить, и содержание поместья превращалось в слишком дорогое удовольствие. Впрочем, крупные землевладельцы вполне могли жить на доходы, приносимые земельной рентой, а вот Годфруа бедствовали. К 1420 году владельцы Авонсфорда продали имение графу Солсбери, а сами переехали жить в город.
Отец Евстахия начал именовать себя на английский манер – не Годфруа, а Годфри, – и больше всего Евстахия раздражало то, что фамилию Годфри носило немало низкородных торговцев и ремесленников. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в благородстве и чистоте древнего рода, Годфри всякий раз напоминал сборщикам налогов о своем дворянстве и гордо повторял:
– Так и запишите – Евстахий Годфри, джентльмен.
Высокий четырехэтажный особняк с обширным двором располагался в квартале, значительно отстоявшем от шумной рыночной площади, близ соборного подворья и старинной обители францисканцев, которых называли серыми братьями по цвету их скромных монашеских ряс. Из окон четвертого этажа виднелась крыша епископского дворца; дома на соборном подворье, отведенные каноникам, недавно стали сдавать в аренду мирянам, и Евстахий едва не переселил туда семью – ему хотелось жить поближе к епископу.
Больше всего на свете Евстахий Годфри дорожил тяжелым пергаментным свитком, содержавшим родословную Годфруа. Жена Евстахия, дочь уилтонского пивовара, вот уже двадцать лет взирала на свиток с благоговением.
Не меньше, чем родословной, Годфри гордился своими детьми: девятнадцатилетний Оливер, смышленый миловидный юноша, постигал нелегкую науку права, а Изабелла к шестнадцати годам превратилась в изящную темноволосую красавицу.
Годфри, решив, что настало время женить сына и выдать замуж дочь, долго обдумывал предполагаемые брачные союзы, нисколько не сомневаясь, что легко найдет желающих породниться с отпрысками древнего рода.
– Ты носишь славное имя, – наставлял он Оливера, – и у нас есть важные связи.
Впрочем, важность связей Евстахий несколько преувеличивал.
К примеру, связь с епископом.
Годфри не разделял неприязни горожан к священникам. Вот уже пятьдесят лет епархию возглавляли такие достойные епископы, как знаменитые проповедники Роберт Халлум и Джон Чандлер, а богослужения по древнему сарумскому чину теперь отправляли даже в лондонском соборе Святого Павла. Нынешний епископ Солсберийский Ричард Бошамп происходил из древнего дворянского рода, был капелланом благороднейшего ордена Подвязки, пользовался благоволением короля и много времени проводил при королевском дворе в Виндзоре. Годфри, стараясь заручиться вниманием епископа, делал скромные пожертвования на нужды собора и на покрытие расходов по канонизации епископа Осмунда. При встречах с епископом Годфри почтительно кланялся и с удовлетворением отмечал благосклонный кивок и ответную улыбку прелата, а при первой же возможности подробно объяснил ему, кто он такой. Евстахию Годфри даже не пришло в голову, что епископ немедленно позабыл о знакомстве.
Однажды Годфри довелось встретиться с еще более важной особой. Семейство по-прежнему поддерживало родственные связи с благородными Уайтхитами, и Годфри изредка навещал их поместье. Как-то раз его пригласили в Винчестер, где представили самому Генри Бофорту, сыну герцога Ланкастера, – епископу Винчестерскому и канцлеру королевства. Встреча с высокопоставленным вельможей произвела на Годфри неизгладимое впечатление, и он до сих пор кичился знакомством с ближайшим советником короля, хотя Бофорт умер десять лет назад.
Этим высокие связи не ограничивались.
– Мы живем в смутные времена, – напоминал Годфри сыну. – Близкое знакомство с противником не помешает.
Династия Йорков, ветвь королевского рода Плантагенетов, вот уже много лет противостояла епископу Винчестерскому и династии Ланкастеров. Два года назад, когда короля настиг очередной приступ душевной болезни, герцога Йорка назначили лордом-протектором королевства, и между Йорками и Ланкастерами разгорелась борьба за власть. В мае 1455 года эта борьба привела к открытым военным действиям, когда отряды Ричарда, герцога Йорка, вступили в сражение с войсками Ланкастеров близ города Сент-Олбанса. С тех пор распри несколько поутихли, а бразды правления на время перешли к деятельной королеве Маргарите Анжуйской и советникам Ланкастеров, которые отправили герцога Йоркского лордом-наместником в Ирландию. Безумный Генрих VI по-прежнему сидел на престоле, который предстояло унаследовать единственному сыну короля, малолетнему Эдуарду. Исход династической борьбы за власть оставался неясен.
Среди сторонников династии Йорков самым могущественным было семейство Невиллов. Огромные владения достались им по наследству, однако Невиллы не гнушались ни политических интриг, ни мошенничества, ни обмана. Женившись на Алисе Монтегю, Ричард Невилл стал графом Солсбери и вытребовал восстановления древнего права на так называемый третий пенс – третью часть доходов графства, причитавшихся в королевскую казну. Граф Солсбери был редким гостем в своих обширных уилтширских владениях, которые включали в себя, среди всего прочего, и старинный замок у залива в Крайстчерче. Если к власти придет династия Йорков, то могущество Невиллов многократно возрастет. Даже сейчас, когда страной управляли советники Ланкастеров, граф Солсбери и его сын, граф Уорик, засели в крепости Кале, на французском берегу Ла-Манша, и уходить оттуда не собирались.
– Граф Солсбери хорошо помнит нашу семью, – уверял Евстахий сына.
Годфри втайне надеялся, что в один прекрасный день Ричард Невилл, нынешний владелец Авонсфорда, вернет имение прежним хозяевам и вдобавок щедро одарит их деньгами. Евстахий несколько раз приезжал в Лондон, всеми правдами и неправдами добивался аудиенции с графом, дабы заручиться его благоволением, якобы проистекающим из общности интересов. Годфри и не догадывался, что графский управляющий неоднократно советовал своему господину как можно скорее избавиться от имения, поскольку дохода оно не приносило, и совсем недавно предложил его епископу – по значительно сниженной цене.
Итак, пока горожане старались отделаться от феодального наследия, Годфри всеми силами мечтал вернуть былые времена. Он целыми днями оценивал достоинства окрестных земель епископа Винчестерского, ярого сторонника Ланкастеров, и сравнивал их с поместьями графа Солсбери, сподвижника Йорков, или же пытался убедить себя в насущной необходимости поближе подружиться с епископом Солсберийским, владельцем богатых имений, который умудрялся поддерживать прекрасные отношения с представителями обеих династий.
Иными словами, Годфри увяз в зыбкой паутине, сплетенной из несбыточных надежд и напрасных мечтаний.
– Наша семья на хорошем счету, – утверждал Евстахий.
Для полного успеха не хватало малого – денег. Их-то Годфри и пытался заработать.
Сперва он вкладывал деньги в шерсть, скупая ее у местных крестьян и продавая европейским купцам, – как выяснилось, себе в убыток.
– Увы, ваш король обложил шерсть-сырец такими высокими пошлинами, что она обходится дороже готового сукна, – объяснил ему фламандский торговец.
Успешно торговали шерстью только купцы-стапельщики, на складах которых копились огромные запасы.
После этого Годфри решил ввозить вино из Гаскони – и едва не разорился. Французы, вдохновленные Жанной д’Арк на борьбу против английских завоевателей, одерживали победу за победой, а парламент упрямо отказывался отпускать деньги на военные действия, поэтому Англия в конце концов утратила все свои владения во Франции, в том числе и Гасконь. Надежды Годфри снова вспыхнули в 1453 году, когда доблестный военачальник Джон Тальбот, граф Шрусбери, решил вернуть Англии гасконские владения. К несчастью, Тальбот погиб в битве при Кастийоне, и бордоские виноградники навсегда перешли к французам.
– Нет, я в торговцы не гожусь, – с плохо скрытой гордостью притворно сокрушался сорокадвухлетний Годфри, а потом заявил сыну: – Теперь ты должен бороться за честь семьи. Тебе прямая дорога в парламент.
Возлагая на сына эту непростую обязанность, Евстахий Годфри мыслил по-своему здраво. Мелкопоместные дворяне и зажиточные торговцы стремились дать сыновьям прекрасное образование. Оливера сначала отправили в Винчестерский колледж, основанный епископом Уильямом Уикхемом в 1382 году, а потом – в Королевский колледж Кембриджского университета, где смышленый юноша изучал право. Впрочем, особым прилежанием Оливер не отличался, хотя отец неоднократно напоминал ему, что хороший юрист всегда найдет возможность зарекомендовать себя на королевской службе.
Тем временем английский парламент неуклонно превращался в средоточие реальной власти. Избирательная система претерпела значительные изменения: выбирать в парламент своих представителей теперь могли только те свободные землевладельцы – фригольдеры, – доход которых составлял не менее сорока шиллингов в год. Вдобавок представителями графств и округов становились не местные горожане и дворяне, а ставленники вельмож.
– То ли дело, когда герцог Ланкастер созывал парламент, – взды хал Евстахий. – А нынче там самое место для таких, как ты, молодых да хватких. Вот из Олд-Сарума туда положено двух представителей в палату общин отправлять, а кого, спрашивается? Ведь не местных послали, а каких-то лондонских торговцев!
Полузаброшенная крепость на холме служила удобным избирательным округом для целеустремленных парламентских деятелей.
Мысли о славных подвигах и доблести предков приводили Годфри в уныние.
– Теперь не повоюешь, как в старину, – горестно вздыхал он.
Увы, дни воинских подвигов и славы давно миновали, да и сама война изменилась: задолго до битвы при Азинкуре дед Евстахия жаловался, что пушки – изобретение противоестественное и доблестным рыцарям их применять негоже. Впрочем, Евстахию повезло, что Оливер не мечтал о воинской службе, – на рыцарские доспехи и снаряжение денег не было.
Итак, Годфри не сомневался, что сын достойно проявит себя на парламентском поприще, а красавице-дочери непременно улыбнется судьба, – оставалось лишь раздобыть денег, для чего и требовалось срочно заключать брачные союзы. Годфри уже приглядел два подходящих семейства – хоть и низкородные, из торгового сословия, но зажиточные.
Евстахий улыбнулся, весьма довольный своим здравомыслием. Радовало его и другое: как только детей удастся пристроить, делать ему больше ничего не придется. Об этом Евстахий Годфри мечтал всю жизнь. В глубине души он всегда сознавал, что среди дельцов Солсбери ему нет места. Больше всего его манила религия и философические размышления. Он неукоснительно приходил на торжественную мессу в соборе, а иногда даже посещал все семь молитвенных часов и подолгу беседовал со священниками на соборном подворье, обсуждая богословские труды великого схоласта Фомы Кемпийского и Юлиании Норвичской, знаменитой отшельницы из Восточной Англии. Больше всего он любил вести дискуссии о происхождении британцев, предками которых, по твердому убеждению Годфри, были выходцы из древней Трои. В библиотеке собора, построенной по настоянию капитула, теперь хранилась книжица с изложением этой восхитительной теории, благоговейно принесенная в дар Евстахием Годфри.
«Что ж, вот детей пристрою и предамся умствованиям», – подумал он и бодрым шагом направился к Джону Уилсону.
Майклу Шокли уверенности было не занимать.
Он с достоинством вышел из дома, расположенного в квартале Три Лебедя Рыночного прихода на севере Солсбери. Белизну оштукатуренных стен внушительного особняка оттенял каркас из толстых дубовых балок; верхние этажи чуть нависали над дорогой – северной оконечностью Хай-стрит, за свою длину получившей название Эндлес-стрит – «бесконечная улица».
В тот вечер Шокли облачился в короткий дублет, туго перехваченный поясом, что подчеркивало широкие плечи и мощную грудь торговца, и чулки-шоссы, ладно облегавшие сильные, мускулистые икры. Сегодня Майклу Шокли предстояла чрезвычайно важная встреча, после которой его наверняка изберут в совет сорока восьми.
В городской совет Солсбери входило семьдесят два человека – двадцать четыре старейшины, или олдермена, во главе которых стоял мэр, и сорок восемь достойных горожан, занимавших посты поскромнее; именно они избирали олдерменов. Недавно один из сорока восьми умер, и на его место полагалось назначить замену.
– По-моему, меня изберут, – доверился Шокли жене. – В совете моих друзей и сторонников хватает.
В городе к Майклу Шокли относились с заслуженным уважением. Семейство Шокли понемногу богатело. Хотя сукновальня при носила хороший доход, Майкл завел еще и небольшую камвольную мануфактуру, что весьма обрадовало мелких ремесленников, поскольку обеспечивало занятость валяльщиков, красильщиков и ткачей; к тому же торговец всегда щедро жертвовал на нужды гильдий и ремесленнических общин. Его сын Реджинальд уже состоял в гильдии портных, и Майкл часто напоминал ему:
– Ежели хочешь добиться успеха, докажи мастерам, что ты свое дело знаешь.
Временами не все шло гладко – к примеру, из-за войн с Бургундией пострадала торговля с Нидерландами, которую вели так называемые купцы-предприниматели, получавшие ссуды у стапельщиков, а борьба с Ганзейским союзом за международные рынки мешала развивать торговлю со странами Восточной и Северной Европы, Балтики и даже с далекой Россией. В России Шокли закупал смолу и меха, в Нидерланды поставлял сукно, однако эти сделки прибыли ему не принесли. Впрочем, хватало и других доходов. Два месяца назад он закупил двадцать пять тонн синили – растительного красителя для шерсти – и выгодно продал груз, доставленный в порт Саутгемптона.
На углу Эндлес-стрит Шокли окликнули портные:
– Удачи тебе в совете!
Он с приветливой улыбкой помахал им в ответ и направился к церкви на западной стороне рыночной площади, где его уже ждал знакомый торговец.
– Ну что, не прочь к сорока восьми присоединиться?
– Конечно! – с готовностью откликнулся Майкл.
– А на взнос расщедришься?
– Сколько потребуется, столько и внесу.
– Что ж, еще одна арка церкви не помешает, – с улыбкой сказал Уильям Суэйн. – Если не терпится к сорока восьми присоединиться, пожертвуй на постройку храма.
Джон Холл и Уильям Суэйн были в то время известны всему Саруму. Поговаривали, что Джон Холл богаче – через его руки проходила половина уилтширской шерсти, он представлял город в парламенте и подал королю прошение выдать Солсбери королевскую хартию. Его соперник Уильям Суэйн был мэром города и пользовался большим влиянием в городском совете. Самой заветной мечтой купца было восстановление полуразрушенной церкви Святого Мученика Фомы на рыночной площади. Десять лет назад, когда обвалился потолок над алтарем, торговцы Суэйн, Холл и Уильям Уэбб вместе с дворянскими семействами Хангерфорд, Ладлоу и Годманстоун решили восстановить и расширить старинную церковь. Суэйн, будучи одним из покровителей гильдии портных, дал денег на постройку целого придела и часовни с алтарем для отправления заупокойных служб.
Шокли с радостью согласился, напомнив Суэйну:
– Я и без того с гильдией портных дружбу вожу, мне не в тягость.
Заручившись поддержкой Уильяма Суэйна, осчастливленный Шокли направился через рыночную площадь, но у Птичьего Креста замер; улыбка сменилась злобной гримасой. Добродушный торговец редко гневался, однако сейчас в голубых глазах сверкала ярость – он увидел Евстахия Годфри.
Семейства Годфри и Шокли приятельствовали вот уже больше века, до тех пор пока небрежное замечание, случайно оброненное десять лет назад, не привело к полному разрыву отношений. Годфри до сих пор сожалел о своем глупом поступке, но исправить ошибки не мог, а потому прикрывался неприязнью, будто броней.
Тогда, десять лет назад, он был богаче и надменнее. Малышка Иза белла и юный Реджинальд Шокли играли на соборном подворье.
– Вот я вырасту и выйду замуж за Реджинальда, – заявила девочка, подбежав к отцу.
– Благородные девицы из рода Годфри за лавочников замуж не выходят, – сухо ответил Евстахий и отогнал мальчугана, который с обиженным ревом бросился домой.
– Я тебе сам не позволю жениться на дочери этого нищего господинчика! – взъярился Шокли, узнав о случившемся.
С тех пор они даже не раскланивались при встрече, вот и сейчас прошли мимо не поздоровавшись.
– Тебя в совет сорока восьми никогда не пригласят, – пробормотал торговец в спину удаляющегося Годфри. – Уж я-то об этом позабочусь.
На углу квартала Скрещенные Ключи Евстахия Годфри почтительно приветствовал Бенедикт Мейсон.
Семейство Мейсон обитало в половине скромного дома на Кальвер-стрит, в одном из кварталов, принадлежащих Суэйну. Несколько лет назад улицу облюбовали девицы легкого поведения, но Мейсон и другие жители прихода Святого Мартина добились их выселения, обратившись к городским властям. На заднем дворе дома Бенедикт снимал мастерскую, где вместе с двумя подмастерь ями отливал колокола. Солсберийские колокола звонили в храмах всей Южной Англии, однако сейчас заказов поступало немного; чтобы прокормить шестерых детей, Мейсон по большей части выполнял медницкую и лудильную работу – котлы и сковороды приносили неплохой заработок.
Мейсон, невысокий круглолицый толстяк с острым, вечно красным носом, женился на такой же невысокой и круглолицей толстухе. Когда они с детьми прогуливались по Кальвер-стрит, то больше всего напоминали утиный выводок.
Бенедикт Мейсон входил в гильдию кузнецов (туда вступали те, кто работал с металлом, например медники и золотых дел мастера) и в общину ремесленников, которые ежегодно вносили двенадцать пенсов за поминальные молебны в церкви Святого Эдмунда и за отпевание с колокольным звоном.
Больше всего на свете Бенедикт любил отливать колокола. У кузнечного горна располагалась литейная яма, посреди которой выкладывали из кирпичей полый сердечник формы будущего колокола, а потом обмазывали его смесью глины с песком, выглаживая деревянными лопатками. По ободу колокола бежала надпись: «BEN. MASON ME MADE»[35]. Сейчас Бенедикт отчаянно надеялся, что ему поручат работу над самым важным колоколом.
Вот уже двести лет жители Солсбери мечтали обзавестись собственным святым. Каноники собора отправили в Рим посланников с просьбой канонизировать епископа Осмунда, и многолетние переговоры обещали завершиться успехом.
– Без колокола им не обойтись! – радостно вздыхал Мейсон, представляя себе великолепный колокол, с раструбом в четыре или даже пять футов, глубоким, мелодичным звоном сзывающий священников к мессе.
Основная трудность заключалась в том, что капитул следовало уговорить. Бенедикт Мейсон был человеком скромным, но настойчивым. Вот уже несколько недель он обхаживал священников и даже рассказал о своем замысле Уильяму Суэйну. Увы, торговца занимало только восстановление церкви Святого Фомы, а каноники не обращали внимания на просьбы простого ремесленника. Мейсон, понимая, что они скорее прислушаются к словам важной особы, вспомнил о Годфри – тот был джентльменом и водил знакомство с самим епископом. По счастливой случайности Мейсон и Годфри встретились на рыночной площади у Птичьего Креста.
Мейсон отвесил Годфри глубокий поклон и осведомился, не выслушает ли достопочтенный джентльмен просьбу скромного ремесленника.
– До епископа Осмунда никому в городе дела нет, даже Суэйну, – бойко начал Бенедикт и пустился в пространные объяснения о том, как лучше всего почтить святого.
Годфри, внимательно выслушав колокольного мастера, пришел к выводу, что тот прав – горожане собором почти не интересовались: ни библиотекой в клуатре, ни новыми контрфорсами, возведенными для снятия избыточной нагрузки с колонн средокрестия, ни шпилем, требующим срочной починки. Подумать только, в колокольне лавку устроили!
– И что ты предлагаешь? – нетерпеливо спросил Годфри.
– Новый колокол отлить, чтобы звоном священников к мессе созывать.
– И чем же я могу помочь?
– К вашему мнению люди прислушаются, – убежденно произнес Бенедикт Мейсон. – Вы джентльмен, с епископом дружбу водите, вас горожане уважают. А я ради святого Осмунда самый лучший колокол отолью и за работу недорого возьму…
Сердце Годфри взволнованно забилось. Чем дольше он раздумывал над неожиданным предложением, тем больше им проникался. Заботы горожан его мало интересовали, хотя и задевало то, что Суэйн, собирая деньги на восстановление приходской церкви, обратился не к Годфри, а к богатым землевладельцам Сарума. Разумеется, денег у Годфри не было, однако такое подчеркнутое невнимание обижало. А вот замысел Мейсона пришелся Евстахию по душе – гораздо больше чести стать покровителем собора, собрать деньги на колокол. Опять же внимание епископа привлечь…
– Ты прав, – ответил он колокольному мастеру. – Приходи ко мне завтра, посмотрим, как это лучше устроить.
Джона Уилсона горожане прозвали Пауком – тому было несколько причин. Во-первых, он всегда одевался в черное; во-вторых, походка его была странной, резкой и дерганой – он то застывал на углу рыночной площади, то срывался с места и уходил, да так, что проследить за ним было трудно. Вот уже полвека никто в Саруме не мог даже приблизительно объяснить, какими путями Уилсоны, начиная с Уолтера и Эдварда, сколотили состояние, о размерах которого можно было только гадать. Отец Джона нажился на торговле парчой и шелком – впоследствии выяснилось, что товар был подпорченным. Ходили слухи, что недавно торговый корабль Джона Уилсона захватил французское судно с богатым грузом: Англия вела войну с Францией и пиратством это не считалось. Поговаривали, что Уилсон богаче Холла и Суэйна, но точно этого никто не знал – дела свои торговец вел скрытно и, как паук, оплетал округу невиди мой паутиной своих связей. Ремесленнических гильдий он сторонился, и в городе его недолюбливали. Сын его Роберт занимался делами в порту Саутгемптона, в Сарум наезжал редко и, по слухам, во всем походил на отца.
В шесть часов вечера Джон Уилсон неприметно вышел из своего особняка в квартале Нью-стрит. Торговцу предстояло нанести два важных визита. Для начала он уверенно направился к дому Джона Холла.
В семь часов вечера Лиззи Кертис шла по кварталу Возчиков, близ церкви Святого Эдмунда. Внезапно девушке почудилось, что за ней следят. Оглядевшись, она никого не заметила, хотя откуда-то из сумрачных проулков доносился шорох шагов. До темноты было далеко, в домах вокруг суетились люди, поэтому Лиззи не встревожилась, а гордо тряхнула головой – пускай следят, ежели так хочется. Из-за угла раздался сдавленный смешок.
Семнадцатилетняя Лиззи Кертис, единственная дочь зажиточного мясника, слыла красавицей и богатой невестой, так что ей, девушке добронравной и смышленой, бояться было нечего. Стройную фигурку прикрывали складки ярко-синего сюрко, надетого поверх облегающей желтой сорочки-котты из тонкой ткани; из-под белого крахмального чепца выбивались очаровательные каштановые кудряшки; красные деревянные башмаки, защищая от уличной грязи изящные желтые войлочные туфельки, бойко постукивали по камням мостовой. Чтобы не испачкать наряд в пыли, девушка подхватила подол длинного одеяния, чуть приоткрыв щиколотки, и, не оглядываясь, устремилась вперед, всем своим видом показывая, что таинственные преследователи ее не пугают.
Лиззи Кертис весьма заботило, что думают о ней окружающие. Она часами вертелась перед серебряным зеркальцем – отцовским подарком, – рассматривая свое отражение, следила за каждым своим словом и взглядом и всякий раз, выходя в город, присматривалась к манерам знатных дам. Она любила красивые яркие наряды, но то, что предлагали рыночные торговцы, ее не удовлетворяло. Лиззи, добрая и смешливая, быстро обзавелась подругами среди сверстниц; девушки ее любили и восхищались ее красотой.
Теперь Лиззи занимало другое: как привлечь к себе внимание мужчин. Поначалу она решила, что их следует обольщать, и пробовала свои силы на городских юнцах: одаривала их очаровательными улыбками, а потом напускала на себя неприступный вид и гордо отворачивалась. Нехитрая уловка срабатывала до тех пор, пока какой-то дерзкий подмастерье не ухитрился сорвать поцелуй. Лиззи, испугавшись, что юнец будет хвастаться своим подвигом, рассердилась и убежала.
Больше всего на свете Лиззи хотелось стать знатной госпожой – из тех, что изредка появлялись на улицах города. Девушка с вожделением разглядывала великолепные накидки с горностаевым подбоем и высокие головные уборы с тончайшими кружевными вуалями, усыпанными самоцветными камнями. Может быть, отец найдет ей жениха – обязательно из знатного рода, джентльмена, ведь женам даже самых богатых торговцев не позволялось носить наряды, подобающие высокородным господам.
Лиззи шла по улице, мечтая о женихе.
Преследователи нагнали девушку на углу квартала Священников. Ее схватили так внезапно, что Лиззи даже не вскрикнула. Шесть пар цепких рук поволокли ее через дорогу, втолкнули в дверной проем и крепко спутали веревкой.
Сообразив, что происходит, Лиззи облегченно перевела дух и оглядела ухмыляющихся парней:
– Сколько просите?
Деньги на нужды приходской церкви собирали по-разному: чаще всего устраивали шумные вечеринки-скотэли, где торговали пивом, но самое излюбленное развлечение молодежи происходило сразу после Пасхи – парни ловили на улицах одиноких прохожих и требовали с них выкуп.
– Ничего я вам не заплачу! – возмущенно выкрикнула Лиззи, вспомнив, что до Пасхи еще далеко, и окинула негодующим взглядом знакомые лица – вот Реджинальд Шокли, ее сверстник, а вот и большеглазый малыш Том Мейсон, сын колокольного мастера.
– Пенни, пенни! – потребовали мальчишки.
– Ничего вы от меня не получите!
– Полпенни, или мы тебя здесь связанной бросим, – фыркнул Шокли.
– Не дам, и все тут! – расхохоталась Лиззи.
Поразмыслив, один из них заявил:
– Тогда поцелуй!
Лиззи гордо тряхнула головой:
– Ни за что!
– Тебе жалко, что ли?
– Я с женихом целоваться буду! – выпалила она и тут же поняла свою ошибку.
– Я, я на тебе женюсь! – вразнобой откликнулись подростки.
– Вот еще выдумали! Никто из вас мне не пара.
– Тогда признавайся, за кого замуж пойдешь. Может, мы тебя и отпустим.
Лиззи согласно кивнула, и веревки тут же распутали. Девушка, высвободившись, отскочила в сторону и крикнула:
– Я за рыцаря в замке замуж выйду, уж он-то знает, как жену ублажать!
Реджинальд Шокли расстроенно посмотрел на нее, понимая, что в шутке Лиззи есть доля правды. Заметив его огорчение, девушка улыбнулась, поманила его к себе, поцеловала в щеку и убежала. Реджинальд вспыхнул от удовольствия и остался стоять посреди улицы.
После разговора с Бенедиктом Мейсоном вечер у Евстахия Годфри не задался. К Уилсону он заходил трижды, но, к раздражению Годфри, торговец домой так и не вернулся.
Опускались сумерки; городские улицы опустели – в преддверии праздника горожане разбрелись по пирушкам. Случайная встреча с Майклом Шокли тоже не прибавила Годфри уверенности в себе, еще и потому, что торговец за десять лет разбогател. Часы на колокольне пробили восемь, и Годфри в четвертый раз постучал в дверь особняка Уилсонов.
Торговец оказался дома и согласился принять гостя.
Особняк Джона Уилсона занимал два каменных дома на углу квартала. Парадный вход находился в нише под внушительной аркой, над которой располагалась спальня. За аркой виднелись двор и сад, обнесенный высокой стеной. В целом постройка создавала впечатление жилища богатого человека.
Годфри пригласили в гостиную, где за дубовым столом восседал Джон Уилсон. При виде гостя хозяин не поднялся, а лишь кивнул на кресло напротив, приглашая Годфри садиться. Только сейчас Евстахий заметил, что в углу гостиной молча стоит Роберт Уилсон, сын торговца.
Потолочные дубовые балки украшала замысловатая резьба, в окна было вставлено рейнское стекло с узором из роз и лилий. На столе перед Джоном Уилсоном стояла тарелка копченых языков и миска изюма. Торговец опустил серебряную вилку на столешницу и подтолкнул миску гостю, не произнося ни слова.
– Я по личному делу пришел, – заявил Евстахий, взглянув на Роберта.
Уилсон равнодушно кивнул.
– Оно касается вашего сына, – продолжил Годфри.
– Слышишь, тебя дело касается, – небрежно бросил Уилсон сыну, не оборачиваясь. – Придется тебе остаться.
Годфри окончательно утратил уверенность в себе.
Уилсон неторопливо прожевал кусок копченого языка.
– У меня есть дочь, – наконец промолвил Евстахий и пустился в рассказ о красоте Изабеллы и древности своего рода.
Уилсоны выслушали его в невозмутимом молчании.
Годфри объяснил, в каком состоянии находятся дела семейства, и вот тут Джон Уилсон его прервал:
– Ты с Гасконью торговал?
– Да. Хотелось бы продолжить.
– Нет, не выйдет, – помотал головой торговец.
– Да, Тальботу не удалось Бордо удержать, но гасконцам английское владычество по нраву. Кто знает, может, мы еще вернем Анг лии французскую корону.
– Этого еще не хватало, – заметил Уилсон, рассеянно накалывая на вилку еще кусок мяса. – Тогда у короля слишком много власти будет.
Подобных взглядов в то время придерживались многие, особенно купцы и торговцы, которые не желали усиления королевской власти.
– Так что с Гасконью покончено, – заявил Уилсон, всем своим видом показывая, что более об этом говорить не собирается.
Годфри перешел к описанию своих пресловутых связей, упомянул епископа, королевский дом и парламентское представительство для сына. Уилсон оттолкнул от себя тарелку, откинулся на спинку кресла и, с насмешливым изумлением глядя на Евстахия, медленно произнес:
– Такие связи больших денег стоят.
Годфри согласно кивнул.
– Деньги у меня есть, – неторопливо продолжил Уилсон. – А вот таких связей нет.
Бедняга Годфри совершенно не заметил едкой насмешки, скрытой в словах торговца; об обширных связях Уилсона он не подозревал, а если бы и догадывался, то все равно не понял бы их значения. Джон Уилсон тесно сотрудничал с крупнейшими торговыми домами Лондона и вместе с компаньонами владел флотилией двухмачтовых торговых кораблей, которые регулярно уходили в плавание из Бристоля в Испанию и Португалию. После того как рынок сбыта шерсти в Винчестере пришел в упадок, Роберт занялся перевозкой огромных партий всевозможных товаров, особенно солсберийского сукна, через порт Саутгемптона, откуда итальянские корабли уходили во Фландрию. Туда же, в Саутгемптон, привозили шелк и бархат, заморские пряности, перец, корицу, имбирь и даже апельсины из Средиземноморья. Роберт Уилсон выгодно скупал товары и отправлял их отцу в Сарум. Выход на южные рынки сбыта приносил Уилсонам огромный доход, но об этом Годфри ничего не знал, а потому решил, что произвел на торговца неотразимое впечатление.
– Так вот, подходящую жену для Оливера я уже подыскал, а теперь предлагаю вашему Роберту жениться на Изабелле, дабы заключить достойный союз, выгодный обеим нашим семьям, – проникновенно изрек Годфри, считая, что подобный намек со стороны дворянина должен польстить Уилсону, низкородному торговцу.
Сухощавый, жилистый мужчина в кресле за столом по-прежнему молчал.
«А как же Роберт? – подумал Годфри. – Наверняка ему мое предложение по нраву пришлось».
Роберт и впрямь всем походил на отца – и телосложением, и подозрительностью, и близко посаженными карими глазами; впрочем, лицо его было чуть шире. Волосы его, остриженные вкруг над ушами, шапкой прикрывали макушку, щеки были чисто выбриты. Он неподвижно стоял в углу, ничем не выдавая своих мыслей.
Роберту Уилсону недавно минул двадцать один год, но выглядел он вдвое старше, напускал на себя суровость, а говорил мало и редко. Он с самого детства держался особняком, с соседскими детьми не играл и друзьями не обзавелся. Евстахий Годфри неожиданно сообразил, что знает о Роберте очень немного: по слухам, он человек смышленый, предприимчивый и – самое главное! – унаследует от отца громадное состояние.
Молчание затягивалось. Под пристальными взглядами Уилсонов Годфри сделалось неловко. Может, не стоило затевать этот разговор? Нет, времена меняются, Изабелле нужен богатый муж, так что лучше Роберта жениха не сыскать.
Наконец Годфри не выдержал и, превозмогая раздражение, обратился к Роберту:
– Ну, как тебе мое предложение?
Роберт вышел из тени и вопросительно посмотрел на отца.
Джон Уилсон неторопливо положил вилку на столешницу, отодвинул тарелку, оперся локтями о стол и негромко заговорил. Годфри напряженно подался вперед, чтобы лучше слышать.
– Когда солсберийские торговцы ссудили деньги королю в обмен на право собирать торговые пошлины в Саутгемптоне, епископ Винчестерский эти пошлины присвоил, и мы остались с носом. Мне такие друзья ни к чему, – заявил Уилсон.
Подобные слухи доходили до Годфри, однако он именовал их гнусным поклепом – высокородный господин до такого не унизится.
– Епископ был советником короля… – нерешительно напомнил Евстахий.
– Парламент… – презрительно оборвал его Уилсон, сплевывая на пол виноградную косточку. – Толку от него никакого, представители заседают-заседают да налоги в королевскую казну гребут, будто у короля других источников дохода нет. Плевал я на короля, на советников его, да и на парламент тоже.
Годфри обомлел.
– А епископ Солсберийский и вовсе болван, – все так же негромко продолжал Уилсон. – Слуг своих распустил, носятся по городу, драки затевают да чужих кур режут.
Действительно, два года назад епископские сборщики податей спьяну залезли в чей-то огород и гоняли кур, размахивая мечами.
– Давно пора их всех выгнать из города, и дело с концом, – заключил торговец.
Подобных речей от него прежде никто не слыхал, однако с ними согласились бы и Джон Холл, и Уильям Суэйн, и все остальные купцы. Евстахий Годфри поразился злобе, звучавшей в негромком голосе Уилсона, хотя объяснялась она очень просто: вот уже несколько столетий Уилсоны противились власти феодалов и презирали своих господ, а Годфри неосмотрительно напомнил торговцу о своем так называемом благородстве и высоком положении.
– Мой отец рожден вилланом, сам я выбился в торговцы, так что ваши епископы да бароны нам ни к чему, пусть себе друг друга убивают, вот как в прошлом году, в Сент-Олбансе. Да, а сыну моему бесприданница твоя не нужна, – прошипел Уилсон, обеими руками придвинул к себе тарелку и ткнул вилкой в очередной кусок мяса.
Роберт, по-прежнему не произнося ни слова и не двигаясь с места, с презрительной жалостью глядел на Годфри.
Евстахий, вне себя от гнева, встал и неуверенными шагами двинулся к выходу.
Спустя полчаса, немного успокоившись, он отправился к мяснику Кертису – о подходящей жене для Оливера забывать не следовало.
– Она единственная дочь, наследница, да и хорошенькая, – объяснял Годфри сыну.
В девять часов вечера Евстахий Годфри встретился с мясником и, памятуя о недавнем унижении, объяснился просто и немногословно, хотя и упирал на блестящее будущее сына. Мясник принял Годфри почтительно, польщенный интересом высокородного господина к дочери.
– В средствах мы стеснены, – без обиняков заявил Годфри.
– Ничего страшного, у меня денег хватает, – ответил Кертис и со вздохом признался: – Увы, вы опоздали. Два часа назад ко мне Уилсон приходил, я обещал дочь за его сына выдать.
Годфри побледнел от разочарования – значит, пока он обивал порог уилсоновского особняка, проклятый торговец лишил его последней надежды.
– Я бы ему отказал, – уныло продолжил Кертис, – только сами понимаете, Пауку перечить никто не осмеливается.
Годфри пришлось вернуться домой, так ничего и не добившись.
После ухода Годфри Уилсоны несколько минут сидели в молчании: отец заканчивал трапезу, а сын невозмутимо следил за ним.
– Глупец он, этот Годфри, – наконец произнес Джон.
В холодном взгляде Роберта мелькнуло согласие.
Джон Уилсон задумчиво пожевал изюминку, проглотил и продолжил:
– Я тебе невесту добыл. Лиззи Кертис – девушка смышленая, только разбалованная.
– Ничего, я ее приструню, – негромко ответил Роберт.
Уилсон с любопытством посмотрел на сына:
– Думаешь, получится?
– Да, – промолвил Роберт, чуть скривив тонкие губы в презрительной усмешке.
– Ну, как знаешь, – равнодушно кивнул Джон Уилсон и встал из-за стола.
В канун дня святого Иоанна, совпадавший с днем летнего солнцестояния, жители Солсбери украшали дома зажженными светильниками, охапками березовых веток или венками из лилий и зверобоя, а потом, по обычаю, устраивали торжественное шествие через весь город.
Возглавляли колонну мэр и члены городского совета, облаченные в длинные алые одеяния из солсберийского сукна и гордо восседавшие на великолепных скакунах. За ними несли символы городской общины – изображение дракона и святого Георгия, который вот уже двести лет считался покровителем Англии.
Следом шествовали мясники, седельщики, кузнецы, плотники, цирюльники-костоправы, валяльщики, ткачи и сапожники – в городе насчитывалось почти сорок гильдий, и у каждой был свой герб и свои ливрейные одеяния. Во главе гильдии кузнецов важно выступали два лучника – одним из них был Бенедикт Мейсон.
Представители самой богатой и могущественной гильдии портных несли главные обрядовые фигуры празднества – Великана и его верного коня Хоб-Ноба. Двенадцатифутовый Великан, наряженный в роскошное облачение торговца, благосклонно взирал на толпу. Голову его украшал тюрбан, повязанный по тогдашней моде поверх широкополой шляпы, а задрапированный конец ткани прикрывал шею Великана и свисал по спине. Языческое по своей сути чучело изображало святого Христофора, покровителя портных. Впереди, расчищая путь Великану, забавно гарцевал Хоб-Ноб, то и дело фыркая и устрашающе клацая зубами, к великой радости детей и зевак; под лошадиной маской скрывался ловкий фигляр. Фигуры Великана и Хоб-Ноба вот уже много лет по великим праздникам веселили жителей Солсбери, а в остальное время хранились на складе гильдии портных, заботливо обложенные мешками мышьяка для защиты от крыс.
Жена и дети Годфри присоединились к толпе гуляк, а Евстахий уныло смотрел на праздничное шествие. Ни к одной из гильдий он не принадлежал, в совет семидесяти двух ему вступать не предложили, да он и сам не хотел. В жизни Сарума ему не было места. Он медленно побрел по улице, а навстречу ему двигалась шумная толпа – менестрели, разносчики, торговцы пирогами, подмастерья и мастера-ремесленники; каждый одет в свой лучший наряд, как предписывал закон. На углу квартала Кабаний Ряд Годфри приметил Майкла Шокли, гордо выпятившего широкую грудь, обтянутую яркой зеленой и алой тканью парадного дублета. На ногах торговца красовались великолепные башмаки с длинными загнутыми носами, золотыми цепочками прикрепленными к подвязкам у колен. Годфри расстроенно вздохнул: наверняка Шокли изберут в городской совет и на следующий год торговец в алом одеянии будет скакать во главе процессии.
У постоялого двора Святого Георгия Годфри нагнал запыхавшийся Бенедикт Мейсон. Круглые щеки колокольного мастера раскраснелись, а вечно красный нос полыхал багрянцем.
– Вы скоро с епископом увидитесь? – отдышавшись, спросил Мейсон.
Годфри, совсем забыв о своем обещании, недоуменно уставился на него.
– Ну о колоколе поговорить? – напомнил толстяк.
Увы, Годфри больше не радовала даже возможность отличиться в глазах епископа.
– Скоро, скоро, – буркнул он и направился к воротам соборного подворья, надеясь, что там царит тишина и покой.
Надежды Годфри не оправдались – отзвуки бурного веселья долетали и туда.
В девять часов утра члены гильдии портных с длинными свечами в руках потянулись в церковь Святого Фомы. Уильям Суэйн, оста новив Майкла Шокли у церковной ограды, сердито воскликнул:
– Нас обманули! Во всем проклятый Джон Холл виноват.
– Что произошло? – удивленно спросил Шокли.
– Джон Холл предложил своего человека на освободившееся место в городском совете и заручился поддержкой остальных, так что я поспособствовать тебе не смогу.
Помолчав, Шокли осведомился:
– И кого же приняли?
– Джона Уилсона, его еще Пауком кличут, – с отвращением произнес Суэйн. – Представляю, сколько он Холлу заплатил!
Джон Уилсон, по обыкновению, действовал исподтишка, но во всем добивался желаемого. После богослужения в палатах гильдии устроили роскошный пир. Столы ломились от яств; на блюдах красовались горы жареных уток, фазаны и павлины, запеченные свиные туши и жареные ежи. Слуги разносили кувшины эля и хмельного меда, менестрели играли на арфах и лирах, трубили в рожки.
В самый разгар пиршества Джон Уилсон, с ног до головы одетый в черное, подвел сына к месту, где сидела семья мясника Кертиса. Так Лиззи впервые увидела своего будущего мужа. Роберт вежливо улыбнулся, но глаза его оставались холодны. Сердце Лиззи испуганно сжалось: похоже, брак счастливым не будет.
В 1457 году от Рождества Христова праведника Осмунда, епископа Солсберийского, наконец-то признали святым. Канонизация обошлась капитулу в невероятную по тем временам сумму – семьсот тридцать один фунт, что примерно равнялось годовому доходу епархии. В летописях нет упоминаний о колоколе, отлитом в честь новоявленного святого, однако 15 июля объявили днем почитания святого и храмовым праздником – гильдии отмечали его еще одним ежегодным шествием.
В 1465 году горожане вконец рассорились с епископом Бошампом. Причиной распри стала тяжба между Джоном Холлом и Уильямом Суэйном за право пользования землей во дворе церкви Святого Мученика Фомы. Епископ, по праву владельца земель епархии, позволил Суэйну построить там дом для священника, совершавшего отпевания в часовне гильдии, однако Холл заявил, что земля принадлежит городу. Суэйн начал строительство, но люди Холла разрушили постройку. Впрочем, гнев горожан был направлен не против торговцев, а против феодального гнета. Джон Холл возглавил выступления горожан против епископа, и дело приняло настолько дурной оборот, что торговца обязали явиться к королю с объяснениями. За дерзость, проявленную на заседании королевского совета, Генрих VI бросил Холла в темницу. Тяжбу о владении церковным двором королевский суд рассматривал девять лет и подтвердил, что земля принадлежит епископу.
– Город находится на епископской земле, а значит, принадлежит епископу, об этом и в нашей хартии написано. Придется торговцам смириться, – объяснял Годфри родным, черпая слабое утешение в победе епископа Бошампа.
Тем временем деньги самого Годфри медленно, но неуклонно таяли. Тем не менее он испросил у епископа аудиенцию, дабы принести ему свои поздравления, и был счастлив, что его приняли.
Даже противники Джона Холла поддержали торговца в борьбе против епископа, однако Джон и Роберт Уилсоны сочли за лучшее не вмешиваться в распри между горожанами и церковниками. Обитатели особняка в квартале Нью-стрит упрямо держались в стороне и своего мнения вслух не выражали.
Тем не менее Джон Уилсон вынашивал далекоидущие замыслы.
Путь из Сарума
1480 год
Шестнадцатилетний Уильям Уилсон замер, укутанный холодной влажной пеленой апрельского тумана, мельчайшие капельки которого оседали на волосах, бровях и ресницах. Юноша продрог до костей и не ел со вчерашнего утра, но сейчас позабыл об этом. Узкое изможденное лицо осветила улыбка.
Белесая дымка покрывала реку и далекие меловые гряды, но лучи восходящего солнца уже начали разгонять туман, и перед глазами Уильяма возникали размытые очертания холмов, темные купы деревьев и тропка, убегающая на взгорье.
В утренней тишине золотой шар солнца выкатился из-за мелового хребта, и завеса тумана медленно сползла по склону в долину. Внезапно в белом мареве у речного берега глухо захлопали крылья, и шесть лебедей, вырвавшись из цепких объятий тумана, величаво взлетели над долиной. Тут же, словно по волшебству, дымка над во дой развеялась, явив взору особняк в излучине реки. Массивное серое здание, увенчанное остроконечной двускатной крышей, парило среди невесомых клочьев тумана, будто корабль в морских волнах.
От красоты замирало сердце. Уильям Уилсон восхищенно вздохнул, забыв, что в его бедах повинен владелец особняка. Сегодня юноше предстояло навсегда проститься с родным домом.
– Вот дождусь, когда лебеди вернутся, и уйду, – еле слышно пробормотал он.
Новый владелец Авонсфорда построил особняк на месте древнего манора Годфруа, с гордостью объявив:
– Вот теперь это – достойное жилище джентльмена.
Новым владельцем Авонсфорда был Роберт Форест.
Десять лет назад Джон Уилсон и его сын Роберт, торговцы из Солсбери, переехали из города в Авонсфорд и в ознаменование перехода в дворянское сословие решили сменить фамилию, взяв себе благозвучное, по их мнению, имя Форест[36], якобы свидетельствующее о древних корнях.
Джон Уилсон еще несколько лет занимал особняк в квартале Нью-стрит, плетя паутину своих тайных дел и накапливая богатство. Роберт перевез семью в Авонсфорд, взяв манор в аренду у лендлорда, епископа Солсберийского, на срок в три жизни, с условием дальнейшего продления. Форесты немедленно приступили к перестройке полуразвалившегося дома, дабы привести его в состояние, подобающее их новому высокому положению.
Середину особняка занимал просторный зал, а в боковых крыльях располагались комнаты с фонарными окнами во всю стену: частные покои с высоким сводчатым потолком и потемневшими от времени дубовыми перекрытиями и так называемая зимняя гостиная – предмет особой гордости Роберта. В гостиной находился огромный камин; стены, облицованные резными дубовыми панелями, делали ее похожей на замысловатую деревянную шкатулку. Джон Уилсон презрительно фыркнул, увидев это великолепие, но Роберт объяснил отцу:
– Сейчас так принято в лучших дворянских домах.
Старик только хмыкнул и больше не сказал ни слова.
Здесь, в зимней гостиной, стоял тяжелый дубовый шкаф, на полках которого красовались богато переплетенные книги – неотъемлемая принадлежность жилища знатного господина. Библиотечное собрание Роберта Фореста включало в себя геральдические справочники, роскошно иллюстрированную рукопись «Кентерберийских рассказов» Джефри Чосера и «Книгу о короле Артуре и его доблестных рыцарях» – сборник артуровских легенд, написанный обнищавшим рыцарем по имени Томас Мэлори; поговаривали, что автор заточен в темницу за воровство, но Роберт Форест, узнав, что книгой восхищаются знатные господа, немедленно ее приобрел. Однако больше всего Роберт гордился другой книгой, под названием «Изречения философов».
– Я ее из Лондона привез, – рассказывал он отцу. – Некий Уиль ям Кекстон, глава гильдии торговцев шелком, теперь книги не переписывает, а печатает на особом станке.
Джон Уилсон придирчиво перелистал страницы, согласился с тем, что замечательное изобретение наверняка принесет огромный доход, однако недовольно поморщился:
– Странно у него слова написаны, сразу и не поймешь, на каком наречии. Нет, это никуда не годится!
Действительно, в те времена в разных уголках Британии слова произносили на разные лады, однако Кекстон, как и многие его современники, придерживался весьма определенных взглядов на правильность их написания, поэтому для печати использовал странную смесь различных выговоров. Роберта правописание нисколько не занимало, однако Джон недаром жаловался на выбор печатника – с тех самых пор графический облик слов английского языка стал камнем преткновения для многих.
Второй этаж особняка занимали спальни с каменными полами, устланными душистым камышом, а во дворе за домом располагались хозяйственные постройки, кухня и амбары. Новый владелец особняка и не подозревал, что на этом самом месте почти тысячу лет назад стояла древнеримская вилла – жилище семейства Портиев.
Близ дома построили часовню со звонницей, для которой Бенедикт Мейсон отлил небольшой колокол, а по другую сторону высилась голубятня – каменная башня двадцати футов высотой, увенчанная деревянным сооружением с многочисленными отверстиями в стенах, где гнездились десятки голубей. Рядом с голубятней Роберт разбил сад, обнесенный стеной, – в этом райском уголке, среди аккуратно подстриженных зеленых изгородей, пышно цвели кусты роз.
В особняке часто раздавались испуганные крики, плач и стоны, но жители деревни не обращали на них внимания – владелец Авонс форда, человек богатый и почтенный, был вправе обходиться с женой и детьми так, как считал нужным.
– Теперь в маноре благодать, – с боязливым смешком перешептывались крестьяне.
И когда Роберт Форест выгнал юного Уилла Уилсона из дома, местные жители только пожали плечами – что ж, не повезло.
Юноша остался круглым сиротой – мать его умерла, когда мальчику было десять лет, не выжили и четверо братьев и сестер, но все несчастья начались после смерти отца, в январе. Отец Уилла арендовал у владельца Авонсфорда крохотную хижину по договору копигольда, который подразумевал пожизненное владение за неизменную плату. Смерть арендатора означала расторжение договора, а хозяин поместья имел право не только взимать посмертную дань, но и повысить плату при заключении договора с новым арендатором, который к тому же должен был выплатить лендлорду еще один денежный взнос, так называемый вступной файн. Денег у Уилла Уилсона не было.
Обитатели деревушки бедствовали, помочь юноше было некому, а Роберт Форест снисхождения не проявил.
– Раз платить не можешь, выметайся отсюда, – велел Уиллу управляющий. – Так хозяин приказал.
У Роберта Фореста на то были свои причины.
Во-первых, он нашел новое применение земле, на которой стояла хижина.
Деревня так и не оправилась после Черной смерти столетие назад. Жителей в ней было мало, вдобавок они случайно расселились в двух концах Авонсфорда, а опустевшие дома посередине разобрали. В основном крестьяне жили в южной оконечности деревни; лачуга Уилсонов стояла в северной оконечности, где было всего четыре двора, отделенные от деревни общинным выпасом и хозяйственными постройками при нем. Роберта Фореста это весьма раздражало.
– Пять акров отличной земли пропадает, – недовольно ворчал он, проходя мимо выпаса, и зимой принял решение переселить семьи с северной оконечности деревни в южный конец, где пустовали три хижины. Смерть старого Уилсона пришлась Форесту на руку – денег у Уилла нет, переселять его не придется, проще выгнать.
Во-вторых, юный Уилл Уилсон, сам того не подозревая, приходился Роберту дальним родственником. После вспышки чумы брат старого Уолтера Уилсона отказался пойти к нему в работники и уберег семью от непосильного труда, но потомки его так и остались нищими крестьянами, в то время как семейство Уолтера разбогатело. За сотню лет сменилось пять поколений, о родстве стали забывать, однако Роберт Форест, приобретя поместье Авонсфорд, первым делом навел справки о дальних родичах и держал это в тайне.
Уилл с раннего детства приметил хмурые взгляды Роберта, но не придавал им особого значения – владелец Авонсфорда на всех смотрел недобро. Однажды Уилл спросил отца о семействе Форест.
– Из купцов в дворяне выбились, нам не чета, – ответил отец, уставившись себе под ноги – о родственных связях он подозревал, но решил, что разумнее об этом не упоминать.
– А чего он на нас хмуро смотрит? – не отставал сын.
– Так уж привык, – вздохнул отец. – Ты ему кланяться не забывай, и все будет хорошо.
Впрочем, Форесты в деревню захаживали редко. Жена Роберта и двое его детей – сын и дочь – держались особняком, по воскресеньям ходили к обедне не в захудалую авонсфордскую церковь, а в часовню близ особняка. Уилл только издали видел, как дети чинно шли за матерью, седовласой строгой красавицей.
– Помнится, в юности Лиззи Кертис смешливой была, шутки любила, – горько вздыхал отец Уилла. – Да только у Форестов не забалуешь.
Уилл не понимал, что это значит, пока однажды, помогая отцу чинить покосившуюся дверцу голубятни, не увидел, с каким ужасом Лиззи Форест отшатнулась от мужа, неожиданно появившегося в саду. С тех пор Уилл сторонился владельца Авонсфорда.
В марте Роберт Форест выгнал Уилла из дома. Соседские хижины пустовали с января, и управляющий о сироте даже не вспоминал. Однажды утром на северную оконечность деревни явились работники – четверо из поместья и шестеро нанятых в городе – и ловко принялись крушить хлипкие лачуги, не обращая внимания на Уилла, стоявшего чуть поодаль. Заночевал он на сеновале в южной оконечности деревни; еды он не просил, зная, что деревенские жители и сами живут впроголодь, но какая-то старуха сжалилась и накормила его лепешками. На следующий день работники подкатили к развалинам телегу и нагрузили ее камнями, досками и щебнем – не пропадать же добру! Уилл снова провел ночь на сеновале, а наутро с изумлением увидел на месте хижин четыре пары волов, впряженные в тяжелые плуги. За день работники перепахали землю и общинный выпас, а потом обсадили участок боярышниковой изгородью. Так у Роберта Фореста появилось новое поле размером пять акров.
Подобные действия в дальнейшем стали называть огораживанием, а само изъятие земель приобрело необыкновенный размах. Превращение чересполосицы крестьянских наделов в барские поля и пастбища совершалось по-разному: иногда по договоренности, но чаще насильственным путем. Практика огораживания быстро распространилась по всей Англии, и даже на пастбищах Сарума случаи огораживания были нередки. Пострадал от него и юный Уилл Уилсон.
Жители Авонсфорда, понимая, что от юноши хотят избавиться, не стали ему помогать. Несколько недель он жил впроголодь, искал в окрестных усадьбах работу за прокорм и ночлег, попытался пойти в ученики к кому-нибудь из ремесленников в Солсбери, вот только без поручителей учеников не брали. Он пару дней чистил конюшни на постоялом дворе, но сбежал, когда хозяин поколотил его за нерасторопность.
Как быть дальше, Уилл не знал.
«В Саруме оставаться больше незачем, – печально думал он, вспоминая родной дом в долине Авонсфорда. – Ни семьи, ни двора… Может, попытать счастья в чужих краях?»
Поэтому апрельским утром он пришел в долину Авона, чтобы в последний раз полюбоваться на восход. Туман развеялся; в тихой воде покачивались длинные зеленые водоросли. Господский дом просыпался, по двору бродила прислуга. Когда исчезли последние полосы белесой дымки, лебеди, величаво взмахивая белыми крыльями, вернулись на свои гнездовья у реки.
Уилл вздохнул – с Авонсфордом он попрощался, осталось только зайти в Солсберийский собор, помолиться на дорогу и в последний раз взглянуть на высоченный шпиль, устремленный в небо над долиной.
Уходить из Сарума было тяжело. К тому же Уилл совершенно не представлял, куда идти. Вот уже неделю его терзали сомнения, что там и как, в неведомых чужих краях.
– Пойду в собор, попрошу совета у святого Осмунда, – пробормотал он.
На деревянном мосту через Авон, сразу за деревушкой, владелица особняка, откинув на плечи капюшон длинной черной накидки, безмолвно глядела на воду. Седые волосы волной ниспадали на спину.
Уилл замедлил шаг, но, вспомнив, что больше ему бояться нечего, уверенно двинулся вперед. «Мне теперь господа не указ», – решил он.
Женщина невозмутимо посмотрела на него.
Уилл недоумевал, что ей понадобилось на мосту в такую рань, но знатным господам закон не писан, стоит и стоит, а зачем – неведомо. «Хоть и старуха, а видно, что в молодости красавицей слыла», – удивленно подумал юноша.
Лиззи недавно минуло сорок лет, но выглядела она гораздо старше. К реке она ушла, потому что Роберт Форест, проснувшись на заре в дурном настроении, обругал и едва не избил жену. Лиззи надеялась, что с возрастом он подрастеряет свою злобу, но этого так и не случилось.
Она глядела на клочья тумана, тающие над особняком, и размышляла о превратностях жизни. Сказочное поместье, о котором в юности мечтала Лиззи Кертис, в действительности обернулось темницей, а то и пыточным подвалом. Увы, дни беззаботной юности давно миновали. Все мечты Лиззи сбылись – было и богатство, и роскошные наряды, и особняк, – но достались они слишком дорогой ценой.
Река неспешно струилась к заливу, широкой петлей огибала окраину города, бежала по отводным каналам на улицах, мимо дома, в котором прошло счастливое детство Лиззи. Бедняжке захотелось нырнуть в тихие воды, чтобы течение отнесло ее далеко-далеко на юг…
Она давно мечтала уйти от мужа, удерживали ее только сын и дочь – Роберт Форест ни за что на свете не позволил бы ей их забрать. Впрочем, с недавних пор и дети ее покинули: теперь, несмотря на жестокое обращение отца, они все чаще и чаще вставали на его сторону. Случилось это исподволь, незаметно. В раннем детстве при появлении отца дети искали защиты, опасливо жались к матери, на бледных личиках дрожали губы, в темных глазах плескался ужас. Всякий раз, как на Роберта накатывал очередной приступ ярости, дети прятались за юбками матери, цеплялись за ее подол.
А сейчас, когда дети подросли, Роберт всю свою злобу и жестокость обрушивал на жену. К удивлению Лиззи, ни сын, ни дочь и не подумали встать на защиту матери, лишь невозмутимо обращали к ней бледные, узкие лица и следили за ней, как кошки за мышью.
Дети своего отца в матери больше не нуждались.
К мосту шел юноша. Лиззи он показался знакомым, только имени его она вспомнить не могла. «Ах, это же сын бедняги Уилсона, которого Роберт выгнал из дома!» – с затаенной улыбкой сообразила она.
Неудивительно, что черты его лица казались ей знакомыми, – он походил на отца Роберта, Джона Уилсона, Паука. Много лет назад, впервые повстречавшись с отцом и сыном, она заподозрила родство, но упоминать об этом вслух не стала – недаром Роберт взял новую фамилию, Форест.
Юноша взошел на мост.
– Уилл Уилсон? – спросила Лиззи.
Он нерешительно кивнул.
– Что ты здесь делаешь?
– Ухожу из Авонсфорда, миледи.
– Уходишь? Насовсем?
Он снова кивнул:
– Ага. Мне в Саруме делать нечего.
– И куда же ты пойдешь?
– Не знаю.
– Как я тебе завидую, – с тоской прошептала Лиззи.
Уилл ошеломленно уставился на нее, решив, что владелица Авонсфорда повредилась рассудком. «Потому и на мост в такую рань вышла, наверняка топиться собралась, – подумал он. – Что ж, дело господское».
Глядя на удивленное лицо юноши, Лиззи звонко расхохоталась.
«Ну точно умом тронулась. Как бы на меня не бросилась!» – внезапно испугался Уилл.
– А как же твоя родня в Авонсфорде? – спросила Лиззи.
Уилл, не подозревая о скрытом смысле ее слов, коротко ответил:
– Все померли, миледи.
Она не стала настаивать, хотя ее несколько подбодрила нелепая мысль о том, чтобы представить Роберту неожиданно объявившегося родственника. Лиззи запустила руку в кошель на поясе, нащупала там золотую монету:
– Вот, возьми. Удачи тебе.
Уилл схватил монету и заторопился прочь по тропке, боясь, как бы безумица не передумала.
– Это же целое состояние! – изумленно бормотал он.
Лиззи смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом.
Уилл долго расхаживал по собору, восхищаясь стрельчатыми арками свода и яркими росписями в часовнях знатных особ, где священники ежедневно служили обедни. Ходили слухи, что вскоре построят и часовню для старого епископа Бошампа – его смерти ожидали со дня на день. Величие собора заставило Уилла остро ощутить собственное ничтожество. Гробница святого Осмунда сияла позолотой, переливалась яркими красками и ослепляла блеском самоцветных каменьев, сверкавших в солнечных лучах, льющихся сквозь разноцветные витражные стекла огромных окон; юноша приблизился к ней с благоговейным страхом.
– Сам Господь освятил это место своим прикосновением, – утверждал авонсфордский священник.
Уилл всем сердцем верил его словам, ведь здесь, в гробнице, лежали мощи святого, а всем известно, что святые мощи не поддаются тлену, источают благоухание и лучатся божественным теплом. Даже свет, льющийся на гробницу, обладает чудодейственными свойствами, олицетворяя Господне призрение.
– Припасть к гробнице – все равно что припасть к самим святым мощам, – заверил Уилла священник.
Прикосновение к гробнице святого даровало исцеление страждущим – таким чудодейственным свойством обладали все святые реликвии. В детстве Уилл своими глазами видел у паломника замысловатый ларец, в котором покоился кусочек проржавевшего железа.
– Это обломок гвоздя с Креста Господня, – заявил паломник и предложил Уиллу прикоснуться к ларцу.
Мальчик испуганно отпрянул – ему почудилось, что, притронувшись к ларцу, он коснется самого тела Христова и за такое кощунство Господь тут же его покарает. Святая реликвия еще долго являлась Уиллу во сне.
Подобные реликвии – частицы Животворящего Креста, пряди волос, кости и лоскуты одеяний различных святых – хранились почти в каждой церкви; на поклонение им приходили толпы паломников. Однако гробница епископа Осмунда своей святостью превосходила любые реликвии.
Уилл, опустившись на колени перед сверкающей гробницей, взмолился:
– О святой Осмунд, на тебя уповаю! Дай мне знамение, куда путь держать!
Он долго стоял на коленях, но так ничего и не дождался.
«Святой Осмунд обязательно пошлет знамение!» – наконец подумал Уилл и направился к выходу.
За воротами соборного подворья, на краю рыночной площади, он столкнулся с необычной процессией. Священник, два служки и шесть певчих с зажженными свечами торжественно ввели какого-то лысого старца во двор церкви Святого Фомы. Следом шли друзья и родственники старика, среди которых Уилл различил коренастую фигуру Бенедикта Мейсона, колокольных дел мастера. Певчие затянули псалом, а старик, облаченный в длинное одеяние грубой шерсти, как у бродячего монаха, и в сандалиях на босу ногу, медленно плелся за ними, низко склонив голову.
– Чего это они? – спросил юноша у какого-то зеваки.
– В затвор ведут, – ответил тот и, заметив недоуменный взгляд Уилла, охотно пояснил: – Старик решил стать отшельником, вот его в келью и провожают.
– А кто это?
– Евстахий Годфри.
Уилл никогда прежде о таком не слыхал и с любопытством уставился на старика.
Затворничество как особый вид подвижничества и служения Господу было весьма распространенным явлением в Средневековье. После мессы в церкви затворник принимал обет ухода из мира и облачался во власяницу, которую должен был носить до самой смерти, а потом его торжественно провожали в уединенную келью.
У северного входа церкви шествие остановилось. От недавно пристроенного крыльца на второй этаж уходила лесенка, ведущая в келью, где Евстахию полагалось провести остаток дней в молитве и размышлениях. Священники и служки, поднявшись по ступеням, благословили приют затворника. Дальнейшего мрачного обряда Уилл не видел.
Евстахия привели в келью, уложили на деревянный помост, служивший отшельнику ложем, скрестили руки на груди, как покойнику, и прочли над ним заупокойную службу. Один служка размахивал кадильницей, а второй держал мешочек, откуда священник зачерпывал пригоршни земли и рассыпал ее над телом Евстахия, а потом окропил его святой водой.
– Евстахий Годфри, ты умер для мира и жив во Христе! – торжественно провозгласил священник, вместе со служками вышел к лестнице и запер дверь в келью. – Евстахий Годфри удалился в затвор! – во всеуслышание объявил он. – Молитесь за его душу.
Впрочем, отшельничество Евстахия не было чрезмерно суровым. По правилам того времени любой, кто возжелал отойти в затвор, должен был не только убедить архидиакона собора в искреннем же лании уединиться для жизни духовной, но и доказать, что будущий отшельник располагает достаточными средствами для под держания условий своего существования. Келью ежедневно убирали, затворнику приносили еду, родственникам было позволено его навещать. Затворничество в Англии – добровольное заключение для молитвы и очищения ума благодатью – особой строгостью не отличалось.
Евстахия затворничество вполне удовлетворяло, он готов был прожить в келье остаток своих дней. Решение это пришло к нему постепенно. Подобно своим предкам, считавшим своим долгом во что бы то ни стало добиться успеха в ратном деле, будь то на поле брани или на ристалище, Евстахий Годфри пытался исполнить свой долг – добиться успеха в торговых делах. Увы, все его старания оказались напрасны. Двадцативосьмилетнюю красавицу-дочь с большим трудом удалось выдать замуж за пожилого крестьянина из Таунтона; брак их был бездетным. Оливер так и не стал юристом или парламентским представителем – он жил в скромном доме в квартале Кабаний Ряд, без особого успеха приторговывал шерстью и слишком много пил. Евстахий продолжал вкладывать деньги в рискованные предприятия, стараясь хоть немного поправить положение семьи. Когда отношения Англии с торговцами Ганзейского союза обострились, Годфри вложил половину своего состояния в предприятие со скандинавским купцом, но в 1474 году Англия заключила мирный договор с Ганзой, торговля с Германией возобновилась, а Евстахий разорился.
От этого потрясения Годфри так и не оправился, а потому решил всецело посвятить себя жизни духовной, для чего каждый день истово посещал мессы и перечитывал богословские труды Фомы Кемпийского, Юлиании Норвичской и мистическое сочинение «Облако незнания». К концу года он заявил, что больше не желает обитать в доме у ворот Святой Анны.
– Я хочу удалиться от мирской суеты, – объяснял он детям.
Поступок его особого удивления не вызвал – в те времена отшельников хватало в каждой епархии. Из безземельного дворянина Евстахия Годфри купца не вышло, оставалось только уповать на то, что Господь, как истинный христианский джентльмен, молчаливо примет страждущего в свои объятия. После ухода священника Евстахий медленно встал и впервые за много лет улыбнулся – вот оно, счастье!
Бенедикт Мейсон пристально следил за торжественным обрядом. Колокольный мастер, раздобревший на склоне лет, полагал Годфри образцом праведности и верил, что между ними существует незримая, но прочная связь, поэтому и счел своим долгом присутствовать при воздвижении Евстахия в затвор. На рыночную площадь Мейсон явился в своем лучшем наряде – в алом дублете и ярко-синих чулках-шоссах, что делало его похожим на откормленного индюка. Он истово крестился в церкви и с немым укором смотрел на зевак, которые не проявляли должного рвения.
После того как Годфри заперли в келье, колокольных дел мастер немного постоял у двери, а потом вернулся в церковь, чтобы еще раз полюбоваться настенными росписями.
Уилл последовал за ним.
Весь город по праву гордился новой церковью Святого Мученика Фомы. Йорки и Ланкастеры все еще оспаривали друг у друга престол. Богатейший вельможа Англии, Ричард Невилл, граф Уорик и Солсбери, прозванный «творец королей», поддерживал то одну, то другую сторону в междоусобных распрях, а вот жители Солсбери невозмутимо отправляли людей и деньги обеим сторонам. Могущественные феодалы тем временем убивали друг друга. Недавно погиб брат короля Эдуарда IV, Георг Плантагенет, герцог Кларенс, владевший огромным имением близ Уордура, в пятнадцати милях к западу от Солсбери. По слухам, его утопили в бочке мальвазии. Самый млад ший брат, горбун Ричард, герцог Глостер, которому теперь при надлежала бо́льшая часть обширных владений графа Солсбери, упорно держался в тени. Впрочем, горожанам до всех этих вельмож дела не было.
Король Эдуард IV, представитель династии Йорков, владел богатейшими землями и в деньгах не нуждался: казну его исправно пополнял Людовик XI Благоразумный, который согласился платить огромные отступные за то, чтобы Англия не пошла войной на Францию. Жителей Солсбери это вполне устраивало – богатый король парламентов не созывал и новых налогов не требовал.
Процветанию и благоденствию Сарума не помешала даже десятилетняя тяжба Джона Холла с епископом. Епископ оставался фео дальным сеньором Солсбери, но с этим горожане смирились, а больше их никто не трогал.
Церковь Святого Мученика Фомы Бекета услаждала взор жителей города – в ней была и роскошная часовня братства Святого Георгия, и часовни знатных горожан, и превосходная молельня гильдии портных. Другие приходские церкви тоже свидетельствовали о богатстве местных торговцев и ремесленников, но церковь Святого Фомы намного превосходила их роскошью. В ней было двадцать священников, шестнадцать диаконов, десять иподиаконов, десять поминальных чтецов – в общей сложности почти шестьдесят человек на три тысячи прихожан. Богослужения шли непрерывно, свечи горели с утра до вечера.
Новую церковь, выстроенную в так называемом вертикальном готическом стиле, украшали тонкие стрельчатые арки и широкие окна. Сводчатые потолки, хотя и не такие изящные, как веерные своды часовен Итона и Королевского колледжа в Кембридже, поддерживали деревянные стропила, с которых улыбались пухлощекие ангелочки. Стены покрывали яркие росписи – гирлянды цветов, гербы местной знати, алые георгиевские кресты и символы гиль дий. Здесь всегда проходила церемония назначения мэра, а члены городского совета занимали на церковных скамьях самые почетные места.
Совсем недавно была завершена великолепная фреска, занимавшая всю заалтарную арку, – изображение Страшного суда, устрашающее своей выразительностью.
Фреска весьма напугала Уилла, неграмотного юношу, воспитанного в христианской вере маловразумительными проповедями деревенского священника и полуязыческими мистериями, которые разыгрывались в балаганах на Рождество, – там дьявола и грешников изображали фигляры, напоминая зрителям о карах Божиих. Разглядывая яркие изображения, Уилл Уилсон ничуть не сомневался, что перед ним – истинная картина Страшного суда. Со стены над хором взирал Христос, с распростертыми руками восседающий на радуге, которая взошла над стройными башнями Града Небесного. О правую руку Спасителя ангелы поднимали усопших из могил и провожали их либо в рай, либо под левую руку Христа, в ад, где грешников встречал жуткий дьявол с разинутой пастью. Уилл невольно содрогнулся, вспомнив, как на Троицу они с отцом пришли в церковь Святого Эдмунда, куда внесли огромное полотнище с изображением танцующего скелета – зловещим напоминанием о неизбежной смерти. Вот и он, Уилл Уилсон, скоро умрет и прямиком отправится в ад за свои прегрешения.
Юноша с благоговением обратил взор на святого Осмунда, изображенного на краю фрески, и, вознеся молитву, торопливо вышел из церкви.
Бенедикт Мейсон, колокольных дел мастер, фрески Страшного суда не боялся, считая, что чем ярче раскрашен храм, тем лучше. В церковь Святого Фомы он пришел, чтобы еще раз полюбоваться окном на южной стене, а точнее, нижней правой его частью, где неделю назад установили скромный дар семьи Мейсон – примерно ярд витражного стекла. Уилл Уилсон, пораженный роскошным убранством церкви, не обратил внимания на окно, но Бенедикт с гордостью взирал на изображение святого Христофора, благословляющего две крохотные фигурки, в которых, приглядевшись, можно было распознать колокольных дел мастера и его жену. По кромке витража вилась замысловатая надпись готическим шрифтом:
GLORIA DEI. BENEDICT MASON ET UXOR SUIS MARGERI[37].
Разумеется, этот скромный дар, как и ежегодные приношения шерсти, свечного воска и сыра, не шел ни в какое сравнение с щедрыми пожертвованиями богатых купцов и знатных горожан, и все же колокольных дел мастер удовлетворенно вздохнул – теперь о нем будут помнить вечно.
О том, что его предок Осмунд Масон создал прекрасную резьбу в соборе, Бенедикт Мейсон не подозревал, а потому с гордостью заявил жене:
– Я первым в нашем роду оставил о себе памятку.
Юного Уилла Уилсона он даже не заметил.
Уилл брел мимо заброшенной крепости на холме в Олд-Саруме. На западе грозно вздыбились черные тучи, но юношу они не пугали. Он по-прежнему не знал, куда податься, и с нетерпением ждал, когда святой Осмунд пошлет ему знамение.
Лучи солнца лились сквозь сизую пелену облаков, внезапно затянувших небо, наполняя долину тревожным огненным сиянием. Сгустившийся воздух дрожал от напряжения, предвещая грозу.
Взору Уилла предстала бесконечная череда холмов Солсберийской возвышенности. На ближних склонах расчищенные участки перемежались с зеленеющими полями, а вдали, по серо-зеленым грядам, похожим на застывшие волны, бесчисленными белыми точками рассыпались стада овец.
Небо тяжело нависло над землей, будто вот-вот схватит взгорье невидимыми ладонями и затрясет что есть мочи.
У древнего дуна Уилл остановился: одинокий странник, жалкий сирота, ни друзей, ни дома, ни родных, за душой – два шиллинга золотом. Длинные тонкие пальцы покрепче сжали узловатую ветвь, служившую ему посохом; прищуренные глаза смотрели на грозовые тучи, неумолимо подбиравшиеся к взгорью. Сейчас Уилл мало чем отличался от своих далеких предков, первобытных охотников и рыбаков, некогда населявших долину пятиречья. Он все еще не знал, куда ему податься.
Внезапно узкое бледное лицо осветила широкая улыбка.
Грозы Уилл не боялся. Апрель выдался теплым, а если дождем замочит, то ничего страшного, одежда на ходу высохнет. А на пустынном и с виду неприветливом взгорье всегда найдется, где переждать непогоду, – есть овечьи загоны, крестьянские подворья, деревушки и селения, где можно подыскать работу за прокорм и ночлег; не стоило забывать и о многочисленных монастырях и аббатствах – монахи всегда приютят и накормят усталого путника.
Святой Осмунд наверняка пошлет знамение; главное – дождаться. Впрочем, в глубине души Уилл знал, что обязательно выживет. Что ж, настало время делать выбор. Можно пойти на северо-запад, к Брэдфорду или Троубриджу, наняться там валяльщиком на сукновальню. Путь на запад через несколько дней приведет к реке Северн и дальше, в Бристоль. Если отправиться на восток, то доберешься до Винчестера, Саутгемптона, а то и до самого Лондона… «Нет, Лондон слишком далеко», – с сожалением вздохнул Уилл. Как бы то ни было, в Сарум он больше не вернется.
– Пойду в Бристоль, – наконец решил он, сворачивая на дорогу, ведущую на запад.
В те времена дорогой в Англии называли любую нахоженную тропу, утоптанную людьми, копытами волов и коней или укатанную колесами возков и телег; в болотистых местах тропы расширялись на сотни ярдов – путники искали местечки посуше, – а на крутых откосах сужались так, что идти было можно только гуськом. Иными словами, средневековые английские дороги ничуть не отличались от троп, проложенных первобытными обитателями острова.
Гроза настигла одинокого путника в миле от древнего дуна, на краю последнего возделанного поля.
Обычных гроз Уилл нисколько не боялся – в темном небе вспыхивали зарницы, в черных тучах сверкали молнии, гулкие удары грома сотрясали воздух, и долгожданные струи дождя заливали взгорье. Земля, стосковавшись по влаге, благодарно отдавалась яростной стихии, которая, отбушевав, уходила на юг, к далеким холмам или в лесистые долины. Такие грозы юноша любил; его восхищали и яркие вспышки молний, и тяжелое громыхание в небесах, и бурные мутные потоки, сбегавшие с меловых холмов в долину.
Однако изредка над Сарумом проносились грозовые бури, и сейчас, застигнутый посреди пустынной равнины, Уилл едва не погиб. Гроза буйствовала целый час. Казалось, кипящая гневом чаша небес рухнула на взгорье, молнии вспыхивали непрерывно, а грохочущая канонада грома не прекращалась ни на миг. Смоляные тучи клубились зловещим водоворотом, заливая взгорье яростно бурлящими потоками; земля дрожала под ногами, сотрясаясь от мощного напора стихии.
– Господи, спаси и сохрани! – в отчаянии вскричал Уилл. – Матерь Божия, помоги!
На святого Осмунда в золоченой гробнице уповать было бесполезно.
Зазубренные стрелы молний сверкающими пучками пронзали землю, словно буря пыталась отыскать и уничтожить самого Уилла. В полумиле от него паслось стадо – перепуганные овцы жались друг к другу. Может, подобраться к ним поближе? Увы, за пеленой ливня юноша не разбирал дороги. Гроза продолжала бушевать, гулко бухали громовые раскаты, ослепительные молнии с треском разрывали небо на части. Уилл по-щенячьи припал к земле и вжался в грязь лицом.
Яростный грохот прозвучал над самой головой, сверкающее копье молнии вонзилось в содрогнувшуюся почву, и тут случилось чудо.
Молния, ударив в двадцати шагах от Уилла, рассекла поле ровной огненной дорожкой. Юноша остолбенел – на его глазах огонь угас, оставив посреди зеленеющих всходов широкую выжженную полосу, уходящую строго на восток.
Внезапно буря стихла, гроза откатилась к дальним грядам, ливень сменился моросящим дождем. Уилл осторожно поднялся и с опаской поглядел на черный след, ровнехонько разрезавший поле. «К чему бы это?» – подумал юноша, не догадываясь ни о римских завоевателях, ни о забытом поселении Сорбиодун, ни о вилле Портиев, ни о том, что как раз под этим полем пролегала древняя римская дорога, ставшая своего рода проводником для электрического разряда молнии.
Уилл долго стоял на краю поля, забыв о грозе, и глядел на дымящуюся черную черту, указывающую на восток.
– Матерь Божия, это же знамение! Святой Осмунд мне знамение послал! – ошеломленно воскликнул он.
Значит, надо идти не на северо-запад, в Бристоль, а на восток.
– Пойду в Лондон, – решительно произнес Уилл.
Новый мир
1553 год
Нарождающийся славный новый мир был весьма опасным местом для людей совестливых.
Апрельским утром Эдвард Шокли стоял в толпе прихожан церкви Святого Фомы и следил за Абигайль Мейсон и ее мужем Питером, занятыми богоугодным делом. Впрочем, Шокли не отпускало ощущение, что семейству Мейсон, особенно Абигайль, грозит бе да, несмотря на то что к подобным поступкам благосклонно относились и епископ Джон Солкот, и мировые судьи, и даже сам король.
Супруги Мейсоны ревностно выламывали окно в церкви. Абигайль, в темном домотканом платье, невозмутимо швыряла на пол витражные стекла, которые добродушный, круглолицый Питер разбивал молотком, заискивающе поглядывая на жену.
– Во славу Господню стараемся, – время от времени возглашала она, устремив вдаль невидящий взор.
Абигайль Мейсон, в отличие от прочих обитателей Сарума, точно знала, как следует жить. Эдвард Шокли весьма завидовал неколебимой силе ее убеждений.
– Абигайль верой крепка, она лгать не станет, – пробормотал он, уныло потупившись и коря себя за слабость.
Витражное окно – скромный дар Бенедикта Мейсона – продержалось так долго лишь потому, что королевские чиновники его не приметили, а поскольку потомки рода Мейсонов еще жили в Са руме, Питер, из страха обидеть кого-то из родственников, не стал настаивать на уничтожении витража. Однако Абигайль не оставляла мужа в покое и многократно напоминала ему об окне. Возражать ей побоялись, и вот сегодня богоугодное дело свершилось.
Абигайль не обращала внимания на прихожан. Суровые темно-карие глаза на бледном изможденном лице придавали ей одухотворенный вид. Эдварда странным образом притягивала ее смелость и настойчивость; впрочем, наверняка это было грешным влечением. Шокли отвернулся и обвел взглядом церковь.
Церковь Святого Мученика Фомы за последние годы совершенно переменилась; теперь ее даже именовали иначе. Король Генрих VIII объявил Фому Бекета, невинноубиенного мученика епископа Кентерберийского, не святым, а бунтовщиком, а потому церковь у рыночной площади теперь носила имя святого апостола Фомы. Однако самые большие изменения произвел наследник Генриха, юный король Эдуард VI. Статую святого Георгия сбросили с пьедестала и разбили на куски, с каменных стен стесали замысловатую резьбу и барельефы, разрушили часовни Суэйна и гильдии портных, а их деньги отобрали в казну. Из церкви вывезли драгоценные ларцы и ковчеги с мощами, а также двести пятьдесят фунтов медного и бронзового лома – на целых тридцать шесть шиллингов – и огромное количество витражного стекла. Молельни гильдий и усыпальницы богатых торговцев снесли во имя истинного Господа и даже фреску с изображением Страшного суда замазали толстым слоем извести.
– В Доме Божием проклятым папистским идолам не место, – говорили работники, которых послали на расчистку.
Повсюду происходило одно и то же. Церковь Святого Эдмунда опустела, а братство Мессы Святейшего Имени Иисусова разогнали. Однако самые ужасные разрушения постигли собор: службы в молельнях епископа Бошампа и лорда Хангерфорда прекратились, в королевскую казну отправили две тысячи фунтов золотой и серебряной церковной утвари, с гробницы святого Осмунда ободрали позолоту и самоцветные камни, а саму гробницу разрушили. Богато изукрашенные алтари заменили простыми столами, молитвы читали не на латыни, а по-английски, избавились даже от служек, зажигавших свечи. Не добрались пока только до витражей в окнах собора, однако никто не сомневался, что за этим дело не станет.
Ибо так повелел юный король Эдуард VI, ревностный хранитель протестантской веры.
В Сарум пришла Реформация.
Удрученный Эдвард Шокли вышел из церкви Святого Фомы и медленно побрел по городу, с сожалением вспоминая испуганные глаза пятилетней дочери Селии, обиженное лицо жены, ее горькие рыдания…
Он сам во всем виноват.
Реформация сделала его лжецом.
Никто в Саруме и не предполагал, что король из династии Тюдоров станет ярым протестантом и сторонником Реформации.
После гибели Ричарда III, последнего короля из ненавистной династии Йорков, власть захватили Тюдоры, одержавшие в 1485 году победу в битве при Босворте. Генрих VII, всеми силами желая сохранить престол, установил в стране абсолютистскую монархию, впрочем свято соблюдая традиции, дабы не подрывать устоев. Потомок внебрачного сына жены Генриха V, Екатерины Валуа, строго говоря, обладал весьма шаткими правами наследования, да и то по материнской линии (мать его, леди Маргарита Бофорт, происходила из рода Ланкастеров), и, чтобы укрепить свое положение, женился на Елизавете Йоркской, старшей дочери короля Эдуарда IV и сестре Эдуарда V. Английские феодалы, ослабленные затяжными войнами Алой и Белой розы, поневоле смирились с властью Тюдоров, выстроивших сильное централизованное правительство и надежную судебную систему, высшим органом которой стала Звездная палата.
Генрих VII утвердился во власти, а после его смерти трон занял его сын и наследник Генрих VIII – юноша одаренный и высокообразованный, поэт, музыкант и танцор, охотник и воин. Он остановил вторжение шотландцев в битве при Флоддене, разгромил французов в сражении при Гинегате и триумфально провел встречу с королем Франции Франциском I на Поле Золотой парчи, поразив всех не только роскошью и богатством облачения, но и изысканнейшими манерами.
Во всем, что касалось веры и религиозных убеждений, он строго следовал традициям и даже написал несколько богословских трактатов, возвеличивавших власть Церкви, за что благодарный папа Лев Х удостоил его титула Fidei defensor, «защитник веры». Жена его, Екатерина Арагонская, была дочерью короля Испании Фердинанда II, ярого католика, и теткой Карла, императора Священной Римской империи. Англия оставалась верна Римской церкви, хотя в Германии к тому времени зародилось протестантство, Мартин Лютер начал свое гневное выступление против засилья католичества, и даже Эразм Роттердамский, великий гуманист, обличал нравы Римской курии.
Разумеется, истинными католиками были и все обитатели Сарума. Томас Вулси, влиятельный советник Генриха VIII, передал епархию Солсбери епископу Лоренцо Кампеджо, папскому легату. В свои английские владения итальянский кардинал наведывался редко и к делам Сарума особого интереса не проявлял. Собор пришел в запущение, в нем остался всего десяток певчих, но это никого не волновало – главное, что Сарум и Англия по-прежнему блюли католическую веру. Генрих VIII и Томас Вулси сжигали на кострах и лютеранские трактаты, украдкой привезенные в Англию, и Евангелие, переведенное Уильямом Тиндалем на английский язык, а кар динал Кампеджо писал королю из Рима: «Деяния ваши весьма угодны Господу».
Реформация вторглась в жизнь Англии и Сарума по странному стечению обстоятельств. За двадцать лет супружеской жизни королева Екатерина Арагонская родила Генриху четверых сыновей и трех дочерей, однако все дети, кроме Марии, умерли в младенчестве. Единственным сыном короля был незаконнорожденный Генри Фицрой, герцог Ричмонд. Генриху срочно требовался законный наследник мужского пола.
Можно предположить, что Сарум стал оплотом протестантства в пику епископу Кампеджо, который сыграл важную роль в так называемом великом деле короля. Поначалу хитроумный папский легат предложил женить герцога Ричмонда на сводной сестре Марии, дабы он таким образом унаследовал престол, – замысел, вполне достойный современника Кампеджо кардинала Никколо Макиавелли. Затем Генрих потребовал от папы Климента VII признать недействительным брак с Екатериной Арагонской, но понтифик, чувствуя, что оказался в весьма щекотливом положении, поручил заняться рассмотрением дела кардиналам Вулси и Кампеджо. На политической арене Европы сложилась напряженная ситуация: король Франции Франциск I и император Священной Римской империи Карл V Габсбург, племянник Екатерины Арагонской, вступили в борьбу за Северную Италию. Империя Карла V простиралась от Испании до Нидерландов, а его войска, ворвавшись в Рим, разорили город и держали в осаде замок Святого Ангела, где укрылся Климент VII. Иными словами, если бы папа согласился удовлетворить требование Генриха, то не только выставил бы себя на посмешище, но и прогневил бы могущественного Карла V.
Однако Лоренцо Кампеджо, епископ Солсберийский, нашел ловкий выход из сложной ситуации. Пока кардинал Вулси пытался успокоить донельзя раздосадованного короля Генриха, папский легат тянул время и пристально следил за развитием событий в Италии. Как только выяснилось, что Северная Италия покорилась императору Карлу V, папа римский лично приступил к рассмотрению великого дела короля и отказал Генриху в расторжении брака. Вулси впал в немилость, а обозленный Генрих решил разорвать связь с Римской католической церковью.
Неизвестно, как бы сложилась история Англии, если бы епископ Солсберийский не увиливал от своих обязанностей и признал брак короля недействительным, – вполне возможно, что англичане сохранили бы римскую католическую веру.
Шокли до сих пор невольно вздрагивал, вспоминая годы правления Генриха VIII. Разрыв с Римской церковью привел к усилению абсолютной власти монарха, который провозгласил себя не только владыкой королевства, но и главой Церкви. Иначе говоря, Генрих VIII стал одновременно и королем, и папой, возведя себя в статус, дотоле немыслимый для средневековых правителей. Редкие смельчаки, пытавшиеся выразить свое недовольство, – как, например, канцлер Томас Мор – были незамедлительно казнены, поскольку Генрих возражений не терпел. Он женился на Анне Болейн, которая родила ему дочь, а потом, обвиненная в супружеской измене, сложила голову на плахе. Следующая жена, Джейн Сеймур, подарила королю долгожданного сына, но умерла от родильной горячки. Неудачный брак короля с Анной Клевской вскоре был расторг нут, а новую жену, Екатерину Говард, постигла участь Анны Болейн. Жены Генриха VIII чередой появлялись на сцене истории, будто жертвы, ведомые на заклание.
И все же в страшные годы правления Генриха VIII жизнь в Саруме особых изменений не претерпела. Король, объявив о разрыве с Римской церковью, в душе оставался добрым католиком, хотя и благоволил тем приближенным, которые переходили в протестантскую веру. Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский, благословивший брак короля с Анной Болейн, провел ряд церковных ре форм, изгнал кардинала Кампеджо из Сарума и назначил епископом Солсберийским Николаса Шекстона, бывшего духовника Анны; соседней епархией по-прежнему заправлял Стивен Гардинер, епис коп Винчестерский, сохранявший католическую веру.
Реформы Шекстона в Саруме свелись к удалению из храмов многочисленных реликвий – священных прядей волос, обрезков ногтей, щепок и обломков костей; не поощрялось также и возжигание свечей или коленопреклоненные молебны перед образами святых. Впоследствии Генрих, обеспокоенный чрезмерным усилением протестантских веяний в стране, вновь предпочел следовать католической доктрине и издал знаменитый Акт о шести статьях, направленный против сторонников Реформации, неисполнение которого приравнивалось к государственной измене. Акт, за предусмотренные в нем жестокие наказания, прозвали «кнутом о шести бичах». Шекстон, епископ Солсберийский, немедленно подал в отставку. Когда же король запретил священникам вступать в брак, бедняге Томасу Кранмеру пришлось расстаться с женой, отправив ее в Европу.
Иными словами, Английская церковь во всем придерживалась католических обрядов, вот только главой ее считался не папа римский, а король. Генрих, стремясь уравнять в правах Английскую и Римскую церковь, настаивал на обязательности веры в пресуществление Святых Даров во время мессы и грозил отправить на костер всех, кто не желал соглашаться с этим основным положением католической доктрины.
Впрочем, кое-что в Саруме изменилось.
Во-первых, по королевскому повелению начался роспуск монастырей. Вначале были упразднены мелкие обители. Эдвард Шокли помнил, как выгоняли францисканцев из обители серых братьев у ворот Святой Анны, как выносили кресты и нехитрый монашеский скарб. В последующие годы распустили монастырь в Эймсбери и Уилтонское аббатство. Роспуск монастырей пополнял обедневшую королевскую казну и давал Генриху возможность щедро награждать своих сторонников. Монастырские владения Эймсбери, к северу от Сарума, отошли семейству Сеймур, а богатейшие угодья Уилтонского аббатства, простиравшиеся в западной стороне, достались Уильяму Герберту, графу Пемброку, влиятельному королевскому со ветнику, прилагавшему все силы к тому, чтобы возвеличить свой род.
Второе изменение, менее заметное, привело к весьма существенным последствиям. При епископе Шекстоне все приходские церкви обзавелись печатными Библиями на английском языке, переведенными Майлзом Ковердейлом и Уильямом Тиндалем, однако же в конце своего правления Генрих, вновь укрепившийся в католичестве, издал указ, запретивший низшим сословиям и женщинам читать Священное Писание на английском языке; чтение Библии вслух позволялось только знатным господам, да и то в кругу семьи.
Однако запреты эти появились слишком поздно – Слово Божие, однажды прозвучав по-английски, глубоко проникло в сознание мирян, и даже королю было не под силу с этим бороться.
Читал Библию и Эдвард Шокли.
Все его беды начались со лжи.
А в том, что он солгал, была повинна любовь.
Поначалу ложь казалась невинной. Эдвард Шокли и Кэтрин Муди были прекрасной парой, даже родители девушки это признавали. После помолвки старый Джон Шокли, отец Эдварда, смеясь, заметил, что молодые люди самой судьбой предназначены друг другу. Эдвард, светловолосый и синеглазый, отличался необычайной уверенностью в себе, а Кэтрин, с пышными русыми волосами и бледно-голубыми глазами, славилась добронравием и покорностью.
Познакомились они за два года до смерти Генриха VIII, в Эксетере, куда Эдвард приехал по делам. Молодые люди сразу понравились друг другу. Немного погодя выяснилось, что отец девушки – торговец тканями и что семнадцатилетняя Кэтрин с братом унаследует отцовское дело. Двадцатидвухлетний Эдвард понял, что влюбился.
Основная трудность заключалось в том, что семейство Муди исповедовало католическую веру. Эдварда это нисколько не удивило: в Уэссексе, особенно в деревенской глуши, люди не любили менять привычный образ жизни и придерживались старинных традиций. Торговец с семьей жил в деревне к западу от Эксетера, обитатели которой мечтали о воссоединении Англии с Римской церковью.
В то время Эдвард не придал этому особого значения. Его родители с неохотой примирились с королевским указом о разрыве с Католической церковью, но протестантами не стали – во многих церквях Уилтшира богослужения все еще отправляли по римскому обряду, а Джон Шокли однажды во всеуслышание назвал епископа Шекстона еретиком.
Сам Эдвард полагал, что главное – послушно блюсти ту веру, которая угодна королю. В глубине души он склонялся к протестантству и разделял взгляды Кранмера и Шекстона на излишнюю роскошь; вдобавок чтение Библии на английском пришлось ему по нраву, однако вступать в споры об этом с будущим тестем он не желал.
Эдвард Шокли хорошо помнил, как пришел к Уильяму Муди просить руки его дочери.
– Мы добрые католики, и дочь свою я отдам только единоверцу, – предупредил торговец.
– Мои родители – тоже католики, – честно признался Эдвард, потупив взор. – Разрыв с Римской церковью им не по душе.
Уильям пристально поглядел на юношу и заметил:
– В Саруме реформы провели.
– Да, при Шекстоне, – согласно кивнул Эдвард. – Но теперь король прислал к нам епископа Солкота, он свято блюдет Акт о шести статьях.
Джон Солкот, нынешний епископ Солсберийский, монах-бенедиктинец, снискал благоволение Генриха VIII именно своей готовностью ревностно исполнять любые королевские повеления.
– А ты сам отвергаешь протестантскую доктрину? – осведомился Уильям Муди, укоризненно склонив лысую голову. – Поклянись, что ты добрый католик, иначе ваш брак счастливым не будет.
Эдвард представил себе Кэтрин – застенчивая улыбка, тонкая девичья фигурка, смиренная покорность – и, глядя в глаза торговца, уверенно произнес:
– Я католик, и родные мои исповедуют католическую веру.
Он солгал, хотя нисколько не сомневался ни в своей любви, ни в ответном чувстве девушки, всецело полагаясь на покорность и смирение будущей жены.
Свадьбу сыграли три месяца спустя.
Молодожены переехали в дом неподалеку от особняка Шокли. Первый год семейной жизни был счастливым. Дни Эдварда проходили в делах, а ночи были исполнены блаженства. Каждый вечер, возвращаясь домой, он садился ужинать, а потом они с женой, дрожа от нетерпения, уходили в опочивальню. Кэтрин, прекрасная хозяйка, умело обустроила дом, а затем, исполнившись уверенности в себе, начала страстно отвечать на ласки мужа.
В тот год в доме Эдварда Шокли о вере разговоров не заводили. Супруги ходили к мессе в собор или в приходскую церковь – и то и другое Кэтрин вполне устраивало. Иногда по вечерам Эдвард читал английскую печатную Библию, что немного беспокоило жену, но, памятуя о королевском позволении, с мужем она не спорила.
Он обращался с ней ласково, а она его обожала.
События 1547 года изменили жизнь супругов Шокли. После смерти Джона Шокли Эдвард перевез мать поближе к дому и нанял ей сиделку, а сам в одиночку заправлял семейным делом. С женой он теперь проводил меньше времени, но Кэтрин не жаловалась – к тому времени выяснилось, что она ждет ребенка. Ни Эдвард, ни его жена не подозревали, что вскоре их жизнь переменится к худшему.
Самым главным событием 1547 года стала смерть короля Генриха VIII. Престол унаследовал его сын, Эдуард VI, отрок весьма богобоязненный. Регентом и лордом-протектором юного государя стал сначала его дядя, Эдвард Сеймур, герцог Сомерсет, а потом Джон Дадли, герцог Нортумберленд. Малолетний король прислушивался к советам своих доверенных лиц, среди которых были Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский, и Уильям Герберт, граф Пемброк, а также проявлял немалый интерес к делам государства и, будучи убежденным протестантом, возобновил Реформацию в Англии.
Джон Солкот, епископ Солсберийский, еще недавно ревностно исполнявший все повеления Генриха VIII, в одночасье превратился в сурового приверженца протестантской веры, стараясь заслужить милость юного монарха.
За пять лет из Сарума исчезли все признаки католичества – часовни, заупокойные службы, алтари, статуи святых, позолота, мессы и семь ежедневных молебнов. Теперь церковные службы отправляли дважды в день, а причастие совершалось раз в месяц. Литургию по сарумскому чину, излюбленную Генрихом VIII, в епархии архиепископа Кентерберийского служить перестали; для богослужений пользовались Книгой общих молитв, составленной Томасом Кранмером, однако некоторые по-прежнему, хотя и втайне, отдавали предпочтение загадочному звучанию молитв на латыни. Стивена Гардинера, епископа Винчестерского, бросили в темницу, а священникам позволили вступать в брак и признали их детей законными.
Эдвард Шокли, с головой погруженный в дела, поначалу не обращал внимания на эти перемены, но вскоре его охватило смятение. Он с сожалением взирал на разоренные храмы и разрушенные часовни, однако проповеди протестантских священников часто вызывали восхищение, а молитвы на английском языке услаждали слух ясным, мелодичным звучанием. Эдвард невольно пришел к заключению, что протестантство во многом лучше косных католических обрядов, и, сочувствуя Томасу Кранмеру, начал украдкой читать протестантские трактаты, привозимые в Англию из Европы.
Кэтрин Шокли с глубоким отвращением восприняла перемены. Эдвард сознавал, что жена его – добрая католичка, но не предполагал, что протестантские реформы юного короля приведут ее в ужас. Она отказывалась приближаться к скромным деревянным столам, заменявшим протестантам алтарь, и рыдала, глядя, как разбивают статуи святых и ломают часовни в церкви Святого Фомы. Теперь, возвращаясь домой, Эдвард заставал жену в слезах, ревностно перебирающей четки. За ужином она всякий раз спрашивала мужа:
– Как нам жить дальше?
Кэтрин писала отцу длинные письма, но в ответ получала строгие наставления: исповедовать католичество втайне, крепко держаться веры и во всем полагаться на мужа, доброго католика.
Только сейчас Эдвард до конца осознал смысл давнего предупреждения тестя, однако изменить ничего не мог. Поначалу он советовал жене смириться и терпеть, всецело уповая на волю Господа, а иногда, глядя на ее страдания, пытался шутить, но шутки растревожили ее до такой степени, что Эдвард испугался за будущего ребенка. Вскоре ему пришлось убеждать жену в своей приверженности католической вере и объяснять, почему сейчас это лучше скрывать. Кэтрин с робкой надеждой взирала на мужа, ожидая утешения и одобрения, однако в глубине души Эдвард понимал, что этого недостаточно.
– Ах, вот священник бы мне помог! – огорченно вздыхала Кэтрин, чем весьма раздражала Эдварда.
Он, напустив на себя суровость, напоминал ей, что долг жены – во всем повиноваться мужу, особенно сейчас, в смутное время. Жизнь его принимала весьма странный оборот: Эдварду Шокли при ходилось делать вид, что он блюдет протестантские постановления, которым все больше верил в глубине души, однако дома, дабы развеять тревогу жены, он должен был вести себя как тайный католик.
После рождения дочери Эдвард вздохнул с облегчением, надеясь, что с терзаниями покончено и молодой матери будет не до религии. Он с удивлением заметил, что часто помыкает безропотной женщиной, и стал задумываться, приятно ли ему ее общество, хотя по-прежнему наслаждался супружескими утехами и верил, что искренне любит жену.
Когда Селии исполнился год, в отношениях супругов возникла некоторая напряженность, постепенно переросшая в отстраненную холодность. Наверное, в этом был повинен сам Эдвард, который сначала добродушно подшучивал над послушанием жены, а потом начал укорять ее и изводить едкими насмешками над католическими догматами или святыми реликвиями. Кэтрин растерялась, пытаясь сообразить, к чему относятся язвительные замечания мужа – к ней самой или к ее вере. Неужели он ее разлюбил? Или намекает, что больше не исповедует католичество?
По молодости лет Эдварду доставляло удовольствие наблюдать за смятением жены. Спустя несколько месяцев она стала подозрительно поглядывать на мужа, а однажды, набравшись смелости, спросила без обиняков:
– Ты католик или нет?
Эдвард заверил ее, что от веры не отступит. Кэтрин недоверчиво покосилась на него, однако промолчала, затаив обиду.
Теперь Эдварду казалось, что он постоянно ощущает недоверие жены, даже по ночам, в супружеской постели; спустя несколько месяцев он с удивлением обнаружил, что охладел к супруге. Кэтрин оставалась послушной и верной женой, однако Эдвард подозревал, что ее любовь остыла. Иногда он заверял ее в том, что не отступил от католической веры, и тогда прежнее чувство ненадолго вспыхивало с новой силой, хотя супруги все еще терзались сомнениями.
Родным о своих подозрениях Кэтрин не рассказывала, не желая выставлять мужа клятвопреступником. Впрочем, в последнее время супруги жили мирно и почти счастливо. Кэтрин снова затяжелела, но ребенка выносить не смогла. Селию тайно воспитывали в католичестве; с недавних пор Эдвард стал опасаться, что в детском лепете пятилетней девочки могут проскользнуть намеки на запретное вероисповедание.
– Погоди ее наставлять, пусть немного подрастет, поймет, о чем говорить не следует, – велел он жене и, не желая ее расстраивать, добавил: – Ведь Книга общих молитв – всего-навсего переложение сарумского чина.
Увы, Кэтрин это нисколько не утешало.
Утром Эдвард рассорился с женой. Он рано ушел по делам, но перед тем, как пойти в церковь, решил заглянуть домой. Кэтрин его возвращения не услышала. Он тихонько поднялся по лестнице на второй этаж. Из гостиной раздавался негромкий голос жены:
– А потом священник совершает таинство превращения хлеба и вина в тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа.
Эдвард оцепенел от ужаса: что, если малышка повторит эти слова прилюдно? Лолларды, а следом за ними и протестанты отрицали пресуществление – основную доктрину Католической церкви, которая подразумевает, что при освящении Святых Даров они превращаются в тело и кровь Христову. Именно эту доктрину отстаивал Генрих VIII в своем Акте о шести статьях, однако его сын Эдуард VI, а вслед за ним архиепископ Кентерберийский и епископ Солсберийский объявили ее анафемой.
Эдвард, не помня себя, ворвался в гостиную.
– Не смей учить нашу дочь папистским обычаям! – вскричал он, угрожающе глядя на жену. – Я тебе запрещаю!
– Папистским обычаям? – обиженно переспросила Кэтрин, уязвленная до глубины души.
– Да!
– Ты что же, сам католическую веру не исповедуешь? – с болью в голосе прошептала жена.
– Нет, не исповедую! – гневно ответил он.
Кэтрин поняла, что все эти годы муж ей лгал.
Эдвард искал утешения в делах и заботах. Если сегодняшняя встреча с Томасом Форестом и фламандцем пройдет удачно, то семейство Шокли займет высокое положение в торговых кругах Сарума. «Может быть, я даже мэром стану», – с замирающим сердцем подумал Эдвард. Как и прежде, основой успешного предприятия была старая сукновальня.
В последние десятилетия английское ткацкое производство претерпело значительные изменения. Сарум славился шерстяными тканями, особенно солсберийским и киперным сукном; увы, теперь они не пользовались спросом, однако средневековые гильдии ремесленников слишком гордились своими умениями и не желали изменять традициям. Торговля с Италией через порт Саутгемптона понемногу сошла на нет, и даже в Англии солсберийское сукно продавалось плохо.
– Забудь об Италии, – советовал Джон Шокли сыну. – Попробуй с Антверпеном торговлю наладить.
Сейчас покупатели требовали плотное, тяжелое сукно двойной ширины, желательно некрашеное и плотностью двадцать пять унций на квадратный ярд – толстую ткань, больше похожую на тонкий войлок, производимый сукновальнями. Заказы на нее поступали от торговцев из Нидерландов и Германии, приезжавших в Блэк уэлл-Холл, где располагался лондонский суконный рынок. Оттуда сукно отправляли в Антверпен, страны Балтики и дальше.
С изменением рыночной ситуации центр производства сукна переместился из Солсбери в Западный Уилтшир. Прежде суконщики на западе графства находились в невыгодном положении: рек и ручьев, необходимых для сукновален, здесь было предостаточно, но вода, подпитываемая родниками, берущими начало в меловых и известняковых грядах, была слишком жесткой, из-за чего ткань впитывала красители плохо и неравномерно. Теперь же, когда на рынке возник спрос на некрашеное сукно, жители Западного Уилтшира оказались в выигрыше.
Изменились и условия производства. Ткачи по-прежнему изготовляли сукно на ручных станках, но предприимчивые купцы начали заводить близ сукновален мануфактуры, создавая первые ткацкие фабрики; к примеру, древнее аббатство Мальмсбери, пустовавшее из-за роспуска монастырей, превратилось в суконную мануфактуру.
На этом богатели многие торговцы, однако обитатели Сарума, с его старинным рынком и средневековыми гильдиями, придерживались консервативных взглядов и не торопились расставаться с традициями. Впрочем, так поступали не все.
– Глянь, как братья Уэбб в гору пошли, – вздыхал Эдвард. – Они не только сукно производят, но и сами с Антверпеном торговлю держат, без посредников.
Сам Шокли не располагал средствами для такого крупного предприятия, однако его знакомый Томас Форест предложил вложить в дело свои деньги, что вполне устраивало обоих партнеров.
Томас Форест был истинным джентльменом. Отец его не только перестроил старинное поместье Авонсфорд, но и возвысил семейство, обзаведясь фамильным гербом с изображением восстающего льва на золотом поле. Герб красовался и над камином в зале, и на могиле старшего Фореста, похороненного на деревенском кладбище. Перед смертью старик заказал свой портрет молодому даровитому художнику из Германии, ученику великого Ганса Гольбейна, который придал узкому хитрому лицу заказчика выражение сурового достоинства. С недавних пор среди английского дворянства вошли в моду портреты предков, поэтому старший Форест, стремясь подтвердить величие своего семейства, решил не скупить ся на расходы.
– Томас, ты и свой портрет закажи, – наставлял он сына, воображая длинный ряд портретов на стене особняка. – Хоть мы и из новых дворян, но все-таки…
Томас Форест, по примеру отца, старался возвысить семейство. Он взял в жены девушку с богатым приданым, дочь суконщика из Сомерсета с претензиями на знатное происхождение по материнской линии. Земли в имении Томас сдавал в аренду, лачуги в старой деревне снес, а вместо них построил новые дома в миле от особняка, что дало возможность огородить еще триста акров земли. На высвободившихся участках он уничтожил все постройки, избавился от изгородей и пашен, засадив все купами деревьев до самого берега реки, и завел оленей. Теперь из окон особняка открывался чарующий вид на олений парк, а не на убогие крестьянские дворы. Роспуск монастырей дал Форестам возможность дешево прикупить землю у небольших монашеских обителей; в одной из них Томас собирался разместить суконную мануфактуру. Еще одним источником дохода стали мелкие усадьбы, которые королевские чиновники передали в управление семейству Форест. Томас выплачивал за них скромную ренту, поручив ведение хозяйства своему управляющему, что приносило хорошую прибыль. Томасу Форесту прочили пост мирового судьи графства, что окончательно закрепило бы положение семьи среди дворянства, давало возможность быть избранным в парламент или королевский суд и открывало путь к высоким назначениям и титулам.
Томас Форест, недавний дворянин, не собирался пятнать свое имя, открыто связываясь с торговым сословием, поэтому предложение Эдварда Шокли его вполне устраивало.
– Суконную мануфактуру устроим на мои деньги, в одном из моих имений будут сукно двойной ширины изготавливать, а валять его можно на твоей сукновальне. Если понадобится, еще одну заведем, – объяснял он Шокли. – А тебе, Эдвард, я доверю управление предприятием.
Узкое землистое лицо Фореста оттеняли смоляные кудри, близко посаженные черные глаза и длинные тонкие усы, свисавшие почти до подбородка; в гневе он мрачнел и становился похожим на палача, но в хорошем настроении умел теплой улыбкой и учтивым наклоном головы расположить к себе собеседника. К Эдварду Шокли он всегда обращался с изысканной вежливостью.
– Нам бы самостоятельную торговлю наладить, напрямую, без посредников, – предложил однажды молодой торговец.
– Разумеется. Пожалуй, тебе стоит съездить в Антверпен, торгового представителя там подыскать, – с готовностью согласился Форест. – Только такого, который нос по ветру держит.
В феврале, следуя совету приятеля, Шокли собрался в Антверпен. Политическая ситуация в Европе оставалась напряженной: войны в Италии, постоянные распри между протестантами и католиками в Германии и Нидерландах. Год назад могущественных ганзейских купцов изгнали из Лондона, и в отместку они любыми путями досаждали англичанам, однако предприимчивые английские торговцы не упускали любых возможностей разбогатеть.
– Найди такого человека, слабое место которого можно нам на пользу обернуть, – многозначительно произнес Форест.
Шокли, поразмыслив над его словами, поехал в Антверпен, шумный порт на реке Шельде, и провел там десять дней. Он посетил знаменитый шестинефный трехбашенный собор Антверпенской Богоматери, западная башня которого была на семьдесят футов выше шпиля Солсберийского собора, а потом долго бродил по улицам города, с любопытством разглядывая роскошные здания гильдий, мастерские печатников и огромные рынки. Здесь находились представительства сотен торговых домов – английских и французских, испанских, итальянских и португальских, немецких и датских. На шестой день Эдвард отыскал нужного человека.
Высокому светловолосому фламандцу минуло тридцать пять лет. Сообразительный и расторопный, он хорошо разбирался в торговле; искать работу его вынудили долги и необходимость содержать большую семью.
– Ежели он ссуду не выплатит, у него дом за долги отберут, – объяснил Эдвард Форесту.
– Такой нам и нужен, – кивнул Форест.
В назначенный день Эдвард встретился с гостем на постоялом дворе Святого Георгия, откуда они отправились в Авонсфорд. Утром прошел дождь, и зеленая долина Авона купалась в солнечных лучах. Больше всего Эдвард опасался, что фламандский торговец, на своем веку навидавшийся и больших городов, и величественных замков Германии и Франции, сочтет Солсбери и Авонсфорд захолустьем. Вчера за ужином фламандец расслабленно откинулся на спинку кресла и лениво протянул:
– Англичане живут бедно, зато едят вдоволь.
Подобного мнения придерживались многие европейские купцы.
Впрочем, волновался Эдвард напрасно. Едва они миновали массивные каменные ворота и по аллее, затененной деревьями оленьего парка, подъехали к особняку, фламандец восхищенно ахнул:
– Какая красота! Ничего подобного я прежде не видел.
Пятнадцать лет назад Форесты перестроили старинный особняк, и сейчас его стены, влажные от недавнего дождя, сверкали под ярким солнцем.
– Словно шахматная доска! – изумленно выдохнул фламандец.
Пятиоконный прямоугольник особняка с обеих сторон обрамляли два крыла с остроконечными двускатными крышами и высокими фронтонами, а вход находился строго посредине, под низкой широкой аркой. Больше всего восхищала каменная кладка стен, чередовавшая серый камень из местных карьеров с ловко расщепленными пластинами кремня; фасад, разделенный на светлые и темные квадраты, каждый около фута шириной, действительно напоминал шахматную доску, сверкающую в лучах солнца, будто стекло. Такую кладку применяли и в других областях Англии, но мастерство сарумских каменщиков оставалось непревзойденным. Фламандец с таким неподдельным восхищением разглядывал особняк, что даже не заметил, как во двор вышел Томас Форест. Внимание гостя привлекла одна особенность здания, весьма характерная для тюдоровской Англии.
Фламандец, не отрывая глаз от печных труб, во весь голос воскликнул:
– Боже мой, что это?!
В правление Генриха VIII знатные господа стали украшать свои особняки необычайно высокими печными трубами, затейливо сложенными из красного кирпича, с замысловатыми черепичными колпаками. Авонсфордский особняк на всю округу прославился восьмигранными трубами, увенчанными массивными колпаками с отделкой из ажурных фестонов по краям. Казалось, трубы свидетельствуют о высоких устремлениях владельцев.
Встреча прошла успешно, и примерно через час новые компаньоны заключили сделку, условия которой были довольно просты: фламандец обязался выступить торговым представителем нового предприятия, Форест предоставлял средства для ведения операций, а также брал на себя долги фламандца под залог дома в Антверпене. Таким образом, фламандец попадал в полную зависимость от Фореста.
– Он привык жить на широкую ногу и тратит деньги быстрее, чем зарабатывает, – объяснял приятелю Шокли. – Долг он никогда не вернет, так что дом все равно тебе достанется.
Покончив с делами, мужчины расположились в удобных креслах посреди просторного зала, обшитого темными дубовыми панелями, и перешли к непринужденной беседе.
– В этом году англичане протестантскую веру исповедуют, да? – с улыбкой начал фламандец. – А как на будущий год молиться будете?
Шокли хотел было возмутиться, но Форест жестом оборвал его.
– В Антверпене ходят слухи, что ваш юный государь болен и скоро умрет, – продолжил фламандец. – Кто знает, что будет…
– Ничего подобного! – возразил Шокли.
В прошлом году он своими глазами видел короля, проезжавшего через Сарум, – бледный и тщедушный Эдуард VI благосклонно улыбался своим подданным и с видимым удовольствием принимал приветствия ликующей толпы. В феврале действительно поговаривали, что король прихворал, но лондонский торговец заверил Эдварда, что здоровье его величества пошло на поправку.
К удивлению Шокли, Форест и на этот раз не стал спорить, а невозмутимо сказал фламандцу:
– Мы будем исповедовать ту веру, которую исповедует наш монарх.
– Какой бы эта вера ни была? – изумленно осведомился Эдвард.
– Совершенно верно.
– Значит, правду говорят, что англичане ни во что не верят, – расхохотался фламандец, хлопая себя по колену.
Шокли, помрачнев, вспомнил поступок Мейсонов в церкви Святого Фомы и свое неосмотрительное признание Кэтрин. Неужели Англии снова придется сменить веру?
Перед уходом он негромко обратился к Форесту:
– Как по-твоему, король выздоровеет?
Форест ободряюще коснулся его руки:
– Займись-ка ты лучше нашим предприятием, в политику и религию нам вмешиваться незачем. Будем следовать примеру епископа Солкота. А если вдруг что случится, главное – не высовываться.
На обратном пути фламандец пребывал в прекрасном расположении духа – он, хоть и сознавал, что теперь полностью зависит от Фореста, рад был избавиться от долгов. У городских ворот он с радостным вздохом спросил у Эдварда:
– Ну, где в вашем Саруме гулящих девок искать?
Эдвард уже давно приметил, что лицо Абигайль Мейсон всегда сохраняет спокойное, бесстрастное выражение – на высоком бледном челе ни морщинки, каштановые волосы гладко зачесаны, впалые щеки и острый подбородок неподвижны, губы скорбно поджаты; вся она словно бы вычерчена на холсте уверенной рукой тюдоровского живописца. В уголках губ сквозила горечь, но карие глаза, окруженные глубокими тенями, глядели на мир уверенно, с невозмутимым спокойствием. Несколько поколений назад Абигайль постриглась бы в монахини.
Двадцативосьмилетняя Абигайль Мейсон хотела ребенка, но все было напрасно. Она не знала, почему не может понести. Особой страсти к мужу она не испытывала, однако была уверена, что дело не в этом. Неужели она бесплодна? Все Мейсоны отличались плодовитостью; в семье Роберта, двоюродного брата мужа, было шестеро здоровых ребятишек. И все же Абигайль свято верила, что в один прекрасный день родит младенца.
Она ежедневно молила Господа даровать ей дитя, с жадностью разглядывала малышей на улицах города, а при виде жены Роберта, кормящей сына, в глазах Абигайль вспыхивал завистливый огонек; за это прегрешение она себя сурово укоряла.
Отец Абигайль, переплетных дел мастер, исповедовал лютеранскую веру и всем своим детям внушал, что жизнь – юдоль страданий и мрака, а удел человеческий – смиренное терпение. Абигайль покорно терпела и истово страдала.
Питер Мейсон, ножевых дел мастер, в отличие от остальных родственников, был жилист и худощав; до странности хрупкое тело венчала тяжелая круглая голова с намечающейся лысиной. С женой он обращался ласково и нежно, с широкого лица не сходила добродушная улыбка. Жили супруги в том же доме, где некогда располагалась мастерская Бенедикта Мейсона; впрочем, колоколов там вот уже тридцать лет не отливали. Питер тоже хотел ребенка, а в остальном жизнью был вполне доволен.
Абигайль считала, что мужу не хватает упорства и целеустремленности – и в повседневной жизни, и в служении Господу. Она долго уговаривала его уничтожить поганый витраж в церкви Святого Фомы. Впрочем, Абигайль смирилась с недостатками мужа, напоминая себе, что следует довольствоваться малым, так что жили супруги в мире и согласии.
Теперь Абигайль не давало покоя только одно дело, по-прежнему остававшееся неисполненным, о чем она и напомнила мужу, вернувшись домой из церкви.
Питер неохотно кивнул, раздумывая, как бы отложить неприятное поручение до следующего дня.
Нелли Годфри ушла с постоялого двора Святого Георгия в обществе торговца из Антверпена. Ее не оставляло чувство, что с фламандцем будет сложно справиться – высокий, крепко сбитый здоровяк вина выпил много, но не захмелел. Впрочем, обращаться с мужчинами Нелли умела. Вот и сейчас она уверенно вела торговца к своему дому; он приобнял ее за плечи и привлек к себе, но Нелли со смехом отстранилась:
– Да погоди же ты!
Нелли Годфри, смешливая, бойкая и необычайно чувственная, неизменно привлекала мужчин к себе, словно бы источая плотское вожделение. Ладную фигуру облегал алый корсаж с полураспущенной шнуровкой, подчеркивавший высокую грудь под тонкой белоснежной сорочкой; из-под игривого кружевного чепца выбивались каштановые кудри; пышная юбка, присобранная на талии, чуть прикрывала точеные лодыжки, не касаясь изящных сафьяновых башмачков. С очаровательного личика не сходила ослепительная улыбка, а ярко-синие глаза лучились смехом. От тела Нелли веяло жаром и головокружительным ароматом драгоценного мускуса.
– Эта женщина создана для любви, – однажды сказал Томас Форест своему приятелю Шокли.
Нелли и самой нравилось завлекать мужчин – ее это возбуждало. Любовников притягивали не только ее искусные ласки и пышные формы; в постели она словно бы раскрывала перед ними свою беззащитную, ранимую душу. Ее нисколько не смущало, что она зарабатывает на жизнь, торгуя своим телом. К случайным любовникам она относилась с нежностью, хотя предпочитала находиться на содержании у богатых горожан. Впрочем, самым важным она считала не плату за свои услуги, а непрошеные подарки. Оставшись в одиночестве, она раскладывала безделушки на кровати и часами перебирала их, сдерживая невольные слезы:
– Этот в меня влюблен, а этому я дороже жены…
Евстахий Годфри, старый отшельник, умер в своей келье шестьдесят пять лет назад. Семейство Годфри окончательно обнищало; дед Нелли растратил последние деньги, отец был горьким пьяницей, и тринадцатилетняя Нелли с братом Пирсом остались сиротами. Пирс освоил плотницкое ремесло и помогал единственной сестре, однако теперь сторонился ее, не одобряя распутного поведения.
– Не забывай, мы из господского рода происходим, – укорял ее он, хотя с тех пор, как Годфри были владельцами Авонсфорда, прошло уже двести лет и сменилось семь поколений.
– Благородным происхождением не прокормишься, – с усмешкой отвечала Нелли.
Некогда Евстахию досаждало, что славное имя Годфри носят и его однофамильцы, презренные лавочники, а теперь уважаемые торговцы недовольно морщились при каждом упоминании Нелли Годфри:
– Гулящая девка нам не родня!
И неудивительно, ведь отпрыск купеческого семейства Годфри стал мэром Солсбери.
К двадцати двум годам Нелли денег не скопила; подарками любовников – украшениями и нарядами – она гордилась, но одной гордостью не проживешь, а годы уходят.
– Как дальше жить собираешься? – умоляюще спрашивал брат.
Нелли сердито отмахивалась и переводила разговор на другое: сидеть за прялкой или стать женой простого ремесленника ей не хотелось.
– Да тебя замуж никто не возьмет! – предупреждал ее Пирс.
Нелли, понимая, что он прав, дерзко заявляла:
– Ничего, что-нибудь придумаю!
Унылое существование в захолустном Саруме ее не привлекало.
Наконец они с фламандцем дошли до Кальвер-стрит, где жила Нелли. Торговец, чуть пошатываясь на ходу, напевал какую-то песенку. Остановившись у двери, он оглядел скромное жилье и захохотал на всю улицу:
– С этим домом ни один особняк не сравнится – здесь красавица живет!
– Ш-ш-ш! Соседей перебудишь! – пробормотала Нелли, втолкнула его в дом и повела наверх по лестнице.
Городские власти к Нелли Годфри не приставали: во-первых, у нее было много покровителей среди уважаемых горожан, а во-вторых, она вела себя осмотрительно. Владельцы постоялых дворов и трактирщики ее любили – Нелли приманивала богатых посетителей, но на людях держала себя скромно, не желая привлекать излишнего внимания. Время от времени некоторые богобоязненные жители Солсбери выражали недовольство, однако влиятельным покровителям Нелли всегда удавалось замять дело.
Фламандец об этом не подозревал и не видел причин для осмотрительности, а вот причин для радости у него было предостаточно – он избавился от долгов и спас семью от разорения; голову ему кружило не вино, а счастье. Он возбужденно расхаживал по двум крошечным комнаткам на втором этаже – под тяжелыми шагами скрипели рассохшиеся половицы – и во весь голос что-то распевал.
Нелли попыталась закрыть ему рот поцелуем, но торговец не успокаивался, тогда она поспешно распустила шнуровку платья, обнажив грудь, и поманила фламандца к себе.
Широкое лицо торговца озарилось счастливой улыбкой. Он шагнул к Нелли и с детским восторгом накрыл пышные груди огромными горячими ладонями. Женщина, оказавшись в его власти, только сейчас осознала, что он необычайно силен. Впрочем, зла он ей не желал.
Он грузно опустился на кровать, застонавшую под его тяжестью, об хватил Нелли за талию, с легкостью, будто ребенка, усадил к себе на колени и, придерживая одной рукой, стал умело снимать с нее одежды, что-то негромко бормоча и с плотоядным восхищением оглядывая нежную кожу – так он за ужином глядел на голову уилт ширского сыра. Под пристальным взглядом торговца Нелли, внезапно ощутив себя ребенком, невольно рассмеялась и подумала: «Ну вот, наконец-то угомонился».
Торговец раздел ее догола, подхватил на руки, бережно уложил на дубовую кровать («Как кусок мяса на сковороду», – про себя хихикнула Нелли) и только потом скинул дублет и стянул толстые чулки-шоссы.
Сначала он нежно оглаживал Нелли огромными горячими ладонями, и она расслабилась под его ласками. Дыхание фламандца, пахнущее вином и сыром, внезапно участилось, сильные пальцы ощупывали и разминали податливое тело Нелли, словно ком теста. Торговец побагровел и выпучил глаза, будто его душило неудовлетворенное желание. В невероятном возбуждении он подхватил Нелли на руки, с громким воплем закружил ее по комнате, а потом снова швырнул на кровать и тут же жадно придавил тяжелым, жарким телом.
Массивная дубовая рама заскрипела, содрогаясь от порывистых толчков, точно вот-вот развалится. Нелли, не в силах даже шевельнуться под весом здоровяка, уповала лишь на то, что все скоро закончится. Увы, ее надежды не оправдались – фламандец не отпускал ее больше часа: то с торжествующими криками носился с ней по комнате, то бросал на кровать, то перекатывался на пол. От его счастливых воплей сотрясался весь дом.
«Да он просто бык какой-то!» – думала Нелли, сообразив, что успокоить его не удастся.
Ушел фламандец только перед рассветом.
С восходом солнца Абигайль Мейсон собрала соседей и объявила, что больше не потерпит разврата.
В восемь часов утра Мейсоны явились к олдермену, и Питер смущенно потребовал, чтобы бесстыжую блудницу схватили и доставили к бейлифу и мировому судье.
– Вы понимаете, чем ей это грозит? – спросил олдермен.
Питер отвел взгляд.
– Ее выпорют, – невозмутимо заявила Абигайль.
Вот уже три года она убеждала мужа исполнить христианский долг – она и сама бы с этим прекрасно справилась, но ей хотелось заставить Питера вести себя, как подобает богобоязненному христианину. Теперь, после ночного переполоха, Питер с неохотой согласился.
– Господь требует покарать блудницу, – заявила Абигайль. – Распутную Иезавель до лжно с позором изгнать из нашего дома.
Питер уныло кивнул.
В полдень олдермен известил бейлифа о жалобе, а Пирс Годфри пришел к Эдварду Шокли с просьбой спасти сестру.
Эдвард и Пирс были знакомы с раннего детства; Годфри часто выполнял плотницкие работы на сукновальне, а в доме Шокли красовался сделанный им дубовый стол.
– Я постараюсь, – пообещал Эдвард, впрочем без особой надежды на успех.
В тюдоровской Англии наказания за провинности были весьма суровы; мировой судья, теперь исполнявший обязанности, некогда отведенные шерифу графства, имел право задерживать бродяг, выставлять преступников к позорному столбу и даже запрещать гулянья или игрища. Бродяг и распутниц выводили на рыночную площадь и прилюдно пороли кнутом до крови – именно это наказание грозило Нелли.
Эдвард торопливо направился на Кальвер-стрит, к дому Мейсонов, втайне опасаясь неприятного разговора с непреклонной Абигайль – она внушала ему страх и невольное восхищение.
Абигайль Мейсон учтиво пригласила его в дом. Питер мялся в дверях. Эдвард объяснил, что пришел просить за Нелли, рассказал о бедственном положении семейства Годфри и, заметив, как воспрянул духом Питер, поручился, что лично проследит за ее поведением.
Абигайль поглядела на него как на неразумного младенца:
– Эдвард Шокли, неужто ты забыл, что карают не грешника, но грех его?
Эдвард невольно вздрогнул, представив, как кнут впивается в нежную кожу Нелли, и неуверенно предположил:
– Она наверняка уже раскаялась.
Это заявление Абигайль встретила еще одним суровым взором. Эдвард, пытаясь оправдать Нелли, вспомнил евангельскую притчу о Христе и грешнице и хотел было произнести: «Кто из нас первым бросит камень…»[38], но вовремя сообразил, что Абигайль Мейсон, женщину с незапятнанной репутацией, этот довод не убедит.
– Что ж, мировому судье видней, чего она заслужила, – негромко произнесла Абигайль и сдержанно улыбнулась Эдварду. – Вижу, ты человек милосердный. После праведной кары мы с тобой грешницу утешим.
Эдвард, до глубины души тронутый непоколебимой уверенностью Абигайль, с сожалением удалился. Нелли Годфри, предупрежденная Питером, стражников ждать не собиралась и тайком ускользнула к брату попрощаться. В руках у нее был узелок с нехитрыми пожитками.
– Я ухожу.
Пирс безуспешно пытался ее отговорить, но Нелли и слушать его не желала.
– Зачем мне в Саруме оставаться? Чтобы меня на рыночной площади выпороли? Нет уж!
– А если тебя за бродяжничество схватят?
– Ничего страшного, как-нибудь выкручусь.
– И куда ты пойдешь?
– На запад.
В Бристоле, большом портовом городе, хорошенькой женщине не составило бы труда заработать на жизнь.
Пирс печально вздохнул – наверняка его пропащая сестра и там будет вести распутный образ жизни! – и достал из ларца все свои сбережения, целых пятнадцать фунтов.
– Вот, возьми, – сказал он, протягивая ей деньги. – Пригодится.
Нелли улыбнулась, поцеловала брата и вернула монеты в ларец:
– Спасибо, у меня деньги есть.
– Кто знает, когда еще увидимся?!
Нелли поглядела на брата ясными синими глазами и решительно заявила:
– Наверное, уже никогда.
По дороге к Фишертонскому мосту Нелли нагнал Эдвард Шокли.
– Я так и не смог Мейсонов уговорить, – повинился он.
– А мне уже все равно, я из города ухожу.
Под теплыми лучами солнца она направилась в сторону Уилтона. На душе у нее было легко – бейлиф стражников за ней в погоню не отправит, так что проще начать новую жизнь вдали от родных краев. «Что бы ни случилось, я справлюсь», – решила Нелли.
Близ деревушки Бемертон, в миле от Фишертонского моста, ей встретилась телега, груженная товаром. Добродушный возчик предложил подвезти Нелли до Барфорда, селения на окраине Уилтона. Внезапно к телеге подскакал Эдвард Шокли на каурой кобыле, вложил в ладонь Нелли небольшой кошель, пробормотал: «Храни тебя Господь», густо покраснел и торопливо удалился.
В кошеле оказалось десять фунтов серебром.
Ночь Нелли Годфри провела в древнем Шафтсбери, в восемнадцати милях от Солсбери, а наутро отправилась на север.
Эдуард VI, король Англии и благочестивый протестант, испустил последний вздох 6 июля 1553 года. Теперь все англичане с замиранием сердца ожидали, кто займет английский престол.
Последующие события стали одними из самых странных и трагических в истории Англии.
Три дня спустя было публично объявлено, что на трон взойдет леди Джейн Грей, в обход двух дочерей Генриха VIII, Марии и Елизаветы. Утверждалось, что Эдуард VI, желая сохранить английскую монархию протестантской, в так называемой Декларации о престолонаследии сделал своей преемницей дальнюю родственницу по материнской линии. На самом деле Эдуард ни о чем подобном не помышлял, а Джейн Грей объявили королевой в результате заговора королевских советников-протестантов, стремящихся не допустить к власти католичку Марию, дочь Генриха VIII и его первой жены, Екатерины Арагонской. Да и Джон Дадли, герцог Нортумберленд, бывший лордом-протектором и регентом малолетнего короля, не желал расставаться с браздами правления. Дабы подчинить юную Джейн своей воле, он спешно выдал ее замуж за своего сына Гилфорда. Герцога неожиданно поддержал хитроумный король Франции Генрих II – его сын, дофин Франциск, был женат на шотландской королеве Марии Стюарт, еще одной родственнице Тюдоров, и неразбериха вокруг английского престола увеличивала его шансы стать монархом Франции, Англии и Шотландии одновременно.
Поначалу казалось, что заговорщики добились успеха. Королевский Тайный совет, после смерти Эдуарда заседавший в лондонском Тауэре, направил в Солсбери послание, в котором говорилось:
«…Мария, что истово исповедует католическую веру, ежели придет к власти, то снова ввергнет подданных в пучину рабства римскому Антихристу и наложит запрет на распространение Слова Господня…»
Послание было подписано архиепископом Кранмером и его сторонниками, среди которых был и Уильям Герберт, граф Пемброк, владелец Уилтона, который, узнав о свадьбе Гилфорда Дадли и леди Джейн Грей, попытался упрочить свои позиции женитьбой своего сына, Генри Герберта, на сестре леди Джейн, Катерине.
Увы, попытка короновать леди Джейн Грей бесславно провалилась. Мария Тюдор, проявив себя истинной дочерью Генриха VIII, склонила на свою сторону множество вельмож и обещала выказать терпимость к вероисповеданию протестантского толка. Несмотря на то что архиепископ Кранмер объявил недействительным брак Генриха с Екатериной Арагонской, в глазах англичан Мария оставалась законной наследницей престола.
Мария, собрав огромное войско мятежников, двинулась на Лондон. Тайный совет отправил герцога Нортумберленда усмирять бунтовщиков, а сами советники тем временем переметнулись на сторону Марии; Уильям Герберт, граф Пемброк, одним из первых поклялся защищать ее до последней капли крови.
Так закончились девять дней правления некоронованной королевы Джейн. Бедняжку заточили в темницу, герцога Нортумберленда казнили, а граф Пемброк во всеуслышание объявил, что бракосочетание его сына с Катериной Грей на самом деле не состоялось.
Эдвард Шокли стоял перед женой, готовый покаяться.
Вот уже три месяца он страдал от недоверия жены, но восхищался ее смирением. После ссоры в апреле она три дня молчала, с трудом сдерживая слезы. Эдвард жену избегал, мучимый стыдом и гневом оттого, что она заставила его ощутить свою вину, и опасался, что она вернется к отцу.
По-прежнему было непонятно, как жить дальше. Кэтрин, как и подобает послушной жене, больше не пыталась наставить дочь в католическом учении, однако, затаив в душе обиду, простить мужа не могла.
Малышка Селия тоже сторонилась отца и глядела на него со страхом. Девочка не понимала причины размолвки, хотя и чувствовала, что он обидел мать. Вдобавок ей казалось, что он совершил какое-то страшное преступление. Всякий раз при виде отца она в ужасе отшатывалась, а он вздыхал, бормоча неразборчивые проклятия, что пугало ее еще больше.
Месяц Кэтрин отказывалась делить с ним ложе – до тех пор, пока он в ярости не потребовал от нее исполнения супружеского долга. Она покорно повиновалась, но смиренное, мученическое страдание, написанное на ее лице, мгновенно отрезвило Эдварда.
– Смягчись сердцем, – молила его Кэтрин. – Ты же был добрым католиком в детстве и в отрочестве. Неужели ты не замечаешь, что в гордыне своей отвернулся от матери-Церкви? Покайся, прошу тебя!
Он хорошо сознавал, о чем она просит, – основным требованием Католической церкви было смирение и признание своего ничтожества.
Эдвард это требование отвергал.
А после долгих лет обмана правда приносила ему истинное удовлетворение.
Спустя шесть недель поведение Кэтрин изменилось – она деловито хлопотала по хозяйству, стала отзывчивой и ласковой, пыталась во всем угодить мужу, а по воскресеньям нежно уговаривала его:
– Поразмысли о вере, не ради себя прошу, но ради спасения твоей бессмертной души!
Эдварда раздражали и доброта, и покорное смирение жены, но больнее всего ранило ее печальное недоверие.
Как ни странно, Томас Форест убедил его поддаться уговорам Кэтрин.
Совсем недавно Эдвард с Форестом обсуждали восшествие Марии на престол. Королева обещала проявить терпимость к протестантам, но Форест уверенно заявил:
– Вот увидишь, она всю Англию в католичество насильно обратит.
Новые веяния уже достигли Сарума.
– Я встречался с епископом Солкотом, – объяснил Форест. – Он лучше всех знает, куда ветер дует.
– Он же протестант! – удивился Эдвард.
– Это на прошлой неделе было, – усмехнулся Форест. – А теперь все иначе. Тебе тоже стоит перемениться – и ради собственной безопасности, и ради успеха нашего предприятия.
Томас Форест оказался прав: на терпимость надеяться не приходилось, а потому Эдвард решил укрепиться в католической вере. Тревожило его лишь одно: жена вряд ли поверит в искренность его обращения, ведь он и прежде ее обманывал. Пожалуй, надо покаяться, и чем быстрее, тем лучше.
И вот теперь Эдвард, кающийся грешник, смиренно умолял жену:
– Прости мне мои заблуждения! Сердце мое было исполнено страха и злобы, но теперь я осознал свою ошибку. Я добрый католик и жажду вернуться в лоно матери-Церкви.
– Ты не лжешь? – с надеждой спросила Кэтрин.
– Клянусь Господом, слова мои искренни.
– А священнику ты покаешься?
– Да, – с робкой улыбкой ответил он.
– Ах, Эдвард, я три долгих месяца молила Господа о твоем обращении!
– И я спасен твоими молитвами! – пылко воскликнул Эдвард, заключил жену в объятия и нежно поцеловал, сгорая от стыда.
Епископ Солкот переметнулся на сторону католиков, епископ Гардинер вернулся в Винчестер, а парламент удовлетворил все требования королевы Марии, кроме одного – возвращения Англии в лоно Римской церкви. О терпимости больше не вспоминали. Архиепископа Кранмера и протестантских епископов Хью Латимера и Николаса Ридли обвинили в ереси и заключили в Тауэр.
Тридцатисемилетняя королева мечтала о муже-католике, и спустя месяц после коронования остановила свой выбор на Филиппе II, короле Испании, сыне императора Карла V. Владыка Священной Римской империи заручился поддержкой советников королевы (в частности, графа Пемброка) и отправил им в дар две тысячи крон. Парламент выразил недовольство вмешательством Испании в государственные дела Англии, но Мария резко пресекла возражения.
Ни у кого не осталось сомнений в могуществе властной королевы. В январе Томас Уайетт-младший, сын известного поэта и государственного деятеля эпохи Генриха VIII, собрал в Кенте бунтовщиков и двинулся на Лондон. Графу Пемброку удалось расправиться с мятежниками, а заодно отправить на плаху леди Джейн Грей и ее мужа, обвиненных в связи с заговорщиками. Сводная сестра Марии, Елизавета, тоже оказалась под подозрением, но, в отсутствие каких-либо доказательств, ее попросту сослали в Вудсток, загородную королевскую резиденцию.
Епископ Солкот тем временем изгнал из епархии свыше пятидесяти священников, которые, продолжая исполнять его предыдущие указания, проводили богослужения по протестантскому обряду.
В июне 1554 года маркиз де лас Новас, посланник короля Испании Филиппа II, прибыл в Плимут со свадебными дарами, и граф Пемброк с великими почестями принял его в своем дворце Уилтон-Хаус. На церемонии присутствовали Генри Герберт, сын графа Пемброка, шериф графства и двести дворян, среди которых блистал и владелец Авонсфорда Томас Форест.
Спустя две недели в Саутгемптон пришла королевская флотилия. Король Испании со свитой проследовал в Винчестер, где епископ Гардинер торжественно обвенчал Марию и Филиппа, а граф Пемброк вручил жениху церемониальный меч защитника королевства.
Форест объяснил Эдварду Шокли, что по брачному договору Филипп не имеет права вмешиваться в государственные дела и никогда в одиночку не займет английский престол, зато упрочение связей с Испанией пойдет на благо развитию торговли с испанскими колониями в Новом Свете и в Голландии. Эдвард, как и многие его соотечественники, угрюмо вздохнул:
– Английский престол не для испанских выскочек.
В последнее время Абигайль Мейсон вела себя скромно и неприметно – на это были свои причины. В августе 1553 года она ясно представляла себе дальнейшее развитие событий.
– Истинную веру запретят, в каждой церкви будут служить католические мессы, – с отвращением объясняла она мужу. – Надо уезжать отсюда.
– Куда? – изумленно спросил Питер.
– В Женеву, – решительно заявила она.
– Но ведь на это деньги нужны! – в отчаянии вскричал он.
– Господь нас не оставит.
Спасаясь от кровавого режима Марии Тюдор, Англию покидали в основном люди зажиточные, дворяне и ученые; простые ремесленники, стесненные в средствах, не могли позволить себе такой роскоши, и в Саруме об этом никто даже не помышлял.
Для Абигайль Мейсон Женева была священным городом – там жил Жан Кальвин, великий протестантский богослов и реформатор.
– Женева – град Господень, – напомнила она Питеру.
Кальвин установил в городе суровый протестантский режим, строгостью превосходящий даже католическое рвение королевы Марии. Именно Кальвина Абигайль Мейсон считала истинным праведником, в отличие от прочих деятелей протестантского движения, таких как Мартин Лютер, требовавший консервативных реформ католицизма, или Ульрих Цвингли, настаивавший на том, что Святое причастие – не таинство, а напоминание об искупительной жертве Христа. Жан Кальвин разработал основную идею Реформации о бессилии человечества и всемогуществе Бога, иначе говоря, создал учение о предопределении, основанное на библейских текстах.
Упоминания о предопределении существовали еще в трудах святого Августина, однако Католическая церковь считала это ересью, поскольку предопределение отрицает свободу выбора, равно как и возможность встать на праведный путь и достичь Божией благодати. Эдвард Шокли, хоть и склонялся к протестантству, эту доктрину принять не мог.
– Если все предопределено, то ни молитвы, ни добрые дела не помогут, потому что судьбы не изменить, – жаловался он.
Абигайль Мейсон, однако же, свято верила в предопределение.
– Господь знает, кого избрать, а кого нет, – наставляла она мужа.
– Значит, нас Он избрал?
– Возможно, – отвечала Абигайль. – Мы должны верить и повиноваться воле Господа. Раз в Англии сейчас презрели Слово Божие, то надо перебираться в Женеву.
Мейсоны начали готовиться к переезду, но так и не покинули Сарум.
В конце августа 1553 года жена Роберта Мейсона, двоюродного брата Питера, неожиданно умерла родами, оставив мужа с новорожденным младенцем и выводком ребятишек. Абигайль, узнав об этом, самоотверженно вызвалась помочь родственнику.
– Мы остаемся, – со слезами на глазах объявила она Питеру. – Господь нас осудит, ежели мы бросим родича в беде.
– Значит, в Женеву мы не поедем?
– Нет, не поедем. Наш удел – терпеть гонения здесь, – скорбно возвестила Абигайль.
– Что ж, придется пожитки распаковывать, – с облегчением вздохнул Питер.
Теперь Абигайль вела хозяйство на два дома – на Кальвер-стрит в Солсбери и в близлежащей деревне Фишертон, где жил Роберт.
Тем временем у Эдварда Шокли забот хватало.
В Саруме выдалось три неурожайных года подряд, и жители пятиречья приуныли. Вдобавок рост суконного производства привел к избытку ткани на рынке.
– Наш фламандец – прекрасный торговец, – говорил Эдвард Форесту, – но купцы-предприниматели жалуются, что в Антверпене слишком много сукна и цены падают. Может, не стоит сейчас обзаводиться еще одной мануфактурой?
– А что произойдет, когда рынок перенасытится? – с улыбкой спросил Форест.
– Купцы разорятся, – ответил Шокли.
– Совершенно верно, – кивнул Томас. – Через год-другой наступит кризис, но это не страшно, потому что мы начнем скупать сукно по бросовым ценам. Моих денег хватит на десяток кризисов. Не беспокойся, берись за работу.
Приятели часто ездили верхом еще в одно имение Форестов, по другую сторону Уилтона, где находились мануфактуры. Всякий раз, проезжая мимо ворот поместья графа Пемброка, Форест замечал:
– Вот с кого надо пример брать. Он суконщиков из Европы привозит.
В одну из таких поездок приятелям довелось наблюдать странный случай.
К воротам поместья подкатила карета в сопровождении верховых, которые мчались на такой скорости, что Шокли и Форесту пришлось спешно повернуть коней на обочину. Верховые стали швы рять в ворота камни, а из кареты раздались ужасные проклятия. Немного погодя карета, разбрызгивая грязь, удалилась в обратном направлении, на запад.
– Кто это? – удивился Шокли.
– Барон Чарльз Стортон, – с улыбкой ответил Форест.
Шокли не раз слышал о древнем роде Стортонов, владельцев обширных имений на западе Уилтшира, – в Саруме лорд Стортон появлялся редко, и Эдвард никогда прежде никого из его семейства не встречал.
– И что ему здесь понадобилось?
– Он графа Пемброка невзлюбил.
– Почему?
– Неизвестно, – пожал плечами Форест. – Наверное, считает Гербертов выскочками, которые обманом пришли к власти. Зря это он – с Пемброками сейчас ссориться не стоит. Впрочем, ходят слухи, что Стортон не в себе.
Однажды им довелось увидеться с самим графом Пемброком, выехавшим на прогулку с двумя приятелями. Форест отвесил ему церемонный поклон и получил в ответ благосклонный кивок. Шокли с любопытством разглядывал длинное лицо графа, с орлиным носом и проницательными глазами.
– Ну как он тебе? – спросил его Форест чуть погодя.
– Да, с таким лучше не ссориться, – признал Эдвард.
Производство и торговля сукном шли успешно, поэтому однажды Форест сказал Шокли:
– Нам нужен управляющий, за ткачами на мануфактуре присматривать.
Шокли согласно кивнул и приступил к поискам подходящего человека. Он мимоходом упомянул об этом Кэтрин, и та неожиданно заявила:
– Есть у меня такой на примете.
– Кто?
– Джон, мой брат.
Девятнадцатилетний Джон всю жизнь провел в отцовской лавке и прекрасно разбирался в сукне и его производстве. На предложение Эдварда Джон с радостью согласился, желая выйти из-под опеки сурового отца. Голубоглазый юноша обладал располагающей внешностью и, хотя на первый взгляд казался простаком, вскорости доказал свою проницательность и не допускал ни одной оплошности, а за ошибки строго наказывал ткачей. Говорил он мало, даже с сестрой.
Форесту он понравился.
Джон, желая добиться самостоятельности, подыскал себе жилье на Кальвер-стрит, в комнатах, которые прежде занимала Нелли Годфри. Он был хорошим соседом, вел себя пристойно, однако Абигайль поморщилась, узнав, что Джон – католик.
– От распутницы избавились, и то ладно, – вздыхала она.
Впрочем, Абигайль стала проводить много времени в Фишертоне; для младенца нашли кормилицу, но за остальными детьми требовался присмотр, да и Роберта надо было кормить и обстирывать. Теперь Питер часто ходил обедать в дом двоюродного брата, за милю от Кальвер-стрит, а потом возвращался к себе в мастерскую; весьма довольный тем, что поездка в Женеву не состоялась, он ни на что не жаловался, только однажды со вздохом сказал Шокли:
– Скучно тут без Нелли.
Шел второй год правления королевы Марии. Для Абигайль Мейсон настали трудные времена. Она не жалела о неудавшейся поездке в Женеву, но терпеть засилье католиков было тяжело. К мессе Абигайль не ходила; наказания за это она избегала, потому что жила на два дома: приходские священники в Фишертоне и в Солсбери попросту не знали, какую из церквей она посещает. К тому же Абигайль старалась держаться как можно неприметнее.
– Я бы возмутилась, – однажды доверилась она Шокли, – но надо о детях заботиться и… Ох, я каждый день молю Бога о спасении.
Изможденное лицо Абигайль приобрело мученическое выражение, глаза ввалились, на бледной коже появился землистый оттенок, скулы проступили резче. «Она на череп похожа», – думал Шокли. И все же женщина работала не покладая рук и ни на что не жалуясь. Однажды Джон Муди пригласил ее с Питером на ужин, но Абигайль решительно отказалась.
– Негоже преломлять хлеб с католиками, – сказала она мужу, и тот нехотя согласился.
Весной 1554 года поведение Абигайль изменилось, и повинен в том был Питер. Она считала, что он безразличен к ее страданиям, хотя на самом деле он старался во всем ее ублажать: приносил детям Роберта подарки, по вечерам встречал жену цветами и радостной улыбкой…
Вот эта улыбка и раздражала Абигайль больше всего.
– Неужто ты не скорбишь, что мы в Женеву не уехали? – досадливо спрашивала она.
Питер недоуменно смотрел на жену и вздыхал:
– Но ты же сама говорила, что богоугодные дела и здесь можно творить.
Абигайль подозревала, что ему просто-напросто не хочется покидать мастерскую. Недовольство она таила, но иногда, узнав об алтаре в какой-нибудь уилтширской церкви или о проведении заупокойной службы, горестно восклицала:
– Доколе мы будем молча сносить засилье римского Антихриста? И не стыдно тебе, Питер Мейсон, с улыбкой на срам и позорище взирать?
Питер смущенно отводил глаза – ему чудилось, что жена укоряет его во всех мыслимых и немыслимых грехах. Трижды он обращался к Шокли за советом:
– Боюсь я, что она прилюдно такое объявит. Страшно мне за нее.
Непреклонный нрав Абигайль пугал и Шокли – если она пойдет наперекор установлениям епископа Солкота, неприятностей не оберешься.
– Жена моя крепка духом, а я слаб и немощен, – со вздохом признал Питер.
Эдвард с сожалением посмотрел на него.
Как ни странно, Абигайль не докучала укорами Роберту Мейсону, хотя он и ходил к мессе. Роберт, коренастый темноволосый мужчина, придерживался строгих взглядов.
– Засилье католиков – зло, – объяснял он. – Однако пока дети не вырастут, противиться ему я не стану.
– А совесть тебя не мучает? – спросила его Абигайль.
– Еще как мучает. И все же сейчас лучше страдать в молчании.
Абигайль признала справедливость такого решения, хотя и не могла с ним всецело согласиться.
– Может, мы украдкой будем славить Господа как подобает?
Так в Фишертоне появился тайный молитвенный кружок – Роберт, Питер, Абигайль и шестеро детей с чистой совестью раз в неделю отправляли службу по протестантскому обряду. Вскоре к ним присоединились соседи-протестанты.
Абигайль с радостью заботилась о детях Роберта – близость к малышам утешала ее в дни скорби. Труднее всего было расставаться с новорожденным. Всякий раз, возвращаясь домой на Кальвер-стрит, Абигайль печально глядела на мужа и думала: «Может быть, Господь пошлет нам ребеночка…»
Хоть ее и задевало безразличие мужа к вопросам веры, поведение Питера было безупречным. Он помогал жене по хозяйству и не жаловался, даже если Абигайль надолго задерживалась в Фишертоне, уверяя, что он и сам со всем прекрасно справляется.
Абигайль решила, что ее отсутствие ему только в радость. Может быть, поэтому она и гневалась на равнодушие мужа?
Эдвард Шокли с опаской следил за развитием событий в семействе Мейсон, сочувствуя истовости Абигайль и презирая простодушие Питера. Впрочем, своего презрения Эдвард стыдился – сам он открыто признал католичество. По воскресеньям он вместе с Кэтрин, Селией и Джоном ходил к мессе и торжественно наблюдал за вознесением Даров.
Жизнь в семье Шокли наладилась; Кэтрин была счастлива – она снова носила под сердцем ребенка.
Однако Эдвард Шокли вел двойную жизнь. Узнав о тайном молитвенном кружке Мейсонов, Эдвард умоляюще воскликнул:
– Можно я к вам присоединюсь? Только никому об этом не рассказывайте!
Питер обрадовался, а Абигайль промолчала, сурово поджав губы.
Эдвард гордился тем, что украдкой посещает протестантские богослужения. Ему приходилось лгать на мессе, обманывать жену, но здесь, среди собратьев-протестантов, он ощущал себя честным человеком. Опасность, которой он себя подвергал, вызывала в нем затаенную дрожь, однако Мейсонам Эдвард доверял.
– Я славлю Господа втайне, потому что не могу положиться на своих близких, – признался он однажды Абигайль, надеясь услышать слова одобрения.
Абигайль обратила к нему бледное лицо. Под взглядом непроницаемых карих глаз, окруженных глубокими тенями, Эдвард невольно поежился.
– Бог тебе судья, Эдвард Шокли, – с мягким укором произнесла она. – Господь Бог и твоя совесть. А моего суда не спрашивай.
Эдвард покраснел и больше об этом не заговаривал.
После одного из молитвенных собраний Шокли неожиданно увидел ярдах в ста от дома, у поворота, одинокую фигуру Джона Муди. Сначала торговец испугался, но потом решил, что юноша его не заметил, и забыл о происшествии.
В конце ноября 1554 года от Рождества Христова парламент принял кардинала Реджинальда Поула, папского легата, который провозгласил, что папа римский даровал Англии свое прощение и позволил стране вернуться в лоно Римской церкви. Союз с Римом был восстановлен. Основная заслуга в этом принадлежала королеве Марии, ее супругу Филиппу Испанскому и самому легату.
Реджинальд Поул, потомок королевской династии Плантагенетов, мечтал о папском престоле и о реставрации католичества в Анг лии. Однако парламент согласился на воссоединение со Святым престолом только при условии, что земли, отобранные Генрихом VIII у монастырей, ни в коем случае не возвратят Церкви. Кардинал Поул, вознегодовав, заявил английским клирикам, что протестантская ересь укоренилась в стране с их попущения, и потребовал, чтобы все епархии передали под начало достойных священников.
– Где же столько достойных священников набрать? – язвительно заметил Томас Форест.
Действительно, католических священников в Англии катастрофически не хватало. В сущности, католические реформы королевы Марии мало изменили положение Церкви, зато борьба с еретиками к концу 1554 года приняла серьезный оборот.
Мария страстно желала ребенка, но ее беременность оказалась ложной; Филипп охладел к супруге и часто оставлял ее в одиночестве. В довершение всех бед опальный протестантский проповедник Джон Нокс публиковал в Женеве обличительные трактаты, протестуя против «чудовищного правления женщин».
В 1555 году в Англии запылали костры.
Шокли с глубоким отчаянием узнал о мученической смерти протестантских епископов Латимера и Ридли. «Сегодня, милостью Божией, мы зажжем в Англии такую свечу, которую им не погасить никогда!» – воскликнул Латимер, взойдя на костер. Ни королева Мария, ни кардинал Поул не подозревали, что гибель епископов вызовет сочувственный отклик в душе каждого англичанина.
– Да, кардинал очень ревностно взялся за дело – повелел выкапывать из могил тела протестантов и предавать их костру, – с отвращением заметил Форест.
Весной следующего года произошло еще одно событие, взволновавшее умы англичан. Архиепископ Томас Кранмер, обвиненный в государственной измене и ереси, терзался сомнениями: прав ли он был, согласившись отречься от папы римского и объявив Генриха VIII главой Церкви? Прав ли он был, признав недействительным брак Екатерины Арагонской, дочь которой взошла на английский престол? Прав ли он был, отрицая католические доктрины – чистилище, пресуществление и прочее, – о которых вели споры даже сами реформаторы-протестанты? Да, Кранмер создал в Англии Про тестантскую церковь, но был ли он прав?
Королева Мария и кардинал Поул жаждали не столько смерти архиепископа, сколько его публичного отречения. Его гноили в темнице, устраивали публичные дебаты, пытали и всячески терзали ум и совесть. В конце концов сломленный, павший духом Кранмер своей рукой подписал документ об отречении от протестантской веры.
Эдвард Шокли, Питер и Абигайль узнали об этом на Фишертонском мосту от какого-то прохожего. Все трое обменялись изумленными взглядами.
– Теперь его точно сожгут, – горько вздохнул Эдвард. – Они своего добились.
– Он слаб духом, говорить о нем незачем, – решительно объявила Абигайль и, обведя своих спутников презрительным взором, отвернулась.
Кэтрин с радостью восприняла страшное известие. Малышка Селия, слушая разговоры о кострах, невинно осведомилась, зачем они, и Кэтрин сказала дочери:
– Спроси отца, он тебе все объяснит.
Эдвард обомлел от изумления, а Кэтрин, видя замешательство мужа, с милой улыбкой пояснила:
– Костры спасут души грешников от огня преисподней.
Эдвард неохотно кивнул, поражаясь, что его ласковая, послушная жена искренне верит в необходимость подобной жестокости.
Эдвард Шокли навсегда запомнил мартовские события 1556 года.
Сначала на рыночной площади Солсбери казнили лорда Стортона – того самого, что швырял камни в ворота поместья Пемброков. Из уважения к его титулу Стортона повесили на шелковой веревке за то, что он велел своим слугам убить Уильяма Хартгилла, жителя Уилтшира. Слугам досталась петля попроще – из пеньки. За казнью наблюдала ликующая толпа зевак.
Следующая казнь оказалась страшнее.
В Лондоне протестантов преследовали сильнее всего, но епископ Солкот, ревностно исполнявший повеления королевы, не собирался отставать от своих собратьев на восточном побережье страны. Подходящего случая долго ждать не пришлось: в приходской церкви Кивила, небольшой деревушки в Центральном Уилтшире, три протестанта, наизусть затвердившие английский текст Библии Тиндаля, во время мессы объявили священнику, что чистилища не существует.
– Они утверждали, что чистилище папа римский выдумал, чтобы деньги за индульгенции с паствы огребать, – восхищенно рассказывал Питер Мейсон.
Епископ Солкот, решив примерно наказать еретиков, приказал схватить их и лично допросил. Папу римского они именовали Антихристом, утверждали, что католическая месса – идолопоклонство, и отвергали таинство пресуществления, а один из них добавил, что деревянные статуи святых годятся только на растопку.
– Епископ Солкот задаст им жару, – вздохнул Питер. – На костер отправит.
Вскоре после того, как до Солсбери дошли вести о мученической смерти архиепископа Крамера, трех уилтширских еретиков вывели в поле близ Фишертона. Им позволили преклонить колена и помолиться. Джону Мондрелу, крестьянскому сыну, сулили помилование, если он отречется от протестантской ереси, однако он воскликнул:
– Не отрекусь, хоть весь город мне в награду пообещайте!
– Настал день блаженства! – провозгласил его приятель, каменщик Джон Спайсер.
Уильям Коберли, портной, взошел на костер молча и страдал дольше всех. Когда огонь охватил его левую руку, он прижал правую к сердцу и, по свидетельству летописца, «исторг из себя кровь».
Кэтрин Шокли осталась дома, молить за спасение душ казненных, и Эдвард пришел на казнь один. Впрочем, смотрел он не на пламя костра, а на Питера Мейсона, стоявшего подле Абигайль. На лице Питера застыло странное, восторженное выражение – Эдвард так и не понял, что оно означает.
Капитану Джеку Уилсону минуло сорок лет. Тридцать из них он бороздил моря. В темных кудрях сквозила седина, в щербатом рту недоставало трех зубов, но это не лишало его притягательного обаяния. Высокий, широкоплечий и длинноногий, он двигался решительно и ловко, с какой-то кошачьей грацией. Женщины считали его неотразимым. Даже издалека его ни с кем нельзя было спутать – моряки сходили на бристольскую пристань вразвалочку, будто все еще чувствуя палубу под ногами, а Джек Уилсон сохранял размашистую походку и на море, и на суше. Ему дали прозвище Волк.
– Он человек хороший, надежный, а звериный оскал показывает только неприятелю, – рассказывал моряк Нелли Годфри. – Чисто волк.
Каперы – капитаны приватных судов, заручившиеся королевским разрешением на захват вражеских торговых кораблей – не считались морскими пиратами, но мало чем от них отличались.
– А с женщинами он каков? – спросила Нелли.
– Тоже волк, – рассмеялся моряк.
Едва Нелли Годфри увидела Джека Уилсона, как тут же решила, что выйдет за него замуж.
В Бристоле Нелли жила безбедно; первое время ее поддерживали собственные сбережения и подарок Шокли, а потом нашелся и покровитель – вдовый торговец, который снова жениться не хотел, но любовницу содержал с удовольствием. Пожилой краснолицый толстяк жаждал утешения и ласк, а взамен щедро награждал Нелли, хотя и замыкался, если она его о чем-то просила. Впрочем, Нелли это быстро поняла и с просьбами к нему не обращалась.
Она обзавелась подругами, жила скромно и копила день ги на черный день. «Пока мне везет, а там видно будет, – рассуждала она и собралась послать брату весточку, однако вовремя спохватилась: – Нет, лучше подождать. Вот замуж выйду, тогда и похвалюсь».
Разумеется, богатый торговец в жены ее брать не собирался, да она и сама этого не хотела: «Довольно и того, что он три ночи в неделю со мной проводит. Целыми днями я этого не выдержу».
В доме торговца она никогда не была – там жили его дети, – однако представляла его как наяву: тяжелый дубовый стол в гостиной, начищенное серебро в столовой и сверкающая медная посуда на кухне, вышитое покрывало на кровати в спальне… По ночам Нелли лежала без сна, воображая свой собственный дом, блистающий чистотой, жарко натопленный, пропитанный ароматами яств, пряностей, фруктов и цветов, в котором звучал детский смех… О детях она думала с затаенной тоской.
Где же отыскать такого мужа, который не даст ей скучать?
«Я за любого пойду, лишь бы взял, – думала она и со смехом признавалась: – Нет, не за любого, а только за особенного».
Отец десятилетнего Джека Уилсона, вопреки мольбам его матери, отправил сына в море, предупредив капитана корабля: «Ежели толку из щенка не будет, брось его за борт».
Джек хорошо помнил деда, Уилла, – невысокого жилистого старика, первым из всех Уилсонов ставшего мореходом.
– Я из Сарума в Лондон пришел, на корабль нанялся, – рассказывал дед. – Господь мне знамение послал: в грозу огненный путь через поле проложил.
Родные, не подозревая о древних римских дорогах, втайне подсмеивались над выдумками старого моряка.
Из Джека Уилсона вышел толк. Нелли Годфри повстречалась с ним, когда он уже стал знаменитым капитаном. Жениться он пока не собирался, хотя, обзаведясь детьми в Лондоне, Бристоле и Саутгемптоне, выплатил матерям щедрое содержание и более с ними не связывался; о младенце в Испании он не знал.
«Вот за него я и выйду замуж», – решила Нелли, увидев капитана Уилсона в портовом трактире, и вскоре выяснила, что он остановился в Бристоле на неделю, а потом уезжает по делам в Лондон.
Час спустя Нелли завела с ним оживленный разговор о торговле и морских путях – она многому научилась у своего торговца. Уилсон объяснил, что намерен отправиться в путешествие по Балтийскому морю в далекую Россию вместе с флотилией Московской компании.
– С Ричардом Ченслером и Хью Уиллоби, которые хотели найти северо-восточный проход из Европы в Китай? – перебила его Нелли.
Джек с любопытством посмотрел на хорошо осведомленную собеседницу.
– А на юг, к Берберскому берегу, вы ходили? – спросила она.
– Да, в Средиземном море я бывал, – кивнул он. – Там пираты свирепствуют, особой выгоды не получишь, хоть я сражений и не боюсь.
Немного погодя она попрощалась с капитаном Уилсоном, но в дверях украдкой заметила, как он проводил ее взглядом. На следующий день они снова встретились, а когда Джек пригласил Нелли отужинать вместе, она учтиво поблагодарила и отказалась. То же самое повторилось и на третий день.
На четвертый день Нелли пришла в трактир вечером, незаметно скользнула мимо обеденного зала и, подкупив одну из служанок, проникла в спальню Джека. В те времена на постоялых дворах несколько человек останавливались в одной комнате, где спали на полу или на тюфяках, но капитан Уилсон был знаменит и богат, а потому ему отвели лучшую в доме спальню с широкой дубовой кроватью. Нелли разделась, забралась под одеяло и стала ждать.
Ближе к полуночи капитан Джек Уилсон со спутницей поднялся к себе, распахнул дверь… и удивленно уставился на незваную гостью.
– Девицу-то отошли, она тебе сегодня не понадобится, – невозмутимо произнесла Нелли.
С торговцем она рассталась и, уверенная в своей неотразимости, решилась на отчаянный поступок. Проведя с Уилсоном три ночи, она без обиняков заявила:
– Пора тебе женой обзавестись. Лучше меня не найдешь и не ищи. Между прочим, я из благородных.
Уилсон задумался. Почти всю жизнь он провел в скитаниях, но ни одна женщина не привлекала его так, как Нелли. В ней чувствовалась жажда жизни, внутренняя сила и напор.
«Что ж, денег у меня хватает… Чего еще ждать?» – подумал он.
Два месяца спустя Нелли Годфри стала хозяйкой особняка в Крайстчерче.
«Что заставило Мейсона совершить такой безумный поступок? – размышлял Шокли, вспоминая странное выражение на лице Питера во время казни трех еретиков. – Неужели он уже тогда это замыслил? Или, не выдержав постоянных упреков Абигайль, решил доказать, что он не трус?»
Увы, Питер Мейсон отказывался объяснить причины своего поступка.
В то утро прихожане собрались к мессе. Едва священник приступил к таинству вознесения Даров, Питер неторопливо направился к алтарю, встал лицом к пастве и начал что-то негромко говорить. Священник и служки, не расслышав тихих слов, удивленно поглядели на него. Питер решительно повторил сказанное, и в церкви раздались ошеломленные восклицания.
По бледному лицу Мейсона скользнула странная улыбка. Священник велел служкам схватить ножевых дел мастера и вывести его из церкви.
Питер Мейсон во всеуслышание объявил, что не верует в таинство пресуществления.
Епископ Солкот, изумленный дерзким поступком Мейсона, растерялся и целую неделю раздумывал, что предпринять. По Солсбери ходили слухи, что Питер Мейсон повредился рассудком.
Неизвестность терзала Эдварда Шокли: он боялся не только за Питера, но и за себя. В последнее время он редко посещал тайные молитвенные собрания, не желая встречаться с укоризненным взглядом Абигайль. Вдобавок ему не хотелось привлекать к себе внимания. Что, если Джон Муди разгадал секрет зятя и поделился им с Кэтрин? Эдвард завел с женой разговор о протестантах, пытаясь выведать ее отношение к еретикам, но так ничего и не понял. Впрочем, многие горожане знали о знакомстве Эдварда с Мейсонами. Шокли решил держаться настороже и избегать встреч с Абигайль.
Однажды он, набравшись смелости, заглянул к Питеру в мастерскую и попытался его образумить. Питер посмотрел на него все тем же восторженным, непонимающим взглядом и ничего не ответил.
На следующее воскресенье Питер Мейсон вышел во двор церкви Святого Эдмунда и снова во всеуслышание объявил, что отрицает таинство пресуществления. То же самое он повторил и самому епископу Солкоту. Вечером Питера Мейсона схватили и бросили в темницу, где священники принялись его допрашивать:
– Веруешь ли ты в таинство пресуществления?
– Нет, не верую.
– Приемлешь ли ты власть папы римского?
Питер Мейсон упрямо замотал головой.
– Отвергаешь ли ты чистилище? Святые мощи? Вознесение Даров? Установления Святого престола?
Питер подтвердил, что все отвергает, и отречься от своих заблуждений наотрез отказался.
Тут в допрос вмешался один из каноников, высокий старик:
– А почему ты отвергаешь эти установления?
На мгновение Питер смешался, явно не зная, что ответить.
– Потому что предрассудки сии противоречат истинной вере, – наконец произнес он и умолк, ожидая приговора.
Старый каноник вздохнул:
– Питер Мейсон, хоть ты и возводишь хулу на Святую церковь, но это оттого, что разум твой помутнен. Ежели ты раскаешься в содеянном, то избегнешь смерти.
С лица Питера не сходило восторженное, зачарованное выражение.
Следующие два дня Шокли пребывал в постоянном страхе, полагая, что всех, кто посещал тайные молитвенные собрания, поведут на допрос, ведь Питер Мейсон наверняка назвал имена соучастников: Роберта, Абигайль и даже его, Эдварда. Что говорить? Отрицать ли таинство пресуществления? Или заявить, что он не исповедует протестантскую веру? Но ведь Абигайль подтвердит, что Эдвард Шокли посещал тайные собрания…
Всякий раз, заметив испытующий взгляд Джона Муди, Шокли вздрагивал и покрывался холодным потом. Неужели шурин донесет епископу?
Спустя три дня после ареста Питера Шокли встретил Джона Муди на рыночной площади.
– Нам надо поговорить, – начал Джон.
– О чем? – побледнев, спросил Эдвард.
– О Питере Мейсоне. Вы же с ним приятели.
– Да мы едва знакомы! – дрожа, воскликнул Шокли.
– Правда? – удивился Джон. – А я думал, что…
– Мне до Мейсонов дела нет…
Джон удивленно взглянул на него и добавил:
– По-моему, Питера надо образумить.
– Ему уже ничего не поможет. От своих убеждений он не отречется.
– Я его каждый день вижу. Понимаешь, он… – Джон поморщился и продолжил: – Это жена его так настроила, на верную смерть отправляет.
– И чего же ты от меня хочешь?
– Уговори его, пусть отречется от своих слов.
Эдвард с облегчением перевел дух – похоже, Джон его ни в чем не подозревает – и заявил:
– Мы добрые католики. По-твоему, ересь следует оставить безнаказанной?
– Чтобы спасти заблудшую душу, костер не обязателен. Помоги Питеру!
Эдвард погрузился в размышления. Что делать? Ведь его тоже могут заподозрить в соучастии… А вдруг Питер обмолвится? Или Абигайль, не желая, чтобы муж отрекся от своих слов, расскажет всем, что Шокли посещал тайные молитвенные собрания? Но что подумает Джон Муди, если Эдвард не проявит христианского милосердия?
Может быть, его опасения беспричинны? Похоже, арестовывать его не собираются. После долгих часов мучительных размышлений Эдвард пришел в тюрьму и попросил свидания с арестованным.
В Фишертонской тюрьме, кроме Питера, было еще двое заключенных – мужчина и женщина. В комнате стоял деревянный стол и две скамьи. Эдварду позволили увидеться с Мейсоном наедине, без священников.
За неделю, проведенную в заключении, внешне Питер не изменился, разве что немного похудел, но держался отстраненно, со спокойной невозмутимостью. Эдвард беседовал с ним около получаса.
– Мы хотим спасти тебя от страшной участи, – начал Шокли.
Питер улыбнулся и промолчал.
– Понимаешь, чистоту веры можно хранить в душе, – неуверенно продолжил Эдвард.
Питер, будто не слыша, завел разговор о своей мастерской и отчего-то вспомнил Нелли Годфри:
– Она ко мне часто заглядывала…
Казалось, воспоминания о давних, счастливых временах доставляют ему утешение.
За разговором время пролетело незаметно. Внезапно в тюрьму пришли Абигайль с Робертом. Эдвард с опаской поглядел на Абигайль. На бледном, изможденном лице женщины истовым огнем горели ввалившиеся карие глаза, обведенные темными кругами. В ней сквозила какая-то неземная отрешенность.
Что-то заставило Эдварда остаться.
Абигайль и Роберт негромко заговорили с Питером, словно бы успокаивая и наставляя. Абигайль сохраняла невозмутимость, а Роберт лишь изредка кивал. Питер сидел на скамье, не поднимая головы, а потом, устремив на Эдварда спокойный взгляд, негромко произнес:
– Завтра меня сожгут.
Роберт Мейсон замялся.
– Во славу Господа! – воскликнула Абигайль, неотрывно глядя на мужа.
– Значит, я правильно поступил? – робко спросил Питер.
– Ты свершил богоугодное дело, – подтвердила она.
Питер встал и, обернувшись к Роберту, провозгласил:
– Вверяю жену мою твоим заботам.
Роберт смиренно склонил голову.
– Ты не отречешься? – не выдержал Эдвард, нарушив мрачную торжественность происходящего. – Питер Мейсон, прошу тебя, отрекись! Отрекись на словах, сохрани истинную веру в сердце!
В голосе Шокли звучала неизбывная мука, будто это ему, а не Питеру Мейсону грозила страшная смерть на костре.
Роберт смущенно отвел глаза.
– Каждый поступает по велению совести, – невозмутимо изрекла Абигайль.
Питер Мейсон посмотрел на жену пристальным, понимающим взглядом и со вздохом произнес:
– И я тоже.
По странной случайности Нелли Уилсон с мужем приехали в Солсбери в день казни Питера Мейсона. Поначалу Нелли хотела письмом предупредить брата о приезде, но потом решила его удивить и явиться неожиданно. Ясным осенним утром карета Уилсонов катила по наезженной дороге, Нелли пребывала в прекрасном расположении духа, предвкушая встречу с Пирсом, как вдруг удивленно заметила, что в Фишертон устремилась толпа.
Сообразив, что происходит, Нелли велела кучеру повернуть.
Посреди Фишертонского пастбища, окруженный вязанками дров и хвороста, стоял Питер Мейсон, привязанный к столбу. Помощники шерифа поднесли к дровам зажженные факелы.
Нелли сразу поняла, что Питеру уготована сравнительно легкая смерть, – вязанки дров переложили мокрой палой листвой, чтобы мученик быстро задохнулся в клубах едкого дыма, а не жарился в безжалостных языках пламени. К Питеру приблизился старый каноник, в последний раз предложил ему отречься, но Питер неотрывно смотрел на Абигайль, неподвижно стоявшую рядом с Робертом.
Нелли Уилсон, в девичестве Годфри, поначалу никто не заметил – ни Абигайль, ни Эдвард Шокли с женой, ни Джон Муди.
«Неужели огонь и впрямь очищает заблудшую душу?» – думал Эдвард, глядя на жену, которая, опустившись на колени, начала читать молитву. Эдвард Шокли со стыдом последовал ее примеру.
Питер на миг отвел взгляд от жены и, увидев Нелли, радостно улыбнулся. Клубы черного дыма скрыли его от глаз толпы – помощники шерифа постарались на совесть. Вскоре все было кончено.
Люди начали расходиться. Абигайль Мейсон обвела взором редеющую толпу и внезапно заметила Нелли, которая со слезами на глазах смотрела на пляшущие языки пламени.
Абигайль, брезгливо поморщившись, решительно двинулась к ней. Роберт покорно шел следом.
Абигайль Мейсон подошла к Нелли и, обернувшись к бейлифу и помощникам шерифа, провозгласила:
– Вот, глядите, явилась блудница вавилонская! Арестуйте ее немедленно.
Нелли, поджав губы, задумчиво поглядела на нее.
– Это моя жена! – твердо заявил капитан Уилсон. – Кто ты такая, чтобы порочить ее честное имя, – городская сплетница или проклятая ведьма?
Все вокруг рассмеялись.
– Нет! – выкрикнула Нелли, перекрывая смех. – Это Абигайль Мейсон, она нарочно мужа на костер отправила, чтобы новым муженьком обзавестись.
Абигайль, смертельно побледнев, вперила в Нелли горящий ненавистью взор.
Эдвард Шокли, мучимый совестью, внезапно сообразил, что Нелли права.
Кровавое правление королевы Марии неуклонно приближалось к концу.
В 1557 году, после смерти епископа Солкота, в Сарум прислали трех католических священников, но нового епископа назначать не торопились. В том же году Филипп II, король Испании, вернулся к нелюбимой жене, желая втянуть Англию в войну против Франции. Граф Пемброк возглавил семитысячное войско, и французы потерпели сокрушительное поражение в битве при Сен-Кантене, уступив объединенным силам английской и испанской армии, однако же победа оказалась недолговечной. В 1558 году французские войска заняли Кале, и Филипп, желая сохранить свои земли в Италии, не стал защищать город. Английские владения в Европе отошли Франции, что было выгодно английской казне (на оборону Кале уходили огромные средства), но окончательно подорвало престиж королевы Марии.
Ненавистная королева-католичка скончалась от лихорадки в ноябре 1558 года.
В правление Марии Кровавой на костре погибло двести восемьдесят три человека – не так уж и много по меркам того времени, однако этого хватило, чтобы вызвать недовольство англичан. Последний приговор, вынесенный в Саруме перед смертью Марии, так и не привели в исполнение – шериф уничтожил письменный приказ, а нового Мария подписать не успела.
На историческую арену Англии вступили два блистательных государственных деятеля – королева Елизавета I и Джон Джуэл, епископ Солсберийский.
1580 год
Эдвард Шокли возвращался домой из деревни Даунтон, к югу от Солсбери. После полудня прохожие на улицах города встречались редко. Подъезжая к своему дому, Эдвард с удивлением заметил, что из дверей поспешно выходит какой-то человек, по виду ремесленник. Окликнуть его Шокли не успел, и незнакомец скрылся в переулке, ведущем к рыночной площади.
Эдвард недоуменно пожал плечами и с легким сердцем вошел в дом.
Прежде он долгие годы жил в страхе, лгал жене и терзался угрызениями совести. Теперь же, благодаря королеве Елизавете, у него появилась цель в жизни. Кэтрин Шокли или Абигайль Мейсон подобной цели не одобряли, но Эдвард, как и многие его соотечественники, считали ее разумной и благородной.
Она заключалась в достижении мира путем уступок и компромиссов.
При мудрой и дипломатичной королеве Елизавете в Англии наконец-то воцарился мир – и на политической, и на религиозной арене. Елизавета I, пойдя по стопам своего отца Генриха VIII, объявила себя главой Англиканской церкви. Богослужение велось на английском, по Книге общих молитв, составленной архиепископом Кранмером; причастие – хлеб и вино – устанавливалось для обоих видов таинства Господня, Крещения и Вечери, а посещение церкви объявлялось обязательным для всех. По утвержденному парламентом Акту о супрематии всем лицам на государственной и церковной службе полагалось принести клятву на верность королеве.
Церковная служба приняла умеренно протестантский облик, да бы не вызывать возмущения католиков и не оскорблять их религиозных убеждений. Все нововведения говорили о терпимости, насильственных мер никто не применял. Елизавета, в отличие от сводной сестры Марии, к религии относилась без истовости, а вот страх гонений был ей известен не понаслышке. Блюсти чистоту душ подданных она не собиралась – пусть веруют во что угодно, лишь бы ходили в церковь и платили налоги.
Этим переменам противились только самые убежденные протестанты и ревностные католики, а остальные англичане вздохнули с облегчением. Да, нововведения были несовершенны, притворны и беспринципны, но в то же время вполне разумны и приемлемы.
Королева окружила себя доверенными советниками, среди которых по-прежнему блистал граф Пемброк, переживший четырех монархов; набирал силу и Уильям Сесил, по достоинству оценивший осмотрительную дипломатию Елизаветы. Архиепископом Кентерберийским стал Мэттью Паркер, известный английский богослов и реформатор, близкий друг Томаса Кранмера, а Джона Джуэла назначили новым епископом Солсберийским.
Епископ Джуэл, вдохновенный проповедник, не только преобразил вверенную ему епархию Сарума, но и написал первую «Апологию Англиканской церкви», где подчеркивалась связь Англиканской церкви с Первоапостольской.
Эдвард Шокли, прочитав «Апологию», пришел в восхищение.
– С этими доводами невозможно не согласиться! – объяснял он близким. – Действительно, Англиканская церковь не отрицает власти Господа, напротив, возвращается к истокам, изначально закрепленным в Священном Писании и лишь впоследствии искаженным учением Римской церкви. Мы славим Господа и, следуя Его наставлениям, приемлем хлеб и вино. Наши епископы ничем не отличаются от епископов Первоапостольской церкви, в которой не было ни папы, ни причудливых украшений и обрядов. Мы избавили нашу Церковь от покровов, риз и напрестольных пелен, очистили ее от святых мощей, индульгенций и предрассудков.
Встреча с епископом помогла Эдварду Шокли обрести внутренний покой и примириться со своей измученной совестью. Епископ Джуэл, невысокий и худощавый, чуть сутулился от постоянного сидения за книгами; в карих глазах светился незаурядный ум; лоб казался еще выше от ранних залысин. В правление королевы Марии Джон Джуэл, сторонник протестантской веры, бежал в Европу, а известие о назначении в епархию Солсбери воспринял с опаской.
– Перед моим приездом в шпиль собора ударила молния, – шутливо признался он Эдварду. – Похоже, это знамение Господне. В Саруме любят католическую роскошь, драгоценную церковную утварь, парчовые одеяния священников, иконы в богатых окладах и золоченые статуи святых… В Базеле или в Женеве над этим посмеялись бы, но здесь, в Англии, пастырю следует проявлять терпение, не настаивать на переменах, а вводить их постепенно. Так же до лжно поступать и с собой. Терпение – великий наставник, равно как Господь – великий Судия.
Сейчас, когда опасность миновала, Эдвард, отринув муки совести, честно рассказал Кэтрин о своем отношении к епископу и позволил ей воспитывать детей в католической вере, требуя только одного – соблюдать повеления королевы и посещать службу в Англиканской церкви.
С тех пор супруги жили мирно и трений между ними не возникало. Дети выросли: дочь, тайная католичка, вышла замуж, а сын, принявший англиканскую веру, женился.
Абигайль Мейсон вышла замуж за Роберта и родила двоих детей. Семья исправно посещала богослужения в англиканской церкви. Иногда, вспоминая робкого Питера, Эдвард задумывался, помнит ли о нем Абигайль.
Несколько раз Эдвард встречал Нелли Уилсон – она приезжала в Солсбери из Крайстчерча навещать брата. Нелли раздобрела, а отважный капитан Уилсон сколотил огромное состояние и теперь водил дружбу со знатными господами. О прошлом Нелли больше не вспоминали; впрочем, кроме Абигайль Мейсон, никто в Саруме о нем не знал. Недавно Пирс Годфри умер; Эдвард иногда нанимал на работу его сыновей, продолжавших занятие отца.
Теперь для страны существовала лишь одна угроза – католическая Испания. Филипп II, собираясь завоевать Англию, поддерживал ирландских мятежников. К тому же он надеялся на помощь католички Марии Стюарт, шотландской королевы, сверженной протестантскими последователями Джона Нокса и заключенной в Шеффилдском замке, однако претендующей на английский престол. Заручился Филипп и поддержкой папы римского, который отлучил Елизавету от Церкви и тайно сулил индульгенции дворянам-католикам, вызвавшимся устранить английскую королеву. По стране разбрелись иезуиты, которые, подобно Эдмунду Кампиону[39], подстрекали английских католиков к мятежу и неповиновению, а также призывали свергнуть Елизавету с престола.
Все говорило о том, что Испания вот-вот начнет военные действия.
Именно об этом размышлял Эдвард Шокли по дороге из Даунтона, собираясь выступить с речью на городском совете.
Кэтрин, не ожидавшая скорого возвращения мужа, объяснила Эдварду, что неизвестный гость, золотых дел мастер, приходил засвидетельствовать свое почтение Джону Муди, а потом добавила:
– Два часа назад приезжал Томас Форест, приглашал тебя в Авонсфорд.
Это известие заставило Эдварда Шокли забыть обо всем остальном.
Что теперь понадобилось Форесту?
Пути Эдварда Шокли и Томаса Фореста постепенно разошлись, и бывшие приятели уже много лет не общались.
Все началось с того, что Томас Форест просчитался: торговля сукном не принесла желанной прибыли. Нидерланды, основной рынок сукна, стали владениями испанской короны, где святая инквизиция силой насаждала католичество. Вильгельм Оранский поднял страну на восстание против кровавой тирании герцога Альбы, наместника Нидерландов. Долгие годы в Нидерландах царил хаос, и английским купцам пришлось прекратить торговлю с Антверпеном.
Дела Шокли пошатнулись, однако он неустанно искал новые рынки сбыта для своего сукна, а вдобавок торговал грубой полосатой каразеей и кружевами.
– Нам на жизнь хватает, – объяснял он родным, – а вот Форест доходами недоволен.
Незадолго до смерти епископа Джуэла Шокли за скромную сумму выкупил долю Фореста из общего дела. Теперь всем заправляли сам Эдвард, его сын и Джон Муди. С фламандцем, торговым представителем в Антверпене, пришлось расстаться – свои долги он вы платил Эдварду, который предоставил ему более выгодные условия.
Эдвард Шокли, решив, что настало время отойти от дел, все свои силы направил на улучшение жизни города, особенно городской бедноты. Именно заботы о призрении бедных вызвали резкое недовольство Томаса Фореста.
В елизаветинских законах о бедных впервые упоминалось, что благотворительных деяний Церкви и частных лиц недостаточно для помощи нуждающимся, однако же особой милости к беднякам не проявляли: за бродяжничество по-прежнему секли кнутом у позорного столба, протыкали мочку уха, а иногда даже казнили.
В Саруме бедняков хватало. Край обнищал не только из-за спада на рынке сукна, но и в связи с появлением огромного количества золота, ввозимого Испанией из колоний в Новом Свете. Инфляция в Европе привела к повышению цен на зерно и, как следствие, к увеличению земельной ренты и общих затрат крестьян-издольщиков на ведение хозяйства. Однако Томас Форест, предприимчивый землевладелец, умел из всего извлекать выгоду.
– Со своих полей он собирает прекрасные урожаи, стада овец год из года плодятся, – признавал Шокли. – А вот его арендаторы страдают.
Королева Елизавета, озаботившись обнищанием страны, приняла простое решение – обложить население налогом в пользу бедных и создать работные дома для бедняков и сиротские приюты, где детей обучали ремеслам. Заправляли этим мировые судьи.
Томас Форест, мировой судья, открыл в Солсбери работный дом, Брайдуэлл.
– Он даже одноногого калеку работать заставит, – вздыхал Шокли. – А с бедняками обращается хуже, чем со скотиной.
Эдвард Шокли и Джон Муди всячески старались помочь бедным. Форест досадовал, что они берут обитателей работных домов учениками на суконную мануфактуру. Впрочем, на мануфактуре трудились не только бедняки. Граф Пемброк приютил в своих владениях фламандских ткачей-протестантов, бежавших из Фландрии от преследований испанских инквизиторов. Джон Муди, хотя и был католиком, высоко ценил их мастерство и с удовольствием давал работу фламандским умельцам.
– Фламандцы и бродяги нас не подведут, – шутил Шокли.
Подобная благотворительность пришлась не по нраву Форесту, однако открыто перечить Шокли он не мог: Эдвард слыл влиятельным человеком в Солсбери, особенно после того, как его избрали в совет двадцати четырех.
К 1570 году Форест, встречаясь с бывшим партнером, отвешивал ему церемонный поклон и держался надменно и холодно, хотя Эдвард по-прежнему питал расположение к старому знакомцу. В 1574 году их отношения и вовсе прекратились – вскоре после того, как Сарум посетила королева Елизавета.
Вначале она остановилась в Уилтон-Хаусе, в поместье графа Пемброка, которое перешло по наследству к сыну старого Уильяма, Генри Герберту, одному из королевских фаворитов. Кортеж Елизаветы прибыл в Уилтон в пятницу, 3 сентября. Вечером граф Пемброк пировал с королевой в своем особняке, а на следующий день пригласил Елизавету на охоту в Кларендонский лес, где на широкой поляне возвели роскошные кущи из ветвей и листвы. К сожалению, начался сильный ливень, и королевскую трапезу спешно перенесли в дом лесничего. Когда дождь прекратился, охоту продолжили; собаки загнали нескольких оленей. Королева, довольная радушным приемом, в понедельник, 6 сентября 1574 года, отправилась в Солсбери.
Сарумские купцы с восторгом разглядывали королевский кортеж: вельможи, щегольски откинув короткие плащи, выставляли напоказ роскошные камзолы с жесткими плоеными воротниками и кружевными манжетами; придворные дамы красовались в изящных нарядах с пышными рукавами и длинными, богато расшитыми юбками, подчеркивавшими тонкую, затянутую в корсет талию; стоячие кружевные воротники прикрывали щеки. Торговцев больше всего привлекало разнообразие всевозможных дорогих тканей – тончайших шелков, тяжелого штофа и яркой парчи.
Семейство Шокли затерялось в толпе встречающих; сам Эдвард стоял в первом ряду, бок о бок с остальными городскими чиновниками, наряженными в парадные алые одежды; сзади выстроились почтенные торговцы и горожане в черных одеяниях, подбитых шелком и тафтой. Мэр города торжественно преподнес королеве чеканный золотой кубок, наполненный звонкой монетой – двадцать фунтов золотом.
Елизавета, благосклонно улыбнувшись мэру, окинула взглядом чиновников.
– Мистер Шокли на всю округу известен своими заботами о неимущих и бедняках, ваше величество, – пояснил мэр.
Королева обернула к Эдварду бледное лицо – он заметил высокие скулы, кожу в оспинах, проницательные глаза – и произнесла:
– Прекрасно, мистер Шокли.
Эдвард смущенно зарделся.
– А кто у вас мировой судья? – неожиданно осведомилась она.
– Томас Форест, – торопливо подсказал мэр.
– И где же он?
Форест выступил вперед и склонился перед королевой в церемонном поклоне.
Елизавета снова обернулась к Эдварду и с лукавой усмешкой спросила:
– А как он о бедняках заботится?
Шокли вздрогнул от неожиданности. Все глаза устремились на него. Томас Форест побледнел.
– Худо, ваше величество, – честно ответил Эдвард.
Королева звонко расхохоталась.
После этого случая Форест перестал разговаривать с давним приятелем.
Шокли на всю жизнь запомнил свою встречу с королевой.
– И все бы хорошо, – с усмешкой говорил он, – только она едва город не разорила.
По давней традиции дары горожан королева жертвовала на благотворительные деяния, а вот на устройство торжества городским чиновникам пришлось потратиться: платы требовали королев ские пекари и повара, носильщики и ливрейные лакеи, музыканты и шуты, королевские стражники-йомены и пристав (который запросил сорок шиллингов), герольды и герольдмейстер (который запросил все пятьдесят), а трубачи, встречавшие королевский кортеж пронзительными звуками фанфар, обошлись городскому совету в целых три фунта золотом.
– Нет уж, один раз приняли – и довольно, – вздыхал Эдвард.
Королевские визиты считались великой честью, однако и знатные вельможи, и горожане, памятуя о непомерных расходах, боялись их как огня.
«Любопытно, зачем это я вдруг Форесту понадобился? Наверняка он что-то замышляет», – с тайной усмешкой думал Шокли.
Все началось в сентябре 1580 года, когда Томас Форест неожиданно прислал Эдварду приглашение посетить Авонсфорд.
Эдвард Шокли без колебаний согласился. К его изумлению, к Фо рестам приехали погостить Уилсоны из Крайстчерча – капитан Джек, Нелли и три взрослых сына, по примеру отца ставших моряками. Старший сын напоминал Джека в молодости, средний был похож на мать, а младший, высокий и широкоплечий, унаследовал черты обоих родителей.
Нелли превратилась в дородную матрону, хотя в глазах все еще плясал шаловливый огонек; вопреки модным веяниям она облачилась в тугой корсаж со шнуровкой впереди, а жесткий плоеный воротник был скромных размеров; на седых кудрях красовалась лихо заломленная шляпка с пером. Судя по всему, сыновья матери побаивались больше, чем сурового отца.
При виде Эдварда Нелли смутилась, однако он, не собираясь поминать прошлое, отвесил ей учтивый поклон:
– Добрый день, мистресс Уилсон.
Шокли ни на миг не сомневался, что Форест пригласил их с определенной целью – оставалось только выяснить, с какой именно.
Гостям представили сына Томаса, Джайлза Фореста. Молодой человек был ровесником старшего сына Уилсона, но на этом их сходство заканчивалось. Джайлз являл собой образец придворного вельможи – стройный, миловидный, с темными завитыми локонами, обрамлявшими узкое лицо с тонкими чертами. Вот уже несколько лет он учился в Оксфорде, поэтому Шокли с ним прежде не встречался, однако поведение юноши не оставляло сомнений в том, что он вознамерился расположить к себе торговца.
В гостиной Шокли сразу же заметил деревянный щит с гербом Форестов. Прежде о дворянском происхождении семьи свидетельствовало изображение восстающего льва на золотом поле, но теперь фамильный герб претерпел существенные изменения. На расчлененном и пересеченном щите в первой четверти красовалась древняя эмблема рода Годфри – белый лебедь на червленом поле, с небольшим знаком отличия, указывавшим на то, что Форесты ведут свой род от боковой ветви семейства Годфри.
Джайлз Форест с готовностью пустился в объяснения:
– Один из моих предков взял в жены наследницу рыцарского рода Годфруа, и Авонсфорд перешел к нам по материнской линии. В третьей четверти – герб Уайтхитов, нормандских рыцарей, с которыми мы тоже в родстве, равно как и с семейством Уильяма Лонгспе, третьего графа Солсбери, чей герб расположен в четвертой четверти.
Шокли смутно припоминал, что предки Форестов были родом из Солсбери, но и представить себе не мог, что семья обладает такими влиятельными связями.
– Я не подозревал о знатности вашего рода, – признался он.
– Если позволите, я покажу вам наше генеалогическое древо, – предложил Джайлз.
Как многие дворяне того времени, Форесты обратились в Геральдическую палату, где один из герольдмейстеров, известный плут и мошенник, проследив историю поместья Авонсфорд, ловко превратил Форестов в потомков Годфруа и для верности пометил герб отличительным знаком – свидетельством дальнего родства по одной из боковых линий. Разумеется, все это было выдумкой, однако подтверждение древности рода позволяло Форестам укрепить свое положение среди английской знати и объявить о принадлежности к древним аристократическим семействам, хотя в действительности Годфруа были всего лишь вассалами графа Лонгспе и никакой кровной связи между семьями не существовало. Впрочем, дворяне Тюдоровской эпохи любили хвастаться вымышленными нормандскими предками.
Никто из присутствующих и не подозревал, что право на древний герб Годфруа принадлежит Нелли Уилсон. Она и сама об этом не догадывалась, а если бы и знала, то не стала бы привлекать внимание к Нелли Годфри, некогда обитавшей на Кальвер-стрит. Дети ее брата Пирса помнили только, что отец был плотником, а их тетка удачно вышла замуж и жила в Крайстчерче, изредка присылая им подарки. Судя по всему, Форестам было не о чем волноваться.
Гостиную также украшали великолепный портрет Томаса Фореста, эмалевая миниатюра с портретом Джайлза и яркая шпалера.
Гостей провели в столовую, где их ждал отменный ужин – сочный жареный лебедь и незнакомое Шокли блюдо из размятых желтых клубней, сладкое на вкус.
– Что это? – с любопытством спросил Эдвард.
– Это яство из Нового Света, очень редкое, – объяснил Уилсон.
Действительно, Форест, желая поразить гостей, угощал их бататом, сладким картофелем, который испанские мореплаватели завезли в Европу из Южной Америки.
После ужина Форест увел мужчин в гостиную, где завел деловой разговор.
– Капитан Уилсон намерен отправиться в путешествие, которое сулит неимоверные прибыли, но ему нужны деньги, чтобы снарядить корабли, – объяснил он Эдварду. – По-моему, тебя это заинтересует.
По знаку Фореста Уилсон начал свой рассказ:
– Во-первых, следует упомянуть о торговле с Московией.
Вот уже двадцать лет английские купцы пытались пересечь русские просторы, чтобы выйти на восточные торговые пути. Русский царь Иван IV, впоследствии прозванный Грозным, всячески способствовал развитию торговли с чужестранцами.
– Там можно дешево закупать лен и воск, жир и ворвань, пушнину и шкуры, а главное – мачтовый лес, – восторженно говорил Уилсон. – Сейчас, когда Англии грозит война с Испанией, нам срочно нужны материалы для строительства кораблей. А в Польше сейчас огромный спрос на английское сукно. Вам наверняка известно, что в прошлом году для торговли со странами Балтики, Скандинавией и Польшей была образована Восточная компания – ее деятельность укрепит наше положение в тех краях и поможет справиться с проклятыми ганзейскими купцами.
Форест согласно кивнул.
– Более того, не следует забывать и о Китае, северо-западный проход к которому пытается отыскать экспедиция Мартина Фробишера. Между прочим, Фробишеру благоволит сама королева. Однако географ Ричард Гаклюйт и картограф Герард Меркатор считают, что туда легче попасть, пройдя на восток по северной границе Московии. Я счел разумным вложить деньги в оба предприятия. Сейчас создается еще и Левантийская компания, для торговли с Османской империей… – объявил Уилсон и с улыбкой посмотрел на собеседников. – Впрочем, сколотить состояние можно и на торговле иного рода. Кстати, Дрейк вернулся.
Фрэнсис Дрейк, знаменитый английский мореплаватель, три года назад отправился из Плимута в кругосветное путешествие, хотя многие, не веря, что Земля имеет форму шара, опасались, что он сорвется в бездну, достигнув края, а потому не возлагали особых надежд на его возвращение. Сомневалась в этом даже королева, отправившая Дрейка в эту отчаянную экспедицию.
– Так вот, вернулся он вчера, – продолжил Уилсон. – С грузом сокровищ, отнятых у испанцев. Полтора миллиона фунтов золота…
Собеседники ошеломленно переглянулись, а Уилсон перешел к изложению своего замысла:
– Мои сыновья – капитаны кораблей; я хочу организовать для них три компании, ищу пайщиков среди сарумских купцов. Предприятие сулит небывалые прибыли.
Шокли предложение понравилось – в Солсбери давно пора было возродить славный дух предпринимательства, которым отличались в прошлом веке Джон Холл и Уильям Суэйн, – однако несколько тревожило другое.
– А как прикажете понимать ваши слова о торговле иного рода? – спросил он. – Вы имеете в виду пиратство?
– Верно, – кивнул Уилсон. – Его даже королева одобряет – разумеется, если речь идет о нападении на испанские торговые корабли. Папа римский даровал испанцам, верным католикам, исключительную привилегию на торговлю с Новым Светом, а это несправедливо.
Разумеется, Англия не желала оставаться в стороне, что усложняло и без того напряженную политическую ситуацию. Филипп II давно отказался от мысли вернуть Елизавету, королеву-девственницу, в лоно Католической церкви, однако, хотя и заключил перемирие с Англией и позволил возобновить торговлю с Антверпеном, не простил непокорных протестантов, а потому мечтал о вооружен ном вторжении на остров. Естественно, любые действия, ослабляющие испанский флот, встречали горячую поддержку королевы Елизаветы.
– Что ж, я постараюсь вам помочь, – ответил Шокли.
Немного погодя он собирался откланяться, но Форест отозвал его в сторону и спросил:
– А сам ты не желаешь вступить в долю?
– Может быть, – улыбнулся Эдвард. – Увы, свободных денег у меня мало.
– Для нас главное – заручиться твоей поддержкой. За это я обеспечу тебе не процент на вложенный капитал, а долю от прибыли, – многозначительно пояснил Форест.
Эдвард молчал.
– Двадцатую часть, – негромко произнес Томас Форест.
Шокли удивленно приподнял бровь – двадцатая часть могла выразиться в огромной сумме, – однако ничего не ответил.
– У меня есть еще одна просьба, – продолжил Форест.
– Какая?
– Посодействуй моему сыну, – с легкой улыбкой произнес Форест. – Представь его своим приятелям-торговцам, пусть он с ними побеседует. По-моему, Джайлз слишком много времени провел в Оксфорде, настоящей жизни не знает.
Шокли согласно кивнул.
– Видишь ли, с недавних пор мой сын, в отличие от меня, стремится помочь беднякам, – чуть поморщившись, сказал Форест: похоже, признание далось ему нелегко. – Позволь ему посетить работные дома, объясни, как можно облегчить жизнь их обитателей.
Шокли пообещал помочь юноше, хотя ему вовсе не верилось, что Джайлза по-настоящему волнует положение бедняков.
При близком знакомстве Джайлз Форест оказался учтивым и обходительным молодым человеком. Он с готовностью посетил работный дом и провел там несколько часов за беседой с его обитателями, быстро убедив их в том, что принимает их беды близко к сердцу и приложит все усилия, чтобы им помочь. Шокли отвел юношу на рынок и в сукновальню, представил его Джону Муди и ткачам, на которых Джайлз тоже произвел неизгладимое впечатление.
В сумерках Эдвард Шокли ошеломленно замер на перекрестке – из его дома выскользнул незнакомец, как и в тот день, когда торговец неожиданно вернулся из Даунтона. Эдвард позабыл о странном происшествии, но теперь, когда оно снова повторилось, внимательно присмотрелся к неведомому гостю, неуловимо напоминавшему Томаса Фореста.
Шокли торопливо пошел вслед за незнакомцем, но в переулках у церкви Святого Фомы потерял его из виду и разочарованно вернулся домой. Может быть, жена с горничной ушли в церковь, а в дом забрался вор?
Эдвард тихонько поднялся на второй этаж.
Кэтрин, не подозревая о возвращении мужа, стояла у окна спальни. Рядом с ней Эдвард заметил распахнутый ларец, в котором жена держала свои драгоценности и кошель с золотыми монетами. Обычно там хранилось около десяти фунтов золотом, но сейчас кошель был наполовину пуст.
Кэтрин опустила крышку ларца и заперла его на замок, продолжая задумчиво глядеть в окно.
– Кто к тебе приходил? – спросил Эдвард с порога.
– Никто, – вздрогнув от неожиданности, ответила она.
– Я сам видел, как из дома кто-то вышел!
– Да некому отсюда выходить, – возразила Кэтрин.
Эдвард растерянно уставился на жену. Будь она помоложе, он заподозрил бы ее в супружеской неверности. Неужели к ней и впрямь приходил Томас Форест?
– А где слуги?
– В собор ушли, там сегодня праздничное богослужение, – напомнила Кэтрин.
Шокли недоверчиво посмотрел на жену, размышляя, для чего она отпустила прислугу и осталась в одиночестве. Его продолжали терзать сомнения – подобная невозмутимость Кэтрин была совершенно несвойственна, – однако он ничего не сказал и, грузно ступая по лестнице, спустился в гостиную, где дал себе слово во что бы то ни стало разгадать причину необычного поведения жены: впервые в жизни она солгала мужу.
Два дня спустя Эдвард Шокли держал речь на собрании городского совета. Обычно он легко склонял чиновников на свою сторону, однако вот уже несколько месяцев не мог заручиться их поддержкой, несмотря на все просьбы, мольбы и настойчивые уговоры.
– Надо готовиться к войне с Испанией, – раз за разом повторял Шокли. – Собирать деньги и запасаться провиантом. Только так можно доказать, что мы – верные подданные ее величества.
Напряжение в стране неуклонно нарастало; в некоторых графствах зрела смута – лазутчики короля Филиппа подстрекали католиков на борьбу против Елизаветы. Королева, стремясь подавить недовольство своих подданных, обязала католиков платить штрафы за отказ посещать англиканское богослужение; Фрэнсис Уолсингем[40] раскинул по стране и за рубежом широкую сеть осведомителей, выведывая и расстраивая козни врагов Елизаветы.
Однако жителей Сарума это не волновало.
Итак, Эдвард Шокли снова произнес зажигательную речь в совете и обрадовался, заметив одобрительные кивки слушателей.
Затем слово взял один из почтенных горожан:
– Войны – занятие разорительное, а потому и говорить о них не следует.
– Если испанцы пойдут на нас войной, то… – возмущенно воскликнул Шокли.
– То у нас есть оружие, – оборвал его горожанин.
На этом обсуждение закончилось.
В городском арсенале хранились древние пики и проржавевшие мечи.
Эдвард уныло покачал головой – убедить ему никого не удалось.
Зажигательная речь Эдварда, однако же, возымела неожиданное воздействие на жителей Сарума. Три дня спустя к нему явились просители из Уилтона.
– Мы живем по соседству с Джоном Муди, – объяснили они. – По нашему разумению, тебе не стоит больше вести с ним дела.
– Почему это? – удивился Эдвард.
– Он католик.
– Но ведь он соблюдает все установления Англиканской церкви! – возразил он.
Действительно, ему стоило немалых трудов убедить Джона в том, что посещение англиканских богослужений, вопреки настояниям иезуитов, не представляет собой ни греха, ни отступления от католической веры.
– Католики – предатели, они против королевы худое замышляют, – заявили просители.
Эдвард вперил в них гневный взор: хотя Елизавета и проявляла завидную терпимость в вопросах религиозных убеждений, обвинение в государственной измене было гораздо серьезнее.
– Джон Муди будет управлять моими делами до тех пор, пока ему не надоест, – ответил он просителям.
На следующий день Эдвард предупредил шурина о грозящей опасности и заверил его, что не оставит в беде.
Похоже, Англии предстояла тревожная зима.
Впрочем, тревогу несколько развеяло событие, доставившее Эдварду огромное наслаждение.
Джайлз Форест, явно что-то замышляя, пригласил Эдварда Шокли в имение графа Пемброка, где давала представление заезжая труппа актеров.
Эдвард с готовностью согласился – в Уилтон-Хаусе он никогда прежде не бывал.
Величественный особняк привел Эдварда в восхищение.
– Он очень похож на Несравненный дворец[41], – сказал Джайлз. – Говорят, его строили по рисункам самого Гольбейна.
Над внушительным серым особняком высилась квадратная башня; с одной стороны был разбит роскошный сад, откуда открывался замечательный вид на долину реки Наддер.
Шокли знал графа Пемброка лишь по редким встречам в Солсбери, и ему было любопытно взглянуть на вельможу в домашней обстановке.
– Нынешний граф Пемброк славится своей ученостью, не то что его отец, – напомнил Джайлз.
Действительно, Уильям Герберт, первый граф Пемброк, один из самых влиятельных людей королевства, грамоте не разумел.
– А жена – покровительница поэтов. Ею все восторгаются.
Генри Герберт, вначале опрометчиво взявший в жены сестру несчастной леди Джейн Грей, вторым браком женился на Кэтрин Тальбот, дочери графа Шрусбери, а после ее смерти – на шестнадцатилетней Мэри Сидни.
– Граф Пемброк на двадцать лет старше жены, но их брак оказался очень удачным, – пояснил Джайлз. – Супруги живут в роскоши.
В Уилтон-Хаусе держали двести ливрейных лакеев.
Мэри Сидни не принесла богатого приданого, но была племянницей фаворита королевы, Роберта Дадли, графа Лестера. Брат Мэ ри, сэр Филип Сидни, был придворным вельможей, воином и поэтом. В Уилтон-Хаус стекались знаменитые драматурги и литераторы Елизаветинской эпохи.
Вот и сейчас в особняке собралось замечательное общество – здесь были и Тинны из Лонглита, и Хангерфорды, и Горджи, владельцы великолепного замка Лонгфорд, близ Кларендонского леса. Эдвард Шокли поначалу робел – он редко встречался с аристократами, – но потом с увлечением втянулся в разговор.
Беседа шла об Эдмунде Спенсере и его поэме «Пастуший календарь», посвященной Филипу Сидни.
– Сидни попал в немилость при дворе, поэтому все лето провел у сестры, – вздохнул какой-то вельможа. – Говорят, сейчас он пишет новую поэму под названием «Аркадия»…
Эдвард, человек образованный, мог поддержать ученую беседу. Вдобавок теперь он лучше понимал странное поведение Джайлза Фореста. У некоторых создавалось впечатление, что учтивый и обходительный юноша немного не в себе, – он изъяснялся с такой изощренной вычурностью, что собеседники с трудом улавливали смысл его речей.
– Касательно моих стараний о призрении бедноты, мистер Шокли, не следует заблуждаться в их цели либо превратно истолковывать мою щедрость; я щедр на труды и силен трудами, хотя равно далек как от расточительности, так и от скаредности, и силы свои всенепременно стараюсь направлять к стезе приумножения возможностей создания условий для труда бедняков, что, по моему разумению, есть благое деяние, и за него воздастся сполна, – однажды заявил юный Форест.
Шокли изумленно покачал головой и попросил Джайлза выражать свои мысли проще.
Сейчас, в Уилтон-Хаусе, Шокли заметил, что многие юноши из Оксфорда изъяснялись так же вычурно; самый пустячный предмет разговора – будь то новое лакомство, погода или породистый скакун – превращался в премудрый дискурс, а серьезные темы, к примеру вопросы политики или государственного управления, обсуждались шутливо и поверхностно; собеседников больше занимали причудливые словесные игры.
Виной тому был роман Джона Лили «Эвфуэс, или Анатомия остроумия», пользовавшийся невероятным успехом у молодежи.
– Мы чтим его, как Священное Писание, – заявил Шокли один из разодетых юнцов.
Преувеличенно изысканные манеры молодых людей забавляли Эдварда, но сами юноши ему понравились: они писали сонеты, подражая великому Франческо Петрарке, и оттачивали воинское мастерство, особенно стрельбу из лука.
– Это укрепляет тело, – объясняли они. – Ведь в человеке все должно быть прекрасно – и тело, и разум.
Актеры представили зрителям какую-то историческую пьесу, а после спектакля Эдвард удостоился чести встретиться с графом Пемброком.
Генри Герберт, мужчина средних лет, с благородным одухотворенным лицом, был владельцем обширных угодий и наместником графства Уилтшир; под его началом находились войска графства и мировые судьи.
– Вы тот самый мистер Шокли, который единственный в Солсбери готов сражаться с врагами? – с теплой улыбкой осведомился граф Пемброк.
Эдвард зарделся от удовольствия.
От одного из гостей он узнал, что граф – великий знаток геральдики, а потому рассказал о новом гербе Форестов. Пемброк, выслушав описание, фыркнул и расхохотался. Эдвард так и не понял почему.
Вечером, по пути домой, Шокли показалось, что Джайлз Форест не спешит расставаться, затягивая прощание. А вдруг поездка в Уилтон-Хаус была лишь удобным предлогом выманить Эдварда из дому? Он задумчиво посмотрел на Джайлза: неужели юноша пойдет на то, чтобы устроить тайное свидание отца с Кэтрин? Впрочем, от Форестов всего можно ожидать. Эдвард торопливо распрощался с Джайлзом и уехал, не давая юноше опомниться.
На улицах Солсбери не было ни души. Эдвард остановился на углу, наблюдая за своим домом. Из темного переулка появился человек – судя по всему, тот же, что и прежде, – и украдкой скользнул в дом.
Эдвард, спешившись, осторожно пробрался к дверям. В доме стояла тишина. Шокли вошел в арку ворот, пересек дворик и, обогнув дом, приоткрыл дверь черного хода, а потом тихо поднялся по лестнице на второй этаж.
За неплотно закрытой дверью спальни горела свеча. Эдвард заглянул в комнату, но там никого не оказалось. Из гостиной доносились приглушенные голоса. Он решил спуститься, однако, заметив раскрытый ларец жены, из любопытства заглянул в него.
На месте кошеля с деньгами лежала забытая записка. Эдвард торопливо прочел ее и побледнел от ужаса. Не может быть! О таком он даже не предполагал…
Сердце сжалось от страха.
…мы с превеликой благодарностью принимаем ваши щедрые дары. Лишь только еретичку свергнут с престола и восстановят истин ную веру, вас, уважаемая госпожа, равно как и вашего брата, ожидает достойная награда на земле и в Царстве Божием.
Смею заверить вас, близится час нашего избавления от гнета блудницы вавилонской…
Иезуиты втянули Кэтрин и Джона в заговор, равносильный государственной измене.
Шокли похолодел. Предательство жены ввергло его в отчаяние. Кэтрин отправляла деньги испанским лазутчикам, желавшим свергнуть законную королеву Англии и уничтожить все, что было дорого сердцу Эдварда.
Он с горечью думал о своей покорной, смиренной жене, которая все это время лгала мужу. За размышлениями он почти забыл о таинственном госте и, спохватившись, вышел к лестнице.
У входной двери стоял высокий сухощавый старик, похожий на Фореста лишь телосложением. Кэтрин почтительно поцеловала кольцо на руке незнакомца, а он благосклонно кивнул и закутался в длинный плащ. Дверь приоткрылась, в щелку заглянул Джон Муди, – очевидно, он пришел проводить старика.
Эдвард попятился к спальне, лихорадочно раздумывая, что предпринять. Его жена замешана в заговоре, повинна в государственной измене, а он, Эдвард Шокли, – добропорядочный торговец, всецело преданный королеве, а значит, обязан известить людей Уолсингема о предательстве родственников. Кэтрин бросят в темницу, Джону грозят страшные пытки и дыба – от него потребуют назвать имена сообщников. А если Эдвард не донесет, то сам будет считаться сообщником и подвергнется тем же наказаниям.
«И все это время она мне лгала…» – с тоской думал он, вспоминая долгие годы счастливой жизни, и наконец принял решение, хотя и не знал, верно ли оно.
Эдвард Шокли опустил записку на дно ларца и тайком вышел из дому.
За женой придется приглядывать, дабы она никому не причинила вреда, даже из самых лучших побуждений.
В смутное время честным людям жить тяжело.
Спустя несколько дней Эдвард Шокли сообразил, чего на самом деле добивался Форест.
Замысел Томаса оказался весьма прост: все упиралось в его стремление возвыситься и упрочить свое положение в обществе. Признание дворянства подтверждалось назначением в мировые судьи, но этого Томас Форест уже добился. Следующей ступенью дворянской иерархии было избрание в парламент; достичь этого можно было двумя путями. Дворяне Уилтшира отправляли в парламент двух представителей, однако Пемброк обычно предоставлял эту честь древним аристократическим семействам – Пенраддокам, Тиннам из Лонглита, Хангерфордам, Момпессонам, Данверсам и еще десятку; Форестам до них было далеко. От Солсбери в парламент отправляли двух горожан; по два представителя назначались в парламент еще из пятнадцати городов графства. Всего в Уилтшире насчитывалось семнадцать избирательных округов с общим правом избрания тридцати четырех парламентариев. В графство съезжались начинающие политики со всех концов страны в поисках свободного избирательного округа; горожане, не желая оплачивать парламентские расходы своих представителей, с радостью принимали богачей, готовых платить за честь быть избранным в парламент. Вдобавок местные аристократы пользовались огромным влиянием на избирателей – представители от Уилтона назначались по велению графа Пемброка; Мальборо и Грейт-Бедвин на севере графства находились под контролем влиятельного семейства Сеймур; в нескольких округах заправлял епископ Винчестерский. Из Олд-Сарума, заброшенной крепости на холме, которая теперь принадлежала семейству Бейнтон, в парламент тоже избирали двух человек.
В поисках свободного округа для сына Томас Форест обратился к Пемброку, но граф ему отказал, предпочитая назначать доверенных людей. Безуспешными оказались и обращения к другим вельможам.
В ноябре Форест признался Эдварду Шокли:
– Мой сын хотел бы стать представителем от Солсбери. Надеюсь, ты поддержишь его избрание.
Так вот почему Форест внезапно вспомнил о старом приятеле! Этим объяснялось и приглашение на ужин, и знакомство с Уилсоном, и поездка в Уилтон-Хаус, и неожиданная забота Джайлза о бедняках. Солсбери по праву считался самым независимым округом в Уилтшире – даже графу Пемброку лишь раз удалось навязать горожанам своего представителя.
«Все надежды Форест возлагает на меня, – подумал Эдвард. – Надо же, ни лести, ни подкупа не гнушается!»
Решение далось ему легко.
На следующий день Эдвард объявил Форесту:
– Против твоего сына возражений я не имею, но городской совет назначает парламентских представителей самостоятельно. Джайлзу придется лично убеждать советников.
Форест обомлел.
– А ты его поддержишь?
– Нет, – честно признался Эдвард.
Об участии в прибыльных предприятиях Уилсона Форест больше не заговаривал.
В 1585 году Тайный совет королевы Елизаветы потребовал от Солсбери денежной помощи для подготовки к предстоящему вторжению Филиппа II.
«…Мы получили высочайшее повеление вашего величества о необходимости, в интересах короны и государства, как можно скорее обзавестись двадцатью четырьмя бочками пороха и пятью сотнями фунтов запальных фитилей, кои следует хранить в городском арсенале…
…по длительном размышлении мы с прискорбием признаем, что для приобретения вышеозначенных припасов потребны значительные суммы денег, которые придется взыскать с горожан, и без того обремененных налогами и пошлинами, а потому смиренно просим ваше величество проявить милосердие к бедственному положению города и по возможности умерить…»
Лишь после третьего гневного требования Тайного совета горожане неохотно собрали весьма скромную сумму на оборонные нужды.
Англии грозило вторжение испанской Великой армады.
Из-за растущей неприязни к католикам в 1586 году семье Джона Муди пришлось покинуть Сарум. Эдвард Шокли не стал их останавливать. Впрочем, обосновались они всего в пятнадцати милях от Солсбери, недалеко от Шафтсбери, где католикам покровительствовало семейство Филипа Говарда, графа Арундела. К Шокли иезуиты больше не приходили.
Дальнейшие события развивались с головокружительной быстротой. В 1587 году Уолсингем добился казни шотландской королевы Марии Стюарт по обвинению в государственной измене и заговоре против Елизаветы. Шотландский трон перешел к сыну Марии, Якову, который, хотя и возмущался казнью матери, войны с Англией начинать не желал. Он прекрасно понимал, что после смерти бездетной Елизаветы станет главным претендентом на анг лийский престол, а потому старался заручиться поддержкой анг личан.
Филипп II, разгневанный казнью Марии Стюарт, решил обрушить на Англию всю мощь своего огромного флота – 130 боевых кораблей. Летом на южном побережье Англии запылали факелы, подавая знак, что в Плимуте заметили галеоны Великой армады.
– Сам Дрейк бы с ними не справился, – рассказывал один из сыновей Уилсона при встрече с Шокли. – Нам просто повезло.
Действительно, Англии улыбнулась удача – неблагоприятные для испанцев ветры и морские течения разметали корабли Армады по проливу Ла-Манш и отнесли их к скалистым берегам Шотландии, а в единственной битве на море испанцы потерпели сокрушительное поражение.
Англия была спасена. На острове снова воцарился мир. Смутные времена кончились. Эдвард Шокли, доживая отведенный ему век в последние годы правления Елизаветы, с надеждой смотрел в будущее.
Раз в год его приглашали в Уилтон-Хаус, где побывало множество актерских трупп – была среди них и труппа некоего Уильяма Шекспира.
Смута
Август 1642 года
Поминки завершились, и приглашенные начали расходиться. В просторной сумрачной гостиной, облицованной деревянными панелями, родственники покойного негромко прощались с гостями, которые один за другим, огибая массивную дубовую лестницу, направлялись к дверям и выходили во двор усадьбы, залитый августовским солнцем.
С уходом последнего гостя начнется семейный совет – и дружная семья Шокли прекратит свое существование.
Неумолимое приближение гражданской войны взволновало Сарум. Безжалостная война разрушала святость домашних очагов, разрывала нерушимые семейные узы… Со смертью отца настал черед семейства Шокли.
Первым собрался уходить сэр Генри Форест, баронет. В дверях он обернулся, окинул подозрительным взглядом семью Шокли и отвесил церемонный поклон. Сэр Генри Форест, друг семейства… Впрочем, у таких, как он, друзей не бывает. Неизвестно, к кому из враждующих сторон он присоединится. За ним последовали остальные друзья, соседи и добрые знакомые: старый Томас Муди с сыном Чарльзом, приехавшие из Шафтсбери, семейство Мейсон и другие ремесленники из Солсбери, арендаторы во главе с Джейкобом Годфри: с тех пор как плотник Пирс Годфри работал на Шокли, сменилось три поколения, но Годфри оставались верны давнему знакомству. У многих в глазах стояли слезы – внезапная смерть вдовца Уильяма Шокли, уважаемого в Саруме человека, потрясла всех жителей Солсбери.
Наконец все разошлись. В гостиной было тихо: четверо отпрысков Шокли в молчании замерли у темной дубовой лестницы, понимая, что стоит заговорить – и мира в семье уже не восстановишь. Во дворе стихли шаги последних гостей, издалека донесся размеренный глухой звон колокола.
Дети Шокли – три брата и сестра – осиротели.
Двадцатилетняя Маргарет Шокли была высокой и ладной девушкой, с копной густых светлых волос и небесно-голубыми глазами, в которых часто вспыхивал гнев. «Самая красивая из братьев Шокли», – добродушно посмеивались жители Сарума.
Маргарет молчала, думая о младенце.
Нет, малыша она не отдаст, пусть только попробуют отобрать. Она к нему никого не подпустит. Младенец крепко спал в покоях наверху. Маргарет заботилась о беззащитной крохе вот уже два года: мачеха, умирая родами, завещала сына падчерице. А три дня назад Уильям Шокли на смертном одре напомнил дочери:
– Маргарет, что бы ни говорили тебе братья, вы с Самюэлем останетесь здесь. Приглядывай за малышом… и за моими заливными лугами.
Золотоволосый Самюэль… Маргарет выходила и вырастила его в одиночку, хотя для ребенка пришлось взять кормилицу – Мэри, жену Джейкоба Годфри. А отцовские заливные луга у реки Эйвон… В молодости, еще до рождения дочери, Уильям Шокли взял усадьбу в аренду и собственноручно осушил пойменные земли, что сделало имение лучшим в округе.
Маргарет печально вздохнула.
Главой семьи стал тридцатилетний Эдмунд, старший из трех братьев, – серьезный, добропорядочный, рассудительный; от отца он унаследовал крепко сбитую фигуру, а от матери – светло-карие глаза и каштановые волосы, аккуратно подстриженные вровень с плечами.
Двадцатисемилетний Обадия, пресвитерианский проповедник, страстно ненавидел клириков и епископов любого толка; в черных, гладко зачесанных волосах, локонами лежавших на плечах, уже серебрилась седина; холодные серо-голубые глаза глядели сурово и обличающе; говорил он надменно и с непререкаемым достоинством, однако шепелявил. Обадия с детства отличался тщеславием, а с возрастом к самовлюбленности прибавилось праведное возмущение истинного пуританина. Обадию в округе недолюбливали; он об этом знал и прощения в себе не находил.
Двадцатитрехлетний Натаниэль, как и Маргарет, был светловолос, хорош собой и держался с непринужденным изяществом; камзол с кружевными манжетами выглядел слишком нарядным на фоне строгих одеяний братьев. В кулаке Натаниэль сжимал свою любимую глиняную трубку с длинным черенком – он часто взмахивал ею, споря с Обадией, и сопровождал каждый резкий жест намеренным богохульством. Натаниэль, неисправимый шутник и проказник, был задушевным другом Маргарет.
Разумеется, в семейном споре она будет защищать Натаниэля – и младенца.
Маргарет считала, что в смуте, охватившей страну, повинен король-деспот и его доктрина о божественном характере монархической власти. Именно из-за него взбунтовалась вся страна, именно из-за него рассорились близкие Маргарет. В душе девушка проклинала короля.
Елизавета I, королева-девственница, скончалась в начале века, не оставив наследника. По праву родства престол занял ее двоюродный брат Яков Стюарт, король Шотландии, сын казненной Марии Стюарт.
Поначалу его правление шло успешно. Англия и Шотландия оставались отдельными государствами, каждое со своим парламентом и Церковью, но их объединяла власть одного монарха. Король и придворные исповедовали протестантскую веру. С Испанией заключили мир. В начале правления династии Стюартов бурно развивалась торговля с колониями в Новом Свете, лондонские театры ставили пьесы великого Шекспира, и наконец-то появилась общепризнанная версия Священного Писания на английском языке – Библия короля Якова I.
И все же жители Англии и Шотландии были недовольны королем.
Почему? Да потому, что Яков и его сын Карл совершенно не понимали настроений своих подданных – англичан и шотландцев. Оба монарха презирали английский парламент и ненавидели шотландских протестантов, которые отвергали епископов. Вдобавок Яков I, возомнивший себя премудрым богословом, искренне считал, что король, помазанник Божий, имеет право единолично властвовать страной и ему не смеет перечить никто, даже парламент. Преемник Якова, его сын Карл I, при поддержке своих советников-фаворитов Джорджа Вильерса, герцога Бекингема, и Томаса Уэнтворта, графа Страффорда, опрометчиво решил воплотить в жизнь замыслы отца.
Эдмунд, первым нарушив неловкое молчание, пригласил братьев и сестру сесть и сам неохотно занял кресло во главе стола. Видно было, что к неприятному разговору Эдмунд готовился долго и тщательно.
– Король поднял королевский штандарт в Ноттингеме и сзывает туда войска. А парламент собрал десятитысячную армию под началом графа Эссекса и намерен выступить против короля. Мы присоединимся к парламентской армии, – объявил он и сурово поглядел на Натаниэля.
– Брат Эдмунд, я на это не согласен, – негромко, но твердо произнес Натаниэль.
Обадия, презрительно фыркнув, вскочил из-за стола. Эдмунд недовольно поморщился: он ожидал такого ответа, хотя и надеялся, что брат передумает.
– Погоди, – сказал он, жестом остановив Обадию. – Давайте не будем ссориться. Лучше еще раз все хорошенько обсудить.
В те дни подобные разговоры велись в каждой семье. Речь шла о взглядах на основополагающие принципы государственности и духовности, которые разделили страну на два враждующих лагеря; брат восставал против брата, и за свои идеалы люди готовы были сражаться насмерть.
В семействе Шокли спор проходил размеренно и велеречиво. Противники излагали давно знакомые доводы, в очередной раз подтверждая верность занятой позиции. Вопросы и ответы звучали будто церковный катехизис.
ЭДМУНД. По-твоему, король волен управлять страной без парламента?
НАТАНИЭЛЬ. Да, он имеет на это полное право.
ЭДМУНД. Однако это противоречит всем традициям. Ты считаешь, что король имеет право самостоятельно вводить налоги и пошлины? Взимать корабельные деньги?
Деньги на постройку флота взимались в казну с портов и гаваней, однако король Карл I пытался обложить этим налогом все города Англии, что вызвало ожесточенное сопротивление многих парламентариев, в частности Джона Гемпдена и Джона Пима[42]. Жители Сарума не первый год отказывались собрать и половину причитающихся денег.
НАТАНИЭЛЬ. Ежели король объявит сбор средств для ведения военных действий, то его подданные обязаны исполнить королевское повеление.
ЭДМУНД. То есть внести в казну любую требуемую сумму, без каких-либо ограничений? Законно ли это?
НАТАНИЭЛЬ. Парламент не одобрил ни одного из требований короля. Законно ли это?
ЭДМУНД. По-твоему, король имеет право вершить суд самолично, в обход старинных норм общего права?
НАТАНИЭЛЬ. Да, имеет.
ЭДМУНД. И ты это одобряешь?
НАТАНИЭЛЬ. Нет, не одобряю. Однако это не повод бунтовать.
ЭДМУНД. Значит, ты считаешь, что король неподвластен законам королевства и волен поступать, как ему вздумается?
Именно в этом и заключалась основная причина раздора. Законодатели в парламенте настаивали, что король обязан считаться с парламентскими привилегиями и общим правом, установленным Великой хартией вольностей, и не имеет права вводить налоги без согласия парламента. Любые нарушения этих древних установлений приведут к деспотической тирании.
НАТАНИЭЛЬ. Законы – королевская прерогатива.
ЭДМУНД. Только не в Англии.
Действительно, государственное устройство Англии весьма отличалось от централизованных абсолютистских монархий, установленных католическими правителями Испании и Франции. Именно такой государственный строй Стюарты пыталась навязать стране, но столкнулись с жестоким сопротивлением со стороны парламента и пуританских купцов, всеми силами отстаивавших древние привилегии.
ОБАДИЯ. Ты отвергаешь право пуритан отправлять богослужения по-своему?
НАТАНИЭЛЬ. Я, как и наш король, сторонник Англиканской церкви.
ОБАДИЯ. Ну, королю веры ни в чем нет. Значит, ты согласен с мерами, навязываемыми Уильямом Лодом и его епископами?
Натаниэль рассмеялся – даже сторонники короля с неприязнью относились к архиепископу Кентерберийскому, нещадно преследовавшему пуритан. Жестокие гонения заставили многих пуритан перебраться в Новый Свет.
В Саруме архиепископа Лода ненавидели еще и потому, что он пытался вернуть духовенству право судить мирян церковным судом. Король наконец-то пожаловал Солсбери уставную хартию, лишив епископа Солсберийского этого права, и горожане не желали возвращать власть клирикам.
НАТАНИЭЛЬ. Уильям Лод призвал церковников к порядку, а потому я поддерживаю епископов.
ОБАДИЯ. Значит, ты и католиков поддерживаешь? Желаешь, чтобы Англия стала папистской? Хочешь, чтобы король, заручившись поддержкой чужеземных войск, правил в свое удовольствие?
НАТАНИЭЛЬ. Паписты не имеют влияния на короля.
ОБАДИЯ. Еще как имеют! Не успеешь оглянуться, как ирландские католики всю страну заполонят.
Натаниэль смутился – короля часто обвиняли в пристрастии к Католической церкви. Супруга короля, католичка Генриетта Мария Французская, привезла ко двору множество своих священников. Английские пуритане не забыли ни кровавого правления Марии Тюдор, ни коварных иезуитов, призывавших народ к свержению королевы Елизаветы, ни Пороховой заговор в правление короля Якова I, 5 ноября 1605 года – неудавшуюся попытку Гая Фокса и его сообщников взорвать здание парламента. Вдобавок вот уже два года англичане опасались вторжения ирландских мятежников.
ЭДМУНД. Натаниэль, по-моему, ты не одобряешь деяний короля, однако же поддерживаешь его режим. Неужели ты полагаешь, что поведение короля изменится?
Именно опрометчивое поведение Карла I и стало искрой, из которой вспыхнул костер гражданской войны, охватившей страну.
Сначала на короля обиделись шотландцы, потому что в 1638 году архиепископ Лод потребовал, чтобы шотландские пресвитериане отвергли пуританские обычаи, подчинились власти англиканских епископов и совершали литургии по Книге общих молитв, которая мало чем отличалась от католического сарумского чина. Шотландцы взбунтовались и, приняв Национальный ковенант, начали так называемые Епископские войны.
Карл, оказавшись в весьма невыгодном положении, переоценил свои возможности: денег в королевской казне не было и войско собрать не удалось. Уилтширские отряды, узнав, что им не заплатят жа лованья, подняли восстание, которое с трудом подавил граф Пемброк.
Королю пришлось созывать парламент, однако парламентарии отвергли его требование о введении новых налогов – среди членов парламента было много пресвитериан, которые поддерживали своих шотландских собратьев, а шотландские войска мудро держались северной границы Англии.
Парламент, созванный в 1640 году (впоследствии получивший название Долгого парламента), потребовал сместить с постов главных советников короля: Томаса Уэнтворта, графа Страффорда и архиепископа Уильяма Лода. Архиепископа бросили в тюрьму, а Страффорда казнили по обвинению в государственной измене. Известие о гибели графа Страффорда привело к бунту в Ирландии, но не примирило парламент с королем.
Парламентарии упрямо отказывались удовлетворить требования Карла I о материальной поддержке войск и единоличном контроле над армией, зато приняли Великую ремонстрацию – документ, в котором перечислялись все случаи злоупотребления королевской властью.
Гордый Карл Стюарт с негодованием отверг Великую ремонстрацию и навсегда лишил Англию абсолютистской монархии, лично явившись в палату общин, дабы арестовать Джона Пима, Джона Гемпдена и еще трех влиятельных членов парламента. Жители Лондона взбунтовались и с криками «Парламент и привилегии!» высыпали на улицы города. Карлу пришлось спешно покинуть Лондон. Над страной нависла угроза гражданской войны.
Впрочем, многие полагали, что еще оставалась надежда на примирение враждующих сторон. Эдвард Гайд, граф Кларендон, член парламента и прекрасный юрист, в своих памфлетах утверждал, что можно отыскать компромисс, однако парламент, больше не доверяя королю, выдвинул чрезвычайно жесткие условия перемирия.
МАРГАРЕТ. Натаниэль, почему ты поддерживаешь короля? Разве власть парламента не предпочтительнее единоличного правления тирана?
Натаниэль не мог объяснить, почему именно он оставался верен королю. Понятно, что знатные дворяне хранят верность монарху оттого, что либо связаны родством с домом Стюартов, либо обязаны ему своим возвышением. Понятно, что невежественные крестьяне свято веруют в короля – помазанника Божьего. Но что заставляет неродовитого, но образованного юношу придерживаться монархических убеждений?
Натаниэль и в самом деле был убежденным монархистом.
Во-первых, его привлекал королевский двор и высший свет. Несколько лет назад Натаниэль полгода провел в судебных иннах – лондонской корпорации адвокатов, – решив попытать счастья на юридическом поприще. Жизнь в Лондоне вскружила ему голову. Карл I, ценитель изящных искусств, благоволил художникам и архитекторам – под его покровительством творили придворный художник Антонис Ван Дейк и архитектор Иниго Джонс, украсивший Лондон великолепными особняками в классическом стиле; супруга короля, Генриетта Мария, дочь французского монарха Генриха IV и Марии Медичи, при глашала ко двору иностранцев. Впечатлительный юноша из Сарума был совершенно очарован внешним блеском утонченной европейской культуры.
Во-вторых, монархия корнями уходила в глубокую древность. Отрицать святость королевской власти было невозможно – дарованное свыше право на престол было частью естественного порядка вещей. Английские правители, начиная с Эдуарда Исповедника, были потомками древней англосаксонской династии королей, и даже сейчас королевское прикосновение исцеляло страждущих от золотухи. Король Карл I был добрым властелином и верным супругом. А значит, члены парламента, обычные люди, не имели права ставить под сомнение законность королевской власти, освященной древними традициями. Отрицание святости монархии приведет к хаосу в стране.
Натаниэль всеми силами пытался ясно выразить свои мысли и чувства, хотя и понимал, что непреклонный Обадия останется глух к любым доводам.
НАТАНИЭЛЬ. Те, кто отвергает право короля на власть, поступают вопреки мироустройству. Король – помазанник Божий, по велению Господа дарующий нам привилегии. Кому, как не монарху, управлять страной?
ОБАДИЯ. Слугам Господним.
НАТАНИЭЛЬ. Пресвитерам? Они тираны похлеще короля. Ваши пресвитеры – такие же служители Церкви, как и обычные священники.
ЭДМУНД. Король должен управлять с позволения парламента.
НАТАНИЭЛЬ. В таком случае парламент посягает на священное право короля, дарованное ему Господом. А кто дает позволение парламенту? Кто призывает парламентариев к власти? Если отменить старые порядки, то в Англии власти вообще не будет. Или, по-вашему, народ должен созывать парламент?
ЭДМУНД. Не говори глупостей!
НАТАНИЭЛЬ. Это не глупости. Если короля лишат власти, то в один прекрасный день окажется, что страной правит толпа. А власть толпы – это хаос и тирания.
ЭДМУНД. Похоже, мы никогда не достигнем согласия.
Братья Шокли так и не пришли к единому мнению.
Натаниэль с любовью взглянул на старшего брата. Разница в возрасте между старшими и младшими детьми была невелика, но Эдмунд и Обадия воспитывались в строгости, а для Натаниэля и Маргарет старый Уильям Шокли сделал послабление. Эдмунду с раннего детства внушали, что он станет главой семьи, и он, готовясь с честью выполнить свой долг, с завистью смотрел на беззаботные игры младших детей. Учился он прилежно и старательно – из него вышел бы прекрасный юрист, а может быть, даже и парламентарий.
Однако мечтам Эдмунда не суждено было сбыться.
– Ты намерен примкнуть к армии короля? – мрачно спросил он.
– Да, – ответил Натаниэль.
– Разлада в семье я не допущу, – сурово изрек Эдмунд. – В нашем доме тебе больше делать нечего.
Видя, с какой неохотой брат принял решение, Натаниэль улыбнулся:
– Я и не собираюсь здесь оставаться.
– Что ж, прощай. Я теперь глава семейства, и мой долг – заботиться о безопасности близких.
Обадия согласно закивал.
Натаниэлю всегда было жаль Обадию, ведь даже отец его недолюбливал, хотя и старался не выказывать неприязни. Натаниэль вечно подшучивал над братом, посмеивался над его тщеславием и не воспринимал всерьез. Однажды десятилетний Натаниэль так разозлил несчастного юнца, тощего и прыщавого, что тот, рассвирепев, укусил младшего брата за руку, а тот прозвал его змием кусачим и нещадно дразнил. При мысли о расставании с Натаниэлем Обадия никакой жалости не испытывал.
– Усадьба принадлежит мне, – неожиданно заявила Маргарет.
Братья, почти забывшие о ее присутствии, удивленно обернулись к ней.
Маргарет редко вмешивалась в их споры и держалась особняком, не желая принимать ничью сторону. Ее больше занимала судьба младенца.
– Вы сами слышали, что отец усадьбу завещал мне, – напомнила Маргарет. – И я не собираюсь никого выгонять из дома.
В наследство каждому из трех братьев Уильям Шокли оставил деньги; Маргарет, любимой дочери, по завещанию отошла половина заливных лугов и усадьба – в пожизненное владение или до свадьбы, после чего усадьбу наследовал Самюэль.
– Разумеется, если ты замуж не выйдешь, то передашь заливные луга Самюэлю, чтобы твой сводный брат не чувствовал себя обделенным.
Эдмунд со вздохом признал:
– Верно, усадьба принадлежит тебе.
Обадия недовольно поморщился.
– Ты сама на чьей стороне? – шутливо осведомился Натаниэль.
– Я воздерживаюсь, – заявила Маргарет, не желая примыкать ни к одному из враждующих лагерей.
– А как же Самюэль? Он-то уж наверняка роялист, – с насмешкой продолжил Натаниэль.
– Он, слава Господу, еще слишком мал, чтобы ввязываться в эти глупые споры! – воскликнула Маргарет.
Эдмунд и Обадия переглянулись. Маргарет с укоризной посмотрела на Натаниэля. Зачем ему понадобилось напоминать о мальчике?
– Кстати, надо бы решить, что делать с Самюэлем, – задумчиво произнес Эдмунд.
Маргарет знала, что между собой братья уже обсудили этот вопрос.
– Он останется в усадьбе со мной, – твердо сказала она. – Так перед смертью повелел отец.
Натаниэль промолчал, Эдмунд погрузился в размышления, а Обадия холодно посмотрел на сестру, словно подозревая ее в измене строгим пуританским взглядам. При жизни отца к мнению Обадии почти не прислушивались, и сейчас он собирался настоять на своем.
– Сестра наша юна и неразумна. Негоже оставлять младенца под ее присмотром, без мудрого наставления, – с натянутой улыбкой заявил он и многозначительно посмотрел на Эдмунда, напоминая, что Самюэля следует оградить от тлетворного влияния Натаниэля.
– Мне твоих мудрых наставлений довольно, – с напускным смирением произнесла Маргарет. – Твоих и Эдмунда.
– А если нас здесь не будет, что тогда? – спросил Обадия.
– Куда это ты малютку отправлять собрался? – удивился Эдмунд.
– Мой знакомый проповедник в Лондоне готов принять Самюэля в лоно своей семьи и воспитать его в истинной вере.
Натаниэль, невозмутимо раскурив трубку, негромко заметил:
– Двухлетнего младенца рановато наставлять на путь истинный. Да и в Лондоне сейчас опасно – туда вот-вот выступят королевские войска.
Эдмунд, поразмыслив, принял решение:
– Отцовской воле я перечить не намерен. Пока война не докатится до Сарума, малыш останется в усадьбе под присмотром Маргарет.
Маргарет с облегчением перевела дух. Обадия хотел было возразить, но Эдмунд строго взглянул на брата.
– Об этом мы еще поговорим, – буркнул Обадия.
Разрешив таким образом спор, братья, к удивлению Маргарет, мирно уселись за стол и стали обсуждать предстоящую войну.
– Лондон и восточные графства выступят на стороне парламента, – заметил Эдмунд.
Действительно, именно там обосновались основные противники короля – купцы-пуритане.
– О портовых городах тоже не следует забывать, – напомнил Натаниэль.
Английские торговцы-мореплаватели не простили Стюартам их дружбу с европейскими католическими державами – основными соперниками англичан на международных рынках. А Яков I, желая задобрить испанского посланника, хладнокровно отправил на казнь сэра Уолтера Рэли, знаменитого путешественника и искателя приключений, которым восхищались купцы и торговцы.
– Север и запад страны поддержат роялистов, – вздохнул Эдмунд.
Старинные феодальные семейства, их арендаторы и крестьяне-издольщики по-прежнему верили в святость королевской власти.
– А чью сторону выберет Сарум? – спросила Маргарет.
Положение в графстве было непростым. Солсбери, как и другие торговые города, поддерживал парламент; настроения горожан разделяли и местные дворяне. В северной части Уилтшира знатные Сеймуры колебались до тех пор, пока король не пожаловал им новые титулы и богатые владения, но прочие знатные семейства – Хангерфорды, Бейнтоны, Ивлины, Лонги и Ладлоу – перешли на сторону парламента. Эти приверженцы старых традиций, мировые судьи, привыкшие к относительной независимости, исповедовали англиканскую веру и не доверяли королю, окружившему себя фаворитами-католиками и презиравшему парламентариев-дворян.
– Среди уилтширского дворянства найдутся и приверженцы короля, – сказал Эдмунд. – Граф Арундел, Пенраддоки, Тинны из Лонглита… Да и Гайды в стороне не останутся.
Гайды, родственники графа Кларендона, влиятельного советника короля, недавно переселились в окрестности Солсбери.
– Граф Арундел стар, – печально вздохнул Натаниэль. – Тинны разорены бесконечными тяжбами, Пенраддок не воин, а политик… А вот граф Пемброк на вашей стороне. Он, конечно, не полководец, но людьми повелевать привык, к нему прислушиваются.
Филипп Герберт, граф Пемброк, еще недавно бывший сторонником короля, ненавидел Бекингема и Страффорда, а потому весной переметнулся на сторону мятежников, заняв пост наместника, предложенный ему парламентом. Его примеру последовали многие.
– Однако епископ Солсберийский все еще за короля, – со смехом напомнил Натаниэль.
Пуритане составляли половину духовенства Сарума, но Брайан Дуппа, епископ Солсберийский, наставник юных принцев, оставался, как и его предшественники, приверженцем высокой Церкви.
– Можно подумать, роялистам это поможет, – фыркнул Обадия.
– А на чью сторону встанет сэр Генри Форест? – с ухмылкой спросил Натаниэль.
– На сторону победителей, – чуть улыбнувшись, ответил Эдмунд.
Сэр Генри Форест, баронет, отправился домой пешком. Идти ему было недалеко.
Уильяма Шокли он уважал и обрадовался, когда двадцать лет назад тот решил поселиться в долине реки Эйвон и взял в аренду старую усадьбу, граничащую с имением Эйвонсфорд.
Форест, догадываясь о раздорах в семействе Шокли, прекрасно понимал, на чью сторону встанет каждый из братьев. Впрочем, ему это было на руку. Сам он еще не решил, кого поддерживать – короля или парламент.
В правление Стюартов семья Форест процветала: дед удачно вложил капитал в торговлю с Новым Светом, откуда привозили табак, а отец продолжил дело, вступив в недавно образованную Ост-Индскую компанию, торговавшую со Средней Азией и Дальним Востоком. Форесты не только приумножили свое состояние, но и упрочили положение в обществе. Яков I, измыслив новый способ пополнить королевскую казну, ввел еще один аристократический титул. Дворянин, за определенную сумму возведенный в достоинство баронета, не только получал право именоваться сэром, но и, в отличие от простых рыцарей, мог передавать титул наследникам мужского пола. Форесты, типичные представители нового дворянства, с радостью ухватились за возможность встать на первую ступеньку аристократической лестницы, позволявшей впоследствии обзавестись и более высокими титулами – барона, виконта, графа… К примеру, король, дабы заручиться поддержкой графа Сеймура, пожаловал ему титул маркиза, от которого недалеко и до герцога! У Форестов были веские причины встать на сторону короля.
Однако жители Уилтшира в основном склонялись к поддержке парламента.
– Я не имею ни малейшего желания идти наперекор большинству, – заявил Форест жене, имея в виду не общие настроения в стране, но лишь преобладающее мнение обитателей графства.
Теперь, в отличие от предыдущих столетий, графства обрели весьма независимое положение; в них всем заправляли аристократы – вершили суд, устанавливали налоги и избирали представителей в парламент.
– Пожалуй, я последую примеру графа Пемброка, – наконец решил Форест. – Дождусь первого сражения, погляжу, куда ветер дует.
На прибрежной тропе сэр Генри Форест остановился и, ненадолго позабыв о гражданской войне, с удовлетворением оглядел заливные луга Уильяма Шокли, раскинувшиеся в пойме реки. Великолепные рукотворные пастбища, граничившие с имением Форестов, теперь стоили целое состояние. Форест, сощурив глаза, погрузился в размышления.
Если Шокли рассорятся, то луга можно будет заполучить дешево.
Август 1643 года
Трехлетний Самюэль Шокли навсегда запомнил самый счастливый день в жизни.
Натаниэль, со сводным братом на плечах, шел по соборному подворью. Длинные локоны Натаниэля золотились на солнце, сильные пальцы сжимали щиколотки мальчика, легкий ветерок играл прядями шелковистой остроконечной бородки.
Самюэль не понимал происходящего, знал только, что они с братом совершают важное дело. Впрочем, у Натаниэля было много важных дел – ему надо было выиграть войну.
Теплые лучи солнца ласково скользили по плечам мальчика.
Однако для Маргарет ясный день был мрачнее любого ненастья.
В Солсбери они приехали в возке. Натаниэль, в ярком камзоле и панталонах, заправленных в высокие ботфорты с кружевными отворотами, покуривал глиняную трубку с длинным черенком. Лихо заломленная широкополая шляпа свидетельствовала о принадлежности Натаниэля к лагерю кавалеров – сторонников короля.
– Лучшие трубочники в Англии – Гонтлеты из Уилтшира, – весело объявил он, показывая Самюэлю символ, выдавленный на чашечке трубки, – рыцарскую перчатку.
Маргарет, Натаниэль и Самюэль шли по соборному подворью. Прохожие заглядывались на красивую пару с ребенком. «Наверняка решили, что я с мужем в собор иду, – с улыбкой подумала Маргарет. – А зачем мне муж? У меня есть любимый брат, усадьба и малыш…»
Королевские войска одерживали победу за победой и уверенно теснили парламентскую армию, не имевшую ни опыта военных действий, ни хороших военачальников. Принц Рупрехт Пфальц ский, племянник Карла I, возглавил королевскую кавалерию и обучил ее приемам молниеносной атаки – тактике, разработанной в шведской армии, после чего одержал сокрушительную победу в битве при Эджгилле[43]. Граф Пемброк спешно уехал в Лондон, а Хангерфорд и Бейнтон – дворяне, вставшие во главе парламентских войск в Уилтшире, – рассорились между собой. Тем временем королевская кавалерия и корнуэльская пехота вели успешные наступательные бои в графстве; уилтширские города сдавались один за другим. В мае 1643 года Уильям Сеймур, которому король пожаловал титул маркиза Гертфорда, выдвинул свои отряды из Оксфорда в Сарум, захватил Солсбери и бросил мэра в темницу.
Обадия уехал в Лондон. Эдмунд присоединился к парламентским войскам – где он сейчас, Маргарет не знала. Зато вместе с отрядами Сеймура в Солсбери вернулся Натаниэль.
– Хорошо, что в усадьбе сейчас я, а не Эдмунд, – усмехнулся он, входя в дом. – Теперь ее не тронут.
Роялистские войска, вступив в Сарум, первым делом конфисковывали имущество сторонников парламента.
Усадьба всегда выручала семью в трудные времена. Уильям Шокли, продав старую сукновальню и лавку в Солсбери, перевез семью за город за несколько лет до ужасной вспышки чумы, поразившей Сарум в 1627 году. На этот раз до Эйвонсфорда болезнь не добралась, и Шокли даже отправляли из усадьбы съестные припасы в Солсбери, где Джон Айви, мэр города, прилагал героические усилия для того, чтобы остановить распространение заразы среди городской бедноты. Уильям Шокли и впоследствии помогал мэру в организации благотворительной деятельности, в частности в устройстве пивоварни для бедняков, – увы, пивовары Солсбери не поддержали начинания мэра, и предприятие пришлось закрыть.
С началом гражданской войны положение в Солсбери ухудшилось: производство сукна пришло в упадок, жители покидали город, а враждующие стороны облагали торговцев непомерными поборами. Не избежал разграбления и собор.
Однако несчастья пока обходили стороной усадьбу Шокли близ Эйвонсфорда. Даже Джон Айви, ярый сторонник парламента, заглянул в гости поздороваться с Натаниэлем – учтивый и любезный юноша ни у кого не вызывал неприязни.
Маргарет и Натаниэль вошли в собор. В трансепте, под высокими колоннами средокрестия, у груды деревянных панелей, присели отдохнуть четверо работников. Рядом стояла ручная тележка с десятком длинных труб, помеченных мелом.
Работники разбирали соборный орган.
– Я на прошлой неделе настоятеля предупредил, – обрадованно сказал Натаниэль. – Хорошо, что он меня послушал.
Он подвел Самюэля к трубам и объяснил устройство органа.
– А зачем они его ломают? – спросил мальчик.
– Они его от Обадии прячут, – рассмеялся Натаниэль. – Обадия музыку не любит.
Пуритане славились строгостью нравов и отвергали любые развлечения. Уильям Принн, ревностный блюститель пуританской нравственности, даже написал памфлет о вреде длинных волос. Теперь же парламент готовил указ о разрушении всех церковных орга нов в Англии, а потому настоятель собора предусмотрительно решил разобрать и спрятать орган Солсбери, что, к счастью, и было исполнено вовремя.
Самюэль наслаждался прогулкой по городу. Из собора они отправились на рыночную площадь, где Натаниэль показал ему церковь Святого Фомы, викарий которой, Джон Кинг, был тайным роялистом.
– Известия о победах роялистов викарий встречает псалмом радения, а вести о победе парламентских войск – покаянным псалмом, – хохотнул Натаниэль. – Я теперь часто в церковь хожу, псалмы слушаю.
Малолетний Самюэль ничего не понял, но тоже расхохотался, вторя заразительному смеху сводного брата.
По дороге домой они встретили Чарльза Муди, родственника Шокли.
Полвека назад старый Эдвард Шокли, не вдаваясь в объяснения, велел своему внуку Уильяму держаться подальше от Муди. С тех пор Шокли редко виделись со своими родственниками-католиками. Впрочем, Муди, прослышав о роялистских настроениях Натаниэля, стали сами искать встреч с ним. Из Шафтсбери часто приезжал двадцатилетний Чарльз Муди, смуглый стройный юноша, не спускавший восторженного взгляда с Натаниэля и Маргарет.
– Не поймешь, то ли он в тебя влюбился, то ли меня в герои записал, – с улыбкой говорил Натаниэль. – Он в бой рвется, я пообещал его с собой взять, как в поход выступим.
В Эйвонсфорд они приехали вместе. Самюэль попросился в седло к Чарльзу, и молодые люди рассмеялись:
– Вот, еще один кавалер объявился!
Счастливую поездку в Солсбери Самюэль вспоминал всю жизнь.
Вечером, когда Муди уехал в Шафтсбери, а Мэри Годфри уложила усталого мальчика спать, Натаниэль увел Маргарет на склон холма, к взгорью, и уныло признался ей:
– По-моему, мы проигрываем.
– С чего ты взял? Королевские войска одерживают победы одну за другой, вот-вот пойдут в наступление на Лондон. Парламент готов признать поражение. Или ты опасаешься вмешательства шотландцев?
Парламент, не желая ни заключать перемирие, ни сдаваться, начал переговоры с шотландцами, которые, к великой радости Обадии, потребовали, чтобы Англия приняла пресвитерианство.
– Нет, парламент с Шотландией никогда не договорится, – покачал головой Натаниэль. – Бедный Обадия! Наш парламент привык помыкать Церковью, а в Шотландии всем заправляют пресвитериане. Англичане на это никогда не согласятся. Увы, король с пар ламентом перемирия не заключит. Если же парламент признает поражение, то зачинщикам бунта грозит виселица. И все равно, по-моему, победа останется за парламентом.
– Почему?
– Король хочет повести войска на Лондон с севера и с запада, а значит, в тылу у него окажутся порты и торговые города – Гулль, Плимут и Глостер, – где собрались значительные силы противника. Лондон взять непросто, да и угроза с тыла слишком велика.
– Но ведь у королевской армии больше опыта!
– Да, воевать они умеют, но у парламентского войска на востоке появился новый полководец, родственник Джона Гемпдена, тоже дворянин, некий Оливер Кромвель. Его прозвали Железнобоким. С его отрядами даже кавалеристы графа Эссекса не сравнятся. А с севера на помощь парламенту выступили отлично обученные силы лорда Ферфакса.
До сих пор парламентским войском командовали в основном аристократы и дворяне, не привыкшие к военным действиям, что давало преимущество королю.
– А если король соберет войско побольше и…
– У него денег нет, – вздохнул Натаниэль. – Затяжную войну выигрывает тот, у кого больше средств. Увы, все деньги – у парламента. – Он раздраженно пнул камень. – Понимаешь, все товары облагаются пошлинами и всякий раз, закупая провиант и снаряжение, король невольно помогает наполнить парламентскую казну, ведь все налоги туда поступают. К тому же парламент поддерживают торговцы и купцы, у которых всегда есть наличность. Так что все победы короля призрачны и мимолетны. Скоро от них и следа не останется.
Маргарет грустно посмотрела на брата. Натаниэль умолк, задумавшись о другом.
– Мне сон привиделся, – наконец произнес он. – Об Эдмунде.
– Ты с ним во сне сражался? – ошеломленно воскликнула Маргарет.
– Нет, мы просто встретились. Не знаю, на поле боя или еще где…
– А дальше что было?
– Не помню. Вот так – встретились… и я проснулся. Тревожно мне.
– А если вы по-настоящему на поле боя встретитесь? – помолчав, спросила Маргарет.
– Не знаю, – вздохнул он, потупив взор. – Я денно и нощно молю Господа, чтобы этого не произошло.
– Может, все обойдется?
– Нет, я чувствую, мы обязательно встретимся, – сказал Натаниэль и медленно направился к усадьбе.
– Но ты же веришь, что дело короля – правое? – осведомилась Маргарет.
– Да-да, конечно, – рассеянно ответил он и снова пнул камень.
Октябрь 1644 года
Война длилась вот уже год, с переменным успехом.
В Саруме победу одержали сторонники короля. Предводители парламентских сил – Хангерфорд, Бейнтон, Ивлин – либо переметнулись к роялистам, либо вели с ними переговоры, либо позорно сдались. Три месяца отряд Эдмунда Ладлоу мужественно оборонял осажденный замок Уордур, последний оплот графа Арундела, но защитникам пришлось сдаться превосходящим силам противника.
Однако на севере Англии, где, казалось бы, роялистам ничего не угрожает, парламентские войска под предводительством Оливера Кромвеля и Томаса Ферфакса объединились с силами шотландских пресвитериан и, освоив кавалерийские приемы принца Рупрехта, наголову разбили роялистов в битве при Марстон-Муре, в семи милях к западу от Йорка.
– Парламентские войска укрепили свои позиции на севере, а мы бежали, как трусливые зайцы, – признался Натаниэль сестре. – Король в опасности.
Роялисты по-прежнему одерживали победы на юго-западе. В июне Роберт Деверо, граф Эссекс, провел парламентские войска через Сарум, грозя разгромить роялистов в Корнуолле, но в сентябре стало известно о его капитуляции. В Уилтшир вторгались то парламентские силы под началом Эдмунда Ладлоу и Гардреса Уоллера, то кавалерийские отряды роялистов под предводительством Джорджа Горинга, старшего сына графа Норвича.
Недавно в Солсбери приехал и сам король. На восточной окраине Солсбери, в особняке у Кларендонского леса, разместился корпус канониров, а в Уилтоне встали лагерем пехотинцы. Маргарет, узнав о приезде короля, отправилась с Самюэлем в город.
– Вот, погляди, какой он из себя, наш король Божией милостью, – сказала она малышу.
Четырехлетний Самюэль с любопытством смотрел на королевский кортеж и свиту, окружавшую усталого человека с благородным узким лицом.
Натаниэль был в Уилтоне.
Вернувшись в усадьбу, Маргарет обнаружила в доме нежданного гостя – Эдмунда.
Она уже два года не видела старшего брата и с трудом признала его в исхудавшем человеке со впалыми щеками и ввалившимися глазами. Эдмунд был коротко острижен, как и все соратники Кромвеля, получившие за это прозвище «круглоголовые». Одежда его превратилась в лохмотья, а в глазах мелькало тревожное выражение.
– Надеюсь, ты меня накормишь и дашь приют, – неуверенно сказал он. – Или ты теперь за короля?
– Не забывай, прежде всего я твоя сестра, – ответила Маргарет. – Главное, чтобы тебя роялисты не приметили.
Самюэль удивленно уставился на странного гостя.
– Ты никому о нем не рассказывай, – предупредила мальчика Маргарет. – Это секрет.
Она отвела брата в спальню и заперла дверь на замок. Эдмунд проспал пятнадцать часов.
На следующий день он с горечью жаловался сестре:
– Граф Эссекс сдался роялистам! Нет уж, хватит с нас аристократов. Теперь нам поможет только Кромвель.
Эдмунд изменился не только внешне, в нем словно что-то надломилось. Натаниэль втайне не верил в успех королевских войск, но Эдмунда терзали сомнения иного рода.
– Да, я переменился, – вздохнул Эдмунд, словно прочитав мысли сестры, и слабым голосом начал рассказывать о парламентской армии.
Аристократы сражались в надежде заполучить богатые угодья роялистов, а ревностные пресвитериане хотели свергнуть короля, чтобы установить тиранию веры.
– Но среди парламентских солдат есть и другие – простые, богобоязненные люди, которые вступают в бой с благородной целью – обрести свободу вероисповедания. Они горячо поддерживают Кромвеля. Я хочу к ним примкнуть, – убежденно заявил Эдмунд.
– К сектантам? – удивленно переспросила Маргарет.
– Называй их как хочешь.
Действительно, в парламентской армии было много противников единообразия в делах веры, желавших установить в Англии новый порядок. Войсками Кромвеля командовали простолюдины, знавшие свое дело, в то время как дворяне в парламентских войсках воевать не умели. Военачальники из народа приобретали все бо льшую власть в армии парламента, хотя их политические устремления оставались неясны.
– Ты надолго здесь останешься? – задумчиво спросила Маргарет.
– До завтра.
Ни Мэри Годфри, ни служанка не подозревали о приезде Эдмунда. Утро прошло спокойно, а после обеда Эдмунд отправился спать. Немного погодя в усадьбу пришел отряд роялистов во главе с Натаниэлем.
– Мы круглоголовых ищем, – объяснил он сестре. – Их тут вчера заметили.
Маргарет невозмутимо посмотрела на него:
– И что вы с ними делать собираетесь?
– Повесим, наверное. Но пока мы никого не обнаружили.
– Я тоже никого не видела. Вели своим людям амбары во дворе проверить.
С четверть часа солдаты обыскивали двор и хозяйственные постройки. Натаниэль, побеседовав с сестрой, направился к двери, но тут по лестнице сбежал Самюэль и с радостным криком бросился к сводному брату. Натаниэль подхватил малыша на руки, и тот зашептал ему на ухо:
– Хочешь, я тебе секрет расскажу?
Маргарет неохотно отворила запертую дверь спальни, и братья молча уставились друг на друга. Самюэль, счастливо улыбаясь, замер рядом с Натаниэлем.
Камзол Натаниэля, отороченный кружевами, подчеркивал убогое одеяние Эдмунда – куртку из бурой домотканой шерсти, уродливые голландские штаны до колена и дырявые серые чулки грубой вязки.
– Брат Эдмунд, тебя ужасно подстригли! – улыбнулся Натаниэль.
Эдмунд затравленным взором посмотрел на брата.
– Помнится, сестра, ты когда-то говорила, что никому из родных от дома не откажешь, – напомнил Натаниэль.
– Не откажу, – твердо ответила Маргарет.
– Что ж, весьма похвально, – сказал Натаниэль и с очаровательной улыбкой обратился к брату: – Мы давно не виделись, но остаться я сейчас не могу – мои люди меня заждались. Мы парламентских солдат ищем.
Он лукаво усмехнулся и вышел из комнаты.
Натаниэль всегда был любимцем Маргарет.
Январь 1645 года
Больше всего Самюэлю запомнилась зима. Братья Шокли отправились воевать, да и сама Маргарет взялась за оружие.
Все началось с битвы за колокольню.
Солсбери, новый город в долине, в отличие от своего предшественника – замка на холме, – не строился для обороны, однако сейчас, единственный раз за всю историю его существования, военные превратили город в крепость. Точнее, в крепость превратили соборное подворье, потому что крепостных стен в Солсбери не было. Под Рождество отряд круглоголовых ворвался за ворота и занял подворье. Колокольня стала сторожевой вышкой.
Все напряженно ожидали возвращения королевских войск.
Маргарет, устав от одинокой жизни в усадьбе, в тот день опрометчиво отправилась в город за покупками и взяла с собой Самюэля. На рыночной площади она остановилась поболтать с приятельницами, а мальчик заскучал. Холодным январским днем город словно застыл, охваченный странным оцепенением.
Не зная, чем развлечь Самюэля, Маргарет взяла его за руку и повела по Хай-стрит к соборному подворью – там, у колокольни, обычно собирались солдаты, а Самюэль обожал их разглядывать.
За распахнутыми воротами видно было, как по двору лениво расхаживают трое солдат в кожаных дублетах и высоких сапогах с отворотами. Доспехов ни на ком не было, но с перевязи одного из солдат свисала великолепная шпага.
Маргарет с Самюэлем неспешно гуляли по лужайке у собора, но к вечеру похолодало, и они, зябко поеживаясь, побрели к воротам.
Внезапно послышался какой-то шум, и на подворье ворвался всадник на взмыленной лошади.
– Эй, вы, спите там, что ли?! Где караульные?! – выкрикнул он.
По подворью заметалось эхо.
Маргарет узнала голос Эдмунда Ладлоу, командира парламентского отряда.
Ладлоу нетерпеливо замахал женщине с ребенком:
– Уходите отсюда поскорее, на рыночной площади – кавалеры!
Отряд сторонников короля, стоявший в Эймсбери, не замеченный караульными, вошел в город и уже пробирался по Кастл-стрит к городскому рынку.
Солдаты с криками забегали по двору, поспешно надевая стальные доспехи и шлемы. На колокольне наконец-то возникли фигуры караульных. Жители соседних домов высыпали на улицу и, не обращая внимания на приказы Ладлоу, столпились у ворот подворья, всматриваясь в пустынную Хай-стрит.
Маргарет лихорадочно раздумывала, как быть дальше. От ворот Святой Анны легко выбраться из города, но с пятилетним мальчуганом на руках она туда не дойдет. А вдруг на улицах начнется перестрелка? Оставаться на холоде не хотелось. Маргарет оглядела лица зевак: нет ли среди них знакомых? Можно укрыться у кого-нибудь в доме, желательно подальше от соборного подворья.
Тем временем Ладлоу отправил десяток солдат к Хай-стрит, разведать обстановку, и торопливо собирал остальных. Неподалеку кто-то сказал, что от Харнгем-Хилла выступило подкрепление.
Толпа у ворот росла. Люди возбужденно переговаривались и, посмеиваясь, разглядывали солдат, не веря в приближение кавалеров и не принимая всерьез предупреждения Ладлоу.
Наконец Маргарет заметила в толпе знакомую – пожилую женщину, дом которой стоял с восточной стороны соборного подворья, между воротами Святой Анны и епископским дворцом. «Там наверняка будет безопасно», – решила Маргарет и, схватив Самюэля за руку, потянула его за собой. Женщина с радостью согласилась их приютить, и Маргарет с облегчением перевела дух.
Пятилетний Самюэль Шокли, забыв о холоде, с восторгом смотрел на солдат. Маргарет, успокоившись, выпустила его руку, и мальчик начал проталкиваться сквозь толпу: ему был виден только командир верхом на коне, а хотелось получше разглядеть солдатские доспехи и – самое главное! – оружие. Люди добродушно расступались, пропуская Самюэля в первые ряды.
Он зачарованно уставился на солдат, казавшихся сказочными великанами, огромными, точно деревья в лесу; высокие ботфорты достигали середины бедра, отвороты толстых перчаток защищали запястья; в угасающем свете дня тускло поблескивали нагрудные доспехи, стальные шлемы со щитками и шпаги. Самюэль решил, что перед такими могучими воинами никто не устоит.
Отряд вышел за ворота подворья. Самюэль проводил их завистливым взглядом. Сердце восторженно забилось – вот бы с ними пойти! Солдаты повернули к Хай-стрит, и за ними увязались двое десятилетних мальчишек. Никто из взрослых не стал их останавливать – противник на улице так и не появился, – а на малыша, неуверенно двинувшегося следом, вообще не обратили внимания. Маргарет, погруженная в беседу, тоже не заметила, как Самюэль вышел из соборного подворья вместе с отрядом Ладлоу.
Мальчишки, пройдя ярдов пятьдесят по Хай-стрит, вбежали в один из домов. Самюэль, зардевшись от гордости, продолжал маршировать вместе с солдатами. В домах поспешно захлопывали ставни и запирали двери на засов. Никому не было дела до малыша, сосредоточенно топавшего по пустынной улице.
Хай-стрит – улица короткая; с нее отряд свернул вправо, к Птичьему Кресту, у входа на рыночную площадь.
Вскоре туда добрался и Самюэль.
Дерзкий замысел Эдмунда Ладлоу заключался в том, чтобы обманным маневром отвлечь силы роялистов. В отряде круглоголовых было всего шестьдесят человек, однако никто не знал, сколько солдат у противника. Итак, Ладлоу с горсткой людей собирался атаковать авангард кавалеров на рыночной площади, а у Птичьего Креста оставить трубача, который пронзительными сигналами рожка должен был внушить противнику, что на помощь круглоголовым движется подкрепление.
С рыночной площади донеслись мушкетные выстрелы – там выстроились в шеренгу триста кавалеров. Ладлоу остановил своих солдат в узком переулке у Птичьего Креста и дал знак наступать. Оглушительные звуки рожка раскатились по улицам.
Никто не заметил малыша, притаившегося в тени домов.
Самюэль удивленно смотрел вслед солдатам. Куда они бегут? Почему его оставили одного? Мальчик, не понимая, что происходит, выбежал на рыночную площадь и обрадованно замахал кавалерам.
Противники бросились навстречу друг другу. Завязалась схватка.
Самюэль испуганно замер – такого он совсем не ожидал.
Поначалу замысел Ладлоу сработал. Парламентские солдаты, под предводительством Ладлоу на великолепном боевом скакуне, двинулись в атаку из переулка у Птичьего Креста. Роялисты, не сообразив, что в отряде противника всего тридцать человек, в замешательстве отступили. В темноте никто не заметил мальчика, растерянно замершего посреди рыночной площади.
Ладлоу, выхватив шпагу, направил лошадь на командира роялистов. Кони кружили по площади в пятидесяти ярдах от Самюэля. Слева рубились три пехотинца; зазвенела сталь; один из противников упал. Из глубокой раны в боку хлестала кровь. Парламентские солдаты огляделись, выискивая очередного противника.
Радостное возбуждение Самюэля сменилось испугом. Могучие великаны, окружавшие его со всех сторон, больше не восхищали, а вызывали ужас.
Такая битва Самюэлю совсем не нравилась. Ему захотелось назад к Маргарет, и он стремглав бросился через площадь, не обращая внимания на солдат.
Командир роялистов пытался отступить к Кастл-стрит, но Ладлоу упорно теснил его к центру площади. Копыта коней гулко стучали по булыжникам мостовой. В сумерках противники напряженно вглядывались друг в друга и не видели, что у них на пути появился ребенок.
Самюэль, оцепенев от ужаса, закрыл глаза.
Командир роялистов внезапно заметил мальчика и резко дернул удила, повернув лошадь и врезавшись в коня Ладлоу. Лошадиный хвост хлестнул Самюэля по щеке, в лицо пахнуло жарким, едким запахом конского пота.
Лошадь Ладлоу, оскользнувшись на булыжниках, упала, сбросив с себя всадника. Ладлоу, по-прежнему не видя мальчика, вцепился в уздечку и, лишь только лошадь поднялась, вскочил в седло, размахивая шпагой. В пылу сражения он даже не почувствовал, что острие шпаги скользнуло по телу ребенка.
Самюэль безмолвно осел на мостовую.
На Эндлес-стрит Эдмунд Ладлоу догнал противника и взял его в плен.
На соборном подворье Ладлоу развернул бурную деятельность. Пленников-роялистов, включая их командира, полковника Мидлтона, следовало запереть в колокольне. Времени на разговоры не оставалось – противник вот-вот оправится от неожиданной атаки и снова пойдет в бой. Из Харнгем-Хилла прибыло подкрепление: двенадцать солдат. Ладлоу вздохнул – что ж, может быть, в темноте их можно принять за пятьдесят. А тут еще эта красотка причитает, ребенка своего ищет…
– Мадам, простите, я не видел ваше дитя.
– На рыночной площади я заметил светловолосого мальчика, – вмешался полковник Мидлтон. – Кажется, его в бою задели.
«Ну вот, теперь она захочет пойти на поиски…» – досадливо подумал Ладлоу и велел никого не выпускать с подворья.
Самюэль Шокли замер посреди опустевшей рыночной площади. Кожа на макушке, рассеченная шпагой Ладлоу, саднила и ныла; со слипшихся волос капало что-то теплое и вязкое. В пятидесяти ярдах от мальчика лежали два тела. От испуга он даже расплакаться не мог.
Куда все подевались? С Кастл-стрит доносился какой-то шум, но на рынке никого не осталось.
Шум приближался. К Птичьему Кресту вел темный переулок, но Самюэль боялся шума больше, чем теней, а потому свернул на узкую улочку, впервые в жизни осознав, что защитить его некому.
До Птичьего Креста он доковылял как раз в тот миг, когда роялисты снова вошли на рыночную площадь с Кастл-стрит. Самюэль задрожал и, сообразив, что солдаты направляются в его сторону, решил укрыться в Птичьем Кресте – шестигранном строении с готическими арками вместо стен и остроконечной крышей, увенчанной башенкой.
На Птичий Крест падал свет из окон соседнего дома. Один из роялистов заметил тень, скользнувшую к кресту, и подал знак своим товарищам. Через миг на крест навели четыре мушкета.
Самюэль, опасливо выглянув из арки, заметил дула мушкетов.
«Меня сейчас убьют!» – подумал он и приготовился бежать.
Это спасло ему жизнь – солдат наконец-то разглядел, что перед ним ребенок, и велел своим товарищам прекратить стрельбу. Единственный выстрел из мушкета прошел верхом.
Самюэль, полумертвый от страха, бросился наутек к Хай-стрит, где силы его оставили.
Там его и увидела Маргарет. Мальчик брел, пошатываясь и спотыкаясь, не в тени домов, а посреди улицы, у самого водостока, с отчаянием глядя на далекие ворота соборного подворья. За спиной Самюэля, в самом конце Хай-стрит, появился авангард роялистов.
Маргарет окликнула Самюэля, но он ее не услышал.
Перед ней выстроилась шеренга парламентских солдат.
– Пустите! – выкрикнула она им в спину и огляделась в поисках командира.
Ладлоу ушел в колокольню.
– Да расступитесь же! – Она изо всех сил толкнула ближайшего солдата.
Тот обругал ее, но не сдвинулся с места.
Роялисты приготовились к атаке.
– Самюэль! – что есть мочи завопила Маргарет.
Мальчик, услышав свое имя, растерянно замер посреди улицы, под дулами мушкетов противников. Он больше не различал ни кавалеров, ни круглоголовых, знал только, что все они хотят его убить.
В водостоке негромко журчала вода.
– Прыгай! – крикнула Маргарет.
Самюэль нерешительно глядел на приближавшихся к нему солдат. В ледяную воду лезть не хотелось, и он не сдвинулся с места, по думав: «Все равно я умру…»
С отчаянным криком Маргарет рванулась к мальчику, расталкивая солдат. Вслед ей неслись проклятия, по камням мостовой загрохотал выроненный кем-то мушкет. Строй кавалеров неумолимо приближался. Маргарет схватила мальчика в охапку и, едва прозвучал первый выстрел, прыгнула в водосток.
Что было дальше, Самюэль не помнил.
Он не помнил, как Маргарет, выбравшись из водостока, хлестнула его ладонью по щеке – не со злости, а на радостях, – а потом на руках отнесла к воротам Святой Анны. Битву за колокольню он проспал.
На самом деле битва была осадой: несколько сот роялистов окружили колокольню. Эдмунд Ладлоу, понимая, что с первым лучом солнца противник осознает свое численное преимущество, незаметно увел свой отряд из города через южные ворота соборного подворья в Харнгем-Хилл.
Самюэль, проснувшись на рассвете, видел из окна, как командир роялистов поджег тяжелую дверь колокольни, обложив ее древесным углем.
На этом битва закончилась.
К полудню Маргарет и Самюэль вернулись в усадьбу, где их встретили донельзя огорченные Джейкоб и Мэри Годфри.
– Их было человек двадцать, я не смог их удержать, – повинился Джейкоб.
Отряды роялистов из Эймсбери пронеслись по окрестным селам, будто стая саранчи, отбирая у жителей провизию, одежду, одеяла, столовое серебро и даже оловянную кухонную посуду. Разграбили они и усадьбу Шокли, угрозами подавив робкие протесты супругов Годфри. Мэри дрожала от гнева, осматривая дом и хозяйственные постройки во дворе. Она и прежде слышала о грабежах – особой безжалостностью отличались кавалерийские отряды роялиста Джорджа Горинга, – но до сих пор усадьбу Шокли не трогали.
Вернувшись в дом, Маргарет стукнула кулаком по столу:
– Этого больше не повторится!
Потом она велела Годфри обойти соседние хозяйства и к завтрашнему утру привести в усадьбу всех работников.
– И пусть оружие с собой захватят! Мы любому дадим отпор! – добавила она.
– Мы? – нерешительно переспросил Годфри.
– Да, мы. Я больше насилия терпеть не желаю.
До сих пор Маргарет не отдавала предпочтения ни одной из воюющих сторон, но недавние события заставили ее иначе взглянуть на происходящее. Самюэль едва не погиб, усадьба разграблена…
– Я объявляю войну всем – и роялистам, и сторонникам парламента.
К несказанному удивлению Маргарет, на следующий день в усадь бе собрались мужчины из соседних деревень, и защитников стало десять. Из имения Форестов явились три работника, рассказали, что Форест уехал куда-то на запад, так и не разгласив своих политических убеждений, а слуги, оставшись без хозяина, не знают, как быть дальше. Так к отряду прибавилось еще пятнадцать человек.
Мужчины вооружились мушкетами, пиками и шпагами. Маргарет, облачившись в отцовские доспехи, спрятала длинные светлые косы под высокий стальной шлем, взяла старый меч и, выстроив работников во дворе, заставила их нападать на воображаемого противника.
– Пусть только попробуют к нам заявиться, – сказала она. – Мы их на порог не пустим!
Самюэль с восхищением глядел на сводную сестру.
Через пару дней подвыпившие солдаты попытались выломать запертые ворота усадьбы, но работники, выхватив оружие, бесстрашно встали на защиту особняка. Предводитель защитников, высокий юноша в старомодном шлеме, уверенно размахивал мечом.
– Господи, да это женщина! – удивленно воскликнул один из нападавших, заметив длинные золотистые пряди, выбившиеся из-под шлема.
– Ты на чьей стороне, прекрасная амазонка? – со смехом спросил другой.
– Я против грабителей! – ответила Маргарет.
Солдаты, пристыженно переглянувшись, в растерянности отступили.
Известие о поступке Маргарет Шокли облетело всю округу, и многие в пятиречье решили последовать ее примеру. Как выяснилось, в долине реки Эйвон, как и везде в Уэссексе, арендаторы и крестьяне поднимались на защиту своих земель. Обитатели Сарума не терпели вмешательства в свои дела, и отряды самообороны стихийно возникали повсюду. В Солсбери под предводительством сэра Энтони Эшли Купера действовали так называемые уилтширские клобмены-дубинщики, избравшие своим девизом слова «Истина и мир», а отличительным знаком – белые ленты на шляпах. Маргарет присоединилась к отряду, заявив:
– Наша собственность неприкосновенна!
Июнь 1645 года
Противникам предстояло решающее сражение.
Войска Кромвеля выстроились традиционным порядком: в центре – пехота, на флангах – кавалерия. Посредине стояли пехотные полки Гардреса Уоллера, Джона Пикеринга и Томаса Прайда, на ле вом фланге – кавалерийский полк Генри Айртона и драгунский полк; правое крыло составляли основные силы – семь кавалерийских полков под командованием генерал-лейтенанта Оливера Кромвеля. Отряд пехотинцев, первым идущий в наступление, прозвали застрельщиками. Главнокомандующим Армией нового образца[44] был лорд-генерал сэр Томас Ферфакс.
Перед ними расстилались поля усадьбы Бродмор; позади, на юго-западе, лежал городок Нейзби, затянутый утренним туманом.
Вот уже несколько месяцев круглоголовые неустанно преследовали армию роялистов к северо-западу от Оксфорда, пока наконец оба войска не сошлись в самом центре Англии.
Натаниэль Шокли стоял на левом фланге, в одном из кавалерийских полков. Принц Рупрехт, заметив конницу круглоголовых и не веря, что противник примет бой, бросил в наступление все силы роялистов. Парламентская кавалерия, обладая численным преимуществом, удержала свои позиции.
Рядом с Натаниэлем скакал на пегой лошади Чарльз Муди. Глаза его восторженно сверкали: юный смельчак рвался в бой за короля и Святую католическую церковь.
«Неужели Эдмунд сейчас тоже здесь, на стороне противника?» – подумал Натаниэль.
Эдмунд Шокли невольно залюбовался роялистами, ринувшимися в наступление: сомкнутые шеренги пехотинцев в центре, за ними – синие мундиры кавалеристов принца Рупрехта; на левом фланге северяне, на правом – королевские гвардейцы. Пехотинцы скрылись в лощине, но видно было, как неумолимо приближаются стройные ряды всадников, а вдали, на пригорке, развевается королевский штандарт, – наверное, за боем наблюдает сам король.
Эдмунда окружали его братья по оружию, верные слуги Господа, – и не только солдаты, но и офицеры. После того как парл амент принял Акт о самоотречении, из Армии нового образца изгнали всех знатных господ, оказавшихся никудышными полководцами. Их место заняли люди из низов, такие как полковник Томас Прайд, сын извозчика. Впрочем, среди офицеров оставались дворяне, которые разделяли убеждения круглоголовых и не кичились своим происхождением. Примкнули к армии и индепенденты-конгрегационалисты, которые, хотя и не приняли установлений Пресвитерианской церкви, были глубоко верующими людьми и презирали парламентских чиновников, постоянно задерживавших выплату солдатского жалованья.
Эдмунд Шокли, восхищаясь дисциплиной и религиозным духом своих соратников, считал великой честью сражаться плечом к плечу с ними.
В десять часов утра правый фланг роялистов наконец пришел в движение, а конница принца Рупрехта продолжила атаку.
– Господь – наша сила! – прошептал Эдмунд.
Из-за раннего наступления Рупрехта королевское войско остались без поддержки артиллерии, и все же поначалу казалось, что победа роялистов близка, однако силы правого фланга встретили стойкое сопротивление полков Кромвеля.
Принц Рупрехт, смяв левый фланг парламентской армии, пустился в погоню за противником. Королевские пехотинцы остались без прикрытия, и Кромвель обрушил на них всю мощь своих полков.
Когда Рупрехт наконец собрал своих людей и вернулся к месту сражения, оказалось, что королевское войско разбито, а король покинул поле боя.
Во время первого натиска круглоголовых Натаниэль Шокли и Чарльз Муди попали в самую гущу битвы. Почти сразу их выбили из седла. Завязался рукопашный бой.
– Господь – наша сила!
Эдмунд Шокли задыхался от пыли. Пыль клубилась в воздухе, оседала на лицах солдат, на крупах лошадей, на шлемах, которые больше не сверкали в лучах солнца, на штандартах, на шпагах и палашах. Пыль и кровь… едкий запах пороха… звон стали… В рукопашной схватке стрелять было невозможно, отбиваться приходилось прикладами мушкетов.
Эдмунд выхватил шпагу и, метнувшись к одному из солдат, окруженному роялистами, с разбегу всадил острие в спину противника, чувствуя, как оно, пропоров жесткую кожу дублета, глубоко вошло в плоть. Роялист повалился наземь. Эдмунд уперся сапогом ему в бок и с усилием выдернул шпагу.
Смертельно побледнев, Натаниэль посмотрел на брата.
У Эдмунда потемнело в глазах. Он не видел ничего, кроме лица Натаниэля, – ни роялистов, ни соратников, ринувшихся в атаку.
Вокруг раздавались выкрики:
– Господь – наша сила!
Эдмунд безмолвно, словно в забытьи, отступил в сторону, сжимая в руке бесполезную шпагу. Дальнейшей битвы он не помнил.
Июнь 1646 года
Маргарет обрадовалась возвращению Эдмунда – ей хотелось чем-то заполнить пустоту, возникшую в душе после гибели Натаниэля в битве при Нейзби. К тому же присутствие Эдмунда защищало Маргарет от яростных нападок Обадии, который время от времени приезжал в Эйвонсфорд из Лондона.
Иногда Маргарет казалось, будто Эдмунд занял место Натаниэля, – в нем появились невиданные прежде доброта и сердечность. Каждый день он брал Самюэля на прогулку или часами играл с ним на речном берегу.
Победа в битве при Нейзби ознаменовала начало новой эпохи. Среди вещей, брошенных при поспешном бегстве короля, обнаружили тайную переписку с католическими монархами Европы, где содержалась просьба прислать в Англию войска для усмирения бунтовщиков. Парламент, получив неопровержимое доказательство предательских намерений Карла I, незамедлительно опубликовал эти письма, после чего король утратил поддержку даже своих самых ярых сторонников-протестантов. Ни у кого не оставалось сомнений, что король Карл I – тиран, жаждущий вернуть страну под гнет Католической церкви.
Под напором осадной артиллерии парламентских войск один за другим рушились роялистские оплоты. В октябре 1645 года Кромвель, направляясь на осаду королевского гарнизона в Кларендоне, проехал через Солсбери. Парламент назначил Филиппа Герберта, графа Пемброка, опекуном малолетней дочери короля, принцессы Елизаветы, и отправил ее в Уилтон-Хаус, в то время как лорд Ферфакс готовился захватить Оксфорд – последнюю надежду Карла I.
Круглоголовые праздновали победу и занимали влиятельные должности в парламенте. Депутатом от Солсбери стал Джон Доув, близкий друг Джона Айви, мэра Солсбери, а Эдмунда Ладлоу избрали депутатом от графства Уилтшир. Сэр Генри Форест наконец-то объявил, что он поддерживает парламент.
– Ну, теперь в нашей победе никто не усомнится, – язвительно заметил Эдмунд Шокли.
Сарум вернулся к прежней, спокойной жизни, хотя в прошлом году десятитысячное войско клобменов-дубинщиков и встретилось с круглоголовыми под Шафтсбери. Солдаты Армии нового образца грабить усадьбы не стали, и Маргарет с облегчением перевела дух: похоже, скоро настанут мирные времена.
А вот Эдмунд отчего-то приуныл и таил в себе печаль, как будто победа в борьбе за правое дело его не радовала. Иногда он целыми днями просиживал в одиночестве, тяжело вздыхая и бормоча:
– За что мы боролись? Зачем все это?
По ночам его преследовали кошмары, и он просыпался с именем погибшего брата на устах. Маргарет не понимала причины его страданий – о том, что случилось на поле боя под Нейзби, она ничего не знала.
Иногда из Лондона приезжал Обадия. С приходом к власти пресвитериан он обрел уверенность в своих силах и, вдали от семьи, добился значительных успехов на поприще суровой Пуританской церкви, с ее старейшинами и синодами. Эдмунд напоминал Маргарет, что Обадия, несмотря на все свои недостатки, – прекрасный проповедник и умеет убеждать.
В один из приездов Обадии, зимой 1646 года, Маргарет впервые заметила, что Эдмунда гложут сомнения.
Братья обсуждали политическую ситуацию в стране. Что делать дальше теперь, когда король посрамлен? Будет ли парламент править самостоятельно или короля вернут на престол, но резко ограничат его власть? В любом случае какого рода власть установится в стране?
– Править страной будет парламент, – решительно заявил Обадия. – Не важно, с королем или без короля. И Англия обратится в пресвитерианство.
Взгляды Обадии, который всю войну провел в Лондоне, читая проповеди и обучая отпрысков влиятельных парламентских семейств, в точности отражали убеждения депутатов парламента.
– Но ведь не только пресвитериане – противники тирании, – напомнил Эдмунд брату. – Есть еще англиканцы, баптисты и прочие.
– В Англии и Шотландии должно быть единое вероисповедание – пресвитерианство, – ответил Обадия, считая, что в прошлых бедах страны виновата религиозная разобщенность. – А католиков и прочие ереси следует запретить.
– Пресвитериане – суровые правители, – вздохнул Эдмунд.
– Разумеется.
– А что будет с армией? – спросил Эдмунд, вспомнив своих со ратников, добрых христиан, ратовавших за свободу вероисповедания.
– Армию распустят, как только надобность в ней отпадет.
– А жалованье солдатам заплатят? Парламент вот уже сорок недель кавалерийским полкам денег не дает.
– Заплатят, сколько смогут.
– И за что же мы тогда сражались? – повторил Эдмунд мучивший его вопрос.
– За пресвитерианский парламент, за изгнание всех епископов, за искоренение англиканства и папистов.
– По-твоему, это свобода?
– Да.
– А кто будет выбирать пресвитерианский парламент?
– Те же люди, что и сейчас.
– Нет, мы сражались за большее, – недовольно поморщившись, заметил Эдмунд.
Младшие офицеры из низших сословий превратили Армию нового образца в средоточие радикальной мысли. Английские йомены и ремесленники требовали новых прав и свобод: свободы вероисповедания, всеобщего избирательного права и проведения ежегодных выборов в палату общин.
– Некоторые считают, что право голоса должно быть у каждого домовладельца, – пояснил Эдмунд. – А может быть, и вообще у любого мужчины.
Подобные радикальные взгляды принадлежали так называемым левеллерам – уравнителям, – которые уже не первый год добивались народовластия, однако их требованиям никто не придавал значения.
«Если армия превратилась в рассадник крамолы, то чем скорее ее распустят, тем лучше», – подумал Обадия и хмуро осведомился:
– Даже у слуг? Неужели ты согласен с левеллерами?
Поразмыслив, Эдмунд ответил:
– Нет, всеобщее избирательное право не имеет смысла. Но если человек связан со страной – например, владеет землей или своим делом, – то вреда в нем не будет. По-моему, это естественное право человека.
Обадия не верил своим ушам: как смеет Эдмунд, глава семейства Шокли, выражать подобные взгляды?
– Это приведет к пагубной демократии и хаосу! – гневно вскричал Обадия. – Если этим закончится наша война, то лучше бы мы сражались за короля!
– Между прочим, некоторые парламентарии до сих пор отдают предпочтение власти короля, – напомнил Эдмунд.
– Ты переменился, – с отвращением произнес Обадия.
– Верно, – ответил Эдмунд. – По-моему, мы сражались за победу над тиранией короля, а вместо нее заполучили тиранию пресвитеров.
После этого разговора Обадия стал реже приезжать в Сарум.
Только много позже, уже взрослым человеком, Самюэль узнал, что именно произошло через неделю после приезда Обадии.
Увидев, что к усадьбе приближается всадник на взмыленном коне, юный Самюэль побежал в поле к Эдмунду, схватил его за руку и потащил к дому, чтобы сводный брат сам увидел нежданного гостя.
Чарльз Муди прискакал из Оксфорда. После битвы при Нейзби он повсюду следовал за королем, но теперь, когда исход войны стал ясен, решил вернуться домой, в Шафтсбери.
В Сарум он приехал, чтобы отдать родным шпагу Натаниэля, которую бережно хранил вот уже год. Чарльз, поклонившись Маргарет, осторожно положил на стол шпагу и прядь волос Натаниэля.
– Прости, что я раньше тебя не известил, – печально сказал он. – После Нейзби мне было не до писем.
Маргарет грустно улыбнулась, глядя на юношу. Изможденное, бледное чело Чарльза избороздили глубокие морщины, под ввалившимися глазами залегли темные круги – неизгладимые отметины войны. До приезда Чарльза Маргарет старалась не думать о погибшем брате, пытаясь унять неизбывную боль в душе, но теперь ей почудилось, что Натаниэль незримо присутствует рядом и, покуривая трубку, с лукавой улыбкой смотрит на сестру.
Что там говорит Муди? А, выражает соболезнования… Маргарет рассеянно кивнула и поблагодарила юношу.
– Я был с ним рядом… – вздохнул он.
Рядом с Натаниэлем… Чарльз был свидетелем его смерти?
– А он… долго мучился? – внезапно спросила Маргарет.
– Нет, слава Богу, – ответил Чарльз. – Все случилось в мгновение ока. Я и представить не мог, что Эдмунд…
Маргарет ошеломленно уставилась на него. При чем тут Эдмунд? Эдмунд и Натаниэль…
– Эдмунд?!
«Боже мой, – запоздало сообразил Чарльз. – Она ничего не знает…»
Самюэль радостно привел Эдмунда в гостиную и замер от неожиданности, глядя на Маргарет, побледневшую как полотно. Странный гость в запыленном кожаном камзоле, метнув в Эдмунда гневный взгляд, бросился к выходу с криком:
– Убийца!
Маргарет, все еще дрожа от потрясения, медленно брела по тропке, вьющейся вдоль реки к взгорью. В равнодушном синем небе сияло солнце, безжалостно выжигая пустынные гряды холмов, убегающие к далекому горизонту. В усадьбу возвращаться не хотелось.
Полчаса спустя Маргарет остановилась, не доходя до березового леса во владениях сэра Генри Фореста. Прямо перед ней высился пологий холм, изрытый кроличьими норами. На вершине холма кругом росли старые тисы. Маргарет, решив скрыться от посторонних глаз, пробралась сквозь заросли на крошечную поляну, куда давно никто не заглядывал. Среди густой травы угадывались очертания какого-то узора, прорезанного в дерне. Маргарет без сил опустилась на землю в тени деревьев и уткнула голову в колени.
«Натаниэль…»
Она долго сидела, перебирая в памяти недавние события, и, пересиливая горе и гнев, в конце концов осознала всю глубину страданий старшего брата.
Эдмунд сидел на каменной скамье у дома, рассеянно вертя в руках глиняную трубку Натаниэля, украшенную изображением рыцарской перчатки.
Маргарет осторожно подошла к несчастному брату и обняла его сгорбленные плечи:
– Бедный ты мой!
Эдмунд Шокли, целый год скрывавший страшную тайну, наконец-то разрыдался.
Декабрь 1653 года
В тринадцать лет Самюэль решил, что самый лучший его друг – велеречивый и многомудрый Обадия. К сводной сестре мальчик теперь относился снисходительно, ведь ученостью она похвастаться не могла.
Впрочем, Обадия всякий раз наставлял его:
– Ты обязан чтить Маргарет и повиноваться ей, как родной матери.
Обадия в последнее время всячески превозносил сестру, хотя она не раз украдкой предупреждала Самюэля:
– Ты с Обадией поосторожнее, он змий кусачий.
Нет, в этом Маргарет была не права. К Самюэлю Обадия относился с любовью и лаской, а в январе даже подарил ему сочинение великого Джона Мильтона «О реформации» в красивом переплете.
– Читай и вникай, – велел Обадия. – Мильтон лучше всех изобличает католических прелатов и объясняет, какой вред наносят папистские суеверия.
Высокой похвалы удостоились и скромные писательские опыты Самюэля. Нет, зря Маргарет называла старшего брата змием кусачим. Теперь Обадия прослыл великим проповедником и снискал почет и уважение жителей Сарума.
Короля, обвиненного в государственной измене, казнили. Среди судей, подписавших смертный приговор Карлу I, были два уилтширских дворянина – Джон Фелпс и Эдмунд Ладлоу. Власть в стране перешла к протестантскому парламенту, во главе которого стоял Оливер Кромвель, защитник отечества.
Кромвель, получивший титул лорда-протектора, был суровым властелином и противников не терпел. Когда Эдмунд Ладлоу, к тому времени наместник Ирландии, воспротивился деспотическому режиму, ему тут же пригрозили арестом. В Лондоне теперь заседал так называемый Малый, или Бербонский, парламент – ограниченное число парламентариев, избранное пресвитерианскими конгрегациями. У Обадии не вызывали нареканий три уилтширских депутата, люди солидные и уважаемые: сэр Энтони Эшли Купер, Джайлз Эйр и Уильям Грин.
Сарум насквозь пропитался пресвитерианским духом. Из Солсберийского собора изгнали все духовенство, шесть веков правившее епархией: епископа, настоятеля, диакона и архидиаконов, каноников, викариев и певчих. Все земли епархии перешли во владение парламента, и Джон Доув с Джоном Айви отправились в Лондон с прошением о передаче части владений городу. Городской совет теперь заведовал и соборным подворьем.
Всем заправляли приходские священники и проповедники, члены пресвитерианской Вестминстерской ассамблеи, – Джон Стрикленд, пастор церкви Святого Эдмунда, и пасторы церквей Святого Фомы и Святого Мартина. Проповеди читались с кафедры, установленной посредине церкви, а богослужения в соборе тоже проводились на протестантский манер.
– Приходские церкви – всего лишь места для молитвенных собраний и проповедей, – объяснял Обадия.
Маргарет возразила, что Солсберийский собор – величественный храм, возведенный во славу Господа, но Обадия раздраженно оборвал ее:
– Это все папистские выдумки!
При новой власти собор и соборное подворье пришли в плачевное состояние. Башня церкви Святого Эдмунда обвалилась; сожженную дверь колокольни восстановили, но солдаты нанесли значительный ущерб зданию капитула. А после того как Кромвелю пришлось пойти войной на Нидерланды – основного торгового конкурента Англии, – голландских пленников поселили в монашеских кельях при соборе. Теперь в одном углу соборного подворья высилась мусорная куча, в другом устроили скотобойню мясники и там же соорудили торговые ряды. Хозяйственные постройки и помещения епископского дворца использовали как постоялый двор и сдавали внаем. Теперь через подворье проезжали телеги, повозки и кареты, взрывая тяжелыми колесами зеленые лужайки и кроша брусчатку двора.
Зато местные проповедники, в том числе и Обадия, никаких неудобств не испытывали – по решению городского совета им отдали великолепные особняки каноников.
Обадия изо всех сил старался завоевать расположение Самюэля и изредка навещал Маргарет, при всяком удобном случае напоминая сестре, что теперь он глава семьи.
Действительно, Эдмунд покинул семью.
Самюэль с любовью вспоминал Эдмунда. После неожиданного визита Чарльза Муди Эдмунд и Маргарет сблизились. Эдмунд обучал Самюэля грамоте, письму и начаткам латыни, однако все больше и больше отдалялся от родных, препоручив ведение хозяйства Маргарет. С годами он исхудал и полюбил в одиночестве бродить по округе, погрузившись в размышления.
Весной 1649 года, сразу после казни Карла I, Эдмунд ушел из дома.
На вопросы Самюэля о сводном брате Маргарет коротко отвечала, что он сейчас живет неподалеку от Лондона и домой возвращаться пока не собирается.
Год спустя, весной, Маргарет и Самюэль отправились навестить Эдмунда.
Поездка была долгой. Наконец повозка, поднявшись по склону холма, остановилась, и Самюэль огляделся: перед ним раскинулась усадьба, такая же, как в Саруме. К дому шли работники, среди которых мальчик с удивлением приметил Эдмунда.
– А почему он здесь? – спросил Самюэль.
– Ему так хочется, – ответила Маргарет. – Он теперь диггер[45].
Самюэлю любопытно было узнать, кто такие диггеры – этого слова он никогда прежде не слышал.
В бурлящем котле английской буржуазной революции возникло великое множество различных политических течений, среди которых диггеры выделялись необычайной логичностью радикальных взглядов. Обадия не зря пришел в ужас, когда Эдмунд выразил свое мнение о естественном праве человека, – левеллеры всего лишь предлагали наделить мелких собственников правами, ранее принадлежавшими только аристократии, тогда как диггеры настаивали на всеобщем равенстве и полной отмене частной собственности.
Эдмунд пригласил родных в большой дом, где жили все диггеры общины Сент-Джордж-Хилл в графстве Суррей, близ Лондона.
– Принято считать, что свободен тот, кто владеет собственностью, то есть землей и имуществом, а значит, если передать всю собственность в общественное пользование, то свободными людьми станут все, – объяснял Эдмунд родным. – Все наши вещи здесь – общественное достояние, и работаем мы вместе, на равных.
– По-моему, это больше похоже на монашескую обитель, – шутливо заметила Маргарет.
– Мы не настаиваем на едином вероисповедании, – возразил Эдмунд.
В глубине души Маргарет сомневалась, что община долго просуществует. Она с тревогой посмотрела на брата: Эдмунд исхудал, в глазах его мелькало странное выражение – то ли умиротворенность, то ли отчаяние.
За дружеской беседой вечер пролетел незаметно, однако на следующее утро Эдмунд не стал задерживать родных.
По пути домой Самюэль удивленно спросил:
– И что же теперь, нашу усадьбу тоже надо в общественное пользование отдать?
– Нет, Эдмунду наша усадьба не нужна.
– А почему?
– Она напоминает ему о бедах и горестях.
Самюэль не понял, о чем говорит Маргарет.
– Значит, вдали от усадьбы он о бедах забывает?
– Не знаю, – вздохнула Маргарет.
Полтора года спустя она получила известие, что Эдмунд скончался от истощения и упадка сил, ни о чем не сожалея. Общину диггеров вскоре разогнали, но в историю она вошла как один из первых европейских опытов по воплощению коммунистических идей в жизнь.
Самюэлю казалось, что он обитает попеременно в двух разных, непересекающихся сферах: в усадьбе, где всем распоряжалась Маргарет, и в Солсбери, где властвовал Обадия. Для Самюэля Эйвонсфорд оставался родным очагом, а Солсбери олицетворял неведомый, но манящий мир.
Обадия Шокли терпеливо поджидал своего часа.
В двенадцать лет Самюэль стал еще больше походить на сводную сестру. По настоянию Обадии смышленый подросток три дня в неделю брал уроки у местного пастора и в учении добился больших успехов.
– Я в учености не сильна, зато в земледелии толк знаю, – заявила Маргарет.
Самюэль быстро освоил секреты усадебного хозяйства, а Джейкоб Годфри обучил его ведению расчетов.
Ежедневно они с Маргарет проходили по окрестным полям пять, а то и десять миль. Самюэль прекрасно знал все уголки пятиречья, до его северной оконечности, где находился городок Эймсбери и развалины древнего Стоунхенджа.
В пойме Эйвона и на склонах холмов близ Олд-Сарума простирались общинные угодья.
– Их сейчас распахивают, а по ночам туда овец загоняют, чтобы навозом почву удобрить, – объясняла Маргарет.
Так Самюэль познакомился со сложным и запутанным английским законодательством, позволявшим крестьянам возделывать общинную пашню и разводить стада.
Иногда Маргарет уводила брата вниз по берегу реки, мимо собора, за мост, к деревне Бритфорд, у южной оконечности Кларендонского леса. Несколько раз они добирались даже к Даунтону, на пять миль южнее.
На северо-востоке Солсбери, за пологим холмом, получившим название Бишопсдаун – Епископский холм, – текла река Бурн; ее долину с востока ограничивали величественные меловые гряды, простиравшиеся до Винчестера.
Больше всего Самюэль любил западные окрестности Сарума. К юго-западу от соборного подворья раскинулись поля, уходившие к деревне Харнгем у подножия высокого холма Харнгем-Хилл, с вершины которого открывался великолепный вид на Солсбери. Город лежал как на ладони: собор, подворье, рынок и прямоугольники кварталов казались нарисованными знаменитым картографом Джоном Спидом.
А на западе начинались Гербертовы края, как называл их Самюэль.
Широкая долина, протянувшаяся до Шафтсбери, принадлежала графу Пемброку, главе семейства Герберт. Нынешние владельцы не шли ни в какое сравнение с их знаменитыми предками, властвовавшими над округой всего полвека назад, при Тюдорах, однако по-прежнему пользовались значительным влиянием в Уилтшире.
Самюэль любил бродить по соседним деревням – Фишертону и Бемертону, – нередко посещал и Уилтон, а оттуда уходил вверх по меловой гряде на запад, к Дубраве Гроувли, где почти тысячу лет назад находилась давно исчезнувшая деревушка, давшая имя семейству Шокли.
Гербертовы края… В этом названии для Маргарет содержался тайный смысл, заставлявший Обадию недовольно морщить лоб.
В Бемертоне Маргарет и Самюэль всегда заходили помолиться в деревенскую часовню, сложенную из серого камня, рядом с которой стоял скромный домик священника. Всякий раз Маргарет говорила одно и то же:
– Я его хорошо помню, он был другом отца.
Великий поэт Джордж Герберт скончался, когда Маргарет было одиннадцать лет.
– Он в родстве с владельцем Уилтон-Хауса? – спросил однажды Самюэль.
– Да, они дальние родственники.
– А его во дворец пускали?
– Нет, наверное, – печально улыбнулась Маргарет. – Они в бедности жили.
– Но зато он повсюду в округе побывал, верно?
Джордж Герберт прожил в Бемертоне всего несколько лет, но оставил по себе долгую добрую память.
– Верно, – кивнула Маргарет. – Он каждую семью в своем приходе навещал. Что бы там Обадия ни говорил, в Англиканской церкви было много хороших священников.
Герберт, бемертонский викарий, был автором прекрасных религиозных стихотворений; местные жители называли его святым пастырем.
– Его наставлял сам Господь, – говорила Маргарет.
Даже Обадия не осмеливался с ней спорить, хотя Джордж Герберт был англиканским священником, любил духовные песнопения, часто приходил на службу в Солсберийский собор и даже написал своего рода руководство для приходских священников.
– Джордж Герберт был прекрасным священником, не хуже протестантских пресвитеров! – часто восклицала Маргарет.
В присутствии Обадии произносить такие речи было опасно.
Суровый и строгий мир Обадии поначалу пугал Самюэля, но мальчик быстро осознал, какой огромной властью облечен проповедник. Обадия был знаком с самим Кромвелем!
В глазах Самюэля Кромвель был настоящим героем, ведь он не только сверг проклятого тирана-короля, но и подчинил мятежных ирландцев и шотландцев, а потом щедро раздал поместья в Ирландии своим верным солдатам. Кромвелю, сильному и справедливому правителю, покорился даже парламент. Воистину, Кромвель был настоящим избранником Господа.
Самюэль почти не помнил Натаниэля, а роялистов считал предателями и ненавидел от всей души. Роялистами были многие дворянские семейства в Саруме – и Пенраддоки, и Момпессоны, и Гайды. Шотландские протестанты неразумно заключили договор с сыном казненного короля, будто забыв, что клятвам Стюарта доверять нельзя, и пошли войной на Англию. Войска Кромвеля наголову разбили их в сражении под Вустером, однако проклятого Стюарта изловить не удалось. Он бежал, потому что в Саруме нашлись глупцы, которые поспешили ему на помощь, – все те же Гайды и англиканский священник, каноник Солсберийского собора Гемфри Хенчмен. По слухам, Карлу Стюарту пришлось скрываться от погони в кроне древнего дуба. Обадия велел Самюэлю не терять бдительности, ведь предатели таились повсюду.
Самюэль, мечтая в один прекрасный день оказаться на службе у Кромвеля, начал перенимать строгие манеры пуритан, вставлял в речь библейские выражения и часами вертелся перед зеркалом, напуская на себя суровый вид. На добродушные насмешки Маргарет он не обращал внимания и представлял Кромвеля древним библейским пророком.
Тринадцатилетний Самюэль, избрав Кромвеля образцом для подражания, строго корил себя за то, что поддавался соблазнам плоти, ведь для пуритан любование красотой, музыка и танцы считались таким же смертным грехом, как чревоугодие или блуд. А Самюэль обожал красоту.
– Взрослому человеку не пристало искать наслаждения в детских забавах, – объяснял ему Обадия. – Он рад тому, что следует стезей добродетели.
Больше всего на свете Самюэль хотел следовать стезей добродетели, но однажды невольно впал в грех.
Случилось это у ворот Уилтон-Хауса.
Дворец графа Пемброка сгорел, когда Самюэлю было семь лет. С тех пор на месте пожарища шло строительство, и теперь за оградой красовалось внушительное здание.
Самюэль, с любопытством разглядывая новый дворец, заметил, что к воротам направляется его знакомец, Уильям Смит. Старый штукатур иногда подновлял усадьбу Шокли, но в последнее время занимался отделкой дворца.
– Хочешь посмотреть? – добродушно спросил он.
Самюэль смущенно потупился.
– Там сейчас только строители и эконом, – улыбнулся Смит. – Хозяева в Лондоне.
Так Самюэль удостоился чести побывать в великолепном особняке – жемчужине английской барочной архитектуры.
Разумеется, роскошные загородные резиденции с прекрасными парками не редкость в Англии, но здесь, в излучине реки, изящные очертания Уилтон-Хауса словно бы вторили величественному Солсберийскому собору.
– Главные дворцовые покои созданы по рисункам самого Иниго Джонса, – объяснил Смит.
Огромный квадратный зал вел в роскошный сдвоенный салон с широкими прямоугольниками окон, выходящих в дворцовый парк, к реке Наддер, на глади которой покачивались белые лебеди. Самюэль обвел восхищенным взглядом покои и неожиданно произнес:
– Здесь так уютно…
В самом деле, английское барокко весьма отличалось от своего европейского собрата. Вместо помпезных пространств, романских арок и внушительных мраморных лестниц, вместо куполов, изысканных фронтонов, пилястр и роскошных фресок, с которых словно бы рвались в небеса аллегорические фигуры, английское барокко обладало сдержанной утонченностью. На севере Англии, где не существовало ни европейского культа знати, ни инквизиции, ни священного благоговения перед власть имущими, загородные резиденции знати были не дворцами, а скорее старинными поместьями-манорами, лишенными нарочитой выспренности. Эта приземленность придавала им особое очарование. А Уилтон-Хаус, построенный на руинах старого монастыря, обладал какой-то романтической притягательностью.
Самюэль Шокли испытывал огромное наслаждение, переходя из зала в зал и завороженно разглядывая богатое убранство, роскошную мебель и прекрасные полотна Ван Дейка, а по дороге домой запоздало осознал, что согрешил и проявил слабость духа.
– Это все обольщение и обман, – сокрушенно бормотал мальчик, свято веря, что великий Кромвель ни за что не поддался бы соблазнительному очарованию дворца.
Самюэль, вернувшись с прогулки, обнаружил в гостиной Обадию. Маргарет, стоя у камина, с вызовом глядела на брата.
– Эта книга – зло и дьявольское наущение! – воскликнул Обадия, гневно потрясая молитвенником.
Пуритане отказались от Книги общих молитв, составленной епис копом Кранмером, – по их мнению, она была чересчур папистской – и на молитвенных собраниях пользовались служебником. Отвергли они и все церковные обряды: причастие, заупокойные молебны и даже освящение брака в церкви – бракосочетание теперь свидетельствовали мировые судьи.
Маргарет пуритан ненавидела и по Книге общих молитв молилась каждое воскресенье – дома, в присутствии Самюэля. Обадия, узнав об этом из случайного замечания мальчика, явился к сестре с упреками и угрозами – Пресвитерианская церковь запрещала пользоваться Книгой общих молитв.
– Ваш служебник слишком уныл, – дерзко заявила Маргарет. – Мне больше нравится молитвенник.
– И Самюэль тому свидетель?
– Да.
Обадия вздохнул и укоризненно посмотрел на сестру – Самюэля следовало воспитывать в истинной вере, а не подвергать тлетворному влиянию Книги общих молитв.
– Женщина, ты глупа и нечестива!
Маргарет, рассмеявшись, выхватила у него молитвенник:
– А ты, Обадия, змий кусачий!
Обадия вот уже двадцать лет не слышал полузабытого детского прозвища, и сейчас в нем всколыхнулись старые обиды. Из почтенного проповедника он внезапно превратился в несчастного юнца. Сестра глубоко оскорбила его достоинство, да еще и в присутствии Самюэля! Нет, Обадия этого так не оставит. Месть его будет страшна.
Самюэль с удивлением глядел на Маргарет, не замечая злобного взора Обадии.
– Читай свои проповеди в церкви! Ты меня не обманешь, я твою змеиную натуру хорошо знаю. Как был змий кусачий, так им и остался! – выкрикнула она и, обернувшись к Самюэлю, добавила: – За Обадией глаз да глаз нужен. Дай ему руку – одним махом оттяпает.
Самюэль ошеломленно посмотрел на сестру. Да как она смеет так непочтительно отзываться о старшем брате? Ведь это страшный грех! Вспомнив о своем недавнем прегрешении, мальчик решительно подошел к Маргарет, взял у нее молитвенник и швырнул в камин.
– В нашем доме нечестивых книг не будет! – провозгласил он и вышел из гостиной, надеясь, что таким образом искупил свой грех.
Маргарет оцепенела.
Обадия с торжествующей улыбкой посмотрел на сестру.
Наступил день суда над Анной Боденхем, обвиненной в колдовстве. Маргарет на суд идти не хотела и Самюэля не пускала, но, уступив отчаянным мольбам мальчика, позволила ему присоединиться к Обадии и сэру Генри Форесту с двумя детьми.
В помещении суда собралась огромная толпа горожан. Анну Боденхем обвиняли в страшных преступлениях: в юности она была католичкой, поминала зло, возводила хулу и говорила о счастливых и несчастливых днях. К счастью, в то время в Саруме находился Мэттью Хопкинс, знаменитый охотник на ведьм, который и обличил Анну. На допросах выяснилось, что она была служанкой доктора Джона Лэмба, астролога и колдуна, забитого камнями в Лондоне в 1640 году.
– Лэмб водил знакомство с королевским фаворитом Джорджем Вильерсом, герцогом Бекингемом, – объяснил Обадия Самюэлю. – Держись подальше от папистов и дурных людей: они источают заразу зла.
Форест обратил внимание Самюэля на непримечательного человека с мрачным лицом:
– Это Мэттью Хопкинс.
– Он вершит богоугодные деяния, – добавил Обадия.
Один из свидетелей, слуга проповедника, рассказал, что на пороге дома Анны Боденхем его встретили пять духов в обличье оборванцев, а сама ведьма, открыв дверь, тут же обернулась кошкой.
– Я беседовал со слугой, – подтвердил Обадия. – Он честный человек, лгать не будет.
– А Маргарет говорит, что несчастную схватили по навету, – сказал Самюэль.
– Зло нужно искоренять, – сурово ответил Обадия.
– Я сам мировой судья, – вмешался сэр Генри Форест. – Как бы то ни было, ее признают виновной в колдовстве.
На следующий день, к огорчению Самюэля, Маргарет не позволила ему пойти в Фишертон, поглядеть, как казнят ведьму.
После суда Обадия завел с Самюэлем серьезный разговор:
– Мне ведомо твое стремление достойно служить Господу. Ты задумывался над тем, какому делу себя посвятить?
Самюэль помотал головой.
– Если желаешь, я помогу тебе стать ученым человеком.
Мальчик, польщенный предложением Обадии, зарделся от смущения.
– Для этого придется переехать ко мне в Солсбери, – сказал Обадия. – Тебе нужен подобающий наставник.
Обадия, натянуто улыбаясь, поздоровался с Маргарет и, не желая напоминать ей о недавней ссоре, без обиняков заявил:
– Самюэль – юноша смышленый, ему пора науки постигать.
– Он уже обучен тому, что ему в жизни пригодится.
В какой-то мере Маргарет была права – сельским жителям вполне хватало уроков местного пастора. Но достаточно ли этого Самюэлю?
– Это не ученость, – мрачно изрек Обадия.
Маргарет понимала, что брат прав, но признавать этого не хотела, ведь это означало, что с Самюэлем придется расстаться. Ей уже давно минуло тридцать, о замужестве она не думала, а после смерти отца и двух братьев воспитывала Самюэля как родного сына.
«Если он уедет, что мне останется? – с горечью размышляла Маргарет. – Усадьба? Обадия?»
Соседи над ней посмеивались. О храброй девушке, вставшей на защиту своих владений, давным-давно забыли. Маргарет считали старой девой и не обращали внимания на ее причуды. У нее был любимый кот, а каждое утро она выходила во двор кормить птиц, которым давала имена и прозвища; разговаривала она и с коровами в стойлах.
Обадии все это было известно, однако он никогда не попрекал сестру, лишь глядел на нее с холодным презрением.
Маргарет всю свою жизнь посвятила Самюэлю.
В Михайлов день Обадия пришел в усадьбу.
– Самюэль пойдет учиться в школу, а жить будет со мной, в Солсбери, – заявил он.
Понимая, что брат хочет воспитать мальчика в пуританской строгости, Маргарет наотрез отказалась.
Обадия сурово посмотрел на сестру:
– Как глава семьи, я заставлю тебя повиноваться моей воле.
От детской шепелявости он так и не избавился, но теперь она придавала его речи угрожающий оттенок.
– Попробуй только! – воскликнула она. – Ты что, выкрасть его собрался?
Помолчав, Обадия склонил набок седую голову и весомо произнес:
– Об этом мы еще побеседуем.
Спустя неделю он снова пришел к сестре:
– Что ты решила?
Маргарет знала, что Самюэля ей не удержать, но отпускать его к Обадии не хотела – и не только из-за пуританской суровости брата. Он, сам того не подозревая, был человеком тщеславным и злопамятным, а теплотой чувств не отличался.
«Он вышколит Самюэля и заставит его себе прислуживать», – горестно подумала Маргарет и ответила:
– Нет, я тебе его никогда не отдам.
– Я тебя силой заставлю, – пригрозил Обадия.
– Ничего у тебя не выйдет. Больше ты его не увидишь, а еще раз придешь в усадьбу – собак на тебя спущу.
– Ты еще пожалеешь! – злобно прошипел Обадия.
– Не о чем мне жалеть.
– Отчего ты упорствуешь, глупая женщина?
– Оттого, что я тебя слишком хорошо знаю, – честно сказала она. – У тебя сердце злое.
Обадия окинул ее холодным, невозмутимым взглядом и вышел.
В последнее время Самюэль чувствовал себя узником. Ему запретили видеться с Обадией, в Солсбери он ходил только в сопровождении Маргарет, а работникам велели немедленно сообщать о появлении проповедника в усадьбе.
Годфри и Маргарет не отходили от Самюэля ни на шаг.
– Обадия – мой друг, – напоминал Самюэль сестре.
– Нет, он никому не друг, – грустно вздыхала она. – Подрастешь, сам поймешь.
Самюэль не знал, что делать. Покидать Маргарет ему не хотелось, но так долго продолжаться не могло.
Тем временем Маргарет решилась на отчаянный шаг.
О причинах ссоры Маргарет и Обадии Самюэль не задумывался; сейчас его больше занимали другие дела.
Нужно было осушить луга.
Самюэль Шокли знал, как содержать пойменные луга. Сельское хозяйство Сарума вот уже две тысячи лет основывалось на пахотном земледелии, неразрывно связанном с овцеводством. Поля, щедро удобренные овечьим навозом, давали прекрасный урожай, поэтому требовались пастбища в низинах, а не на взгорье. Лучше всего для этой цели подходили заболоченные речные поймы, но их не осушали со времен римского завоевания и забытое искусство дренажа возродили лишь недавно.
От реки по самой середине луга прокладывали отводной канал, от которого во все стороны ветвями расходилась сеть канавок и ямок для сбора и стока излишней воды. Ширина пойменных лугов в усадьбе Шокли составляла двести ярдов, а протяженность основного канала – около полумили. Для регулирования уровня воды в водостоках пользовались сложной системой деревянных шлюзовых ворот, оснащенных особым механизмом для поднятия и опускания щитков, перекрывающих путь воде. Кроме основного дренажного канала, были еще и десятки каналов поменьше, где вместо шлюзов использовали дерновые заглушки. За всем этим хозяйством следил особый работник – заливщик. В усадьбе Шокли заливщиком служил Уильям, сын Джейкоба Годфри. Его работа пользовалась не меньшим уважением, чем труд пастуха, присматривающего за стадами овец.
– Зимой и ранней весной система каналов позволяет покрыть всю пойму тонким слоем медленно текущей воды, которая удобряет луга илом и согревает почву, где потом растет тучная трава. А весной в долину приводят стада с взгорья, и осушенные луга становятся пастбищами, – объяснял Уильям Самюэлю.
Теперь так поступали все владельцы пойменных лугов пятиречья.
В конце лета Уильям объявил, что каналы и водостоки нуждаются в починке и расчистке. На лугах уже скосили траву, и Маргарет, обходя высокие стога сена, задумчиво сказала:
– По-моему, каналы можно проложить и дальше…
Однако в усадьбе не хватало рабочих рук.
Перед Михайловым днем Маргарет, отправившись с Самюэлем в Солсбери, внезапно воскликнула:
– Надо голландцев нанять, все равно им заняться нечем! А в Голландии повсюду каналы и плотины!
Маргарет обратилась к городским властям с просьбой выделить ей десяток пленников. Сначала ей отказали, боясь, что голландцы сбегут. На следующий день Маргарет пришла к советникам, вооружившись мушкетом и шпагой.
– Я уилтширский клобмен, от меня никто не сбежит! – заявила она.
Теперь, на зависть сэру Генри Форесту, голландцы трудились на заливных лугах Шокли.
А еще Маргарет и Самюэль, одни из немногих в Саруме, были причастны к тайне Солсберийского собора.
Маргарет с Самюэлем только вошли в собор, как вдруг из-за колонны близ хора появился согбенный тщедушный старик с несуразно большой головой и, не заметив присутствующих, зашаркал к часовне в восточной оконечности храма. Маргарет решительно направилась к нему.
– Ты здесь работаешь? – спросила она.
Старик близоруко сощурил серые глаза и нерешительно ответил:
– Ну, это как сказать…
– Тебя как зовут?
– Захария Мейсон, – буркнул он, сжимая в кулаке котомку с инструментами.
Маргарет заметила, что пальцы его перепачканы известью.
– Ты здесь что-то чинишь, я же вижу!
Старик промолчал.
– Знаешь, кто я такая?
– Да, госпожа. Вы сестра Обадии Шокли, – с затаенной обидой в голосе проворчал старик.
– Верно. А брат мой – глупец, – раздраженно сказала Маргарет. – Слава Богу, есть еще разумные люди, понимают, что храм ухода требует.
Старый каменщик настороженно поглядел на нее.
– А кроме тебя, еще работники есть? – спросила Маргарет.
– Ну, это как сказать…
– Вам за работу платят?
– Да.
Маргарет потянулась к кошельку, но старик покачал тяжелой головой:
– Нам платят как положено.
Неделю спустя Маргарет сказала Самюэлю:
– Каменщикам за работу Гайды платят.
Действительно, все годы правления Кромвеля в соборе украдкой трудились каменщики, нанятые древним дворянским родом Гайдов.
Еще одно происшествие поначалу казалось незначительным.
Однажды, когда голландцы, под присмотром Маргарет и Самюэля, копали дренажные канавы на пойменных лугах, на прибрежной тропе остановился экипаж с каким-то незнакомым человеком. Голландцы обрадованно зашептались и попросили у Маргарет разрешения с ним поговорить.
– А кто это? – недоверчиво осведомилась Маргарет.
– Его зовут Аарон.
– И чем же он занимается?
– Он торговец, – пояснил голландец и добавил: – Голландский еврей.
Самюэль обомлел от неожиданности, впервые в жизни своими глазами увидев потомка колен Израилевых, о которых говорится в Ветхом Завете. Впрочем, в то время большинство англичан никогда не встречались с евреями.
Как ни странно, трехсотшестидесятилетний запрет на поселение евреев в Англии отменил Оливер Кромвель. Обадия, хоть и признавал заслуги Кромвеля перед Англией, был весьма недоволен подобной религиозной терпимостью – в стране и так появилось множество протестантских сект различного толка: баптисты, анабаптисты, сторонники Роберта Брауна, отстаивавшие независимость самоуправляемой церковной общины и отвергавшие единую церковную власть, и последователи проповедника Георга Фокса, называемые квакерами, которые настаивали на том, что внутренний свет и глас Божий обитает в душе каждого человека. В Уилтшире учение квакеров начал распространять некий Уильям Пенн[46].
– Его надо кнутом высечь, а проклятый язык раскаленным железом прижечь! – возмущался Обадия.
Однако самым нетерпимым для проповедника было присутствие евреев. Они переселялись в Англию из Голландии, куда бежали, спасаясь от преследований испанской инквизиции. Строго говоря, подданными короля они не считались, хотя им и было позволено заниматься торговлей.
Аарон, недавно приехавший в Англию, привез голландцам деньги и письма от родных, пообещал обеспечить узников всем необходимым и, прежде чем вернуться в Уилтон, провел за беседой с ними около получаса. Все это время Самюэль рассматривал лысого старика с внимательными глазами и с сожалением признал, что он выглядит совсем как обычный человек.
Спустя неделю после окончательной ссоры с Обадией Маргарет втайне навестила сэра Генри Фореста. О ее визите никто не знал.
Форест, удивленно выслушав ее предложение, задумчиво произнес:
– Значит, я стану опекуном Самюэля?
Маргарет кивнула.
– И отправлю его учиться вместе с моими детьми?
– Ваши сыновья – ровесники Самюэля, у них прекрасный учитель…
– Да, верно. По-твоему, я смогу оградить его от влияния Обадии?
– Разумеется. Ни жаловаться на вас, ни обвинять вас он не станет, ведь его брат получит то же образование, что и ваши дети.
Решение это далось Маргарет нелегко: она понимала, что не сможет удержать Самюэля в усадьбе, да и сопротивляться Обадии было бесполезно. А вот если опекуном Самюэля станет Форест, то мальчик будет жить в Эйвонсфорде, а не окажется в заложниках у мрачного пуританина.
Сузив темные, близко посаженные глаза, Форест задумчиво произнес:
– Да, Обадия Шокли против меня не пойдет.
– Значит, вы согласны?
– Самюэль – юноша смышленый, это всякому видно. Образование ему не помешает, – признал Форест и с улыбкой осведомился: – Полагаю, цена моего согласия тебе известна.
Маргарет кивнула.
Сэр Генри Форест обязался отправить Самюэля учиться в Оксфорд и, если мальчик пожелает, оплатить его обучение в судебных иннах Лондона, а за это Маргарет передавала ему право на владение заливными лугами, сохраняя за собой пожизненное право пользования ими за весьма скромную плату. Сделку, выгодную для обеих сторон, решено было сохранить в тайне до полного оформления всех необходимых бумаг.
Еврей Аарон любил отправляться в путь ранним утром – не только потому, что обычно просыпался на заре, но еще и потому, что зрелище пробуждающейся природы поднимало ему дух и радовало сердце.
Небо над меловыми грядами едва посветлело, а повозка Аарона уже въехала на взгорье близ долины Эйвона. Окрестности Эйвонсфорда были пустынны. Неподалеку от поместья Форестов Аарон увидел, как из загона для овец на склоне холма украдкой выскользнул Обадия Шокли. Что здесь понадобилось проповеднику в такую рань?
Обадия, не заметив одинокого путника, торопливо удалился по тропе на взгорье.
Днем, когда Самюэль и Джейкоб Годфри ушли на взгорье, в усадь бу к Маргарет явился незваный гость, некий Даниэль Джонсон, – серьезный, обходительный мужчина. Он объяснил, что его прислал Обадия.
– Моя лошадь на полдороге захромала, пришлось пешком идти, – огорченно вздохнул он.
Маргарет, в хорошем расположении духа после встречи с Форестом, сжалилась над усталым путником и решила его выслушать.
Он снова напомнил ей о пользе образования, объяснил, что Обадия всего-навсего желает выполнить родственный долг и принять участие в воспитании сводного брата. Речи Джонсона были так искренни и убедительны, что Маргарет возразить ему не могла. Впрочем, ей и не хотелось спорить. Гость уважительно прислушивался к ее словам, так что Маргарет, невольно разговорившись, рассказала ему о том, как вместе с клобменами защищала усадьбу, нарядившись в отцовские доспехи. Джонсон выразил желание осмотреть хозяйство, и Маргарет провела его по усадьбе. Коровы в стойлах встревоженно замычали, взбудораженные появлением незнакомца, и Маргарет ласково успокаивала их, поглаживая и называя по именам. Показала она Джонсону и заливные луга; во дворе к Маргарет с веселым щебетом слетелись певчие птицы, ожидая привычного корма. Джонсону усадьба понравилась, он приветливо разговаривал с работниками, а одной улыбчивой коровнице вручил шиллинг.
Маргарет выслушала настойчивые просьбы Джонсона подумать о судьбе Самюэля, но о своем решении говорила уклончиво, памятуя о предстоящем заключении договора с Форестом. Вскоре гость попрощался с ней, так и не получив однозначного ответа.
Самюэль, столкнувшись с Джонсоном у ворот усадьбы, побелел как полотно и, встревоженно глядя на Маргарет, спросил, зачем он приходил.
– Мистера Джонсона Обадия прислал, – сказала она. – Весьма обходительный господин, за тебя просил.
– Мистера Джонсона? Он так представился?
– А в чем дело? – удивилась Маргарет.
Самюэль замялся, а потом выпалил:
– Это Мэттью Хопкинс, охотник за ведьмами. Так зачем он к тебе приходил?
Маргарет побледнела. К ней слетались птицы… она успокаивала коров и звала их по именам… а коровница получила шиллинг…
Так вот какую западню подстроил сестре Обадия! Если влиятельный проповедник и охотник на ведьм обвинят Маргарет в колдовстве, то к их словам прислушаются…
Вечером в стаде сэра Генри Фореста сдохла овца.
На следующий день в поместье Эйвонсфорд сэр Генри Форест и Маргарет Шокли подписали договор. Через месяц, к возвращению леди Форест с детьми, Самюэль должен был переселиться к Форестам.
Домой Маргарет вернулась в задумчивости. Что сделает Обадия, когда узнает о поступке сестры? Обвинит ее в колдовстве и объявит договор с Форестом недействительным? В законах против колдовства Маргарет не разбиралась, но особой надежды на примирение с Обадией не питала. Раз уж брат призвал на помощь Мэттью Хопкинса, ей не выжить.
– Ты пока поживешь у Форестов, – сказала она Самюэлю и подробно объяснила ему свой замысел, упомянув и о заливных лугах, и о преимуществах образования, и о сыновьях Фореста. – Со сверстниками тебе будет веселее.
Ночью в стаде Фореста сдохла еще одна овца. Пастух и эконом, осмотрев труп, не обнаружили никаких признаков хвори.
У купы деревьев, на тропе к заливному лугу, Самюэля поджидали Обадия и Мэттью Хопкинс.
– Нам надо с тобой поговорить, – заявил Обадия, выступив из-за деревьев. – Нашу сестру обвиняют в колдовстве. Остается только молить Господа, чтобы обвинение не подтвердилось.
– Тебе придется за ней следить, – добавил Хопкинс. – Главное – ничего не упустить, ведь даже самый незначительный поступок может оказаться важным.
Неужели Маргарет, милая, добрая Маргарет, – ведьма? При всем уважении к Обадии и Хопкинсу Самюэль не мог поверить чудовищному обвинению.
– Дьявол ловок и хитроумен, – напомнил ему Обадия, будто про читав мысли Самюэля. – Он в свои сети любого может заманить.
Обадия и Хопкинс принялись расспрашивать Самюэля о поведении и поступках Маргарет, но мальчик ничего особенного рассказать не мог, упомянул лишь о сделке с Форестом.
Обадия ошеломленно умолк, но быстро справился с изумлением:
– Заливные луга отписаны тебе в наследство, Маргарет не имела права отдавать их Форесту, а что до образования, так я тебе то же самое предлагал – и не из корысти, а ради твоего же блага. Похоже, Маргарет не в своем уме, раз отцовскую волю нарушила и тебя наследства лишила. Не знаю, удастся ли вернуть луга…
После этих слов в душе Самюэля всколыхнулась обида; он решил, что Маргарет и впрямь поступила опрометчиво.
На следующий день Мэттью Хопкинс во всеуслышание обвинил Маргарет Шокли в колдовстве и перечислил все противоестественные деяния, свидетельствующие о сделке с дьяволом и о черной магии: ношение мужской одежды, разговоры с животными и птицами и так далее. Он также заявил, что Маргарет навела порчу на стада сэра Генри Фореста, и в доказательство представил дохлых овец, числом две.
Страшная весть в одночасье облетела Сарум. Мировой судья – сэр Генри Форест – объявил, что слушание дела состоится через неделю, однако никто не сомневался, что судебное разбирательство передадут в суд ассизов.
На следующий день к сэру Генри Форесту явился нежданный гость.
Когда Маргарет Шокли обвинили в колдовстве, Аарон решил пойти к Форесту, но для этого ему пришлось набраться смелости. Евреи в Англии находились в бесправном положении, а многовековая история гонений иудеев научила Аарона не привлекать к себе лишнего внимания. В Сарум он попал проездом, и ему совсем не хотелось наживать себе врагов среди влиятельных особ. Вдобавок Маргарет Шокли он совсем не знал.
Однако закон Моисеев требует: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»[47]. Совесть не позволяла Аарону поступить иначе. Он счел себя обязанным сообщить об увиденном.
Поэтому, не делая никаких предположений, он рассказал сэру Генри Форесту, что ранним утром видел Обадию Шокли.
Форест, выслушав своего гостя, поблагодарил его и на прощание многозначительно произнес:
– Дело это непростое, и распространяться о нем не стоит. Я лично проведу тщательное расследование.
После ухода Аарона Форест погрузился в размышления. Недавно подписанный договор с Маргарет Шокли сохранит силу, даже если ее приговорят к смерти. А если Маргарет казнят, то заливные луга перейдут в полную собственность Фореста, к его немалой выгоде, ведь их пожизненная аренда за мизерную плату лишала его возможности получать законный доход.
Форест решил пока ничего не предпринимать и посмотреть, какой оборот примут дальнейшие события.
Маргарет Шокли, догадавшись, что произойдет дальше, упаковала вещи Самюэля в три сундука, погрузила их на телегу и отвезла мальчика в Эйвонсфорд.
– Пусть у вас пока поживет, – заявила она баронету. – Вам так будет легче слово сдержать, ведь Обадия у вас Самюэля отобрать не сможет.
Сэр Генри Форест немедленно согласился.
Два часа спустя в усадьбу Шокли явился Обадия в сопровождении шести помощников – забирать Самюэля. Ни Джейкоб Годфри, ни работники усадьбы не стали его останавливать.
– Ты опоздал, – сказала Маргарет брату. – Самюэль живет в имении Форестов, тебе его не заполучить.
– Не дерзи мне, женщина! Я глава семьи, против моего слова Форест не пойдет.
– Форест своей выгоды не упустит, поэтому Самюэля тебе не отдаст. К тому же он мировой судья, а ты меня к нему на суд отправляешь.
Обадия недовольно поморщился, но промолчал.
– Теперь-то уже все равно, Самюэль тебе не достанется, – вздохнула Маргарет. – Скажи, зачем ты меня в колдовстве обвинил?
Обадия, злобно сверкнув глазами, негромко ответил:
– Чтобы тебя на костер отправить.
– Тогда уж точно ты главой семьи станешь, – усмехнулась Маргарет.
В тот день ее больше всего ранили не слова Обадии, а покорность работников усадьбы: никто из них не посмел встать на защиту хозяйки. Даже Самюэль сторонился Маргарет, всю дорогу до Эйвонсфорда не произнес ни слова и не попрощался с сестрой. Из-за Обадии Маргарет лишилась последнего, что у нее оставалось, – привязанности Самюэля.
Аарона не отпускала смутная тревога. Он часто имел дело с такими, как Форест, и подозревал, что по какой-то неясной причине баронет не станет упоминать о странном поведении Обадии. Обвинениям влиятельного проповедника поверят скорее, чем свидетельству презренного иудея в защиту Маргарет. Ему вовсе не хотелось навлекать неприятности на себя и своих соплеменников.
Внезапно ему улыбнулась удача. Торговец в Уилтоне, заметив карету сэра Генри Фореста, сказал Аарону:
– А, вот и юный Самюэль Шокли!
Аарон, припомнив, что видел мальчика на заливных лугах, решил, что сам Бог подал ему знак. Он рассказал Самюэлю об увиденном, умолчал о том, что это известно и Форесту, а потом добавил:
– Выступить в защиту Маргарет я не могу. Мне не поверят. Ради всего святого, проследи за овчарней.
Самюэль недоверчиво поглядел на него и отвернулся.
Аарон пал духом: через четыре дня Маргарет приведут к мировому судье.
Ночью сдохла еще одна овца в стаде Фореста.
Самюэль Шокли пребывал в страшном смятении. Он не мог поверить ни в то, что последователи его обожаемого Кромвеля, ревностные пресвитериане, способны на обман и мошенничество, ни в то, что его сестра – ведьма.
Он не знал, что и думать.
Улучив минуту, он с робостью обратился к сэру Генри Форесту:
– Что будет с моей сестрой?
– Ее приведут ко мне, я, мировой судья, выслушаю обвинения, и если сочту их серьезными, то отправлю ее в тюрьму, дожидаться выездного заседания королевского суда – ассизы.
– По-вашему, это серьезные обвинения?
– Да, весьма серьезные, – признал Форест. – Ей придется их опровергнуть.
– А как это сделать, сэр?
– Маргарет должна представить суду доказательства своей невиновности и надежных свидетелей, которые смогут неопровержимо подтвердить, что она не причастна к делам, в которых ее обвиняют.
«Да, словам еврея никто не поверит», – подумал Самюэль и решил не рассказывать Форесту об овчарне, боясь, что баронет запретит ему вмешиваться в это странное дело.
– А если таких доказательств не отыщется? – спросил он.
Сэр Генри Форест отвел глаза и ничего не ответил.
Впрочем, Самюэль помнил, чем закончился суд над Анной Боденхем, и уклончивую манеру баронета приписал его смущению.
Ночь он провел без сна, перебирая в памяти слова еврея. Перед рассветом он тайком выскользнул из дому и прокрался к овчарне, но ничего подозрительного не обнаружил.
Ничего не случилось и в следующие две ночи.
«Презренный иудей оболгал слугу Господнего, только и всего», – решил Самюэль, однако в ночь перед судом опять не смог заснуть, скорбя о Маргарет.
– Сестру надо спасти! – всхлипнул он, погружаясь в беспокойную дрему.
Посреди ночи Самюэль проснулся и торопливо выбежал к овчарне.
Небо над взгорьем понемногу светлело. На пустынных склонах не было ни души. Внезапно из тени выступил какой-то высокий человек, укутанный в черный плащ.
Обадия Шокли неслышно крался по берегу реки. Сегодня, перед тем как Маргарет уведут из усадьбы, в стаде Фореста сдохнет еще одна овца – лучшего доказательства колдовства не придумаешь. С берега в реку скользнул лебедь, будто не желая встречаться с ночным странником.
Обадия начал торопливо взбираться по склону холма к овчарне.
Самюэль бросился к овчарне, стараясь не попасться на глаза проповеднику, поспешно вбежал внутрь и огляделся в поисках укрытия. В трех загонах, разделенных деревянными перегородками, переминались овцы, а в дальнем углу, за кучами сена, стояла тележка. Самюэль спрятался за ней.
Обадия не таясь вошел в овчарню, решительно направился к бли жайшему загону, на ходу достав пригоршню каких-то катышков из кошеля на поясе, и протянул раскрытую ладонь первой попавшейся овце. Овца послушно съела предложенное угощение. Оба дия невозмутимо поглядел на нее и вышел.
Дождавшись, пока не стихнут шаги Обадии, Самюэль метнулся к овце, силой разжал ей челюсти и выгреб горсть полуразжеванных катышков.
Теперь он знал, что делать.
В те времена заседания мирового суда проходили без особых церемоний и формальностей. Дабы не утруждать себя, сэр Генри Форест проводил заседания в парадном зале своего особняка, однако же, как и полагается, на каждом слушании должным образом составляли протокол. Судья-магистрат восседал в кресле с высокой спинкой за дубовым столом, установленным на небольшом помосте.
В дальнем конце зала собралось человек пятьдесят – всем жителям Эйвонсфорда было любопытно поглядеть, как будут судить Маргарет Шокли, которую родной брат обвинил в колдовстве.
Сэр Генри Форест невозмутимо взглянул на женщину и ее обвинителей. Многие мировые судьи и выездные королевские суды отказывались принимать подобные дела к рассмотрению. Сам Форест не верил ни в колдовство, ни так называемым свидетельствам очевидцев и втайне презирал невежественных обывателей, убежденных в существовании ведьм. Что ж, если Обадия Шокли и Мэттью Хопкинс решили отправить Маргарет на костер, так тому и быть. В конце концов, решение будет принимать не Форест, а высший суд. Только бы еврей не вмешался со своими разоблачениями…
Маргарет с вызовом смотрела на своих обвинителей, не обращая внимания ни на кого из присутствующих.
Хопкинс представил суду список обвинений: Маргарет переодевалась в мужское платье и сражалась наравне с мужчинами – «наверняка сам дьявол дал ей силы», утверждал охотник на ведьм; разговаривала с животными, «тварями бессловесными»; по ее зову слетались птицы небесные, которых она называла поименно; она якшалась с католиками (похоже, Хопкинсу стало известно о родственных связях Шокли и Муди) и пригрозила спустить собак на уважаемого пресвитерианского проповедника. Более того, в соседском имении начался падеж овец. Все это явно свидетельствовало о колдовских чарах.
Форест, выслушав обвинителя, обвел взглядом присутствующих – не отважится ли кто выступить в защиту обвиняемой.
Внезапно Самюэль вышел к помосту и попросил позволения дать показания.
– Какие еще показания? – недоуменно осведомился Форест.
Самюэль побледнел, но, расправив плечи, встал посреди зала и заявил, что несколько дней назад, рано утром, случайный прохожий заметил проповедника, выходившего из овчарни.
Обадия равнодушно пожал плечами.
В толпе зашептались.
Самюэль описал, как три ночи подряд следил за овчарней.
Обадия насупился, но смолчал.
А затем Самюэль подробно рассказал, что случилось на рассвете в день суда.
Лицо проповедника исказила злобная гримаса. Обадия задрожал – не от страха, а от ярости. Да это просто издевательство! Его родные стремятся опорочить его доброе имя!
В гневе он забыл об осторожности и воскликнул:
– Это ложь, гнусная ложь! Мальчишка пытается спасти сестру, погрязшую во грехе!
Самюэль не выдержал. От его прежней робости не осталось и следа; он больше не боялся ни Обадии, ни Фореста, ни Хопкинса. Он выхватил из-за пояса кошель, твердым шагом подошел к столу и высыпал содержимое перед судьей. Потом, памятуя о красноречии ветхозаветных пророков, Самюэль торжественно провозгласил:
– Вот, глядите, что перед вами! Смертельный яд! Я его из овечьей глотки своей рукой извлек. Если не верите, скормите его скотине – увидите, что будет. Обыщите отравителя и дом его обыщите!
Обадия испуганно ахнул и отшатнулся.
– Аспид! – выкрикнул мальчик, призывая на помощь все известные ему библейские выражения. – Лжесвидетель! Вот, глядите, бледность покрыла чело его, кто жаждет умертвить сестру свою! Сие есть мерзость запустения, человек греха, сын погибели, сидящий в храме, где ему быть не должно… – Он запнулся и, взъярившись на Обадию, который заставил его усомниться в Маргарет, добавил слова, понятные лишь троим Шокли: – Змий кусачий…
Потом, не глядя по сторонам, Самюэль вышел из зала.
Форест, опасаясь, что вслед за Самюэлем выступит Аарон, поманил к себе Обадию с Хопкинсом и сказал, что рассматривать дело не будет.
Хопкинс понимающе кивнул и не стал настаивать – ведьм повсюду хватало.
Обадия промолчал.
– Обвинение снято, – объявил Форест и перешел к рассмотрению следующего дела.
В тот же день Маргарет Шокли вернулась в усадьбу, где ее с нетерпением дожидался Самюэль. Как ни странно, через неделю Маргарет велела ему возвращаться к Форестам.
– Пора тебе всяческим наукам обучиться, – объяснила она. – А меня будешь навещать.
Из Уилтона Аарон направился в Саутгемптон и по дороге встретил карету сэра Генри Фореста.
Баронет опасливо покосился на еврея.
Аарон поступил мудро: он отвел взгляд.
Декабрь 1688 года
Доктор Самюэль Шокли, перешагнув вонючую сточную канаву на Нью-стрит, направился к соборному подворью.
Сегодня, в день Славной революции, ему предстояло встретиться с человеком, который вскоре станет королем Англии.
– Слава Богу, наконец-то мы распростимся с проклятыми Стюартами! – сказал Шокли жене и родным. – Нас ждут лучшие времена.
Доктор Самюэль Шокли выглядел великолепно. Пышные локоны каштанового парика рассыпались по плечам, оттеняя синие глаза; роскошный плащ прикрывал жемчужно-розовый камзол с кружевными манжетами, ладно облегавший широкие плечи; шелковые чулки обтягивали стройные икры, а на ногах красовались серые кожаные туфли на каблуках, перевязанные розовыми лентами. В руках доктор сжимал изящную трость с серебряным набалдашником. Шокли шагал уверенно, старательно обходя кучки конского навоза на замусоренной улице.
До приезда принца доктору надо было успеть повидаться с епископом и… Он недовольно поморщился, вспомнив о предстоящем неприятном разговоре с юным Форестом.
Соборное подворье переменилось к лучшему. Слева у ворот построили длинное кирпичное здание, в котором размещалась Коллегия матрон – приют для вдов приходских священников, основанный епископом пять лет назад. За очаровательным особняком с шестигранным застекленным куполом на крыше начинались сады. Поодаль, на лужайке певчих, в августе 1665 года Самюэль Шокли удостоился чести быть представленным королю Карлу II, два месяца пережидавшему в Солсбери вспышку чумы в Лондоне.
Монарх, с любопытством осмотрев водосточные канавы города, иронически заметил:
– Здесь, должно быть, привольно разводить уток и топить детей.
Впрочем, солсберийские ткачи и суконщики были благодарны королю за его пристрастие к пестротканому полотну, которое вошло в моду среди придворных.
Доктор Шокли был весьма доволен жизнью. Как и обещал сэр Генри Форест, Самюэль получил прекрасное образование в Оксфорде. Он еженедельно навещал обожаемую сестру Маргарет, а когда она скончалась три года назад, получил в наследство усадьбу. В год Великого лондонского пожара Самюэль Шокли женился и теперь был счастливым отцом троих детей. Впрочем, старых обид он не забывал и обрадовался известию, что двум тысячам пресвитерианских проповедников (в их числе был и Обадия Шокли) отказали от места. Два года спустя Обадию убили в драке на улицах Эдинбурга.
Соборное подворье, освобожденное от засилья суровых пуритан, обрело прежний вид. Епархией снова заправлял епископ, а в собор вернулись настоятель, каноники и певчие. Здание собора подновили, богослужения читали по Книге общих молитв, творили заутрени и вечерни, бракосочетания, таинство Святого причастия и ежегодный крестный ход.
За это время в Саруме сменилось несколько епископов – Гемфри Хенчмен, тот самый, который помог принцу Карлу бежать из Вустера; Александр Гайд, из древнего уилтширского рода Гайдов, а вот теперь епископом стал Сет Уорд, близкий друг Самюэля Шокли, с которым они часто обсуждали философские взгляды Томаса Гоббса, поэтические опыты Джона Донна и новый телескоп Исаака Ньютона.
Самюэль досадливо поморщился, скользнув взглядом по особняку доктора Добиньи Тубервиля, врача-шарлатана, который нажил огромное состояние, прописывая своим пациентам частые кровопускания и сомнительные зелья, сулившие чудесное исцеление от любых хворей. В частности, мошенник утверждал, что слабое зрение можно излечить курением табака!
Однако дурное настроение Самюэля развеялось, как только он увидел величественный шпиль собора. Епископ Уорд пригласил своего друга, архитектора Кристофера Рена, принять участие в обновлении храма. От отца, приходского священника в уилтширской деревеньке Ист-Нойль, великий зодчий собора Святого Павла унаследовал здравый смысл, издревле присущий обитателям Уилтшира.
– Железные обручи нисколько не пострадали от времени, – сказал он Шокли. – В старину каменщики свое дело знали. Надеюсь, мы не посрамим их чести.
Доктор Шокли вошел в епископский дворец.
– Ах, Самюэль, друг мой! Мне опять нездоровится… – вздохнул епископ – широколицый старик с крючковатым носом и умными глазами, прячущимися под тяжелыми веками.
Член Королевского общества, друг Кристофера Рена, Самюэля Пеписа и Исаака Ньютона, создатель одной из лучших научных библиотек Англии, страдал хронической ипохондрией.
– Что, опять к себе Тубервиля приглашали? – улыбнулся Шокли. – Поверьте, его новомодные лекарства не излечат ваших воображаемых недугов. Да и от ваших снадобий толку никакого…
Осмотрев мнимого больного, Шокли заверил его, что поводов для беспокойства не существует, и обратился к нему с просьбой:
– Мне нужна ваша помощь. Юный Форест…
Вкратце описав неблаговидное поведение молодого человека, Самюэль объяснил епископу свой замысел.
– О, мне сразу полегчало! – рассмеялся епископ Уорд. – Не волнуйтесь, я вас поддержу.
Шокли горячо поблагодарил епископа и собрался уходить.
– Кстати, вот-вот прибудет принц Вильгельм, – напомнил ему епископ. – Как вы думаете, пойдет ли эта революция на пользу стране?
– Да, конечно, – с улыбкой ответил Шокли. – Во всяком случае, так считают все мои приятели, либеральные виги.
По мнению Самюэля Шокли, причиной свержения Стюартов были сами Стюарты.
После смерти Кромвеля парламент согласился вернуть английскую корону Карлу II – на строго определенных условиях.
Англичане, казнив короля, ввели республиканский режим правления и… остались им недовольны. Тогда дворяне в парламенте решили реставрировать монархию так, как считали нужным. В сущности, это означало, что власть сосредоточится в руках дворянства: дворяне займут ключевые посты в органах управления графствами, в мировых судах, в отрядах йоменов – местного ополчения, – сменивших регулярную армию, и в парламенте, распоряжавшемся налогами и казной. Консервативные предложения парламентариев, в отличие от радикальных намерений пресвитериан, привлекали своей надежностью и освобождали страну от военной диктатуры. Кларендонский кодекс и законы о религиозной лояльности, принятые парламентом в начале правления Карла II, подтвердили примат Англиканской церкви, тем самым отстранив от власти опасных радикалов и папистов и ограничив влияние чужеземцев.
Однако же упрямые Стюарты вот уже четверть века действовали в обход существующего законодательства. Карл II вел тайные переговоры с королем Франции Людовиком XIV о вторжении в страну и о возвращении Англии в лоно Католической церкви, а на смертном одре объявил себя католиком.
Брат Карла II, Яков, наследник престола, вел себя еще хуже и совершенно не скрывал своих намерений.
– Он отдаст страну на разграбление французам и ирландцам, а нас всех в католичество обратит, – жаловался Шокли епископу Уорду. – Поэтому я и примкнул к партии вигов.
Противники Стюартов, объединившись в политическую партию с необычным названием «виги», пытались исключить Якова из списка претендентов на трон. Им противостояла партия сторонников короля – придворных вельмож-тори. В Уилтшире от власти отстранили всех дворян, недовольных правлением Карла II, – Хангерфордов, Тинов из Лонглита, Момпессонов и прочих – и лишили королевских хартий семь городов графства, включая Солсбери. Действуя где силой, где подкупом, Карл II вынудил парламентариев признать за его братом право наследования.
Яков II взошел на престол и, одурманенный неожиданной властью, вскоре настроил против себя всю страну.
Поначалу жители Сарума обрадовались новому королю. Его первая жена Анна, дочь уилтширского вельможи Эдварда Гайда, графа Кларендона, исповедовала англиканскую веру и родила ему двух дочерей, Марию и Анну. Однако, к вящему недовольству уилтширцев, вторым браком Яков женился на Марии Моденской, ярой католичке.
Парламент распустили. Король, настаивая на отмене законов о религиозной лояльности, отправил в изгнание братьев своей первой жены – Генри Гайда, графа Кларендона, хранителя королевской печати, и Лоренса Гайда, графа Рочестера, первого лорда казначейства, назначив хранителем королевской печати католика Генри Говарда, барона Арундела Уордурского. По приказу короля сместили мэра Солсбери и пять городских советников. Когда в Англии стало известно о преследованиях протестантов во Франции, к юго-западу от Сарума началось восстание герцога Монмута, впрочем быстро подавленное. Суд над мятежниками вершил жестокий Джордж Джеффрис, барон Вем, прозванный Кровавым. Многочисленные казни вызвали недовольство даже среди сторонников короля.
– Король оскорбил все английские сословия, – жаловались жители Солсбери. – А теперь он еще и сыном обзавелся…
Дочери короля от первого брака, воспитанные в англиканской вере, должны были наследовать престол, однако Мария Моденская родила сына, и протестантство в Англии оказалось под угрозой. Тогда тори и виги, объединившись против Якова II, предложили Вильгельму Оранскому, голландскому принцу, женой которого была принцесса Мария, выступить на защиту англиканской монархии. Это событие и получило название Славной революции. Свершилось оно почти незаметно, а доктор Шокли сыграл в нем скромную роль.
Яков II, приехав из Лондона в Солсбери, начал собирать армию. Неожиданно у короля открылось кровотечение из носа, и пришлось спешно послать за доктором.
Самюэль Шокли, выслушав королевского слугу, наотрез отказался осмотреть короля.
– Его величеству лучше обратиться к доктору Тубервилю, – заявил он и пробормотал себе под нос: – Этот шарлатан наверняка короля уморит.
– Вы об этом пожалеете! – пригрозил ему лакей.
– Вряд ли, – ответил Шокли и захлопнул дверь.
Вскоре Яков уехал из Солсбери, где сейчас с нетерпением ожидали прибытия Вильгельма.
Над епископским дворцом кружили два белых лебедя – по местному преданию, знак скорой смерти епископа. Самюэль Шокли со вздохом покачал головой – он, человек ученый, не верил в досужие вымыслы – и направился домой, где его уже ждал юный Форест.
Двадцатилетний темноволосый юноша походил на своего отца. Впрочем, за любезной обходительностью скрывалась холодность, хорошо знакомая Шокли по годам, проведенным со старшим Форестом в Оксфорде.
– Вы догадываетесь, зачем я вас пригласил, – начал Самюэль.
– Нет, доктор Шокли, – ответил Джордж Форест.
– Среди моих пациентов есть некая Сьюзен Мейсон. Так понятнее?
Джордж Форест с притворным удивлением посмотрел на него и промолчал.
Доктор Шокли лжи не выносил:
– Она ждет ребенка.
Форест упрямо хранил молчание.
– Не отпирайтесь, сэр! – возмущенно воскликнул Шокли. – Вы отец ребенка!
История была стара как мир: обходительный юноша обольстил девушку. Шокли три недели уговаривал шестнадцатилетнюю сероглазую простушку назвать имя своего соблазнителя.
– Вы намерены взять ее в жены?
Джордж удивленно распахнул глаза. Он, наследник баронета, вовсе не собирался жениться на дочери трактирщика.
– Понятно, – вздохнул Шокли. – А известно ли вам, что трактирщик, прознав о позоре дочери, выгнал ее из дома?
Мейсон, большеголовый коротышка с взрывчатым нравом, и слушать ничего не желал.
– Ты меня опозорила! – возмущался он. – Сама забрюхатела, сама и выкручивайся! У меня трое детей на руках, я твоего ублюдка кормить не намерен.
Как ни пытался Шокли его успокоить, Мейсон упрямо стоял на своем.
Юный Форест побледнел, но по-прежнему не произнес ни слова.
«Да, юный повеса много хуже старого», – подумал Шокли.
Джордж Форест ничего не знал о ребенке, потому что всячески избегал встречи со Сьюзен.
– С чего вы взяли? – наконец произнес он. – У дочери трактирщика воздыхателей и без меня достаточно.
Подобной дерзости Шокли не ожидал.
– Молодой человек, я вот уже тридцать лет врач и знаю, о чем говорю. Не сомневайтесь, ребенок ваш, – мрачно заявил он.
Форест сообразил, что с рассерженным доктором лучше не спорить.
– Скажите спасибо, что я вашего отца не известил, – холодно продолжил Шокли. – Вы сами ему об этом расскажете. И мать вашего ребенка обеспечите.
– Надеюсь, тридцати фунтов ей хватит, – неуверенно произнес Джордж.
– Будете платить ей пятьдесят фунтов в год, – объявил Шокли.
– Мой отец на это ни за что не согласится, – возразил юный Форест.
Шокли так и предполагал, поэтому заранее заручился согласием епископа.
– В таком случае, сэр, вы предстанете перед епископским судом. Вам грозит отлучение от Церкви и штраф, что вряд ли доставит удовольствие вашему отцу, – с презрительной улыбкой заявил Шокли.
Реставрация восстановила право англиканских епископов вершить суд над нарушителями нравственности. Юноша побледнел – имя Форестов будет обесчещено! – но, поразмыслив, ответил:
– Епископ не пожелает с нами ссориться.
Действительно, к отпрыскам дворянских семей епископ всегда относился снисходительно.
– Вы ошибаетесь, сэр, – возразил Шокли. – Я только что беседовал с епископом, он пообещал мне призвать вас к ответу.
В глазах юноши, сменяя друг друга, мелькнули ужас, изумление и – на миг – уважение к хитроумному противнику.
– Я поговорю с отцом, – вздохнул он.
– Сегодня же, – напомнил доктор.
С улицы донесся восторженный гомон: жители приветствовали войска принца Вильгельма Оранского.
У порога Джордж любезно обратился к доктору Шокли:
– В городе стоят отряды графа Кларендона… Как вы думаете, они начнут сражение?
– Нет, скорее всего, они переметнутся на сторону принца.
Юный Форест задумчиво кивнул.
– А ваш отец на чьей стороне? – не менее любезно осведомился Шокли – баронета вот уже неделю не было в городе.
– Он с графом Пемброком, – с учтивой улыбкой ответил Джордж.
– Но ведь граф Пемброк до сих пор не объявил, кого поддерживает…
– Да, я знаю, – сказал юноша.
«Форесты верны себе», – подумал Самюэль.
– А вы довольны Славной революцией, доктор Шокли? – спросил юный Форест.
– Это не революция, Джордж, это компромисс, – улыбнулся доктор.
Самюэль Шокли с надеждой смотрел в будущее.
Затишье
1720 год
– Мы разорены… – бормотал восьмидесятилетний доктор Самюэль Шокли. – Я поставил на карту все наше состояние – и проиграл. Позор моим сединам!
Слова эти он повторял ежедневно все оставшиеся пять лет его жизни.
В 1720 году доктор Самюэль Шокли, ученый, мыслитель, неизбывный оптимист и один из самых уважаемых жителей Сарума, вложил все свои деньги в безумное спекулятивное предприятие – в финансовую пирамиду компании Южных морей, в одночасье лопнувшую как мыльный пузырь, что привело к разорению десятков тысяч вкладчиков.
Доктор Самюэль Шокли и его семья лишились всех своих сбережений.
Пять лет доктор Шокли провел в бесплодных попытках вернуть вложенные деньги, ежедневно укоряя себя за опрометчивость, и тихо скончался в 1725 году, так и не оправившись от позора.
Впрочем, в то время безумная опрометчивость охватила всю страну. В 1720 году всем казалось, что любое предприятие обречено на успех. Англия богатела и процветала под властью новой протестантской династии – Ганноверов. Ни Вильгельм с Марией, ни королева Анна – последние представители Стюартов – не оставили после себя наследников, поэтому, желая предотвратить католическую реставрацию, парламент принял Акт о престолонаследии, согласно которому английский престол не может занять лицо католического вероисповедания. На британский трон взошел курфюрст Георг Людвиг фон Ганновер, ставший Георгом I.
Новый король по-английски не говорил, жить предпочитал в Ганновере, с женой развелся, а к сыну, принцу Уэльскому, относился с презрением. Над Георгом, обрюзгшим коротышкой с глуповатым лицом, исподтишка посмеивались, хотя он был неплохим полководцем, однако считали, что его правление обезопасило Англию от католических интриг. Потомки Георга I до сих пор правят Великобританией.
В стране воцарился мир, отвоеванный в правление королевы Анны великим полководцем Джоном Черчиллем, герцогом Мальборо. Его блистательные победы над войсками Людовика XIV, короля Франции, – в сражениях при Гохштедте, Ауденарде и Мальплаке, – известные каждому англичанину, обеспечили двадцать лет мирного существования Великобритании.
Великобритания – именно так называли теперь королевство, объ единившее Англию, Уэльс и Шотландию. Изначально Стюарты были монархами независимых государств Англии и Шотландии, но в 1707 году парламент принял Акт об унии, предусматривавший создание единого союзного государства, и ганноверские правители теперь стояли во главе Соединенного Королевства.
Впрочем, главными противниками подобного союза оставались якобиты – приверженцы принца Якова, сына изгнанного короля Якова II и Марии Моденской, получившего прозвище Старый претендент и женатого на Марии Клементине Собеской, внучке Яна III, короля Польши. Англичане отказывались возводить католика на престол; шотландцы признавали его королем, но лишь потому, что он был Стюартом. Французы, желая ослабить протестантскую Англию, неохотно поддерживали его претензии. В 1715 году отряды сторонников принца Якова проникли в страну, но были наголову разбиты в битве при Престоне, а один из самых стойких его приверженцев, влиятельный вельможа и государственный деятель Генри Сент-Джон, виконт Болингброк, навсегда лишился доверия Ганноверов. Принц Яков и его сын, Карл Эдуард, прозванный Молодым Пре тендентом, продолжали жить во Франции, представляя смутную угрозу для Англии, но вспоминали о них редко.
Настало время забыть и гражданскую войну, и религиозные распри. Настало время богатеть и приумножать богатство. Именно об этом и мечтали те, кто в 1720 году вложил деньги в рискованное финансовое предприятие – в компанию Южных морей.
Все началось с той самой войны с французами за испанское наследство, в которой прославился герцог Мальборо. Военные действия требовали значительных финансовых затрат, и парламент, не желая вводить новые налоги, решил увеличить государственный долг. Основными кредиторами государства выступили Банк Англии, учредителем которого стал канцлер казначейства Чарльз Монтегю, граф Галифакс, ярый сторонник вигов, и Ост-Индская компания. Чтобы обеспечить возврат сорока миллионов фунтов и облегчить финансовое положение государства, была образована компания Южных морей, которая приняла на себя основную часть долга – тридцать миллионов фунтов – и обязалась выплачивать проценты в обмен на торговые концессии в испанских владениях Южной Америки. Предполагалось, что это принесет компании огромные прибыли в случае победы Англии в войне, и на этом основании акции компании стали продавать населению. Образование новой финансовой группы было выгодно и государству, желавшему избавиться от непомерной задолженности, и партии тори, недовольной засильем вигов в Банке Англии; вдобавок подобная система с большим успехом была введена во Франции шотландским финансистом Джоном Ло.
Так было положено начало биржевой игре и ажиотажу.
– Перед нами открываются великолепные возможности! – убеждал доктор Шокли настоятеля собора, каноников и своего сына.
От воображаемых прибылей захватывало дух. Вокруг компании Южных морей образовались бесчисленные дочерние предприятия, а торговля акциями настолько усложнилась, что разобраться в ней было невозможно. В 1720 году стоимость акций головной компании за шесть месяцев выросла со 100 фунтов стерлингов до 1100 фунтов, хотя никаких коммерческих сделок компания не совершала и прибылей не получала. Возможные прибыли основывались на колебании курса ценных бумаг – акций, – не подкрепленных ни товаром, ни наличными средствами.
– Чистое надувательство! – сокрушался впоследствии доктор Шокли. – Мыльный пузырь… который лопнул!
Доктору Шокли еще повезло: когда финансовая пирамида рухнула, он владел небольшим пакетом акций головной компании, обеспечивавшей государственный долг. Роберт Уолпол, бывший в то время первым лордом казначейства, сумел вернуть акционерам примерно половину вложенных средств, зато акции дочерних компаний, созданных для удовлетворения неуемного спроса на ценные бумаги, совершенно обесценились, а вкладчики разорились.
– Здесь даже великий Уолпол бессилен, – обреченно вздыхал старый Шокли. – Я вложил деньги в торговлю человеческим волосом, в золотые прииски Уэльса, в ирландские торфяные болота… И что теперь? Зачем все это? – вопрошал он, перебирая роскошно изданные проспекты о выпуске ценных бумаг.
Вскоре после краха финансовой пирамиды какой-то предприимчивый издатель выпустил колоду игральных карт – каждая карта сопровождалась сатирическим четверостишием с описанием мошеннического предприятия. Доктор Шокли приобрел такую колоду и ча сами раскладывал пасьянсы.
Доктор Самюэль Шокли скончался в 1725 году. Его сын Натаниэль умер годом позже, от разрыва сердца. Скромный особняк на северной стороне соборного подворья унаследовал юный Джонатан, внук доктора Шокли. Спустя несколько лет Джонатан женился на дочери одного из каноников – миловидной рыжеволосой девушке, которую не портили даже крупные выступающие зубы. За ней дали хорошее приданое, что позволило продлить аренду дома. Каноник похлопотал за зятя, и сэр Джордж Форест взял Джонатана на службу – управляющим поместьем. Джонатан Шокли, высокий светловолосый мужчина, держал себя с достоинством – с ним обращались как с джентльменом, но за учтивостью скрывалась некоторая снисходительность, напоминавшая о том, что он всего лишь слуга.
В 1735 году у Джонатана Шокли родился сын Адам.
1745 год
Десятилетний Адам Шокли с трудом сдерживал возбуждение. День за днем он с волнением смотрел на ворота соборного подворья, ожидая, что там вот-вот появится колонна всадников, и тогда отец возьмет фамильную шпагу и пойдет воевать.
Мальчик мечтал отправиться вслед за отцом на север, в войско Красавчика принца Чарли, Карла Эдуарда Стюарта, истинного наследника английского престола.
Шпага Натаниэля Шокли, привезенная Чарльзом Муди с поля битвы при Нейзби, висела, тускло поблескивая, на почетном месте в доме Шокли и ежедневно напоминала Адаму о славном прошлом семьи.
– Да, некоторые наши родственники встали на сторону парламента, – объяснял Джонатан сыну, – но мы всегда сражались за короля.
Мальчик с восторгом ощущал свою причастность к числу истинных джентльменов, дворян, верных своему священному долгу, – таких, как Пенраддоки и Гайды. Недаром за ужином отец всякий раз проводил ладонью над бокалом вина – тайный якобитский знак в честь Стюарта, истинного «короля за морем». Пусть на троне сидит германский монарх, а страной правят политики-виги и вольнодумцы, Джонатан Шокли, верный тори, никогда не забудет о славном прошлом семьи – обнищавшей, но по-прежнему благородной.
И вот наконец сын Старого претендента, Красавчик принц Чарли, при поддержке противников ганноверского режима выступил с войском из Шотландии на юг, пройдя от шотландской границы до самого Дерби.
Каждый день Адам Шокли, выезжая кататься верхом на своем пони, шептал в лошадиное ухо:
– Мы тоже воевать пойдем.
Только вот в Саруме по-прежнему все было спокойно.
На соборном подворье Сарума джентльмены жили в свое удовольствие.
В школе под началом каноника Ричарда Хила получали начальное образование не только певчие соборного хора, но и дети местных дворян и торговцев, которые затем продолжали обучение в Винчестере и Итоне. Среди учеников школы были такие знаменитые уроженцы Уилтшира, как сэр Уильям Уиндгем, лорд-канцлер; Джозеф Аддисон, поэт, драматург и основатель журнала «Спектейтор»; и Джеймс Гаррис, внучатый племянник Энтони Эшли-Купера, графа Шафтсбери, покровитель искусств, писатель и политик.
Мистер Гаррис жил в красивом особняке у ворот Святой Анны; во дворе дома, у южной стены, стояли изящные солнечные часы, по циферблату которых вилась надпись: «Жизнь – ускользающая тень»[48]. Гаррис водил близкое знакомство с великим композитором Георгом Фридрихом Генделем, часто устраивал платные концерты в соборе и городской ассамблее, давал балы, особенно после скачек близ поместья лорда Пемброка, на краю мелового плато Кранборн-Чейс, и организовал в Солсбери литературное общество, клуб и театр.
По лужайкам соборного подворья чинно прогуливались представители родовитых уилтширских семейств – Эйры, Пенраддоки, Уиндгемы; сюда любили захаживать и Герберты из Уилтон-Хауса. Заместитель архивариуса Эдвард Пур по праву гордился своим прославленным предком, епископом Ричардом Пуром, пять столетий назад начавшим возводить Солсберийский собор; жена Эдварда, Рейчел, была потомком епископа Роберта Бингхема.
Одного взгляда на соборное подворье было достаточно, чтобы составить представление об утонченности и изяществе вкусов его обитателей. Повсюду виднелись элегантные георгианские здания из кирпича и оштукатуренного камня: в северо-восточном углу красовался особняк мистера Гарриса, на западной стороне – Майлз-Плейс и Уолтон-Кэнонри, с востока, близ ворот епископского дворца, расположились дома поменьше, вплотную друг к другу. Особое внимание привлекал особняк Момпессонов на северной стороне подворья, у лужайки певчих, выстроенный по эскизам самого Кристофера Рена. Момпессоны и их наследники Лонгвили добавили к внутреннему убранству дома внушительную дубовую лестницу и облицевали фасад серым чилмаркским камнем, что выделяло его среди соседних домов из красного кирпича, а семь высоких прямоугольных окон на втором этаже и три мансардных окна на крыше подчеркивали строгое изящество очертаний. Двор особняка, обращенный к зеленой лужайке у западного фасада собора, обрамляла кованая ограда с каменными колоннами по углам, увенчанными тяжелыми квадратными фонарями. Особняк Момпессонов являл собой образцовую резиденцию джентльмена.
Однако при ближайшем рассмотрении соборное подворье было далеко от совершенства. Широкие кладбищенские лужайки за собором пришли в запустение, и после дождя казалось, что по кладбищу прошло стадо коров; давно не чищенные сточные канавы у колокольни распространяли вонь; к тому же мистер Браун, звонарь, варил пиво, а мистер Генри Филдинг, литератор, живший по соседству с мистером Гаррисом, устраивал шумные пирушки, приводившие в негодование местных дам.
Однако же утонченное изящество XVIII века не отменяло здравого смысла, о котором напоминала и скандальная распущенность каноников, и вонь городских улиц. По существу, Сарум нисколько не изменился. Над Солсбери по-прежнему высился величественный шпиль собора, свидетельствуя о неколебимом господстве Англиканской церкви, окончательно закрепленном в Акте о престолонаследии, приведшем к власти династию Ганноверов. Закон о вероисповедании требовал от чиновников присяги в верности Англиканской церкви, тем самым не допуская лиц прочих конфессий к занятию государственных должностей, что больше задевало католиков, чем нонконформистов протестантского толка, которые часто подпадали под действие всевозможных законов об амнистии.
В Саруме мирно сосуществовало множество религиозных общин: квакеры, методисты, внимавшие проповедям Джона Уэсли на Солсберийской возвышенности, деисты, свято верившие в то, что Господь вознаграждает добронравных людей независимо от их вероисповедания, и даже евреи. Благодушно настроенная Англиканская церковь терпимо относилась к любым системам верования – при условии, что никто не оспаривал ее главенства.
Превыше всего Сарум чтил свою независимость. Хотя Англией правили виги, приближенные короля – Роберт Уолпол, а затем Томас Пелхэм, герцог Ньюкасл и его брат Генри, – бо́льшую часть палаты общин составляли убежденные тори из захолустья, которым было все равно, какого мнения о них король и его министры. Сарум отправлял в парламент именно таких людей. Графство в парламенте по-прежнему представляли уилтширские дворяне – Годдарды, Лонги, Уиндгемы или Пенраддоки. Депутатов от Уилтона назначало семейство Герберт, а в Солсбери горожане с недавних пор избирали кандидатом в парламент кого-нибудь из семейства Бувери – эти богатые торговцы птицей приобрели имение к югу от Солсбери, близ Кларендонского леса, и щедро жертвовали на нужды города. На выборы в Солсбери не могли повлиять даже могущественные Герберты.
В заброшенном средневековом местечке Олд-Сарум, на продуваемом всеми ветрами холме близ крошечной деревни Стратфордсуб-Кастл у реки Эйвон, насчитывалось восемь избирателей, обладавших правом назначать двух парламентских депутатов, – старинный обычай гласил, что выборы должны проходить под вязом у развалин древней крепости. В действительности же депутатов назначал землевладелец.
В конце XVII века Олд-Сарум и деревню приобрел Томас Питт, предприимчивый делец, наживший огромное состояние в Индии. Из своих странствий торговец привез великолепный алмаз[49], за который и получил прозвище Алмазный Питт. Владение избирательным округом давало Питту огромные преимущества: желающие занять место в парламенте не скупились на расходы. Вдобавок гнилое местечко можно было на время уступить другому владельцу – разумеется, за щедрую плату. Семейство Питт владело Олд-Сарумом более ста лет, с небольшим перерывом (местечко на время уступили принцу Уэльскому), а внук и правнук Томаса Питта, Уильям Питт-старший и Уильям Питт-младший, стали премьер-министрами Великобритании.
Так в тиши провинциальной Англии XVIII века проходило детство Адама Шокли.
Красавчик принц Чарли во главе шотландского войска приступом взял Престон и двинулся на Дерби. Король Георг II проводил лето в Ганновере; младший сын короля, принц Уильям, герцог Камберленд, спешно собрал армию и выступил в поход против Молодого Претендента, который рассчитывал на поддержку французских войск и местного населения.
Увы, подкрепление не явилось, а призыв Стюарта к восстанию отклика не получил.
Юный Адам не находил себе места от волнения, не понимая, отчего отец продолжает заниматься скучными делами вместо того, чтобы браться за оружие.
В начале декабря он, не выдержав, спросил отца:
– А когда мы пойдем воевать?
Джонатан Шокли в изумлении уставился на сына: о чем толкует глупый мальчишка? Джонатан, слывший острословом, воспитанием Адама пренебрегал, считая сына тугодумом, зато с удовольствием декламировал приятелям едкие сатиры Александра Поупа и до слез смеялся, читая обличительные памфлеты великого Джонатана Свифта, автора «Путешествий Гулливера».
– Мне некогда, – презрительно фыркнул он и ушел.
Адам, уязвленный предательством отца, заперся у себя в спальне и всю ночь рыдал в подушку. Он и не подозревал, что якобитские настроения в Англии, равно как и романтический образ «короля за морем», к тому времени существовали лишь в застольных беседах захмелевших провинциальных джентльменов. О восстановлении на английском престоле католиков Стюартов всерьез никто не упоминал, а винить ганноверского монарха в неурядицах считалось хорошим тоном среди настоящих англичан.
На рассвете Адам Шокли, прокравшись по лестнице, благоговейно снял со стены шпагу Натаниэля. Она оказалась на удивление тяжелой. «Славный клинок еще раз послужит истинному королю», – удовлетворенно вздохнул мальчик и отправился на конюшню.
Привратник соборного подворья удивленно протер глаза: за ворота выехал крошечный всадник с длинной шпагой за поясом.
За городом Адам свернул на дорогу к Уилтону, а оттуда поскакал на север, к долине Уайли, ведущей к Бату. В кошеле за пазухой лежала драгоценная гинея.
Джонатан Шокли нагнал сына у Дубравы Гроувли.
Об отъезде Адама мистеру Шокли сообщил привратник соборного подворья. Джонатан поначалу растерялся, но потом, заметив исчезнувшую со стены шпагу, вспомнил недавний вопрос сына и воз мущенно сказал жене:
– Представляешь, он в Дерби собрался! Что ж, порки ему не миновать…
Путь в Дерби лежал на северо-запад. Туда Джонатан и направился. Гнев его развеялся, как только он заметил впереди напряженную фигурку сына. Длинная шпага нелепо болталась у седла. Джонатан растроганно вздохнул и, ухватив лошадь Адама под уздцы, добродушно произнес:
– Давай-ка домой вернемся. На твой век войн хватит.
Следующей весной пришла горькая весть о поражении принца Карла Эдуарда в битве при Куллодене, однако Адам Шокли жил с надеждой в сердце.
Он обязательно станет военным.
После якобитского восстания, которое в разговорах упоминали не иначе как «сорок пятый год», Джонатан Шокли перестал водить ладонью над бокалом, но всякий раз при виде сына с улыбкой говорил приятелям:
– Берегитесь, господа, среди нас – грозный якобит.
1753 год
Адам улыбнулся родителям.
– Ты не передумал? – спросил отец.
Юноша решительно замотал головой.
Джонатан Шокли сидел в любимом кресле с высокой спинкой; жена стояла рядом, ласково положив ладонь ему на плечо. Седовласые супруги все еще были красивой парой. Мать Адама нервно подергивала уголком губ и часто моргала, сдерживая слезы. На открытом лице Джонатана отражалась тревога.
Адам понимал, что разочаровывает родителей, но решения своего менять не собирался.
Элизабет Шокли очень хотелось, чтобы ее сын стал клириком. Хотя в некоторых приходах священники получали мизерное жалованье и едва не умирали с голоду, Элизабет надеялась с помощью семейных связей заполучить для сына выгодный пост: сарумские каноники и викарии жили как настоящие джентльмены, а настоятель собора – как высокопоставленный вельможа. Среди представителей уилтширского духовенства было немало людей уважаемых и знаменитых: каноник Исаак Уолтон-младший, сын автора замечательных сочинений «Искусный рыболов, или Досуг созерцателя» и «Жизнь Джона Донна», многое сделал для пополнения библиотеки собора; Джон Кларк, настоятель собора, был известным естествоиспытателем и математиком; Томас Шерлок, епископ Солсберийский, англиканский теолог и мыслитель, прославился своими проникновенными проповедями и опровержением деизма. Элизабет мечтала, что сын пойдет по их стопам.
Увы, этим мечтам не суждено было сбыться.
– Ваш сын выказывает похвальное старание, однако к наукам не расположен, – объяснил ей каноник Хил. – Боюсь, богослова из него не выйдет.
Свое образование Адам продолжил не в Итоне или в Винчестере, а в скромной сарумской школе. Он не был ни глупцом, ни тугодумом; разум подростка в своем развитии не поспевал за телом и словно бы погружался в туман непонимания. В сентябре 1752 года Англия перешла с юлианского на григорианский календарь, в результате чего дата сдвинулась на одиннадцать дней, и Адам не мог отделаться от ощущения, что его лишили части жизни. Джонатан расхохотался во весь голос, услышав, как работники на улицах требуют, чтобы им вернули похищенные дни.
Адам встал на их защиту:
– Ведь дни в календаре были, а их уничтожили!
– Однако солнце восходит и заходит по-прежнему, – с улыбкой напомнил Джонатан.
– Да, но… – Юноша запнулся и, смущенный отцовской насмешкой, отвел взгляд, а потом два дня пытался разобраться в происходящем.
Новые идеи он схватывал медленнее своих сверстников, однако данностей на веру не принимал и, хоть и не сразу, приходил к своим собственным умозаключениям.
Джонатан надеялся, что из сына выйдет толк.
Адам мечтал стать военным – великим полководцем, как его герой герцог Мальборо. После якобитского восстания 1745 года он восторженными взглядами провожал офицеров в алых мундирах с широкими лацканами, изредка появлявшихся в Солсбери, и представлял себя на их месте.
Войны шли повсюду, но главным врагом Англии была Франция.
Внешняя политика страны в то время отличалась непоследовательностью; в запутанных дипломатических отношениях, кратковременных союзах, предательствах и интригах Адам разбирался с трудом. Какую угрозу представляют для Англии попытки испанцев вернуть Гибралтар? Зачем королю защищать свои ганноверские земли? Впрочем, неизменным оставалось одно: французы хотят отомстить Великобритании за поражение в войне и при первой же возможности нападут на английские владения.
Когда Фридрих II, король Пруссии, начал Войну за австрийское наследство, Англия вмешалась в европейский конфликт – для того, чтобы ослабить французов. Английский флот охранял морские торговые пути в Вест-Индию – все от тех же французов. Эту целеустремленную политику проводил влиятельный сановник Уильям Питт, будущий премьер-министр Великобритании.
В 1753 году англичане были убеждены, что Франция готовит нападение на заморские колонии Великобритании, а потому королю придется объявить войну французам и, несмотря на давнюю неприязнь к Питту, передать ему руководство военными операциями.
Известие о начале военных действий, впоследствии получивших название Семилетней войны, юный Адам Шокли воспринял с небывалым восторгом. Сердце юноши радостно забилось, глаза заблестели. Он непрерывно мурлыкал зажигательные патриотические мелодии, недавно сочиненные лондонским композитором Томасом Арном, – «Правь, Британия, морями» и «Боже, храни короля», – и ежедневно умолял родителей приобрести ему офицерский патент в один из полков, отправлявшихся в Индию.
– Ах, он там погибнет, – украдкой вздыхала мать.
В прошлом году, когда в Солсбери вспыхнула эпидемия оспы, Элизабет больше всего боялась потерять единственного сына. Джонатан предложил родным воспользоваться новомодным средством доктора Эдварда Дженнера[50] и сделать прививку против страшной болезни, хотя приятели его и отговаривали, а Форест утверждал, что лучше переболеть естественным путем. Однако же прививка оказалась надежным способом защиты от хвори, и никто из Шокли оспой не заболел. А вот от нездорового климата Индии уберечься было гораздо сложнее – многие молодые люди, отправлявшиеся туда за славой и деньгами, на родину больше не возвращались.
Джонатан задумчиво поглядел на сына. Судя по всему, Адам был настроен решительно, но совершенно не понимал, что его просьба ставит отца в весьма затруднительное положение. Как ему объяснить? Ведь он не вынесет разочарования…
– Если тебе так хочется в Индию, я похлопочу, чтобы тебя взяли на службу в Ост-Индскую компанию. У Фореста огромные связи, он тебе поможет.
К тому времени Британская Ост-Индская компания основала поселение в Калькутте и развернула торговые операции по всей Индии, однако карьера торговца Адама нисколько не привлекала. Он мечтал о мундире.
– Нет, мне нужен офицерский патент, – умоляюще сказал юноша.
– Ты же понимаешь, патент стоит денег, – напомнил ему отец. Элизабет легонько сжала плечо мужа. Джонатан посмотрел на нее и вздохнул: – Что ж, попробуем…
На следующий день они отправились в поместье Эйвонсфорд.
В детстве Адам часто приходил в имение, разглядывал красивый особняк, бродил по парку и саду, но больше всего ему нравилась деревенская церковь, уставленная скамьями с высокими спинками. Форестам в ней было отведено особое место, обнесенное перегородками с деревянными столбиками, на которых висели мемориальные таблички, украшенные фамильными гербами и портретами усопших. Скамьи Форестов располагались напротив большого камина; когда сэру Джорджу прискучивала длинная проповедь, он начинал ворошить угли тяжелой медной кочергой. Впрочем, баронет редко бывал в поместье.
Отец не объяснил Адаму, зачем они идут в Эйвонсфорд, но юноша сообразил, что их визит как-то связан с его дальнейшей судьбой.
Встреча с сэром Джорджем Форестом была недолгой. Джонатан рассказал баронету о желании сына служить в Индии. Форест, окинув юношу холодным взглядом, невозмутимо выслушал просьбу, задал Адаму несколько вопросов и велел ему удалиться. Через некоторое время Джонатан вышел из кабинета и устало вздохнул:
– Все улажено. Я заручился рекомендацией Фореста, так что в полк тебя примут.
Адам, вне себя от счастья, рассыпался в благодарностях, не заметив озабоченно поджатых губ отца.
Ранней осенью 1753 года Джонатан Шокли с сыном уселись в почтовую карету на постоялом дворе в Солсбери и к вечеру прибыли в Лондон. Адам предвкушал захватывающие приключения.
Мистер Адам Шокли, прапорщик 39-го пехотного полка… Наконец-то!
Мундир был великолепен: длинный алый камзол, отороченный ярко-зеленым сукном и белоснежными выпушками; алый жилет, белые гетры, белый шейный платок и белые кружевные манжеты, светло-коричневая кожаная перевязь. Отец привел сына к лондонскому портному, и Адам с восхищением разглядывал себя в зеркале, любуясь рядом золоченых пуговиц. Волосы его, заплетенные в косицу, были подвернуты жгутом и перевязаны лентой.
Джонатан отвел взгляд и украдкой вздохнул, вспомнив, что отправляет сына воевать.
Как быстро пролетело время! Еще совсем недавно мать, рыдая, прощалась с сыном, и почтовая карета помчалась по широкой новой дороге в Лондон. В то время город представлял собой разрозненные селения, перемежаемые парками. Сын с отцом расположились в одном из многочисленных постоялых дворов, и Джонатан целыми днями встречался с какими-то незнакомцами в кофейнях. Оказалось, что, прежде чем стать военным, необходимо вести длинные переговоры и непонятные беседы, вручать рекомендательные письма… и платить деньги.
Офицерский чин стоил дорого.
За привилегию стать прапорщиком – низшим офицерским чином в армии его величества – нужно было заплатить 400 фунтов стерлингов. Лейтенантский патент стоил 550 фунтов, капитанский – 1500 фунтов. Люди, не стесненные в средствах, за 3500 фунтов приобретали звание подполковника, а двадцатилетний отпрыск влиятельного семейства, представленный ко двору, мог получить генеральский чин.
– В наше время за все нужно платить, – с горечью заметил Джонатан.
В штаб-квартире королевской гвардии Джонатан Шокли вручил командующему четыреста фунтов.
Отец с сыном провели в Лондоне два дня – посетили древнее Вестминстерское аббатство, осмотрели здание парламента и королевский дворец в Сент-Джеймсе, прогулялись по узким улочкам вокруг великолепного творения Кристофера Рена – собора Святого Павла. Впрочем, Адам почти не уделял внимания достопримечательностям славного города на Темзе. Юношу больше занимало другое: через несколько недель его полк выдвигался из Ирландии в далекий Мадрас.
Джонатан не стал объяснять сыну, какой ценой ему достался офицерский патент.
1758 год
Полуденная жара понемногу спадала. Адам Шокли сидел в душной палатке военного городка, дожидаясь назначенного часа. Сегодня его пригласил отужинать Финс Уилсон, а значит, предстояло щедрое угощение.
Полузакрыв глаза, Адам перебирал в памяти события последних лет, триумфальные победы английских войск и дальновидную политику премьер-министра Великобритании Уильяма Питта.
До Мадраса 39-й пехотный полк добирался полгода. Индия поразила Адама экзотической, прежде невиданной красотой: резкие перепады температуры, пыль, жара, муссоны, темнокожие люди в ярких одеяниях – все это отличалось от привычных зеленых долин и серых каменных зданий Сарума. Неимоверное буйство красок – шафран, охра, корица – радовало глаз; воздух полнился пьянящими ароматами незнакомых цветов, пряностей и благовоний, смешивавшимися с едкими запахами навоза и мочи… Адам, не находя слов для описания окружавших его чудес, с восторгом начал новую жизнь.
Поначалу ничего особенного не происходило. Полк расквартировали в обычных армейских бараках, и офицеры, в ожидании предстоящих боев, искали нехитрых развлечений за пределами лагеря; можно было охотиться на диких кабанов или смотреть, как танцуют индианки.
Колониальные товары – шелк, хлопок, пряности, чай и кофе – пользовались необычайным спросом на европейских рынках, а потому Франция вот уже много лет пыталась заполучить торговые привилегии в Индии, для чего требовалось преодолеть сопротивление Британской Ост-Индской компании, заручившейся поддержкой английской армии. До 1756 года французы лишь изредка вступали в стычки с англичанами, ограничиваясь попытками заключить союзы с индийскими князьями. Наконец Уильям Питт потребовал решительных действий. Война стала неизбежностью.
Во время короткого затишья Адам Шокли познакомился с Финсом Уилсоном.
При прощании Джонатан Шокли вручил сыну двадцать фунтов золотом и рекомендательное письмо сэра Джорджа Фореста, адресованное Уилсону. Адам не подозревал о важности рекомендации Фореста до тех пор, пока один из лейтенантов, хорошо знавший местное светское общество, не объяснил:
– Финс Уилсон водит дружбу с Уорреном Гастингсом и с его окружением в Ост-Индской компании.
Адам догадывался, что Финс Уилсон, отпрыск состоятельного семейства из Крайстчерча, как-то связан с деятельностью Ост-Индской компании, но не знал ни Гастингса, ни его друзей.
– От них зависит будущее Индии, – добавил лейтенант.
Торговля с Индией приносила неимоверные доходы; многие молодые люди, приехав в Индию без гроша за душой, быстро сколачивали огромные состояния – если, конечно, выживали в непривычном климате – и становились набобами, а по возвращении в Англию обзаводились поместьями и даже титулами.
– Вам повезло, мистер Шокли, – сказал лейтенант. – Не всякому выпадет честь быть представленным Финсу Уилсону и Уоррену Гастингсу.
Природа одарила двадцатипятилетнего Финса Уилсона классическими чертами лица и превосходным телосложением; ранние залысины в черных волосах придавали ему сходство с мудрецом. Адам Шокли с первого взгляда счел Уилсона равным богоподобным героям Античности.
Уилсон, обладая приятными манерами и обходительностью, легко добивался расположения окружающих; его доброжелательный взгляд, приветливая улыбка и заразительный смех очаровывали собеседника. Вдобавок Уилсон был очень богат.
Он принял Адама как старого знакомого и тут же представил его своим друзьям:
– Прошу любить и жаловать, мистер Адам Шокли, друг сэра Джорджа Фореста. Если мне не изменяет память, история семейства Шокли тесно связана с историей Сарума.
За ужином выяснилось, что многие приятели Уилсона водили знакомство с почтенными сарумскими семействами – Уиндгемами, Пенраддоками и прочими, – так что вскоре Адам, поначалу оробевший, почувствовал себя как дома.
Как оказалось, джентльменом из Сарума быть совсем неплохо.
Уилсон, ненадолго приехав в Мадрас, остановился в особняке одного из служащих Ост-Индской компании, которого дела призвали в Англию. Жил Уилсон в роскоши и часто устраивал званые обеды, на которых, по слухам, гостей ублажали местные красавицы. Адаму пока не довелось с ними встретиться.
Двадцать фунтов, подаренные отцом, Адам почти истратил, но отсутствие денег его не волновало – жизнь прекрасна, а потому незачем беспокоится о пустяках.
Спустя несколько дней Финс Уилсон пригласил его на охоту. Адам, привыкший охотиться на диких кабанов, невольно обомлел, увидев, что молодые люди вместе с местными князьями усаживаются на слонов, а добычу загоняют прирученные гепарды. Спустя три дня охотники вернулись в Мадрас с великолепной добычей – множеством диких буйволов-гауров и тремя тиграми.
После всех этих приключений у Адама оставалось меньше пяти фунтов.
И тут в Мадрас пришли страшные вести о трагедии в Калькутте.
Все началось с того, что владыка Бенгалии, наваб Сурадж уд-Даула, заключил союз с французами. Его советник бежал в Калькутту и попросил убежища у англичан. Тогда Сурадж уд-Даула напал на Калькутту, взял в плен сто сорок шесть англичан и запер в тесной тюремной камере с крошечным окном – в «черной яме», как в то время называли в армии любую тюрьму. Жаркой летней ночью от удушья скончались почти все заключенные; в живых осталось лишь двадцать три человека.
За такие зверства следовало мстить без пощады.
Предполагалось отправить в Калькутту войска, однако случилось непредвиденное: полковник Джон Алдеркорн, командир 39-го пехотного полка, отказался выступить в поход, требуя от Джорджа Пигота, наместника Мадраса, гарантированной выплаты доли захваченных богатств. Переговоры затянулись, и главой карательной экспедиции назначили подполковника Роберта Клайва, представлявшего интересы Ост-Индской компании. В декабре 1756 года Клайв вместе с частью 39-го полка отплыл из Мадраса на север, в Калькутту.
Победоносная военная кампания была недолгой и окончилась в июне 1757 года битвой при Плесси, где небольшие силы Клайва (1100 английских солдат, 2100 сипаев и 10 полевых орудий) разгромили войско наваба (50 000 пехотинцев, 18 000 конников и 53 тяжелых орудия с французскими канонирами).
Отважный Клайв недолго колебался, узнав о численном превосходстве противника, и вскоре отдал приказ начинать атаку. Адам Шокли мысленно простился с жизнью, но, к его изумлению, победа осталась за англичанами.
Адам чувствовал себя героем.
По обычаю того времени победителям досталась казна бенгальского наваба. Доля Клайва составила немыслимую сумму в 160 000 фунтов стерлингов (впрочем, индийцы сочли ее довольно скромной), а полмиллиона стерлингов поделили между армией и флотом. За участие в сражении юному Шокли причиталось 500 фунтов.
Так англичане добились господства в Индии, а прапорщик Шокли разбогател.
Неожиданно оказавшись при деньгах, Адам обрадовался: предстоящие сражения могли превратиться в неплохой источник дохода. Вернувшись в Мадрас, он наслаждался заслуженной передышкой.
Однажды на ужин собралась большая компания – человек двадцать. С некоторыми Адам уже встречался, но были среди них и незнакомые ему люди, какие-то приятели Уилсона. Когда разговор заходил о боях, Адаму было что сказать, а в обсуждение дел Ост-Индской компании он не вмешивался, хотя слушал с любопытством. Речь в основном шла о незнакомых ему людях, чьи имена, впрочем, были на слуху. В общем, Адаму Шокли приятно было находиться в веселой компании, однако он сознавал, что беседа полна непонятных ему намеков. Казалось, всем, кроме него, известно, о чем идет речь. Чуть позже разговор зашел о скачках, ставках и прочих игорных делах. На скачках в Солсбери Адам бывал и считал, что разбирается в лошадях; вдобавок полагал себя неплохим игроком в вист и криббедж, равно как и в двадцать одно и в пятнадцать. Однако приятели Уилсона говорили о каких-то других, незнакомых ему карточных играх.
Ему стало неловко; он попытался выйти из положения, изобразив понимающую улыбку, но это не помогло. Оробев, он выпил больше обычного и захмелел.
Финс Уилсон, который прежде относился к Адаму с неизменной вежливостью и доброжелательностью, теперь вел себя странно. Во взгляде его сквозили равнодушие и холодность; Адам разочарованно вздохнул, выпил еще бокал вина и заговорил с соседом по столу.
После ужина к мужчинам присоединились местные прелестницы.
– О, похоже, женщин на всех хватит! – воскликнул кто-то из присутствующих.
– А если не хватит, Шокли нам свою красотку уступит, – насмешливо заметил его собеседник. – Он все равно пьян.
Все рассмеялись.
Адам непонимающе посмотрел на Уилсона, но тот окинул его холодным взглядом и отвернулся.
Заиграла музыка, и полчаса девушки развлекали гостей соблазнительными танцами. Адам, впервые познавший чувственное наслаждение с месяц назад, жадно разглядывал танцовщиц и с сожалением признал, что действительно слишком пьян. Наконец девушки удалились, и пьянка продолжилась.
Немного погодя Адам откинулся на спинку стула и утомленно прикрыл глаза. Внезапно до него долетел обрывок разговора между одним из приятелей Уилсона и молодым лейтенантом, которого Адам считал другом.
– Что это за юнец?
– А, это Шокли.
– Гм, не знаю таких. Он кто?
– Да никто. Вокруг Уилсона увивается, похоже из приживальщиков.
– Понятно…
Собеседники сменили тему разговора.
Адам похолодел и, сгорая от стыда, чуть приоткрыл глаза.
Никто… приживальщик… Значит, в этом обществе его не принимают за своего? А он-то полагал себя джентльменом!
Он вспомнил скромный дом на соборном подворье, горькую усмешку отца, деньги, выплаченные за патент, и внезапно осознал, как выглядит со стороны. Неужели он и в самом деле всего лишь нахлебник?
Прелестницы, вернувшись к гостям, с обольстительными улыбками устраивались на коленях у мужчин. Кто-то потребовал развлечений. Может, устроить танцы? Сыграть в карты?
Уилсон, приобняв девушку, глядел на гостей из-под набрякших век. Классические черты лица исказились, приобрели распутное выражение.
– Сейчас Шокли нам споет, – надменно заявил он.
Адам покраснел от унижения.
– Превосходно! – презрительно воскликнул кто-то из присутствующих. – Спой нам, Шокли.
– Пой! – надменно приказал Уилсон, не сводя холодного взгляда с Адама. – Расплачивайся за угощение…
Юноша не мог вымолвить ни слова.
– Да он петь не в состоянии, – пренебрежительно бросил его сосед. – Давайте лучше в карты сыграем.
Гости разбрелись по залу. Некоторые отправились развлекаться с девицами, кто-то продолжал пить, а остальные расселись за карточными столиками.
Адам, оставшись в одиночестве, с горечью осознал, что Уилсон презирает его за бедность. В юноше бушевали смятенные чувства. Он джентльмен из Сарума, потомок кавалеров, что бы там ни думали о нем эти наглецы и выскочки. У него есть деньги за Плесси, и ничьим приживальщиком он быть не намерен!
Не обращая внимания на Уилсона, Адам подошел к карточному столу и стал наблюдать за игрой. Вскоре ему предложили занять место, освобожденное одним из игроков, и он согласно кивнул.
– А денег-то хватит? – насмешливо осведомились у него.
– Я еще свою долю за Плесси не растратил, – невозмутимо ответил Адам.
К утру он проиграл четыреста двадцать фунтов, вдобавок к уже израсходованным тридцати. Оставшихся сорока фунтов хватит ненадолго…
«Что ж, джентльмен всегда отдает долги, – подумал Адам. – Эх, поскорее бы еще одно сражение!»
Увы, вскоре 39-й пехотный полк вернулся в Ирландию, прихватив с собой тигра – на счастье. В небесах сияла комета, предсказанная астрономическими вычислениями Эдмунда Галлея.
1767 год
Лейтенант Адам Шокли, посмотрев на мадам Леру, устремил задумчивый взор на крошечную точку посреди глади моря – английский почтовый клипер.
«Если придут хорошие вести, то женюсь, что бы там ни говорили…» – подумал Шокли.
Мадам Леру готовилась к отъезду.
В 1767 году тридцатидвухлетний лейтенант Шокли служил в 62-м пехотном полку. Широкоплечий загорелый мужчина с ясными глазами и чуть поредевшей светлой шевелюрой слыл человеком добродушным и пользовался уважением сослуживцев; к его словам прислушивались, а молодежь часто просила у него совета. Вот уже четыре года полк был расквартирован на острове Доминика, в той части Вест-Индии, которую все чаще называли Карибскими островами.
Обществом очаровательной вдовы Леру лейтенант Шокли наслаждался чуть больше года. Покойный муж ее, французский торговец, погиб в схватке с пиратами. Была она белокожей кудрявой блондинкой неопределенного возраста – то ли двадцати пяти, то ли тридцати лет, – но светлые волосы вились такими тугими кольцами, что поговаривали, будто в ней течет негритянская кровь. Впрочем, себя она именовала француженкой. Держалась она отстраненно, с чувственной истомой и, хотя вот уже несколько лет остров принадлежал Великобритании, к англичанам относилась с высокомерным презрением и по-английски говорить отказывалась.
– В вашу личную жизнь я вмешиваться не намерен, Шокли, – сказал ему однажды майор, – напомню лишь, что вашу пассию здесь многие недолюбливают.
Мнение окружающих Адама не волновало – пылкие ласки мадам Леру доставляли ему доселе неизведанное наслаждение, и даже скудные познания во французском не мешали оценить ее тонкий юмор. Вдобавок многие английские офицеры, не обладавшие завидным состоянием, обзаводились женами-чужестранками.
После сражения при Плесси английская армия прошла по миру победным маршем. Генерал-майор Джеймс Вольф, захватив Квебек, присоединил Канаду к британским владениям. В Европе отгремели последние бои Семилетней войны. Чин лейтенанта Адам Шокли получил на поле боя, после гибели своего командира в Минденском сражении[51]. Увы, больше возможностей выслужиться ему не представилось: капитанские патенты расхватывали молодые гвардейцы из состоятельных семей. Когда на английский престол взошел Георг III, Шокли попросил командование о переводе в 62-й пехотный полк, надеясь на военные действия в Вест-Индии. Надежды его не оправдались, и денег по-прежнему едва хватало на жизнь.
По прибытии на Доминику Адам получил от отца прискорбное известие о смерти матери. Джонатан также предупредил сына, что мать оставила ему скромное наследство, но скорого получения денег не предвидится.
Спустя год Адам с удивлением узнал, что отец снова женился и новая жена уже в тягости. О наследстве отец больше не упоминал.
Итак, Адам прозябал на гарнизонной службе в тропиках. Заняться на острове было нечем, разве что проводить бессмысленные учения на плацу да пытаться уберечься от малярии. До знакомства с мадам Леру у лейтенанта Шокли, изнывавшего от вынужденного безделья, было два главных развлечения: переписка с отцом и чтение книг.
Джонатан Шокли любил и умел излагать свои мысли на бумаге. Отцовское остроумие, прежде приводившее юного Адама в замешательство, теперь доставляло ему огромное удовольствие. Джонатан держал сына в курсе всех сарумских новостей: текстильные мануфактуры терпели убытки, мистер Гаррис по-прежнему устраивал концерты, а в семействе Пемброк разразился скандал – Генри Герберт сбежал с любовницей в Шотландию, но вскоре опомнился и вернулся к жене. Читая отцовские послания, Адам мысленно переносился в Солсбери, на соборное подворье. Впрочем, Джонатан не только пересказывал сыну сплетни и слухи, но и внятно описывал политическую ситуацию в стране; более того, его любовь к литературе помогла и Адаму пристраститься к чтению.
– Я закоснел в невежестве, – признался Адам одному из лейтенантов, – но учиться никогда не поздно.
Теперь он тратил бо́льшую часть жалованья на приобретение книг. Джонатан часто присылал ему новинки, сопровождая их насмешливыми комментариями. Отец с сыном обменивались мнениями о словаре английского языка, составленном доктором Самюэлем Джонсоном. Адам с удовольствием прочел «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта и сатирические романы Вольтера с их критикой религиозных предрассудков, а потом перешел к трудам посерьезнее – осилил многотомную «Историю мятежа и гражданских войн», написанную Эдвардом Гайдом, графом Кларендоном, великую поэму Джона Мильтона «Потерянный рай» и философические труды Давида Юма и Джорджа Беркли, епископа Клойнского.
Адам Шокли пришел к выводу, что общество великих умов избавляет от одиночества.
Задумывался он и над мнением отца по поводу политической обстановки в стране. Больше всего он размышлял над письмом, отправленным Джонатаном вскоре после принятия Акта о гербовом сборе, вызвавшего огромное недовольство в североамериканских колониях Великобритании.
…Меня весьма позабавил некий мистер Бенджамин Франклин, представляющий интересы колонистов, – даже не знаю, можно ли именовать его послом. Он, едва прослышав об Акте, немедленно озаботился тем, чтобы три его приятеля заняли посты чиновников, отвечающих за взимание гербовых сборов, – работа, не требующая особых усилий, зато прекрасно оплачиваемая; каждому положено жалованье триста фунтов в год.
Изложу-ка я тебе, мой любезный сын, свое мнение об американских колониях, которого, смею заметить, никто больше не разделяет.
По-моему, мы совершили огромную ошибку, победив французов. Теперь, когда американским колонистам ничто не угрожает, они наверняка сочтут излишним присутствие английских войск на территории колонии и не пожелают нести связанные с этим расходы; более того, откажутся платить налоги в английскую казну.
Разумеется, правительство будет вынуждено прибегнуть к решительным мерам. Я почти уверен, что новый театр военных действий будет в колониях…
Сейчас Адам Шокли ожидал чрезвычайно важных вестей.
Связь с французской вдовушкой длилась почти год, однако недавно мадам Леру упомянула, что желает снова выйти замуж.
– Подходящего мужа на Доминике не сыскать, – с грустью признала она и собралась попытать счастья во французских колониях.
Шокли и сам был бы рад жениться, однако прожить на мизерное лейтенантское жалованье вкупе со скромными сбережениями вдовы не представлялось возможным. Вот если бы приобрести капитанский патент… В распоряжении лейтенанта было двести фунтов стерлингов. Патент стоил семьсот фунтов.
Адам спешно написал отцу – узнать, как обстоит дело с материнским наследством.
И вот наконец почтовый клипер привез ответ.
Мой любезный сын!
Мне вполне понятен твой вопрос касательно наследства, причитающегося тебе после смерти моей возлюбленной жены. За давностию лет я совсем запамятовал, что так и не рассказал тебе, каким образом был приобретен твой первый офицерский патент, который, если помнишь, обошелся в четыреста фунтов стерлингов.
В то время мы с матерью, не желая огорчать тебя известием о прискорбном финансовом состоянии семьи, решили занять деньги в долг у сэра Джорджа Фореста, который, памятуя о моей верной службе и твоем прилежании, милостиво не стал взимать проценты, однако поставил условием, что долг подлежит немедленному погашению в случае кончины одного из супругов.
В соответствии с этим обязательством я погасил долг, выплатив сэру Джорджу Форесту 400 фунтов, взятые из причитающегося тебе материнского наследства в 500 фунтов стерлингов. Таким образом, в твоем распоряжении, мой любезный сын, остается 100 фунтов стерлингов, которые я готов перевести тебе в любое время.
Твой любящий отец Джонатан ШоклиРодители не желали его огорчать…
Мадам Леру уехала две недели спустя.
Через три месяца гарнизон охватила эпидемия малярии.
6 октября 1777 года
Капитана Адама Шокли тревожило предстоящее сражение.
Полк занимал позицию у местечка Стилуотер, над левым берегом реки Гудзон; справа виднелся поселок Фрименс-Фарм. Напротив, в трехстах ярдах, расположились силы противника – американские мятежники под командованием Горацио Гейтса. В восьми милях за ними лежала Саратога.
Ввиду нерешительности и полной некомпетентности премьер-министра лорда Фредерика Норта и кабинета министров Великобритании план военных действий составил сам король Георг III. Предполагалось, что войска под командованием генерала Уильяма Хау выступят с юга, а полки генерала Джона Бургойна – с севера, из Канады, оттеснив противника к восточному побережью, однако Хау упорно отсиживался в Филадельфии.
– Говорят, он мятежникам сочувствует, – жаловались офицеры.
План разваливался на глазах. Полки, собравшиеся у Стилуотера, напряженно ожидали, что к ним на помощь из Олбани вот-вот подойдут войска под командованием генерала Генри Клинтона и обозы с припасами.
Капитан Шокли оказался здесь по весьма неудачному стечению обстоятельств.
В 1769 году 62-й пехотный полк – точнее, горстка офицеров и 75 солдат, уцелевших после эпидемии малярии, – вернулся в Ирландию за пополнением. Тридцатипятилетний Адам Шокли, которого до сих пор мучили приступы цепкой хвори, ощущал себя стариком. Впрочем, силы его постепенно восстанавливались – он много гулял, ездил верхом и от крепких напитков отказывался. Постепенно малярия отступила, и Адам объявил, что готов снова встать в строй. Спорить с ним не стали – в полку и так недоставало людей, – и он занялся набором рекрутов.
Это оказалось непростым делом: из четырехсот шестидесяти четырех новых рекрутов вскорости дезертировали сто пять.
– На нас, стариках, вся армия держится, – заявил Шокли. – Похоже, как я до лейтенанта дослужился, так лейтенантом и помру.
Действительно, в армии хватало лейтенантов с долгой выслугой лет, прекрасно знающих службу, но не имеющих денег для приобретения капитанского патента.
Неожиданно Шокли получил письмо от Финса Уилсона, теперь занимавшего высокий пост в Ост-Индской компании; к тому же Уилсон водил знакомство с Уорреном Гастингсом, которому прочили пост генерал-губернатора Индии.
…сэр Джордж Форест, узнав, что мы ищем человека смышленого и исполнительного, порекомендовал обратиться к вам. Мистер Гастингс и я, разумеется, тотчас вспомнили о нашем знакомстве после славной битвы при Плесси…
…Не обещаю, что предложенный пост в Ост-Индской компании немедленно превратит вас в набоба, но, смею заверить, вас ожидает достойное вознаграждение за труды…
О поездке в Индию врачи велели забыть.
– Мистер Шокли, тропическая жара подорвала ваше здоровье. В Индии вы долго не протянете. Вам нужен холод – и чем холоднее, тем лучше.
Лейтенант Шокли остался в Ирландии и пристально следил за положением дел в американских колониях. Как и предсказывал Джонатан Шокли, ситуация стремительно ухудшалась. Когда парламент принял Чайный закон, позволивший Ост-Индской компании поставлять в колонии избыточный чай, обложенный дополнительными пошлинами, протесты колонистов переросли в бунт, впоследствии названный «Бостонским чаепитием». Узнав о сражениях при Лексингтоне и Конкорде, лейтенант Шокли обрадовался: вот она, возможность получить капитанский чин. Наверняка в колонии отправят дополнительный контингент войск… Вскоре выяснилось, что армию мятежников возглавили генералы Генри Ли и Горацио Гейтс, к которым присоединился богатый виргинский плантатор по имени Джордж Вашингтон.
Наконец в апреле 1776 года 62-й полк покинул Западную Ирландию и отправился в Квебек. Все полагали, что мятежники будут повержены, ведь бо́льшая часть колоний по-прежнему оставалась верна королю. Штат Нью-Йорк отправил на подмогу британским войскам пятнадцать тысяч пехотинцев и восемь с половиной тысяч ополченцев, а в армии Вашингтона насчитывалось всего двенадцать тысяч человек.
– Мне об этом Вашингтоне кое-что известно, – доверительно рассказывал Шокли знакомый майор. – Он на сторону мятежников перешел лишь потому, что не смог договориться с нашими министрами о правах на владение землей в Огайо. Уверяю вас, он настоящий джентльмен. Семья его невестки владеет шестью миллионами акров…
– Однако же он примкнул к мятежникам, – напомнил Адам.
– Да какие это мятежники?! Сброд, что с них взять! И Вашингтон это прекрасно понимает… – Майор многозначительно усмехнулся. – Мой знакомый торговец с ним переписывался, присылал мне выдержки из его посланий. Вот, взгляните…
Он протянул Адаму лист бумаги, на котором значилось:
Народ, предоставленный сам себе, управлять собой не способен…[52]
– Совершенно очевидно, что как только Вашингтон добьется от наших министров удовлетворения своих требований, то бросит мятежников на произвол судьбы, – заключил майор.
Поговаривали, что южные штаты восстали, чтобы не возвращать долги английским торговцам, а северяне попросту не желали платить налоги. Неколебимая уверенность английских военных в легкой победе вызывала в лейтенанте Шокли неясную тревогу. Он придерживался мнения, что с американскими колонистами справиться будет непросто.
В июне 1776 года 62-й пехотный полк в составе сил под командованием бригадир-генерала Саймона Фрейзера принял участие в разгроме двухтысячного отряда противника у города Сорель на реке Святого Лаврентия. Битва получила название сражения при Труа-Ривьер; в плен были взяты двести человек. Затем британские войска под командованием генерала Джона Бургойна выступили к городу Форт-Сент-Джон.
За участие в этой кампании лейтенант Адам Шокли наконец-то получил капитанский чин.
– Канаду от мятежников мы избавили, – сказал ему генерал Бургойн. – Теперь освободим от них штат Нью-Йорк.
Спустя месяц после сражения при Труа-Ривьер тринадцать американских штатов объединились под звездно-полосатым флагом и приняли Декларацию независимости. Джонатан Шокли с характерным сарказмом откликнулся на это известие:
…содержание Декларации независимости повергло меня в совершенное изумление. Утверждение о том, что «все люди созданы равными» противоречит истории и устройству любого цивилизованного государства. О подобном не упоминает даже Великая хартия вольностей! А заявление о так называемых неотчуждаемых правах на… свободу и стремление к счастью? Ни в Библии, да и вообще ни в одной христианской доктрине о счастье не говорится ни слова! Английские пуритане до этого бы никогда не додумались, ведь для кальвинистов страдания – главный признак добродетели.
По-моему, все эти досужие вымыслы восторженных мечтателей быстро развеются в прах…
Однако же после победного сражения у Труа-Ривьер Адам Шокли пришел к выводу, что англичане войну проиграли.
Вместе с остальными мятежниками в плен попал шестнадцатилетний паренек, невысокий и тощий, с узким лицом и тонкими длиннопалыми руками. В нем ощущалось какое-то внутреннее спокойствие, а в темных, близко посаженных глазах светилась уверенность и даже жалость к английским захватчикам. Звали его Джон Хиллер.
– У вас родни в Уилтшире нет, мистер Хиллер? – с улыбкой спросил его Шокли. – Хиллер – распространенная фамилия в окрестностях Сарума. Я сам оттуда родом.
– Мой дед из Уилтшира уехал, – кивнул юноша, невозмутимо глядя на Адама.
– А почему?
– Его родственники квакерами стали, перебрались в Пенсильванию. Вот он следом за ними и уехал.
Шокли вспомнил, что к квакерской общине в Уилтоне относились терпимо, но без особой приязни.
– И вы тоже квакер?
– Нет, – ответил юноша. – Квакеры не воюют.
– А за что же вы воюете, мистер Хиллер?
– За свободу.
Капитану Шокли захотелось присесть рядом с ним и продолжить беседу, но офицеру не пристало заводить дружбу с пленником, и он остался стоять.
– Скажите, мистер Хиллер, что вы понимаете под свободой?
– Во-первых, не должно быть налогов без представительства, а во-вторых, все люди должны быть свободными и иметь право голоса. Это основные положения общего английского права, которые содержатся в Великой хартии вольностей. А король нас этих вольностей лишил.
Шокли с трудом удержался от смеха. Разумеется, ни в общем праве – своде древних законов, направленных на защиту имущественных интересов владельца и предоставлявших каждому, даже серфу, право предстать перед судом, – ни в Великой хартии вольностей, составленной архиепископом Стефаном Лэнгтоном и по настоянию английских феодалов принятой королем Иоанном Безземельным, не упоминалось ни о налогах, ни о представительстве, ни тем более о праве голоса. Тем не менее юноша верил заведомо абсурдным утверждениям, и капитан Шокли не стал его разубеждать.
– Мистер Хиллер, вы настаиваете на соблюдении английских законов, но отрицаете власть короля. Разве вас можно считать англичанином?
– А разве можно считать англичанином короля, который посылает германских наемников для нашего усмирения? – с горечью возразил юноша.
– И потому вы готовы заключить союз с французами – давними противниками англичан? – парировал Адам.
Юноша промолчал. И все же капитан Шокли не добивался победы в споре, а хотел понять, что движет мятежными колонистами.
– А какой довод вы приведете, мистер Хиллер, если окажется, что поименованных вами прав не содержится ни в общем праве, ни в хартии вольностей?
– Это естественные права, данные нам свыше. Они установлены не людьми, а Господом, который наделил нас здравым смыслом и способностью рассуждать. А по здравом размышлении всякому понятно, что эти права справедливы.
Адам удивленно воззрился на собеседника. Подобные рассуждения были знакомы ему со школьной скамьи – две тысячи лет назад о естественном праве упоминал Аристотель; ему вторил средневековый богослов Фома Аквинский, который, правда, видел его основу в законе Божественном, изложенном в Библии и проистекающем из непостижимого вечного закона Господня. Одно дело, когда философы и схоласты ведут умозрительные дискуссии на эту тему, и совсем иное – когда юнец без смущения употребляет абстрактные философские понятия и верит в анархические идеи, считая, что они дают ему право отвергать власть парламента и короля.
Джон Хиллер достал из кармана памфлет под названием «Здравый смысл» – сочинение известного радикального мыслителя Томаса Пейна – и предложил:
– Вот, здесь все хорошо объясняется. Почитайте на досуге.
Памфлет, напечатанный в прошлом году, содержал откровенную крамолу. Капитан Шокли покачал головой – ему хотелось разобраться в убеждениях самого юноши – и осведомился:
– И какую же власть вы признаете?
– Власть совести, – последовал бесхитростный ответ.
Внезапно Адама осенило: для этого юнца, равно как для многих тысяч его единомышленников, не имели значения ни требования мятежников, основанные на неверном толковании законодательства и государственного устройства (именно это больше всего возмутило парламент и правительство Англии), ни невнятные философские идеалы свободы и справедливости, ни многовековая борьба за власть между монархом и Церковью, между государством и личностью, ни принципы Реформации, гражданской войны и Славной революции. Права и свободы Старого Света в Новом Свете обретали совершенно иной смысл.
– А вы не боитесь, что если все сложится по-вашему, то люди будут сами собой управлять?
– А зачем этого бояться? – удивленно спросил Джон Хиллер.
Воспоминания об этом разговоре долго преследовали капитана Шокли.
Подготовка к битве за Нью-Йорк шла полным ходом. Английские офицеры уверенно предсказывали победное наступление, но капитана Шокли терзали тревожные предчувствия. Среди прекрасно вымуштрованных английских войск особенно выделялся доблестный 62-й пехотный полк. Капитан Шокли обучал своих солдат искусству боя на пересеченной местности по примеру генерала Хау, который три года назад устроил войсковые учения на Солсберийской возвышенности. Однако подъему боевого духа мешала муштра, противоречащие друг другу приказы верховного командования и нерегулярные поставки провизии и снаряжения.
– Мало того что жалованье солдат смехотворно мало, мы еще и вычитаем из него стоимость обмундирования и амуниции. О довольстве бойцов не заботятся ни командиры, ни полковые священники, – пожаловался однажды Шокли своему полковнику. – О душах бедных солдат пекутся только презираемые нами уэслиане.
– Мятежникам хуже нашего приходится, – возразил полковник. – Вместо звонкой монеты у них дрянные бумажные деньги, так что местное население отказывается снабжать мерзавцев провиантом.
«Увы, в один прекрасный день колонисты все-таки выиграют войну…» – подумал Адам и принялся составлять послание отцу.
Мы выдвинулись из Форт-Сент-Джорджа в составе восьмитысячного войска под началом генерала Бургойна, которого сопровождают шесть депутатов парламента; к майору Генри Харниджу приехала жена; каждой роте предписано иметь не более трех женщин…
В стычках с противником победа остается за нами, однако при захвате Тикондероги мы потеряли в болотах двести человек, в основном из-за того, что бравые английские солдаты в алых мундирах представляют собой прекрасную мишень, а у мятежников отличные стрелки.
Обозы с провизией запаздывают…
Завтра снова предстоит бой у Стилуотера. С первой битвы прошло две с половиной недели. Полки встали лагерем в поселке Фрименс-Фарм, захваченном после тяжелого сражения, продолжавшегося около трех часов. В этом бою 62-й пехотный полк, наступавший в центре боевого порядка, понес большие потери. Четырежды солдаты бросались в штыковую атаку на мятежных колонистов и четырежды отступали под градом пуль – меткие стрелки противника прятались в кронах деревьев. Майора Харниджа, получившего тяжелое ранение в живот, уволокли с поля боя; доблестную смерть встретили адъютант, лейтенант и четыре прапорщика. К концу сражения в 62-м пехотном полку осталось шестьдесят бойцов.
Победа слишком дорого обошлась англичанам, а обозы с продовольствием так и не появились.
В ночь перед сражением капитан Шокли не мог уснуть. Где генерал Хау с подкреплением? Где Генри Клинтон и обозы с продовольствием? Рассвет капитан встретил в мрачном расположении духа.
В битве, впоследствии названной сражением при Саратоге, бойцы 62-го полка участия не принимали – им поручили охранять лагерь. В полдень 7 октября 1777 года генерал Бургойн повел войска в наступление.
Поначалу казалось, что победа близка: генерал Гейтс, командующий силами мятежников, придерживался оборонительной тактики. Однако его ближайший соратник Бенедикт Арнольд, отстраненный от командования, нарушил приказ держать оборону, прорвался сквозь шеренги противника и повел три полка на английский редут.
Под покровом темноты английские войска оставили лагерь и заняли холм у реки. На следующий день мятежники напали на правый фланг, и англичанам пришлось отступить к Саратоге.
Девятого октября начался ливень. Солдаты 62-го пехотного полка спешно строили баррикады. Внезапно капитан Шокли ощутил болезненный удар в плечо и, обливаясь кровью, упал наземь, сраженный метким выстрелом противника.
Пять дней спустя мятежные колонисты захватили Саратогу. Капитану Адаму Шокли, раненному в плечо, еще повезло: из пятисот сорока бойцов 62-го пехотного полка уцелела горстка людей – кто бежал в Нью-Йорк, кто попал в плен; пленников отправили в Виргинию. Ходили слухи, что полковой оркестр примкнул к мятежникам в Бостоне.
В 1782 году полк переформировали и по странной случайности назвали Уилтширским.
Поражение англичан в Саратоге стало поворотным моментом в Войне за независимость. Военные действия продолжались с переменным успехом и завершились Йорктаунской кампанией 1781 года, когда осажденный английский гарнизон под командованием лорда Чарльза Корнуоллиса сдался американским войскам, возглавляемым Джорджем Вашингтоном. Английскому правительству пришлось начать мирные переговоры с мятежниками.
Так Англия лишилась американских колоний.
Капитан Адам Шокли пробыл в плену чуть больше года. Обращались с ним сносно; он обзавелся друзьями среди колонистов и часто беседовал с ними. От отца Адам получил единственное письмо, извещавшее о смерти второй жены Джонатана.
К весне 1779 года рана в плече зажила, и капитан Шокли отправился домой, пытаясь представить, как встретит его Сарум после двадцатилетнего отсутствия.
1779 год
С запада дул влажный мартовский ветер; по бледному небу неслись серые облака; на бурых грядах холмов, кое-где покрытых зеленой порослью, там и сям виднелись межевые изгороди из серого камня.
Почтовая карета, запряженная четверкой лошадей – парой каурых и парой соловых, – катила по широкой дороге из Бристоля в Бат. На облучке сидели два кучера, оба в забавных высоких цилиндрах; три места снаружи, над багажной корзиной, занимали двое продрогших мужчин и краснолицая женщина; в теплой карете на кожаных сиденьях уютно устроились четверо пассажиров, уплативших полную цену за провоз.
Итак, почтовая карета, ставшая к тому времени удобным и надежным средством передвижения, мчалась от дорожной заставы к заставе – из Бристоля в Бат, из Бата через Уорминстер к Уилтону, из Уилтона в Сарум; иначе говоря, из средневекового порта к римской водолечебнице, затем в древнюю столицу саксов и, наконец, в новый епископский город, которому минуло уже пять веков.
Только спустя полторы тысячи лет после римского завоевания широкие проезжие тракты снова связали все главные города Англии, наконец-то сменив накатанные гужевые дороги и тропы, проторенные еще в доисторические времена. Правда, за пользование трактами приходилось платить – строительством занимались частные дорожные тресты, а плату взимали на заставах, через каждые несколько миль. Несколько таких трестов принадлежали семейству Форест.
Изменения, произошедшие в Англии, приятно поразили капитана Шокли.
– Повсюду творения рук человеческих! – удивленно восклицал он, оглядывая окрестности.
Действительно, сейчас английский пейзаж разительно отличался от американского: ни заповедных лесов, ни широких равнин, где не встретить ни следа человеческой деятельности. В Англии и пустынные гряды холмов, и зеленые долины возделывали вот уже тысячи лет, вырубали леса, расширяли пастбища, распахивали плодородные земли. Дубравы и рощи сохраняли лишь для охоты или ради древесины; на вырубках, где почву размывало дождем и сдувало ветром, возникали пустоши. В отдаленных уголках острова Британия еще сохранились древние заповедные чащи и непроходимые болота, но вдоль проезжего тракта из Бристоля в Бат ничего подобного не осталось. Адам Шокли только сейчас осознал, что Англия сотворена трудом бесчисленных поколений.
Почтовая карета прибыла в Бат к обеду, и Адам решил заночевать в городе.
Бат привел капитана Шокли в восторг.
Городок на месте римского поселения Акве-Сулис существовал вот уже тысячу триста лет и ко времени правления королевы Анны превратился в захолустное местечко, известное только своими горячими источниками. Великолепные римские термы были погребены под толстым слоем земли.
А потом в Бат приехал Ричард Нэш, прозванный на французский манер Beau, Красавчик, заядлый – и весьма удачливый – игрок и король щеголей-денди. При нем город стал образцом изящества. Улицы и площади украсили роскошные особняки в классическом георгианском стиле – с портиками, колоннами и пилястрами, – выстроенные из местного светлого камня и похожие на древнегреческие и римские храмы. В ассамблее Ричард Нэш, как мистер Гаррис в Саруме, проводил приемы, на которые собирался весь цвет светского общества; в Бат приезжали поправлять здоровье и играть в азартные игры. Город превратился в фешенебельный курорт, с питьевой галереей, королевскими банями и бассейнами с минеральной водой, сулившей исцеление от всевозможных хворей. На площадях высились обелиски, возведенные в честь монарших визитов, а Королевская лечебница минеральных вод предоставляла бесплатные лечебные процедуры для бедняков. Незадолго до смерти Бо Нэша в Бате обнаружили развалины римских терм.
Улицы полнились модниками и модницами; ливрейные лакеи чинно несли портшезы, в которых восседали элегантные дамы с замысловатыми высокими прическами и разряженные франты. Адам Шокли, в обтрепанном алом мундире, с шейным платком не первой свежести, в траченном молью парике и в стоптанных башмаках со старомодными пряжками, восхищенно разглядывал строгие классические фасады и, восторгаясь красотами архитектуры, бормотал себе под нос:
– Я будто в Рим попал…
После двадцатилетнего отсутствия капитан Шокли с необычайной остротой осознал, как изменилась Англия.
Эпоха изящества и утонченности недаром получила название века Августа. Великобритания, как и Рим во времена царствования императора Августа, стала империей, средоточием всего цивилизованного мира. Британские владения в Канаде, Индии, на Гибралтаре и островах Вест-Индии с лихвой восполняли печальную утрату американских колоний. Сравнение с Античностью возникало само собой – георгианская архитектура основывалась на классических моделях, а потому роскошные особняки и загородные резиденции строили по эскизам Андреа Палладио, итальянца, взявшего за основу принципы храмовой архитектуры Древней Греции и Рима. Изучение греческого языка и латыни стало обязательной частью образования истинного джентльмена, равно как и длительное путешествие по Европе. Даже дебаты в парламенте не обходились без латинских афоризмов – депутаты, щеголяя своей образованностью, пытались подражать сенаторам Древнего Рима. Джентльмены украшали свои гостиные и библиотеки античными статуями, величественные строки поэм Александра Поупа сравнивали с творениями древнеримских поэтов, а элегантную прозу Джозефа Аддисона уподобляли речам Цицерона.
Расцвет классицизма в Англии пышностью затмил великолепие эпохи Возрождения, а благосклонная терпимость Англиканской церкви к разнообразным религиозным сектам словно бы повторяла снисходительное отношение цивилизованных язычников-римлян к примитивным верованиям завоеванных ими племен. Похоже, англичан – рациональных, скептичных, цивилизованных и терпимых, по примеру античных римлян – теперь было ничем не удивить. Адаму Шокли казалось, что из Нового Света он вернулся в классическую древность.
Капитан Шокли провел ночь в древнеримском Бате, а наутро, испив воды из целебного источника, отправился в Сарум.
В пяти милях от Сарума Адам жадно вглядывался в далекий горизонт, с нетерпением ожидая появления величественного шпиля собора. Вокруг простирался с детства знакомый пейзаж: застывшие зеленые волны холмов, испещренные белыми пятнышками овечьих стад. Адам с удивлением заметил, что большеголовые рогатые овцы уилтширской породы стали крупнее, а шерсть на брюхе почти исчезла.
К обеду почтовая карета достигла Солсбери. Собор по-прежнему высился над городом; в уличных водостоках негромко журчала вода. Ни европейские распри, ни война в далекой Америке не коснулись города. Неизменными остались и величавый собор, и тихое соборное подворье, и старинный рынок. Вот уже сто лет в Саруме царил покой.
Перед отъездом из Бристоля Адам отправил отцу письмо, извещая о своем прибытии, и теперь торопливо направился к дому на соборном подворье. В арке ворот капитан Шокли счастливо рассмеялся.
Дверь отворила миловидная служанка в крахмальном чепце, из-под которого выбивались каштановые кудри; белый передник, испачканный мукой, прикрывал бело-зеленое полосатое платье.
Девушка окинула Адама боязливым взглядом, ойкнула и убежала в дом, крича во весь голос:
– Капитан приехал!
Джонатан Шокли, нахлобучивая парик на поредевшую шевелюру, вышел на порог и приветственно воскликнул:
– С возвращением, герой! Твои сводные брат и сестра вот-вот вернутся, они горят желанием с тобой познакомиться.
К шестидесяти семи годам отец Адама изменился мало: чуть согбенные плечи прикрывал ветхий синий камзол, на ногах красовались панталоны до колена и белые шелковые чулки.
В доме тоже все оставалось прежним, разве что деревянные панели в гостиной потемнели от времени, в спальне стояла новая кровать с балдахином, а стены оклеили узорчатыми обоями. Похоже, все эти нововведения были делом рук второй жены Джонатана – сам он до этого не снизошел бы. Адам уселся в удобное кожаное кресло у камина и счастливо вздохнул: наконец-то он дома!
В гостиную вбежали его сводные брат с сестрой – пятнадцатилетняя Франсес и десятилетний Ральф, оба темноволосые, в мать. Впрочем, от Шокли они унаследовали ясные голубые глаза и открытые лица. Очаровательная Франсес подбежала к капитану и расцеловала его в обе щеки. Дети целый час восторженно расспрашивали Адама о войне в Америке, о Вест-Индии, о жизни в армии, а Ральф, как только услышал, что тот приехал в почтовой карете из Бристоля, взволнованно воскликнул:
– А разбойник вам не встретился?
– Ему повсюду разбойники чудятся, – рассмеялся Джонатан и объяснил, что с недавних пор на больших дорогах появились грабители; это так досаждало владельцам дорожных застав, что Форесты даже объявили награду за поимку злодеев – пятьсот фунтов стерлингов.
– Недавно злоумышленник, грабя какую-то знатную даму, так учтиво с ней раскланивался, что проезжавшие мимо путники ничего не заподозрили, – с усмешкой добавил Джонатан. – Решили, что это ее добрый приятель.
– Нет, галантных разбойников мы не встретили, – улыбнулся Адам. – Может быть, в следующий раз повезет.
– Для Ральфа разбойники важнее, чем герои войны, – хихикнула Франсес.
– Лучше расскажи нам о Вашингтоне, – предложил Джонатан.
Беседа продолжалась и за ужином. Адаму поведали, что мистер Гаррис еще жив, хотя и очень стар, но по-прежнему дает балы в ассамблее и устраивает театральные представления на соборном подворье, в которых принимают участие и дочери Гарриса, и мисс Пур, и даже Франсес. В прошлом году в Солсбери приезжали король Георг III с королевой Шарлоттой, и полк йоменов – бойцов местного ополчения – провел для них парад на взгорье. Франсес объяснила, что жизнь на соборном подворье течет все так же мирно, и стала развлекать сводного брата рассказами о своем обучении в школе благородных девиц. Адам слушал ее с улыбкой, вспоминая свои школьные годы.
Сэр Джордж Форест недавно скончался, и теперь всем заправлял его сын, сэр Джошуа, человек весьма предприимчивый. Сам Джонатан два года назад удалился от дел.
– Форест в Эйвонсфорде почти не бывает, а его новые владения слишком далеко; мне, старику, за всем не поспеть.
Старинный особняк в скромном имении годился для мелкопоместного дворянина, но сэр Джошуа Форест питал иные амбиции.
– Помнишь семейство Бувери, которым достались кларендонские угодья? – спросил Джонатан. – Теперь они носят титул графа Раднора, могуществом и влиятельностью спорят с графом Пемброком. Молодой Форест того же добивается. Недавно он обзавелся поместьями на севере Уилтшира и строит там свою новую резиденцию, настоящий дворец.
– А в Солсбери он приезжает?
– Да, конечно. Он на соборном подворье особняк купил. Между прочим, велел немедля известить его о твоем приезде, – усмехнулся Джонатан. – Ты у меня теперь знаменитость, доблестный воин, капитан, отличившийся в боях с американскими мятежниками. Для Солсбери это большая редкость.
На следующее утро Франсес настояла на прогулке по соборному подворью. Поначалу Адам смутился – к портному он еще не заглядывал, а мундир видывал лучшие дни, – но не успели они с сест рой дойти до лужайки певчих, как он уже получил четыре приглашения отужинать, а три старые девы заручились обещаниями скорых визитов.
– Все наши дамы будут от вас без ума! – шутливо заметила Франсес.
Собор был закрыт – в нем велись ремонтные работы, – а на старой колокольне разобрали башенку и сняли колокола.
– Вот уже двадцать лет боятся, что колокольня рухнет, хотят снести, – объяснила Фрэнсис, ласково взяв Адама под руку. – Вы же знаете, братец, в Саруме торопиться не любят.
Чуть позже Адам Шокли зашел в кофейню у Кабаньего Ряда – излюбленное место встречи горожан, – где его тоже встретили с огромным восторгом.
Впрочем, самой большой похвалы Адам удостоился вечером, когда к нему в спальню робко заглянул юный Ральф и, смущаясь, попросил показать шрам от пули, выпущенной метким американским стрелком.
Март прошел в невинных забавах и бесхитростных развлечениях. Адам Шокли давно не испытывал такого безмятежного счастья. Он обзавелся новыми нарядами и по настоянию Франсес купил новомодные башмаки с бриллиантовыми застежками вместо пряжек.
– Какая-то дамская обувь, – смеясь, сказал он.
Однако Франсес не унималась и заставила его купить новый парик, с короткими буклями и тугой косицей, подвернутой и перевязанной ленточкой.
– Теперь все военные такие носят, – пояснила она. – Фасон называется рамильи[53], в честь победных сражений герцога Мальборо.
Адам не без удовольствия подставил ей голову. Франсес бережно надела на него парик, поправила букли и, окинув сводного брата придирчивым взором, объявила, что наконец-то он одет по последней моде.
– По-моему, я стал похож на фата, – улыбнулся Адам.
Франсес счастливо рассмеялась и поцеловала его в щеку.
Безыскусная непринужденность Франсес и Ральфа совершенно очаровала Адама. Он побывал в школе Ральфа и посетил все спектакли с участием Франсес.
– Дети помогают мне сохранить молодость, – с усмешкой говорил Джонатан.
Однако приходилось думать и о серьезных делах.
– Младших детей я обеспечу, – объяснял отец Адаму. – Нищенствовать им не придется. Ежели со мной что случится, за ними присмотрит их дядя в Винчестере. К сожалению, мой любезный сын, тебе ничего не достанется. Как ты намерен жить дальше?
Адам часто задавался этим вопросом, но ответа пока не находил. Сейчас он жил на половинное жалованье, но вскоре должен был либо вернуться на действительную службу, либо продать офицерский патент, за который можно выручить приличную сумму. Впрочем, этих денег надолго не хватит.
– А чем можно заняться в Саруме? – спросил он.
– Увы, особо нечем, – ответил Джонатан и вкратце описал состояние дел в Уилтшире.
Отец с сыном беседовали больше часа. Адам забыл, что за язвительным остроумием отца кроется острый ум. Джонатан ничего не упускал из виду и всегда знал, что происходит в округе.
– Владельцам имений жаловаться не на что. Разумеется, с них взимают поземельный налог, но они находят способы переложить его на арендаторов. Цены на зерно растут, что увеличивает прибыль землевладельцев, а вот арендаторам приходится несладко. Из-за постоянно растущих цен лендлорды предпочитают сдавать землю в краткосрочную аренду, чтобы каждый год повышать арендную плату. В поместьях Фореста так и поступали, а мне приходилось арендаторов об этом извещать… Весьма прискорбное занятие. В общем, землю возделывать тебе сейчас не по карману, для этого большие деньги надобны.
Адам расспросил отца о стадах овец на взгорье: правда ли, что порода изменилась?
Джонатан вздохнул:
– Я Фореста предупреждал, но он поступил по-своему, как и многие овцеводы графства.
Уилтширские арендаторы, пытаясь улучшить древнюю породу, вывели овец с тяжелым крупом и бесшерстным животом.
– К сожалению, они плохо пасутся в низинах и подвержены всевозможным недугам, особенно вертячке. Несомненно, стада можно и нужно улучшить, однако новую тонкорунную породу удалось вывести только в Суссексе, на юге Англии. Неплохо бы ее в Уилтшир завезти, вот только наши арендаторы медлительны и нерасторопны, из-за этого и страдают.
В графстве успешно развивалась ткацкая промышленность и производство новых тканей – хлопка, фланели, саржи и фасонного полотна, а также плетеных кружев, но в основном мануфактуры принадлежали торговцам и ремесленникам.
– Тебе это вряд ли интересно, – сказал Джонатан.
Адам вспомнил, что в Уилтоне существовали ковровые мастерские – один из графов Пемброков лет тридцать назад решил наладить производство ковров, по качеству не уступавших французским.
– Уилтонская мастерская сгорела десять лет назад, – объяснил Джонатан. – Ее заново отстроили, но похожие ковры теперь ткут в Саутгемптоне, Киддерминстере и Уорчестере. Говорят, они гораздо лучше уилтширских. Дела в Саруме идут своим чередом, без изменений, но и без развития. Стесненному в средствах джентльмену здесь трудно найти доходное занятие.
– Тогда я не знаю, что делать, – признался Адам.
– Поезжай в Бат и приищи себе богатую вдовушку, – посоветовал Джонатан. – Там их много.
Совет был дельным, но Адаму не хотелось ему следовать.
В самом конце марта Адам обзавелся новым знакомцем.
Однажды капитан Шокли сидел в кофейне за утренней газетой.
– Простите, сэр, вы позволите присесть за ваш столик? – раздался чей-то голос.
Адам взглянул поверх газеты – и никого не увидел.
– Благодарю вас, сэр, – послышалось в ответ.
Адам опустил газету – на стуле напротив сидел тощий коротышка лет тридцати или сорока, не выше четырех футов ростом, с огромной тяжелой головой, острым носом, румяными щеками и торчащими ушами. Так капитан Шокли познакомился с Эли Мейсоном.
В каждом движении нового знакомца сквозила юношеская живость, а улыбка и добродушный нрав невольно располагали к себе.
– Доброго вам утра, сэр, – улыбнулся коротышка.
– И вам того же, – ответил Адам.
– Как вам газета?
– Весьма познавательно.
– И напечатано хорошо?
– Да, вполне.
– Я ее сам напечатал, – радостно сообщил коротышка, показывая Адаму крошечные короткопалые ладошки, перемазанные черными чернилами. – Позвольте представиться, сэр. Меня зовут Эли Мейсон. А вы, как я полагаю, капитан Шокли, недавно вернувшийся из американских колоний.
– Верно, – улыбнулся Адам, отложив газету, в которой действительно было немало интересных, хорошо написанных статей и множество рекламных объявлений.
– Наш тираж – тысяча экземпляров, – гордо объявил Мейсон. – Конечно, за «Солсберийским вестником» нам не угнаться, они четыре тысячи выпускают, но и наши печатные станки не простаивают.
Как выяснилось из дальнейшей беседы, все самое лучшее в Солсбери печаталось в типографии Мейсонов. Видно было, что свое дело крохотный печатник любит и искренне гордится своим ремеслом. Адам, впервые после возвращения в город беседовавший с представителем торгового сословия, слушал Мейсона с все возрастающим интересом.
Жители соборного подворья, потомки олдерменов, теперь считались хоть и не родовитыми, но дворянами. Ни каноникам, ни местной знати, ни Джонатану Шокли, жившему на весьма скромные средства, никогда не пришло бы в голову пригласить на ужин преуспевающего торговца или ремесленника. Да, дворянские отпрыски учились в одной школе с детьми торговцев, но впоследствии их пути не пересекались.
В плену Адам Шокли столкнулся с людьми, которые придерживались иных взглядов; американские поселенцы, крестьяне и торговцы, вели совместные дела, дружили семьями, женились, не смущаясь принадлежностью к разным сословиям, и считали себя ничуть не хуже дворян и родовитой знати. Со многими из них Адам сдружился и сейчас, беседуя с Эли Мейсоном, как будто снова оказался среди американских приятелей.
– И что же вы теперь делать собираетесь? – спросил печатник, завершив пространные объяснения о преимуществах своих печатных станков.
– Не знаю, – без смущения признался Адам. – Похоже, капитану на половинном жалованье в Саруме заняться нечем.
– А если патент продать? – поразмыслив, осведомился Эли.
– На это не проживешь.
– Жениться вам надо, – задумчиво сказал печатник.
– Мне семью не прокормить, – улыбнулся Адам.
– А как же богатые вдовушки?
– Отец мне то же самое посоветовал.
– И что же?
– Не хочется.
– А какое занятие вам по душе?
– Да любое! – со смехом произнес Адам.
– Любое? Вы, джентльмен, ничем не погнушаетесь?
– По-вашему, джентльмен работать не должен?
Потупившись, Эли негромко произнес:
– Знаете, обычно джентльмены до беседы с торговым людом не снисходят.
Адам взглянул на газету и ничего не ответил. Тем временем у Эли Мейсона возникла любопытная мысль.
Не много помолчав, он предложил:
– Я живу неподалеку. Мои родные рады будут познакомиться с доблестным офицером, вернувшимся из Америки. Вы не против обменяться рукопожатием с моим братом?
Адам в замешательстве посмотрел на собеседника.
– Видите ли, капитан, мы не дворяне, – торопливо добавил Эли, словно извиняясь. – Мы люди маленькие.
Адам Шокли решил, что печатник намекает на низкий рост, характерный для всей семьи Мейсон, и, не желая обидеть нового знакомого, принял приглашение. Десять минут спустя капитан Шокли оказался в гостиной небольшого дома в квартале Антилопы. К его искреннему удивлению, его встретили люди вполне нормального роста – сестра Мэри, брат Бенджамин, торговец скобяным товаром, его жена Элиза и двое детей.
– Знакомьтесь, это капитан Шокли! Ему жена нужна! – выпалил Эли.
Все расхохотались.
Адам Шокли не только обменялся рукопожатием с Бенджамином Мейсоном, но и провел с ним длительную беседу. Выяснилось, что Бенджамин – почтенный торговец; у отца была скромная мастерская по изготовлению ножей и ножниц, но сын превратил ее в весьма доходное предприятие и теперь владел скобяной лавкой и типографией. Тщедушный Эли и Мэри – миловидная добродушная женщина лет двадцати пяти – жили вместе с семьей старшего брата. Бенджамин Мейсон, большеголовый, остроносый и краснолицый, как и брат, – правда, уши не торчали, – держал себя с достоинством, парика не признавал, волос не пудрил, лишь зачесывал их назад и стягивал лентой на затылке; одевался скромно, в темный камзол и серые шерстяные чулки.
Дети разглядывали доблестного капитана и возбужденно дергали отца за рукав; Бенджамин укоризненно посмотрел на них и ласково велел не перебивать – неожиданный визит дал ему возможность расспросить знаменитого гостя об Америке, в частности о религиозных настроениях колонистов.
– Мы методисты, последователи учения Джона Уэсли, – объяснил он Адаму. – Мы не желаем отделяться от Англиканской церкви, а всего лишь хотим точнее исполнять евангельские предписания – нести людям Слово Божие и совершать богоугодные деяния. Надеюсь, это не оскорбляет ваших религиозных чувств?
– Нисколько не оскорбляет, – заверил его Шокли.
Джонатан Шокли, верный воззрениям тори, осуждал уэслиан, но Адам счел их требования весьма разумными и вполне приемлемыми для Англиканской церкви; действительно, давно следовало искоренить порочную практику церковных бенефициев – доходных должностей и поместий, чрезмерно обогащавших клириков.
– Именно за это реформаторы ненавидели Католическую церковь, – заметил Бенджамин Мейсон. – Однако нынешние англиканские священники грешат тем же.
Впрочем, говорили новые знакомцы не только о религии; дети с любопытством расспрашивали капитана Шокли о его новом парике. Адам, стянув его с головы, с улыбкой объяснил, что приобрести диковинку заставила сестра.
– Ей захотелось нарядить меня по последней моде, только, боюсь, франт из меня никудышный.
Эли Мейсон, устроившись на деревянном табурете у входа, в разговор не вмешивался, но, судя по всему, был весьма доволен происходящим. Мэри, в скромном сером платье, с улыбкой смотрела на мужчин задумчивыми серыми глазами, изредка поправляя непослушные русые кудри; миловидное лицо не портили мелкие оспинки.
– А сестра ваша чем занимается? – спросил Адам Бенджамина, отвесив дамам учтивый поклон.
– Она у нас хозяйство ведет и мне в делах помогает, – с усмешкой ответил торговец. – Наша Мэри – большая умница.
Мэри, улыбнувшись, промолчала.
Два дня спустя на тракте к северо-западу от Уилтона, у дорожной заставы Фишертонского треста, принадлежавшей сэру Джошуа Форесту, разбойник снова ограбил путников.
– Его надо изловить! – воскликнул юный Ральф Шокли и весь день изводил Адама просьбами немедля отправиться на поимку преступника.
Адам, не выдержав, сбежал в клуб, где весь вечер просидел за вистом.
Адам Шокли и Эли Мейсон несколько раз встречались в кофейне, а однажды печатник пригласил приятеля в типографию, где, забравшись на табурет, с гордостью объяснил, как буква за буквой из литер набирают текст.
– Видите, капитан, пусть я ростом не вышел, зато свое дело хорошо знаю, – добавил он.
С Бенджамином Мейсоном Адам часто беседовал о событиях в Америке. Прошлой осенью к американским мятежникам пришел на помощь французский флот; теперь английские войска терпели поражения и на суше, и на море, и, хотя и отбили у французов несколько островов, Доминику пришлось сдать неприятелю.
– Невелика потеря, – вздохнул Адам. – Там все равно нет ничего, кроме проклятой малярии.
Впрочем, в гости к Мейсонам он любил приходить еще и для того, чтобы повидаться с Мэри. Она редко вмешивалась в разговоры мужчин, но всякий раз, когда брат интересовался ее мнением, отвечала рассудительно и даже остроумно.
– Как вы полагаете, мисс Мейсон, справимся мы с мятежниками? – спросил Адам.
– Нет, капитан Шокли. Уильям Питт наверняка бы давно положил конец этой бессмысленной войне, но сейчас, увы, она положит конец карьере лорда Норта.
Адам рассмеялся. Уильям Питт, граф Чатам, скончался год назад, а нынешний премьер-министр, Фредерик Норт, совершенно не разбирался ни в военном искусстве, ни в дипломатии.
«Мэри – весьма разумная женщина», – решил Адам.
Однажды Бенджамин отлучился в лавку, и капитан провел полчаса наедине с Мэри за непринужденной беседой. Ему очень нравилось, что Мэри не кокетничала и не пыталась с ним заигрывать; простота и безыскусность ее обращения совершенно очаровали Адама, не выносившего притворных любезностей светского общества.
Как-то раз, прогуливаясь по окрестностям Солсбери, он встретился с Мэри на тропе близ деревни Харнгем. Они побродили по живописной долине и, вдоволь налюбовавшись старой мельницей у реки, вместе вернулись в город.
Узнав, что Харнгем-Хилл – любимое место прогулок Мэри, Адам стал приходить туда каждый день в надежде на случайную встречу.
«Были бы у меня средства, я бы, наверное, сделал Мэри Мейсон предложение, – размышлял он. – Увы, я слишком беден – и давно не молод…»
Капитан Адам Шокли так и не придумал, чем заняться. Родные окружали его заботой и лаской, но он опасался быть в тягость отцу.
В конце мая 1779 года в Сарум приехал сэр Джошуа Форест – сухопарый, среднего роста, темноволосый, с орлиным носом и изящными тонкими пальцами. Он со всеми обращался учтиво, с заученной вежливостью, но от рассеянного взгляда темных глаз ничего не ускользало. Бо́льшую часть времени он проводил в Лондоне и в своих поместьях на севере графства, а сейчас на месяц приехал в Солсбери.
– Сэр Форест утром лакея прислал, приглашает тебя на обед, – объявил Джонатан Шокли сыну, вернувшемуся из кофейни. – Сходи, много интересного узнаешь, – со значением добавил он.
В то время обедали в три, но сэр Джошуа Форест, по обычаю тогдашней знати, предпочитал поздние обеды. В четыре часа пополудни капитан Адам Шокли подошел к дому сэра Джошуа Фореста, баронета.
Внушительный особняк из красного кирпича, облицованный серым камнем, стоял в дальнем конце соборного подворья. Перед домом зеленел ухоженный газон, пересеченный подъездной дорожкой, усыпанной гравием; за невысокой стеной в глубине двора виднелись каретный сарай и конюшня; дверь выходила на мраморное крыльцо.
У дома стояли кареты; на дверцах самого заметного экипажа красовался замысловатый герб Форестов.
Лакей в пудреном парике чинно распахнул дверь, и Адам вошел в просторный холл с плиточным полом из белого и черного мрамора. Со стен у широкой лестницы глядели портреты предков Фореста; в углу на пьедестале высился мраморный бюст сэра Джорджа. С потолка, украшенного декоративной лепниной в классическом стиле, свисала огромная хрустальная люстра, привезенная сэром Джорджем из Франции.
Еще один ливрейный лакей отворил высокую белую дверь в гостиную и объявил о приходе нового гостя.
Судя по всему, на ужин пригласили только мужчин. Адам увидел трех местных землевладельцев, какого-то богатого священника, двух незнакомцев из Лондона и самого баронета в роскошном алом камзоле, отороченном белоснежными кружевами.
– Добро пожаловать, капитан Шокли! – воскликнул сэр Джошуа Форест. – Мы рады вас приветствовать!
Джонатан Шокли достоверно описал внешность баронета, умолчав лишь о самом важном – сэр Джошуа Форест являл собой истинное произведение искусства.
Европейские путешествия позволяли отпрыскам английских дворян сносно овладеть иностранными языками – французским, немецким или итальянским, – изучить основы истории и прочих наук, познакомиться с влиятельными особами и знаменитостями. К примеру, Джордж Герберт, одиннадцатый граф Пемброк, большой знаток лошадей, великолепно освоил дрессаж – элегантную разновидность выездки – и даже написал об этом богато иллюстрированную книгу «Искусство верховой езды».
А вот сэр Джошуа Форест за четыре года, проведенные в путешествиях по Италии и Франции, в совершенстве постиг непростую науку изысканных светских манер, жизненно важную для всякого дворянина XVIII века. К собеседнику он обращался с преувеличенной учтивостью и обходительностью, со слугами был неизменно вежлив, а двигался с заученной непринужденностью и отточенной грацией; лицо сохраняло безмятежное выражение, лишь изредка прерываемое фальшивой улыбкой или мимолетным напускным удивлением; безупречные наряды во всем следовали моде. Больше всего сэр Джошуа Форест напоминал фарфоровую статуэтку, выставленную для всеобщего обозрения и восхищения; к нему следовало относиться как к произведению искусства.
Баронет представил Адама присутствующим. Лондонские гости оказались депутатами парламента; священник, владелец десятка доходных бенефициев, благосклонно отозвался о доблестных подвигах капитана; остальные тоже не обошли его вниманием и обращались с ним как со старым знакомым, иными словами – снисходительно. Впрочем, в XVIII веке подобное поведение означало лишь одно: предлагать Адаму свое покровительство никто не собирался.
– Надеюсь, вы поведаете нам о славных сражениях, – заметил сэр Джошуа Форест и добавил: – Господа, раз уж мы сегодня собрались в узком кругу, я велел подать обед в малой столовой.
Малая столовая оказалась просторной комнатой с окнами в сад и замысловатой лепниной на потолке – лебедь с герба Форестов. На стенах, обитых зеленым муаровым шелком, висели картины: одна изображала гибель генерала Вольфа в битве за Квебек, а вторая – славную победу генерала Клайва в Плесси. Посредине комнаты на длинном узком столе красовался роскошный обеденный сервиз, выписанный Форестом из Китая и помеченный фамильным гербом; довершали великолепие серебряные столовые приборы и хрустальные бокалы.
Гости расселись по местам. Сэр Джошуа Форест, гордившийся искусством застольной беседы, незаметно и ловко направлял разговор в избранное русло.
Угощение было отменным.
Вначале подали рыбные блюда – огромную щуку, жареную камбалу и форель – и белое вино из Германии.
Разговор зашел о положении дел в Саруме. Форест благосклонно выслушал замечание Адама о том, что за двадцать лет здесь мало что изменилось. Выяснилось, что лондонские гости знакомы с мистером Гаррисом; граф Пемброк проводил время в Лондоне, а его отпрыск, Генри, продолжал свои европейские путешествия и сейчас отправился из Мюнхена в Вену. Знатных особ гости обсуждали с легкостью, свидетельствовавшей о близком знакомстве, и к Адаму обращались так, будто он тоже вхож в этот круг. Одним из бенефициев священника был Эйвонсфорд, но туда достопочтенный господин наведывался редко.
– Эйвонсфордский приход небольшой, мой викарий прекрасно со всем справляется, – объяснил он Адаму.
Один из депутатов с усмешкой вспомнил о сэре Самюэле Фладьере, избранном в парламент жителями Чиппенгема.
– Ему было велено местные суконные мануфактуры всем расхваливать, так он уже который год этим занимается, не хуже любого торговца.
– По-моему, Солсбери самое время обзавестись таким же напористым депутатом, – улыбнулся Адам. – Обрядить его в камзол лучшего солсберийского сукна, пусть всем рассказывает, где такое производят.
Это замечание вызвало всеобщее одобрение.
– Я уже не первый год об этом говорю, – признал сэр Джошуа. – У наших торговцев хорошего сукна хватает.
Слуги внесли баранью корейку и кларет.
Гости перешли к обсуждению правительства и военных действий.
– При Норте армия обнищала, – сказал один из парламентариев. – Вдобавок половину кавалерийских частей расквартировали бог весть где, страну защищать некому. А французы, между прочим, только и думают, как бы вторгнуться на наши берега.
– Кстати, английский флот тоже ослаблен донельзя, – добавил второй. – У самых берегов Ирландии проклятый Джон Пол Джонс[54] пиратствует, на наши торговые корабли безнаказанно нападает.
– Единственное спасение в том, что французы пока не догадываются ни о беспорядках в нашей армии, ни о глупости нашего правительства, – заявил священник.
Адама спросили, что он думает о ходе войны с американскими мятежниками. Он честно рассказал все, что ему было известно о настроениях колонистов, упомянул об их вере в естественные права человека и вкратце изложил содержание памфлета Томаса Пейна.
Гости, затаив дыхание, выслушали рассказ, а потом один из местных дворян заметил:
– Не по нраву мне все это. Если в американских колониях и впрямь господствуют подобные убеждения, то, полагаю, войну мы проиграли.
– В этом-то и беда, – добавил Форест. – Король этого и опасается. Если признать право американских колоний на независимость, то их примеру последуют и Ирландия, и Вест-Индия.
Затем подали жареную курятину, запеченную свиную голову, язык, телятину с трюфелями, зеленый горошек и стручковые бобы. Гости заговорили о внутренней политике и о взглядах Эдмунда Берка[55], который, хотя и сочувствовал американским колонистам, призы вал к сохранению государственного устройства Великобритании.
– Берк прав, утверждая, что наша сила не в создании новых законов, а в приверженности древним традициям, – заявил Форест. – Англичане – великая нация, породившая много великих людей…
– И даже лорда Норта! – со смехом прервал его один из депутатов.
Все дружно расхохотались, однако признали, что британская сис тема управления государством, освященная многовековыми традициями, в улучшении не нуждается.
– Возьмем, к примеру, наше законодательство, – начал священник. – Вы знакомы с сочинением сэра Уильяма Блэкстона «Истолкование английских законов»?
Четырехтомный труд Блэкстона, опубликованный десять лет назад, описывал систему общих законов и привилегий, существующих со времен англосаксонского владычества. По лицам обоих парламентариев было очевидно, что о сочинении они слышали, но не озаботились его прочтением, однако Адаму Шокли объемистое творение Блэкстона скрасило тоску гарнизонной службы в Доминике.
– Да, разумеется, – невозмутимо сказал он. – По моему разумению, он допустил ошибку, утверждая, что английское право не нуждается в реформах.
– Вот так-то, сэр! – воскликнул Форест, обращаясь к священнику. – Я всегда полагал капитана Шокли весьма образованным человеком.
Затем гости обсудили билль о радикальных изменениях в системе парламентского представительства, недавно представленный Джоном Уилксом, депутатом от Мидлсекса, на рассмотрение палаты общин; все согласились, что его требования смехотворны и нелепы, – подумать только, он предлагал упразднить гнилые местечки, подобные Олд-Саруму, и наделить правом голоса всех жителей Великобритании, в частности представителей торгового сословия и зарождающейся в городах буржуазии. Адам считал эти требования вполне разумными, однако, не желая обижать присутствующих, резонно заметил:
– Пока не поздно, имеет смысл пойти на некоторые уступки.
Эта сентенция всех удовлетворила, и разговор перешел на другие темы. Адам, не в силах отделаться от странного ощущения, что Форест неприметно следит за каждым его словом и жестом, вспомнил многозначительное напутствие отца и с нетерпением ждал, что будет дальше.
Подали очередную перемену блюд: жареных голубей, чирков, вальдшнепов, ржанок, спаржу и красное вино.
Беседа коснулась литературы и искусства; вспомнили о сочинении Эдуарда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи», обсудили новую пьесу Ричарда Шеридана и картины Томаса Гейнсборо. Адам не переставал удивляться, как легко и непринужденно Форест направлял беседу. Сам капитан в искусстве светского общения не поднаторел, однако обнаружил, что вполне может поддержать разговор. Похоже, сэр Джошуа остался доволен своими наблюдениями, потому что неожиданно произнес:
– Не так давно, разбирая вещи в старом имении, я обнаружил забавную вещицу. Полагаю, капитану Шокли она будет любопытна.
Баронет вышел из-за стола и спустя некоторое время вернулся с небольшой шкатулкой, в которой оказался обрывок пергамента.
– Вот, взгляните, – предложил сэр Джошуа. – Кто знает, что это такое?
Изображению на пергаменте было не меньше двухсот лет. В круге, разделенном на четыре части, причудливым симметричным узором извивалась и петляла тонкая непрерывная черта, как тропа, ведущая в самый центр. Под рисунком виднелась надпись:
ЛАБИРИНТ АВОНСФОРДА
– Мне даже удалось отыскать это место, – продолжил Форест. – На холме близ особняка кольцом высажены тисы, а на поляне до сих пор чуть заметны следы именно этого изображения. Капитан Шокли, вы не скажете, что это?
Адам честно ответил, что с подобным никогда не встречался.
– По-моему, такие садовые украшения обожали во времена королевы Елизаветы, – предположил один из гостей. – Лабиринты создавали из живых изгородей.
– Вот и я так решил, – признал Форест.
Священник мельком взглянул на пергамент и покачал головой:
– Нет, сэр, вы ошиблись. Я в древностях разбираюсь. Это языческий лабиринт, созданный кельтами еще до римлян и до первых христиан – скорее всего, одновременно со Стоунхенджем.
В голосе священника звучала такая уверенность, что остальным гостям пришлось признать его правоту. Никто из них и не подозревал, что на самом деле лабиринт – творение средневекового рыцаря, бывшего владельца Эйвонсфорда.
Подали омаров и еще одно отменное вино.
Угощение пришлось Адаму по вкусу. Вино не опьяняло, однако помогало расслабиться. С каждой новой переменой блюд менялась и тема разговоров; сэр Джошуа так искусно направлял беседу в нужное русло, что гости ничего не замечали. Адам посмотрел на омаров и попытался сообразить, с чего начался разговор о земледелии, но так и не вспомнил.
– Время мелких хозяйств прошло, – говорил Форест. – С арендаторами я теперь заключаю только краткосрочные договоры и уже обзавелся разрешением парламента на огораживание трех тысяч акров на севере графства. Впрочем, не знаю, нужно ли мне это. Многие приятели меня отговаривают.
Действительно, на севере Уилтшира передел общинных земель получил широкое распространение, и крупные землевладельцы без труда добивались парламентских разрешений. Некоторые утверждали, что эта практика разоряет мелкие хозяйства, однако огороженные земли – пастбища и пашни – приносили большие прибыли.
– А вы как считаете, капитан Шокли? – неожиданно спросил Форест.
Адам вовремя заметил подвох и, не торопясь с ответом, вспомнил недавнюю беседу с Бенджамином Мейсоном.
– По-моему, перемены в сельском хозяйстве неизбежны, – наконец ответил он. – Между прочим, не следует упускать из виду и еще одно соображение. Во многих крестьянских хозяйствах женщины сидят за прялками, помогая семьям сводить концы с концами. Но сейчас появилось новое изобретение – механический прядильный станок, и вскоре о ручных прялках забудут. Расстановка сил в графстве переменится; с исчезновением мелких хозяйств потребность в общинной земле отпадет сама собой, так что возражать против огораживания будет некому. Разумеется, жалко, что исчезает старинный уклад, однако это неизбежное следствие прогресса… А вот огораживать или нет – это как вам совесть подскажет. Если от этого страдают мелкие землевладельцы, то им следует выплачивать компенсацию.
Адам Шокли умолк, весьма недовольный своей речью, хотя и понимал, что говорил чистую правду.
На гостей его слова произвели прекрасное впечатление.
– Отлично сказано, сэр, – заявил Форест.
Внезапно Адам осознал, что именно ему не нравилось, – слова его были речью политика; он высказал именно то, что хотелось услышать всем присутствующим. Совет действовать с оглядкой на совесть позволял Форесту беспрепятственно повышать арендную плату или изгонять крестьян с земель, огораживая участки.
Гости вздохнули с облегчением, расслабился даже баронет. Похоже, Адам выдержал проверку. Когда речь зашла об овцеводстве, он выразил мнение, что улучшенная порода, выведенная в Суссексе, может с успехом заменить древнюю уилтширскую. Эти его слова тоже встретили с одобрением.
Подали сладкие пироги с абрикосами и крыжовником, заварной крем и бисквит со взбитыми сливками, а для тех, кто не желал сладкого, – жареные грибы. Вино лилось рекой.
– Вы охотитесь, капитан? – осведомился священник.
– Пока не доводилось, – ответил Адам.
– Охота на лис – великолепное развлечение. У графа Арундела лучшая свора гончих во всем Уилтшире. Надеюсь, вы к нам присоединитесь. Охотники собираются в двадцати милях от Солсбери.
На десерт подали дыню, апельсины, миндаль и изюм; торжественно внесли графины с портвейном.
Гости удовлетворенно откинулись на спинки стульев, сознавая, что с честью выполнили долг всякого уважающего себя джентльмена – наелись до отвала, не утратив при этом достоинства.
После второго бокала портвейна Адам понял, что ясность мыслей сохранили только он сам, Форест и священник.
– А что вы думаете о методистах? – спросил Адам священника.
Один из депутатов парламента вмешался в разговор:
– Они слишком ревностно настаивают на реформах. По-моему, это попахивает фанатизмом.
К удивлению Адама, священник оказался терпимым в своих религиозных убеждениях.
– Видите ли, капитан Шокли, я о них лучшего мнения, чем они обо мне. Методисты утверждают, что англиканские церковники живут без забот, о вере не пекутся и мало проповедуют. – Он задумчиво пригубил портвейн. – Как ни странно, я склонен с этим согласиться. Джон Уэсли – честный человек. Предложенные им реформы пойдут на пользу Церкви. А вот его последователи… – Он с отвращением поморщился. – В отличие от самого Уэсли, они настаивают на разрыве с Англиканской церковью, поскольку им не по нраву, что Англиканская церковь стала общественным институтом. И вот с ними я совершенно не согласен. Общественные институты – оплот нравственности, духовности и порядка в государстве. Вдобавок Англиканская церковь, в отличие от реформаторов, славится своей терпимостью, – лукаво улыбнулся он и воскликнул: – Форест! Не задерживайте графин!
Шокли невольно проникся расположением к добродушному священнику.
После третьего бокала портвейна капитан Адам Шокли понял, что четвертый будет лишним. Беседа за столом теперь шла на философические темы.
– Нет, философия Аристотеля слишком сурова, – расслабленно объявил священник. – Мне больше по душе великие идеи Платона. И вообще, я разделяю взгляды епископа Джорджа Беркли. Все сущее есть порождение нашего разума.
– Извольте объясниться! – потребовал Форест.
– Видите ли, сэр, поведать о мире мы можем лишь то, что сами ощущаем. Взять, к примеру, любой предмет – мы воспринимаем его форму, цвет и вкус посредством ощущений, порождаемых нашим сознанием. Следовательно, существует он только в нашем сознании. Существовать – значит быть воспринятым. Если вы не видите предмета, значит его не существует. – Он откинулся на спинку стула и обвел гостей довольным взглядом. – И что вы мне на это возразите, а?
За долгие годы вынужденного безделья на гарнизонной службе капитан Шокли много читал, а потому знал, как именно опровергнуть постулаты епископа Беркли.
Адам стукнул по столу кулаком. Захмелевшие гости встрепенулись от неожиданности.
– Господа, я ударил по столу, и он подтвердил свое существование. Предлагаю вам проделать тот же опыт.
– Капитан Шокли, вы достойно разрешили спор! – воскликнул Форест. – Победа осталась за вами.
Когда гости начали расходиться, баронет попросил Адама прийти на следующий день, в десять утра.
Адам Шокли медленно шел по соборному подворью. Домой он возвращался в приподнятом настроении – приятно было провести вечер в цивилизованном обществе; в колониях этого очень не хватало. Над соборным подворьем догорал закат, окрашивая золотистым сиянием плывущие по небу облака и темную громаду собора; фонарщики неторопливо зажигали светильники. День уходил на покой.
А вот на душе у Адама Шокли было неспокойно. Он не мог понять, в чем дело. Слишком много вина за обедом? Неприятная компания? Случайно оброненные слова? Нет, ему не давало покоя какое-то смутное, тревожное ощущение.
Он перебирал в памяти разговоры за обедом: рыба и сплетни; курица и беседы о государстве; дичь, голуби, спаржа и обсуждение странного лабиринта; омары и огораживание; сладкие пироги и религия; портвейн и философия. В воображении образы, вкусы и ароматы яств смешивались с гомоном, смехом и голосами гостей. Что же так взбудоражило Адама?
Внезапно его осенило.
– Боже мой, что делать? – пробормотал он. – Поздно мне снова в дорогу собираться…
На следующее утро, придя к Форесту, Адам еще раз убедился в верности своих размышлений.
На этот раз его провели на второй этаж, в библиотеку – уютную комнату, отделанную в псевдоготическом стиле, с тяжелыми гипсовыми розетками на потолке; в стрельчатых арках на стенах располагались полки, уставленные книгами в кожаных переплетах. На столе лежал свежий выпуск ежемесячного журнала «Спутник джентльмена».
Сэр Джошуа Форест привстал из-за стола и предложил гостю кожаное кресло.
– Капитан Шокли, не хотите ли стать моим управляющим? Должен предупредить, что мои владения весьма обширны.
Джонатан Шокли еще вчера признался, что, прознав о желании Фореста нанять нового управляющего, обратился к баронету с просьбой взять на службу Адама.
– Тебе наверняка доскональную проверку устроили, – со смехом объяснил он сыну.
Упускать такую возможность не стоило – управляющий поместьями в трех графствах получал великолепное жалованье.
– Если захочешь, жить будешь в Саруме, станешь весьма состоятельным человеком, – напомнил отец.
Адам ответил Форесту, что должен обдумать предложение.
– Я на несколько дней отлучусь в Лондон, – сказал баронет. – А по возвращении надеюсь заручиться вашим согласием, капитан Шокли.
Адам попрощался с Форестом, в глубине души сознавая, что согласия давать не желает. Впрочем, признаться в этом отцу он не мог.
Адаму не с кем было обсудить случившееся. Разумеется, если принять чрезвычайно лестное предложение, то жалованья и денег от продажи патента будет вполне достаточно для безбедного житья. Можно даже подумать о женитьбе… А если отказаться, то все в Саруме сочтут его глупцом.
На следующий день, встретив Мэри Мейсон близ Харнгем-Хилла, он обратился к ней за советом.
– И хуже всего то, мисс Мейсон, что в Саруме я чувствую себя чужаком, – вздохнул он.
– Почему? – помолчав, спросила Мэри.
Адам Шокли задумался. Как объяснить ей, что на службе в тропиках и в ирландском гарнизоне он считал, что нет ничего лучше отцовского дома на соборном подворье? Как рассказать ей, что́ он испытал в плену, надеясь на скорейшее возвращение в родные края? Как описать чувства, пробужденные в нем беседами с американскими колонистами? Как объяснить, что за время его отсутствия знакомый мир странным образом переменился – и осознал это Адам лишь за обедом у Фореста.
– Во мне что-то изменилось, – наконец признался он. – В Новом Свете я столкнулся с воистину свободными людьми и теперь вижу, что наше цивилизованное общество слишком ограниченно. Здесь нечем дышать… – Адам умолк, пораженный своими словами. – Нет, мисс Мейсон, я не намерен менять английские порядки и не питаю политических устремлений. Но мне хочется… расширить горизонты, наверное.
– И как вы себе это представляете?
– Будь я помоложе… только умоляю, никому об этом не говорите… Будь я помоложе, я бы начал жизнь заново. Уехал бы в Америку…
Только теперь он до конца осознал смысл своих бесед с юным Хиллером. Мэри, задумчиво выслушав сбивчивый рассказ Адама, негромко произнесла:
– Капитан Шокли, мой вам совет: поступайте по велению сердца.
Попрощавшись с Мэри, Адам горько улыбнулся.
«Что ж, мисс Мэйсон, если поступать по велению сердца, то я соглашусь на предложение Фореста и возьму вас в жены», – подумал он.
Впервые в жизни он не знал, что делать.
В июне 1779 года у берегов Англии появилась еще одна армада. К Плимуту подошел объединенный франко-испанский флот – свыше шестидесяти кораблей, – не догадываясь, что защитники порта, за неимением пушечных ядер, не в состоянии выстрелить по врагу.
Сэр Джошуа Форест задерживался в Лондоне. Капитан Адам Шокли выразил готовность вступить в ополчение.
Тем временем в Саруме произошло весьма примечательное событие – при непосредственном участии Эли Мейсона.
Эли, наслушавшись городских сплетен и начитавшись сообщений о неуловимом разбойнике, решился на отчаянное предприятие. Родным он ничего не сказал, однако ему требовался сообщник, а потому он решил обратиться к капитану Шокли за содействием.
Адам, выслушав крохотного печатника, расхохотался в голос:
– Я вам помогу, с превеликим удовольствием. Надеюсь, вы понимаете весь риск своей затеи?
– Разумеется, – с достоинством кивнул Эли. – И сбережений своих не пожалею.
Теплым июньским утром из Солсбери в Бат отправилась почтовая карета.
Адам Шокли сдержал данное Эли обещание. Все знали, что капитан отправляется в Бристоль заключать важную сделку – правда, никто не догадывался, какую именно. В почтовой карете вместе с капитаном ехала престарелая дама. Среди баулов, корзин и дорожных кофров, притороченных позади кареты, находился громоздкий сундук, надежно запертый на тяжелый висячий замок.
В сундуке хранились все сбережения Эли.
Карета промчалась по Фишертонскому тракту до Уилтона, остановилась на заставе, а затем покатила вдоль берега реки Уайли, откуда дорога вела на пологий склон, к взгорью. Вот вдалеке мелькнул шпиль собора и тут же скрылся за холмом. На застывших волнах меловых гряд не было ни души, лишь по пастбищам под высоким небом бродили бесчисленные стада овец. Куда бы ни забросила судьба капитана Шокли, мысленно он всегда возвращался в родные края.
Одинокая почтовая карета вот уже час катила по дороге.
В нескольких милях от Уорминстера случилась беда.
Из рощицы неожиданно выехал всадник на гнедом коне, заступив карете путь. Произошло это с такой быстротой, что ни кучер, ни стражник с мушкетом, ни тем более пассажиры не успели сообразить, в чем дело. Даже Адам Шокли растерялся.
Лицо грабителя закрывала маска. Он распахнул дверцу, наставил на капитана дуло двуствольного пистолета и вежливо потребовал:
– Ваши деньги и драгоценности, господа.
Престарелая дама торопливо протянула ему два перстня и десять фунтов золотом. Грабитель, учтиво поблагодарив ее, обернулся к Шокли, который вручил ему золотые часы и горсть мелочи, надеясь, что этого будет достаточно.
– А теперь проверим сундуки, – объявил грабитель.
Адам обреченно вздохнул. Ну почему он не взял с собой оружия? Кто мог предположить, что стражник перетрусит?
Кучер со стражником, дрожа от страха, сгружали вещи на обочину. Грабитель оглядел тяжелый сундук и спросил у Адама:
– Ваш?
Адам кивнул.
– Ключ! – нетерпеливо велел грабитель.
«Чем бы его отвлечь…» – лихорадочно подумал Адам и замотал головой:
– Ключ у моего брата, в Бристоле.
«Может, поверит? А если не поверит, то начнет меня обыскивать, и тогда…»
Грабитель, не теряя времени, подошел к сундуку и, прострелив дужку замка, откинул крышку.
Под крышкой оказалась гора золотых монет.
– Не смей! – завопил Шокли, выпрыгивая из кареты.
Грабитель обернулся к нему.
Монеты со звоном посыпались на землю.
Грабитель удивленно поглядел на сундук.
Эли Мейсон, по пояс высунувшись из сундука, с улыбкой наставил на грабителя два пистолета.
– Бросай оружие! – невозмутимо сказал капитан Шокли.
Грабитель отшвырнул пистолет.
– Вы правы, мистер Мейсон, – с довольным видом ухмыльнулся Адам. – Ваш замысел сработал.
Спустя две недели сэр Джошуа Форест, вернувшийся из Лондона, вручил капитану Шокли и Эли Мейсону обещанную награду – пятьсот фунтов стерлингов.
– Я вам очень признателен за поимку грабителя, – заявил баронет. – Рассказом о вашем подвиге я буду развлекать гостей за обедом.
Шокли наотрез отказался от своей доли вознаграждения.
– Ваш замысел – ваши и деньги, – объяснил он Эли, но затем, поддавшись на уговоры, все-таки согласился взять пятьдесят фунтов.
Через два дня Адаму следовало дать ответ на предложение сэра Джошуа Фореста.
– Не понимаю, отчего ты так долго раздумываешь, – вздыхал Джонатан Шокли.
Грабителя, некоего Стивена Филда, уроженца Уорминстера, посадили в фишертонскую тюрьму. Дерзкий разбойник не подозревал, что дед его, служивший на постоялом дворе в Бате, был сыном Сьюзен Мейсон и Джорджа Фореста. Впрочем, это не имело значения – Филда все равно ждала виселица.
Эли Мейсон, вернувшись домой, поднялся в комнату сестры, водрузил на стол кошель с золотом и гордо объявил:
– Вот твое приданое. Выходи замуж за капитана Шокли.
На следующий день Джонатан Шокли ушел к мистеру Гаррису играть в вист; Ральф и Франсес гостили у родственников в Уилтоне. Адам остался дома один.
Неожиданно служанка объявила, что мисс Мэри Мейсон просит о личной встрече с капитаном.
Адам, ни о чем не догадываясь, пригласил Мэри в гостиную.
– Скажите, капитан, правда ли, что землю в Америке можно купить задешево? – спросила мисс Мэйсон.
– Правда.
– И за пятьсот фунтов можно приобрести неплохую усадьбу в Массачусетсе или в Пенсильвании?
– Можно.
– А за тысячу фунтов можно обзавестись и живностью?
– Да, конечно.
– И капитанский патент можно продать за полторы тысячи фунтов?
– Да, – с возрастающим недоумением ответил Адам.
– Вы по-прежнему хотите уехать в Америку?
Об этом Адам Шокли размышлял уже не первый день.
– Да, – признался он.
– И если вы уедете, то в Солсбери больше не вернетесь, так?
Он угрюмо кивнул: уезжать в одиночестве ему вовсе не хотелось.
– Возьмите меня в жены, капитан.
Адам решил, что ослышался, и удивленно заморгал.
Мэри спокойно повторила:
– Возьмите меня в жены, капитан. И как только Англия с Америкой подпишут мирный договор, мы с вами уедем отсюда.
– Вы пойдете за меня замуж? – ошеломленно пробормотал Адам.
– Да.
– Я был ранен… болел малярией…
– Ну, Пенсильвания не тропики, вам это больше не грозит.
По лицу Адама Шокли расплылась счастливая улыбка.
– Боже мой! Конечно же я на вас женюсь!
– Превосходно, – ответила Мэри Мейсон и, оглядевшись, спросила: – Где ваша спальня?
– Вот за этой дверью, – с запинкой ответил Адам. – А в чем дело?
Мэри неторопливо стала расшнуровывать корсет.
– Может быть, лучше подождать до свадьбы… – смущенно начал он.
– А зачем? – с улыбкой сказала Мэри.
Осенью выездной королевский суд приговорил двадцатишестилетнего Стивена Филда, стройного чернокудрого красавца, мошенника и грабителя, к смертной казни через повешение. Спустя неделю шериф графства известил министерство военных дел, что Стивен Филд, приговоренный к смертной казни за разбойный грабеж на дорогах, готов, в обмен на помилование, отправиться на службу в армию. Стивену Филду повезло – годом позже приговоренных преступников в армию отправлять перестали.
В 1790 году Адам Шокли, вот уже семь лет живший с женой Мэри в Пенсильвании, получил очередное письмо от отца – как оказалось, последнее.
Мой любезный сын!
Благодарю за прошлогоднее послание – я читал его с превеликим удовольствием. В Саруме по-прежнему все спокойно. Пожалуй, тебе любопытно будет узнать, что в соборе ведутся реставрационные работы под руководством архитектора Джеймса Уайетта. Старую колокольню разобрали, а на ее месте разбили газон, о чем я нисколько не жалею – теперь из окон нашего дома открывается прекрасный вид на собор. Кладбище тоже собираются засеять травой, так что на месте колдобин, ям и покосившихся могильных камней раскинутся великолепные лужайки.
В храме снесли все перегородки, выломали древние витражи, а стекло выбросили на городскую свалку, представляешь? Часовни Хангерфордов и Бошампов тоже снесли. У меня не хватает слов для описания всех нововведений и дерзких замыслов Уайетта, скажу только, что таких разрушений собор не видывал со времен Реформации. Изнутри храм стал похож на огромный заброшенный сарай – ни цветных стекол, ни радужных переливов света, один серый камень.
Все им восхищаются.
Форест обзавелся титулом лорда. Между прочим, твоего отказа он так и не простил. Насколько мне известно, он владеет хлопчатобумажными мануфактурами на севере графства, но его имения теперь настолько велики, что всего размаха его деятельности я не разумею.
Наш славный премьер-министр Уильям Питт-младший – жаль, ты уехал до начала его карьеры, – продолжает действовать с тем же рвением, что и его покойный отец. Больше всего Питта, как и всех англичан, заботит состояние государственной казны, опустошенной войной с Америкой. Теперь с нас взимают не только подоходный, но и пооконный налог, так что мне пришлось заложить одно из окон кирпичами. Вдобавок к предметам роскоши, облагаемым пошлиной, причислены не только слуги мужеска пола – которых, слава богу, я больше не держу, – но и горничные. Правда, я заверил нашу милую Дженни, что ей от места я не откажу, как бы там мистер Питт ни настаивал.
В прошлом году его величество помутился рассудком, но теперь снова пришел в себя, хотя радикалы и утверждают, что король никогда не пребывал в здравом уме.
Во Франции свершилась революция. Короля Людовика XVI и его царственную супругу Марию-Антуанетту заточили в темницу, и пока неизвестно, чем все кончится. Ходят слухи, что грядет новая эпоха. Хочется верить, что это не так.
А теперь о самом неприятном… Твоя сестра Франсес собирается замуж за некоего мистера Портиаса, молодого, но весьма состоятельного священника. Епископ Шют Баррингтон (я его уважаю, невзирая на то что он поручил реставрацию собора Уайетту) благоволит нашей Франсес, а мистер Портиас, похоже, жаждет к нему подольститься и потому сделал ей предложение. Тебе хорошо известно, что наследство ей достанется крошечное, а бедняге Ральфу – и того меньше; вдобавок ей уже минуло двадцать пять, давно пора обзаводиться семьей, так что противиться браку я не стал.
Ральф, между прочим, набрался радикальных идей, а значит, беседы с ним наверняка пойдут на пользу мистеру Портиасу, который сам умом не блещет.
Сам я, увы, постарел. Отпущенный человеку век – семь десятилетий – вот уж девять лет как миновал. Мы, Шокли, народ живучий.
Очень жаль, что ты с мистером Портиасом незнаком. Мне он доставляет огромное удовольствие.
Передай жене мои наилучшие пожелания.
Твой любящий отец Джонатан ШоклиБонапарт
1803 год
Тишину безлунной ночи нарушал лишь легкий шепот волн в гавани древнего города Крайстчерча.
Мелководный залив окружали болота, за которыми начинались торфяники и песчаные пустоши, выходящие к лесным массивам Нью-Фореста. Нигде не было ни огонька.
Пустынные окрестности не менялись вот уже многие сотни лет. Заповедные леса, в которых средневековые короли и бароны охотились на оленей, все так же простирались от побережья до самого Кларендона. В крошечных деревушках к востоку и западу от залива стояли хижины, крытые соломой, а их жители вели уединенное существование: собирали хворост в лесу и дрок на пустошах, жгли уголь и месяцами не видели чужаков. Крайстчерч, где близ развалин древней крепости высилась квадратная башенка нормандской церкви, возник в незапамятные времена в устье двух рек, Стура и Эйвона. Горожане иногда называли его древним саксонским именем Твайнхем.
День за днем, год за годом, век за веком бурные темные воды пролива подтачивали песчаник и меловые залежи побережья. Широкий мыс, выходящий далеко в море, постепенно истончался, а южная оконечность земляного вала, окружавшего кельтское городище, сползла на прибрежную гальку. Пологий холм на мысе тоже не устоял перед натиском ветров, дождей и волн; с моря казалось, что его обрезали ножом. Мыс и песчаная коса по-прежнему защищали от бурь и тихие воды гавани, и бухту, где покачиваются рыбацкие лодки, и лебединые гнездовья, и цапель на болотах.
Изменилось только название мыса – некий знаток древностей решил, что кельтское городище на самом деле было крепостью Хенгиста, легендарного правителя саксов. В выдумку поверили, и мыс получил гордое имя Хенгистбери-Хед.
Волны с тихим плеском накатывали на пустынный берег.
По другую сторону пролива, в портах Северной Франции, готовилась к выходу в море армада грозных военных кораблей. Больше всего жители Крайстчерча боялись, что однажды темной ночью проклятые французы нападут на англичан.
Для страха у них были все основания – армия Наполеона Бонапарта слыла непобедимой, британским войскам и местному ополчению с ними не справиться.
А виной всему была Французская революция.
Разумеется, и среди англичан нашлись защитники эпохи свободы, равенства и братства; именно за нее ратовали радикальные виги во главе с Чарльзом Джеймсом Фоксом и восторженные романтики, которые, как Уильям Вордсворт, верили, что настала эра счастья и всеобщего благоденствия. Впрочем, ликование прекратилось с первым ударом ножа гильотины. Суд и казнь царствующей четы, убийства аристократов, а затем военные победы Бонапарта вселили ужас в сердца англичан. Французские войска покорили Италию, захватили Египет, и если бы адмирал Горацио Нельсон не разгромил французский флот, то Бонапарт, по примеру Цезаря и Александра Македонского, беспрепятственно прошел бы через всю Азию до самой Индии.
Когда Наполеон захватил Голландию, принадлежавшую Габсбургам, то в его владениях оказалось все европейское побережье пролива. В Европе ненадолго воцарился хрупкий, непрочный мир. Единственный человек, способный защитить Англию от бурь, бушевавших в Европе, величайший государственный деятель Великобритании Уильям Питт-младший подал в отставку, потому что Георг III отказался уравнять в правах протестантов и ирландских католиков.
И вот теперь снова возникла угроза войны. Бонапарт, готовясь к вторжению в Англию, собрал у берегов пролива целую флотилию транспортов и гребных судов. Великобритания, оставшись без союзников, полагалась только на мощь своего флота.
В темноте раздался еле слышный звук – тихий плеск воды, скрежет весла в уключине, почти неотличимый от шепота волн на илистом берегу залива.
Питер Уилсон терпеливо стоял у телеги, ожидая появления люгеров – быстроходных суденышек с длинным узким корпусом и низкими бортами, без палубы, лишь с настилом на корме и на носу, оснащенных не только мачтой с фок-парусом, но и веслами, что позволяло им с легкостью уходить от преследования таможенных катеров.
– Вот и товар луноловам пришел, – прошептал юный контрабандист.
Впрочем, обвинять в постыдном занятии одного Питера было бы нелепо. В окрестностях Крайстчерча все, от богачей Уилсонов до самого бедного крестьянина, так или иначе были причастны к контрабанде. Контрабандой промышляли и все родичи Питера, близ кие и дальние, – среди мореходов и рыбаков их было бесчисленное множество; селились они по берегам рек, на морском побережье и в деревушках на пустоши; одни вели свой род от незаконных отпрысков капитана Джека Уилсона, другие – бог знает от кого; внешне они друг на друга не походили. Отца Питера прозвали Пронырой Уилсоном; он слыл человеком удачливым и незаконным промыслом вполне мог прокормить своих десятерых детей, однако слава его не шла ни в какое сравнение с великим Айзеком Гулливером, королем контрабандистов. Именно Айзеку Гулливеру принадлежала сегодняшняя партия товара, которую тайно провезут на запад, через прибрежные пустоши и леса на плато Кранборн-Чейс, до самого Сарума.
Питер, прекрасно знавший мыс и его окрестности, всегда встречал люгеры с контрабандным товаром на Хенгистбери-Хед и мог даже самой темной ночью с закрытыми глазами провести телеги с бочонками рома и бренди по неприметным тропам.
Люгеры пристали к берегу; матросы принялись споро выгружать тюки табака и бочонки бренди, рома и голландской можжевеловой водки, именуемой в Англии джинивер, или джин. За четверть часа все погрузили на двадцать телег. Обоз, охраняемый вооруженными стражниками, медленно двинулся на запад. Таможенные чиновники на суше к контрабандистам не приставали, и преступники часто перевозили товар даже при свете дня.
Больше всего правительству досаждал не незаконный ввоз спиртного и не помощь влюбленным беглецам, бежавшим на остров Джерси – жениться вопреки желаниям родных. Хуже всего было то, что контрабандисты платили французским поставщикам английским золотом, которого казне и без того не хватало; еженедельно к французам уходило более десяти тысяч гиней. Вдобавок контрабандисты не гнушались снабжать противника сведениями о состоянии английского флота и о мероприятиях по обороне страны.
Юный Питер Уилсон обо всем этом не подозревал. Назавтра ему предстояло получить щедрую плату за ночные труды. На вырученные деньги он сможет купить венчальное кольцо и через неделю, в день своего девятнадцатилетия, отпраздновать свадьбу. Теперь главное – доставить товар луноловам.
Неизвестно, когда именно жителей Уилтшира стали звать луноловами, хотя вполне очевидно, что в возникновении прозвища повинен контрабандный промысел.
Однажды уилтширские контрабандисты, спасаясь от таможенников, свалили свой груз в пруд, а чуть погодя, решив, что опасность миновала, вооружились граблями и шестами и начали вылавливать бочки из воды. Неожиданно вернувшиеся таможенники грозно осведомились, чем это уилтширцы занимаются посреди ночи.
– А мы тут голову сыра в пруду нашли, теперь вот вытаскиваем. Не пропадать же добру, – ответили сообразительные преступники, невозмутимо водя граблями по отражению луны в воде.
«Простофили они, эти уилтширцы», – решили таможенники и оставили контрабандистов в покое.
Жители Уилтшира всегда умели прикидываться простаками, особенно если в их дела вмешивались правительственные чиновники.
«Эх, завтра наилучшее кольцо выберу…» – довольно вздохнул Питер.
Доктор Таддеус Барникель остановился у порога.
Входить или не входить? Наверное, придется – владелец особняка сам попросил доктора о срочной встрече.
Доктор встревоженно поглядел на дверь, пытаясь унять предательскую дрожь и согнать смущенный румянец со щек. Ох, лишь бы ничем себя не выдать!
В конце концов, его пригласили по особо важному делу, требующему чрезвычайной осмотрительности. Он же доктор! К щекотливым просьбам ему не привыкать…
И все же он медлил.
Теплые лучи солнца разогнали утренний туман; на соборном подворье деревья с тихим шелестом роняли пожелтевшую листву, легкий северный ветер гонял палые листья вдоль дорожек, сметал их в груды на лужайке певчих и у каменной сторожки близ южных ворот, выходивших к старому мосту.
Соборное подворье осенью, перед Михайловым днем, всегда вызывало у доктора Таддеуса Барникеля приступ смутной меланхолии; широкие лужайки и очаровательные старинные особняки под сенью величественного храма навевали грустные мысли об уединении и покое. Перелетные птицы – ласточки, стрижи, воронки и скворцы – давно улетели на зимовку в теплые края, на подворье остались лишь воробьи, дрозды и галки, важно расхаживавшие по зеленым лужайкам под платанами; в ветвях старых вязов хрипло кричали грачи, похожие на каноников в строгих черных одеяниях, а в синем небе над шпилем торжественно кружили пустельги, устроившие гнездо где-то на крыше собора.
Осеннее солнце заливало мягким светом золотистые кроны деревьев, изумрудные лужайки и древние серые камни, поросшие темно-зеленым мхом, позеленевшую от времени свинцовую крышу собора, кирпичные стены особняков, крытых красной черепицей, белую штукатурку фасадов и вездесущие лишайники – ядовито-зеленые, желтые, ржаво-красные, багровые, лиловые, бежевые, они заполняли все трещинки и расщелины в камнях кладбищенской ограды, льнули к старым стенам домов и облепляли булыжники мостовой.
Доктор Барникель знал, для чего его пригласили.
Три месяца назад его уже просили побеседовать с молодым человеком.
Доктор Барникель просьбу исполнил.
Разговор был долгим – и напрасным.
Доктор Барникель изложил суть затруднений, предупреждал, убеждал, умолял – и все впустую. Поначалу его собеседник отвечал уклончиво, а потом расхохотался и посоветовал доктору не вмешиваться в чужие дела.
– Неужели вы не понимаете, чем это чревато?
– Нет, доктор, не понимаю.
– Подумайте хотя бы о жене! – не выдержал доктор. – Вы ее очень расстраиваете!
– Она тоже к вам за помощью обращалась?
– Только потому, что она обеспокоена вашим поведением.
– Доктор, – со сдержанным гневом сказал молодой человек, – прошу вас, не вмешивайтесь в дела, которые вас совершенно не касаются. Никаких поводов для опасений нет.
Увы, ничего большего доктор Барникель не добился.
Доктор Таддеус Барникель стоял перед дверью внушительного кирпичного особняка на северной стороне подворья.
В особняке жил каноник Портиас со своей женой Франсес. Доктора Барникеля не пугали ни каноник, ни его жена, ни тем более молодой человек. Медлил он лишь потому, что боялся встречи с ней…
Вот уже минуту он стоял у двери.
Из-за угла выскользнул сухощавый юноша, в котором доктор Барникель признал Питера Уилсона. Судя по всему, юный контрабандист доставил через черный ход какой-то незаконный товар.
– Что ж, без бренди даже священники не обходятся, – усмехнулся доктор и решительно вошел в дом.
Таддеус Барникель приехал в Сарум из деревушки к северу от Оксфорда, поселился в скромном доме на Сент-Энн-стрит и вскоре приобрел репутацию замечательного врача.
Нравом он был покладист и добродушен, ко всем относился с заботой и лаской и никогда не гневался; он вышел из себя единственный раз в жизни, да и то двадцать лет назад, когда увидел, как прохожий колотит тростью щенка. Пятнадцатилетний юноша, побагровев от ярости, с ревом кинулся на обидчика и повалил его на землю, а потом подхватил изувеченного щенка на руки и ушел, провожаемый растерянными взглядами окружающих.
Щенок, получивший имя Черныш, прожил у Таддеуса десять лет.
К тридцати пяти годам доктор Таддеус Барникель – хорошо сложенный, широкоплечий, чуть выше среднего роста, с рано поредевшей шевелюрой – сохранил способность краснеть в присутствии дам и, как ни странно, до сих пор не был женат.
– Чудна́я у вас фамилия, Барникель, – заметил как-то епископ Джон Дуглас. – Вам известно ее происхождение?
– Кажется, что-то датское, – смущенно ответил доктор: он слышал рассказы о викинге, который бросался в бой с криком «Барни-кель!», но считал их выдумками.
Она сидела в гостиной, рядом с Франсес Портиас, и вышивала на пяльцах.
– Ах, доктор Барникель, мой муж еще не вернулся, – вежливо произнесла Франсес. – Мы ждем его с минуты на минуту. Прошу вас, посидите с нами.
Барникель поклонился, устремив взгляд на миссис Портиас и стараясь не отводить глаз.
Четырнадцать лет назад Франсес Шокли, веселая и бойкая девушка, любимица всех обитателей соборного подворья, вышла замуж за каноника Портиаса. Отец ее дал согласие на брак, но предупредил дочь:
– Ты своего мужа вряд ли изменишь. Боюсь, как бы он тебя не изменил.
Франсес познакомилась с доктором Барникелем на четвертом году замужества; к этому времени в ее взгляде мелькало несчастное выражение, тайная скорбь по утраченной резвости; однако десять лет спустя исчезло и оно. Бездетная Франсес Портиас превратилась в респектабельную матрону.
– Надеюсь, Портиас с тобой не груб, – сказал перед смертью Джонатан Шокли.
– Отнюдь нет, – вздохнула Франсес. – Он ведет себя вполне пристойно.
Сейчас она, чинно выпрямившись в кресле, сосредоточила внимание на вышивке.
Взгляд Барникеля то и дело обращался к ее соседке.
Агнеса Брейсуэлл, двадцатипятилетняя темноволосая смуглянка, широколобая и веснушчатая, красавицей не слыла; она носила очки, а улыбка ее открывала чуть скошенные передние зубы; впрочем, при этом на щеках возникали очаровательные ямочки, что делало Агнесу очень милой; не портил ее и чрезмерный пушок на предплечьях. Отец Агнесы, майор, служил в одном из пехотных полков и дочь обожал.
Она поселилась в Саруме три года назад. Ее появление разбило сердце доктору Барникелю. Агнеса была женой Ральфа Шокли.
Ральф Шокли, ровесник доктора Барникеля, служил школьным учителем, но вел себя с такой юношеской горячностью, что все забывали о его возрасте. Агнеса не устояла перед его мальчишеским очарованием и бойкими речами; Таддеуса они утомляли, хотя он втайне и корил себя за предубеждение.
Дом на Нью-стрит, в котором жили Ральф и Агнеса Шокли, нуждался в ремонте, и Франсес с позволения мужа пригласила брата пожить у них, в особняке на соборном подворье. Агнеса поначалу отказалась, но Ральф, настояв на своем, приглашение принял.
Узнав об этом, Барникель понял, что добром дело не кончится. Скорее всего, этим и объяснялся срочный вызов к Портиасам.
Доктор поглядел на обеих женщин. Знают ли они, зачем он пришел?
Под громкое тиканье высоких напольных часов в коридоре доктор завел вежливый разговор. В солнечном луче, пересекавшем гостиную, танцевали золотистые пылинки; с портрета на стене угрюмо глядел каноник Портиас. Иглы, зажатые в тонких женских пальцах, ловко прокалывали полотно; грудь Агнесы Шокли чуть заметно вздымалась и опадала.
Не красавица…
«Да я и сам красой не блещу…» – подумал доктор Барникель.
Отчего же всякий раз при виде Агнесы в нем пробуждалось острое желание ее защитить? Почему в разговорах с ней возникало совершенное понимание? Отчего ему так хотелось сжать ее в объятиях и поцеловать?
«Ах, если бы…» – вздыхал он про себя.
Ах, если бы она не встретила этого очаровательного болтуна!
В узком кругу светского общества Сарума доктор Барникель и Агнеса Шокли встречались часто. Бедняга Таддеус отчаянно скрывал свою безнадежную привязанность, но она никуда не исчезала.
«Я безнадежно постоянен…» – горько посмеивался он над собой.
Медленно тянулись минуты. Наконец в гостиную вошел каноник.
– Доктор, я рад вас видеть. – Он чинно поклонился гостю и добавил: – Пройдемте ко мне в кабинет, нам надо поговорить.
Барникель со вздохом последовал за ним.
– Я не желаю быть слишком суров, – мрачно изрек Портиас, сверкнув черными глазами. – Мне следует проявить сострадание.
Слова его прозвучали глухим похоронным звоном.
Никодемус Портиас был столпом общества – праведным, несгибаемым и тощим как жердь. Жиденькие волосы, поседевшие на висках, были коротко острижены на макушке, но завивались локонами с боков. Узкий вытянутый череп каноника великолепно подходил для пышных париков; к сожалению, лет пятнадцать назад мужские парики и пудреные волосы стали выходить из моды, а Французская революция и вовсе положила этому конец. Издали Портиас походил на чахлое деревце с облетевшей листвой. Черные шелковые чулки и черные панталоны обтягивали худые ноги; из-под застегнутого на все пуговицы черного сюртука чуть выглядывал крахмальный шейный платок, заложенный двумя строгими складками, на клерикальный манер.
Каноник Портиас прослыл человеком осмотрительным. Когда настоятель с одобрения капитула предложил канонику и миссис Пор тиас, тогда еще молодоженам, переехать в особняк на соборном подворье, Никодемус Портиас потратил целый день на осмотр дома, вычисляя, не заденет ли его шпиль собора, если вдруг обвалится.
– Что ж, можно въезжать, – объявил он Франсес. – Если шпиль и обрушится, то футах в пятидесяти от нас.
Никодемус Портиас, человек дотошный и обстоятельный, в девятнадцать лет, будучи безвестным студентом Оксфордского университета, совершил поразительное открытие (именно так он об этом и рассказывал): фамилия Портерс, которую носил его отец, владелец суконной мануфактуры на севере Уилтшира, представляла собой искаженное древнее имя Портий. Из уважения к древности Никодемус тут же сменил фамилию на Портиас; вдобавок «древнее» написание возвышало его над родственниками – представителями торгового сословия, потому что Никодемус больше всего мечтал стать джентльменом. Радости его не было границ, когда в соборной библиотеке он совершил еще одно поразительное открытие: в Солсберийском соборе некогда служил каноник Портеорс – наверняка еще одно искажение имени Портий.
– Вполне возможно, что Портии, как и Пуры, издревле неразрывно связаны с историей Сарума, – с затаенной гордостью предположил он и со временем сам в это поверил, совершенно не подозревая о своей правоте: ведь он происходил из рода тех самых Портиев, точнее, ле Портьеров, что в Средневековье, спасаясь от эпидемии чумы, бежали из Солсбери на север.
В довершение всего был он человеком весьма наблюдательным. В Сарум он приехал с деньгами, но без друзей и вскоре заметил, что Франсес Шокли – любимица епископа и, хотя и бесприданница, но, бесспорно, дочь джентльмена. Если взять ее в жены и взять под опеку ее младшего брата Ральфа, то у епископа наверняка сложится хорошее впечатление о Никодемусе Портиасе, что благоприятно скажется на его дальнейшей карьере. Поразмыслив, Никодемус начал ухаживать за Франсес, и она согласилась выйти за него замуж.
На переломе XVIII века, в эпоху вседозволенности и распущенности, Никодемус Портиас с великим усердием исполнял свои обязанности по службе, относился к жене с подобающим уважением и опекал ее брата с необычайным тщанием, а потому к началу нового столетия удостоился назначения на пост каноника. Более всего каноник Портиас жаждал стать настоятелем Солсберийского собора – из всех церковных должностей в епархии эта считалась самой выгодной. Некогда, в Средние века, обширные угодья епархии приносили немалые прибыли, и, хотя сейчас епархия захирела, настоятель собора по-прежнему получал две тысячи фунтов в год – весьма приличную сумму даже для человека состоятельного.
– На такие деньги можно жить, как подобает истинному джентльмену, – объяснял Никодемус жене.
Вдобавок настоятель был вхож в светское общество – его принимали если не в круге знакомых графа Пемброка или графа Раднора, то уж точно у лорда Фореста. Таким образом, должность настоятеля доставляла не только материальное, но и моральное удовлетворение, возвышая и укрепляя положение ее носителя в свете. Поэтому к ежевечерним молитвам в спальне – о сирых, хворых и путниках – каноник Портиас украдкой добавлял еще одну сокровенную мольбу:
– Господи, сделай меня настоятелем!
Неудивительно, что каноника весьма беспокоило поведение шурина Ральфа Шокли.
– Должен признаться, доктор, временами он меня раздражает, – сказал он Барникелю. – Увы, мой христианский долг – терпеливо сносить его выходки. Однако же его необдуманные поступки и вольные суждения наталкивают на мысли о… – Каноник тяжело вздохнул и сурово продолжил: – О помрачении рассудка. Меня тревожит его душевное состояние. А каково придется его несчастной жене и детям? – Он опустил бледную длань на толстый том проповедей, будто стараясь почерпнуть в них мудрость и терпение. – Он ведь должен осознать, что я о его же благе пекусь и щедротами своими не оставлю…
Барникель согласно кивнул и отвел глаза – о благодеяниях каноника еще никому не удавалось забыть.
– Моим кротким советам он не внемлет… – добавил Портиас.
– Понятно, – вздохнул доктор.
– Прошу вас, отобедайте с нами, побеседуйте с ним, а затем не сочтите за труд поделиться со мной своими умозаключениями.
Барникелю совершенно не хотелось этого делать, но отказать канонику он не мог.
– А в чем выражается это самое помрачение рассудка? – полюбопытствовал он.
– Ах, вы сами сейчас все увидите! – воскликнул Портиас, трагически заламывая тощие руки. – Слышите? Он только что пришел…
Люди, незнакомые с чувствительной натурой каноника, поначалу ничего особенного не заметили бы.
В дом Ральф вошел в приподнятом настроении. Светлые волосы растрепались на ветру, сюртук был припорошен мелом, в панталонах виднелась невесть откуда взявшаяся прореха, а галстук-крават, тщательно повязанный утром, донельзя измялся. Не обращая внимания на укоризненный взгляд каноника, Ральф поздоровался с присутствующими и ушел в детскую, где провел не меньше четверти часа, хотя всех пригласили обедать.
К столу он явился, так и не переодевшись.
Провожая доктора Барникеля в столовую, Агнеса встревоженно шепнула ему на ухо:
– Прошу вас, не дайте им повздорить!
– И часто они ссорятся?
– День ото дня все хуже и хуже. Я места себе не нахожу от страха. Добром это не кончится… – Она умоляюще взглянула на доктора.
Ради Агнесы доктор Барникель в одиночку сразился бы с наполеоновской армией.
Поведение Ральфа Шокли объяснялось просто. Французская революция свершилась, когда юноше не было и двадцати. Как и многие молодые люди того времени, он, поддавшись влиянию радикальных идей, восторженно решил, что грядет новая, счастливая эпоха. Даже сейчас, спустя много лет, он время от времени выражал реформистские взгляды – упоминал о необходимости упразднить гнилые местечки и настаивал на религиозной терпимости. Ничего ужасающего в этом не было.
Ошибка Ральфа заключалась в том, что он не мог удержаться от подшучивания над своим зятем, который, будучи закоснелым консерватором, полагал подобные взгляды крамолой и страшной ересью. Ральф и не подозревал, что за эту невинную ошибку ему придется расплачиваться.
Обед начался в непринужденной, дружелюбной обстановке. Ральф, по обыкновению, первым завел разговор:
– Я тут наших родственников навестил, Мейсонов…
Портиас недовольно поморщился.
Дело было не в том, что Даниэль Мейсон, как и отец его, Бенджамин, был методистом, – к последователям учения Джона Уэсли каноник относился с большей терпимостью, чем к баптистам или квакерам. Увы, Мейсоны принадлежали к презренному торговому сословию, а Ральф не упускал возможности всякий раз подчеркнуть родство с ними.
– Вообще-то, они нам не родня, – холодно заметил Портиас.
– Как же не родня? – добродушно возразил Ральф. – Мой брат Адам женился на Мэри Мейсон. К Мейсонам я питаю самые теплые родственные чувства, хоть мы и не связаны кровными узами.
Портиас обиженно промолчал.
– Так вот, Даниэль Мейсон говорит, что торговля сукном идет как нельзя лучше, – беспечно продолжал Ральф. – По-моему, доктор, в этом заслуга Наполеона. Его бесконечные войны в Европе дали Англии возможность укрепить позиции на мировом рынке. Знаете, доктор, – со смешком заметил он, – учительствовать мне надоело. Может, лучше в суконщики податься? А, сестрица?
Франсес еле слышно вздохнула.
Портиас угрюмо насупился.
Подали форель.
– Маловата рыбка, – огорченно заметил Ральф.
– Какая есть, – сухо ответил Портиас.
– Рыба превосходна! – откликнулся Барникель.
Франсес благодарно взглянула на него.
– Ах, доктор, вы видели недавнюю карикатуру Джеймса Гильрея? – спросила Агнеса.
Политические и социальные карикатуры Гильрея пользовались огромной популярностью и в то время продавались повсеместно. Барникель немедленно стал описывать одну из них, высмеивавшую либеральную оппозицию вигов.
Обсуждение искусства и литературы несколько смягчило суровость каноника. Речь зашла о поэмах сэра Вальтера Скотта и о статьях в литературно-публицистическом консервативном журнале «Ежеквартальное обозрение», о лирических стихотворениях Уильяма Вордсворта и о поэме Самюэля Кольриджа «Сказание о Старом мореходе». Портиас упомянул о гравюрах и литографиях Рудольфа Аккермана и о великолепном «Справочнике краснодеревщика», недавно изданном мебельным мастером Томасом Шератоном. Агне са умело направляла приятную беседу, в которой приняла участие даже Франсес.
Как ни странно, скандал разразился в ходе разговора, заведенного самим каноником. Все началось с того, что Франсес неосмотрительно вспомнила о письме, полученном от семьи покойного брата в Америке.
– Надеюсь, они в добром здравии, – натянуто улыбнувшись, сказал Портиас.
К родству с торговцами Мейсонами каноник относился неприязненно, однако американскую ветвь семейства Шокли все-таки признавал. Тому было две причины: во-первых, Шокли из Пенсильвании, прямых родственников жены, следовало уважать, невзирая на нелюбовь к утраченным мятежным колониям; во-вторых, жили они так далеко, что никаких неудобств своим существованием не доставляли. Поэтому каноник всегда отзывался о родне доброжелательно и даже иногда вспоминал их имена.
– Старшего сына отправили учиться.
– Рад слышать, – вежливо отозвался Портиас, а затем, решив, что ему представился удобный случай, многозначительно взглянул на Барникеля и заметил: – Мой шурин считает, что американцам повезло больше, чем англичанам.
Франсес и Агнеса встревоженно переглянулись.
– Я в этом отнюдь не уверен, – с улыбкой сказал Ральф. – Хотя, следует признать, в отличие от нас, американцы не отменяли закона о неприкосновенности личности. С другой стороны, они не могут похвастаться таким великим государственным деятелем, как Уильям Питт, – шутливо добавил он.
Барникель улыбнулся, по достоинству оценив шутку. Действительно, во время Французской революции Уильям Питт-младший, опасаясь распространения крамольных идей, приостановил действие древнего закона о личных правах и неприкосновенности личности, без суда и следствия заключил в тюрьму множество издателей, литераторов и проповедников, а также приравнял к государственной измене частную переписку с французами, запретил любые собрания, на которых присутствовало бы более пятидесяти человек, и ввел закон, не позволявший работникам объединяться для борьбы за улучшение условий труда.
Портиас, побледнев от гнева, напряженно вцепился в столешницу – критических замечаний в адрес Питта, героя отечества, он не выносил.
Доктор Барникель поспешил разрядить обстановку:
– Вы правы, Ральф. Однако же, смею заметить, эти временные меры, вызванные небезосновательными опасениями, были совершенно необходимы.
– Разумеется, – улыбнулся Ральф. – Однако же запрет личных свобод, пусть и временный, оправдать трудно.
– Возможно, – признал доктор и удовлетворенно добавил: – Однако же все разрешилось ко всеобщему удовольствию. Мир восстановлен.
– Боюсь, Ральф мистера Питта недолюбливает, – холодно заметил Портиас, с трудом сдерживая гнев.
– Вовсе нет, – добродушно возразил Шокли. – Я с большим одобрением отношусь ко многим его начинаниям. К примеру, всем известно, что он ратует за отмену рабства и за равноправие католиков. А если рабство отменят, то я первым признаю, что Англия, вне всяких сомнений, превосходит Америку.
В самом деле, Питт подал в отставку, когда Георг III отказал католикам в праве голосовать и занимать государственные должности; вдобавок он всецело поддерживал своего близкого друга Уильяма Уилберфорса, борца за отмену рабства и гневного обличителя работорговли. Ральф, прекрасно зная, что именно эти взгляды великого Питта вызывают недовольство Портиаса, не упускал случая поддеть зятя.
Барникель с сожалением признал, что и сам бы не выдержал долгого общения с напыщенным каноником, однако, перехватив умоляющий взгляд Агнесы, попытался примирить собеседников.
В столовой воцарилось неловкое молчание. Доктор Барникель, приглашенный на обед с тем, чтобы лично засвидетельствовать помешательство Ральфа Шокли, покамест убедился лишь в косности взглядов самого каноника.
Когда подали ростбиф, Барникель завел разговор о дуэлях в Оксфорде и рассказал о своей недавней поездке в Брайтон, где принц Уэльский решил построить свою загородную резиденцию, впоследствии получившую название Королевский павильон.
– Принц слишком расточителен, – печально заметил Портиас.
– Да, вы правы, – подтвердил доктор. – Однако его дворец весьма необычен – в восточном стиле, будто для махараджи или турецкого паши.
– И гарем там тоже есть? – неожиданно спросила Франсес, не обращая внимания на укоризненный взгляд мужа.
– Да, наверное, – рассмеялся доктор.
Однако все попытки уклониться от опасных тем ни к чему не привели. Каноник сурово окинул взглядом присутствующих и негромко произнес:
– Смерть его величества Георга Третьего будет невосполнимой утратой для страны. Вместе с королем угаснет надежда…
Ральф Шокли возмущенно сверкнул глазами.
– Вот с этого все и начинается, – шепнула Агнеса доктору.
– Какая надежда? – вкрадчиво спросил Ральф.
– Надежда на сохранение нашей незыблемой державы, сэр, – отрезал каноник.
Агнеса обреченно вздохнула.
– Значит, вы противник перемен? – мрачно осведомился Ральф.
– Совершенно верно. Особенно мне не по нраву религиозная терпимость, которая подрывает устои Англиканской церкви.
– По-вашему, и реформы парламента проводить не стоит? Олд-Сарум отправляет в парламент двух депутатов, которые покорно исполняют повеления владельца этого гнилого местечка, а тем временем города на севере графства остаются без представительства.
– Депутаты обязаны быть верными слугами его величества, независимо от того, кто и как избирает их в парламент, – возразил каноник.
– Тем временем в Англии голодают бесправные бедняки, а в колониях процветает работорговля! Где же ваша хваленая справедливость? – возмутился Ральф.
Портиас, добившись желаемого, смолчал, только на побелевших скулах заходили желваки. Ральф, раскрасневшись от ярости, с отвращением пожал плечами, вопросительно взглянул на Барникеля и снова обратился к канонику:
– Я не желаю поддерживать деспотическую монархию! Я сторонник Чарльза Джеймса Фокса и готов к борьбе за права человека. Похоже, Англии революция не помешает.
За столом воцарилось зловещее молчание. Женщины опасливо переглянулись.
– И не стыдно тебе такое говорить! – упрекнула мужа Агнеса. – Бонапарт вот-вот на нас войной пойдет!
– А чего стыдиться?! По-моему, вполне очевидно, что Англия – страна, где господствует тирания, где право голоса имеют лишь высокопоставленные особы, где не существует религиозных свобод, где бедняки бесправны! Да, Французская революция породила жестокий террор, но изначально она основывалась на справедливых принципах свободы, равенства и братства. Я свято верю в эти принципы! – вскричал Ральф Шокли.
Портиас многозначительно посмотрел на Барникеля.
Агнеса снова обратила на доктора умоляющий взгляд.
Таддеус Барникель, собравшись с духом, предложил:
– Ральф, с вашего позволения, я попробую разрешить этот спор. Надеюсь, каноник, мои доводы вы сочтете резонными. – Доктор немного помолчал, собираясь с мыслями: с кем согласиться? кому и что возразить? – Французы свергли короля-деспота, – уверенно начал он. – Но в Англии права и свободы, пусть и несовершенные, принадлежат не тирану, а проистекают из древних традиций и ценностей, унаследованных от предков. Наше государственное устройство и наша неписаная конституция основаны на принципах саксонского общего права, на положениях Великой хартии вольностей, на законах, принятых парламентом. Монарх правит страной согласно Биллю о правах, принятому в результате Славной революции. Следует ли нам бездумно отказаться от духовного наследия ради утопической идеи, которая на практике недостижима? Я считаю, что не следует. Такого мнения придерживается большинство англичан. Наша монархия, наша Англиканская церковь – древние, благородные основания, на которых зиждется общество; они выражают сущность английской нации. Если их отвергнуть ради умозрительных совершенных свобод, то все будет утрачено: преемственность, естественное развитие, культурное наследие, духовные ценности. Именно подобное отторжение и порождает тиранию.
Таддеус Барникель излагал мнение великого философа Эдмунда Берка, высказанное им в труде «Размышления о революции во Франции». Подобные воззрения были характерны для большинства консервативно мыслящих англичан и выражали своеобразный политический компромисс, представляя собой квинтэссенцию воззрений Старого Света, берущих начало в феодальной деревне, средневековой гильдии, местных судах и городских советах, для которых свободы, права и вольности принадлежали общине, в отличие от бытующего в Новом Свете мнения, что прежде всего следует принимать во внимание свободы и права отдельной личности.
Барникель смущенно умолк – он не привык произносить речи.
– Превосходно сказано, доктор! – восхитилась Агнеса.
Он смутился еще сильнее.
Портиас, все еще дрожа от бешенства, отвесил доктору неловкий поклон, засвидетельствовав свое одобрение услышанного.
– Глупости! – воскликнул Ральф. – Томас Пейн опроверг все эти нелепые доводы в своем трактате «Права человека». Каждое новое поколение избирает свою систему правления. Те, кто верит в существование естественных прав человека, осознают, что единственной справедливой системой правления является демократия, при которой право голоса имеет каждый. Если древние традиции такого не предусматривают, то их надо безжалостно искоренять!
Барникель хотел было его остановить, но Ральф не унимался:
– Монархия, аристократия, гнилые местечки, официальная Церковь не имеют никакого отношения к демократии. От них давным-давно пора избавиться!
Выражать подобные революционные взгляды в присутствии каноника было совершенным безумием. Барникель удрученно закрыл лицо ладонями.
– Такие речи равносильны государственной измене, – зловеще прошипел Портиас. – Они направлены против короля и против Церкви!
– Вот именно, против Церкви! – возмущенно повторил Ральф. – Со скольких бенефициев вы получаете доход, каноник, – с пяти, с шести?
Несмотря на строгие ограничения, связанные с количеством и расположением приходов, переданных в управление одному священнику, Портиас обзавелся тремя бенефициями, а потому замечание Ральфа вывело его из себя.
– Вы от этих денег не отказывались, когда я за ваше обучение в Оксфорде платил! – взвизгнул каноник.
– По-вашему, это дает вам право распоряжаться моими убеждениями? – пылко возразил Ральф.
Портиас поднялся из-за стола, дрожа всем телом так, что зазвенело столовое серебро:
– Аспид! Неблагодарный предатель! Изменник! Убирайся отсюда немедленно!
Опасность, грозящую Ральфу, осознал только доктор Барникель.
Все в Крайстчерче окутала темнота: и нормандскую церковь с круглыми широкими арками и квадратной башней, и развалины старой крепости на холме у аббатства, и тихие воды Эйвона, неторопливо текущие к гавани у мыса, и белых лебедей в гнездовьях на речной излучине. Темноту не разгоняло ни тусклое мерцание свечей, пробивавшееся сквозь затворенные ставни домов, ни одинокий фо нарь на углу улицы, бросавший дрожащий круг света на булыжники мостовой.
Захмелевший Питер Уилсон вышел из шумного трактира, постоял на ярко освещенном пороге, вглядываясь в темноту, и пошел по узкой улочке к дому. Дверь за ним захлопнулась, над улицей снова сомкнулись густые тени, потревоженные светом и гомоном голосов.
Питер был доволен жизнью – на деньги, вырученные за доставку контрабанды, он купил кольцо и теперь, пьяно улыбаясь, теребил его в кармане.
За углом тени сгустились, внезапно обступив юношу со всех сторон; одна из теней обрела четкие очертания, и грубая мужская рука зажала Питеру рот.
Не раздумывая, юноша впился зубами в заскорузлую ладонь.
– Ах ты, щенок! – приглушенно выругался мужской голос.
На висок Питера обрушился тяжелый удар.
Юноша осел на землю; в глазах потемнело, голова загудела, наливаясь болью. Кисти рук стянула веревка.
– Вербовщики! – простонал Питер, запоздало сообразив, что происходит.
– Верно, – буркнул кто-то над ухом. – Не дергайся, а то снова дубинкой угостим.
– Но у меня свадьба!.. – возмущенно выкрикнул он.
Вокруг захохотали.
– Ничего, мы тебя с морем обвенчаем. Да тише вы! Вон еще один идет…
Связанные руки ныли.
После разразившегося скандала Ральф на время поселился у Барникеля, а Агнеса с детьми осталась в особняке Портиасов.
За ужином Ральф весело заявил доктору:
– Старый сухарь быстро одумается.
– По-моему, вам следует перед ним извиниться, и чем скорее, тем лучше, – посоветовал ему Барникель.
– А он передо мной извинится? – со смехом осведомился Ральф.
– Вы же сами виноваты. Не стоило его злить.
На следующий день Ральф, позабыв о ссоре, ушел на службу в школу.
Вечером его навестила Агнеса.
– Умоляю, помирись с ним!
– По-твоему, он прав? – негодующе вскричал Ральф.
– Нет. Но каноник – человек влиятельный, а у тебя семья, двое детей…
– Я своих принципов не нарушу, – обиженно заявил он. – Все обойдется. Через неделю мы в свой дом переедем, так что Портиас мне не указ.
Спустя два дня Агнеса повстречала Барникеля в городе:
– Прошу вас, доктор, уговорите Ральфа извиниться, иначе эта ссора добром не кончится.
– Каноник что-то задумал?
– Не знаю, – вздохнула она. – Он со мной неизменно вежлив, это-то меня и пугает.
На следующий день Ральфа призвали к лорду Форесту.
Лорд Джошуа Форест и в преклонном возрасте сохранил гордую осанку и утонченное изящество манер; от его проницательного взгляда по-прежнему ничто не укрывалось. К роскошному особняку на севере Уилтшира и дому в Солсбери прибавился еще один, в окрестностях Манчестера. В Саруме Форест проводил три месяца в году. Казалось, он до самой смерти останется неизменным – учти вым вельможей, осмотрительным политиком, предприимчивым дельцом.
Ральф не знал, зачем лорд Форест его вызвал.
Ливрейный лакей проводил Ральфа в кабинет, выходящий окнами в сад, где у камина задумчиво стоял седовласый лорд Форест.
Рядом с ним замер каноник Портиас. Форест учтиво поздоровался с Ральфом, предложил гостям присесть, а сам остался стоять.
– Наши семьи связывает давнее знакомство, – сказал Форест. – Прошу вас, не сочтите мои вопросы за оскорбление. Я не желаю вам зла… – Он многозначительно поглядел на Портиаса.
Сэр Джошуа Форест таил давнюю обиду на Адама Шокли за отказ от места управляющего имениями, но к Ральфу неприязни не питал.
– Полагаю, вам известно, что я один из попечителей вашей школы, – продолжил он.
Как раз об этом Ральф и позабыл. Он служил в одной из частных школ города, открытых после того, как школа певчих пришла в упадок; в совет попечителей действительно входили и сэр Джошуа Форест, и епископ Солсберийский. Пять лет назад Ральф собирался купить школу, но Портиас наотрез отказался ссудить ему деньги, не поддавшись даже уговорам жены.
– Он слишком непостоянен и не готов к такой ответственной работе, – объяснял каноник свой отказ.
Ральф вопросительно посмотрел на Фореста.
– Меня известили о ваших радикальных взглядах, – произнес сэр Джошуа.
– Вы имеете в виду требование упразднить гнилые местечки? Или то, что я сторонник мистера Фокса?
– Я имею честь быть лично знакомым с мистером Фоксом, – с учтивым поклоном ответил Форест.
Каноник Портиас сдавленно охнул.
– Хотя и не во всем разделяю его мнение, – добавил Форест и задумчиво поглядел на Ральфа. – Значит, вы убежденный республиканец?
– Это мое личное дело, – возразил Ральф.
– Совершенно верно. В таком случае я предлагаю этим и ограничиться.
Портиас нахмурился.
Ральф обвел собеседников недоуменным взглядом:
– Это все, что вы хотели мне сказать?
– Почти, – задумчиво произнес Форест. – Видите ли, мистер Шокли, мы живем в непростое время. Война с французами неизбежна. В подобных обстоятельствах разумные люди держат свои мнения при себе. Мне хотелось бы заручиться вашим обещанием, что в школе не станет известно о ваших личных пристрастиях и убеждениях. Надеюсь, вы понимаете, чем это вызвано?
Слова лорда Фореста не требовали дальнейших объяснений. Ральф, никогда не стремившийся навязать ученикам свои взгляды, готов был удовлетворить просьбу Фореста, однако, посмотрев на сидящего рядом каноника, пришел в ярость – это Портиас виноват в его унижении!
– Значит, если меня об этом спросят, я должен солгать? – холодно спросил он.
– Это значит, что вы обязаны держать свои крамольные мысли при себе, сэр! – злобно выпалил каноник. – Не смейте смущать юные умы вашей ересью!
– Успокойтесь, – примирительно заметил лорд Форест.
Ральф побледнел от возмущения:
– Никаких обещаний вы от меня не дождетесь!
– Ах вот как?! – торжествующе воскликнул Портиас.
– Мистер Шокли, может быть, вам стоит обдумать мое предложение? – спросил Форест.
– Здесь и обдумывать нечего! – гневно заявил Ральф, твердо намеренный противиться всякому проявлению тирании.
– Что ж… – вздохнул Форест. – Смею заметить, мистер Шокли, что попечительский совет считает подобные настроения несовместимыми с учительским долгом. Боюсь, вам придется подать в отставку…
Ральф, не предполагавший, что ему откажут от места, с ужасом поглядел на Фореста, лихорадочно припоминая, кто еще входит в по печительский совет, но вскоре сообразил, что помощи ждать неоткуда – влияние лорда Фореста было слишком велико.
– Но… моя семья… жена, дети… – сокрушенно пробормотал он.
– Наконец-то вы о них вспомнили! – фыркнул Портиас. – Не беспокойтесь, о ваших близких я позабочусь.
– Не смею вас больше задерживать, господа, – учтиво произнес Форест, возвещая об окончании встречи.
Доктору Таддеусу Барникелю удалось разузнать о дальнейших поступках каноника.
– Он побеседовал с родителями ваших учеников, так что вашей отставки потребовали бы даже в том случае, если бы Форест встал на вашу защиту, – объяснил он Ральфу.
– А если я принесу ему свои извинения? – удрученно спросил Ральф.
– Увы, это ничем не поможет. Боюсь, никто в Саруме на службу вас не возьмет. Каноник всех настроил против вас.
К обеду Ральф получил еще одно приглашение к Форесту. На этот раз лорд Форест принял его наедине.
– Мне стало известно, что каноник Портиас вас повсеместно очернил. Я и не предполагал, что он на это способен, – вздохнул Форест.
Ральф сокрушенно кивнул.
– Не горюйте, вскоре все забудется, – сказал Форест. – Полагаю, вам следует искать работу подальше от Сарума.
– Ох, я на все согласен! – воскликнул Ральф.
– Моим внукам нужен домашний учитель. По-моему, вы прекрасно с этим справитесь. Жалованье вам будет положено соответствующее, внакладе не останетесь. А вот с семьей придется ненадолго расстаться.
Ральф, обдумав предложение, пришел к выводу, что лучше согласиться.
– А вы не боитесь моих радикальных идей? – спросил он.
– Нет, нисколько, – улыбнулся лорд Форест. – Моим внукам они не страшны.
– В таком случае я с благодарностью приму ваше предложение, однако же с условием, что при первой же возможности вернусь в Сарум.
– Да, разумеется, – кивнул Форест. – Имейте в виду, мистер Шокли, в нынешней ситуации такая возможность появится не скоро.
– Вы правы, – печально вздохнул Ральф. – Боюсь, я вел себя весьма неосмотрительно.
Ральфу Шокли горько было расставаться с женой. Она не только пыталась предотвратить глупую ссору с каноником, но и не раз взывала к осмотрительности. Теперь он, остро чувствуя свою вину, не мог сдержать раздражение.
Агнеса сожалела о ребяческой горячности и несдержанности мужа. Любил ли он ее? Как он посмел навлечь на семью такой позор? Неужели гордыня и тщеславие заставили его забыть о жене и детях?
«Он меня отверг, – с горечью думала Агнеса. – Не ценит ни моей любви, ни заботы, сознательно отдаляется от семьи… Что ж, может быть, он повзрослеет в разлуке…»
– Мы надеемся на твое скорейшее возвращение, – грустно сказала она.
– Но вы же будете меня навещать, – напомнил он.
Агнеса покачала головой:
– Нет, из Сарума мы уезжать не сможем. Мы будем тебя ждать…
«Ах вот как!» – раздраженно подумал Ральф и саркастически произнес:
– Долго ждать придется!
Агнеса, уязвленная словами мужа, отвела глаза и повторила, с трудом сдерживая слезы:
– Мы надеемся на твое скорейшее возвращение.
Если она расплачется при Ральфе, то он, вместо того чтобы раскаяться в содеянном и признать свою вину, снова обвинит во всем каноника. Агнеса собралась с силами и твердо взглянула в глаза мужу:
– Мы будем тебя ждать.
С Портиасом Ральф больше не виделся, зато пришел попрощаться с сестрой.
– Я целый день мужа отговаривала, но все напрасно. Он настоял на своем, – печально вздохнула Франсес. – Прошу тебя, ради всего святого, в дальнейшем держи свое мнение при себе.
Ральф не нашелся, что возразить сестре. На душе у него было тяжело.
Перед отъездом он обратился к Барникелю с просьбой:
– Я вернусь только через два года. Жена моя остается в одиночестве. Ей нужна дружеская поддержка. Могу я положиться на вас?
Таддеус Барникель, вздрогнув, пожал ему руку:
– Разумеется.
1804 год стал для Великобритании судьбоносным.
В январе Наполеон решил, что для победного вторжения в Британию к флотилии транспортных судов в проливе следует послать подкрепление – объединенный военный флот Франции и Испании, значительно превышавший мощь английского флота.
– Сначала он попытается уничтожить наши корабли, а потом беспрепятственно переправит свою огромную армию через пролив, – объяснял Форест Портиасу.
– А наши войска малочисленны, – вздохнул каноник.
– Верно.
– Значит, исход войны зависит от единственного морского сражения?
– Вот именно.
В феврале 1804 года Георг III снова впал в безумие; приступ продолжался до апреля. В мае парламент потребовал сместить неспособного Генри Аддингтона; Уильяма Питта-младшего уговорили снова занять пост премьер-министра страны. По странной случайности в тот же день, 18 мая, Наполеон Бонапарт, поправ идеалы Французской революции, провозгласил себя императором.
За всю историю Великобритании никто, даже Уинстон Черчилль, не удостоился большей славы, чем Уильям Питт-младший. Высокий и тощий – худоба его служила предметом постоянных насмешек карикатуристов, – угловатый, с резкими, порывистыми движениями, он слыл прекрасным оратором, а его блистательное красноречие держало в страхе и повиновении депутатов палаты общин. Поговаривали, что в личной жизни Питту не везло.
– По-моему, он черпает жизненные силы из воздуха и из любви к Англии, – сказал однажды Барникель канонику Портиасу.
Питт энергично принялся разрабатывать стратегию вывода страны из кризисной ситуации. Никто не сомневался в его желании оказать сопротивление Наполеону.
– В своих убеждениях он неколебим, как библейский пророк, – восхищенно заметил каноник, старавшийся во всем подражать своему кумиру. – Его намерения чисты, его деяния служат на благо страны.
Чтобы спасти Англию от вторжения наполеоновских войск, Питт разработал план, первая часть которого заключалась в создании коалиции с европейскими державами, дабы отвлечь силы противника от северного побережья Франции; следующим шагом должна была стать блокада французского флота в портах.
Европейские страны, уже испытавшие на себе мощь наполеоновской армии, не хотели вступать в союз с Англией, утверждая, что Франция не намерена проводить захватническую политику в Европе. К счастью, русский император Александр I, желая укрепить престиж страны и расширить свои северные и южные владения, согласился на альянс с англичанами. Однако этого было недостаточно. Австрия медлила. Пруссия готова была заключить союз с тем, кто предложит больше денег.
В Булони стояли две тысячи транспортных судов и девяностотысячное французское войско – Наполеон, как некогда император Клавдий, готовился к победному вторжению в Британию. Однако же Бонапарт, по обыкновению, переоценил свои силы. К весне 1805 года он объявил себя королем Италии, и стало ясно, что он намерен подчинить себе всю Европу.
В ожидании неизбежного военного конфликта к Великобритании и России присоединилась Австрийская империя.
15 сентября 1805 года
В исторических документах почти нет упоминаний о боевых действиях фрегата «Эвриал», однако осенью 1805 года этот корабль сыграл важную роль в спасении Англии.
– Мы гончая Нельсона, его недостающий глаз и рука, – гордо говорили матросы.
Питеру Уилсону, бывшему контрабандисту, очень повезло: вербовщики доставили его именно на этот корабль.
В то время принудительная вербовка во флот была обычным делом. Вербовочные тендеры сновали по проливу Те-Солент и вдоль английского берега Ла-Манша; для стоянки они облюбовали западную оконечность острова Уайт, в десяти милях от Крайстчерча. С каждого торгового судна, заходившего в Саутгемптонский порт, вербовщики забирали матросов для службы в королевском флоте, а жителей прибрежных городов уводили силой.
На брандвахте судовой врач, осмотрев Питера, признал его годным к службе во флоте, а затем отправил в трюм, к остальным новобранцам поневоле.
Трюм закрывала решетка, сквозь которую виднелись стражники в алых мундирах – морские пехотинцы, – вооруженные мушкетами. В трюме, где бок о бок скучилось человек тридцать, стояла страшная вонь. Питер ощупал кольцо в кармане – того и гляди, украдут – и торопливо надел его на мизинец. На втором суставе кольцо застряло, но юноша, морщась от боли, плотнее насадил его до самого основания. «Теперь если отнимут, то только вместе с пальцем», – подумал он.
Что же будет дальше? Наверное, чуть погодя катера развезут по военным кораблям добычу – и опытных матросов, снятых с торговых судов, и насильно завербованных новичков, таких как сам Питер, и преступников, которые вместо тюремного заключения соглашались идти на службу во флот. А там – как повезет. Если не посчастливится, попадешь на корабль под командованием жестокого капитана, где за любой проступок наказывают сотнями ударов плетки-девятихвостки или протягивают на веревке под килем, обдирая кожу провинившегося острыми краями ракушек, облепивших днище корабля.
Пока Питер Уилсон предавался горьким размышлениям о своей несчастной судьбе и о ждущих его ужасах, на палубе раздался голос:
– А этих велено доставить в Баклерз-Хард.
В деревушке Баклерз-Хард, в бухте неподалеку от Крайстчерча, у южной оконечности лесного массива Нью-Форест, располагалась судостроительная верфь Генри Адамса. Именно там, слава Господу, Питер Уилсон ступил на палубу «Эвриала», тридцатишестипушечного трехмачтового фрегата, построенного в 1803 году по эскизам сэра Уильяма Руза; капитаном корабля был досточтимый Генри Блэквуд.
«Эвриал», быстроходное маневренное судно, спущенное на воду всего два года назад, выгодно отличался от внушительных военных кораблей, оснащенных семьюдесятью четырьмя или девяноста восьмью орудиями; капитан его слыл человеком справедливым и жестокостью не отличался.
– Повезло тебе, – сказал Питеру один из матросов. – Лучше только с самим Нельсоном служить.
Морскому делу Питер выучился быстро, – видно, у него была к этому природная склонность; ему лишь изредка доставался удар боцманской плетки, да и то не со зла, а чтоб не забывал, кто на палубе главный. Теперь он умело драил палубу и освоил тяжелые такелажные работы, но больше всего ему нравилось ставить паруса; он ловко взбирался по хитросплетению снстей на мачту и карабкался по реям, чувствуя, как обдувает лицо соленый морской ветер. Высота его совершенно не пугала, а из-за прекрасного зрения его часто отправляли на марсовую площадку наблюдателем.
В команде его полюбили. В первый же день капитан, знакомясь с новобранцами, приказал им назвать свои имена.
– Уилсон, – ответил Питер и, сам не зная почему, добавил: – Из Крайстчерча.
Матросы невольно расхохотались, и даже капитан улыбнулся:
– Надо же, еще один!
Оказалось, что на «Эвриале» уже служил некий Уилсон, сын сэра Уикхема Уилсона, владельца имения близ Крайстчерча. Хоть Роберт Уилсон и был на несколько лет моложе Питера, службу он нес в чине мичмана, – разумеется, офицерский патент выправил ему отец. Высокий смуглолицый юноша легко сходился и со своими товарищами-мичманами, и с матросами. Питер не ожидал, что Роберт снизойдет до разговора с простым новобранцем, но мичман Уилсон в тот же день обратился к своему однофамильцу:
– Нам, Уилсонам из Крайстчерча, лучше держаться друг друга.
С тех пор Питера называли Уилсоном из Крайстчерча; добродушное прозвище скрашивало тяготы службы, постоянно напоминая об отчем доме.
Генри Блэквуд, отважный капитан, с командой обращался властно, но по справедливости.
– И кормят на «Эвриале» хорошо, – говорили матросы.
В затянувшемся походе, когда провиант подходил к концу, один из старых моряков объяснил Питеру:
– Сейчас офицерам такой же рацион положен, как и простым матросам. Не везде так заведено, юный Уилсон из Крайстчерча.
Питер тосковал по дому, но не отчаивался. Просыпаясь, он потирал кольцо на мизинце и тихонько бормотал: «Ничего, она меня дождется».
Фрегат постоянно находился в плавании: сначала нес службу у берегов Ирландии, а позже, в составе флотилии адмирала Джорджа Кита, участвовал в блокаде порта Булонь.
– Ты, главное, на вахте не засни, – предупредил его Роберт Уил сон. – Если Бонапарт свои войска из Булони выведет, французы первым делом Крайстчерч захватят.
Летом 1805 года события разворачивались стремительно.
Французский адмирал Пьер-Шарль де Вильнёв, готовясь к вторжению на Британские острова, вывел свой огромный флот в открытое море и, чтобы отвлечь англичан, направился к Вест-Индии. Адмирал Нельсон пустился в погоню, но Вильнёв резко повернул назад, играя с англичанами, как кошка с мышью. Нельсон двинулся к Гибралтару, а французы направились на север, к Ла-Маншу, однако, приняв бой с английской эскадрой, отступили. Нельсон вернулся в Англию. Все ждали, какой ответный шаг предпримет Вильнёв.
Обстановка складывалась критическая. Нельсон оставался в Англии, ожидая дальнейших приказаний, однако предполагал, что французский флот под командованием Вильнёва двинется на юг, в Средиземноморье, чтобы задержать корабли союзников у побережья Италии, тем самым давая возможность Наполеону беспрепятственно завоевать страны Центральной Европы. Действительно, летом 1805 года замыслы Наполеона сводились именно к этому.
14 августа 1805 года корабли Вильнёва прибыли в испанский порт Кадис, но поблизости уже крейсировала эскадра под командованием вице-адмирала Катберта Коллингвуда.
– Французы не найдут здесь ни боеприпасов, ни провианта, – заметил Роберт Уилсон. – Придется им убираться несолоно хлебавши. Так что смотри в оба, Уилсон из Крайстчерча.
Фрегату «Эвриал» было дано весьма важное поручение.
– Немедленно отправляйтесь в Портсмут, доложите, что Вильнёв в Кадисе, – приказали капитану Блэквуду.
«Эвриал» на всех парусах помчался за адмиралом Нельсоном в Портсмут и прибыл на остров Уайт 1 сентября. На следующее утро Блэквуд приехал к Нельсону в его поместье Мертон, и Нельсон спешно отправился в Адмиралтейство.
Считается, что осенью 1805 года адмирал Нельсон спас Англию от вторжения французских войск. Это не совсем так. Дело в том, что 9 августа 1805 года, незадолго до стремительного похода «Эвриала», произошло еще одно важное событие: Австрия объявила войну Франции. Наполеон решил разгромить союзников на суше, однако для этого ему следовало вывести свою армию из Булони. Совершил он это, по своему обыкновению, молниеносно. К тому времени, как «Эвриал» прибыл на остров Уайт, Булонь опустела.
Впрочем, Нельсона, назначенного командующим английским флотом, это совершенно не волновало. Ему наконец-то представилась возможность нанести сокрушающий удар по французским эскадрам, тем самым навсегда избавив Англию от угрозы вторжения. Ни чего иного он не желал.
Флагманский корабль Нельсона «Виктори» вышел из Спитхеда 15 сентября 1805 года, в сопровождении эскадры под командованием капитана Блэквуда, в состав которой входили фрегаты «Эвриал», «Феба», «Наяда» и «Сириус» и шлюпы «Пикль» и «Энтерпренант». В Кадис они прибыли 28 сентября, в день рождения Нельсона, – вице-адмиралу исполнилось сорок семь лет.
Три недели «Эвриал» вел наблюдение за гаванью Кадиса, ежедневно передавая срочные сообщения эскадре Нельсона – двадцати семи линейным кораблям, стоящим в открытом море.
– Что там видно, Уилсон из Крайстчерча? – ежечасно раздавался вопрос.
– Пока ничего, сэр, – отвечал Питер с марсовой площадки.
Для того чтобы выманить противника из порта, Нельсон отослал несколько кораблей, пытаясь создать впечатление, что снимает блокаду, но Вильнёв разгадал его замысел и не тронулся с места.
Наконец в один прекрасный день Питер Уилсон заметил мачты корабля, выходящего из гавани. За первым кораблем последовал еще один, и еще, и еще…
– Плывут! – завопил Питер и, осекшись, торопливо исправился: – На горизонте вижу корабли!
Капитан и офицеры, собравшись на палубе, навели на гавань подзорные трубы.
– Вышли за черту рейда, сэр? – спросил Роберт Уилсон.
– Нет, – невозмутимо ответил Блэквуд. – Похоже, только собираются. Молодец, Уилсон из Крайстчерча!
Три дня флотилия Вильнёва курсировала у входа в гавань, но в открытое море не выходила. В томительном ожидании Питер Уилсон молился про себя: «Господи, ну скорее бы уже!»
Тревожная атмосфера сгущалась. Наконец 20 октября 1805 года из гавани в море вышли тридцать четыре военных корабля, устрашающие своей грозной мощью: один-единственный залп бортовых пушек каждого разнес бы «Эвриал» в щепки.
– Ох, как против таких устоять? – чуть слышно вздохнул Питер, невольно пересчитывая корабли.
Французская флотилия направилась на юг, к Гибралтару, мимо мыса Трафальгар; юркий «Эвриал» незаметно следовал за ней, а корабли Нельсона, невидимые за линией горизонта, готовились к сражению.
На марсовой площадке Питер Уилсон, подставив лицо соленым брызгам, мрачно усмехнулся и пробормотал:
– И впрямь гончая Нельсона!
Денно и нощно он не спускал глаз с вражеского флота. От бдительного взора наблюдателя не укрылось ни одно движение противника. Как только корабли Вильнёва меняли курс, «Эвриал» пушечным выстрелом подавал сигнал английским судам, а по ночам на корме зажигали синий вестовой фонарь. Сигналы, сообщавшие о неприятельских маневрах, передавались по цепочке от «Эвриала» до флагманского корабля «Виктори».
С восходом солнца Нельсон, выстроив флот в две колонны – подветренную и наветренную, – двинулся на врага, корабли которого растянулись в одну линию, полукругом. «Виктори» возглавлял первую, подветренную колонну; вторую колонну вел стопушечный корабль «Ройял Соверен» под командованием вице-адмирала Коллингвуда.
В шесть часов утра Нельсон дал сигнал «Эвриалу» подойти к «Виктори», пригласил капитана Блэквуда подняться на борт, поблагодарил его за прекрасное несение службы и произнес:
– Французы и не догадываются, что я замыслил.
В наступление «Эвриал» гордо шел бок о бок с кораблем Нельсона.
– Наш Нельсон, хоть одноглаз и однорук, в битве десятерых стоит! – сказал Питеру старый моряк.
В восемь утра Вильнёв изменил курс, пытаясь уйти от преследования, но ему это не удалось. Сражение стало неизбежным.
Без четверти двенадцать с «Виктори» отдали знаменитый сигнал к началу битвы: «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг».
– Против нас французам не устоять, – заявил мичман Роберт Уилсон и тихонько прошептал молитву.
Питер Уилсон молитв читать не стал, лишь незаметно потер кольцо на мизинце и вздохнул.
Битва началась в полдень.
Величественные корабли под парусами торжественно двинулись друг на друга – сближение заняло около часа. В безоблачном небе над зыбью Атлантического океана ярко светило солнце; дул легкий бриз вест-норд-вест. С палубы «Эвриала» матросы завороженно смотрели на противника. Колонна Коллингвуда шла параллельным курсом: «Марс», «Беллерофон» под командованием доблестного капитана Джона Кука, «Ахилл», «Ривендж» и прочие ко рабли. Перед ними дугой выстроились эскадры неприятеля: флагманский корабль «Бюсантор» под началом адмирала Вильнёва, линейные корабли «Нептун», «Герой», «Сан-Леандро» и другие.
– Погляди, узнаешь?! – вскричал матрос «Эвриала», указывая на один из кораблей противника.
– Господи, это ж наш старый «Свифтшур»!
Французы захватили английский корабль в июне 1801 года и, не меняя названия, присоединили его к своему флоту.
– Новый-то получше будет! – смеялись матросы.
Дело в том, что в 1804 году англичане построили еще один корабль под названием «Свифтшур», который теперь шел в колонне Коллингвуда под командованием капитана Уильяма Резерфорда, – так в Трафальгарском сражении встретились два корабля с одним и тем же именем.
Колонна Коллингвуда первой двинулась в бой. Затаив дыхание, Питер Уилсон смотрел, как «Ройял Соверен», приблизившись к неприятелю, под яростным огнем медленно пробирается к вражескому арьергарду; сыпавшиеся на него ядра чудесным образом не причинили существенных повреждений.
– А потом в этот ад попали и мы, – рассказывал Питер впоследствии.
Задачей Нельсона было отвлечь на себя авангард, а затем атаковать корабль Вильнёва. «Эвриал» бок о бок с «Виктори» шел на врага, и Питеру почудилось, что настал конец света. Корабль Нельсона принял на себя шквальный огонь противника, но с полчаса не производил ответных выстрелов. Раскатисто громыхали пушки; тяжелые ядра, со свистом проносясь над водой, насквозь прорывали паруса и врезались в деревянные борта, осыпая матросов градом искр и смертоносной острой щепой. «Виктори» и «Темерер» сошлись в схватке с «Бюсантором» и «Редутаблем» – английские моряки издавна славились искусством ближнего боя.
К часу пополудни бо́льшая часть английских кораблей прорвала линию обороны противника. Без четверти два сдался французский флагманский корабль «Бюсантор», а за ним – еще три вражеских корабля. К половине третьего эскадра Коллингвуда захватила одиннадцать кораблей противника, среди которых оказался и старый «Свифтшур».
Питер смутно помнил, как стало известно о ранении и гибели адмирала Нельсона. Он видел, что с «Виктори» подали сигнал вице-адмиралу Коллингвуду на «Ройял Соверен», но в пылу битвы не придал этому значения. Вскоре после этого Коллингвуд приказал капитану Блэквуду приблизиться к «Ройял Соверену» – линейный корабль, ставший теперь флагманским, потерял в бою две мачты, а фок-мачта кренилась, поэтому во второй половине Трафальгарской битвы боевые сигналы подавали с мачт «Эвриала».
После сражения Коллингвуд окончательно покинул свой пострадавший корабль и пересел на «Эвриал»; истерзанный фрегат, лишившийся грот-мачты и стеньги, взял «Ройял Соверен» на буксир.
Известие о гибели Нельсона отравило радость победы. Лишь впоследствии, перебирая в памяти события того знаменательного дня, Питер припомнил, как Роберт Уилсон поглядел на «Виктори» и со слезами на глазах прошептал:
– Он погиб, Уилсон из Крайстчерча… Такой человек погиб…
Блистательная победа английского флота в Трафальгарском сражении навсегда устранила угрозу вторжения французов на Британские острова, однако же Наполеон по-прежнему грозил Европе.
За два дня до Трафальгарской битвы Наполеон взял в окружение австрийскую армию под Ульмом, а в декабре разгромил силы союзников под Аустерлицем. Британские войска поспешно ушли из Германии, и коалиция, с таким трудом собранная Питтом, распалась. Наполеон завладел раздробленной Австрийской империей.
Сраженный трагическими известиями, в январе 1806 года Уильям Питт-младший скончался.
Наполеон торжествовал.
Впрочем, Питеру Уилсону до всего этого не было дела.
В 1806 году он вернулся домой.
Узнав, что он принимал участие в Трафальгарском сражении, родные и близкие провозгласили его героем, а жители Крайстчерча при знакомстве щедро угощали выпивкой. И все бы хорошо, только невеста Питера не дождалась его возвращения и вышла замуж за другого.
Он пожал плечами, ухмыльнулся и заявил:
– Что ж, жалеть не о чем. Кольцо у меня уже есть, а невеста найдется.
Спустя три недели он доставил канонику Портиасу очередной бочонок контрабандного бренди.
Жизнь шла своим чередом.
Как ни странно, в роскошном поместье лорда Фореста на севере графства Ральф Шокли, которому ничего не угрожало, чувствовал себя несчастнее, чем Питер Уилсон на «Эвриале». Он впервые осознал, что такое настоящие страдания, и, отринув безумную горячность радикальных идей, проникся кротостью и смирением.
Внуки лорда Фореста, восьми и десяти лет, худенькие и темноволосые, с бледными узкими личиками, были послушны и прилежны, науку впитывали живо, и жаловаться Ральфу было не на что. Дети были вполне довольны жизнью, хотя родители все время проводили в Лондоне, а дед лишь изредка наведывался в поместье, так что бо́льшую часть времени они оставались с Ральфом.
Чем чаще Ральф встречался с семейством Форест и их гостями, тем лучше понимал, что ими движет. С ним обращались превосходно и, казалось, принимали за своего, однако неизменное изящество манер и учтивость, свойственная даже детям, наводили на мысль, что Форестам он совершенно безразличен. В жизни утонченных аристократов не было места ни Ральфу, ни любому другому представителю среднего класса; такая бессердечная легкость отношений была результатом многовековых сословных различий.
– Бездушные они, – ворчал Ральф.
В сравнении с тогдашними загородными резиденциями поместье на севере графства было небольшим, всего несколько акров; в особняке насчитывалось пятьдесят спален и бесчисленные помещения на чердаке, где обитала прислуга, – подниматься туда приходилось по черной лестнице, но Ральф к слугам никогда не заглядывал. Поместье славилось прекрасным парком и подъездной аллеей в милю длиной; входом в парк служила высокая и широкая каменная арка, словно бы обрамлявшая полнеба.
Ральфа не волновал ни сам особняк, ни его обитатели; причина его тревог лежала далеко за воротами парка.
Первый раз он обратил на это внимание спустя три месяца после приезда в поместье. Лорд Форест, по обыкновению, навещал внуков, а потом собрался в Манчестер осматривать свои мануфактуры. Ральф заручился позволением его сопровождать.
Морозным февральским утром карета катила к Манчестеру. Пологие холмы Ланкашира, поросшие густыми дубравами, сменялись широкими долинами, где виднелись многочисленные усадьбы и наделы, окруженные распаханными полями, – живописный ландшафт, еще не обезображенный промышленными городами, карьерами и шахтами, которые вскоре изуродуют буколические пейзажи Северной Англии. Ланкаширские усадьбы выглядели богаче скромных деревень на сарумском взгорье.
– Здесь народ благоденствует, – заметил лорд Форест. – На севере живут куда лучше, чем на юге Англии.
На манчестерских окраинах полным ходом шло строительство. Повсюду виднелись новые склады, фабрики и стройные ряды кирпичных домов для рабочих – наглядное свидетельство процветания. По дорогам тянулись обозы, ехали телеги и повозки, на обочинах высились груды бревен и досок, там и сям закладывали фундаменты, – казалось, по этому уголку Англии прошлись огромными невидимыми граблями, готовя его к посеву.
Карета Фореста подъехала к текстильной мануфактуре – длинному трехэтажному зданию из красного кирпича, с рядами прямоугольных окон, перемежаемых широкими дверями, из которых доносился гул и грохот ткацких станков.
Войдя внутрь, Ральф застыл в изумлении.
Хлопчатобумажная промышленность Великобритании своим развитием обязана двум замечательным изобретениям и двум полезным ископаемым. Производство хлопчатобумажных тканей, как и производство сукна, состоит из двух процессов: прядильного, то есть создания нити, и ткацкого, то есть создания полотна. С тех пор как Шокли построили свою первую сукновальню, прядение претерпело два основных изменения: во-первых, изобретение самопрялки и, во-вторых, изобретение в прошлом веке механического прядильного устройства с восьмью веретенами. Однако же теперь механическое прядильное устройство подверглось дальнейшему усовершенствованию – прядильное колесо превратилось в мощную машину, оснащенную сотнями веретен. Негромкое жужжание ручного прядильного колеса и пощелкивание веретена, придававшее такой уют деревенским хижинам, смолкло навсегда. О них напоминает лишь сохранившееся в английском языке слово «spinster» – «пряха», – которым стали называть незамужних женщин, а впоследствии и старых дев.
Бурный рост текстильной промышленности в Манчестере был вызван усовершенствованием прядильных машин. Поначалу производимая ими пряжа получалась недостаточно крепкой: она годилась для утка – поперечных нитей полотна, но ей недоставало прочности для основы – продольной нити ткани. Появление прядильных машин Ричарда Аркрайта, приводимых в движение водяным колесом, обеспечило необходимую прочность пряжи, которая, однако же, оставалась слишком грубой и не подходила для производства тонких хлопчатобумажных тканей – их по-прежнему закупали в Индии. Наконец в 1780-е годы появилась прядильная машина Самюэля Кромптона, так называемый прядильный станок периодического действия, позволявший крутить пряжу, пригодную для производства муслина.
– Механические прялки и ткацкие станки совершили революцию в ткацкой промышленности, – объяснил лорд Форест Ральфу.
Действительно, вторым замечательным изобретением был механический ткацкий станок. Веками ткачи работали вручную, и даже когда Шокли и Муди двести пятьдесят лет назад создали свою первую мануфактуру, ткачи в ней сидели парами за ручными станками, передавая друг другу челнок, пропускавший нить утка между нитями основы. Все это изменилось, когда Эдмунд Картрайт изобрел механический ткацкий станок, приводившийся в движение паровым двигателем.
– Теперь ткачи почти не нужны, – удовлетворенно заявлял лорд Форест.
Разумеется, все это было бы невозможно без двух полезных ископаемых, сыгравших огромную роль в промышленной революции: угля и железной руды.
И все же больше всего Ральфа Шокли поразила не сама текстильная мануфактура – нет, не мануфактура, а настоящая текстильная фабрика с рядами массивных станков, на которых крутились, будто солдаты на параде, несчетные бобины пряжи, – и не доносящийся из дальнего конца огромного зала равномерный гулкий стук паровой машины, приводившей станки в движение. Увидев во очию размах деятельности настоящей ткацкой фабрики, Ральф впервые осознал, что образ жизни его далеких предков уходит в небытие. От шума, лязга и стука его замутило, но хуже всего оказалось другое: почти у всех машин работали ребятишки – чумазые, изможденные, в обносках.
– Детский труд куда дешевле, – невозмутимо заметил лорд Форест. – Между прочим, с ними прекрасно обращаются, пороть их я не позволяю.
Впервые в жизни Ральф сообразил, что лучше промолчать. Он окинул изумленным взором огромное помещение – казалось, от грохота станков дрожат стены – и с горечью признал свою полную беспомощность.
– Я словно бы сам превратился в беззащитного ребенка, – впоследствии рассказывал он.
Доктор Таддеус Барникель не питал напрасных иллюзий.
– Не стоит надеяться на скорое возвращение Ральфа, – предупредил он Агнесу. – Портиас этого не допустит. Вы же знаете, все зависит от его решения.
В сущности, взгляды каноника, отражавшие настроения обывателей Солсбери, воинственно отстаивали традиционные убеждения. Адмирала Нельсона задолго до его победного сражения при Трафальгаре сделали почетным гражданином города, а затем с неслыханной щедростью предложили оплатить снаряжение и обмундирование для шести сотен добровольцев, уходящих на войну с Наполеоном. Отряд уилтширских йоменов-ополченцев облюбовал для сборов клуатр соборного подворья; от муштры толку не прибавилось, зато на стенах появились вычерченные углем рисунки сомнительного содержания. Ясно было, что ради военных успехов Анг лии патриотически настроенные обитатели соборного подворья готовы смириться с любыми неудобствами; некоторые гордо носили на лацканах белые розетки в знак поддержки французской королевской династии Бурбонов; в городе начали сбор подписей на петициях о запрете предоставления католикам любых прав и свобод. Каноник Портиас торжествовал.
– Ральфу в Солсбери возвращаться не стоит, – вздыхал Барникель. – Того и гляди Портиас обвинит его в измене и предательстве.
Все в Саруме только и говорили что о войне с французами. Каноник Портиас оставался холоден, суров и непреклонен.
После отъезда Ральфа доктор Барникель часто навещал Агнесу. Она жила в скромном доме на Нью-стрит, но дни проводила с невесткой, в особняке каноника Портиаса на соборном подворье. Дважды в неделю Барникель приходил к ним с визитом, а потом, проводив Агнесу домой, всякий раз передавал подарки детям. Иногда он приглашал Франсес и Агнесу на прогулку по городу или по соборному подворью. Время от времени, оставшись с Франсес наедине, он спрашивал ее, не изменил ли каноник своего решения.
– Увы, доктор, он по-прежнему стоит на своем, – отвечала Франсес, ничем не выказывая своего отношения к предмету разговора.
Лишь однажды, в начале 1805 года, Франсес Портиас, потупившись, заметила:
– Муж мой, как и Уильям Питт, страстно радеет о благоденствии Англии.
– Полагаю, ваш брат тоже склонен к страстным порывам, – сказал доктор.
– Увы, он человек увлекающийся, но истинных страстей не ведает, – возразила она.
Доктор Барникель, несколько сбитый с толку этим заявлением, растерянно взглянул на Франсес: что еще открылось ей в душах родных и близких за годы замужества? Может быть, в ее словах крылся намек на сочувствие?
Ибо самого доктора обуревала тайная страсть к Агнесе – так, скрытые под слоем золы, дышат ровным жаром угли в очаге.
«Ради нее одной я живу», – признавался он себе.
Ральф написал Мейсону несколько писем и в ответ на свой рассказ о ткацкой фабрике получил удручающее послание:
…Можно только благодарить Господа, что эти проклятые станки еще не появились в Уилтшире; вряд ли ими заинтересуются в Солсбери. Должен признать, что наши суконные мануфактуры хиреют день ото дня. В прошлом месяце разорились еще два суконщика. Похоже, производство сукна в Саруме окончательно пришло в упадок…
Жене Ральф писал нежные послания, уверяя ее в скорейшем возвращении.
Он много внимания уделял обучению своих подопечных, а в свободное время верхом отправлялся в Манчестер, а иногда заезжал и в порт. Вскоре Ральф убедился в правоте слов лорда Фореста, – действительно, существовали места и пострашнее ткацкой фабрики.
Он посетил и шахты, где из-под земли («будто из глубин ада», писал он Агнесе) добывали уголь – топливо для машин, приводящих в движение станки и оборудование.
В письме к Мейсону он подробно изложил свои впечатления:
…Шахты, уходящие под землю на глубину трехсот футов, освещают свечами и факелами, считая это безопасным. Однако угольная пыль и горючие газы часто воспламеняются, что приводит к страшным взрывам и к гибели множества работников. Я своими глазами видел, как из шахты на поверхность выносят искореженные тела, нисколько этим не огорчаясь.
Трудно найти слова для описания людских страданий. На шахтах по десять часов в день трудятся малые дети – мальчики открывают и закрывают подземные вентиляционные заслонки, а девочки оттаскивают на поверхность тяжелые корзины угольной крошки. Вчера при мне из шахты выползло какое-то несчастное создание… поначалу я решил, что это черный пес, но, приглядевшись, понял, что это дитя лет четырех, с ног до головы перемазанное угольной пылью, – нищета заставляет родителей отправлять на заработки даже малышей, едва те научаются ходить…
В Саруме бедняков хватает, но, хвала Господу, такие страдания обходят нас стороной…
Подобные условия труда долгое время существовали в Англии.
В письмах к жене Ральф не упоминал об этом из деликатности, а описывал ситуацию в общих чертах.
Я все больше и больше уверяюсь в том, что такое положение лишает человека свободы и унижает его достоинство. Такой труд хуже рабства. Полагаю, что даже Портиас с этим согласится, однако сомневаюсь, пожелает ли он прочесть мое послание…
Агнеса, как и большинство жителей Сарума, совершенно не представляла себе происходящего, а потому решила, что муж жалуется на то, как с ним обращаются Форесты. «Ах, он никогда не остепенится!» – вздыхала она, а на вопрос Франсес, образумился ли Ральф, неуверенно отвечала:
– Надеюсь.
Никто не мог понять, отчего каноник Портиас так яростно противится возвращению Ральфа Шокли в Солсбери.
Год спустя доктор Барникель удрученно признавался:
– Пока Портиас не изменит своего мнения, Ральфа так и будут считать смутьяном и обвинять во всех смертных грехах.
Даже известие о блистательной победе в Трафальгарской битве не смягчило сурового каноника, который ожесточился еще больше, узнав о поражениях при Ульме и при Аустерлице и о внезапной смерти Уильяма Питта-младшего.
В конце лета 1806 года Ральф писал жене:
…Коль скоро каноник Портиас питает ко мне прежнюю злобу, боюсь, в Сарум мне путь закрыт. Я попросил помощи у лорда Фореста – может быть, удастся подыскать мне место учителя в Лондоне или в любой другой школе за пределами Уилтшира, и мы переедем туда всей семьей. Он обещал мне посодействовать при условии, что я останусь с его внуками до следующего лета…
Агнеса получила письмо в тот день, когда доктор Барникель пригласил ее на прогулку. В то время одним из популярных развлечений были палочные бои – по мнению Таддеуса Барникеля, вполне подходящее зрелище для дам, поскольку участники отделывались синяками и шишками, в отличие от кровавых кулачных боев или поединков на шпагах. Посмотрев несколько поединков и дождавшись, когда победителю вручат заслуженную награду, Таддеус и Агнеса отправились домой. По дороге Агнеса рассказала доктору о письме мужа и о его предложении навсегда покинуть Сарум.
Барникель на миг утратил дар речи, а потом растерянно спросил:
– Он хочет, чтобы вы переехали в Лондон?
Только сейчас доктор осознал всю глубину своего чувства к Агнесе. «Мы как будто женаты, хотя ни разу не прикоснулись друг к другу», – подумал он, а вслух произнес:
– Мне будет вас очень недоставать.
Остаток пути они проделали в молчании.
У крыльца дома на Нью-стрит Агнеса остановилась.
– Боюсь, в Лондоне муж доставит мне и детям ничуть не меньше неприятностей, чем здесь, в Солсбери, – с робкой улыбкой промолвила она.
Таддеус Барникель оторопел: впервые за два года Агнеса позволила себе резкое замечание в адрес мужа.
– Видите ли, я не желаю покидать друзей, – продолжила она, легонько касаясь руки доктора.
Он застыл, не в силах сдвинуться с места: своим робким жестом Агнеса дала понять, что питает к доктору ответное чувство, хотя вслух об этом не мог упомянуть ни один из них. Буря страстей, бушевавшая в груди Барникеля, наконец-то улеглась. Он свернул на подворье и долго смотрел на закатное небо над собором.
Несколько дней спустя Ральф с удивлением прочел ответное письмо жены – уезжать из Сарума она отказывалась.
В 1806 году Ральф Шокли несколько воспрянул духом.
После смерти Уильяма Питта, желая примирить сторонников противоположных взглядов, в кабинет министров вернулся Чарльз Джеймс Фокс, настоявший на принятии парламентом закона об отмене работорговли, подготовленного Уильямом Уилберфорсом и его последователями. Увы, через год, к глубокому разочарованию Ральфа, славный борец за права человека скончался.
«Наконец-то Англия рассталась с унизительным занятием! – восторженно думал Ральф. – Может быть, и детский труд когда-нибудь запретят…» Вдобавок он надеялся, что изменения в правительстве повлекут за собой перемены в настроении жителей Сарума.
Однако же к 1807 году Фокс умер, а предубеждения англичан как были, так и остались закоснелыми. Ральф, поразмыслив, решил, что в этом виноват Бонапарт, – угроза неминуемой войны делает людей невосприимчивыми к переменам.
Как вернуться в Сарум, он так и не придумал.
Летом 1807 года скончался старый Джон Дуглас, епископ Солсберийский.
Каноник Портиас предчувствовал недоброе.
– Со смертью епископа грядут перемены, – сказал он жене. – Не нравится мне это.
В июле в епархию прислали нового епископа, Джона Фишера. На торжественном богослужении в соборе миссис Портиас, Агнеса Шокли и доктор Барникель занимали почетные места.
После богослужения все вернулись в особняк Портиасов; каноник ушел к себе в кабинет, а Франсес удалилась отдать распоряжения прислуге, оставив Агнесу и доктора в гостиной. И вот тут-то доктор Таддеус Барникель, сгорая от любви к Агнесе, совершил опрометчивый поступок: он взял ее руку и нежно поднес к губам. Агнеса робко улыбнулась и, склонив голову, ласково посмотрела на доктора. Ни один из них не заметил, что к дверям гостиной неслышно подошла Франсес.
Миссис Портиас безмолвно поглядела на влюбленных, а потом, отступив, прикрыла дверь. Ни доктора, ни Агнесу она не винила – ей слишком хорошо было известно о давней неразделенной страсти доктора.
Неожиданно она поняла, как ей следует поступить.
«Самое время вернуть Ральфа в Солсбери», – подумала она и на следующий день нанесла визит новому епископу.
Полчаса спустя Франсес Портиас с лукавой улыбкой на устах покинула епископский дворец.
Вечером у каноника Портиаса произошел весьма странный разговор с женой.
Франсес без стука вошла в кабинет мужа, хотя обычно не смела его тревожить. Каноник удивленно посмотрел на нее. В глазах Франсес вспыхнул насмешливый огонек, она словно помолодела.
Каноник недовольно поморщился.
– Моему брату пора вернуться домой, – сказала Франсес.
– Я не желаю об этом говорить, – ответил он.
– Боюсь, поговорить придется.
Каноник вздохнул, снял очки и негромко, с неумолимой логикой, начал втолковывать супруге, почему это невозможно. Он упомянул политическую обстановку, нового епископа и репутацию семейства.
– Вы же понимаете, миссис Портиас, сейчас, с приходом нового епископа, я не могу позволить себе совершать поступки, грозящие запятнать мою репутацию. Еще неизвестно, каких перемен потребует епископ Фишер.
– И все же я настаиваю, чтобы вы позволили Ральфу вернуться домой, – с улыбкой произнесла Франсес и оперлась о притолоку.
От развязности, совершенно не подобающей дамам, каноник опешил. Что так развеселило супругу? В своем ли она уме?
– Я виделась с епископом, – объявила она.
Вздрогнув, каноник сжал поручни кресла:
– Вы… вы с ним беседовали, миссис Портиас?
Франсес кивнула.
– Не спросясь моего позволения?!
– Да.
Он водрузил очки на нос и окинул супругу подозрительным взглядом.
– Не тревожьтесь о епископе, – невозмутимо продолжила Франсес. – Между прочим, он совершенно со мной согласен: Ральфу пора вернуться домой.
– Но я придерживаюсь иного мнения! – резко напомнил каноник.
– Что ж, вам придется его изменить. В противном случае я уйду от вас и переселюсь к Агнесе.
Каноник Портиас не верил своим ушам:
– Вы забываетесь! Мое положение и репутация не…
– Если вы позволите моему брату вернуться, то это вам зачтется. Вдобавок я позабочусь о том, чтобы все узнали о вашем христианском милосердии и всепрощающей натуре. Кто знает, может быть, вам еще одна пребенда[56] достанется…
– Миссис Портиас, позвольте узнать, чем вызвана подобная перемена в вашем поведении? – осторожно осведомился каноник.
Франсес прекрасно поняла, к чему он клонит.
– Если вы простите моего брата и позволите ему вернуться домой, то мое поведение, как и прежде, будет во всем соответствовать вашим желаниям.
– Что ж, я подумаю, – буркнул он.
– Благодарю вас.
Она вышла из кабинета и устало прикрыла за собой дверь, размышляя, стоит ли Ральф всех этих усилий.
Неделю спустя в гостиной Портиасов произошел еще один разговор, на этот раз между Агнесой Шокли и доктором Барникелем.
– Мне хорошо известно о чувствах, которые вы ко мне питаете, – сказала Агнеса, ласково коснувшись руки доктора.
Таддеус Барникель согласно склонил голову, впервые в жизни не вспыхнув от смущения.
– Позвольте мне вас заверить, – продолжила она с искренней улыбкой, – что если бы обстоятельства сложились иначе, если бы я не была замужем, то с радостью ответила бы на ваши чувства.
– Вы оказали мне огромную честь… – запинаясь, начал доктор.
– Благодарю вас за вашу заботу – и за безукоризненное соблюдение приличий.
Он хотел было ответить, но тут в дверях раздался шум.
– А, вот и дети! – сказала Агнеса.
1830 год
Условия, на которые Ральфу пришлось согласиться, выставила Агнеса:
– О реформах думай что угодно, но не смей позорить нас с детьми. Помни о семье! Ты обязан вести себя осмотрительно.
Вернувшись в Солсбери, Ральф сдержал свое обещание, но потом жаловался:
– Кто же знал, что в Англии реформ двадцать лет не будет!
Первая четверть XIX века была весьма странным периодом в истории Англии. Для потомков эта эпоха ознаменована победами Веллингтона над французами, элегантной роскошью Регентства и правления Георга IV, сочинениями Вальтера Скотта и Джейн Остин и романтическими поэмами Уильяма Вордсворта, Самюэля Кольриджа, Джона Китса, Перси Биши Шелли и Джорджа Байрона. Однако все это было редкими лучами солнца в суровом, мрачном мире.
Итак, Ральф сдержал обещание. Он снова преподавал в школе, с каноником Портиасом был неизменно вежлив, разговоры вел учтиво, без горячности, и даже изредка вступал в споры.
А спорить было о чем.
Наполеона удалось разгромить только спустя десять лет после победы в Трафальгарском сражении. Поначалу казалось, что он, по примеру Цезаря, покорит всю Европу.
– Наполеон с русским царем союз заключил, – сказал однажды Барникель. – Они договорились разделить материк: Наполеону достанется запад, а царю Александру – весь восток, до самой Индии. Надеюсь, теперь вы согласитесь, что Бонапарт – тиран?
– Да, Англия должна отстаивать свою независимость, – ответил Ральф. – С этим я вполне согласен. Однако Наполеон приносит захваченным державам демократические свободы и религиозную терпимость.
Впрочем, в присутствии Портиаса Ральф подобных взглядов не выражал.
Долгие годы войны Англия сражалась в одиночку; лишь доблестный флот спас страну от вторжения противника. Наконец ход войны переломился. Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, изгнал французов из Испании и Португалии, а Наполеон совершил роковую ошибку, перейдя границы России. После окончательного разгрома Наполеона жители Сарума щеголяли белыми кокардами и розетками, празднуя возвращение Бурбонов на французский престол; Ральф отказался разделить всеобщее веселье.
– Вы же видели, к каким ужасам привела революция во Франции, – с неожиданной мягкостью укорил его Портиас. – А из-за корсиканского выскочки погибло около полутора миллионов человек. Да, возможно, прежним режимам недоставало совершенства, однако же, согласитесь, легитимным европейским монархам удавалось поддерживать порядок в своих владениях…
Ральф, удивленно взглянув на каноника, сдержанно ответил:
– Разумеется, сейчас так думает вся Европа. Надеюсь, для сохранения мира этого будет достаточно.
Подобные взгляды вот уже лет двадцать, а то и больше, проповедовал французский политик и дипломат Шарль Талейран. Принципы легитимизма – признания исторического права династий на управление государством – не только защищали существование монархических режимов, но и внушали мысли о порядке, мире и благоденствии; выскочкам и авантюристам не было места на мировой арене. Это позволило европейским монархам с чистой совестью расправиться с Наполеоном и заключить новые альянсы для сохранения мира; русский император Александр I даже предложил создать Священный христианский союз.
К сожалению, со временем следование принципам легитимизма привело к неожиданным результатам: в Испании возродили святую инквизицию, Бурбоны вознамерились вернуть Испании монопольное право на торговлю с Южной Америкой, а инакомыслящих стали преследовать, обвиняя в попытках совершить революционные перевороты.
Тем временем Георг III окончательно сошел с ума; регентом объявили его сына. Экстравагантное поведение принца Уэльского вызывало нарекания даже у каноника Портиаса. Пока герцог Веллингтон воевал с французами на Иберийском полуострове, принц-регент сорил деньгами и ссорился с женой, Каролиной Брауншвейгской. Узнав, что Каролине не позволили присутствовать на коронации мужа в Вестминстерском аббатстве, каноник сокрушенно заметил:
– Подобные скандалы только придают смелости республиканцам.
– По-моему, Георг Четвертый унаследовал отцовское безумие, – вздохнул Барникель. – Его странные фантазии не просто игра воображения. Подумать только, недавно он заявил Веллингтону, что участвовал в битве при Ватерлоо, хотя всем прекрасно известно, что он никогда в жизни не покидал берегов Англии!
В двадцатые годы XIX столетия Шокли перестали поддерживать отношения с американскими родственниками.
– Это все из-за Наполеона! – сказал Ральф, хотя произошло это отчасти по вине каноника.
Наполеон, стремясь подавить сопротивление Великобритании, ограничил международную торговлю и объявил так называемую континентальную блокаду. Англичане тем временем пытались помешать торговым операциям Франции. Подобные действия противников с переменным успехом продолжались несколько лет, хотя английское сукно для французских мундиров все же контрабандой попадало в Европу.
Военно-морской флот Британии имел право обыскивать любые, в том числе и американские, торговые суда, идущие в Европу.
– Американцы, желая расширить свои территории за счет Канады, ищут предлог для начала войны с Англией, – сказал однажды Мейсон. – Потому и выражают недовольство нашими действиями на море.
После долгих переговоров Англия и Соединенные Штаты заключили мировое соглашение, однако прежде, чем известие об этом достигло берегов Британии, вспыхнул вооруженный конфликт, в ходе которого американцы предприняли безуспешную попытку захватить Канаду, а английские войска разграбили Вашингтон.
Вскоре после начала военных действий Франсес получила от американских родственников гневное послание с требованием объяснить причины возмутительного вторжения англичан.
– Нет уж, ответом мы их не удостоим, – заявил каноник.
Франсес безропотно прекратила переписку с американскими родственниками.
– Я сам им напишу, – пообещал Ральф, но так и не собрался – то ли по рассеянности, то ли из врожденной лености.
В 1823 году, когда Англия встала на защиту латиноамериканских колоний от вмешательства Бурбонов, стремящихся возродить там испанское господство, между Великобританией и Соединенными Штатами наконец-то установились дружественные отношения; вдобавок президент США Джеймс Монро объявил Американский континент зоной, закрытой для вмешательства европейских держав.
Ральф Шокли, обрадовавшись такому повороту событий, наконец-то взялся за перо и написал письмо американским родственникам.
Ответа он не получил.
Впрочем, в то время его гораздо больше тревожила не внешнеполитическая ситуация, а трагическое положение английских бедняков.
– Даже не знаю, что и делать, – признался он Агнесе. – Тут одними разговорами с каноником не обойтись.
Английское законодательство о бедных давно требовало пересмотра. В 1795 году мировые судьи графства Беркшир, собравшиеся в деревушке Спингемленд, решили выдавать беднякам дополнительные пособия из фондов епархии, однако это привело лишь к снижению и без того мизерного заработка работников. Благие намерения разбились о неумолимые экономические законы свободного рынка.
В 1815 году, когда Наполеона сослали на остров Святой Елены, беднякам Сарума радоваться было нечему – окончание войны лишь ухудшило их положение. Правительство, обремененное военными расходами и долгами, отменило золотой стандарт и увеличило выпуск бумажных денег, что вызвало рост инфляции; цены на хлеб подскочили в полтора раза, однако заработки остались прежними.
– Правительство выплачивает долговые проценты за счет налогов, взимаемых с бедняков, – вздыхал Ральф.
Действительно, на выплату процентов уходила почти половина государственного бюджета.
К тому же окончание войны означало возвращение солдат на родину и прекращение действия военных правительственных контрактов. Число безработных резко возросло. Цены на зерно упали, но беднякам это не помогало, потому что парламент, по требованию крупных землевладельцев, ввел так называемые Хлебные законы, запрещавшие ввоз зерна из-за границы по ценам ниже 80 шиллингов за четверть.
– Из-за этого бедняки умирают от голода! – возмущался Ральф.
– Это не только возмутительно, но и глупо, – поддакнул Мейсон. – Землевладельцы сами не желают продавать зерно по этим ценам, им это невыгодно. Наживаются только торговцы, сознательно создавая нехватку зерна на рынке, а потом взвинчивая цену.
– А почему же тогда землевладельцы-тори ратуют за эти законы?
– Да потому, что хотят держать рынок под своим контролем, как до войны. Они не желают прислушиваться к объяснениям торговцев, которые лучше понимают, какую выгоду приносит свободная торговля.
Мейсон, приверженец экономического учения Адама Смита, часто объяснял Ральфу Шокли принципы действия свободного рынка и рассуждал о вреде тарифных ограничений.
– Адам Смит написал свое знаменитое «Исследование о природе и причинах богатства народов» в тот самый год, когда Америка объявила о своей независимости, а наше правительство до сих пор не осознало важности этого основополагающего труда, – с сожалением говорил Мейсон.
Ральф, однако же, считал доктрины Смита об экономических свободах слишком бездушными и жестокими, хотя и соглашался, что Хлебные законы давно пора отменить.
Увы, Хлебные законы продолжали действовать. Сельские бедняки голодали, ремесленники, особенно ткачи, лишались заработка, вытесненные новыми механическими станками. Долгие годы войны сменились миром, но облегчения это не принесло. Реакционеры в парламенте отказывались признавать необходимость реформ, не веря в наступление новой эпохи промышленного развития точно так же, как не верили в нее бедняки. Движение луддитов, которые в попытке защитить свои рабочие места уничтожали машины и оборудование на фабриках и заводах, переросло в стихийные восстания бедноты, жестоко подавлявшиеся правительством.
К концу двадцатых годов XIX века стало очевидно, что без перемен не обойтись. Министр внутренних дел Роберт Пиль, хотя и убежденный тори, начал вводить скромные реформы, основал в Лондоне муниципальную полицию и смягчил наказания за сотни преступлений, ранее каравшихся смертной казнью. Были отменены и многие пошлины, что привело к улучшению торговли.
В Саруме жизнь текла по-прежнему. Ральф приходил в отчаяние оттого, что здесь никогда и ничего не менялось.
В то время одним из самых ярых критиков реакционной политики правительства был публицист и историк Уильям Коббет, издававший еженедельник под названием «Политический обозреватель». Ральф, втайне от каноника, регулярно покупал несколько экземпляров этого издания и оставлял их на постоялых дворах и в кофейнях, где собирались работники, – ему, пятидесятилетнему школьному учителю, это казалось смелой подпольной агитацией. Однажды он, до глубины души возмущенный страданиями бедняков, вбежал в особняк Портиаса и воскликнул:
– Каноник, даже с бессловесной скотиной обращаются лучше, чем с рабочими!
Портиас молча отвернулся – ответить ему было нечего.
В эти тяжелые годы Ральфу больше всего запомнились две встречи.
Однажды хмурым весенним утром он ушел на прогулку по взгорью. На склонах холмов паслись стада овец – уже не рогатых, как прежде, а новой породы, выведенной в южных графствах; эти овцы славились тонким руном и неприхотливостью, их было легче прокормить. Между пастбищами чернела недавно засеянная пашня.
Ральф любил этот пустынный ландшафт, по которому можно было бродить часами, не встречая ни души. Поэтому, заметив мальчика, одиноко стоящего посреди вспаханного поля, Ральф удивленно направился к нему. Мальчик не сдвинулся с места. Над рыхлыми бороздами кружили птичьи стаи.
У края пашни Ральф остановился, разглядывая крохотную фигурку: мальчик лет десяти, миловидный, узколицый, с тонким, чуть крючковатым носом, темные волосы взлохмачены. «Ровесник моему сыну», – подумал Ральф и только потом обратил внимание на болезненную худобу ребенка.
– Ты здесь один?
– Да, сэр, – ответил мальчик.
– А что ты делаешь?
– Птиц отпугиваю.
– И давно ты тут стоишь?
– С самого рассвета.
– А домой когда собираешься?
– Как солнце зайдет.
– Ты сегодня ел?
– Нет, сэр.
– А кто тебя сюда послал?
– Отец, сэр.
– Сам-то он чем занимается?
– В поле работает.
– У вас надел есть?
– Нет, сэр, это мистера Джонса усадьба.
– А где это?
– В Эйвонсфорде, сэр.
Ральф понимающе кивнул, – похоже, поле лежало на самой окраине Эйвонсфорда.
– Значит, ты пугалом работаешь? – улыбнулся он.
– Ага.
– А как тебя зовут?
– Годфри, сэр. Даниэль Годфри.
– Что ж, приятно познакомиться, Даниэль Годфри, живое пугало.
Бедняцких детей часто нанимали за гроши отпугивать птиц в полях; вот и этот мальчуган всю весну проведет в поле, не позволяя птицам выклевывать зерно из вспаханной земли.
Ральф задумчиво спустился в долину. Путь его лежал мимо заброшенной крепости на холме – там, у старого вяза, обычно проходили встречи трех избирателей Олд-Сарума, отправлявших в парламент двух депутатов. Сейчас под вязом стоял человек с альбомом в руках. Ральф решительно направился к нему.
Джон Фишер, епископ Солсберийский, за восемнадцать лет, проведенных в Саруме, всячески заботился о делах епархии. В помощь бедствующим сельским священникам он возродил незаслуженно забытую должность окружного викария, однако Портиаса возвышать не стал, что весьма обрадовало Ральфа. Сам епископ происходил из семьи священников, а его племянник, тоже Джон Фишер, впоследствии ставший архидиаконом Беркширским, жил в особняке Леденхолл на соборном подворье, по соседству с епископским дворцом.
Живописец Джон Констебль, приятель Джона Фишера-младшего, пристально вглядывался в развалины древней крепости. С Фи шерами его связывала давняя дружба; они переписывались вот уже двадцать лет. Констебль часто приезжал погостить в Солсбери. Именно величественный собор и пленительные окрестности Са рума вдохновили художника на создание его знаменитых картин и акварелей. В тот день Констеблю довелось встретить своего самого чистосердечного критика.
Под грифелем художника рождалось изображение: вдали, на холме, – живописные развалины старой крепости, на переднем плане – стада овец.
Ральф, взглянув на эскиз, не смог сдержать возмущение:
– Мистер Констебль, так не годится! Ваши пейзажи чересчур жизнерадостны. Ваша кисть превращает Сарум в романтическую пастораль, а ведь на самом деле…
Тут он рассказал ему о мальчике-пугале и напомнил об ужасающих условиях труда бедняков.
– Почему ваши картины этого не отражают?!
Констебль промолчал. Ральф, охваченный горячечным возбуждением, повел рукой в сторону Олд-Сарума и воскликнул:
– К вашему сведению, живописные руины, которые вас так восхищают, – одно из гнилых местечек. Именно оттуда в парламент отправляют двух депутатов. Неужели вы желаете увековечить этот отвратительный символ на ваших полотнах?!
Минут пять Ральф разглагольствовал о насущной необходимости реформ.
Наконец Констебль устало вздохнул:
– Увы, я всего лишь живописец. Хотя, должен признать, меня тоже тревожит положение дел в стране…
Впоследствии Ральф, рассказывая детям об этой знаменательной встрече, с гордостью напоминал:
– Обратите внимание, в поздних работах Констебля сквозит тревожная напряженность. Особенно это заметно в сарумских пейзажах художника. Наверняка он прислушался к моим словам.
К обеду Ральф вернулся на тихое сонное подворье и заглянул в собор, где недавно восстановили старинные витражи в высоких стрельчатых окнах над западным входом; яркие стекла радугой переливались в лучах заходящего солнца. Свершилось то, чего каноник Портиас добивался долгие годы: собору вернули его великолепное украшение.
– Пожалуй, в этом наши взгляды сходятся, – с улыбкой пробормотал Ральф.
В старости, рассказывая об этом дне, он всякий раз объяснял:
– Я словно бы в одночасье увидел весь Сарум – все, и плохое и хорошее, и величие прекрасного собора, и страдания нищих крестьян. Поэтому я этот день на всю жизнь запомнил.
В 1830 году в Саруме случилась трагедия, вселившая ужас в сердца жителей Солсбери. Впрочем, для Ральфа Шокли произошедшее не стало неожиданностью.
В ноябре 1830 года сарумские крестьяне взбунтовались.
Само по себе восстание никого не удивило – подумаешь, мятеж. На севере луддиты то и дело разрушали фабрики и заводы, ломали оборудование. Изредка бунты вспыхивали и в Саруме – ткачи требовали повысить заработную плату или отказывались устанавливать ненавистные машины.
– Они всегда своего добиваются, – говорил Мейсон.
На этот раз все было гораздо серьезнее. Вот уже второй год подряд выдался неурожайным. В усадьбах стали появляться механические молотилки, что вызвало недовольство крестьян. Волнения в Саруме начинались разрозненно, мелкими вспышками – по всему Уилтширу и Гемпширу крестьяне жгли в полях скирды и ломали молотильные машины.
– Грядет революция! – мрачно заявил каноник Портиас.
– Не революция, а аграрная реформа, – возразил ему Ральф.
Оба оказались не правы.
23 ноября 1830 года на северо-восточной окраине Солсбери, в мес течке под названием Бишопсдаун, собралась огромная толпа. Крестьяне и батраки уничтожили молотилку на поле, а затем двинулись к городу.
– Там несколько тысяч человек, все вооружены чем попало! – крикнул Ральфу какой-то священник, торопливо сворачивая с Хайстрит на соборное подворье. – Нас всех убьют! Городские власти уже подняли йоменский полк…
Ральф услышанному не поверил, однако велел сыну проводить Агнесу в особняк Портиасов, а сам отправился в город – по рыночной площади, потом на восток, мимо кварталов Черная Лошадь и Суэйнс. На восточной окраине Солсбери, с лужайки под названием Гринкрофт, Ральф увидел на склоне холма толпу: не тысячи, а несколько сот человек, вооруженных дубинками, кирками и обломками разрушенной молотилки. Отчаянные, озлобленные люди решительно шагали к городу.
На одной из улиц Ральф встретил знакомого ткача, которому не раз передавал еженедельник Коббета.
– На соборном подворье решили, что сейчас смертоубийство начнется…
– Нет, они к Фиджу на литейный двор идут – проклятые машины ломать. Людей не тронут, – объяснил ткач.
– Вот и я так думаю.
Навстречу толпе выехал небольшой отряд констеблей, возглавляемый бесстрашным мистером Уодхемом Уиндгемом, депутатом палаты общин от Солсбери. В отдалении Ральф заметил йоменский полк.
Мистер Уиндгем, как полагается, обратился к бунтовщикам с требованием разойтись. Бунтовщики, разумеется, не вняли, и Уинд гем велел одному из констеблей огласить Акт о мятежах. Толпа неуклонно приближалась к Гринкрофту.
Мистер Уиндгем отправил йоменский полк в наступление.
Битва была недолгой. За несколько минут хорошо обученные солдаты оттеснили крестьян к церкви Святого Эдмунда, а потом и за пределы города.
– Портиас может спать спокойно, – горько сказал Ральф жене. – Двадцать два бунтовщика арестованы, остальных разогнали.
Восстания в других уилтширских городах тоже были жестоко подавлены.
27 декабря 1830 года королевская ассиза – выездной суд в составе председателя сэра Джона Вогана и судей сэра Эдварда Холла Алдерсона и сэра Джеймса Парка – рассмотрела дела трехсот тридцати двух бунтовщиков. Ральфа, присутствовавшего на заседании, обуревало отчаяние – среди арестантов было много подростков, которые из любопытства присоединились к толпе мятежников. Как и следовало ожидать, большей части бунтовщиков предстояло отправиться на каторгу.
Открытие Австралии предоставило правительству Великобритании прекрасную возможность использовать бесплатный труд каторжных поселенцев для колонизации новых земель.
– Преступники там изолированы от честных людей не хуже, чем Наполеон на острове Святой Елены, – объяснял каноник Портиас. – Сбежать из Австралии невозможно, поэтому и тюрем там не строят.
Двадцать восемь бунтовщиков сослали в Австралию навечно, остальных – на срок от семи до десяти лет. Ральф Шокли с удивлением распознал в одном из арестованных подростков Даниэля Годфри, живое пугало, – его тоже высылали на поселение.
Так потомок гордых саксов, Шокли, стал свидетелем того, как наследник благородного нормандского семейства Годефруа, пришедших в Сарум семь веков тому назад, покинул родные края.
Ральф решил, что наконец-то наступила долгожданная эпоха перемен.
В 1830 году английский престол занял новый монарх, Вильгельм IV, король-мореплаватель; ирландскому политическому деятелю Даниэлю О’Коннеллу удалось убедить парламент в необходимости уравнять британских католиков в правах с протестантами; герцог Веллингтон ушел с поста премьер-министра, и после двадцати лет бездействия партия реформаторов-вигов вернулась к активной политической жизни.
– Премьер-министром избран лорд Чарльз Грей! – обрадованно вскричал Ральф. – Вот теперь-то начнутся настоящие реформы.
В 1831 году партия вигов внесла на рассмотрение правительства Билль о реформах – событие не менее значимое, чем основание самого парламента. Виги, как и Симон де Монфор, совершенно не предполагали, что делают шаг к созданию истинной демократии. В их намерения не входило предоставлять право голоса всем жителям Великобритании; билль предполагал лишь дать представительство новым городам, возникшим в ходе промышленной революции, упразднить гнилые местечки и наделить правом голоса зажиточных горожан и землевладельцев. Разумеется, рассматривалось и нелепое предложение о предоставлении права голоса всем домовладельцам, независимо от их уровня дохода, – за него проголосовал один-единственный депутат.
– Вполне естественно, что если дать право голоса представителям среднего сословия, то вскоре этого захотят и представители низов, чего ни в коем случае допускать нельзя, – резонно заметил Портиас. – Нет, такой билль утверждать не следует.
Обсуждение билля затянулось на целый год. В конце концов правительство лорда Грея подало в отставку; объявили внеочередные выборы, победа на которых снова досталась вигам.
О билле говорили повсюду. Ральф Шокли, бродя по окрестностям Сарума, глядел на развалины старой крепости на холме и восклицал:
– Прошло твое время, Олд-Сарум! Скоро, скоро упразднят гни лые местечки, проведут реформы на фабриках и в школах!
А вот Портиас хранил упорное молчание и о билле вовсе не упоминал. Поначалу Агнеса не придала большого значения странному поведению каноника. «Все мы с возрастом меняемся», – думала она. Ральфу, по-прежнему сохранившему юношескую горячность, минуло шестьдесят; Франсес с годами превратилась в степенную, замкнутую матрону и во всем повиновалась мужу.
– Не тревожь каноника разговорами о билле, – предупредила Агнеса мужа. – Он человек пожилой, волноваться ему вредно.
Ральф, не встречавшийся с каноником вот уже почти год, со смехом отвечал:
– Портиас после выборов из дому не выходит.
26 июня 1832 года над Солсбери раздавался перезвон церковных колоколов – праздновали принятие Закона о внесении поправок в представительство Англии и Уэльса, иначе говоря, закона об избирательной реформе.
На следующее утро Ральф Шокли привел всю семью к развалинам старой крепости на холме.
– Вот, теперь это – романтические руины! – торжественно провозгласил он.
Старый каноник с непокрытой головой недвижно стоял у дома на восточном углу лужайки певчих, напротив ворот соборного подворья, и задумчиво глядел куда-то вдаль, влево от особняка Момпессонов. Прохожие учтиво кланялись почтенному клирику, однако он, не отвечая на приветствия, продолжал смотреть в одну точку. Проезжавшим мимо возкам и телегам приходилось огибать старика, который упорно не сходил с места. Он простоял там все утро.
К обеду старика в старомодном черном камзоле и черных шелковых чулках окружили уличные мальчишки. Внезапно один из них расхохотался и, скорчив забавную рожу, подозвал приятелей.
Под ногами старика расползалась зловонная лужица.
Доктор Барникель, проходивший по соборному подворью, заметил несчастного каноника, сообразил, что произошло, и увел его домой.
– Боюсь, ему уже не оправиться, – сказал он вечером Агнесе.
Старый Портиас, тронувшись умом, утратил дар речи.
Несчастный каноник скончался от апоплексического удара первого октября, в тот самый день, когда его привезли в деревеньку Фишертон-Энгер, где мистер Уильям Финч открыл приют для умалишенных.
– Ах, лучше бы он не дожил до реформ! – сокрушалась Франсес.
Впрочем, верная жена и после смерти каноника тщилась защитить его репутацию. Скрыть состояние Портиаса не представлялось возможным – слишком многие знали о том, что рассудок его помрачился. Однако в августе 1834 года, уже после кончины старого Портиаса, когда на улицах Солсбери установили газовые фонари, Франсес нашла удобную отговорку.
– Мой покойный супруг прекрасно себя чувствовал, пока не провели газ, – заявила она брату.
– Франсес, он скончался за год до этого! – удивленно возразил Ральф.
– От газовых фонарей все зло, – настаивала Франсес. – От них каноник сначала рассудком помутился, а потом душу Богу отдал.
Агнеса посоветовала мужу:
– Пусть себе думает что хочет. С ней лучше не спорить.
– Газ совершенно безвреден! – раздраженно сказал он.
Спустя неделю Франсес Портиас упала в обморок под одним из газовых фонарей на подворье.
– Ах, от ядовитых миазмов голова закружилась! – объясняла она. – А как подумаю, что с моим несчастным супругом стало…
С тех пор она взяла в привычку несколько раз в году падать в обморок под фонарями.
В 1834 году всеми обожаемый доктор Таддеус Барникель, закоренелый холостяк, внезапно умер, оставив все свое состояние Агнесе Шокли.
Ральфа это ничуть не удивило.
– Он в тебя всю жизнь был влюблен, – сказал он жене. – Я давно об этом знал.
– Он был мне верным другом, – вздохнула Агнеса.
– Вот чтобы он в мое отсутствие ничего неподобающего себе не позволил, я и попросил его о тебе позаботиться, – с беспечной улыбкой заявил Ральф.
Агнеса ошеломленно взглянула на мужа:
– А ты не боялся, что…
– Нет, конечно! Я в нем всегда был уверен, – усмехнулся он и, спохватившись, добавил: – И в тебе тоже…
Империя
Октябрь 1854 года
Рельсы сверкали в лучах полуденного солнца.
С перрона станции в Милфорде Джейн Шокли задумчиво глядела на восток. Сияющее железнодорожное полотно убегало к Саутгемптону, будто указывая путь к новой, счастливой жизни в необозримом мире.
Скоро все так и будет – Джейн Шокли навсегда покинет Сарум, посвятит себя великому делу служения…
Джейн, невысокая, с золотисто-каштановыми волосами, особой красотой не отличалась.
– Нос у меня слишком… крупный, – говорила она с беззаботным смехом, глядя на собеседника честными голубыми глазами.
Школьные подруги считали ее весьма привлекательной.
Поднимая саквояж, она чуть поморщилась – пластины туго стянутого корсета на китовом усе до боли врезались в бока. «И кто решил, что у женщин должна быть такая неестественно тонкая талия?» – досадливо подумала Джейн, оглядываясь в поисках носильщика.
Она и сама не знала, чего ищет – новых впечатлений или служения великому делу. И того и другого хотелось одинаково.
Паровоз с громким шипением выпустил клуб пара. Джейн вздохнула и решительно двинулась вдоль состава к выходу со станции. Что ж, пусть ей и пришлось вернуться в Сарум, но это ненадолго.
На собеседовании ей отказали, но объяснили, что делать дальше, поэтому сейчас ее ничто не остановит.
Джейн окинула взглядом знакомые с детства пустынные меловые гряды, полукругом огибавшие город. На севере виднелся холм с руинами старой крепости, а в центре долины взметнулся к высокому синему небу величественный шпиль собора. Сарум… Джейн очень любила родные места и знала, что они навсегда останутся в ее памяти.
А вчера она познакомилась с Флоренс Найтингейл.
Случилось это неожиданно, как и все, что было связано с этой замечательной женщиной.
Десять дней назад в газете «Таймс» появилась статья военного корреспондента Уильяма Говарда Рассела, всколыхнувшая всю Анг лию. Оказывается, отважные британские солдаты, раненные на полях сражений в войне, которую Англия вела для того, чтобы защитить Крым от притязаний деспотичного русского императора Николая I, страдают и гибнут в полевых госпиталях и лазаретах. Союзники-французы уже отправили на войну пятьдесят сестер милосердия. Неужели Британская империя оставит в беде своих доблестных защитников?
Спустя несколько дней «Таймс» опубликовала объявление о наборе медицинских сестер для отправки на крымский фронт. Джейн Шокли горела желанием помочь солдатам, и случайная встреча в Уилтоне с миссис Элизабет Герберт развеяла ее сомнения.
– Разумеется, поезжайте в Лондон на собеседование, – одобрительно кивнула миссис Герберт.
Она с мужем Сидни Гербертом, вторым сыном лорда Пемброка и военным министром, были близкими друзьями Флоренс Найтингейл, которая заведовала частной лечебницей для женщин на Харли-стрит. Мистер Герберт предложил мисс Найтингейл собрать группу сестер милосердия и отправиться в турецкий городок Скутари для оказания медицинской помощи раненым в лазаретах на военной базе; для организации поездки он любезно предоставил свой лондонский особняк в Белгрейв-сквер и снабдил экспедицию деньгами.
Три дня спустя после появления статьи в «Таймс» в Белгрейвсквер начали проводить собеседования. Джейн встретилась с миссис Селиной Брейсбридж и миссис Мэри Стэнли, которые дружелюбно расспросили ее, но честно признали:
– Мы ничуть не сомневаемся, что образование, полученное в Солсберийском педагогическом колледже, позволит вам стать прекрасной учительницей, однако же нам нужны обученные сиделки и сестры милосердия.
– Ох, а я так надеялась, что вы принимаете добровольцев, согласных пройти дальнейшее обучение. Ведь хороших медицинских сестер очень мало!
Женщины печально улыбнулись:
– Вы правы, их мало, но мы их обязательно отыщем.
– Наверное, они очень преданы своему делу, – вздохнула Джейн.
– Увы, нет, – прозвучал у нее за спиной уверенный голос.
Флоренс Найтингейл неслышно вошла в комнату и направилась к столу.
– Слишком многие согласны отправиться на фронт исключительно ради денег. Мало кто решается на это, побуждаемый одним лишь чувством долга. Однако все они обучены, особенно монахини католических и англиканских орденов. – Она пристально посмот рела на Джейн. – Вы действительно хотите стать сестрой милосердия? – На миловидном лице мисс Найтингейл играла легкая улыбка.
– Да.
– Если вы желаете к нам присоединиться, советую пройти обучение в одной из больниц.
– А как это сделать?
– Да очень просто! Пошлите им письмо…
Джейн смущенно потупилась:
– Ах да, конечно!
– Великой империи всегда нужны люди, преданные своему делу, – улыбнулась мисс Найтингейл. – Удачи вам.
Служение делу империи…
Владения Британской империи раскинулись по всему земному шару; правили ими люди сильные и властные, такие как лорд Генри Пальмерстон, и ущемлять интересы империи не позволялось никому. Щадящая система налогообложения, введенная канцлером казначейства Уильямом Гладстоном, поощряла свободную торговлю, тем самым обеспечивая благосостояние империи на радость английским городам.
Представители семейства Шокли всецело посвятили себя служению на благо империи – кто, не без выгоды для себя, трудился в Ост-Индской компании, кто служил управляющим богатыми имениями, кто отправлялся в дальние уголки мира распространять хри стианское учение. Джейн с восторгом перечитывала письма старшего брата Бернарда с плантации в Индии и длинные послания дядюшки Стивена Шокли, христианского миссионера в далекой Африке.
Сама Джейн росла и воспитывалась в сонном мирке Солсбери. Отец ее, старший сын Ральфа Шокли, рано умер от чахотки; в том же году скончалась и ее двоюродная бабушка Франсес Портиас, оставив в наследство девятилетней Джейн свои сбережения и особняк на соборном подворье.
– Вот подрастешь, подыщем тебе хорошего мужа, – говорила мать Джейн.
В округе хватало образованных молодых людей из состоятельных семейств – Уиндгемы, Джейкобы, Хасси, Эйры, – однако Джейн замуж не торопилась.
– И чего тебе еще недостает? – вздыхала мать.
– Не знаю…
После школы Джейн решила пойти в педагогический колледж – там получали образование девушки из хороших семей, которые из-за стесненных обстоятельств намеревались служить гувернантками или экономками; впрочем, эти знания могли пригодиться и в замужестве, для ведения домашнего хозяйства. Джейн хотела учительствовать, благо в Солсбери к тому времени открылось двадцать пять частных школ. Мать сокрушенно качала головой – дочь росла слишком своенравной.
А полгода назад мать умерла. Двадцатитрехлетняя Джейн осталась полноправной хозяйкой пятисот фунтов годового дохода и особняка на соборном подворье, с кухаркой, горничной, парой лошадей на конюшне и приятным соседством. Замуж она выходить по-прежнему отказывалась. Впрочем, сейчас ей следовало обзавестись компаньонкой – правила приличия не позволяли незамужней даме жить в одиночестве. Работу свою Джейн любила, но для полного счастья ей чего-то не хватало.
Почему она с таким восторгом перечитывала письма из дальних краев? Зачем от корки до корки читала газеты, хотя ее подруги предпочитали вышивку и шитье? Ради чего она хотела обо всем иметь свое мнение?
– Мнения пускай мужчины выражают, женская доля – молчать и слушать, – говорила мать.
– А мне очень хочется посвятить себя какому-нибудь благому делу, – отвечала Джейн.
– Вот и займись благотворительностью.
В то время в Солсбери было немало благотворительных заведений: Коллегия матрон на соборном подворье, богадельня Эйров, странноприимный дом Хасси, дом призрения Блечинденов, – которым покровительствовали все уважаемые жительницы Солсбери.
– Нет, это все не то… – вздыхала Джейн.
– А чем же еще заняться в Саруме? – удивлялась мать. – Да и с какой стати?
Джейн не знала, что ей ответить.
После смерти матери Джейн подумывала уехать к брату в Индию… или лучше к дядюшке-миссионеру? Впрочем, от поездки в Африку ее все отговаривали.
А теперь у Джейн появился новый кумир – Флоренс Найтингейл.
На тумбочке у постели Джейн лежали два томика стихов: поэмы Уильяма Вордсворта и сонеты Элизабет Баррет-Браунинг.
Ты спрашиваешь, как тебя люблю я? Всей глубиной души, всей высотой, Когда над повседневной суетой В мечтах она возносится, ликуя…[57]Все сонеты Джейн помнила наизусть, равно как и романтическую историю замужества поэтессы – эпистолярное знакомство с поэтом Робертом Браунингом, тайное венчание, бегство в Италию…
«Ах, если бы меня кто-нибудь отсюда тайно похитил!» – со смехом признавалась себе Джейн.
Утреннее солнце согревало древние камни собора; на лужайке певчих с деревьев облетала листва. На первом этаже особняка деловито сновала горничная Лиззи.
Джейн сладко потянулась – вставать не хотелось, но придется. Надо принять решение, пока не прошел запал. Что делать? Поехать в Лондон? Поездом? А когда? Ох, как же все сложно…
Лиззи постучала в дверь, внесла в спальню поднос с почтой.
Джейн, не дожидаясь, пока за горничной закроется дверь, торопливо вскрыла послание брата из Индии.
Любезная моя сестра!
Меня очень тревожит, что с кончиной нашей милой матери ты осталась в Саруме совсем одна. Мы с Гарриет будем очень рады, если ты приедешь к нам погостить хотя бы на полгода. Дети жаждут с тобой познакомиться – заранее предупреждаю, не смей их разочаровывать, мы их запугали рассказами о строгой тетушке. Переме на обстановки наверняка пойдет тебе на пользу; вдобавок в нашем достойном обществе много приличных молодых людей, которые… Прости, я замечтался.
Военная кампания в Крыму благоприятно повлияла на наши дела. Как тебе известно, округ Хугли славится огромными джутовыми плантациями; джут пользуется большим спросом в Америке, где у нас его закупает фирма «Брэдли и Шокли» – как тебе такое совпадение? Так вот, из-за войны в Крыму поставки русского льна и пеньки в Данди прекратились, и тамошние промышленники перешли на джут – теперь мы только туда его и отправляем, и наши доходы непрерывно растут. Однако об этом лучше рассказывать при личной встрече. Приезжай скорее, все своими глазами увидишь…
Дальше Джейн читать пока не стала. Милый Бернард! Старший брат, вот уже десять лет живший в Индии, всегда присылал обстоятельные послания, полные рассказов о делах и политике. Но сейчас ей письма читать некогда, надо побыстрее принять решение…
Джейн быстро оделась, вышла на соборное подворье и направилась в клуатр, где, как всегда, царили тишина и покой. В честь восшествия на престол королевы Виктории епископ Эдвард Денисон посадил на центральной лужайке два ливанских кедра; с тех пор саженцы превратились в высокие деревья с раскидистыми кронами, отбрасывавшими рябые тени на могильные камни. В этом году архитектор Генри Клаттон начал реставрационные работы в клуатре и в здании капитула. Джейн вошла в восьмиугольный зал полюбоваться отреставрированными барельефами с изображениями библейских сцен. Недавно каменщики, подправляя кладку стен, обнаружили здесь горсть монет шестисотлетней давности, времен Эдуарда I.
Решение давалось Джейн с трудом. Что делать? В Крым ее не взяли, посоветовали пройти обучение в больнице, но ведь на это уйдет несколько лет… Хочется ли Джейн стать сиделкой или медицинской сестрой? Может быть, лучше и впрямь уехать в Индию, там так интересно! Или остаться в милом сердцу Саруме? Здесь у нее столько знакомых и задушевных подруг…
Джейн терзали сомнения. Она неторопливо пересекла клуатр и вошла в собор.
На стене висело потрепанное знамя Уилтширского пехотного полка. Скромная табличка гласила, что оно побывало в сражениях в Сицилии (1806–1814), в Соединенных Штатах Америки (1814–1815) и было утеряно во время бури на реке Ганг в 1842 году, однако найдено спустя восемь месяцев; в собор полковое знамя передали в 1848 году.
Джейн с волнением разглядывала выцветшее полотнище, напомнившее ей о воинской доблести и славе, о Крымской войне, о храбрости и отваге, о служении на благо империи… Внезапно ей стало неловко за свое беззаботное, легкое житье.
Старое полковое знамя и двадцатитрехлетняя девушка…
И тут Джейн вспомнились строки из любимой поэмы Вордсворта:
…В ореоле славы мы идем Из мест святых, где был наш дом![58]Ореол славы… В воображении Джейн возникли неведомые далекие края и героические подвиги. Она должна пожертвовать собой, посвятить себя служению на благо империи!
И Джейн поспешно отправилась домой – писать письма в больницы.
Джозеф Портерс, склонив в голову, пристально разглядывал водосток.
– Империя – залог прогресса и успеха, сэр! – энергично воскликнул Эбенизер Микельтуэйт, поверенный лорда Фореста.
– Да-да, разумеется, – рассеянно кивнул Портерс и осведомился: – Так что мы будем делать с водостоками и этими домами?
– А зачем с ними что-то делать? Они надежны и крепки, как банк Англии, сэр.
– Ах вот как! По-моему, это рассадник заразы. Того и гляди снова эпидемия холеры начнется.
Микельтуэйт исподлобья поглядел на собеседника: восторженная речь о будущем империи не принесла желаемого результата – Портерс упрямо возвращался к обсуждению водостоков.
– Предложенная вами перепланировка кварталов обойдется слишком дорого, – заметил поверенный.
– Ничего страшного, все расходы возьмет на себя город, – возразил Портерс.
– Не все, а только часть. Вдобавок придется увеличить муниципальный налог.
Они беседовали посреди одного из кварталов, у канавы, где собирались сточные воды с сорока близлежащих дворов; густая черная жижа стояла вровень с бортами водостока, даже зимой источая тяжелое едкое зловоние.
– Это не вода, а одни нечистоты.
– Между прочим, поблизости недавно колодец пробурили, обнаружили минеральный источник, – напомнил Микельтуэйт.
– Да-да, только вскоре оказалось, что вода текла не из родника, а из сточной ямы, потому и была мутной и с запашком. А люди ее пить пробовали, мистер Микельтуэйт.
У жителей старых кварталов Солсбери хватало причин для возмущения. Зараза распространялась по городу, потому что грязная вода застаивалась в средневековых водостоках и сливных каналах, не чиненных и неочищаемых уже несколько столетий.
– Солсбери называют английской Венецией! – возмутился поверенный.
– А я называю его мерзкой клоакой, – нетерпеливо оборвал его Портерс. – Мистер Микельтуэйт, вам и вашим хозяевам давно следует признать свое поражение. Я рекомендовал муниципальным властям провести полный дренаж квартала и проложить новые канализационные стоки и отводные каналы ко всем домам. Так что все это перероют, а вон те мастерские снесут… – Он кивнул в сторону дощатых хибар в два этажа. – Давно пора.
– Мы же их в аренду сдаем! – проворчал Микельтуэйт.
– Построите новые, будет что сдавать, – ответил Портерс и собрался уходить.
– Если бы не доктор… – недовольно буркнул поверенный.
– А как вы себе прогресс представляли? – с язвительной улыбкой спросил Портерс.
Борьба за очистку водостоков шла уже не первый год. О городских водостоках и отводных каналах кое-как заботились советники дорожного управления при муниципалитете, а канализационная система в старых жилых кварталах принадлежала владельцам кварталов, которые вообще ничего не предпринимали для ее поддержания в подобающем состоянии.
В 1849 году в Солсбери разразилась эпидемия холеры; из полутора тысяч заболевших погибли несколько сот человек. Доктор Эндрю Мидлтон, посетивший город, возмутился состоянием канализации и убедил муниципальный совет провести инспекцию городской системы водоснабжения. Инспекция выявила необходимость глубинного дренажа, что требовало значительных расходов, а потому секретарь муниципального совета уничтожил все письменные свидетельства и медицинский отчет. Тогда доктор Мидлтон развернул широкую кампанию по борьбе за улучшение городского водоснабжения и канализации, горячо поддержанную жителями Солсбери.
Закон об общественном здравоохранении, принятый в 1848 году, обязывал местные власти создавать при муниципалитетах санитарные управления.
– …И тогда водоснабжение и канализация перейдут из ведения чиновников дорожного управления к чиновникам управления санитарного, – хмуро втолковывал Микельтуэйт лорду Форесту. – И не только водоснабжение, но и общее благоустройство жилых кварталов, а значит, любые рекомендации по улучшению их состояния будут выполняться за счет муниципальных налогов…
– Платить которые придется мне…
– Совершенно верно, сэр.
Владения лорда Фореста теперь сосредоточились на промышленном севере Англии и в Индии; он давным-давно отказался от дедовского особняка на соборном подворье, а в Сарум приезжал всего два раза в жизни, однако все еще владел одним из городских кварталов.
– Вы разберитесь с этим, да поскорее, – велел Форест поверенному.
Разбирательства заняли два года. Микельтуэйт и муниципальные чиновники, которым принадлежали многие городские кварталы, отчаянно сопротивлялись, но в конце концов дело проиграли.
Год назад Джозеф Портерс, инженер-строитель, получив назначение в Солсбери, приехал из Лестера и приступил к осушению и засыпке старых каналов, состояние которых ужаснуло его не меньше, чем доктора Мидлтона. Однако сам город ему понравился: и соборное подворье с его чинными обитателями и суровыми клириками в черных одеяниях, и шумный рынок, куда приводили скот на продажу, и ярмарки в Уилтоне, где с торгов продавали овец, и конные бега на взгорье.
– Здесь работы надолго хватит, – удовлетворенно заметил Портерс и отправился подыскивать подходящее жилье.
Тридцатисемилетний Джозеф Портерс держал себя с достоинством и одевался, как подобает человеку солидному: черный фрак, серый жилет, белая сорочка и тщательно повязанный галстук-бабочка. Редеющие русые волосы прикрывал черный цилиндр; бакенбарды Портерс стриг коротко, а в молодости носил усы, которые потом сбрил, решив, что они плохо сочетаются с полукруглыми очками, и с присущим ему суховатым чувством юмора заявлял, что раз уж он красотой не блещет, то за внешностью приходится следить.
В Солсбери Портерс обнаружил два источника наслаждения.
Во-первых, при осушении и расчистке каналов и сточных канав из шестисотлетних наслоений донной грязи на свет божий извлекли бесчисленное множество удивительных предметов – чесальные гребни, ножницы для стрижки овец, глиняные курительные трубки, монеты и прочие сокровища, представляющие несказанный интерес для собирателя древностей. В скором времени работники, завидев мистера Портерса, почтительно отступали в сторону, а он, презрев чувство собственного достоинства и белизну свежей сорочки, полчаса ковырялся в грязи, после чего поспешно удалялся в свой дом на Кастл-стрит, прижимая к груди очередную поразительную находку.
– Еще немного – и можно музей открывать, – говорил он настоятелю собора.
А во-вторых – и в этом Портерс долго не хотел себе признаваться, – источником невероятного наслаждения стало знакомство с мисс Джейн Шокли.
Библиотека в особняке Шокли занимала небольшую комнату на втором этаже и разительно отличалась от гостиной, обставленной по викторианской моде: стол, задрапированный бархатной скатертью, две пальмы в кадках, часы в футляре, покрытом замысловатой резьбой, восковые цветы и фрукты в чашах и четыре фарфоровые статуэтки. В библиотеке же, кроме книжных шкафов до потолка, стояли лишь два глубоких кожаных кресла, журнальный столик орехового дерева и бюро, за которым сейчас писала Джейн.
К трем часам дня она, сочинив четыре письма в больницы, рассеянно выглянула в окно и, увидев Джозефа Портерса, досадливо вздохнула:
– О господи!
И зачем она с ним заговорила?!
Год назад, когда Портерс только приехал в Солсбери, Джейн с подругами прогуливалась по городу. Одна из девушек, завидев худощавого серьезного незнакомца, пояснила приятельницам:
– Это Портерс, он приехал сточные канавы расчищать.
Девушки расхохотались, а Джейн, желая похвастаться своей независимостью, решительно подошла к инженеру, с преувеличенным любопытством заглянула в пересохший канал и осведомилась:
– Мистер Портерс, как вам наши водостоки?
В ответ он начал серьезно и обстоятельно объяснять своей новой знакомой достоинства и недостатки средневековой системы водоснабжения, упомянул о необходимости предотвращения холеры и рассказал о чудесных находках, скрытых под вековыми пластами грязи. Из вежливости Джейн выслушивала его с полчаса; подруги, стоя у витрины обувной лавки Сурмана, хихикали и перебрасывались шуточками.
– Между прочим, я узнала много интересного, – обиженно заявила Джейн приятельницам. – А городские власти поступили возмутительно!
После этого при встречах с Джейн мистер Портерс учтиво раскланивался, а она приветливо с ним здоровалась – опять же из вежливости. Подруги поддразнивали ее и шутливо расспрашивали о новостях из сточных канав; в отместку Джейн приняла его приглашение на ежегодный концерт органной музыки в день святой Цеци лии и на сельскохозяйственную ярмарку.
– Оказывается, он прекрасно разбирается в георгинах! – рассказывала она подругам.
Как-то раз они провели вместе целый день – один из каноников устроил поездку в Файфилдские каменоломни на Солсберийской возвышенности, а мистер Портерс развлекал гостей рассказами о твердом песчанике, называемом сарсеном, и объяснил, что именно из этих камней, которыми теперь мостят дороги, много тысяч лет назад построили Стоунхендж.
Джейн было приятно находиться в обществе Портерса; ей нравилась его осведомленность – но и только.
Лиззи внесла в библиотеку серебряный поднос с визитной карточкой инженера и объявила:
– Вас мистер Портерс спрашивает, мисс Джейн.
Сказать, что сегодня она не принимает? Нет, он обидится. Вот так всегда… Джейн со вздохом отложила перо:
– Да-да, проводи его ко мне.
«Как бы его отвадить?» – подумала она.
Джозеф Портерс, забыв о правилах приличия, с любопытством оглядел библиотеку: светлая комната, книжные шкафы до самого потолка, на столике – каталог Всемирной выставки, проведенной три года назад под покровительством принца Альберта, и каталог Солсберийской выставки, поскромнее, устроенной в городской ратуше.
Почетное место на книжных полках занимали переплетенные в сафьян тома «Древней истории Уилтшира» за авторством баронета Ричарда Коулта-Хоара, и «История Солсбери», написанная Генри Хатчером. Внушительные фолианты содержали подробное описание графства – в них перечислялись все приходы, памятники старины, усадьбы и поместья крупных землевладельцев и излагалась подробная история дворянских родов с феодальных времен. Издание имело огромный успех и распространялось по подписке. Последний том «Истории Уилтшира», содержащий описание города Солсбери, был составлен помощником сэра Ричарда Генри Хатчером, выходцем из низов, и снискал похвалу читателей, хотя самому автору особой славы не досталось.
Увидев эти книги в библиотеке Джейн, Портерс отчего-то расстроился.
Рядом с каталогами лежали три выпуска нового романа Чарльза Диккенса «Тяжелые времена», «Ярмарка тщеславия» Уильяма Мейкписа Теккерея, «Грозовой перевал» некоего Эллиса Белла[59] и томик поэм лорда Байрона. Сам Портерс с сочинениями Байрона был незнаком, но полагал их неподходящими для дам. Впрочем, ему не раз говорили, что только дамы их и читают.
– Прошу простить мой неожиданный визит, – начал он.
– Что вы, я рада вас видеть, – вежливо ответила Джейн.
Портерс еще раз поглядел на томик Байрона и мрачно заметил:
– Я вот стихотворений не читаю…
– Разумеется, – вздохнула Джейн. – Не желаете ли присесть, мистер Портерс?
Он внезапно покраснел до самых ушей – явиться без приглашения к незамужней женщине считалось недопустимым нарушением правил приличия.
– Сейчас Лиззи чаю принесет, – сказала Джейн.
Как обычно, разговор зашел о серьезных вещах: когда Портерс говорил на хорошо знакомые ему темы, то становился прекрасным собеседником. Вот и сейчас он завел речь о железнодорожной ветке, которую обещали провести в Сарум.
– Муниципалитет уже подал прошение в парламент, – объяснил Портерс. – У Солсбери нет железнодорожного сообщения с Лондоном, а это недопустимо в наш прогрессивный век. Одной железнодорожной ветки в Саутгемптон недостаточно. Солсбери вполне может стать таким же важным промышленным центром на юге страны, как Манчестер – на севере.
Джейн, с улыбкой выслушав Портерса, лукаво заметила:
– Боюсь, обитатели соборного подворья не разделяют вашего восторга.
– А вы, мисс Шокли?
– А я полагаю, что вы правы, – призналась она.
– Вот увидите, в Солсбери обязательно проведут железную дорогу! – убежденно воскликнул Портерс.
Не оставил он без внимания и Всемирную выставку, и выстроенный для ее проведения Хрустальный дворец, в залах которого побывали шесть миллионов посетителей.
– А известно ли вам, мисс Шокли, что ваш соотечественник, мистер Уильям Бич, удостоен особого упоминания в каталоге выставки? Он этим очень гордится.
– Ваша осведомленность не знает границ, мистер Портерс, – улыбнулась Джейн, решив при случае обязательно передать поздравления ножевых дел мастеру, славившемуся на всю округу своими столовыми приборами. – Кстати, после выставки и в моем доме появилось нововведение, – со смешком добавила она. – Я приобрела газовую плиту для кухни.
– Великолепное изобретение, – кивнул Портерс. – А как к нему относится ваша кухарка?
– Вы весьма проницательны, мистер Портерс. – рассмеялась Джейн. – Кухарка попыталась разжечь ее по старинке, огнивом, и едва не устроила в доме пожар, поэтому теперь к плите не подходит.
– Что ж, для радикальных реформ нужно время…
– Кстати, о реформах, – сказала Джейн, – я с недавних пор прониклась чрезвычайным интересом к чартистскому движению.
У мистера Портерса от удивления отвисла челюсть. Он поспешно закрыл рот, сглотнул и переспросил:
– К чартистскому движению?
– Да.
– Но, мисс Шокли, оно вот уже лет шесть как потерпело фиаско…
– Ну и что? По-вашему, их требования несправедливы?
– Вы имеете в виду всеобщее избирательное право?
– Разумеется.
Требования чартистов, включавшие в себя тайное голосование и избирательное право для всех мужчин безотносительно их имущественного положения, считались чрезмерными, и широкой общественной поддержки движение не получило. Многие доводы чартистов вызывали у Джейн смутное беспокойство, хотя она и не знала, как их опротестовать. Ведь если право голоса будет у всех, а не только у собственников, то интересы собственников будут ущемлены… Двести лет назад, во время английской буржуазной революции, опасения подобного рода возникали и у далеких предков Джейн.
На самом деле она не придерживалась столь радикальных взглядов, но ей удалось добиться желаемого результата: мистер Портерс был шокирован.
– Мисс Шокли, надеюсь, вы сознаете, насколько опасны подобные идеи? – обеспокоенно спросил он.
– Неужели вы противник реформ? По-вашему, следует отменить законодательство, введенное лордом Шафтсбери для улучшения условий труда женщин и детей на фабриках и в угольных шахтах?
– Нет, что вы!
– Или, может быть, стоит упразднить управление здравоохранения? Пусть холера снова свирепствует…
– Мисс Шокли…
– Так что если вы действительно печетесь о благе горожан, то придется вам со мной согласиться!
Мистер Портерс изумленно воззрился на нее.
«Теперь я ему наверняка разонравлюсь», – удовлетворенно подумала Джейн.
– Увы, мисс Шокли, согласиться с вами я не могу.
– Что ж, в таком случае…
За чаем они обсуждали городские новости. Джейн и не подозревала, какие мысли роятся в голове собеседника.
«Ей скучно, а заняться нечем… – размышлял Портерс. – Вот выйдет замуж, образумится… Зато какая искренность и прямота – просто восхитительно!»
Джейн, пригубив чая, невозмутимо произнесла:
– Я скоро уеду из Сарума, мистер Портерс. Может быть, мы с вами больше не увидимся…
Портерс неловко опустил чашку на блюдце; тоненько звякнул фарфор.
– А позвольте осведомиться – куда?
– В Лондон. Хочу стать медицинской сестрой, как мисс Найтингейл.
На мгновение Портерс утратил дар речи.
– Сарумскому обществу вас будет недоставать…
– Сарумское общество без меня прекрасно обойдется. Чартистов здесь не любят.
Помолчав, он спросил:
– И когда вы уезжаете?
– Очень, очень скоро. Так что мы вряд ли увидимся, – с улыбкой произнесла Джейн.
«Уф, наконец-то я от него избавлюсь…» – подумала она, но тут же с ужасом заметила, что у Портерса задрожали пальцы.
Он склонил голову и, деликатно кашлянув, сказал:
– Мисс Шокли, прежде чем вы уедете, я должен вам признаться, что…
Портерс вздохнул и посмотрел на помертвевшее лицо Джейн.
«Как его остановить? – лихорадочно размышляла она. – Что хуже – оборвать излияния или все-таки выслушать?»
От волнения на бледных щеках Джейн вспыхнули пятна румянца.
Портерс истолковал это по-своему и продолжил:
– Я счастлив называться вашим другом…
– Да-да, конечно, – чуть слышно прошептала она.
– Я не мог не обратить внимание, что своим поведением и взглядами вы разительно отличаетесь от дам вашего круга…
Джейн растерянно взглянула на него.
– Я понимаю, что я… – Он осекся.
Нет, о разнице в сословном положении и происхождении упоминать невозможно.
«Господи, какой ужас!» – подумала Джейн.
– …человек скромный и состояние мое невелико, но смею надеяться, вам известно, что я преклоняюсь перед вашим умом и…
Джозеф Портерс, человек образованный и воспитанный, во многом превосходил знакомых Джейн. Неужели он не понимает, что это невозможно… Их ведь даже не станут принимать…
– Мисс Шокли, если вы передумаете уезжать, то окажете мне великую честь… – сбивчиво пробормотал он и, набравшись смелости, выпалил: – Я прошу вашей руки!
Джейн потупилась и, разглядывая узор на ковре, тщетно пыталась подыскать слова для вежливого отказа.
Молчание затягивалось.
Портерс решил выложить свой главный козырь:
– Оказывается, мисс Шокли, мы с вами в некоторой степени родственники. Двоюродный брат моего деда жил в Саруме, только фамилию свою писал немного иначе – каноник Портиас.
«Боже мой, только этого еще не хватало…»
– Я вам очень признательна, мистер Портерс, но, боюсь, должна вас огорчить – решения об отъезде я не изменю.
– Смею ли я надеяться, что…
Ах, ну почему она замешкалась с ответом?! От смущения? Слова не шли. Нет, надо быть тверже.
– Мистер Портерс, я весьма польщена вашим предложением, однако намерена всецело посвятить себя делу милосердия, а потому…
– Мисс Шокли, если вы передумаете…
– Благодарю вас, мистер Портерс.
Он встал и направился к двери.
– Однако какое любопытное совпадение, – сказала Джейн ему вслед. – Каноник Портиас…
– Да, в самом деле, – ответил Портерс и вышел.
Ничего не поделаешь, придется стать сестрой милосердия.
21 октября 1854 года «Солсберийский вестник» перепечатал статью из газеты «Таймс» о положении дел в военных госпиталях, а также письмо лейтенанта Генри Фостера из 95-го пехотного полка, который, побывав в Скутари, утверждал, что ужасов, описанных мистером Расселом, он там не увидел. «Можно с уверенностью заключить, – говорилось в „Солсберийском вестнике“, – что сообщение военного корреспондента „Таймс“ основано на неподтвержденных слухах…»
– Хорошо, что вы никуда не поехали, мисс Джейн, – сказала миссис Браун, кухарка.
22 октября Джейн Шокли получила письмо из Африки.
Любезная моя племянница!
Мой знакомый Кроутер, негритянский священник, о котором я тебе уже рассказывал, с триумфальным успехом вернулся на пароходе «Плеяды» из экспедиции по Бенуэ, притоку Нигера, и поведал мне, что принес Слово Божие многим своим соплеменникам, обратив их в христианскую веру. Кроутер до сих пор с волнением вспоминает о том, как три года назад встречался в Англии с королевой Викторией, принцем Альбертом и премьер-министром лордом Пальмерстоном. По моему разумению, ему очень повезло – именно благодаря благосклонному интересу ее величества к нашим скромным трудам во славу Божию правительство изыскало возможность направить нам «Плеяды», однако Кроутер уверяет, что всегда и во всем полагается исключительно на волю Господа…
Джейн давно восхищалась самоотверженными деяниями Самюэля Кроутера, бывшего раба, ставшего проповедником и посвященного в духовный сан. Вместе со Стивеном Шокли он служил в христианской миссии на Нигере; дядюшка прочил ему чин епископа. Вот оно, свидетельство прогрессивного образа мыслей!
…Отважные путешественники вернулись в миссию целыми и невредимыми, даже малярией никто не заболел.
К сожалению, мое здоровье оставляет желать лучшего; здешний климат не пошел мне на пользу. Вдобавок рассказы Кроутера напомнили мне о доброй старой Англии. Ах, как мне хочется вернуться в родные края! Я еженощно молю Господа дать мне силы на обратный путь…
Прими мои искренние соболезнования по поводу безвременной кончины твоей милой матушки. Однако же воистину неисповедимы пути Господни – я рад, что ты по-прежнему в нашем старом особняке на соборном подворье и, смею надеяться, не откажешь в гостеприимстве своему любящему дядюшке.
P. S. Я возвращаюсь в Англию следующим почтовым пароходом.
Джейн в отчаянии уставилась на послание. Милый дядюшка-миссионер, беззаветным служением которого она так восхищалась, собирается приехать в Солсбери и ожидает, что она будет за ним ухаживать! Ведь именно в этом и заключается долг любящей незамужней племянницы…
Железнодорожные пути у Милфордской станции сомкнулись тугой петлей.
О сестрах милосердия и о путешествии в Индию лучше забыть.
На время.
А потом – долгожданная свобода!
1861 год
В тридцать лет Джейн Шокли наконец-то нашла свое призвание.
На восточной стороне рыночной площади высилась ратуша – внушительный прямоугольный особняк строгих классических очертаний, возведенный, как и городская больница, на пожертвования Джейкоба Плейделла-Бувери, второго графа Раднора. Ратуша служила постоянным напоминанием не только о владельцах Кларендона и их роли в жизни Сарума, но и о строгой взыскательности, которой, к сожалению, обитатели Сарума не проявляли.
Рядом с Джейн на ступенях ратуши стоял невысокий коренастый мужчина с тяжелой круглой головой.
– Нам нужно заботиться не о материальном благосостоянии, а о духовных и нравственных устоях! – заявил он, печально глядя на Джейн снизу вверх.
Она согласно кивнула: кому же еще заботиться о духовных и нравственных устоях, как не мистеру Даниэлю Мейсону, убежденному методисту и ревностному радетелю трезвости.
– Я и вас на нашу сторону склоню, мисс Шокли, не сомневайтесь! – воскликнул он.
К движению за трезвость и воздержание, основанному англиканскими нонконформистами всевозможного толка – уэслианами, баптистами, конгрегационалистами и прочими, – теперь примкнули и католики (благо в Саруме к ним относились терпимо), и многие другие. Два года назад в Солсбери приезжал Джон Бартоломью Гоф, известный американский проповедник трезвого образа жизни, и послушать его собралась толпа в полторы тысячи человек.
– Англиканские священники тоже весьма обеспокоены хроническим пьянством среди прихожан, – объяснял Мейсон.
Теперь, когда империя вступила в новую, прогрессивную эпоху развития, все внезапно озаботились моральным и нравственным состоянием общества – и лорд Шафтсбери, ратовавший за улучшение условий труда и охрану здоровья населения, и аристократы, и католики. Даже Флоренс Найтингейл, вернувшись в Англию, читала королеве Виктории трактат доктора Фредерика Ричарда Лиза о пользе воздержания.
– Реформы всегда встречают сопротивление общественности, – продолжил Мейсон, обводя взглядом рыночную площадь. – Да вот, извольте сами убедиться.
В телеге дремал подвыпивший мужчина; рядом с ним сидели двое изможденных детей в лохмотьях.
– Ах, это ужасно, – вздохнула Джейн.
– Как вы полагаете, трезвость и воздержание пойдут им на пользу? – осведомился Мейсон.
– Разумеется.
– Что ж, мисс Шокли, пойдемте, я вас познакомлю.
Жарким августовским днем рынок словно бы разморило. Посреди рыночной площади переминались у привязи сонные коровы; в загонах лениво блеяли овцы – из тех, которых не продали на июльской ярмарке; между распряженными повозками и телегами с откинутыми бортами там и сям виднелись наскоро установленные шаткие прилавки. Возчики в поддевках, какие-то юнцы в рубахах с распахнутым воротом и панталонах в обтяжку, крестьяне-арендаторы в длиннополых сюртуках и высоченных цилиндрах; дамы в широких кринолинах с бесчисленными оборками и в шляпках, украшенных несметным количеством лент, – все двигались медленно, будто во сне. По краям рыночной площади дремотно колыхались навесы над лавками, легкий ветерок разносил вокруг запахи навоза, пыли, сена, горячих имбирных лепешек и крепкого уилтширского пива.
На первый взгляд рыночная площадь выглядела прежней, однако в ее дальней, западной оконечности, за сырными рядами у церкви Святого Фомы, красовалось новое здание, увенчанное классическим фронтоном, опирающимся на три арки. Оно приводило мистера Портерса в восхищение, поскольку служило одновременно крытым рынком и железнодорожной станцией.
В последние пять лет Солсбери наконец-то получил доступ к железнодорожному сообщению. Через новый вокзал в Фишертоне проходили ветки Лондонской и Юго-Западной железной дороги к Саутгемптону и Андоверу, а также Уилтширская, Сомерсетская и Веймутская ветки, часть разветвленной сети ширококолейных дорог компании «Грейт Вестерн»; от Фишертона к рыночной площади протянули небольшой участок пути.
– Наконец-то и в Солсбери пришел прогресс! – удовлетворенно восклицал Портерс.
Однако же, хотя к станции то и дело подъезжали поезда, а по округе разносился дробный перестук колес, протяжные гудки и шипение пара, облаками вырывавшегося из паровозных труб, хотя город разрастался и сюда стекалось все больше и больше людей – кто полюбоваться живописными местами, а кто и вовсе переселиться в зачарованные сонные деревеньки пятиречья с его зелеными долинами и пастбищами на древних меловых грядах, по которым лениво бродили стада овец, – покойное течение жизни в Солсбери по-прежнему подчинялось размеренному, неторопливому ритму рыночных дней.
Мало кто догадывался, что долина пятиречья посреди Солсберийской возвышенности издревле служила центром рыночной торговли – еще до того, как Англия прославилась своим сукном, задолго до основания Уилтона и даже прежде, чем на берегу тихой реки построили Сорбиодун, постоялый двор для римских гонцов. Сверкающие рельсы, как некогда римские дороги, проложенные поверх троп, проторенных в незапамятные времена, снова превратили Сарум в средоточие торговой и духовной жизни обширного региона.
А Джозеф Портерс жаждал коренных перемен. Он убеждал городские власти в насущной необходимости строительства промышленных предприятий, к примеру вагоностроительного завода.
– Солсбери станет вторым Манчестером! – объяснял он.
Увы, муниципальные чиновники к его просьбам не прислушались; вагоностроительным заводом обзавелся город Суиндон на северо-западе графства.
Джейн об этом нисколько не сожалела.
На краю телеги сидели двое детей. Шестилетняя девочка в выцветшем зеленом платье с прорехой на спине и в дырявых чулках – один белый, другой бурый, – рассеянно болтала ногами в обшарпанных башмаках с полуоторванной подошвой и куталась в рваную шерстяную шаль с ободранной бахромой. Ее босоногий четырехлетний братишка в залатанных штанах и рубахе, превратившейся в лохмотья, сосредоточенно жевал апельсин, размазывая липкий сок по перепачканным щекам. В телеге на охапке соломы пьяно всхрапывал сорокалетний небритый мужчина в измятом шейном платке.
– Мои подопечные, – объяснил Мейсон. – Мать недавно умерла, а отец… Арендатор, между прочим. Эй, Джетро Уилсон!
Мужчина, чуть приоткрыв заспанные глаза, недовольно пробурчал:
– Ну, чего пристал? А, мистер Мейсон, это вы… Перевоспитывать меня пришли?
Он с неожиданной легкостью приподнялся, отбросил со лба длинные, давно немытые спутанные волосы и сел, глядя на Мейсона и его спутницу.
«А он привлекательный», – вдруг подумала Джейн. От жилистого тела веяло скрытой силой, косматые бакенбарды не портили узкое выразительное лицо с орлиным носом… Что заставило его так опуститься – лень, пьянство или презрение к окружающим? Он едва заметно кивнул, и дети, соскочив с телеги, бросились запря гать лошадь.
– Опять пьянствуешь? – укоризненно спросил Мейсон.
– Ну, выпил немного, так ведь проспался уже.
– Постыдился бы, о детях совсем не думаешь!
– А чего о них думать? Вон, лошадь запрягают… – задумчиво протянул Уилсон.
– Я тебя очень прошу, позаботься о детях!
– И что с ними делать прикажете?
– Учить их уму-разуму и слову Божьему.
– Они и без того сызмальства к труду приучены, без дела не сидят.
– Этого мало, сам понимаешь.
– Уж сколько есть.
– Я с тобой еще поговорю, – пообещал Мейсон.
– Ага.
Дети вскарабкались на телегу. Уилсон нахлобучил на голову широкополую шляпу, лениво щелкнул кнутом, и заморенная лошадка медленно тронулась в путь. Немного погодя Уилсон обернулся и, пристально глядя на Джейн, неторопливо приподнял шляпу.
– Вот наглец! – пробормотал Мейсон. – Мисс Шокли, я буду вам чрезвычайно признателен, если вы поможете мне образумить его… Или хотя бы детишкам его пособить.
Вот уже несколько лет Джейн Шокли принимала активное участие в благотворительной деятельности – в Саруме нищих хватало.
– Мисс Шокли – удивительная женщина! – восхищался Даниэль Мейсон.
Джейн по-прежнему преподавала в школе, а в летние месяцы, вооружившись сочинением мисс Найтингейл «Записки об уходе», работала сиделкой в больнице лорда Раднора.
– Если бы не ее дядюшка, она бы давно уехала из Сарума, – часто говорил Мейсон.
Приезд дядюшки стал для Джейн огромным разочарованием. Ясным декабрьским днем с поезда из Саутгемптона сошел тощий согбенный старик с землистым морщинистым лицом и выцветшими голубыми глазами; закутанный во множество пледов и шалей, он двигался с трудом, опираясь на толстую трость. Говорил он негромко, однако требовал к себе постоянного внимания, ясно давал понять, чего желает, и даже помыслить не мог, что его племяннице может хотеться чего-то иного, кроме как окружать его непрерывной заботой и лаской. К великому изумлению Джейн, человек, всецело посвятивший свою жизнь служению Господу, оказался закоренелым эгоистом.
– Боюсь, милочка, не жилец я на этом свете… – скорбно возвестил он при первой встрече с племянницей. – Недолго уж осталось ждать.
Стивену Шокли не было еще и шестидесяти лет.
С тех пор эти слова повторялись, как заклинание, особенно во время прогулок по городу, когда дядюшка снисходительно кивал знакомым, оказывавшим ему всевозможные знаки почтения.
– Ты слишком много времени в школе проводишь, – обиженно говорил он Джейн. – Лучше похлопочи по хозяйству…
Джейн смиренно кивала и, подавив раздраженный вздох, уходила бродить по соборному подворью.
Портерс еще раз просил ее руки.
– …И о дядюшке вашем я счастлив буду позаботиться…
– Умоляю вас, давайте не будем об этом! – воскликнула Джейн и велела больше о женитьбе не заговаривать.
Портерс смирился и, залечив сердечные раны, стал наперсником своенравной мисс Шокли. К тому времени он уже обжился в городе. Работы ему хватало. С появлением железной дороги население Солсбери постоянно увеличивалось; на западных окраинах, у Фишертона, и на севере, близ имения Уиндгемов, бурно развернулось жилищное строительство – у станции выросли ряды скромных домов для железнодорожников, а в предместьях возводились роскошные особняки в псевдоготическом стиле для состоятельных горожан.
Джозеф Портерс купил особняк.
Так и вышло, что Джейн Шокли осталась в Саруме, а для того чтобы развеять печальные мысли, занялась благотворительностью. Мистер Мейсон и его приятели из методистской церкви весьма энергично старались убедить горожан в пользе трезвости и воздержания; горожане слушали их с интересом, но особого желания вступать в общество трезвости не изъявляли.
– Нет, от пива за ужином я отказываться не намерена, – смеясь, говорила Джейн.
В то время даже обитатели соборного подворья не считали зазорным подавать к столу пиво, а не вино. Мистера Мейсона это весьма шокировало.
Подруги Джейн предпочитали посещать богадельни и приюты на соборном подворье, однако Джейн попросила Мейсона сводить ее в работный дом и в кварталы бедноты.
– Арендаторам на взгорье хуже всего приходится, – объяснил он и, глядя вслед отъезжающей телеге Джетро Уилсона, вздохнул. – Им я сочувствую, мисс Шокли. А вот этот сам во всем виноват.
Как обычно, после Михайлова дня, когда завершался сбор урожая, в Солсбери проходила трехдневная ярмарка; крупных сделок на ней заключалось немного, но развлечений было хоть отбавляй. На рыночной площади, заставленной качелями, каруселями, разноцветными ларьками и ярмарочными балаганами, до поздней ночи шумела толпа.
На второй день ярмарки, в девять вечера, у Птичьего Креста, Джейн Шокли увидела Уилсона.
Он стоял под готической аркой, пошатываясь и глядя вдаль невидящим, мутным взором; лицо побагровело, подбородок зарос щетиной. Несчастные дети в лохмотьях, дрожа от холода, сидели под крестом. Прохожие не обращали на них внимания.
Джейн подошла поближе.
Уилсон медленно шевелил губами, но Джейн не разбирала слов.
– Он поет, мисс, – пискнул малыш под крестом.
– Вы замерзли? Холодно же… – сказала она.
– Ага.
Джейн подступила к Уилсону, напряженно прислушалась. Он, совершенно ее не замечая, смотрел куда-то вдоль улицы, в направлении Фишертонского моста, и еле слышно бормотал:
– Тля заела репу…
Джейн распознала старинную песню уилтширских крестьян.
– Тля заела репу… – снова и снова бубнил он первую строку.
– И долго он здесь стоять собирается? – спросила Джейн.
– А кто его знает, – ответил мальчик.
– Пока не опомнится, – сказала девочка.
– Ясно, – вздохнула Джейн. – Вы тут окоченеете. Пойдемтека со мной.
Малыши послушно встали. Джейн повернулась к Браун-стрит, где жил мистер Мейсон.
– Эй, куда! Сидеть! – внезапно заорал Уилсон, схватив детей за шиворот, и дико сверкнул глазами. – А ты, сука, вали отсюда!
– Ой, мисс, это он не со зла… – заныла девочка.
– Пошла вон! – рявкнул Уилсон, сжал кулаки и грозно надвинулся на Джейн.
– Мисс, бегите!
– Никуда я не уйду, – невозмутимо заявила Джейн.
Уилсон, выпучив налитые кровью глаза, замахнулся – и плашмя упал на мостовую.
– Как и следовало ожидать, – прошептала Джейн.
Два дня спустя она зашла в приют общества трезвости, который Даниэль Мейсон устроил в Гринкрофте, на восточной окраине города.
– Джетро Уилсон пить бросил, – радостно сообщил Мейсон. – Уж не знаю, надолго ли, но и то хорошо.
– И как вам удалось его уговорить? – полюбопытствовала Джейн.
Мейсон с улыбкой тряхнул тяжелой головой:
– Не мне, а вам, мисс Шокли.
– Мне? Но я же только детей к вам отвела.
– Вот за вашу доброту они премного благодарны. А Уилсону сказали, что он на вас с кулаками накинулся.
– Он меня и пальцем не тронул, – возразила Джейн.
– Но он-то этого не знает! Устыдился и пообещал спиртного в рот не брать.
– Вот и славно, – улыбнулась Джейн. – А он горький пьяница?
– Вообще-то, нет. Иногда только в запой уходит… Ну, вы сами видели. А как напьется, дети его домой отволакивают. Несчастные малютки!
– Да, это ужасно…
– Он и сам понимает, что так дальше нельзя, согласен отдать их на воспитание в хорошую семью. Да вы сами взгляните, как он переменился!
При виде Джейн Уилсон вскочил со стула, отвесил неуклюжий, но почтительный поклон и с неожиданной прямотой посмотрел ей в лицо. В черных глазах сверкнула непонятная нежность. Он и впрямь изменился к лучшему: щеки бледные и впалые, но щетина сбрита, длинные каштановые волосы вымыты и аккуратно зачесаны со лба, потрепанный чистый сюртук ладно облегает сильное тело.
– Прошу прощения, мисс…
– Ничего страшного, бывает.
– Нет, я такого себе никогда не позволял! – упрямо возразил он. – На женщину руку поднимать – последнее дело.
«Он со мной на равных разговаривает», – удивленно подумала Джейн. Отчего-то ей это понравилось.
– Как вы себя чувствуете? – спросила она.
– Много лучше. Перебрал я, конечно… – признался он.
– Да уж, – улыбнулась Джейн. – И давно ваша жена умерла?
– Три года как отмучилась. Родильная горячка… – негромко ответил Уилсон.
– А за детьми кто присматривает?
– Старуха за ними ходит. У меня еще батрак есть, а в страду приходится работников нанимать…
– Где ваша усадьба?
– В Уинтерборне, на самой окраине.
– Земли много?
– Пятьдесят акров.
Джейн печально вздохнула, хорошо представляя себе отчаянное положение Уилсона.
Крестьянские восстания в тридцатых годах XIX века не смогли сдержать наступления промышленной революции, и в сельском хозяйстве на территории Уэссекса произошли важные изменения. Теперь на полях Уилтшира появились не только механические молотилки, но и плуги с паровым двигателем.
– Даже с учетом возросшего заработка пахаря и расходами на топливо для плуга стоимость глубокой вспашки стала на треть дешевле, – объяснял Мейсон Джейн.
Теперь богатые землевладельцы поручали своим управляющим приобретать плуги с паровыми двигателями у фирмы «Браун и Мэй» в уилтширском городе Дивайзесе и обзаводились стадами улучшенных пород овец.
– Торговля шерстью и сукном уже не такое прибыльное занятие, как раньше, – рассказывал Мейсон. – Для выпаса полутора тысяч овец достаточно тысячи акров пастбищной земли на взгорье, а за стадом приглядывают всего три пастуха и несколько подпасков. Рабочих рук в Саруме много, но платят батракам гроши. Нищета гонит людей в работные дома – или в Австралию.
– Если батраки так бедствуют, как же арендаторы справляются?
– Им тоже худо. Землевладельцы сдают наделы в краткосрочную аренду, всего на год, и при этом стремятся извлечь максимальную выгоду с наименьшими расходами. Мелких арендаторов, таких как Джетро Уилсон, попросту выживают с земли.
– А почему же тогда приток работников с севера год от года возрастает?
– Наши крестьяне ведут хозяйство по старинке, поэтому и не получают прибыли, – поморщился Мейсон. – А северяне, особенно шотландцы, люди дальновидные, к нововведениям привычны. Как прознали, что наши батраки готовы за гроши работать, так и потянулись в наши края.
Джейн, по рассказам Мейсона зная о тяжелой крестьянской доле, дотошно расспросила Уилсона и поняла, отчего он так бедствует, – усадьба его была очень мала, да и вести хозяйство по-новому он не умел. Вот если бы ему помочь!
– Мистер Мейсон сказал мне, что вы согласны детей отдать…
– Да, только не в сиротский приют и не в работный дом! – воскликнул Уилсон.
– Конечно, – кивнула Джейн.
– Он мне объяснил, что его приятель-методист их к себе возьмет, обучит полезным наукам. За содержание я ему заплачу. Мне бы в усадьбе дела поправить…
– Понятно.
– Жены у меня нет, за детьми приглядывать некому. А так будет лучше, ну на время, пока я хозяйством займусь.
– Разумеется.
– Я исправлюсь, мисс, – заявил он. – Обязательно исправлюсь.
– Вам это пойдет на пользу.
– Спасибо, мисс.
– Пожалуй, я приду взглянуть на вашу усадьбу, мистер Уилсон, – неожиданно для себя самой пообещала Джейн.
Спустя неделю Джейн Шокли верхом отправилась в усадьбу Уилсона.
Взгорье там и сям пересекали высокие, в человеческий рост, разросшиеся живые изгороди – раскидистые кусты орешника и можжевельника, опутанные колючими цепкими плетьми ежевики с гроздьями черных ягод, дававшие приют и прокорм полевым мышам, белкам и певчим птицам.
Старый тракт, ведущий на взгорье, теперь покрыли термакадамом – мелкой щебенкой, залитой дегтем, а вот на пустынных холмах пришлось ехать по грунтовым дорогам и еле заметным тропам. Примерно через час с вершины одного из холмов Джейн увидела хижины в лощине – Уинтерборн, усадьбу Джетро Уилсона.
Уинтерборн… В Уэссексе было немало деревень с этим звучным саксонским названием: «winterbourne», «зимний поток» – ручей, появляющийся на меловом склоне только зимой, после осенних ливней.
Деревенька Уилсона лежала в лощине у взгорья. По обе стороны единственной улочки стояли домишки из камней и кирпича, обмазанные глиной и крытые соломой; чуть поодаль виднелась крошечная церковь без колокольни. На крышах красовался знак кровельщика – сплетенная из соломы фигурка фазана, обращенная на юго-восток. Сразу за домами на склоне холма начинались поля, огороженные живыми изгородями. На церковном дворе высились два старых тиса, а рощица на северной стороне защищала церковь от ветра. На меловых грядах паслись овцы.
Типичный уилтширский пейзаж – бесконечные меловые гряды, продуваемые всеми ветрами, и бесчисленные стада овец…
Джейн, медленно спустившись в долину, выехала на тихую деревенскую улицу. Здесь, в лощине, дневной свет смягчился, больше не резал глаза. Босоногие ребятишки с любопытством разглядывали Джейн; какие-то женщины удивленно уставились на нее. Джейн запоздало сообразила, что они наверняка никогда в жизни не видели всадницы в дамском седле.
По левую руку виднелись шаткие бревенчатые мостки, переброшенные через русло пересохшего ручья, заросшее крапивой и диким щавелем; туда нанесло ветром клочья сена, прутики, ореховые скорлупки и всякий мусор. С началом ноябрьских дождей по высохшему руслу побежит вода, а весной, когда растает снег на взгорье, с меловых склонов в лощину обрушится бурный поток, оглашая тихую деревушку звонким журчанием и плеском струй.
Ребятишки объяснили Джейн, что усадьба находится в двухстах ярдах от деревни; туда вела узкая тропка, еле заметная в густой траве.
Усадьба оказалась типичным сельским домом, обнесенным деревянной изгородью, некогда выкрашенной в белый цвет. Дорожкой, протоптанной от ворот к парадному входу, судя по всему, пользовались только на свадьбах и похоронах. По обе стороны от двери во двор выходили два окна, а над ними, на втором этаже, – три окна поменьше. В кирпичной пристройке с левой стороны была еще одна дверь и ряд разновеликих, кое-как вставленных окон; за пристройкой начинался сад, обнесенный меловой стеной. Джейн очень нравились эти ограды из мягкого известняка, вырубленного в карьерах на взгорье, – выше человеческого роста, в два фута толщиной, с соломенным карнизом, защищавшим стену от дождя.
Некогда живописная усадьба сейчас являла собой унылое зрелище: краска на оконных рамах облезла, ставни покоробились, изгородь покосилась, дорожки заросли бурьяном, подгнившую кровлю давно не подновляли, от соломенного фазана на крыше почти ничего не осталось…
Джейн печально вздохнула.
На заднее крыльцо вышла дряхлая старуха, кутаясь в ветхую красную шаль, и окинула гостью подозрительным взглядом.
– Я к мистеру Уилсону, – нерешительно произнесла Джейн.
– Сейчас позову, – кивнула старуха и, захлопнув дверь, скрылась в доме.
Спустя несколько минут Джетро Уилсон, небритый, в рубахе с расстегнутым воротом, вышел во двор. Уныние Джейн несколько развеялось.
– Тут работы непочатый край, – сказал Уилсон, кивая на дом.
– Верно.
– Вы усадьбу поглядеть хотели, мисс?
– Да.
Первым делом он отвел ее в сад за меловой стеной: два сливовых дерева, старая шелковица, под которой стояла корзина сочных ягод, высохшая груша, морковные грядки, картофельная делянка.
– Соломенный карниз надо перестелить, а то от дождя стена растрескается, как бы не обвалилась.
– Ага, – кивнул он. – И на доме крышу давно пора перебрать.
– А вы в одиночку справитесь?
Он пожал плечами:
– Не знаю, мисс.
– Что ж, показывайте ваши владения, – шутливо велела Джейн.
Они с Уилсоном поднялись на взгорье, где паслись овцы.
– У вас только саутдаунские? – спросила Джейн, придирчиво оглядев стадо. – Гемпширских нет?
– С гемпширскими возни много.
– Но они же больше прибыли приносят!
С недавних пор в Саруме решили отказаться от саутдаунской породы, в прошлом веке сменившей уилтширских рогатых овец, и завели так называемых гемпширских овец – крупных, короткошерстных, дававших многочисленный приплод. Однако, как верно заметил Уилсон, они требовали тщательного ухода и больше корма.
– Не по нраву мне овец в загонах держать, – объяснил Уилсон. – Пусть лучше по холмам бродят, на подножном корму живут. А гемпширским особый корм нужен.
– Сейчас везде гемпширские овцы, саутдаунских почти не осталось, – напомнила Джейн.
Уилсон покачал головой:
– Где ж денег на них взять?
– А если в сельскохозяйственное общество обратиться? Там вам наверняка помогут… А лендлорд ваш что говорит?
Управляющий графа Пемброка, мистер Джеймс Роуленс, недавно организовал ссудную кассу для мелких арендаторов; те, кому доходы не позволяли в одиночку приобрести сельскохозяйственное оборудование, стали объединяться в общества и в складчину покупать необходимые машины.
– Нет, мой лендлорд в старости прижимист стал, денег не даст. А складчину нам не с кем устраивать, сами видите, мисс, мы же на отшибе, – с затаенным удовлетворением произнес Уилсон.
Обитатели пустынной сарумской глуши совершенно не желали перемен.
Джейн и Уилсон направились к усадьбе.
– А родственники вам не помогут?
– Родственники? – негромко рассмеялся он. – У меня родня большая, по всему пятиречью: и на юге, в Крайстчерче, и на севере, в Суиндоне. Уилтширских Уилсонов много наберется, только мы с ними не знаемся. Так уж повелось… Говорят, те, что в Крайстчерче, контрабандой промышляют. Вот у кого денег много!
– Понятно, – кивнула Джейн, представив себе крестьян и рыбаков, с незапамятных времен населявших округу.
Здесь, вдали от города, среди пустынных холмов, Джетро Уилсон держал себя уверенно и двигался с необычайной ловкостью и грацией, так что Джейн невольно им залюбовалась.
На пути к усадьбе он кивнул на балку, заросшую кустами ежевики:
– А вон там свиньи водятся.
– Свиньи? – недоверчиво переспросила Джейн.
– В наших местах так ежей называют, – улыбнулся он, подвел ее к зарослям и, раздвинув колючие плети, поворошил хворостиной палую листву. – Там, в глубине, у них гнездо. В деревне сказывают, ежи вкуснее кроликов.
«Надо же, – подумала Джейн. – Оказывается, ежей едят… Вот так, наверное, здесь, на древних меловых холмах, тысячи лет назад жили люди – просто, без затей…».
– Боюсь, жители соборного подворья на ежей охотиться не умеют, – отшутилась она.
– Ага.
Под пристальным, изучающим взглядом Уилсона Джейн стало неловко – этот невежественный крестьянин словно бы знал о ней что-то, неизвестное ей самой, а вот она совершенно не могла его понять.
– Я пить бросил, – негромко произнес он.
– Это хорошо, – ответила она. – Спасибо, что показали мне усадьбу.
– Может быть, зайдете в дом, мисс?
– Нет, благодарю вас, мне пора.
Он подвел ее к лошади, подставил ладонь и с легкостью помог ей сесть в седло. Джейн неожиданно для себя подумала, что седина в коротко остриженных бакенбардах придает Уилсону весьма благородный вид.
Впрочем, если бы Джейн Шокли обернулась, то заметила бы, с каким презрением смотрит ей вслед старуха у крыльца.
Джейн в задумчивости ехала по взгорью. Вдали по склону стелилась полоска дыма над затухающим багрянцем – где-то в полях запоздало жгли жнивье.
Детей Уилсона приняла семья методистов в деревне Барфорд-Сент-Мартин, близ Дубравы Гроувли. Уилсон регулярно отправлял деньги на содержание детей, и все устроилось. Мейсон рассказывал, что дети ведут себя примерно, хотя и без шалостей не обходится, а еще выяснилось, что в вере их не наставляли.
– Ну чисто язычники, мисс Шокли, чисто язычники! – сокрушался Мейсон, качая тяжелой головой.
В ноябре Джейн и думать забыла об Уилсоне, потому что дядюшка слег с очередной хворью – обычной простудой, которая, как уверял он, вот-вот перейдет в пневмонию. Врач, привыкший к частым жалобам пациента, особо не встревожился, но посоветовал поберечь себя, из-за чего Джейн пришлось все свободное время проводить у постели больного. Впрочем, в начале декабря врачу удалось убедить дядюшку Стивена, что его здоровье вполне восстановилось.
Вскоре после этого Джейн случайно встретила Даниэля Мейсона у ворот соборного подворья.
– Ах, мисс Шокли, по-моему, Джетро Уилсон снова запил!
– С чего вы взяли?
– Он деньги на содержание детей присылать перестал, и никаких вестей от него вот уже неделю не получают.
– Может быть, он болен?
– Ох, кто его знает! Я постараюсь с ним сегодня связаться.
– Не утруждайте себя понапрасну, мистер Мейсон. Я к нему сама съезжу.
После целого месяца неотрывных забот о дядюшке Стивене Джейн обрадовалась возможности уехать из города. Ясным морозным днем она приехала в Уинтерборн и медленно направилась к усадьбе по обледеневшей улочке, подтопленной разлившимся ручьем.
Из трубы на крыше вился тонкий дымок – в доме кто-то был. Джейн решительно постучала в дверь, и на порог вышел Джетро. Одет он был небрежно, дыхание его пахло джином, впалые щеки покрывала щетина, глаза сверкали голодным блеском.
– Вы позволите войти?
Он молча провел ее в гостиную.
У зажженного камина стоял деревянный табурет, на столе посреди комнаты лежала початая краюха хлеба. Джетро предложил Джейн единственное кресло, обтянутое грубой холстиной.
– Мистер Мейсон просил узнать, почему вы задерживаете выплату содержания детям, – начала Джейн.
– Денег нет, – сказал Уилсон. – Детей придется забрать.
– И как же вы их прокормите, без денег?
– Корову продам, – ответил он, глядя в огонь. – Из вырученных денег заплачу, что должен, и детей к себе заберу. Вот только рождественских подарков им не достанется.
– Вы и впрямь хотите корову продать?
– Ну, ничего не поделаешь, мисс, – вздохнул он.
– А дальше как жить будете?
– Как-нибудь проживем… – Он посмотрел на нее потухшим, невыразительным взглядом. – От усадьбы придется отказаться. Съедем отсюда, буду работу искать.
– А что вы умеете делать?
– Да что угодно.
Джейн задумалась: в производстве сукна – застой, на ковровой фабрике в Уилтоне трудятся две сотни работников, на кожевенную фабрику в Солсбери требуются дубильщики, есть еще бумажная фабрика в Даунтоне, и на железной дороге всегда нужны рабочие руки… Нет, вряд ли Джетро Уилсон согласится на такую работу.
– Однажды у мистера Мейсона письмо читали, от какого-то Годфри, из Австралии, – сказал он. – Вот где крестьянам вольготно живется! И еды вдоволь. Туда многие уезжать собрались.
– Да, я знаю. А вы бы тоже уехали?
– Нет, уезжать я не хочу, – признался он. – Есть у меня родственник, на севере, у него молочная ферма, сыроварня… Говорит, ему помощники нужны. Я бы к нему подался, да не привык на кого-то спину гнуть. Я сам себе хозяин.
– Наверняка дела в усадьбе можно поправить, – подбодрила его Джейн.
Он посмотрел на нее как на неразумного младенца:
– Ничего не выйдет, мисс.
«Он, конечно, сам виноват, – досадовала Джейн про себя. – Хозяйство ведет по старинке… Вот если бы ему подсказать и деньгами помочь…»
– А если найдутся желающие в усадьбу деньги вложить? – внезапно воскликнула она.
– Кто ж это такой щедрый? – усомнился он.
Джейн с улыбкой взглянула на него:
– Я.
Денег потребовалось не так уж и много, и Джейн с восторгом взялась за обустройство усадьбы.
– Вот как счета составим, я потребую с вас проценты за мой вклад, – объяснила она Уилсону.
Нововведения он воспринял как неизбежное зло и хозяйствовал с прежней невозмутимостью, не выказывая ни излишней признательности за помощь, ни дерзкой самоуверенности.
Первым делом Джейн заставила его обзавестись овцами гемпширской породы и объяснила, чем и как их кормить. За советами она постоянно обращалась к местным арендаторам и землевладельцам, которые с готовностью делились своим опытом, хотя и удивлялись ее неожиданному интересу к сельскому хозяйству.
– Навоз для полей на западных склонах дешевле закупать на стороне, – однажды заявила она.
Уилсон ошеломленно посмотрел на нее, но возражать не стал.
В остальном Джейн вела себя разумно – держалась особняком, в каждодневные дела не вмешивалась, уверяла Уилсона, что всего лишь печется о финансовом состоянии усадьбы, однако раз в неделю приезжала в Уинтерборн.
Дети Уилсона по-прежнему жили у методистов в Барфорде.
– Вы вдовец, за детьми присматривать некому, – напоминала ему Джейн. – А там их грамоте обучат…
Впрочем, и сама Джейн исподволь многому научилась у Уилсона. Окружающие не догадывались, зачем она так часто уезжает на взгорье, а она часами бродила с Уилсоном по холмам, с огромным удовольствием слушая его рассказы о природе и о жизни на пустынной возвышенности.
К Джетро Уилсону вернулись силы и уверенность в себе. Всякий раз, приезжая в усадьбу, Джейн все больше убеждалась, что он неразрывными узами связан с окружающей местностью. Уилсон представлялся Джейн диким зверем, воплощением первозданной мощи. Когда он неторопливо бродил по пастбищам или сидел на валунах, наблюдая за овцами, Джейн невольно сравнивала его с ящерицей, греющейся на солнце. Когда он всматривался в затянутый тучами небосклон, то становился похожим на хищную птицу, сокола или коршуна, а когда расставлял силки у кроличьих нор, то ступал легко, по-кошачьи.
В церковь он не ходил, и Джейн не пыталась его заставлять, да и трезвенником не стал, как хотелось бы Мейсону, однако запои прекратились. Теперь он уделял больше внимания своей внешности, одевался чисто, был аккуратно причесан, а в черных глазах све тился ум. Он наверняка пользовался успехом у женщин, однако Джейн никогда не видела его со спутницей.
Ей нравилось проводить с ним время. Он умел отыскать скромные полевые цветы в зарослях дрока, посреди безжизненного ландшафта за четверть мили замечал кролика или зайца, углядывал в живых изгородях певчих птиц – щеврицу или каменку, показывал Джейн крошечных насекомых – долгоножек и журчалок, – прячущихся среди камней и в редких пучках травы. Однажды с луга на склоне холма взлетели синие бабочки, дрожащим маревом повиснув в воздухе. Джейн, вскрикнув от неожиданности, схватила Уилсона за руку и счастливо рассмеялась. Иногда она делила с ним нехит рую трапезу – краюху хлеба и кусок сыра на обед или картофель с беконом на ужин.
Об этих прогулках Джейн никому не рассказывала, догадываясь, что лучше хранить их в тайне, лишь призналась Даниэлю Мейсону, что ссудила Джетро Уилсону денег поправить хозяйство. Теперь Уилсон раз месяц приезжал в Сарум повидаться с Мейсоном и навестить детей.
– Мы их в методистской вере воспитываем, как подобает, – гордо заявлял Мейсон.
Сама Джейн ничуть не сомневалась, что помогает Уилсону из бескорыстных побуждений.
Однажды она услышала, как старуха, хлопоча на кухне в усадьбе, бормочет себе под нос:
– Вот дура-то, даром что из благородных… От него бабам одни беды, а ей и невдомек…
Джейн не придала никакого значения этим загадочным словам, решив, что старуха выжила из ума.
После Благовещения в Солсбери проходила ежегодная весенняя ярмарка, где в основном заключались сделки о закупках сукна и шерсти. Джейн очень хотелось внести уют в дом Уилсона, однако, боясь показаться назойливой, она просто объявила, что делает ему подарок, и вручила деньги на приобретение пледов и одеял.
Один из каноников на соборном подворье пригласил дядюшку Стивена на чай, и Джейн, воспользовавшись долгожданной передышкой, велела Уилсону зайти к ней, чтобы обсудить хозяйственные расходы.
В особняк Шокли Уилсона впустили с заднего крыльца, которым обычно пользовались слуги. Джейн приняла его в библиотеке. Он со сдержанным любопытством оглядел книжные шкафы и бюро, где хранились конторские книги и счета. Сам он никогда ничего не записывал, хотя Джейн знала, что грамоте он обучен.
– Вот, ознакомьтесь, все хозяйственные расходы, – сказала она, протягивая ему исписанные страницы. – В июле продадим овец и ягнят, а с коровами, полагаю, стоит повременить до декабря. Ну и зерно…
Он взял лист с конторки и подошел к окну, вдумчиво изучая колонки цифр. Джейн, глядя на его узкое лицо, освещенное лучами заходящего солнца, невольно улыбнулась: мистер Портерс, человек образованный, всегда тушевался, приходя к ней в гости, а Джетро Уилсон, бедный крестьянин, держался непринужденно, как истинный джентльмен.
Уилсон, улыбнувшись, вернул ей листок; пола сюртука с шорохом скользнула по кожаной обивке кресла, и звук этот почему-то очень взволновал Джейн.
– Мне в Барфорд пора, – сказал Уилсон.
– Да-да, конечно.
После его ухода Джейн вышла на соборное подворье, где встретила взволнованного мистера Портерса.
– Мисс Шокли, тут к вам посетитель приходил…
– Да, – мило улыбнулась Джейн. – А вы откуда знаете?
– Я случайно заметил… – покраснев, сказал он. – Шел по делам и…
– И что же вас остановило?
– Видите ли, мисс Шокли… – Он смущенно отвел глаза. – Если я не ошибаюсь, к вам приходил Джетро Уилсон.
– Да, – ответила Джейн, не считая нужным пускаться в объяснения.
– Позвольте… не сочтите за дерзость… Мистер Мейсон говорил, что вы по доброте душевной печетесь о благополучии его несчастных детей…
– Мы с мистером Мейсоном считаем, что добились некоторых успехов в его перевоспитании.
– Некоторых успехов?
– По-моему, мистер Портерс, такого человека, как Джетро Уилсон, полностью перевоспитать никому не под силу, – произнесла Джейн.
– Разумеется… – с облегчением вздохнул Портерс. – Странно, что он к вам пришел.
– Да, весьма странно.
Портерс замялся, с трудом подыскивая слова:
– Вам вряд ли известно о его… гм… о его репутации.
– О его репутации? – удивленно переспросила Джейн.
– Говорят, что у него есть дети… на стороне, – неохотно объяснил он.
– Ах, вот как!
– По-моему, с ним надо обращаться весьма осмотрительно, – сказал Портерс, отвесив Джейн учтивый поклон.
– Благодарю вас за совет, мистер Портерс, – с обворожительной улыбкой ответила Джейн и направилась к Хай-стрит.
Теплый апрельский ветерок ласково овевал ее щеки.
Летом дела в усадьбе изменились к лучшему, хотя о доходах говорить было рано. Джейн время от времени приезжала в Уинтерборн; в дом ее не приглашали. Однажды она заметила в окне женское лицо, но, памятуя о словах Портерса, нисколько этому не удивилась, – в конце концов, какое ей дело до личной жизни Уилсона.
Иногда она ловила его пристальный взгляд и невольно задавалась вопросом, какие чувства он к ней испытывает.
Ей очень хотелось что-нибудь ему подарить, но приличия этого не позволяли; однако если она приезжала в усадьбу к обеду, то всегда привозила с собой что-нибудь из съестного. Впрочем, подарки детям Джетро принимал, хотя и не рассыпался в благодарностях.
«Он и впрямь как кот – сливки слижет, а спасибо не скажет», – с улыбкой думала Джейн.
По дороге домой она пыталась представить себе женщин, с которыми Уилсон водил знакомство. Кто они? Деревенские девушки, крестьянские жены? У нее не возникало желания узнать их поближе. Изредка, размечтавшись, она воображала себе иную жизнь – и любовь… А потом со смешком пришпоривала лошадь и пускалась в галоп по пустынному взгорью, чтобы холодный ветер остудил разгоряченные щеки.
В июле, после торговой ярмарки, они с Уилсоном рассорились.
Джейн, проверив счета, пришла к выводу, что к марту, когда настанет время возобновлять аренду, дела усадьбы наладятся окончательно, однако получать стабильный доход с пятидесяти акров невозможно, а значит, надел необходимо расширить. Она навела справки среди управляющих имениями в округе и, разузнав все необходимое, сказала Уилсону:
– Весной высвобождается пятидесятиакровый участок в полумиле от Уинтерборна. Если взять его в аренду, то сотня акров принесет хорошую прибыль.
– Нет, мне столько земли не нужно, – отрезал он.
– Но это же гораздо выгоднее! – изумленно воскликнула Джейн.
– Мне и так хватает.
– Нельзя упускать такую возможность…
– Возможность? – повторил он, окинув взглядом деревушку в долине и гряды холмов, убегающие к горизонту. – Мне моих возможностей достаточно.
Джейн понимала, что он имеет в виду, но ей очень хотелось помочь.
– Вы взгляните, я тут все подсчитала…
– Подсчитала она! – презрительно фыркнул Уилсон. – Не нужны мне ваши подсчеты, я и без них проживу.
Он резко повернулся и пошел прочь.
Домой Джейн вернулась в глубокой задумчивости.
Неделю спустя, проходя по улице, она увидела, как подвыпивший Уилсон забирается в телегу. Джейн поравнялась с ним, однако он с ней не поздоровался.
«Люди из простого народа так грубы и невоспитанны! – подумала она. – Связываться с ними – только время попусту тратить».
Уилсон, щелкнув кнутом, надвинул на лоб широкополую шляпу. Лошадь тронулась.
– Вы пьяны! – громко сказала Джейн, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих.
Телега доехала до угла. Уилсон обернулся, пристально посмотрел на Джейн и с нарочитой медлительностью приподнял шляпу.
Джейн две недели не приезжала в Уинтерборн.
На Джетро она больше не сердилась, понимая, что он пытается сохранить свою пусть примитивную, но свободу. С ее стороны глупо было его ограничивать, навязывая ему свою точку зрения.
«Он – как дикий зверь», – думала она и все же видела в этом некий вызов. Как укротить этого зверя? Как приручить его? Нет, в один прекрасный день она все-таки убедит Джетро в необходимости арендовать еще пятьдесят акров земли…
Приехав в Уинтерборн, Джейн не стала упоминать ни о размолвке, ни о пятидесяти акрах, а разговаривала спокойно, даже несколько отстраненно. Они с Уилсоном стояли на вершине холма, глядя на усадьбу в лощине, на меловую стену сада, на старую шелковицу. Внезапно Джейн перехватила взгляд Уилсона, и на мгновение ей почудилось, что здесь, в этой пустынной глуши, в этом скрытом от мира уголке, их связывают какие-то неведомые древние узы.
– Может быть, вы позволите мне и в вашем доме кое-что изменить, – шутливо предложила она, усаживаясь в седло.
В Михайлов день на ярмарке Уилсон задерживаться не стал, потому что все сделки заключил неделей раньше. Первый день ярмарки Джейн провела на крытом рынке, где нанимали слуг – ее горничная Лиззи собралась замуж, надо было искать ей замену, – и лишь на второй день занялась счетами усадьбы Уилсона.
Джейн ожидал приятный сюрприз: Уилсон продал зерно, овец и коров по весьма выгодным ценам. Если и в декабре удастся выручить столько же, то… Джейн так звонко расхохоталась, что дядюшка отправил к ней слугу узнать, не случилось ли чего.
Торговая смекалка Уилсона и успех, которого он добился в первый же год хозяйствования, вызывали у Джейн невольное уважение. К обеду она закончила составлять счета и на радостях решила немедленно отправиться в Уинтерборн, поделиться с Уилсоном хорошими новостями, хотя ранее договорилась с ним, что приедет только через неделю.
Уилсон, освещенный лучами полуденного солнца, спускался с пастбища на взгорье.
– Взгляните на плоды ваших трудов! – воскликнула Джейн, протягивая ему конторскую книгу.
– Я такого и не ожидал, – признался он, изучив счета.
– Я очень рада вашим успехам. А давайте за это выпьем?! – внезапно предложила она. – У вас пиво найдется?
Пиво нашлось.
– Теперь денег хватит на починку крыши, – как бы между прочим сказала Джейн, пригубив прохладный освежающий напиток из большой оловянной кружки.
– Ага, – согласно кивнул Уилсон.
– Протекает?
– Немного.
Джейн задумчиво поднесла кружку к губам. Ей очень хотелось осмотреть дом, но приличия не позволяли об этом попросить. Неожиданно ей пришло в голову простое решение.
– А у ваших детей своя комната?
– Да, под самой крышей, – ответил он, вставая.
По узкой деревянной лесенке они поднялись на второй этаж. Два маленьких оконца в детской спальне выходили на обе стороны дома; низкий потолок заставлял пригнуть голову. В комнате стояли две кровати, сосновый комод и деревянная лошадка-качалка. Джейн осторожно погладила жесткую гриву лошади.
– Я ее для дочки сам выстрогал, – пояснил Уилсон.
– Так вы еще и плотничать умеете?!
– Без этого крестьянину нельзя.
– Да, конечно.
Джейн, выйдя на лестничную площадку, мельком глянула в распахнутую дверь напротив.
– Это моя спальня, – негромко сказал Уилсон.
Джейн перешагнула порог.
В дальнем конце комнаты стоял большой дубовый сундук, напротив него – комод красного дерева; на вешалке у двери висел длинный халат. Кровать была застелена белым покрывалом, расшитым синими цветами.
«Наверное, жена вышивала…» – подумала Джейн.
Скромно обставленная комната дышала уютом.
Джейн подошла к окну, посмотрела на деревеньку в лощине и обернулась.
Как странно… Они с Уилсоном – из разных миров, и невидимую черту, их разделяющую, переступить невозможно. В особняк Джейн Уилсона пускали только с черного хода, для слуг, и не дальше гостиной. В дом Уилсона Джейн полагалось входить через парадную дверь.
Джетро молча стоял у порога. Высокий, красивый… Здесь, на взгорье, сословные различия как будто исчезали, не имели значения. Кто он здесь, в своем доме? Джейн было все равно.
Солнечные лучи струились в окно, согревали ей плечо. В комнате немного пахло пивом – приятный, легкий аромат. Джейн окинула взглядом спальню, присмотрелась к синим цветам, вышитым на белом покрывале.
Уилсон замер, не спуская с Джейн внимательного, понимающего взора, словно бы читая ее мысли.
От выпитого пива Джейн разморило.
Она снова посмотрела на Уилсона.
Он улыбнулся, не говоря ни слова.
Они глядели друг на друга, окутанные волшебной пеленой молчания. На белое покрывало легла тень оконного переплета.
Сердце Джейн билось ровно и размеренно.
Зачарованное молчание стекало с овеянных ветрами древних холмов, заливало долину и русло зимнего ручья, ждущего осенних дождей, наполнило деревушку, сад, огороженный меловой стеной, и спальню, где Джейн и Уилсон безмолвно смотрели друг на друга.
Удивление Джейн сменилось внезапным пониманием, смешанным с восхищением. Отчего ей так легко и спокойно в присутствии Джетро, будто они всю жизнь знакомы?
Джетро неторопливо, не сводя с нее глаз, протянул руку и прикрыл дверь. Чуть слышно стукнула деревянная защелка. Зачем? В доме все равно никого не было…
Сердце замерло, а потом забилось быстрее.
Джейн стояла у окна. Никто не преграждал ей путь. Всего-то надо – пройти к двери.
Джетро не двигался, глядел на Джейн спокойно и невозмутимо, будто они встретились посреди соборного подворья.
Она осталась у окна.
Неужели сейчас произойдет невозможное – то, о чем она не могла и помыслить в свои тридцать лет… в тишине особняка на соборном подворье…
Она даже мечтать об этом не решалась.
Она с улыбкой поглядела на белое покрывало с синими вышитыми цветами – такое знакомое, будто не раз виденное, – и перевела глаза на Джетро.
Она ни о чем не просит. Если он не сдвинется с места…
Он медленно, осторожно, как к птице на ветке, приблизился к ней.
Джейн повернулась ему навстречу. Солнечные лучи согревали спину. В ушах зашумело, как будто внезапно со склонов побежали бурные потоки. Такого с ней никогда прежде не было…
Он не произнес ни слова. Зачарованную полдневную тишину не нарушало ни единого звука, лишь где-то на дальних холмах еле слышно щебетали птицы.
Как он хорошо ее знает…
– Тебя так долго не было, – обиженно проворчал дядюшка Стивен. – Я заждался. Твои поездки верхом занимают слишком много времени.
– Этого больше не повторится, – ответила Джейн.
Вечером, принимая ванну, она думала об одном: то, что произошло, и в самом деле больше не повторится.
Джетро понимал это не хуже ее.
Ни старуха в усадьбе, ни батрак, ни мальчишка-подпасок не подозревали о случившемся.
Если об этом узнают в Саруме, репутация Джейн будет погублена навсегда. Дядюшка Стивен, по праву главы семьи, откажет ей от дома. В светском обществе Солсбери принимать ее не будут. О замужестве можно забыть. Имя Шокли навсегда покроется несмываемым позором.
Джейн подавила невольную дрожь – так во сне срываются в ужасающую черную бездну и, очнувшись, радуются чудесному спасению.
Она дала себе слово, что ничего подобного больше не повторится.
В Уинтерборн она приехала спустя три недели.
Уилсон учтиво поздоровался с ней, почтительно приподняв шляпу. Джейн украдкой поглядела на батрака и подпаска, – похоже, они ничего не знают.
– Прошу вас, забудьте обо всем, – улучив минутку, шепнула она Уилсону.
Он молча кивнул и, как обычно, подставил руку, помогая Джейн сесть в седло.
Джейн задрожала.
Жизнь шла своим чередом.
Джейн приезжала в Уинтерборн два раза в месяц, надолго там не задерживалась. Крышу так и не починили. В декабре Уилсон выгодно продал коров; к весне принесут приплод гемпширские овцы…
Январь выдался снежным, а в феврале Стивен Шокли снова захворал и в очередной раз объявил себя при смерти. Джейн целый месяц не отходила от постели больного.
По ночам, лежа без сна, она честно признавалась себе, что страстно желает встречи с Джетро Уилсоном. Ей очень хотелось приехать в усадьбу; однажды она даже вскочила на лошадь и отправилась на заснеженное взгорье, но у Олд-Сарума опомнилась и повернула домой.
В начале марта Стивен Шокли неохотно признал, что здоровье его пошло на поправку. Джейн, памятуя о том, что подходит срок возобновления аренды на усадьбу, решила съездить в Уинтерборн.
Тем временем Сарум готовился к празднованию радостного события – свадьбы Альберта-Эдуарда, принца Уэльского, старшего сына королевы Виктории, которая состоялась 10 марта 1863 года. По всей Англии ее отмечали пиршествами и торжественными шествиями.
Утром 10 марта Джейн, отправившись на прогулку по соборному подворью, увидела, как из здания капитула вышел Уолтер Гамильтон, епископ Солсберийский, в сопровождении каких-то незнакомцев. Джейн учтиво поздоровалась с епископом и с любопытством заглянула в капитул, где к ней подошел один из каноников.
– Ах, мисс Шокли, нам выпала такая честь…
– Что случилось?
– Сэр Джордж Гильберт Скотт, знаменитый архитектор согласился принять участие в реставрации собора, но сначала решил ознакомиться с результатами трудов Генри Клаттона. Хотите взглянуть?
Джейн давно не была в великолепном восьмиугольном здании капитула, с огромными окнами и изящной центральной колонной. Клаттон превосходно отреставрировал резные барельефы на стенах. Переходя от арки к арке, Джейн восхищенно рассматривала древние изображения, вытесанные неведомыми средневековыми мастерами; библейские сюжеты навевали мысли о стародавних временах. Ее внимание привлекли фигурки Адама и Евы, дышащие наивной простотой. Джейн с улыбкой вспомнила Джетро Уилсона.
У северного входа в собор, на лужайке певчих, она встретила Даниэля Мейсона.
– Мисс Шокли, Джетро Уилсон поручил мне вернуть вам деньги! – запыхавшись, воскликнул он и радостно добавил: – С процентами! Я ему объяснил, что пяти процентов вполне достаточно.
Джейн удивленно уставилась на него:
– Вы о чем?
– Ах, вы не знаете? Он уехал.
– Куда? – ошеломленно спросила она.
– Ему какой-то родственник ферму на севере завещал. Похоже, землю наследуют не только кроткие[60], но и бывшие пьяницы.
Перед глазами Джейн все плыло; особняки на соборном подворье кружили в безумном танце.
– А как же усадьба?
– Уинтерборн? – переспросил Мейсон. – Так ведь срок аренды истек… Вот Уилсон вам ссуду и вернул, с процентами, а детей из Барфорда забрал и уехал. Говорят, ферма хорошая, сыроварня там, где-то на севере. Повезло ему…
Джейн рассеянно слушала Мейсона. Как же так? Джетро уехал, даже не попрощавшись…
– А где ферма?
– Не знаю. Где-то на севере, – повторил Мейсон.
– Благодарю вас, – непослушными губами вымолвила Джейн и направилась к дому.
– Мисс Шокли, так когда мне деньги принести?
– Попозже, мистер Мейсон, попозже.
Спустя четверть часа Джейн, переодевшись в черное платье для верховой езды и предупредив горничную, что вернется к ужину, торопливо вышла с подворья на Хай-стрит.
Джетро уехал… Впрочем, этого следовало ожидать. Она и сама его избегала. И все же сердце сжималось от боли.
Улицу заполнила шумная толпа. Джейн недоуменно поморщилась. Что происходит? Куда они все идут?
На углу Нью-стрит она столкнулась с великаном.
Господи, да ведь это же праздничное шествие! Джейн совсем о нем забыла. Как обычно, в Солсбери ни один праздник не обходился без традиционных символов древней гильдии портных – Великана и его верного коня Хоб-Ноба. Великан, наряженный в костюм вельможи прошлого века, медленно двигался вперед. Громадное лицо – маска, потемневшая от времени, – находилась вровень с окнами второго этажа; голову венчала треуголка, в зубах дымилась длинная глиняная трубка.
– Пропустите! Дайте пройти!
Джейн бесцеремонно расталкивала зевак, пытаясь протиснуться сквозь людской заслон, но, как в кошмарном сне, ее снова и снова оттесняли назад.
Дети с восторженным визгом бросились наутек от Хоб-Ноба; толпа на мгновение расступилась, и Джейн рванулась вперед, но шутовской конек стремительно преградил ей путь. Она попыталась его обойти, однако Хоб-Ноб настырно гарцевал вокруг, к несказанному удовольствию зрителей, которые подбадривали его громкими криками и заливисто хохотали.
– Прочь с дороги! – завопила Джейн, изо всех сил хлестнув плетью по шутовской лошадиной морде.
Фигляр под маской взвыл от боли.
Зеваки, с ужасом переглядываясь, поспешно уступали Джейн дорогу.
«Простую крестьянку наверняка бы затоптали», – подумала она.
Двадцать минут спустя Джейн вскочила на лошадь, которую вывел из стойла перепуганный конюх, и отправилась в Уинтерборн.
В усадьбе не было ни души. Ветер ворошил солому на крыше; меловая стена сада растрескалась от мороза. Джейн вздохнула и направилась к деревне.
– Ну что, опять к нему пришла? – раздался дребезжащий старческий голос.
Под деревом у тропы стояла старуха, презрительно глядя на Джейн.
– Где он?
– Уехал, и слава богу.
– Куда он уехал?
– Куда Джетро Уилсон уехал? – язвительно переспросила старуха. – И чего это всем он вдруг понадобился…
– Куда он уехал? – настойчиво повторила Джейн.
– На север, под Эдингтон, – неохотно ответила старуха и объяснила, как туда добраться.
Джейн нетерпеливо пришпорила лошадь.
– Не связывайся с ним! – крикнула вслед старуха.
Джейн пустила лошадь вскачь: путь до Эдингтона неблизкий, к вечеру надо вернуться домой.
С вершины холма она взглянула на деревеньку в лощине, с необычайной ясностью вспомнила, как бродила здесь с Джетро. Нет, она должна с ним попрощаться…
К обеду, когда на взгорье разыгралась буря, Джейн уже проделала много миль по пустынным холмам. Перед ней расстилалась поросшая вереском равнина; еще пять миль – и начнутся зеленые долины, а там и до Эдингтона недалеко.
Небо затянули тяжелые тучи, набухшие дождем. Джейн лизнула палец, пытаясь определить направление ветра. Если пересечь вересковую пустошь наискосок, можно уйти от бури.
Через пять минут она вымокла до нитки и уже не разбирала дороги.
Серое небо зловеще потемнело.
Спустя четверть часа Джейн поняла, что заблудилась.
Через какое-то время она проехала мимо круглой выемки, быстро наполнявшейся дождем, а чуть дальше в косых струях ливня возникли очертания крытых повозок.
Джейн испуганно ахнула и остановилась.
Цыгане.
У ярко раскрашенных кибиток никого не было, – похоже, их оби татели укрылись от дождя внутри. Джейн, взволнованно оглядевшись, поскакала прочь: порядочные люди цыган сторонились.
Лошадь споткнулась на мокрой траве и едва не упала. Может, лучше спешиться и вести ее в поводу? Джейн пустила лошадь шагом.
Впереди снова показались цыганские кибитки.
Похоже, она просто кружит по равнине… Джейн, не помня себя от усталости, едва не разрыдалась. Нет, дальше ехать бесполезно.
Она медленно направилась к разноцветным кибиткам и постучала в хлипкую деревянную стенку.
Из возка настороженно выглянула цыганка.
Джейн завели в возок, помогли снять промокшее платье и завернули в одеяло.
Забившись в угол, она огляделась. Со спального места у стены, усыпанного вышитыми подушками, на Джейн напряженно смотрели четверо ребятишек.
– Ждут, когда ты простынешь, – объяснил хозяин.
– Да уж наверняка простыну, – сказала Джейн. – А вы-то сами как?
Он улыбнулся и помотал головой. По слухам, цыган простуда не брала. О цыганах Джейн знала только, что они крадут овец, а овечьи кости жгут в кострах, чтобы не нашли. Неужели она и впрямь забрела в цыганский табор?
Дождь лил до позднего вечера. Джейн окинула взглядом сумеречные холмы, ощупала влажную ткань платья и сокрушенно вздохнула: до ближайшей деревни было шесть миль.
– Можно у вас заночевать? – спросила она у хозяйки.
– Да, – ответила цыганка.
Когда дождь перестал, у кибитки разожгли костер; цыганка бросила в горшок какие-то темные камни и поставила его на огонь. «Камни» оказались кусками просоленного мяса. Джейн, с наслаждением съев обжигающее варево, улеглась в угол кибитки, бок о бок с цыганкой, и всю ночь проспала крепким сном.
На заре, поблагодарив хозяев кибитки за гостеприимство и вручив им немного денег, она снова отправилась в путь.
Весенний рассвет на взгорье Джейн увидела впервые в жизни. Восточный край небосклона алел, постепенно наливаясь золотисто-оранжевым сиянием; сладко пахла мокрая трава; в зарослях дрока там и сям пестрели россыпи весенних цветов; над холмами дрожала зыбкая дымка; высокое небо голубело, начисто вымытое вчерашним дождем. Багровый шар солнца, выкатившись из-за дальней гряды на горизонте, стремительно разгорался, наполняя долины трепещущим горячим светом. С высоты раздавались заливистые трели жаворонка.
Рассвет полыхал над древними меловыми грядами, а Джейн томило неутоленное желание. Джетро… Ей хотелось быть с ним, здесь, среди дремлющих нагих холмов.
Она с болью в сердце спустилась в спящую долину, лелея напрасные, неосуществимые мечты.
Новая усадьба Уилсона оказалась очаровательным домом с черепичной крышей; все говорило о достатке и благоденствии. Джейн, сидя в седле, огляделась: похоже, Джетро повезло. Из дверей выглянула девочка, увидела Джейн, скрылась в доме. Немного погодя во двор вышла темноволосая женщина:
– Вы к Джетро?
– Да.
Извечное чутье подсказало женщине, кто перед ней, однако она не испытывала ни ревности, ни презрения; во взгляде сквозило равнодушное любопытство. Джейн неожиданно поняла, что этой женщине все известно, и, как ни странно, даже не покраснела.
Да и отчего ей было краснеть? Она только что провела ночь в цыганской кибитке и встретила рассвет на взгорье.
– Я с ним живу, – бесстрастно произнесла женщина. – Он ранним утром ушел, обещал через час вернуться. Ждите, если очень надо.
Джейн едва не расхохоталась. К ней внезапно вернулись спокойствие и уверенность в себе. Зачем ей дожидаться Джетро? Его пассию она увидела – этого вполне достаточно.
– Нет, спасибо, – улыбнулась Джейн. – Я тут проездом.
Она медленно поднялась по склону на взгорье; вдалеке, на вершине холма, виднелась одинокая фигура. Джетро?
Джейн не стала вглядываться, а повернула коня и поскакала по бескрайней равнине.
Скандальную выходку Джейн Шокли в Солсбери обсуждали много лет.
К девяти часам вечера обитатели соборного подворья возбужденно переговаривались. Джейн вышла из дому рано утром, на глазах возмущенных горожан отхлестала Хоб-Ноба плеткой, а потом ис чезла неизвестно куда. Конюх подтвердил, что она уехала верхом.
Только один человек в Солсбери догадывался, где она, – мистер Даниэль Мейсон. Он высказал предположение, что, скорее всего, Джейн отправилась на взгорье. Впрочем, он разумно рассудил, что больше ничего рассказывать не стоит. На поиски Джейн незамедлительно отправился отряд добровольцев.
Стивен Шокли, донельзя обеспокоенный, с девяти до одиннадцати часов вечера простоял в дверях особняка, принимая соболезнования обитателей соборного подворья; от предложенного кресла он наотрез отказался.
На следующий день к полудню мисс Шокли вернулась в Солсбери и как ни в чем не бывало заявила, что ничего страшного с ней не случилось – она уехала кататься на взгорье, попала в бурю и заночевала в цыганской кибитке.
Все на соборном подворье единодушно согласились, что именно скандальное поведение племянницы окончательно подорвало и без того слабое здоровье достопочтенного Стивена Шокли и ускорило его мучительно долгое угасание.
Спустя месяц мистер Портерс, как и подобает истинному христианину, снова героически предложил мисс Шокли руку и сердце – не ради того, чтобы обелить репутацию Джейн, а затем, чтобы в Солсбери поскорее забыли об опрометчивом поступке.
Ошеломленный отказом, мистер Портерс вернулся к себе в особняк и, поразмыслив, решил, что ему крупно повезло: судя по всему, мисс Шокли – весьма неуравновешенная особа.
1889 год
Летним воскресным утром безмятежный покой окутывал дремлющие улочки Солсбери. Впрочем, впечатление это было обманчивым: в городе бушевали бурные страсти – как и в стародавние времена, горожане выступили против епископа.
На соборном подворье стояла коляска-ландо; солидный седовласый господин почтительно усаживал в экипаж шестидесятилетнюю даму в длинном белом платье, из-под которого выглядывали носки изящных лайковых туфель на пуговичках. Мистер Портерс и мисс Шокли, воплощение респектабельности и достоинства, собирались в Кранборн-Чейс.
В тишине соборного подворья раздался негромкий звон колокола, сзывавшего прихожан к заутрене. Мимо лужайки певчих неторопливо проехала телега водовоза, запряженная дряхлой кобылой. Из особняка Момпессонов вышла мисс Барбара Таунсенд[61], прижимая к груди альбом для рисования, и направилась к южным воротам. С Хай-стрит на подворье свернул тяжелогруженый возок, в котором восседал каноник с многочисленным семейством – ему предстояло три месяца отслужить в соборе.
Джейн Шокли с трудом сдерживала возбуждение: завтра ей пред стоит схватка с епископом, а послезавтра… Она невольно улыбнулась – послезавтра о ней будет говорить весь город.
Вот уже тридцать лет мисс Шокли вела себя примерно, как и подобает почтенной обитательнице соборного подворья. После смерти дядюшки она по-прежнему жила одна. Десять лет назад Бернард Шокли, ее старший брат, вернулся из Индии и купил для семьи дом в окрестностях Крайстчерча. Джейн Шокли превратилась в респектабельную викторианскую даму; впрочем, о ее скандальной выходке на подворье вспоминали до сих пор, однако молодежь считала это вымыслом. Джейн стала такой же неотъемлемой частью солсберийского светского общества, как достопочтенные Геммики, Хасси, Таунсенды, Эйры или Джейкобы. Она пользовалась всеобщим уважением, к ее мнению прислушивались, и она умела добиваться своего.
Экипаж неторопливо выкатил с подворья на Хай-стрит, где его неожиданно остановил дородный пожилой мужчина. Заглянув в окно кареты, он разочарованно вздохнул.
Мистер Портерс недовольно посмотрел на мистера Мейсона – их взгляды на епископа весьма разнились.
– Мисс Шокли, вы же завтра к нам придете? – просительно произнес мистер Мейсон. – Вы же обещали…
Она невозмутимо взглянула на него – с тех пор, как она помогала Даниэлю Мейсону в его благотворительной деятельности, прошло много времени, и их отношения несколько изменились.
– Разумеется, мистер Мейсон. И вы о своем обещании не забудьте.
Он смущенно отвел глаза.
– В таком случае… – начала Джейн.
– Нет-нет, положитесь на меня, – торопливо заверил ее Мейсон.
Джейн благосклонно улыбнулась и велела кучеру:
– Трогай, Бейнс!
Экипаж выехал из города и поднялся по склону к Харнгем-Хиллу. Джейн удалось склонить Мейсона на свою сторону – для нее сейчас важен каждый. Она оценивающе взглянула на Портерса. Он сидел, гордо расправив плечи и выпрямив спину, и выглядел как невзрачный мотылек, приколотый булавкой к картону. «Наверняка я смогу и его убедить», – подумала Джейн. Именно поэтому она согласилась сегодня поехать с ним в Кранборн-Чейс.
С вершины холма открывался великолепный вид на разросшийся город. Мистер Портерс недаром гордился новостройками на окраинах, которые неумолимо приближались к Олд-Саруму. Да, мир переменился…
Мистер Портерс, однако же, не любовался живописными видами, а, поджав губы, размышлял о мистере Мейсоне и епископе.
Отголоски битвы, сотрясавшей Солсбери, докатились даже до парламента. Спор касался школ, которых в городе катастрофически не хватало. Однако же требовалось определить, какими будут эти школы и в чьем ведении они должны находиться. Нонконформисты Солсбери, такие как мистер Мейсон, настаивали, чтобы в школы принимали всех учеников, независимо от их вероисповедания, а сами школы находились в ведении государства, в соответствии с Законом об образовании, принятом в 1870 году. Епископ, воспротивившись этому предложению, при поддержке городских сторонников Консервативной партии намеревался открыть англиканскую школу. Горожан это вполне устраивало – к чему тратить деньги налогоплательщиков из муниципального бюджета, если Цер ковь согласна все расходы взять на себя?
Епископ Джон Вордсворт, родственник великого поэта, происходил из семьи, славившейся ученостью. В Солсбери с изумлением рассказывали о застольных беседах, которые велись исключительно на древнегреческом или на латыни.
Неудивительно, что епископ и его сторонники одерживали победы во всех спорах с нонконформистами.
Джейн Шокли подобная несправедливость возмущала.
– Мисс Шокли, напрасно вы Мейсона поощряете, – сказал Портерс. – Я понимаю, это вы по доброте душевной, однако вам прекрасно известно, что он ничего не добьется.
Джейн снисходительно улыбнулась: надо же, ему не по нраву, что она уделяет внимание Мейсону.
Портерс встал на сторону епископа, считая, что предложение Вордсворта вполне соответствует требованиям Закона об образовании.
– Но дело ведь не в этом! – возражала Джейн.
Ее поддержка много значила для Мейсона и для нонконформистов в целом – мисс Шокли, почтенная дама с соборного подворья, водит знакомство с самим епископом…
Нонконформистам противостояли консервативные горожане и светское общество Солсбери – Суэйны, Геммики и газета «Солсберийский вестник». Старого лорда Фореста попросили вынести вопрос на рассмотрение палаты лордов, но он наотрез отказался – свои земельные владения в Солсбери он давно продал и в дела города вмешиваться не желал. Джейн считала, что все они не правы. Завтрашнее собрание Мейсон решил устроить в гостинице «Белый олень», излюбленном месте встреч консерваторов, так что Джейн Шокли предвкушала бурные дебаты.
А сегодня ее ждет совсем иное – Кранборн-Чейс.
Кранборн-Чейс, широкая равнина к юго-западу от Сарума, издревле была безлюдной, пустынной местностью. Две тысячи лет назад римские завоеватели проложили по ней дорогу к землям гордых дуротригов; в саксонские времена тут возникли редкие поселения, а в Средневековье здешние леса стали королевскими охотничьими угодьями. Путники в Кранборн-Чейсе не задерживались.
Однако с недавних пор равнина превратилась в одно из самых поразительных мест Англии, ведь именно здесь находилось огромное имение, недавно унаследованное замечательным человеком, генералом Огастесом Питт-Риверсом. К 1880 году обитатели Сару ма сообразили, что на юго-западных пустошах происходит нечто необычное.
Как выяснилось, новый владелец, посвятивший свою жизнь двум излюбленным занятиям – археологии и народному образованию, – стал приглашать в имение широкую публику. В садах и парках поместья установили столы для пикника, качели и эстрады для концертов под открытым небом, а еще проложили велосипедные дорожки и устраивали фейерверки. Однако все это служило лишь приманкой для посетителей. Главной достопримечательностью Кранборн-Чейса был музей.
Джейн там прежде не бывала, и теперь Портерс с восторгом показывал ей все самое интересное: раскопанный доисторический могильник, древнеримскую усадьбу и восхитительное недавнее открытие – отрезок римской дороги.
– Питт-Риверс обнаружил римский постоялый двор, древние монеты, водостоки… немыслимые сокровища! – объяснял Портерс, вспоминая свои скромные находки в сточных канавах Солсбери; найденные им предметы занимали почетное место в городском музее на Сент-Энн-стрит, однако не шли ни в какое сравнение с обширными археологическими изысканиями генерала.
Джейн осмотрела огромную коллекцию: фрески, керамические изделия, украшения и сельскохозяйственные орудия…
– Обратите внимание, мисс Шокли, – сказал Портерс, – экспозиция устроена так, чтобы прослеживалась эволюция каждого предмета. Питт-Риверс утверждает, что Чарльз Дарвин прав и что эволюционируют не только живые организмы, но и культуры. Он полагает, что для дальнейшего совершенствования людям необходимо образование.
– А вы тоже считаете, что общество можно усовершенствовать? – с улыбкой спросила Джейн.
– Да, разумеется. Общество развивается постоянно – так сказать, эволюционирует.
Она удовлетворенно кивнула, а на обратном пути вернулась к этому разговору:
– А вы, мистер Портерс, верите в прогресс?
– Конечно.
– То есть каждое поколение стремится усовершенствовать себя, стать лучше, верно?
– Да.
– И это касается не только мужчин, но и женщин?
– Да, разумеется.
– Значит, общество в своем постоянном развитии и совершенствовании достигнет такой стадии, на которой женщины обретут равные права с мужчинами?
Портерс обеспокоенно взглянул на нее.
Джейн разочарованно вздохнула. Портерс, восхищаясь передовыми идеями Питт-Риверса, с большим скептицизмом относился к любым предложениям, грозящим нарушить установленный порядок вещей.
«Она такая пылкая, такая непосредственная… – думал тем временем Портерс. – Как бы не причинила себе вреда!»
– Разумеется, я поддерживаю необходимость некоторых реформ, – примирительно сказал он. – К примеру, закон об имуществе замужних женщин…
– А, тот самый, что наконец-то позволил женщинам самостоятельно распоряжаться своим имуществом, независимо от мужа? – презрительно оборвала его Джейн. – И что с того?
– Ну, все-таки начало положено…
– Кампания за предоставление женщинам права голоса началась свыше двадцати лет назад, – напомнила ему Джейн. – И все равно женщины не имеют права голоса, а наши прославленные избирательные реформы коснулись только мужчин. Почему демократия распространяется только на мужчин? Разве это не противоречит учению Дарвина об эволюции?
Портерс не подозревал, что Джейн испытывает на нем силу своих доводов.
– Парламент после длительного рассмотрения отклонил эти предложения… – нерешительно начал он.
– Нет, билль прошел второе чтение, – возразила Джейн. – Его бы обязательно приняли, если бы кабинет министров его не остановил.
– Между прочим, на севере Англии кампания за избирательные права женщин не получила распространения.
– Да, потому что не встретила поддержки среди политиков-мужчин, – укоризненно заявила Джейн.
– Мисс Шокли, умоляю, не высказывайте подобных мнений в Саруме! Вы же знаете, что в наших кругах с большой неприязнью относятся к доктору Ричарду Панкхерсту – он социалист и республиканец.
(Миссис Эммелина Панкхерст еще не принимала активного участия в суфражистском движении.)
– Зато мисс Флоренс Найтингейл невозможно обвинить в республиканских взглядах! – воскликнула Джейн. – А она горячая сторонница избирательных прав женщин.
Мистера Портерса этот довод не убедил.
– Я решила организовать в Солсбери общество суфражисток, – заявила Джейн. – И очень надеюсь на вашу поддержку. Вы же сами сказали, что верите в прогресс.
– Увы, мисс Шокли, я не могу поддержать ваше начинание, – ответил Портерс.
Джейн гневно посмотрела на него:
– В таком случае, мистер Портерс, я вас больше знать не желаю.
На встрече в гостинице «Белый олень» присутствовали и сторонники, и противники епископа, среди которых выделялся мистер Пай-Смит, родственник известного богослова нонконформистского тол ка. Присутствующим больше всего понравилось выступление мисс Шокли.
– В англиканских школах положено освобождать от изучения Закона Божьего детей иных вероисповеданий. Я сама преподавала в школе и знаю, что в лучшем случае иноверцев просто отправляют из класса в коридор, где им приходится ждать окончания урока, однако чаще всего их, вопреки желаниям родителей, наставляют в англиканской вере… – начала Джейн.
Ей возразили, что епископ предложил увеличить число мест в школе и давать детям не только начальное, но и среднее образование.
– Да, – согласилась Джейн. – Однако за обучение придется платить девять пенсов в неделю, а многие семьи нонконформистов не могут себе этого позволить. Епископ хочет, чтобы Англиканская церковь властвовала в Саруме, как в Средние века. Этого допустить нельзя!
Слушатели, среди которых было немало женщин, встретили ее слова громкими аплодисментами.
В конце встречи Джейн, разрумянившись от удовольствия, напомнила Мейсону, что пора объявить присутствующим о завтрашнем собрании.
– Сейчас не время, – пробормотал мистер Мейсон.
– Но вы же обещали меня поддержать! – возмутилась Джейн.
– Мисс Шокли, видите ли, при таком стечении народа… – краснея, возразил он.
– Вы дали мне слово, мистер Мейсон, – холодно заметила она.
Люди начали расходиться.
Джейн вскочила.
– Завтра в семь вечера состоится первое собрание Общества суфражисток! – выкрикнула она. – Здесь, в гостинице «Белый олень»!
Ее никто не услышал.
В шесть часов вечера горничная сказала мисс Шокли, что сегодня новолуние.
Полчаса спустя Джейн Шокли шла по тихому подворью.
Старый мистер Стурджес провожал на бал элегантную даму в древней деревянной коляске с кожаным балдахином, которая якобы предназначалась для того, чтобы сохранить в первозданной чистоте изящные атласные туфельки, а на самом деле была излюбленным средством передвижения обитателей соборного подворья. На Хай-стрит в телеге спала старуха.
Джейн весь день развешивала объявления о предстоящем собрании, однако особых надежд на успех не питала.
В гостинице она прождала целый час.
На собрание пришел только мистер Портерс, объяснив, что по зрелом размышлении он счел доводы Джейн убедительными.
Догадавшись, что его слова – ложь во спасение, Джейн милостиво позволила ему проводить ее домой.
Хендж-II
21 сентября 1915 года
Смутное, тяжелое время… На далеком Галлипольском полуострове остановлено победное наступление британских войск. На европейском театре военных действий союзники готовились к новой масштабной операции. Россия терпела поражения на Восточном фронте, и 5 сентября император Николай II взял на себя командование русскими войсками.
Смутное, тяжелое время… Вооруженный конфликт, начавшийся на Балканах, охватил всю Европу и принял затяжной характер.
На торги, проходившие в помещении театра на Нью-стрит, посетителей собралось немного. Аукционист для порядка выдержал небольшую паузу, деликатно кашлянул и, несколько опасаясь, что следующее предложение встретят презрительным смехом, торжественно объявил:
– Лот пятнадцать. Стоунхендж.
Единственный сын сэра Эдмунда Антробуса, владельца поместья, называемого аббатством Эймсбери, погиб на фронте, а вскоре скончался и сам баронет, и обширные земельные владения – в том числе и участок площадью тридцать акров, на котором находился Стоунхендж, – выставили на продажу.
Лет за десять до того американский предприниматель и филантроп Джон Джейкоб Астор пытался приобрести этот древний памятник за неимоверную по тем временам сумму в двадцать пять тысяч фунтов стерлингов, чтобы передать его Британскому музею, однако после долгих переговоров сэр Эдмунд от сделки отказался.
Интерес к Стоунхенджу проявляли и другие: в частности, представители так называемой Церкви вселенских уз предложили передать его в собственность акционерной компании друидов и собирателей древностей. В 1913 году был принят Закон об охране памятников старины, запрещавший уничтожение Стоунхенджа или вывоз его за пределы страны.
Торги шли вяло, а когда цена достигла 6 тысяч фунтов стерлингов, то предложения и вовсе иссякли.
Внезапно один из посетителей поднял руку.
Мистер Сесил Герберт Эдвард Чабб, проживавший по адресу: Бемертон-Лодж, Солсбери, с отличием окончил Кембриджский уни верситет, где изучал точные науки и право, однако в дальнейшем стал управляющим Фишертон-Хаусом, частной лечебницей для умалишенных в Солсбери, которая досталась его жене в наследство от дядюшки доктора Финча.
Мистер Чабб решил, что владелец исторического памятника должен быть местным жителем, а потому приобрел Стоунхендж за 6600 фунтов стерлингов.
В 1918 году мистер Чабб передал Стоунхендж государству.
В том же году Дэвид Ллойд-Джордж, премьер-министр Великобритании, даровал ему титул баронета.
Лагерь
Май 1944 года
Все с нетерпением ждали дня высадки десанта. Разумеется, точной даты начала операции никто не знал, даже верховный главнокомандующий. И все же, слава богу, война в Европе близилась к концу.
Если бы в мае 1944 года самолету германской разведки удалось пробраться на южный берег Англии, то он наверняка бы пролетел чуть западнее острова Уайт, к тихой гавани Крайстчерча, а оттуда – на север, вверх по реке Эйвон.
Первым делом немецкий шпион заметил бы небольшие аэродромы – в Гурне, рядом с Крайстчерчем; в Ибсли, к северу от городка Рингвуд; в Стоуни-Кросс, близ Нью-Фореста, в десяти милях от побережья, и множество других летных полей, на которых стояли хорошо замаскированные бомбардировщики «Локхид П-38 лайтнинг» и истребители «Рипаблик П-47 тандерболт». Затем самолет-шпион направился бы на север, мимо Фордингбриджа и Даунтона, вверх по Эйвону, туда, где у подножия Солсберийской возвышенности, как пальцы раскрытой ладони, сливались пять рек.
Эта точка на карте была прекрасно известна летчикам люфтваффе – пятиречье хорошо заметно с высоты нескольких тысяч футов, – и именно к долинам Сарума устремлялись вражеские самолеты с запада, чтобы, ориентируясь по рекам, как по компасу, совершать разрушительные налеты на Бристоль, Бирмингем и Ковентри.
В то время жители Солсбери не подозревали, что их город лишь по счастливой случайности избежал бомбардировки. По планам немецкого командования уничтожению подлежали все исторические достопримечательности Англии, отмеченные в путеводителях Бедекера, включая соборы в Ковентри, Кентербери и Солсбери. Солсбери повезло: так называемые рейды по Бедекеру прекратились вскоре после массированного налета на Ковентри.
Вдобавок на Солсберийской возвышенности вот уже сорок лет проводились армейские учения; на взгорье размещались многочисленные военные объекты. От зоркого взгляда наблюдателя не укрылось бы и состояние дорог вокруг Солсбери: их расширили, а дорожное полотно покрывала белая разметка – явное указание на движение танков.
Сделав круг над Сарумом, немецкий разведчик отправился бы на северо-восток, вдоль долины реки Бурн, где тоже располагались аэродромы. Однако главный секрет Сарума был заметен не с высоты. В преддверии высадки в Нормандии именно здесь, в пятиречье, сконцентрировались основные силы союзных войск.
В долинах и лощинах, под склонами холмов и в тени живых изгородей стояли замаскированные грузовики, бронетранспортеры, джипы и танки, танки, танки… Некогда сонный город заполнили войска – австралийские, канадские, американские; в имении лорда Пемброка разместилась ставка Южного командования.
Сарум, впервые за всю историю своего существования, превратился в огромный военный лагерь.
– Как бы под тяжестью оружия мы все сквозь землю не провалились, – шутили горожане.
Лейтенант Адам Шокли, пилот 492-й эскадрильи 48-й истребительной авиационной дивизии, получив увольнительную, решил провести день в Солсбери, куда и отправился из Ибсли на рейсовом автобусе.
Эскадрилья прибыла в Англию в конце марта и после интенсивных учений вот уже месяц почти ежедневно вылетала бомбардировать позиции немецких войск на севере Франции – радиолокационные посты, аэродромы и речные переправы.
Город Солсбери – древний собор с высоким шпилем и рыночную площадь – Адам Шокли видел только с высоты, из кабины самолета.
Автобус медленно катил по узкой дороге. «Надо было в попутку сесть», – подумал Адам, разглядывая живописный городок Фордингбридж на берегу реки. Чуть позже, проехав Даунтон, автобус спустился в лощину. Справа виднелась высокая стена какого-то богатого имения, и Адам с улыбкой вспомнил, что такие же стены окружали старые поместья в окрестностях его родной Филадельфии. «Да, англичане строят прочно, будто всю жизнь от врагов обороняются», – подумал он.
По правой стороне дороги мелькнул указатель: деревня Бритфорд.
Впереди показался шпиль собора, а затем взору предстала широкая панорама древнего города.
«В этом сонном царстве и повеселиться негде», – вздохнул Адам.
Бригадир Арчибальд Форест-Уилсон, откинувшись на спинку заднего сиденья крошечного «морриса», разглядывал светлые завитки на затылке хорошенькой девушки-шофера. Сегодня все автомобили из части Вспомогательного территориального корпуса разобрали, и шоферам-добровольцам, как и в начале войны, пришлось использовать свои личные машины по служебному назначению.
Во Вспомогательном территориальном корпусе было много водителей, но бригадиру часто выделяли именно эту золотоволосую красавицу с ярко-голубыми глазами. Сейчас юркий «моррис» мчался из артиллерийского гарнизона в Ларкхилле по длинной подъездной аллее к Уилтону. Форест-Уилсон улыбнулся, предвкушая отличный обед: в офицерском клубе Уилтона прекрасно кормили. Судя по всему, клубом заправлял человек ловкий и предприимчивый, и, невзирая на строгую карточную систему, там всегда подавали вкусное мясо и превосходный виски.
Вот-вот начнется операция по высадке десанта… Впрочем, бригадир Форест-Уилсон недавно получил назначение в ставку командования, а потому лично участвовать в операции не будет, – наверное, это к лучшему. Его тщательно выверенное продвижение по карьерной лестнице складывалось превосходно: сначала служба в гренадерском гвардейском полку, потом – год в управлении военной разведки при Военном министерстве. Арчибальд Форест-Уилсон был на хорошем счету у верховного командования, да и женам старших офицеров нравилось его общество. Жена самого Форест-Уилсона, юная ветреная аристократка, бросила мужа и вскоре умерла. Дослужится ли он до генерала? Вполне возможно… Однако он не горел желанием посвящать армии всю свою жизнь – было чем заняться в большом бизнесе, да и карьера политика прельщала. Может, выставить свою кандидатуру в парламент? Он человек надежный, респектабельный, с прекрасным послужным списком.
Несмотря на успешную карьеру, Арчибальд Форест-Уилсон был весьма разочарован жизнью. Высокий, худощавый, с узким ли цом, аккуратными тонкими усиками над верхней губой и черными глазами, глядящими из-под тяжелых век, он напоминал хищную птицу. В мужском обществе он держался сурово, а к женщинам обращался с неожиданной нежностью, чем неизменно их очаровывал. Он был отличным стрелком, но больше всего любил рыбную ловлю, особенно ужение нахлыстом; он мягко забрасывал мушку и ловко заставлял ее трепетать у самой поверхности воды, привлекая рыбу.
Форест-Уилсон, рассеянно глядя на золотистые кудри девушки-водителя, с одобрением отметил горделивую посадку ее головы и сокрушенно вздохнул, мысленно кляня отца за упрямство и недаль новидность. Нет, Уилсон-старший весьма разумно взял в жены вто рую дочь покойного лорда Фореста, за которой давали внушительное приданое, – в прошлом веке состояние Уилсонов по шло на убыль, и особняк в Крайстчерче пришлось продать, а женитьба позволила отцу приобрести поместье близ Винчестера, однако титулом он так и не обзавелся, решив, что Ллойд-Джордж заломил слишком высокую цену.
«Глупец! – рассеянно думал Арчибальд. – Подумаешь, поместье. Вот если бы титул Форестов восстановить!»
Арчибальд Форест-Уилсон был человеком безмерных амбиций. Война шла к концу, пора было обзавестись женой и наследником. Опять же титул… Он снова взглянул на девушку-водителя. Очаровательная, не из простых – по разговору понятно. Ей, наверное, лет двадцать пять, не больше, а ему уже сорок три… Впрочем, в данном случае возраст – не помеха, а преимущество.
Автомобиль проехал мимо ворот Уилтон-Хауса к Кингсберисквер и остановился у входа в офицерский клуб. Форест-Уилсон неторопливо вышел из машины и склонился к окошку водителя.
– Патриция, на сегодня вы свободны.
– Благодарю вас, сэр.
– Простите, что не приглашаю на обед, – мило улыбнулся он. – У меня встреча с генералом. Может быть, в другой раз, если обстоятельства позволят…
– С удовольствием, сэр.
Форест-Уилсон окинул взглядом ладную фигурку в форменном кителе, застегнутом на все пуговицы: длинные стройные ноги, высокая грудь, ярко-голубые глаза. Девушке очень шла короткая стрижка.
«Интересно, на охоту она выезжает? – подумал Арчибальд. – Ах да, я же спрашивал – выезжает».
Сам он охоту не любил, но обожал женщин-охотниц.
– Что ж, мне пора, – небрежно бросил он, помахивая стеком. – До свидания.
Патриция Шокли… Да, очаровательная девушка. Надо бы с ней поближе познакомиться.
В половине второго Патриция Шокли и Джон Мейсон сидели в ресторанчике «Ступени» у входа на соборное подворье. Ресторан располагался в старинном особняке с тяжелыми потолочными балками и огромным количеством лестниц, соединявших крошечные комнатки в трех этажах, и славился отменной кухней.
Патриции Шокли было не до разносолов. Она досадливо вздохнула.
«Ну что еще ему сказать?»
– Потому что меня в армию не взяли? – спросил Мейсон.
На широком лбу с ранними залысинами выступила испарина. Еще бы! Мейсон и в жару носил коричневый твидовый костюм, толстые шерстяные носки и туфли, начищенные до зеркального блеска. «Наверное, и нательное белье тоже шерстяное… – Патриция с трудом сдержала смех. – Ведет себя как пятидесятилетний, а ведь ему всего тридцать пять…»
Что ему сказать? Правду? Или придумать какую-нибудь отговорку? Нет, лучше уж правду.
– Джон, прости… Понимаешь, я тебя не люблю. Ни капельки.
– Я думал, что…
– Нет, наш поцелуй ничего не значит.
– Понятно. Я же не виноват, что…
Джон Мейсон никогда и ни в чем не был виноват. Не его вина, что у него слабые легкие, а потому к строевой службе он был непригоден. Ему еще повезло – в Первую мировую войну ему обязательно вручили бы белое перышко в знак трусости. На самом деле трудам на нужды фронта он посвящал все время, свободное от работы в адвокатской конторе. В начале войны Джон Мейсон, памятуя о возможных газовых атаках, занялся организацией добровольных бригад санитаров и пожарных, а потом собрал отряд по защите от воздушных налетов, помог наладить перевозку пациентов в больницы и разработал график приглашения офицеров и солдат на ужин к жителям города. В целом он принимал самое деятельное участие во всех оборонных мероприятиях.
И уж разумеется, не его вина, что Патриция из лучших побуждений – точнее, из жалости – несколько раз сходила с ним на свидание и даже подарила ему поцелуй.
Увы, он воспринял это слишком серьезно и немедленно сделал ей предложение.
– Может быть, со временем ты…
– Нет, – решительно ответила она. – Прошу тебя, забудь обо мне.
– Я постараюсь, – пробормотал он.
Патриция, поглядев на его расстроенное лицо, снова вздохнула: господи, это невыносимо!
Джон Мейсон в отчаянии подумал, что глупо было даже на деяться на ответное чувство. И все же в золотоволосой красавице скво зило что-то детское, наивное и очень ранимое – ее хотелось защитить.
Официантка принесла кофе.
«Слава богу, что кофе не по карточкам выдают!» – подумала Патриция и хотела было пригласить Джона на обед через неделю, но вовремя опомнилась.
– Пожалуй, нам пока не стоит больше встречаться, – сказала она.
– Да, хорошо.
– Ничего хорошего, – вздохнула Патриция. – Мне пора.
Она торопливо вышла из ресторана, а Джон, оставшись за столиком, погрузился в невеселые думы. «Ничего хорошего»… Значит ли это, что ее огорчает такое положение дел? Огорчение – это чувство. Значит, она питает к нему какие-то чувства. Джон задумчиво пригубил остывший кофе. Похоже, у него все-таки есть надежда…
Жители Сарума радушно приняли американских военных, расквартированных в окрестностях. Поначалу не обходилось без недоразумений, однако за два года и горожане, и солдаты привыкли к поведению друг друга, хотя по-прежнему удивлялись некоторым странностям.
В 1942 году американские солдаты с презрением относились к британцам, которые до сих пор не выиграли войну. Однако же в Англию, где все лето лили холодные дожди, американцы прибыли из жаркой Флориды, в летних мундирах – и почти сразу же подхватили грипп и воспаление легких, из-за чего местные жители сочли их неженками. Впрочем, после Африканской кампании и англичане, и американцы прониклись уважением друг к другу.
– Мы все разные, как бананы, – смеясь, объяснял Патриции один из солдат. – Есть зеленые, есть и с гнильцой.
Теперь у союзных войск появился новый герой – Гарольд Александер, генерал британской армии.
Вскоре жители Солсбери заметили, что американская армия устроена иначе, чем английская. В британской армии к боевым действиям готовили каждого, а вот в армии США военнослужащие разделялись на две категории: обслуживающий персонал – канцелярские клерки, снабженцы, казначеи и прочие, пригодные только для вспомогательных работ, – и собственно бойцы, которые, хотя при каждом удобном случае расслабленно опирались на первую попавшуюся поверхность, тем не менее обладали восхитительной крепостью и несгибаемостью. Обитатели Сарума быстро научились их различать.
– Наши солдаты – как сжатая пружина, а американцы какие-то резиновые, – сказала однажды Патриция бригадиру Форесту-Уилсону.
– Зато ни в твердости, ни в гибкости им не откажешь.
Однако жители Солсбери не могли простить американским солдатам их снисходительное отношение к городу и его обитателям. Старинные городские кварталы американцы пренебрежительно именовали трущобами, а местных девушек и служащих Женского вспомогательного территориального корпуса – медсестер, санитарок и телефонисток – объявили старомодными; появление в городской больнице американской медсестры в нейлоновых чулках произвело фурор.
Кроме того, существовала еще и разница в доходах английских и американских военнослужащих, которая становилась тем заметнее, чем ниже был занимаемый чин. Генералы и старшие офицеры обеих армий получали сопоставимое жалованье, а вот британские майоры – две трети жалованья своих американских коллег, капитаны – всего половину; жалованье английского лейтенанта было в два с половиной раза меньше, чем у лейтенанта американской армии. Рядовой армии США получал, в пересчете на английскую валюту, огромную сумму: три фунта восемь шиллингов и девять пенсов в неделю, то есть впятеро больше жалованья английского солдата.
Обитатели Сарума впервые осознали, как бедно они живут в самом сердце могущественной Британской империи.
Вдобавок неприязнь к американцам подогревалась не только их вызывающим поведением, но и отношением к еде. Американские солдаты, скучая по дому, постоянно рассказывали о привольном житье. Власти Соединенных Штатов снабжали войска огромным количеством провизии, совершенно неизвестной – и недоступной – местным жителям, и запрещали бойцам пить местное молоко, которое якобы вызывало желудочно-кишечные заболевания. Однако самые большие нарекания вызывало расточительство американцев. Для жителей Сарума было кощунством не доесть предложенное угощение, отправить в мусор оберточную бумагу, картон и бечеву и с небывалой легкостью выбрасывать чуть поврежденные вещи. Американцы привыкли жить с размахом, на широкую ногу, твердо уверенные в неистощимом потоке всевозможного добра, сыпавшегося будто из рога изобилия. Англичане не могли этого понять и упрямо считали свою родину самой лучшей на свете, – в конце концов, они жили не где-нибудь, а в великой и могучей Британской им перии!
Как ни странно, и местные жители, и американские солдаты сходились в одном: в пристрастии к традиционному английскому лакомству – жареной рыбе с картошкой; в его потреблении американцы обогнали англичан.
Для американских солдат в Солсбери местом встреч стала миссия Красного Креста на Хай-стрит, где находились не только солдатский клуб и столовая, но и цветочный магазин, откуда можно было отправить букеты в Америку.
Именно туда пришла Патриция Шокли, расстроенная разговором с Джоном Мейсоном, – в цветочном магазине работала ее подруга Элизабет, женщина замужняя и рассудительная; она всегда помогала Патриции добрым советом.
– Я ведь правильно поступила?
– Разумеется.
– Ну и слава богу. Надеюсь, теперь он от меня отстанет.
– Ох, это вряд ли. Он слишком настырен.
– Черт возьми!
В магазин вошел молодой американский летчик, окинул подруг заинтересованным взглядом ярко-синих глаз и, сверкнув белозубой улыбкой, легкой походкой направился к прилавку.
– Мне пора, – неохотно сказала Патриция, но уходить не спешила.
– Здесь цветы продают? – спросил летчик у Элизабет.
– Вам в Америку букет отправить?
– Да, в Филадельфию.
– Алые розы на длинных стеблях?
– Верно, – удивился летчик. – А как вы догадались?
Элизабет притворно вздохнула:
– Все американцы почему-то покупают только алые розы. Нет, перед Рождеством один попросил отправить матери пуансеттию… Значит, вас не интересуют ни гвоздики, ни тюльпаны, ни гладиолусы?
– Нет-нет, спасибо, мне нужны алые розы, – рассмеялся он.
– Для невесты?
– Для моей матери. Подарок на день рождения.
– Что ж, отправим алые розы в Филадельфию, – улыбнулась Элизабет и с напускной серьезностью спросила: – Лейтенант, объясните нам, пожалуйста, почему американские военнослужащие всегда отправляют в подарок алые розы?
– Потому что от нас ждут именно алых роз.
– Значит, сюрпризов у вас не любят?
– Нет.
– И кому отправлять?
– Миссис Чарльз Шокли, от Адама Шокли.
В ходе изумленных расспросов выяснилось, что лейтенант Адам Шокли никогда прежде в Солсбери не бывал. Да, его предки переселились в Америку из Англии; имя Адам часто встречалось в их семье. Патриция припомнила, что в родословной, бережно хранимой ее отцом, упоминался некий Адам Шокли, уехавший в Пенсильванию.
– Возможно, мы с вами – дальние родственники, – сказала она Адаму. – Фамилия Шокли редко встречается.
– И как же вы здесь живете без меня?
– Если хотите, я с удовольствием покажу вам город.
– Вас это не затруднит?
– Нет, что вы! Сегодня я совершенно свободна, – обрадованно ответила Патриция – прогулка по городу наверняка развеет мысли о Джоне Мейсоне.
Они с Адамом прошлись по соборному подворью, в тени платанов у лужайки певчих, любуясь величественным собором, и вдоль реки, где у берега покачивались длинные водоросли, а по воде горделиво плыли белые лебеди, и по рыночной площади. Адам с изумлением разглядывал Птичий Крест и старинные дома на улицах.
– Неужели вот этот домик так и стоит здесь шестьсот пятьдесят лет? – спросил он на Нью-стрит, указывая на деревянный особняк с остроконечной крышей.
– Да, так и стоит, – улыбнулась Патриция. – Между прочим, мы сейчас в новом городе, а старый – вон там… – Она махнула рукой в направлении Олд-Сарума.
– Даже не верится… – вздохнул он.
На рыночной площади торговцев было немного, да и прилавки не ломились от товаров. Заметив у одного из продавцов посуду, Адам удивленно произнес:
– Она же вся разная… Неужели у вас сервизов нет?
– Так ведь война, – напомнила ему Патриция. – Сейчас люди простой чайной паре рады.
Он печально кивнул: действительно, как можно забыть о тягостях военного времени?
– А чего вам больше всего недостает?
– Нейлоновых чулок, – улыбнулась Патриция.
Они зашли перекусить в ресторанчик «Лавр» и за чаем продолжили разговор о родственниках. Отец Адама был преуспевающим адвокатом, и семья жила в Мейн-Лайн, богатом предместье Филадельфии. Родные Патриции жили в Нью-Форесте, близ Крайстчерча; брат служил во флоте, отец, отставной полковник, был человеком энергичным и деятельным.
– Он всеми в округе командует, – объяснила Патриция и со смешком добавила: – После войны приезжайте к нам погостить, милый братец.
Адам напряженно раздумывал, как в этом древнем городе полагается приглашать очаровательную девушку на свидание. Так ничего и не придумав, он просто спросил, согласна ли она встретиться с ним еще раз.
– С удовольствием, – ответила Патриция. – А когда?
– У меня вечером вылет, а вот завтра…
– Значит, завтра. Только ресторан выберу я – вы же не местный, не знаете, где вкусно кормят.
Впоследствии Адам не раз задавался вопросом, когда именно ему стало ясно, что у них с Патрицией завяжется роман. Казалось бы, в ту суматошную пору, перед подготовкой операции по высадке десанта в июне 1944 года, было не до любовных интрижек. Однако же, увидев Патрицию на пороге старого викторианского особняка в Милфорд-Хилле, где были расквартированы служащие Женского вспомогательного территориального корпуса, Адам понял, что влюблен.
Вчера он весь день думал о ней – ну или почти весь день; в ночном небе, под обстрелом вражеской артиллерии, когда требовалось сбросить на противника две тысячефунтовые бомбы, было не до мыслей о Патриции, но, возвращаясь на аэродром, он вспоминал ее смеющееся лицо, золотистые волосы и лукавый взгляд.
Подготовка к операции «Оверлорд» шла полным ходом. На летных полях в Ибсли и Тракстоне, где стояли бомбардировщики «Рипаблик П-47», и на аэродроме в Стоуни-Кросс, близ Нью-Фореста, где базировались истребители «Локхид П-38», летчики то скучали, ожидая приказов о вылете, то отправлялись в смертельную схватку с противником в небесах над Северной Францией.
Те, кто ежедневно рисковал жизнью, о будущем не думали. Патриция наверняка понимала, что их связь будет коротка, – каждое страстное свидание могло стать последним.
Весь день Адам провел в надежде на встречу.
Когда Патриция, смущенно улыбаясь, вышла на порог, Адам сразу понял, что и она о нем думала.
– Я тебе подарок принес, – сказал он, протягивая ей небольшой сверток: две пары нейлоновых чулок.
– Ах, какое чудо!
Ужинали они не в городе, а в Харнгеме, на самой окраине Солсбери, в ресторане «Старая мельница».
– Это и впрямь мельница! – удивленно воскликнул Адам, поднимаясь по скрипучей дубовой лесенке, ведущей на второй этаж.
Столы стояли у широких эркерных окон, а в углу обеденного зала красовался рояль.
– Здесь когда-то была мельница, а до того – сукновальня, – сказала Патриция. – Наш захолустный городок когда-то был центром английской суконной торговли.
– Надо же! А чем еще славен Солсбери?
– Джон Констебль создал у нас свои лучшие пейзажи с видами собора.
– Правда? – улыбнулся он. – У вас тут и впрямь исторические места.
– Да, – согласилась Патриция.
Их накормили превосходным ужином. Они распили бутылку неплохого красного вина, а потом вернулись по заливным лугам в город, где высилась серая громада древнего собора. На деревянном мостике через реку Патриция и Адам поцеловались.
– Какие у тебя планы на вечер? – спросила она.
– Я заночую в гостинице «Белый олень».
– Ах вот как!
– Я снял там лучший номер – на случай, если приеду с женой.
– А ее фамилия тоже Шокли?
– Ага, – ухмыльнулся он.
Она взяла его под руку:
– Что ж, вперед, Шокли.
Полчаса спустя он счастливо вздохнул:
– Шокли, похоже, ты взяла инициативу в свои руки.
– Никак нет, – рассмеялась Патриция. – Я просто изголодалась.
В девять часов вечера Джон Мейсон поднялся на крыльцо особняка в Милфорд-Хилле и объяснил девушке, открывшей дверь, что пришел повидаться с Патрицией Шокли.
– Сейчас позову, – ответила она и скрылась в глубине дома.
– Она с американским летчиком гулять ушла, – донеслось из чьей-то комнаты.
У Джона Мейсона мучительно заныло сердце.
– Она вышла, – объявила девушка, выйдя на порог.
Мейсон понуро побрел на улицу. Сгущались теплые летние сумерки. Может быть, Патриция скоро вернется? Он решил подождать ее у подножия холма.
В десять часов вечера он собрался было уходить, но передумал. В половине одиннадцатого к особняку подошел подвыпивший американский солдат. Мейсон раздраженно велел ему уйти.
– Это еще почему?
– Потому что я адвокат и сейчас военную полицию вызову.
Солдат грязно выругался, но в драку ввязываться не стал – Мейсон превосходил его размерами – и ушел восвояси.
К полуночи надежды у Мейсона не осталось.
Домой он отправился только во втором часу ночи.
Роман Адама Шокли и Патриции Шокли продолжался весь май. Обычно они встречались в Фордингбридже или в Даунтоне, на полпути между Солсбери и военной базой Адама, но однажды он приехал в город на автобусе, и Патриция отвезла его в своем «моррисе» на взгорье, к развалинам крепости на холме.
– Я покажу тебе Сарум, – пообещала она.
– А как же…
– Ничего страшного, укромное местечко найдется.
Они осмотрели древние руины и поглядели с холма на равнину, полную закамуфлированной военной техники, а потом поехали в долину Эйвона. Близ деревни Эйвонсфорд Патриция воскликнула:
– А теперь – пикник!
Адам взял из машины плед и корзинку с припасами, и Патриция вывела его по тропке на взгорье.
– Я это место обнаружила в прошлом году, – объяснила она. – Правда, отсюда великолепный вид открывается?
Неподалеку высился курган с купой деревьев на вершине.
– А там что? – спросил Адам.
– Не знаю… Давай посмотрим.
Они прошли через поле, вспугнув облако синих бабочек, и поднялись на курган, где обнаружили за стеной древних тисов зеленую лужайку.
– Странное место, – сказал Адам.
– Странное и безлюдное, – с улыбкой согласилась Патриция, расстелив плед на мягкой траве, согретой полуденным солнцем, и неторопливо расстегивая пуговицы жакета. – Отличное место для пикника.
Адам лучился счастьем, что не ускользнуло от внимания его товарищей-летчиков. Они дружелюбно поддразнивали его и гадали, что означают сообщения, которые время от времени оставляли для него телефонистки, – «Даунтон, 2.30». Поскольку имя своей пассии Адам назвать отказался, она так и стала для всей военной базы «Даунтон два тридцать».
Патриция тоже сияла от радости, хотя всякий раз, как Адам улетал на задание, проводила ночи без сна, орошая слезами подушку. Однажды Форест-Уилсон пригласил ее на ужин, но она вежливо отказалась. Бригадир не стал настаивать, лишь с сожалением взглянул на нее, догадываясь о причине отказа.
Спустя несколько дней Форест-Уилсон, заметив новые нейлоновые чулки Патриции, сразу понял, что ее возлюбленный – американец.
Адам и Патриция, наслаждаясь отпущенными им краткими неделями счастья, обходили молчанием только одну тему, – жизнь после войны. Однажды он нерешительно упомянул о возможной встрече осенью, но Патриция быстро оборвала его:
– Не надо об этом, сглазишь.
Адам Шокли решил, что неплохо бы уговорить Патрицию переехать в Филадельфию.
Ее суждения не раз изумляли Адама. Патриция так решительно выражала свое мнение, что Адама это настораживало.
Как-то раз они зашли в магазинчик в Фордингбридже, где старая продавщица с подчеркнутым уважением обращалась к Патриции «мисс».
– Это признак английской сословной системы? – с улыбкой спросил Адам.
– Да, – сердито ответила Патриция. – Ничего, после войны все изменится.
– А что, это так важно?
Она со вздохом указала на латунные буквы на погонах форменного кителя – «F. A. N. Y»[62]:
– Видишь? Я служу в подразделении Женского вспомогательного территориального корпуса, которое предоставляет водителей для высшего командного состава.
– Ну и что?
– Ты не догадываешься, кого туда принимают?
– Тех, кто хорошо водит автомобиль?
– Нет. Тех, у кого правильное произношение. Девушек знатного рода, из хороших семей, из высших слоев общества.
– Да, я об этом слышал, – пожал плечами Адам.
– Если честно, то девушки из простых машину водить не умеют. По-моему, это несправедливо! – воскликнула Патриция и, улыбнувшись, добавила: – Вот такая я бунтарка.
«Интересно, как же она бунтовать собирается?» – подумал Адам.
В другой раз, увидев на рыночной площади американского солдата, скупающего продовольствие, она укоризненно покачала головой и заявила:
– Нехорошо, что у них так много денег.
– Неужели англичане чужим деньгам завидуют? – удивился Адам.
Патриция недоуменно посмотрела на него и объяснила:
– Нет, не в этом дело. Чему тут завидовать? Деньги солдат развращают.
Он не понял, к чему она клонит, но спорить не стал.
На кургане у Эйвонсфорда, в окружении старых тисов, Адам наконец решил поговорить с ней начистоту. «Прежде чем жениться, хорошо бы понять, что у нее на уме», – подумал он.
– Вот ты утверждаешь, что после войны все изменится… А что именно должно измениться?
– Тебе и вправду интересно? – спросила она, глядя на далекие холмы.
– Ага.
– Тогда слушай, – вздохнула она, сорвала длинную травинку и задумчиво обмотала ее вокруг пальца. – Мне никто не верит… ни подруги, ни знакомые в Солсбери. Все утверждают, что, как только война закончится, все пойдет своим чередом, жизнь вернется в привычную колею. А знаешь, что это такое?
– Как обычно, работа…
– Нет, не работа, а праздность. Прислуга. Дешевая рабочая сила. Эксплуатация бедняков – вот что такое привычная колея.
– По-твоему, это все изменится?
– Да. Война разрушила социальные границы, уничтожила сословные привилегии. Народом слишком долго помыкали, а с наступлением войны люди поняли, что перемены не только возможны, но и необходимы.
– Это хорошо или плохо?
– Хорошо лишь то, что классовое общество разрушится и на смену ему придет новое.
– Как в Америке, – улыбнулся Адам.
– Нет, спасибо, американский образ жизни не для нас.
– Почему?
– Он слишком… капиталистический. Вами движет алчность.
Адам вспомнил, как рассердилась Патриция при виде американского солдата на рынке.
– Погоди, значит, ты хочешь для народа свободы, но не богатства?
– Да, хоть это и глупо звучит, – расхохоталась она.
– Боже мой, да ты социалистка!
– Нет, что ты! – подумав, ответила Патриция. – Социализм – такой, как в России или в фашистской Германии… они ведь тоже себя социалистами объявили? Нет, их принципы не для меня. Но капитализм… – Она замялась, подыскивая слова. – Капитализм несправедлив. Вдобавок его принципы поощряют алчность.
– Значит, деньги – зло?
Она шутливо хлестнула его травинкой по руке:
– Не забывай, ты в кафедральном городе! Разумеется, деньги – зло.
– Зло не в деньгах, а в том, на что их употребляют.
Патриция упрямо помотала головой.
– Может быть, ваши лейбористы и разделяют твою точку зрения, – уверенно продолжил Адам. – А вот консерваторы, да и большинство жителей Сарума, так не считают. Они самые настоящие капиталисты.
– Вовсе нет! – пылко возразила Патриция. – Понимаешь, истинные консерваторы придерживаются феодальных, отсталых взглядов – перемен не желают, но о людях заботятся, опекают их, веря, что порочно соблазнять народ богатством.
– Ну да, сами-то они богаты, но знают, как с деньгами обращаться. Я правильно тебя понимаю?
– Да. Иными словами, многие полагают, что сам Господь разделил общество на классы.
– А социалисты – ваша Лейбористская партия – хотят, чтобы всем распоряжалось государство, однако не прилагают больших усилий для того, чтобы помочь беднякам разбогатеть. То есть они отберут деньги у богатых, а потом сгладят все различия в обществе, чтобы никто не преуспевал.
– Преуспевать можно по-разному, не обязательно состояние сколачивать.
– Да, конечно… – Внезапно Адама осенило. – Получается, что и ваши правые консерваторы, и левые лейбористы мыслят, в сущности, одинаково – исповедуют своего рода религиозный патернализм. А капиталисты, которые занимают промежуточное положение между этими крайностями, считаются главными злодеями.
– Хм, интересно. Об этом я как-то не задумывалась. По-моему, ты прав.
– Кстати, до этого разговора я об этом тоже не думал, – признался он и раздраженно добавил: – Если честно, я приехал в Англию не для того, чтобы воевать на стороне феодальной аристократии или социалистов. Великобритания – родина демократии и личных свобод…
– Верно. А еще – родина общего права. Между прочим, мы первыми рабство упразднили, – с улыбкой напомнила Патриция. – Однако нельзя ставить личность превыше всего остального. Это несправедливо.
– Вся наша жизнь несправедлива, миледи.
– Это скоро переменится.
– А не проще ли дать каждому возможность разжиться?
– Тот, кто разживается, обкрадывает других! – воскликнула она.
Для Адама Шокли была внове подобная точка зрения.
– Неужели? Ведь возможности для заработка безграничны.
– В Америке, может, и безграничны, а у нас за пару тысяч лет они поистощились.
– Да ты пессимистка! А побеждает жизнеутверждающий оптимизм.
Она недовольно поморщилась. Адам и не предполагал, что эти идеи внушают ей отвращение.
– Увы, жизнь не игра, – вздохнула Патриция. – Даже в Библии говорится, что удел человека – страдание.
– Ты и правда в это веришь?
– Да.
Разговор прервался.
Наконец, поразмыслив, Адам сказал:
– По-моему, все, о чем мы с тобой говорили, так или иначе связано с прошлым. Прошлое хотят либо сохранить, либо изменить.
– Верно. Понимаешь, мы унаследовали несправедливую систему эксплуатации. Ее-то и нужно изменить.
– Допустим, система изменилась. А что потом? Как ты представляешь себе будущее?
– Будущее? Наверное, мы избавимся от жестокости прошлого. Пенсии, бесплатное лечение и образование…
– Значит, в будущем установят социализм? Лейбористы придут к власти?
– Нет, это вовсе не обязательно. Просто нужны реформы…
– По-моему, будущее тебя совершенно не интересует.
Патриция задумалась.
– Может быть, ты и прав, – вздохнула она, помолчав. – В Саруме все дышит прошлым, о нем невозможно забыть.
«Пожалуй, в Америке ей не понравится», – с огорчением решил Адам.
Впрочем, размышлять о будущем не стоило, ведь они уговорились жить настоящим.
Бригадир Форест-Уилсон, сам того не подозревая, оказал Патриции Шокли услугу, за которую она всю жизнь была ему благодарна.
В конце мая он предложил отвезти в Солсбери заболевшего офицера верховного командования. Девушки-водители, служащие Женского вспомогательного корпуса, прекрасно понимали, что от них требуется конфиденциальность. Подготовка к высадке войск проходила в обстановке строжайшей секретности, однако пассажиры, вполне доверяя своим водителям, иногда обсуждали в салоне автомобиля подробности операции.
Вот и сейчас Форест-Уилсон с коллегой ехали в Одсток, уединенную деревушку близ меловой гряды к юго-западу от Солсбери, где располагались два военных госпиталя – английский и американский.
До Патриции долетали обрывки разговора.
– Если вашим ребятам удастся… – начал Форест-Уилсон. – Нам бы это очень помогло… район хорошо укреплен…
– Наших сил хватит, – уверенно ответил американец.
– …Слишком опасно. Стоит ли идти на такие жертвы?..
– Надо рискнуть. Послезавтра?
– Да. А кого вы пошлете?
– Эскадрилью из Ибсли или из Тракстона. Я подумаю.
Час спустя Патриция прижимала к уху телефонную трубку:
– Милый, ты можешь взять увольнительную? На день… то есть на ночь?
– Да, наверное.
– Тогда встретимся в Даунтоне, послезавтра. Получится?
– Я постараюсь.
– Как только узнаешь, дай мне знать.
– Хорошо. А в чем дело?
– У меня день рождения.
– Но ты же говорила, что день рождения у тебя в октябре…
– Нет, послезавтра, – ответила Патриция.
Адам перезвонил ей на следующий день:
– Мне увольнительную дали. А тебя саму-то отпустят?
– Да, – соврала Патриция.
– Понимаешь, у нас тут вылет интересный намечается, добровольцев набирают, так что…
– Я приеду, честное слово. К четырем часам.
– Ладно. Но если задержишься…
«Черт бы побрал этот вылет!» – раздраженно подумала Патриция.
– В общем, если к пяти не приедешь, я вернусь на базу.
– Приеду, обязательно приеду.
Патриция все рассчитала: в три часа – последняя поездка в Уилтон на служебной машине, а потом смена заканчивается. Сутки отдыха.
Рано утром она приехала в Уилтон на своем «моррисе». От Уилтона до Даунтона сорок минут езды, бензина хватит – Патриция купонов накопила. Все шло по плану.
Заседание командования в Ларкхилле затянулось. Патриция, приехав в Уилтон лишь в половине пятого, бросилась на Кингсбери-сквер, к своему «моррису». Двигатель завелся с трудом, и Патриция, обогнув город со сторо ны Харнгема, помчалась по дороге на юг, вдоль Эйвона – мимо Бритфорда, поместья лорда Раднора у древнего Кларендонского леса. На склоне холма двигатель «морриса» заглох.
Без четверти пять Патриция остановилась на обочине. Машина не заводилась. Без десяти пять. На дороге не было ни автомобилей, ни автобусов. Легкий ветерок лениво шевелил облетевшие вишневые лепестки в дорожной пыли. Стремительно бежали минуты.
Навстречу Патриции неторопливо двигалась машина. За рулем сидел Джон Мейсон.
Патриция бросилась ему навстречу:
– Отвези меня в Даунтон! Скорее!
– Я только что оттуда…
– Джон, прошу тебя!
– Что случилось? – угрюмо спросил он.
Патриция уселась в машину.
Он сжал руль и вздохнул:
– Не понимаю, к чему такая спешка…
– Долго объяснять… Прошу тебя, быстрее!
Мейсон недовольно развернул машину. Наверняка Патриция на свидание торопится! Он к ней в шоферы не нанимался…
В Даунтон они доехали за пять минут. Патриция чмокнула Джона в щеку и вбежала в гостиницу.
Всю жизнь она радовалась, что успела вовремя. Ночь прошла в пылких ласках, а под утро Патриция расплакалась.
Адам так и не узнал почему.
В ночь с пятого на шестое июня 1944 года жители Солсбери не спали. В небе над сонной долиной Эйвона и над дремлющим шпилем собора пролетали самолеты воздушно-десантных дивизий и грузовые планеры; от рева моторов дрожали стены домов.
Высадку десанта на побережье Нормандии сопровождал летный отряд с аэродрома в Ибсли.
Адама Шокли охватило странное возбуждение. Пролетая над тихой рекой, над древним городом и собором, он с улыбкой вспомнил недавний разговор с Патрицией. Борьба за справедливость… Англичане всегда стремятся всем угодить. Ничего, вот закончится война, он объяснит Патриции, что к чему.
Самолеты пролетели над безмятежной гаванью в Крайстчерче; под крылом блеснули темные воды Ла-Манша. «Даже те, кто живет прошлым, заслуживают мира», – подумал Адам, приближаясь к берегам Франции.
Рано утром Патриция Шокли подала машину к подъезду Уилтон-Хауса.
– В Булфорд! – приказал бригадир Форест-Уилсон.
Над головой все еще пролетали самолеты. Патрицию не оставляли тревожные мысли: как там Адам, где он – над Францией? Над проливом?
Она вела машину, дрожа от напряжения.
Из военного лагеря в Булфорде ей удалось дозвониться в Ибсли. Оказалось, что Адам вернулся, и они договорились встретиться через несколько дней. Не помня себя от счастья, она снова села за руль, отвозить бригадира в ставку командования.
Форест-Уилсон, сидя на заднем сиденье, задумчиво разглядывал золотые кудри Патриции. От его зорких глаз не ускользнуло ни ее волнение, ни игравшая на губах счастливая улыбка. «Ее любовник – американский летчик, уже вернулся на базу, – догадался он. – Что ж, их скоро отправят во Францию, и тогда…»
Любовные интрижки военного времени по сути своей мимолетны и быстротечны, ведь уверенности в завтрашнем дне не существует.
«Пожалуй, через месяц я приглашу ее на ужин, а там посмотрим…»
Он прекрасно умел подманивать рыбу.
Служебная машина мчалась по внезапно опустевшим холмам Солсберийской возвышенности.
Шпиль
10 апреля 1985 года
На соборном подворье собралась толпа горожан.
В Солсбери редко приезжали особы королевской крови; а этот визит станет самым важным в семисотлетней истории существования собора.
Леди Форест-Уилсон вышла на перрон, нервно одергивая элегантный жакет. «Может быть, не стоило надевать твидовый костюм? Не хочется выглядеть старомодной», – подумала она, вытащила пудреницу из сумочки и торопливо взглянула в зеркальце. Даже в старости она выглядела привлекательно: седина в волосах, тщательно уложенных парикмахером, подчеркивала благородные черты лица.
Подумать только, сорок лет прошло…
Дженнифер еще утром заметила, что мать волнуется, а вот зять, как обычно, ни на что не обратил внимания – Алана Портерса интересовали только цифры бухгалтерской отчетности.
– Не понимаю, зачем она за него замуж вышла, – недавно призналась леди Форест-Уилсон сэру Керси Годфри.
Разумеется, от него не укрылось ее волнение. Ах, милый Керси, он всегда все замечает! Впрочем, за завтраком он ничего не сказал, невозмутимо просмотрел утреннюю газету, а когда Дженнифер ушла, с улыбкой осведомился:
– Он женат?
На щеках леди Форест-Уилсон вспыхнул предательский румянец.
– Кто?
– Американец, который сегодня приезжает.
– В письме он упоминал жену…
– Превосходно! – ответил сэр Керси и вернулся к чтению газеты.
– Ну, знаешь ли…
– В чем дело?
– Да ну тебя!
Вот уже три недели сэр Керси Годфри гостил в эйвонсфордском поместье. Арчибальд Форест-Уилсон скончался десять лет назад. Теперь присутствие мужчины в доме, как ни странно, понравилось леди Форест-Уилсон, одиночество которой прежде скрашивали лишь редкие визиты дочери.
– Он твой любовник? – полюбопытствовала однажды Дженнифер.
– Не твое дело.
– Так все считают.
– Ну и пусть себе считают, мне все равно. В Эйвонсфорде обо всех сплетничают.
– Ты за него замуж собираешься?
– А ты против?
– Нет, что ты!
– Что ж, если он сделает мне предложение – а по-моему, к этому все и идет, – то я соглашусь. С условием, что мы будем проводить в Эйвонсфорде четыре месяца в году.
У сэра Керси Годфри, владельца обширных австралийских угодий, был роскошный особняк в Мельбурне, с великолепным собранием картин. Сэр Керси, потомок австралийских поселенцев в четвертом поколении, и сам был прекрасным бизнесменом и за свои труды получил титул рыцаря-командора ордена Британской империи. Леди Форест-Уилсон побывала у него в гостях, осмотрела скромную овцеводческую ферму, основанную сто лет назад, и объяснила дочери:
– Он, как и я, понимает, что такое любовь к родным краям.
Леди Форест-Уилсон происходила из старинного сарумского рода, много лет прожила с мужем в Эйвонсфорде и уезжать отсюда навсегда не собиралась. Сэр Керси Годфри недавно удалился от дел, так что его постоянного присутствия в Австралии не требовалось.
Леди Форест-Уилсон улыбнулась – мысли о Керси всегда ее успокаивали.
А вот американский гость…
У нее сжалось сердце.
Поезд остановился у перрона.
Загорелый синеглазый мужчина подошел к ней, пожал руку и сверкнул знакомой белозубой улыбкой:
– Я тебя сразу узнал. Познакомься, моя младшая дочь Мэгги.
Хорошенькая синеглазая блондинка лет восемнадцати поставила на перрон саквояж и крепко пожала Патриции руку.
– А почему именно сегодня надо было приезжать? – спросил Адам Шокли.
– Сегодня день особенный. Пойдемте, а то потом места для парковки не найдешь.
Машину удалось оставить на стоянке у моста на Крейн-стрит, на западном берегу реки, совсем рядом с соборным подворьем.
Леди Форест-Уилсон провела Адама и Мэгги по мосту, а оттуда – к Хай-стрит и только тогда сообразила, что от волнения забыла в машине сумочку. «Надо успокоиться и взять себя в руки, – подумала она. – Хотя бы ради Керси…»
Приезд Адама стал для нее полной неожиданностью. После войны они целый год переписывались, а потом она вышла замуж; письма сменились рождественскими поздравлениями. Адам возглавил крупную строительную компанию в Пенсильвании, женился, стал отцом пятерых детей. Младшей дочери Мэгги захотелось побывать в Англии.
– Я пятиборьем увлекаюсь, – сказала она Патриции.
– И братьев поколачивает, – с усмешкой добавил Адам. – Мэгги у нас спортсменка.
– Не только спортсменка, – возразила Мэгги.
Патриция одобрительно улыбнулась.
У самых ворот соборного подворья Мэгги неожиданно произнесла – так громко, что услышал полицейский, стоявший неподалеку:
– А у вас с папой был роман, да?
Патриция густо покраснела.
Адам расхохотался:
– Ох, извини, пожалуйста. Мэгги всегда говорит что в голову взбредет. Лучше объясни, зачем к вам принц Уэльский приехал и при чем тут собор.
– Видишь ли, если не провести срочную реставрацию собора, то шпиль обвалится.
За прошедшие столетия чилмаркский известняк искрошился и выветрился; особенно от ветров и дождей пострадали западный фасад собора и величественный шпиль, стенки которого в некоторых местах истончились до ширины ладони. Неужели теперь, спустя семь с половиной веков после постройки собора, опасения средневековых зодчих оправдаются и шпиль, обрушившись, разворотит башню и выломает стены?
– И все рассыплется как карточный домик? – ошеломленно спросила Мэгги.
– Да. Нужна срочная реставрация.
– А зачем принц приехал?
– Реставрация обойдется в шесть с половиной миллионов фунтов стерлингов, а ни у собора, ни у города таких денег нет. Все доходы настоятеля и каноников уходят на обслуживание собора. Принц Уэльский поможет нам начать кампанию по сбору средств.
– Да, сумма приличная, – задумчиво сказал Адам. – Но вы ее быстро соберете.
– Мы рассчитываем собрать миллион фунтов в Солсберийской епархии, а вот остальное… – вздохнула Патриция.
– Но это же исторический памятник!
– Да, а шесть миллионов фунтов стерлингов – огромные деньги.
Шокли снисходительно улыбнулся – для американских благотворительных организаций сумма была незначительной.
Мэгги опасливо поежилась:
– А в собор обязательно заходить?
– Не бойся, там вполне безопасно, – ответила Патриция и, не удержавшись, добавила: – В Англии строители свое дело знают.
У входа Адам шепнул дочери:
– Помнишь, я тебе рассказывал, тут как в музее…
Патриция недовольно поморщилась, услышав сомнительный комплимент. Впрочем, многие приезжие считали древний город и соборное подворье осколками давно прошедшей эпохи. И все же сравнение с музеем было несправедливо, однако Патриция не могла сообразить, почему именно.
Они заняли места в самой середине нефа. Патриция с улыбкой оглядела множество знакомых лиц и заметила чуть поодаль Осберта, сына покойного Джона Мейсона.
Осберт Мейсон, такой же грузный и большеголовый, как отец, рост унаследовал от матери. Через пять лет после окончания войны Джон Мейсон женился на крошечной библиотекарше из Лондона и мечтал, что его единственный сын станет адвокатом. Коротышка Осберт, к великому разочарованию отца, интереса к наукам не проявлял, с трудом окончил школу и подался в краснодеревщики, а к тридцати пяти годам стал владельцем небольшой мебельной фабрики в Эйвонсфорде. «Откуда у Мейсонов в роду такая склонность к ремеслам? – размышляла Патриция. – Джон никогда об этом не упоминал…»
Гости и телевизионные камеры, уставившись в ясное весеннее небо, следили за прибытием сине-красного вертолета. На торжественном богослужении принц Уэльский прочел поучение и объявил о начале кампании по сбору средств на реставрацию собора.
Обширная программа реставрационных работ предполагала, что внутри шпиля будет установлена восьмигранная распорка, которая примет на себя основной вес конструкции на время замены каменной кладки; после этого начнется восстановление западного фасада – опять же с использованием чилмаркского камня, как и семьсот пятьдесят лет назад.
Мастерские стекольщиков, паяльщиков, плотников и каменщиков расположились на том же месте, что и в Средние века; в сущности, мало изменился и характер работ, с той лишь разницей, что токарные станки, пилы и горны приводились в движение не вручную, а электроэнергией.
В соборе зазвучали торжественные аккорды органной музыки – орган, установленный здесь в 1877 году Генри Уиллисом, по праву считался одним из лучших в Англии.
«Что ж, если все это – музей, то я музейный экспонат, – подумала Патриция, глядя на загорелые лица ее спутников. – А вот с мужчинами мне повезло – все как на подбор красивые, представительные… Так что, пожалуй, в музей меня рановато отправлять…»
– Тут как-то светлее стало, – шепнул ей Адам.
Керси задумчиво посмотрел на него.
Патриция кивнула – в соборе и правда стало больше света.
За последние годы здесь многое изменилось. В отреставрированной библиотеке на полках, сделанных из древесины старых платанов, некогда украшавших соборное подворье, стояли бесценные средневековые фолианты. В самом соборе, украшенном сейчас морем живых цветов, частично восстановили средневековые росписи и фрески, многочисленные часовни пестрели молитвенными подушечками работы местных мастериц, которые также изготовили богато расшитые церковные одеяния, ризы и алтарные покровы.
Однако самым разительным изменением стало огромное, яркое мозаичное окно в восточной оконечности собора, установленное всего пять лет назад, – витраж «Узники совести» работы знаменитых французских мастеров Габриэля Луара и его сына Жакоба.
Внезапно Патриция поняла, в чем заключается ошибка Адама Шокли.
Солсбери не музей; и сонное соборное подворье, и шумный рынок, и дворец Уилтон-Хаус, и величественный средневековый собор – все они по-прежнему живут полной жизнью. Древние образы, цвета и формы неуловимо меняются, приспосабливаясь к современности, но не лишаются при этом своей глубинной сути, ухо дя корнями в глубь веков. Англия пережила две войны, но здесь, как и повсюду в Европе, культурное наследие возрождается.
Патриция удовлетворенно вздохнула.
После богослужения принца Уэльского пригласили на чаепитие в старый епископский дворец, где теперь находилась соборная школа, а Патриция повела гостей к машине.
Адам и Мэгги вечером возвращались в Лондон, но перед этим хотели посетить Стоунхендж.
Патриция взяла Керси под руку, улыбнулась и тихонько спросила:
– Ты с нами поедешь?
– Если не помешаю.
– Нисколько не помешаешь!
Они направились к автомобильной стоянке на противоположном берегу реки.
– До Стоунхенджа двадцать минут езды, – объяснила Патриция Адаму. – Мы с Керси вас отвезем.
Подойдя к машине, Патриция ошеломленно ахнула:
– Не может быть!
Сегодня Джону Уилсону исполнилось тринадцать лет. С самого утра ему везло, как никогда.
На соборном подворье он вместе со всеми наблюдал за прибытием принца Уэльского, а когда народ потянулся в собор, ушел гулять к реке. На автостоянке у моста не было ни души. В дальнем углу стоял вишневый «вольво». На переднем сиденье лежала дорогая дамская сумочка.
У стены высилась груда кирпичей.
Джон торопливо огляделся – ни прохожих, ни полицейских, все на соборном подворье, принца встречают. Самое время…
Одно из самых живописных мест в Саруме – островок под мостом у Крейн-стрит, в излучине реки Эйвон, которая огибает соборное подворье с запада. На восточном берегу сады особняков спускаются к самой воде, а луга на западном берегу простираются до самого Уилтона. В реке медленно колышутся длинные плети водорослей; в зарослях камыша гнездятся утки и лебеди. Сонная тишина, нарушаемая лишь плеском воды и шорохом листвы, вторит торжественному молчанию собора.
Сюда часто приходил Джон Уилсон.
Вот и сейчас он, прикарманив деньги, зашвырнул сумочку подальше в реку у северной оконечности соборного подворья.
Сто фунтов – богатый улов. По узкому лицу скользнула довольная улыбка.
Джон Уилсон ничего не знал ни о музеях, ни о соборе. До Олд-Сарума и взгорья ему вообще не было дела – там даже летом пусто, холодно и ветрено.
Однако если бы он хотя бы на миг задумался, то понял бы, что здесь, в месте слияния пяти рек, жизнь по-прежнему шла своим чередом.
Благодарности
В первую очередь хотелось бы выразить глубокую признательность ученым и исследователям, крупным специалистам в своих областях, за важные замечания, сделанные в ходе работы над романом, и за помощь в исправлении моих ошибок: Дж. Г. Бетти, доктору исторических наук (Бристольский университет); Десмонду Бонни (Королевский комитет исторических памятников Англии); Алисон Бортуик (Музейно-библиотечная служба графства Уилтшир, отдел археологии); Джону Чандлеру, доктору исторических наук (Музейно-библиотечная служба графства Уилтшир); Сюзанне Юард (хранилище рукописей и манускриптов Солсберийского собора); Дэвиду А. Хинтону (Саутгемптонский университет); Т. Б. Джеймсу, доктору исторических наук (Колледж Короля Альфреда, Винчестер); К. Г. Роджерсу (архив епархии при совете графства Уилтшир); Рою Спрингу (технический надзор строительных работ Солсберийского собора).
Я также благодарю всех, кто помог мне ценными советами, а именно: его преосвященство Джона Остина Бейкера, епископа Солсберийского, его высокопреподобие доктора Сидни Эванса, почетного настоятеля Солсберийского собора, Дэвида Элгара, С. А. Кросс, бывшую сотрудницу музея Уилтширского археологического и краеведческого общества, Элизабет Годфри, сэра Уэстроу Халса, баронета, Алисон Кэмп белл Дженсен, П. Г. Робинсона, доктора исторических наук (музей Уилтширского археологического и краеведческого общества), Питера Р. Сондерса (музей Солсбери и Южного Уилтшира), Г. С. Тейлор-Янга с супругой, Джейн Уолфорд.
Спасибо директору Музейно-библиотечной службы графства Уилтшир за любезное позволение в течение трех лет пользоваться библиотекой графства, а также всем сотрудникам Солсберийской библиотеки за их бесценную помощь и поддержку.
Я признателен Маргарет Хантер и всем сотрудницам машинописного бюро «Saxon Offi ce Services» в Шефтсбери за их прекрасную работу с рукописью.
Я также благодарен моему замечательному литературному агенту Джилл Коулридж из агентства «Anthony Sheil Associates», а также Рози Читэм, редактору издательства «Century Hutchinson», и Бетти Прешкер, редактору издательства «Crown Publishers», за их своевременную поддержку и помощь.
Спасибо моей верной жене Сузан, а также моей матери и досточтимой Диане Макгилл за бесконечное терпение, щедрость и гостеприимство.
Отдельной благодарности удостаивается Алисон Бортуик за прекрасные карты и рисунки.
Однако больше всего я признателен Джону Говарду Чандлеру, доктору исторических наук; его книга «Эндлес-стрит» пробудила во мне интерес к истории Солсбери, а сам доктор Чандлер в течение трех лет с неизменным терпением направлял меня к цели, и его советы чрезвычайно помогли мне при написании этого романа.
Примечания
1
Камулодун (лат. Camulodunum) – римское поселение на территории современного Кольчестера в графстве Эссекс. – Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Линдум (лат. Lindum) – римское поселение на территории современного города Линкольна в графстве Линкольншир, центр провинции Флавия.
(обратно)3
Глевум (лат. Glevum) – римское поселение на территории современного города Глостера в графстве Глостершир.
(обратно)4
Веруламий (лат. Verulamium) – римское поселение на территории современного города Сент-Олбанс на юге графства Гертфордшир.
(обратно)5
Каллева-Атребатум (лат. Calleva Atrebatum) – римское поселение на территории современного города Силчестер в графстве Гемпшир.
(обратно)6
Авторский анахронизм – слово «ford» не кельтского, а саксонского происхождения.
(обратно)7
Кориний (лат. Corinium) – римское поселение на территории современного города Сиренчестер в графстве Глостершир.
(обратно)8
Амвросий Медиоланский (ок. 340–397) – миланский епископ и проповедник, один из четырех великих Отцов Церкви. Аврелий Августин, блаженный епископ Гиппонский (354–430), также именуемый Блаженный Августин или святой Августин, учитель благодати, – христианский теолог, философ и проповедник, один из Отцов Церкви.
(обратно)9
Герман Автисидорский (ок. 380–448), также именуемый святой Гармон, святой Жермен д’Оксерруа или Герман Оксеррский, – епископ Автисидора (современный Оксерр), один из виднейших святых римской Галлии. Известен как чудотворец и борец с ересями. Луп Треказенский (ок. 383–455), также именуемый святой Луп Труаский, – епископ Треказена (современный Труа) Святой римской церкви.
(обратно)10
Евангелие от Иоанна, 21: 17.
(обратно)11
Исход, 20: 12.
(обратно)12
Августин Кентерберийский (первая треть VI в. – 604 г.) – бенедиктинский монах, основатель Церкви Англии, первый епископ Кентерберийский, вошедший в историю как «апостол англичан».
(обратно)13
Сотня – название административной единицы у англосаксов; включала в себя поселения на территории площадью около 100 гайд пахотных земель, управлялась судебной коллегией во главе с ривом – представителем короля, уполномоченным вершить суд и взимать пошлины в казну.
(обратно)14
Первый в Британии свод законов, составленный около 600 г., в правление кентского короля Этельберта (ок. 552–616).
(обратно)15
«Англосаксонские хроники» (перевод В. Эрлихмана).
(обратно)16
Бонифаций (672/673–754), также именуемый святым Вонифатием или Винфридом, – бенедиктинский монах и священник, обративший в христианство языческие германские племена на территории империи франков, первый епископ Майнца, известный как «апостол всех немцев».
(обратно)17
Загадка из «Эксетерской книги» (перевод В. Тихомирова).
(обратно)18
Здесь и далее цитаты из поэмы «Беовульф» в переводе В. Тихомирова.
(обратно)19
Боэций, Анций Манлий Торкват Северин (ок. 480–524) – римский государственный деятель, философ и христианский теолог; король Альфред Великий действительно перевел его сочинения с латыни на англосаксонский (древнеанглийский).
(обратно)20
Свод англосаксонских законов, составленный Ине, королем Уэссекса (ум. 728).
(обратно)21
Данегельд (др. – англ. danegeld) буквально «датские деньги» – дань, выплачиваемая викингам, совершавшим набеги на англосаксонские королевства; впоследствии название поземельного налога, взимаемого для уплаты дани.
(обратно)22
Леденхолл (англ. Leadenhall) – буквально: «свинцовая палата».
(обратно)23
Евангелие от Луки, 11: 11.
(обратно)24
«Хроника Вальтера из Хеминбурга» (перевод Д. Петрушевского).
(обратно)25
Уильям Уоллес (1270–1305) – шотландский рыцарь, народный герой, активный участник борьбы за независимость Шотландии. Роберт Брюс (ок. 1215–1295) – шотландский барон из рода Брюсов, один из основных претендентов на корону Шотландии в конце XIII в.
(обратно)26
Родовое название бациллы Yersenia дано по имени первооткрывателя бациллы, швейцарского бактериолога Александра Эмиля Жана Йерсена (1863–1943), видовое – от латинского слова «pest», вредитель.
(обратно)27
Здесь и далее отрывки из средневековой английской поэмы неизвестного автора «Повесть о сэре Орфео» приведены в переводе В. Тихомирова.
(обратно)28
Второзаконие, 28: 15–22.
(обратно)29
Левит, 11 (парафраз).
(обратно)30
Каруката – средневековая английская земельная мера, совпадающая с англосаксонской гайдой, площадь, равная примерно 120 акрам.
(обратно)31
Белая палата (англ. White Hall) дала имя королевскому дворцу, не сохранившемуся до наших дней, и улице, на которой он стоял. Впоследствии слово Уайтхолл стало нарицательным обозначением правительства Великобритании.
(обратно)32
Евангелие от Иоанна, 18: 11.
(обратно)33
Сэр Джон Фастольф (1380–1459) – английский дворянин, участник Столетней войны, доблестно сражался при Азенкуре и в битве при Пате, известный дипломат и состоятельный делец; считается прообразом Джона Фальстафа, комического персонажа ряда шекспировских пьес.
(обратно)34
Соответственно 21 мая, 29 августа и 24 июня.
(обратно)35
Бен. Мейсон лил меня (англ.).
(обратно)36
Форест (англ. forest) – лес, чаща.
(обратно)37
Во славу Божию. Бенедикт Мейсон и жена его Марджери (лат.).
(обратно)38
Евангелие от Иоанна, 8: 7.
(обратно)39
Эдмунд Кампион (1540–1581) – иезуитский священник и проповедник, казненный по обвинению в государственной измене и подрывной деятельности против королевы Елизаветы I; святой мученик Римской католической церкви.
(обратно)40
Фрэнсис Уолсингем (ок. 1532–1590) – английский государственный деятель и дипломат в правление Елизаветы I, член королевского Тайного совета.
(обратно)41
Несравненный дворец (англ. Nonsuch Palace) – дворец, построенный Генрихом VIII в 1538 г. в предместье Лондона, на границе с графством Суррей; разрушен в 1682 г.
(обратно)42
Джон Пим (1584–1643), Джон Гемпден (1594–1643) – английские политические деятели, критики политики Карла I и королевской власти, лидеры парламентской оппозиции, положившие начало английской буржуазной революции.
(обратно)43
Битва при Эджгилле – первое сражение гражданской войны, состоявшееся 23 октября 1642 г.
(обратно)44
Армия нового образца – название, данное войскам Оливера Кромвеля, преобразованным в ходе гражданской войны.
(обратно)45
Диггеры (англ. digger, буквально «копатель»), или истинные левеллеры – самоназвание участников движения сельской бедноты в годы английской буржуазной революции и гражданской войны; выражали протест против частной собственности, вскапывая общинные земли.
(обратно)46
Роберт Браун (1550–1633) – английский протестантский проповедник и теолог, один из основателей конгрегационализма; Георг (Джордж) Фокс (1624–1691) – английский ремесленник и проповедник, основатель Религиозного общества друзей (квакеров); Уильям Пенн (1644–1718) – квакерский проповед ник, близкий друг Георга Фокса, впоследствии – один из отцов-основателей США; в его честь назван штат Пенсильвания.
(обратно)47
Исход, 20: 16.
(обратно)48
Шекспир У. Макбет. Акт V, сц. 5 (перевод М. Лозинского).
(обратно)49
Камень, первоначально весом 400 каратов, был разбит на несколько камней поменьше, самый крупный из которых, весом 140 каратов, после огранки получивший название «Бриллиант Регента», хранится в Лувре.
(обратно)50
Авторский анахронизм – опасные противооспенные прививки (вариоляция) были известны с начала XVIII в. благодаря Мэри Уортли Монтегю, жене английского посланника в Турции; а Эдварду Энтони Дженнеру (1749–1823), создавшему первую безопасную вакцину к 1800 г., в 1752 г. было всего три года.
(обратно)51
Минденское сражение (битва при Миндене) – бой между британо-прусской и франко-саксонской армиями 1 августа 1759 г. в ходе Семилетней войны.
(обратно)52
Авторский анахронизм – приведенная цитата содержится в письме Джорджа Вашингтона к Генри Ли от 31 октября 1786 г.
(обратно)53
Битва при Рамильи – одно из сражений в ходе Войны за испанское наследство, состоялось 23 мая 1706 г., когда герцог Мальборо нанес сокрушительное поражение испанским войскам под командованием маршала Вильруа.
(обратно)54
Джон Пол Джонс (1747–1792) – шотландский моряк, капер, капитан флота США, впоследствии – контр-адмирал русского флота.
(обратно)55
Эдмунд Берк (1729–1797) – англо-ирландский парламентарий, политический деятель и публицист, родоначальник идеологии консерватизма.
(обратно)56
Пребенда – разновидность церковного бенефиция.
(обратно)57
Браунинг Э. Б. Сонеты с португальского. Сонет 43 (перевод М. Бородицкой).
(обратно)58
Вордсворт У. Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства (перевод Г. Кружкова).
(обратно)59
Эллис Белл – псевдоним Эмили Бронте (1818–1848), под которым было опубликовано первое издание романа.
(обратно)60
Парафраз Евангелия от Матфея, 5: 5.
(обратно)61
Барбара Таунсенд (1843–1939) – талантливая английская художница-самоучка, всю жизнь прожившая в Момпессон-Хаусе; ее акварели выставлялись в Королевской академии художеств.
(обратно)62
F. A. N. Y. (First Aid Nursing Yeomanry, англ.) – корпус медицинских сестер скорой помощи, примыкавший к Женскому вспомогательному территориальному корпусу.
(обратно)



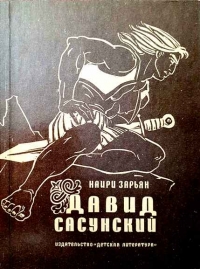
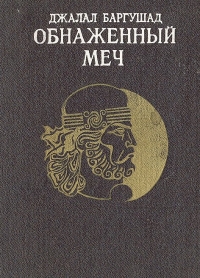
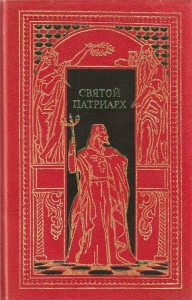
Комментарии к книге «Сарум. Роман об Англии», Эдвард Резерфорд
Всего 0 комментариев