Бринс Арнат Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад Мария Шенбрунн-Амор
© Мария Шенбрунн-Амор, 2016
Редактор ФиLиГрань
ISBN 978-5-4483-1251-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть I Рейнальд неистовый
…и вот, конь бледный, и на нем всадник
которому имя «смерть»; и ад следовал за ним.
Откровение Иоанна БогословаЛетом 1149 года от воплощения Господня погиб лучший рыцарь Латинского Востока, и судьба христианской Сирии, а с ней и всего франкского Леванта, рухнула на плечи раздавленной горем Констанции.1
Бой при Инабе населил небеса мучениками, а сирийскую равнину – трупами, и обезглавленное, тронутое тлением тело князя Антиохийского опознали меж остальными павшими лишь по старым ранам – бугристому шраму на руке от схватки с медведем, плечевой вмятине от сарацинской стрелы и длинному красному рубцу на бедре от падения с лошади. С места битвы героя несли на плечах босые монахи монастыря святого Симеона. Впереди брел сокрушенный патриарх Антиохии, за ним с рыданиями и песнопениями следовал клир собора Святого Петра, траурный кортеж сопровождали все нищие города с горящими свечами в руках.
В кафедральном соборе пришлось выставить оконные рамы, не то задохнулись бы паства и пятьдесят служащих тризну священников. На похороны ушел годовой доход княжества, на годы вперед за упокой души раба Божьего Раймонда де Пуатье были заказаны ежедневные мессы, и все подданные княжества молились о душе погибшего и о ниспослании посильного утешения его юной вдове так усердно и долго, что в домах их стыл ужин.
Но все это было бессильно вернуть Раймонда, а значит, и спасти и Констанцию. Боль огнем подступала к горлу, убивала, душила, утягивала на дно, где ни света, ни воздуха, ни надежды.
– Мамушка, нет его, нет, ушел, не помирившись, не бросив на прощанье ни единого ласкового слова, и этого уже ничем не поправишь! Погибаю я без него, погибаю, татик-джан.
Обрубленная шея в запекшейся крови маячила перед глазами, трупный смрад застрял в ноздрях, а она все ждала, что Пуатье вот-вот войдет – живой, ростом под притолоку, сильный, прежний! Со двора явственно слышались раскаты знакомого уверенного голоса, в похоронной процессии то и дело мелькали родные выцветшие пряди. И тут же накатывало ледяным, отрезвляющим ужасом – как же войдет, если его голова теперь услаждает взор багдадского халифа?!
Мамушка Грануш не выходила из опочивальни своей лапушки, целовала руки, гладила пряди цвета потускневшей позолоты, вдовье ложе сплошь увесила ладанками и обращениями к святым угодникам. Кроткая и бестолковая дама Изабель де Бретолио тоже безотрывно сидела у изголовья, рыдала взахлеб, шептала напрасные утешения. Приводили потрясенного, перепуганного пятилетнего Бо и капризничающую, ничего не понимающую Марию, приносили крохотную Филиппу, пахнущую сладким молоком и детской отрыжкой. При виде осиротевших чад Констанция начинала задыхаться:
– Детям-то это за что? Они-то чем виноваты? Как дальше жить? Ради них надо, а как?
На пятые сутки Грануш сдалась, призвала Ибрагима ибн Хафеза, и теперь оба наперегонки, ревниво перепроверяя друг друга, суетились над Констанцией:
– Что там? Что ты даешь моей голубке? – шипела мамушка, бдительно принюхиваясь к египетскому зелью, крестя его и для надежности заговаривая армянским наговором, предназначенным перебить любую басурманскую напасть.
– Глупая, невежественная женщина, что толку тебе объяснять! – пыхтел александрийский медик, возмущенно взметая бороду и отпихивая суеверную няньку от бокала с вонючей целебной настойкой, изготовленной из болиголова, опиума и смятых копытами единорога трав, собранных в святую ночь Ид аль-Адха. – Меланхолию способно излечить лишь избавление от холодной и сухой стихии!
Изабо отводила нахальные сливовые глаза, вздыхала пышной грудью:
– Меланхолию юных вдов лучше всего новые женихи лечат. Ничего, ее светлость упорней свежей ветви, скоро вновь зацветет.
Грануш, постаревшая за последние дни на годы, всплескивала руками:
– Что ты несешь? Какие еще новые женихи, бесстыжая?! По себе, вертихвостка, судишь! Слава Богу, всё, замужем побывала, отмучилась моя птичка. Сын имеется, дальше можно жить спокойно. А ты Псалтырь бы почитала, за чистой водой и свежими полотенцами сходила бы. Слезы лить-то все рады, а порадеть о бедной деточке некому, кроме немощной няньки! – Немощная нянька выпихнула Изабо из опочивальни.: – Иди, иди, стрекоза безмозглая. Да заодно свечей захвати, две дюжины. И свежие цветы непременно, только чтоб без запаха. И вина уж не забудь, полдня допроситься не могу.
Если всего оказывалось в избытке, посылала безотказную Изабо за служанками или детьми.
Отец Мартин тоже не сдавался: как мог, боролся с нечестивыми заботами армянки и басурманского колдуна непрестанно и громозвучно возносимыми Pater Noster и Anima Christi. От эликсиров Ибрагима бурное отчаяние Констанции выдыхалось в мрачную тоску:
– Мамушка, все моя вина. Из-за Алиенор проклятой я послала его на погибель, хотя весь Утремер не стоил капли его крови!
Потребовала власяницу. Изабо всплеснула руками, разревелась от сочувствия:
– Ваша светлость, да вы-то чем виноваты?! Да если бы наши пожелания имели хоть каплю силы, разве мой постылый Эвро вернулся бы живым и невредимым? – Всхлипывала, и украдкой косилась на забитый княжескими нарядами сундук:. – Ваша светлость, а с прежними-то вашими убранствами что будем делать?
До расшитых ли блио и бархатных сюрко в преддверии геенны огненной?
– Нищим всё, – простонала Констанция после крохотного колебания.
– Еще чего, нищим! Им-то к чему муслин и парча? – вскидывалась, вскипала молоком на огне рачительная Грануш. – Господи, пташечка моя, ну куда тебе власяницу? Посмотри, и так кожа да кости остались, дай старой татик унести твою боль, листочек мой с ветки оторванный, ягненок мой от отары отбившийся…
Но княгиня упрямо натянула на голую кожу мерзкую, воняющую козлиной шерстью дерюгу. Сочувственно ахая и вздыхая, Изабо переместилась поближе к заветному сундуку. Констанция отвернулась, чтобы не видеть алчных рук подруги, ковыряющихся в груде драгоценных тканей и выуживающих из сердцевины хранилища белопенные одеяния. Пусть, неважно! Только бы телесные муки заглушили невыносимую боль в душе, а пошить новые наряды всегда успеется.
Власяницу все же пришлось снять. Не потому, конечно, что Грануш пришла в ужас от ссадин и расчесов на нежной шее своей лапушки, а потому что грубая мешковина от сердечной боли не спасала. Констанция малодушно покорилась, позволила переодеть себя в шелк и больше не перечила мамушке, огнедышащим драконом усевшейся на крышку окованного сундука.
Вретище не избавило от душевной пытки, а сворачивающее в ком муки горе не оберегло от новых земных бед: жарким июльским утром под оставшимися без защитников стенами Антиохии появилась сельджукская армия. Виновник гибели князя, атабек Алеппо Нуреддин Занги потребовал сдачи города.
В сей крайности патриарх Антиохии Эмери Лиможский, взваливший на себя тяготы правления, решился нарушить траурное затворничество вдовы. Первым путь его высокопреосвященства к тронной зале преградил отец Мартин. Бросился под ноги, разметал рукава сутаны, принялся заклинать иерарха отогнать от страждущей рабы Божией Констанции вредоносную камарилью еретичек, безмозглых придворных куриц и нечестивых басурман. За спиной капеллана немедленно замаячил египетский знахарь Ибрагим ибн Хафез и столь же настойчиво воззвал к мудрости и учености латинского имама, умоляя запретить невежественным в медицине христианскому мулле и няньке вмешиваться в исцеление пациентки, совершаемое им в точном соответствии с рекомендациями Гиппократа. Следом подоспела Грануш, сердитая, как защищающая гнездо белка, и решительно заявила, что у самих небес нет власти отстранить ее от несчастной детки в такой час. Последней на пути прелата возникла зареванная Изабо.
– Мадам де Бретолио, можно подумать, это вы овдовели, – попенял плакальщице растерявшийся патриарх.
– О ваше высокопреосвященство, разве горевала бы я так из-за своего никчемного Эвро? Это горе моей госпожи разрывает мне сердце!
Прижала руки к груди, словно пытаясь удержать это чувствительное и непокорное сердце в вырезе тесного одеяния, позаимствованного в сундуке ее светлости. Патриарх лишь замахал руками, отгоняя неумеренных доброхотов. Благословил поникшую перед ним безжизненную княгиню, рухнул в приготовленное кресло:
– Ваша светлость, мне горько огорчать вас новой страшной вестью, но положение Антиохии безнадежно. Однако нечестивый язычник поклялся пощадить наши жизни и обеспечить всем латинянам свободный проход в Иерусалимское королевство со всем имуществом, если мы добровольно сдадим город. В Иерусалиме вы обретете необходимый вам покой.
У Констанции затряслись губы, руки слепо зашарили по коленям:
– Нуреддин убил моего супруга и теперь ожидает, чтобы я отдала ему свое княжество, свой дом? Да я лучше сама выйду на бастионы!
Грануш не выдержала, забубнила:
– Вот нет у некоторых сердца, не видят, что несчастная голубка и так от горя из ума выжила! Любимую миндальную пахлаву в меду и то есть отказывается! А они уже тут как тут со своим Нуреддином поганым, город ему сдай… Сами теперь все решайте…
Захлопотала вокруг пупуш, с укором поглядывая на патриарха, доведшего бедняжку до потери последнего рассудка. Эмери посохом стукнул, глазами строго поморгал, продолжил назидательно, словно скорбному разумом пояснял, что мир в шесть дней создан:
– Дочь моя, кроме вас больше и некому. Защитников не осталось даже вражьи лестницы с куртин спихнуть, а жители пали духом.
Констанция сжала виски. Представила себя бредущей по бесконечной пыльной дороге с вопящей Филиппой на руках, а Бо и Мария с жалобами тянутся следом, хватаясь за материнский подол. Нет, конечно, нашлись бы для них и лошади, и паланкины, но горечь и позор изгнания будут жечь ничуть не меньше. Но что же делать? Мысли метались вспуганными воробьями, впервые она не ковыряла душу ржавым гвоздем воспоминаний о Пуатье:
– Ваше высокопреосвященство, Иерусалим знает о гибели нашей армии, наверняка король уже спешит нам на помощь.
Патриарх покачал головой:
– Увы, у нас об этом нет никаких известий, ни сигналов с соседних крепостей, ни гонцов. Вспомните, дочь моя, Иерусалим Эдессе ничем не помог. Если мы сейчас отвергнем милостивые условия тюрка, а помощь так и не явится, нас ждет судьба тамошних мучеников.
Антиохия была зеницей ока всего христианского мира и единственным достоянием Констанции. Без княжества ее с детьми ожидало жалкое прозябание. Вспомнилось семейство Куртене, потерявшее графство Эдесское.
– Святой отец, надо напомнить проклятой собаке, что ромейский император – наш сюзерен. Он не простит нападения на Антиохию.
Последние победы Мануила заставили даже неверных с ним считаться. Патриарх кисло сморщился при упоминании греческого схизматика:
– Василевс занят собственными войнами, нам ничем не поможет.
Наконец-то Констанция догадалась плотно прижать руки к коленям, чтобы скрыть их предательское дрожание:
– Антиохия неприступна, и если Нуреддин не хочет сидеть под нашими стенами месяцами, ему придется дать нам отсрочку. Это наша единственная надежда.
А вдруг подмога так и не придет? Неужто Констанция превратится в неимущую приживалку? И Алиенор Аквитанская будет торжествовать? Кровь хлынула в глаза, в ушах застучало, такая ярость накатила, что даже неподъемный груз горя исчез. Да она скорее будет подошвы сандалий есть, собственными руками на врагов деготь лить, под сельджукской саблей охотней погибнет, чем уступит ненавистному Зангиду свои владения. Нет. Хватит того, что Алиенор и проклятый тюрок лишили ее супруга. Пока Констанция жива, никто больше не отберет у нее ничего: ни Антиохии, ни власти, ни тех, кого она любит! Овладела собой, выпрямилась, решительно заявила:
– Ваше высокопреосвященство, это мой город, я тут суверенная княгиня, мне решать, и я не распахну ворота Антиохии перед убийцей князя. Мы с сыном не покинем города. Выпросите хотя бы десять дней. Сулите, что хотите. И будь что будет. Исполним долг наш – постоим за колыбель христианства.
Пастырь пожевал губами, недовольно вздохнул, но возражать не решился. Протянул княгине руку для целования, сверкнули алмазы его перстней. Дама Филомена, до сих пор недвижно сидевшая у окна, цаплей вскинула остроносую голову на тонкой шее:
– Эдесса еще и потому погибла, что патриарх Хьюго отказался уплатить солдатам из епископальной сокровищницы. За отсрочку Нуреддину заплатить придется.
Ее Рено, сеньор Маргата, погиб под Инабом вместе с Раймондом, но глаза старой дамы оставались сухими. Для нее неверный умер в тот день, когда завел полюбовницу. Особой причины убиваться о нем именно сейчас, когда изменщик наконец-то получает на том свете по заслугам, дама Филомена не находила. Только руки ее с тех пор оставались праздными, впервые не занятые вечным рукоделием, словно эта Пенелопа потеряла надежду на возвращение своего непутевого Одиссея.
Эмери Лиможский растерялся, выудил из складок облачения муслиновый плат, промокнул вспотевшее чело, зычно высморкался, но Констанция уставилась на прелата так, словно он ей в последнем причастии отказывал. Скуповатый патриарх не выдержал, простонал:
– Не дай мне Бог оказаться виновным в потере города, где проповедовали апостолы, из которого воссиял свет истины мучеников и святых! Дочь моя, ничего не пожалею, дабы убедить Нуреддина. – Оглядел с тоской капли рубинов, твердь сапфировых граней на костлявых пальцах, присовокупил сокрушенно: – Правильно заметил Квинтилиан: деньги, проклятые деньги – причина всех войн!
Его высокопреосвященству удалось убедить алчного сельджука, но цена отсрочки оказалась выше горы Сильпиус: в обмен на дарованные тюрком десять дней с патриаршей казны сбили гигантские ржавые замки и всю ночь из соборных подвалов вытаскивали и тачками свозили к городской стене мешки, туго набитые золотыми светильниками, окладами, драгоценными каменьями, хрустальными кубками, потирами, крестами, кадилами, парчовыми, расшитыми жемчугом облачениями, драхмами, динарами и иерусалимскими серебряными денье с выбитыми на них башнями Давида. Церковная десятина земледельцев и горожан, дары благочестивых людей Всевышнему, подношения исцеленных, – все годами хранившиеся в сундуках патриархата сокровища были спущены на крепких веревках с бастионов прямо в нетерпеливые лапы прислужников алчного сельджука.
Выжидая оговоренный срок, атабек разграбил земли монастыря святого Симеона и орлом на куропатку напал на Апамею. А дорога из Иерусалима продолжала оставаться безлюдной, и Констанция сходила с ума от страха и надежды. Грануш ворчала, что княгиня бродит по замку бездомной собакой. Того и гляди, она и впрямь окажется бездомной. Оказывается, даже если теряешь самое дорогое, страшно и больно потерять остальное. В последний десятый день сигнальный огонь с донжона соседней крепости подал, наконец-то, долгожданный знак, что армия Бодуэна III в пути. Нуреддин отвел войска.
В очередной раз Господь доказал, что может с такой же легкостью освободить своих сынов от врагов, с какой останавливает солнце или насылает бурю. А Констанция вновь могла предаваться горю без помех.
Там, где было горе, там непременно появлялась Доротея де Камбер. Эта женщина была рождена для монашества и непременно достигла бы святости, если бы ее не выдали замуж еще до того, как она успела превратиться в сущую колючку из господнего тернового венца. Благочестивая дама прошмыгнула в опочивальню княгини с сообщением, что его величество Бодуэн III завтра с утра отстоит поминальную мессу и помолится на гробнице князя.
Констанция отвернулась к стене. Но дама Доротея не собиралась покинуть несчастную без надлежащего утешения: с удовольствием завела душеспасительную беседу о неизбежности скорой кончины, Страшном суде и адских муках, не жалея ради страдалицы-вдовы ни красок, ни подробностей. Только возвращение мамушки заставило утешительницу прервать сладостное повествование о бренности всего сущего и пользительности страданий. Грануш брезгливо посмотрела вслед святоше:
– Не женщина, а Псалтырь ходячий! Да лежи спокойно, пупуш мой бедненький, старая татик унесет твою боль! Достаточно моя деточка намучалась. Никому не позволю тебя тревожить. – Плотно прикрыла дубовые ставни, окропила комнату навевающим дрему раствором лаванды и бергамота. – Моя крошка больше никому ничего не обязана. Пусть сами во всем разбираются, пусть кого угодно назначают регентом, а нам и в Латакии будет хорошо. – Добавила мечтательно: – Будем девочек наших потихоньку растить, грехи отмаливать. И Изабо, хоть и дурная коза, а свою госпожу не покинет… а там вырастет наш Бо, займет свой престол. – В голосе мамушки крепла радость.
При упоминании Латакии Констанция отбросила одеяло. О чем это старая татик? Неужто после всех усилий и жертв княгиня останется заживо погребенной в каком-нибудь воняющем бергамотом склепе с няньками и приживалками, а король отдаст ее Антиохию регенту?! С содроганием вспомнила судьбу матери, скончавшейся в латакийском изгнании.
– Не мы первые, не мы последние, – ликовала мамушка, задувая лишние свечи.
– Нет уж, – ожившая Констанция вскочила, птицей заметалась по опочивальне. – Я не Алиса. Меня никто в Латакии не схоронит!
Латинский Восток полон несчастных вдов – постаревших, убогих, жалких, никому больше не надобных, неизбывных и тревожащих, как нечистая совесть. Их скорбные фигуры в заношенных отрепьях затеняют церковные приделы, бедняжки побираются на папертях, торгуют в базарных рядах, вымаливают у сеньоров крошечный надел земли или ничтожный пенсион, за любую работу берутся, на поля наряду с феллахами выходят, идут под венец с многодетными, больными и старыми вдовцами, а если найдется монастырь, готовый принять монахиню без вклада, – с радостью принимают постриг. Но Констанцию – наследницу благородного Тарентского рода, внучку, дочь и вдову героев! – такая судьба не постигнет. Она дикой кошкой будет защищать свое достояние. Законная княгиня Антиохии не намеревается растолстеть, поседеть, отрастить бородавки и вонять камфарой. То единственное, что у нее осталось, – княжество, она не уступит ни Нуреддину, ни Бодуэну III.
Изабо тоже всполошилась:
– Ваша светлость, зачем нам в Латакию?! Да через год вы сможете выбирать себе супруга среди всех баронов королевства!
Завистливо, но осторожно вздохнула, потому что позаимствованное из заветного сундука платье – муаровое, расшитое бледно-желтыми розами – трещало по швам на ее груди, столь щедро благословенной святой Агатой, что лиф уже два раза пришлось штопать под мышками.
У дамы Филомены, как всегда, горькие предупреждения имелись в избытке:
– Это в Антиохии княгине от женихов отбоя не будет. А в Латакию до изгнанницы не всякий доедет.
Мадам Мазуар легко рассуждать, ее душа окоченела еще годы назад, с гибелью сыновей. К тому же самой старухе новый брак не грозит. Княжеству и в самом деле потребен защитник, а королю – дееспособный вассал, и новый супруг защитил бы права Констанции, но от мысли о другом мужчине ее тошнило. По обычаю ей полагался год траура, и пока он не истечет, никто не мог заставить ее идти под венец, но если король и бароны заподозрят, что княгиня Антиохии не в состоянии защищать княжество, они не то что год, они и неделю не станут выжидать. Если Констанция, как полагается, продолжит оплакивать кончину супруга шесть недель в траурном затворничестве, ей грозит до конца дней оплакивать собственную планиду.
– Грануш, воду для умывания, парадное траурное одеяние и княжескую корону!
Никогда больше Констанция не будет заливаться жалкими, беспомощными слезами в сырой от горя постели, позволяя другим решать собственную судьбу.
Со времен их давней встречи в Акре Бодуэн III из пухлого отрока превратился в высокого, плотного мужа. Кучерявая каштановая бородка оторачивала широкое лицо, а орлиный нос и светлые, чуть навыкате глаза придавали королю сходство с филином. Однако влюбчивую Изабо де Бретолио молодой венценосец пленил еще до того, как выговорили его титул.
Король пожелал взглянуть на фортификации Антиохии. Дородный Бодуэн легко поднимался на смотровые площадки, опережая тучного коннетабля княжества Готье Аршамбо, следом карабкалась свита, за знатными баронами взлетали на верхотуру и с полдюжины простых шевалье, среди которых Констанция узнала Рейнальда Шатильонского. Значит, красивый крестоносец выжил под Дамаском и во Францию не вернулся, остался служить в Иерусалиме.
Рыцари с мальчишеским любопытством заглядывали в каждую бойницу, наперебой обсуждали эффективность защиты укреплений с различных позиций.
– Мы используем жгут из конского волоса, – хвастался антиохийский коннетабль новой метательной машиной. – Сарацинская придумка, а теперь против них же и направлена. Ни в одной крепости таких нет!
– В Иерусалиме мы такую барабаллисту с противовесом построили, из нее в гвоздь попасть можно!
Бодуэн с азартом чертил на сухой земле строение необыкновенной метательной машины, пробовал на прочность лестницы, исследовал конструкцию системы блоков, созданную по описаниям древнеримского инженера Витрувия, промерял глубину рвов, вертел лебедки, шкивы и подъемные колеса, увлеченно обсуждал со строителями тонкости подрывов фортификаций.
Констанция в черном вдовьем одеянии молча тащилась вслед за баронами по раскаленным нещадным июльским солнцем куртинам, с терпением великомученицы наблюдала, как рычаг толленона возносил воинов в огромной корзине на вершину стены, с кротостью святой выслушивала нескончаемые диспуты мужчин о способах засыпки рвов и ударной силе камнеметов. Ее поддерживал только каркас долга и гордости, крепкий, как доспех на немощном старике, как пыточная клетка на сломленном узнике, как лиф на щуплой даме Филомене.
Посреди крутой, узкой лестницы Изабо оказалась перед королем и изящно оступилась. Но не успел галантный Бодуэн подхватить слабую прелестницу, как она очутилась в объятиях какого-то седоусого, бритого налысо рыцаря, обрадованно загудевшего:
– Мадам, осторожнее, обопритесь на мою руку! Никогда Бартоломео не допустит, чтобы хорошенькая женщина упала в его присутствии! Разве что она ожидает, чтобы Бартоломео сверху упал! – рыцарь треснул себя по ляжке и закатился оглушительным хохотом.
Изабо с досадой обошла незваного спасителя:
– Благодарю вас, мессир, позвольте мне пройти!
Прельстительницу совершенно не интересовал неведомый солдафон. С упорством гончей, идущей по свежему следу, мадам де Бретолио охотилась за королем, и благодаря восторгам и улыбкам зазывающей, как пуховая перина, красавицы знатный гость пребывал в отменном расположении духа. Недаром злые языки утверждали, что молодой монарх любит женщин куда больше, нежели чтит их супружеские обеты. Впрочем, пока существовали блудницы, подобные Алиенор Аквитанской, было бы несправедливо возлагать всю вину за прелюбодейство на одних мужчин.
Однако этот неведомо откуда взявшийся Бартоломео не собирался уступать мадам де Бретолио даже самодержцу. Блестящий медный котел головы и мощный складчатый затылок нового ухажера упорно маячили между Изабо и Бодуэном, и грубиян не переставал оглушительно хохотать над собственными шутками:
– Мне нравятся женщины, которым случается, ха-ха, так сказать, оступиться! Ха-ха-ха!
– Ваша милость, вы загораживаете мне дорогу,. – Изабо, дрожа от ярости, миновала нахала, подлетела к Аршамбо и прошипела: – Что это за болван, коннетабль?
– Бартоломео д’Огиль? Надо признать, мадам, он действительно слегка шероховат в обращении с прекрасным полом, но, помимо этого, один из лучших моих людей! – добродушно ответил Готье.
– Слегка шероховат?! – взвилась Изабо. – Самый самовлюбленный, неотесанный и напыщенный дурень из всех, когда-либо пытавшихся покорить женщин своими глупыми, плоскими остротами! А я, коннетабль, перевидала их поболее, чем вы – сельджуков, уж поверьте мне!
Аршамбо, как, впрочем, и весь остальной гарнизон, не сомневался в обширном опыте мадам де Бретолио в любовных схватках. Однако простак д’Огиль то ли не замечал раздражения нимфы, то ли не обращал внимания на подобные мелочи и продолжал упорно топтаться подле обольстительницы:
– Бартоломео всегда готов оказаться рядом с нестойкой красавицей! Ха-ха-ха!
Бодуэн пожал плечами и прошел мимо. Изабо отпихнула настырного кавалера, подобрала юбки и, перепрыгивая через две ступеньки, припустилась за удаляющимся монархом, восторженно выкрикивая вдогонку:
– Ах, ваше величество, вы новый Александр Магнус!
Солнце палило, хотелось пить, вернуться в опочивальню, никого не видеть и не слышать, но Констанция безропотно брела за воинами, кивала с понимающим видом, а для пущей убедительности уверенным жестом еще и подергала какой-то канат. Внезапно вся конструкция накренилась, и огромное бревно, плохо закрепленное наверху сооружения, неотвратимо поползло вниз. Княгиня ахнула, отпрыгнула, а тяжелый столб непременно убил бы оказавшегося под ним короля, если бы шевалье де Шатильон не успел оттолкнуть Бодуэна. Бревно гулко шлепнулось прямо на то место, где еще миг назад стоял оплот Заморья. Констанция покрылась испариной. Следовало отдать должное венценосцу, он не потерял присутствия духа, даже неизменной своей вежливости не утратил:
– Мессир де Шатильон, вы, поистине, спаситель Иерусалимского королевства. – Галантно утешил неуклюжую кузину: – Мадам, это мне справедливое возмездие за то, что я таскаю вас по фортификациям и утомляю скучными для дамы обсуждениями.
Пунцовая как вареный рак Констанция лепетала какие-то оправдания, мечтая от стыда провалиться сквозь землю. Спасая госпожу, мадам де Бретолио послала королю самую разящую улыбку из своего арсенала, Бодуэн встрепенулся, словно гончая при звуке рожка, и попытался лихо перемахнуть через каменную кладку, но не рассчитал прыжка и едва не рухнул с узкого парапета в бездну. Изабо взвизгнула, обрадованно заахала и так разволновалась, что сама уже боялась и шаг ступить. Королю пришлось предложить руку очаровательной, но робкой даме.
– Вы так весь Утремер обезглавите, – ухмыльнулся Рейнальд Шатильонский, проходя мимо Констанции.
У наглеца уже при первой их встрече, у ложа умирающего трувера два года назад, оказался беспощадный язык, а теперь, возгордившись, что спас сюзерена, он полностью забылся! Невыносимая тяжесть навалилась на Констанцию, иссякли силы ползать на палящем солнце по куртинам, спускаться в вяжущем, как тесто, влажном от пота платье по узким, крутым ступеням, а главное – внимать соображениям доблестных рыцарей касательно траектории, формы и веса камней, запущенных различными требюше. Княгиня незаметно отстала, спустилась к подножью стены, села в сырой тени на прохладный валун.
К горизонту уходил бескрайний караван верблюжьих горбов Ливанских и Антиливанских хребтов, внизу под стенами раскинулась плодородная долина, серебрились расплавленным металлом струи Оронтеса, к переправе вела дорога, наверное, еще хранившая следы копыт Вельянтифа. Констанция по ней на коленях проползла бы, если бы это могло вернуть Пуатье. В оливковой роще на дальнем берегу сирийские крестьянки в белых платках трясли деревья и собирали маслины в расстеленные на земле полотнища. Коварный и многоопасный Нуреддин намеренно не сжег посевы местных феллахов, не вырубил плодовые сады и даже деревни их не разграбил, лишь бы расположить к себе местное население. У далекой надвратной башни часовые чистили песком кольчуги, варили в котлах похлебку, звякал цепью караульный пес. Мир без Пуатье продолжал быть точно таким же, как две недели назад.
Теплый, благоуханный ветер нес горьковатый аромат полыни, сырую прель замшелых камней, сухость пыли, пересыпал серебро тополиной листвы, колыхал верхушки кипарисов, шелестел высокой травой. Под обрывом отчаянно щебетали и мельтешили стрижи, трещали в бурьяне сверчки, над цветущей акацией надоедливо витал шмель – грузный, гулкий и неотвязный, как Бартоломео. Время от времени с шорохом и стуканьем скатывался в пропасть камешек, мерно ухала горлица, свистел суслик. Высоко над долиной парил орел. На всем лежала блаженная истома и покой.
Внезапно ящерка метнулась в расселину, позади раздался неспешный хруст шагов, послышался ленивый, снисходительно-шутливый голос:
– Ваша светлость, его величество поручил мне позаботиться о вашей безопасности.
Констанция даже головы не повернула, только постаралась незаметно смахнуть слезы. Этот Шатильон – наглый, как тать ночной. Выскочка он, ничего более.
– Мадам, – повторил Рено, не дождавшись ответа, – простите мне глупую шутку. Я иногда бываю недостаточно… почтительным.
Иногда?! Констанция не выдержала:
– Мессир, все это сущие пустяки. Мне не до этого.
Не выказывая особого раскаяния, шевалье раскачивался на длинных расставленных ногах, крепкими белыми зубами покусывал стебелек травинки:
– Хм… Я понимаю, ваша светлость. Мы скоро перестанем досаждать вам. Его величество через пару дней покинет Антиохию, и вряд ли еще когда нам приведется столкнуться.
Сердце сжалось от внезапного, пронзительного, почти человеческого вопля пойманного хищником кролика.
Тени покрыли проемы меж стенами, и повеял спасительный предвечерний бриз, когда наконец закончилась проверка оружейных арсеналов, запасов сухарей, фасоли, солонины, бочек с вином и горючими смесями. Круглое лицо короля светилось удовольствием от беседы о блоках, костылях и противовесах различных камнеметов. Покидая фортификации, Бодуэн хлопнул по плечу старину Аршамбо, и коннетабль едва удержался от того, чтобы не хлопнуть в ответ милостью Божией Латинского короля.
Вечером кузен рассказывал княгине и ее дамам о прекрасном Иерусалиме. Сердце мира, Град Иисусов, золотой и розовый, каменный и воздушный, исполненный невыразимой красоты и святости, прорывал крестами, шпилями, колокольнями и башнями темную мглу вокруг Констанции, уносил с собой в лазурную высь.
Король провозгласил себя регентом Антиохии, но на деле власть княгини ничем не ограничил. То ли, как уверяла Грануш, потому что убедился, что Констанция – на редкость решительная и здравомыслящая правительница, то ли, как болтала Изабо, потому что так или иначе намеревался вскорости выдать ее замуж по своему выбору.
В знак приязни и благодарности княгиня передала сюзерену всех сарацинских пленников, оставила только тех, кто был необходим на постройке добавочных фортификаций. Когда ей сказали, что Пуатье погиб, она потеряла разум и кричала, чтобы всех проклятых нехристей немедленно казнили, но Аршамбо отказался исполнять такое неразумное приказание, и сейчас Констанция была признательна коннетаблю: жестокие сельджуки наверняка чудовищно отомстили бы безвинным латинянам, томившимся в их лапах.
Король договорился с Нуреддином об обмене захваченными воинами, а вдобавок обещал выкупить из египетской каторги трех антиохийских рыцарей. Жестокий, как ветхозаветный фараон, фатимидский султан заставлял попавших в его руки латинян возводить каирскую цитадель.
Пленным сарацинам предстояло поспевать за армией до места обмена у пограничного Харима, а они после долгого заключения – кожа да кости, многие едва на ногах держались.
– Почему они так плохо выглядят? – возмутилась Констанция.
– Потому что с ними плохо обращались и не кормили, – пробурчал Ибрагим.
– Поверьте, уважаемый ибн Хафез, я вовсе не намеревалась морить заключенных голодом, на их содержание отпускались весьма приличные суммы, но не могла же я каждый день лично проверять тюремный котел?! Я строго накажу виновных!
Грешно и глупо терять человеческую жизнь, даже жизнь смертельного врага, когда можно обменять ее на жизнь рыцаря.
– Посмотрели бы вы, какими наши из алеппских застенков выходят… – мрачно заметил Рейнальд де Шатильон, ответственный за доставку пленных.
Ибрагим хватался за голову, терзал бороду, призывал в свидетели Мухаммеда и Галена и клялся, что беднягам на подготовку к переходу потребуется неделя.
– Недели у них нет, – отрезал безжалостный, как гвоздь распятия, Рейнальд. – Прекрасно дойдут, когда поймут, каков выбор.
Ибн Хафез хотел возразить, но взглянул на Шатильона, вздрогнул и поспешил к пленникам, наперебой призывавшим «аль-таабиба». Два оставшихся дня ретивый знахарь почти не спал и не ел, полосатый его халат беспрерывно мелькал по двору между изможденными магометанами, но умудрился-таки всех узников поставить на ноги. Только некий Аззам не мог идти из-за опухшей ноги. Сгорбившийся звереныш сидел на земле, злобно сверкал черными глазами, из многочисленных дыр в лохмотьях торчало смуглое, тощее тельце. Одна из лодыжек худющих ног и впрямь распухла, и несуразно огромная ступня висела на ней косой клешней. Трудно было поверить, что этот щуплый хлюпик не только участвовал в сражении, но даже умудрился зарубить беднягу Клода Байо! Впрочем, всем известно, что сарацины посылают в бой сущих детей.
Шатильон ткнул в галчонка:
– Этот Аззам – сын Мадж ад-Дина, сводного брата Нуреддина, эмира Алеппо. Он самый ценный, без него вся сделка развалится. Не может идти, остальные его потащат.
– Светозарная княгиня, – Ибрагим бросился защищать своих подопечных, словно кулик птенцов от тростниковой кошки, – посмотрите на ужасное состояние несчастных! Если их заставят его нести, они сами не дойдут.
Узники в самом деле смахивали на откопавшихся мертвецов, однако княгиня только вчера особо упомянула этого заключенного в разговоре с королем, не могла же она нарушить слово.
– Пусть шевалье Шатильон решает. Он тут представляет короля, а эти люди уже принадлежат его величеству. Но не волнуйтесь, Ибрагим, напрасной их смерть в любом случае не окажется: передав их его величеству, я сдержу свое слово.
– На остальных мне наплевать, – отрезал Рейнальд. – Их много, кто-нибудь да дотянет мальчишку.
Шатильон был прав, остальные сельджуки никакой ценности не представляли, но ибн Хафез взмолился:
– Мертвый пленник бесполезен, и большой грех перед Создателем без причины растрачивать жизнь его созданий.
Констанция твердила себе, что это враги, что все они достойны смерти, каждый из них был захвачен в бою с оружием в руках, но ничего не могла с собой поделать: теперь, когда сарацины были униженными, бессильными, с потухшими глазами, торчащими позвонками и костлявыми конечностями, у нее не хватило решимости обречь их на смерть. Она сдалась:
– Ладно, для самых слабых выделят мулов.
Пусть дойдут до Харима живыми, иначе какой с них толк? Но на Ибрагима не угодишь:
– Если Аззаму срочно не оказать помощи, в ноге начнет скапливаться желчь, жар от нее распространится по всему телу, и несчастный умрет, – так упорствовал, словно речь шла о собственном сыне. – Мне он не позволяет до себя дотронуться, считает, что лучше смерть, чем забота шиита. Необходимо позвать к нему суннитского врачевателя.
Шатильон подал знак солдатам:
– Ребята, подержите мальчишку, пока знахарь над ним колдует.
Двум латникам пришлось навалиться на отчаянно вырывавшегося Аззама, чтобы ибн Хафез смог вправить кость и обвязать грязную лодыжку дощечками. Волчонок оказался настолько злобным и упрямым, что с присущей неверным неблагодарностью умудрился плюнуть в своего шиитского спасителя. Но у Ибрагима никогда чести не имелось, он только небрезгливо утерся и снова бросился раздавать пленникам мази и настойки.
Скованная попарно гусеница узников уже звенела цепями, их босые ноги уже вздымали пыль на дороге, когда в углу двора обнаружился еще один немощный заключенный. Его трясло от жара и беспрерывно рвало. Ибн Хафез заявил, что подобная хворь крайне заразна и часто смертельна.
– Этого я с собой не возьму, – заявил Шатильон, которому уже подводили коня.
– Я в своем замке его тоже не хочу, – испугалась Констанция. – Болезнь перепрыгнет на тюремщиков, с них на слуг, а там и на моих детей!
– Ну, тогда скинуть его в ров, – нашелся Рейнальд.
– Ваша светличность, – заголосил Ибрагим, – ради Аллаха, не надо скидывать! Это Тахир – один из хашишийя, ассасинов, вспомните, величавая госпожа, что Али ибн Вафа тоже погиб при Инабе.
– Мессир де Шатильон пошутил, – отмахнулась Констанция. Отчаянному шевалье казнь бесполезного исмаэлита и в самом деле могла показаться забавной. – Но я, право, не знаю, как быть с больным и заразным ассасином.
– Милосердностная госпожа, позвольте оставить его в углу двора, тут он никому не принесет никакого вреда. Зараза передается исключительно лучами из глаз больного, а у него, как вы видите, глаза уже смежены! До утра он сам по себе скончается, и вина за его смерть не ляжет на нас, – страстно ручался Ибрагим.
Шатильон пожал плечами, ему решительно некогда было заниматься подыхающими нехристями: до темноты следовало добраться до безопасных стен ближайшей крепости, пленники уже тянулись за обозом. Шевалье кивнул на прощанье княгине, вскочил на скакуна редкой мышиной масти, пустил его вскачь и скрылся из глаз, не обернувшись ни единожды.
Констанция смотрела вслед страшной шеренге хромых и качающихся доходяг. Они казались выходцами с того света, но шли, потому что каждый шаг приближал их к свободе. Кто уже и шага не мог сделать, тех везли на телегах. Христос мог удостовериться, что княгиня воистину возлюбила своих врагов. А сердце почему-то вдруг стиснуло, словно над ней могильная плита задвинулась, словно сомкнулись над головой темные воды и в третий раз пропел петух. Едва не взвыла от нахлынувшей покинутости и одиночества.
Рядом с бредящим ассасином поставили миску с полбой и кувшин воды, а утром умирающего нигде не было. Загаженное одеяло корчилось вонючей кучкой, кувшин был опрокинут, к тюремной пище даже дворовые собаки не прикоснулись, – разобраться бы, чем эти стражники кормят несчастных! – зато посреди двора возникла неведомо кем принесенная огромная связка сочных фиников. Видно, правду говорили, что для ассасинов нет невозможного. Констанция не огорчилась исчезновению заразного басурманина, пусть его хоть сам дьявол в преисподнюю утащит, но напугало, что ассасинские фидаины, оказывается, запросто могли проникнуть за стены и запоры ее цитадели.
В теплый, проплаканный, душный, безутешно-уютный полумрак опочивальни она не вернулась. Раскаленный кусок железа, нестерпимо сжигавший нутро в первые дни, остыл. Вместо того навалился и давил на сердце гробовой гнет отчаяния и тоски. Констанция поверила в смерть Пуатье, и он покинул ее. Совсем недавно сводило с ума ожидание, что вот-вот Раймонд войдет, а теперь он ускользал безвозвратно – выветрившийся запах на подушке больше не пронзал подреберье, как копье Лонгина пронзало Иисусово тело, раскаты мужского смеха со двора не заставляли подлетать к окну, выгоревшие пряди больше не чудились среди чужих спин. Стирался, блекнул образ умершего, даже в дремотном полузабытьи меж явью и сном не являлся больше. Как будто и не было никогда на свете прекрасного Раймонда де Пуатье.
Грануш гладила руку своей голубки, утешала:
– Не вини себя ни в чем, аревс. Град бьет и поле праведника, и поле грешника.
Поле грешницы Констанции град несчастий выбил подчистую.
Еще до августовских календ отчаявшиеся защитники Апамеи сдали город Нуреддину в обмен на свои жизни. Плохо пришлось бы и соседним владениям Антиохии, но внимание тюрка привлек Дамаск: дамасский атабек Мехенеддин, продолжавший, благодаря своей изворотливости, оставаться единственным неподвластным Алеппо мусульманским правителем в Сирии, пал жертвой своего чревоугодия: мамлюк объелся любимым блюдом из мурен, слег от непереносимой боли в кишках и вскоре скончался. Исполнилось пророчество псалма: «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их – западнею». Наследовавший ему эмир Муджир ад-Дин Абак оказался слабой заменой, и Нуреддин оставил в покое франкские владения, вознамерившись сначала завершить завоевание мусульманской Сирии.
Судьба посылала Зангиду одну удачу за другой, и он, как медведь у речных порогов во время весеннего нереста, не успевал заглатывать все то, что само шло ему в рот: в ноябре скончался его брат, властитель Мосула. Ненасытный Нуреддин отложил завоевание Дамаска и немедленно озаботился присвоением месопотамских земель брата. Как курица по зернышку выклевывает рассыпанное по двору пшено, так атабек захватывал крепости, города и земли, а у тех правителей, которых пока не мог одолеть, брал в жены дочерей, превращая их в союзников. Даже конийский султан, главный противник василевса Мануила Комнина, и тот породнился с Зангидом.
Но враждовать с Ромейской империей Нуреддин не жаждал. Уж очень успешно возрождал Мануил империю Юстиниана: Корфу отвоевал и почти всю Киликию под власть Константинополя вернул. Поэтому атабек Антиохию больше не тревожил: лишившееся почти всех земель княжество, управляемое патриархом и молодой вдовой, ничем теперь тюркам не угрожало, зато превратилось для Зангида в полезный буфер между ним и могущественными греками.
Той зимой ни днем ни ночью не прекращались дожди, словно сама природа оплакивала Пуатье. В памяти Констанции остались только каменный холод церковного пола, душащее тепло детских спален и давящая мгла непереносимой безнадежности.
С паломниками и путешественниками пришло известие, что у французской королевы родилась вторая дочь. У женщины, отнявшей отца у малюток Констанции, появилось живое дитя, безрадостный брак Алиенор с вялым Людовиком принес плод.
– Девчонка вместо дофина, – фыркнула Грануш, – невезучий Капет.
Сливовые глаза Изабо заблистали, вишневые губы задрожали. Констанция обняла подругу:
– О, милая Изабо! Я не перестаю молиться за тебя!
– Детей не молитвами делают, а я лучше на костер взойду, чем с Эвро снова лягу.
Смеркалось, больше не удавалось разглядеть рукоделие, но Констанция медлила требовать свечей. В полутьме призналась:
– Изабо, всего больнее, что он уже никогда, никогда не полюбит меня снова. Не могу простить, не могу смириться, что он так и ушел, любя ее. А теперь уже ничего не исправишь.
– Это пройдет, мадам, пройдет. Уж как я по Юмберу убивалась, а теперь даже не вспоминаю, только иногда наткнусь на него, однорукого, и реву всю ночь, как дура. – И сразу же отвлеклась, защебетала: – Мадам, а рукава-то во Франции нынче до пола носят, надо и нам свои перешить.
Изабо, несчастная как ветхозаветная Ноэми, продолжала хохотать, менять наряды, кружить мужские головы и сплетничать. Легкомыслие спасало ее от отчаяния, но бедняжка по-прежнему оставалась невезучей и беспомощной. Впрочем, Констанции легкомыслие в утешение не годилось, а не имелось никакого.
Весной неуемный Нуреддин осадил Дамаск со своим многочисленным, как египетская саранча, аскаром. Он мог бы взять город силой, но не желал являться жестоким покорителем. В отличие от отца, прозванного Кровавым, сын стремился вдобавок к землям и телам покорять сердца и души, в этом была его сила, но это же заставляло его осторожничать. Напуганный наследник Мехенеддина не стал щепетильничать: воззвал о помощи к Иерусалиму. Франкская армия по-прежнему являлась силой, способной остановить атабека Алеппо, и Бодуэн III не мог допустить падения последнего независимого эмирата Сирии в руки главного врага. Так иерусалимское войско бросилось спасать Дамаск, который само безуспешно осаждало всего два года назад.
Терпеливый и осмотрительный Нуреддин отступил, и Дамаск вновь принялся выплачивать франкам дань.
В мае граф Жослен II де Куртене направился в Антиохию, где надеялся обрести хоть какую помощь в отвоевании Эдесских земель, но по пути был захвачен сарацинами. Нуреддин, такой милосердный к жителям Дамаска, франкского барона не пощадил: несчастного ослепили и бросили в алеппский застенок. От Эдессы, во времена Жослена I простиравшейся на все Междуречье, осталось шесть крепостей, манящих атабека, как манит разбойника звон монет в кошеле одинокого путника. Супруга плененного Куртене, Беатрис Киликийская, дочь армянского царя Константина I, с превеликим трудом продолжала оборонять твердыни, но гарнизоны ее таяли, а жители вконец обнищали. Поэтому когда Мануил предложил выкупить у нее оставшиеся территории, дошедшая до крайности графиня обрадовалась нежданному предложению, словно вести архангела Гавриила.
Однако остальным латинянам, которым на Мануилово золото рассчитывать не приходилось, расстаться с последними клочками некогда огромного графства, с первым своим завоеванием в Леванте было тяжелее, чем девке с честью, первенцу с первородством и армии с потрепанным знаменем. На собрании Высшей Курии бароны хорохорились, грохали кулачищами по столу, перекрикивали друг друга:
– Землей Господа не торгуем!
– Ни пяди схизматикам!
– Пусть ромеи своей кровью завоюют!
– На помощь Мануил не спешит, а воспользоваться нашей крайностью тут как тут!
– Между Тигром и Евфратом рай находился! Негоже святую землю Междуречья схизматикам продавать!
Одна королева Мелисенда, женщина, которой мужская доблесть не заменяла разума, вмешалась:
– Мануил знает, что он тоже не сможет удержать эти крепости.
– Зачем же тогда покупает? Поглумиться над нами?
– Он не земли покупает, а право на них. Чтобы в будущем ни мы, ни магометане никогда больше не смогли претендовать на Эдессу.
Поразмыслив, бароны порешили, что никакое греческое золото не может помешать им при первой же возможности захватить что угодно обратно, а пока все же лучше Византии продать, чем сельджукам задаром достанется. И пусть весь позор потери завоеванной крестоносцами территории ляжет не на непобедимых франков, а на подставившегося императора.
Пятьсот рыцарей Бодуэна с пятью тысячами пехотинцев спешно прибыли в Сирию охранять уход гарнизонов. Всем местным христианам и армянам король предложил перебраться в земли латинян под защитой его воинов. В первый же день сарацины атаковали отступающую колонну, но Бодуэн многому научился со времен своих первых походов, дисциплина среди его воинов была железная, и франкам удалось достигнуть Антиохии без потерь.
– Вы видели наш обоз? Утыкан стрелами как дикобраз! – худая, с мускусно-черными волосами, с запавшими щеками и торчащими скулами Беатрис де Куртене много и с аппетитом ела, охотно пила и непрерывно болтала.
Ее дочь, семнадцатилетняя Агнес, взмахнула кубком:
– Я пью за всех наших защитников – за мессира Онфруа де Торона, Робера де Сурдеваля, за вас, Гуго д’Ибелин, и за вас, мессир, – медленно обвела мужчин прозрачными хризолитовыми очами, задержалась на Рейнальде Шатильонском: – Шевалье, я сразу оценила все ваши несравненные достоинства.
– Может, еще не все, – Рейнальд лениво потянулся на скамье, а сам не сводил взгляда с белокожей и рыжеволосой Агнес де Куртене.
У Констанции сладкий пирог загорчил. Молодой Гуго д’Ибелин тоже пялился на дочь Беатрис, как на колодец в пустыне. Супруг юной Агнес, сеньор Мараша и Кайсуна, погиб в одном бою с Пуатье, а теперь и отца пленили и ослепили, но красивая вдова не казалась убитой горем. Ее словно снедало изнутри какое-то лихорадочное нетерпение и возбуждение, она часто дышала, заводила глаза к потолку, раздувала ноздри, поправляла локоны, касалась пальчиком собственных губ и торжественно возлагала ладонь на грудь. Задрав острый подбородок, заявила:
– Будьте уверены, ни единого мгновения я не буду печалиться об этой проклятой Сирии! – Быстро, как змейка, слизнула капельку вина с края бокала: – Отныне я намереваюсь только веселиться и искать счастия, потому что уже знаю, как жизнь коротка и как ужасна.
Юной, бездетной Агнес это не составит труда: помимо развязности и манерности, привычки плотоядно облизывать губы и блудливого взгляда, мужскому вниманию ее теперь рекомендовали и мешки с византийским золотом. У ее матери Беатрис де Куртене уже не разглаживались горькие морщины между бровями, но и она не скрывала радости:
– Такое облегчение – избавиться от этой страшной мороки! Всё, всё потеряно в этом проклятом месте! Вы себе не представляете, каково это было – отстоять Турбессель от Нуреддина! До сих пор просыпаюсь по ночам в кошмарах и со слезами благодарю Господа, что больше не надо носиться по фортификациям и представлять нас всех в застенках! Я уже была готова бежать оттуда голой и босой, лишь бы спасти детей, а тут такое щедрое предложение Мануила! Я прямо упала на колени и только молилась, чтобы король не воспротивился. Чего здесь ждать?! Это же проклятая земля, которая собственных сынов пожирает. Но теперь всё это – забота василевса.
Не очень-то деликатно со стороны дам Куртене так неприкрыто ликовать, что им повезло выгодно обменять завоевания предков на полные золота сундуки, в то время как Констанция оставалась защищать рубежи, вплотную сдвинувшиеся к ее владениям. Антиохию вместо золота заполнили сирийские и армянские беженцы, отказавшиеся положиться на греческую защиту. Констанция не удержалась:
– Мануила забота и моя. Но если мы все уйдем, настанет очередь Иерусалима.
Беатрис осеклась, в бессчётный раз подставила кубок виночерпию:
– Часть меня ликует, что спаслись, мадам, а часть печалится. Я была владетельной графиней, а превратилась в никому не нужную приживалку при королевском дворе. Ранкулат я все же в сделку не включила, подарила армянскому католикосу, армяне всегда были нам преданы. Пусть хоть что-то уцелеет от наших мук и жертв. Католикос и с греками и даже с тюрками договорится, я уверена. А мне надо было спасать детей, больше у меня ничего не осталось.
Как ничего? А мешки?!
Впрочем, Констанция не судила несчастную графиню, Беатрис еще в юности потеряла первого мужа Гильома, сеньора Саона, ужасная судьба постигла и Жослена де Куртене, от графства сохранился лишь титул, а единственной отрадой стали беспрестанные жалобы:
– Нет хуже жребия, чем иметь мужа в заточении, ваша светлость. Как ни страшно вдовство, еще хуже знать, что супруг гниет год за годом, прикованный железной цепью к стене, и быть бессильной. Нуреддин ни за какие деньги не соглашается выпустить Жослена. Я не жена и не вдова…
Констанция представила скованного Куртене с кровавыми глазницами на месте умных серых глаз и содрогнулась.
Отчаянная Агнес невольно занимала думы Констанции: княгиня и презирала ее, и завидовала ей. Юная вдова не стесняясь окликала мужчин, шутила, всячески привлекала внимание, и это нравилось им. Гуго д’Ибелин с нее глаз не спускал, и Рено де Шатильон, хоть и качал головой, а ухмылялся себе под нос. Констанция несколько раз намеревалась тоже ввернуть в разговор что-нибудь остроумное и интересное, но так и не решилась. Просидела весь вечер, чинно беседуя со старухами.
Беатрис де Куртене перебралась со своим обозом золота, с Агнес и сыном Жосленом III в Иерусалим, и тем же летом Нуреддин отбил у греков Турбессель. Франкская крепость вновь превратилась в Тель-Башир, а Антиохия осталась последним оплотом латинян в Сирии.
Наступило засушливое лето. Увяли цветы, полегли травы, сморщились листья на деревьях. В пересохшем воздухе носилась пыль и тополиный пух, дни протекали в сонном, бессмысленном ничегонеделании. Констанция лениво бралась за вышивание престольных покровов и задумывалась, уставившись на мутное марево горной дали, принималась диктовать необходимое послание и замолкала, пока секретарь не возвращал из забытья осторожным покашливанием, начинала разговор и не слышала ответа, ласкала детей и внезапно уходила в свои мысли, не замечая приставаний Бо или рева упавшей Филиппы. Даже на мессе пребывала рассеянной.
Раймонда уже год не было среди живых. Сухим летом выцвели воспоминания, раскаяние, ненависть и обида иссушились как цветок, забытый меж страниц фолианта. Душой Констанции овладела горючая тоска, а телу было одиноко и томительно без любви и ласки. Ей уже двадцать лет и четыре года. Неужто так все и будет тянуться до гробовой доски, как обещает дама Доротея?
Изабель уверяла, что виной всему пустое ложе и даже дама Филомена больше не обрывала глупую трещотку. Из женщины, по каждому поводу имеющей и неизменно высказывающей резкое мнение, мадам Мазуар превратилась в равнодушную молчальницу. Дни напролет сидела без дела, тихая как мышь, понуро уставившись в окно или на свечу. Крепость Маргат отошла племяннику покойного греховодника Рейнальда Мазуара.
Осенью стало вовсе невмоготу. Без перемен, одна, забытая всеми, Констанция пропадет, сгниет, завянет, зачахнет. Аббат Мартин посоветовал сходить в град мученичества Христова, помолиться на Гробе Спасителя, и мысль о паломничестве вторглась во тьму прозябания ослепительным лучом. Туда всегда спешил король, туда увезла Беатрис ненасытную к наслаждениям Агнес, туда, не оглядываясь, ускакал Шатильон. В Иерусалиме текла настоящая, яркая, счастливая жизнь, и душа рвалась к ней из затхлого склепа вдовства. Счастья хотелось, как цветку света, как путнику привала, как дождя земле.
В Иерусалиме о Констанции тоже помнили. Едва миновал год траура, из столицы потекли настойчивые предложения новых брачных уз. Констанция твердо решила, что если выйдет замуж еще раз, то только за того, кого полюбит так, как любила Пуатье, и того, кто тоже полюбит ее всем сердцем. Она заслужила это право, она суверенная княгиня и никому, кроме Господа, не подвластна. Вслух, правда, помалкивала, потому что Изабо не поняла бы, зачем брак для любви, а все остальные не поняли бы, зачем любовь для брака. Но из-за слабости княжества наотрез отказывать Иерусалиму не смела, лишь отмалчивалась и отнекивалась. А королева настаивала, угрожала лишить племянницу поддержки и защиты. Изабо, тоже рвавшаяся в столицу, с детской хитростью уговаривала пуститься в путь.
– Мадам, надобно бы взглянуть на женихов. Хоть один да непременно приглянется, – истово уверяла женщина, которой нравились все, кроме собственного супруга. – А нет, так не поволокут же княгиню Антиохии к амвону насильно.
– Изабо, Мелисенда может на плаху заставить взойти.
Впрочем, Констанции и самой казалось, что в Иерусалиме все прояснится, а что все – и сама не могла сказать. Вспоминала завлекающий взгляд, брошенный Агнес на Шатильона, его небрежный ответ, белозубую улыбку, темный ежик волос – и щеки пылали зарей. Надобно было ехать.
Безопасней всего добираться морем до Яффы, оттуда до Святого города два дня пути. Собрались в дорогу сразу после дня великомученика Киприана и мученицы Иустины.
Восточное окно октябрьского дня едва серело, когда Констанция прощалась с детьми. Мария, прелестный ангел, с всклокоченными волосиками, с отпечатавшимися на пухлой щеке складками подушки, обняла материнскую шею теплыми ручками. Крошечная Филиппа мирно дремала на руках у кормилицы, Констанция поцеловала ее веки, погладила мягкие локоны. Столько несчастий обрушилось на их семью с рождения Филиппы, что малютке почти не досталось материнской любви и ласки. Вид детей всегда укорял, а сейчас, прощаясь с ними до весны, скрутило от вины. Но даже ради них она не может прозябать тут и дальше. Пока жива-здорова татик, чада будут присмотрены и любимы.
Шестилетний Боэмунд понимал, что мать уезжает надолго. Кровь Раймонда уже являла себя – дни напролет сын упражнялся в стрельбе из арбалета, махал мечом и скакал по двору на буланом Фаэтоне. Когда-нибудь он станет надежной опорой и поддержкой. А пока маленький воин крепко обхватил Констанцию, прижался к ней в страстной немой мольбе. Бо говорил редко, стеснялся заикания.
– Ты ведь всегда будешь любить мамочку, правда, аревс, солнышко мое?
Страстно расцеловала своего крохотного защитника, пропустила мимо ушей вечное мамушкино ворчание – «скверная мать, сидела бы с детятами, чем по белу свету мотаться», в последний раз благословила отпрысков. Вот возвратится, и непременно посвятит себя детям.
Последние наказы, еще одна молитва покровителю путешественников святому Христофору – и кавалькада тронулась в путь. Татик на счастье плеснула вослед воды.
День занимался пасмурный и свежий. Порывы сырого ветра доносили колокольный звон утренней службы, ранний покой вспарывало звонкое эхо собачьего лая и редкие пронзительные птичьи свисты из зарослей олеандров. Ночью прошел ливень, ветер морщил рябь луж, копыта чавкали в дорожной грязи, Каприза фыркала теплым паром, звенели удила, с придорожных ветвей на низко надвинутый капюшон и плечи Констанции падали холодные капли, даже в перчатках мерзла держащая поводья рука. Рядом тряслась и тараторила Изабо, счастливая, что скука Антиохии и постылый Эвро отдалялись с каждым шагом, шумно зевал паж Вивьен, топтали хрупкую зыбь осеннего утра грубый бас и оглушительное сморкание Бартоломео. Скрытые серебристым туманом скакали позади придворные дамы и рыцари, за ними тянулись оруженосцы, валеты, священники, тащился на плешивом муле ибн Хафез. До гавани Сен-Симеона отряд провожали вооруженные стражники.
В порту ждала нанятая венецианская трирема. Констанция со свитой, охраной и слугами взошла на борт.
Влажный, соленый морской ветер трепал одежду и волосы, пронзительно вопили чайки, прекрасная, сияющая синевой и золотом трирема качалась на волнах, звенел такелаж, оглушительно трещал парус, трепетал вымпел со львом святого Марка. Все будоражило и тревожило, предзнаменуя новую, иную, лучшую жизнь. Женщины устроились на носовой надстройке палубы, подальше от смрада и взглядов гребцов. Смуглый, бородатый капитан Антонио кричал на матросов, сопровождал приказы широкими взмахами волосатых рук, украшенных кольцами, увешенных серебряными браслетами, но даже его непонятные проклятия казались княгине дивной музыкой.
Трирема двигалась вдоль гористого зеленого берега. Венецианский капитан облокотился на поручни рядом с дамами, ветер надувал его рубаху, облеплял худое, мускулистое тело, доносил хищный запах пота. Длинные, черные с проседью кудри были перевязаны платком, в ухе качался обод золотой серьги, глаза сверкали и смеялись, белая улыбка, в которой не хватало бокового зуба, прорезала смоляную бородку.
– Я эти берега впервые еще мальчишкой увидел. – В иноземных распевах капитана слышался отзвук прекрасного, далекого, огромного и удивительного мира. – Тогда сам дож повел нашу непобедимую армаду к берегам Палестины. Триста галер, пятнадцать тысяч маринайо, все такие же отчаянные ребята, как я. – Понизил голос, чуть-чуть придвинулся, в широком вырезе рубахи бился о смуглые ключицы кожаный шнурок с ладанкой: – Но, может, не все, беллиссима принчипесса. Таких, как я, вообще мало, клянусь вам как маринайо и честный человек!
Стрелял глазами, смеялся, закидывал голову, обнажая кадык. Констанция слегка отодвинулась, продолжая вынужденно улыбаться. Италийцы славятся своей фривольностью, а если Изабо продолжит так заглядываться на бравого моряка, ее смоет волной.
– Дож отрядил восемнадцать наших галер увлечь за собой египетские корабли от Аскалона к Яффе. Эх, миа карина принчипесса! Видели бы вы меня тогда – кожа да кости, но молод и отчаян! С одного взгляда я покорил бы ваше сердце!
Мужчинам каждая одинокая женщина кажется доступной добычей. Ничто их не останавливает – ни разница в положении, ни траурное одеяние, ни собственная седина. Вот и Антонио явно считал, что полонить вдовую княгиню так же легко, как и египетский флот.
Бартоломео д’Огиль перегнулся через поручень и мучительно содрогался, извергая съеденное накануне в морские недра. Изабо губы искусала от бессильной ярости: этот неуклюжий солдафон еще и в плавании расклеился! Женщина, как известно, хороша лишь настолько, насколько хороши ее обожатели, и жалкий воздыхатель непоправимо ронял престиж мадам де Бретолио. Сухопутному увальню не простится этот постыдный приступ морской болезни на глазах у шармантного венецианца! А навязавшийся на ее голову злосчастный поклонник вдобавок побрел прямиком к ней, качаясь и придерживаясь за снасти! Изабо от него отвернулась, заулыбалась ловкому Антонио, скользящему по палубе с ловкостью базарного канатоходца.
– Ах, капитан Антонио, вы и сейчас хоть куда!
Морской волк тут же сменил курс с недосягаемого княжеского флагмана на ее беззащитный галеон:
– О, белиссима донна Изабелла, мы притворились, что пытаемся скрыться бегством, навалились на весла и помчались в открытое море! Эти маскальцони-египтяне неслись за нами, как портовые путаны за маринайо!
Капитан выжил, и ему было приятно потрясать прелестных донн подвигами юности. Но Бартоломео не собирался уступать прекрасную даму своего сердца ничтожному итальяшке. Серый от недомогания, едва держась на ногах, д’Огиль запальчиво просипел:
– Драться на море – занятие для трусов! Истинный воин должен сражаться верхом и только на суше! В этой поганой воде от благородного человека ничего не зависит! В любой момент может начаться буря и чертовы суденышки пойдут на дно. А чего стоит одна коварная морская немощь, перед которой бесполезна вся рыцарская отвага и сила? – Сморщился, сглотнул с усилием: – Клянусь, я скорее в монахи пойду, чем снова взойду на борт!
Бартоломео в который раз мучительно скорчился над водой, и Антонио победно заломил бровь:
– Египетские суда громоздкие и неповоротливые, но мы нарочно медлили, подпуская их, чтобы прочнее увлечь за собой. Эти фильи де путана уже вовсю ликовали, дождь их стрел уже пенил воду за кормой, когда вдруг горизонт застлала остальная венецианская армада! Наши юркие, поворотливые галеры отрезали египтян от берега, и мы обстреляли их греческим огнем из гигантских арбалетов. К вечеру весь фатимидский флот покоился на морском дне.
Изабо восхищенно ахнула, Антонио наслаждался произведенным впечатлением, а Констанция вглядывалась в свинцовые воды.
Где-то там, в неизмеримой глубине, гнили останки кораблей, лежали в иле объеденные рыбами скелеты утопленников. Ничуть не лучше, чем быть захороненным без головы.
– Ваш дед Бодуэн II, прекрасная принчипесса, предложил нам вместе отвоевать либо Тир, либо Аскалон. Дож выбрал Тир, и мы осадили гавань с моря, а франки одновременно напали на город с суши.
– А почему Тир?
– Тирский порт несравнимо удобнее, и через него идет торговля с Дамаском. А в Аскалоне что? Нищий берег, мелкое побережье и открытый рейд?
– Можно подумать, вы одни Святую Землю завоевали! – прогудел Бартоломео, распрямляясь и утирая рот.
– Без нас ничего бы у ваших героев не вышло! Даже Иерусалим взяли только с помощью генуэзцев! Наши флотилии незаменимы – невозможно владеть Утремером, не владея морем! Недаром египтяне строят свои корабли по образцам наших галер и греческих дромонов. Но их оснастка нашей и в подметки не годится. И где им в пустыне взять корабельный лес и железо?
– В самом деле, где? – Бартоломео сплюнул в волну. – Вы, главное, им не подсказывайте, глядишь, сами тупоумные обрезанные собаки и не догадаются, кто тут за магометанское золото родную мать в султанский гарем продаст!
Антонио намек франка не смутил:
– Допустим, – сверкая браслетом, взмахнул обезьяньей рукой с длинным ногтем на мизинце, – допустим, нашлись бы на белом свете пронырливые поставщики, но – пусть прелестные дамы не подумают, что их мильоре амико Антонио хвастается! —откуда басурманам взять опытных капитани?!
Бартоломео заметил завороженный взор Изабо, поправил меч, прогудел укоризненно:
– Чего стоят умение и опытность людей, на верность которых нельзя положиться?
Очень многого стоит верность, которую приходится покупать по рыночной цене. Мореплаватели-торгаши неизменно умудрялись взыскивать с франков непомерную плату: треть всей добычи, треть Тира, в каждом городе королевства свой квартал с церковью, пекарней и термами, лучшие угловые места на базарах, право во всех сделках использовать собственные меры и весы. Но без них было не обойтись: Бартоломео верно заметил – франкские рыцари воевали только на суше и только верхом. А поскольку глубь материка занимали непроходимые для конских копыт пустыни, Утремер и протянулся по кромке моря, где флот был незаменим. Д’Огиля снова скорчило над кормой, и Антонио вдругорядь торжествующе завладел вниманием дам:
– Больше года наши галеры блокировали Тир со стороны моря, а когда город наконец пал, даже я, мальчишка, разжился настолько, что смог купить себе суденышко! В честь своей возлюбленной Венеции нарек ее «Серениссима», и с тех пор все мои корабли крещены одним именем с жемчужиной Адриатики.
Ворвавшись в город, моряки безжалостно вырезали и грабили жителей, нарушая обещания франков щадить сдавшихся, а если бы кровососы не заламывали с паломников несусветные деньги за каждый клочок палубы, Утремер давно бы заселили правоверные христиане.
– Вы, торгаши, не цените то, что нельзя продать! – Бартоломео распрямился, протер измученное лицо полой плаща. – На неосвященной гостии даю зарок сожрать собственную перчатку без соли, если я когда-либо опять ступлю на корабль! Святая Дева Мария, я подарю твоей иконе новый серебряный оклад, если ты вернешь меня на твердую землю!
– Мессир д’Огиль, – Изабо отпрянула, обмахиваясь концом покрывала, – не могли бы вы перейти на корму, все-таки мы с княгиней от вас с подветренной стороны!
Посудину качнуло, бедняга Бартоломео едва не шлепнулся, но успел ухватиться за мадам де Бретолио и в падении порвал ее новую бархатную юбку. Поднимаясь, учтиво заверил:
– Бартоломео лучше за борт бросится, чем вызовет ваше неудовольствие!
– Да уж куда было бы лучше! – воскликнула Изабо.
Антонио упреки рыцаря не смутили:
– Каждый ищет тут то, что ему надобно. Грешник – искупления, рыцарь – славы, дева, – перевел лукавые глаза на дам, – девы, впрочем, везде в мире ищут любви… А наш бог – торговля. Именно она двигает миром. Ради барыша караваны пересекают пустыни, галеры – моря, а армии – горы и пустыни.
– Так вошь уверена, что собака существует ради нее!
– Так конь везет всадника, – с язвительной вежливостью поклонился Антонио. – Разве франки сами не кормятся пошлинами с мусульманских торговцев? Без басурманского золота рыцарь хромую кобылу не смог бы купить.
Констанция возмутилась:
– Для нас деньги – средство, а для вас – цель! Правильно сказал святой Иероним, что купцы неугодны небесам! Вы бы и град Христов распродали по сходной цене!
– О, серениссима принчипесса! Я последний, кто решится богохульствовать в море, да помилует меня наш заступник святой Эльм, – Антонио суеверно полез за пазуху, вцепился в амулет. – Иерусалим дорог нам тем, что в нем жил и потерпел ради нас Спаситель, но если бы вы увидели мою Венецию, Канале-Гранде, Собор Святого Марка, рынки Риальто, Дворец Дожей, – он мечтательно завел глаза и замер, не в силах выразить своего обожания, – ах, принчипесса, клянусь кровью Христовой, вы бы поняли, что Пуп Земли вовсе не в маленьком грязном городишке, упрятанном в диких горах! Пуп Земли там, куда стекаются деньги, люди, новые знания и умения. Недаром даже Викарий Христа обретается не здесь, а в Италии! Каждый раз, когда я возвращаюсь в родные лагуны, я чувствую, что Иисус простил мне все грехи.
Развязный Антонио возмущал и в то же время тревожил Констанцию. Она перешла на другой борт. Но везение не полностью покинуло старого морского волка – Изабо тут же заняла ее место, и неунывающий капитано, похоже, намеревался взять на абордаж любую ладью, готовую сдаться без боя.
Страшно кренясь, трирема под парусом шла вдоль берега, вздрагивая под порывами ветра, взлетая на волну и низвергаясь с нее. Благоразумнее было возносить молитвы о скорейшем и безопасном прибытии, нежели внимать россказням пройдохи и пирата Антонио. Волны, качавшие суденышко, донеслись до Утремера от противоположного, невидимого берега, от удивительной, заманчивой, таинственной La Serenissima, Сиятельной Венеции, уверенной, что ее мирское процветание и красота важнее святости Иерусалима. Эти же волны омывали и берега «милой» Франции, бароны и королева которой с таким презрением отнеслись к латинянам Леванта. Мир огромнее и разнообразнее, чем представляется, если ты родилась и всю жизнь провела в Антиохии, но Констанции не суждено увидать далекие края, для нее на земле определено одно-единственное место – возлюбленная Земля Воплощения, и нет жребия достойнее.
Гребцы-галиоты мерно и неустанно заносили весла, рывками продвигая корабль сквозь воду, словно протыкали иглу сквозь овечью шкуру.
Издали Яффа напоминала красочную миниатюру часослова – холм венчали крепость и большой собор, а к ним карабкались, взбираясь друг на друга, постройки из песчаника, меж ними торчали зеленые зонтики пальм и тонкие пики кипарисов. Вокруг города уже почти замкнули спасительный пояс новые высокие стены, такие широкие, что по ним могли разъехаться всадники. Постепенно огромная золотая Яффа с перестроенными из мечетей церквями, грозным замком и сторожевыми башнями приблизилась и нависла над просторной сине-зеленой гаванью, отделенной от открытого моря рифами и скалами, теми самыми, к которым была прикована Андромеда и с которых рыбачил святой Петр.
Все плавание неугомонный Антонио нещадно поносил яффский порт: и мелок он настолько, что большим нефам приходится стоять на рейде, и гавань от ветра не защищает, и море в этих местах опасное, бури зачастую крушат суда у самого берега. Однако бирюзовые воды Яффы оказались приветливы, веял легкий ветерок, солнце играло на воде, трирема беспрепятственно пришвартовалась у пристани, капитан радостно напевал и весело чертыхался: пусть княгиня оказалась невосприимчивой к его чарам, и даже Изабо отказалась осмотреть трюм, но в порту наверняка найдутся женщины и посговорчивее.
Констанция жадно разглядывала берег. Лица здесь казались веселей, крики чаек – звонче, воздух – теплее, а море и солнце – ярче и красочнее, чем на севере.
Здесь, в древней Иоппии, творил чудеса апостол Петр, воскресивший девицу Тавифу, здесь жил Иов, вон с того причала отправился в Компостеллу апостол Иаков. В этих же водах кит проглотил Иону, а потом выплюнул его на берег.
Залив был полон непревзойденных по маневренности галер и стоящих на якоре купеческих нефов, каждый способен вместить полторы тысячи человек. Били колокола, сообщая о прибытии в порт нового корабля, над морем галдели и метались птицы, от кораблей к мосткам сновали плоскодонки с товарами, а берег кишел муравьями-носильщиками с тюками на головах, поводырями, паломниками, торговцами, закованными рабами, нищими, навьюченными поклажей верблюдами, лошадьми, мулами и ослами. У самых сходней на покрытом коврами помосте писцы таможни проверяли каждый мешок и устанавливали пошлину. Казалось, прав был Антонио, и крестоносцы завоевали Палестину ради того, чтобы в сундуки Иерусалима, Венеции, Генуи и Пизы стекался поток золотых безантов, динаров и гиперперионов.
На пристани группа путешественников, одетых в желтые атласные халаты, шаровары и такие же желтые тюрбаны, объяснялась с писцами при помощи арабского толмача. Внезапно прево рассердился, закричал и ударил одного из чужеземцев по лицу. Тот подхватил свалившуюся чалму, продолжая униженно кланяться.
– Вивьен, выясните, что происходит, чем провинились магометане?
– Это не магометане, ваша светлость, – заявил паж с гримаской отвращения. – Это евреи из Кордовы, столицы Аль-Андалуса. Говорят, нынешние правители их города изгоняют или убивают всех, кто не готов перейти в веру Аллаха.
Из Иберии? Таинственной христианской страны, томящейся под властью мавров, в которой сыны Христа подвергаются гонениям и притеснениям? Княгиня впервые видела тамошних иудеев. Нехристи были богато одеты, увешены украшениями и вели себя слишком заносчиво для ничтожного племени, чью гордыню Господь сломил в своем правосудии. Наверное, эта неправедная роскошь и неоправданная гордость и возмутили таможенника.
– Судя по виду этого неверного, грязным евреям жилось там слишком хорошо! – возмутился Вивьен. Констанция остановила болтуна, но ей самой было досадно, что люди, распявшие Сына Божьего, не выражали ни малейшего раскаяния.
– Княгиня, не удивляйтесь благополучному виду этих чужестранцев, – разъяснил подозванный Ибрагим ибн Хафез, – во времена Омейядских халифов в Аль-Андалусе процветали науки и искусства, торговля и земледелие, и каждый мог благоденствовать, даже иудеи. Но ныне Кордовой владеют альмохады – суровые воины джихада, они изгнали или казнили всех, не желающих принять истинную веру.
– Видно, магометане способны начать джихад даже в тех странах, где ислам правит уже столетиями. Я надеюсь, евреи Аль-Андалуса не вздумают переселиться на Святую Землю.
– Когда-то здесь были их царства, Аль-Кудс свят и для них.
– Но это больше не их город! У них здесь больше ничего нет. Иерусалим искуплен и обмыт кровью распятого ими и поправшего смерть Христа.
– Кое-что осталось, княгиня. Часть храмовой стены, могилы…
– Что значат нескольких камней?
– Иудеи привязаны к этому городу памятью. Это очень сильная вещь – память, возможно, сильнее всего. Над памятью не властны ни ветер, ни дождь, ни чужие руки. Никто, кроме Господа, властелина времени, не может уничтожить того, что держит в себе память.
Странные кордовские евреи скрылись из глаз, Вивьен поскакал за ними, наверняка выдумал какую-то каверзу.
– Очень упрямое племя, – вздохнул Ибрагим. – В Аль-Искандарии я когда-то свел знакомство с одним знаменитым яхуди, направлявшимся из Кордовы в Аль-Кудс. Соплеменники высоко почитали его за поэмы, философские писания и медицинские умения. Этот Иегуда Галеви рассказывал, что в дни его детства в Кордове проживало больше ученых, нежели пекарей, а в библиотеке последнего халифа хранилось столько же книг, сколько звезд на небе.
– Мавры – захватчики и варвары! – возмутилась Констанция. – Они захватили христианскую Иберию, разрушили собор в Сантьяго-де-Компостела, нападали на окрестные земли, умерщвляли и обращали в рабство мирных жителей!
Трусливый Ибрагим никогда не перечил:
– Увы, нынешние берберы-сунниты заставляют вспоминать своих предшественников с сожалением. Ревностные альмохады сожгли все сокровища кордовской библиотеки, заявив, что они вредны, если противоречат Корану, и излишни, если соглашаются с ним. Боюсь, не только иудейская мудрость покинет Аль-Андалус.
– Какая у иудеев может быть мудрость? Одно колдовство и черная магия, – заметила изнемогавшая от жары и скуки Изабо.
Констанция согласилась. Чего стоит мудрость людей, которые отвергли душеспасительное Евангелие и держатся за свои заблуждения, даже если их за это преследуют на этом свете и страшно накажут на том? Ибрагим снова увильнул от прямого ответа:
– Возможно, иудеям действительно не хватает собственной ветхозаветной мудрости, и потому они так основательно изучили чужую, но с этим Иегудой Галеви было весьма интересно и познавательно беседовать о сочинениях Аристотеля, Гиппократа и Платона. Он прекрасно знал труды Али ибн Сины-Авиценны и ибн Туфайля-Абубасера. Старик щедро делился со мной медицинскими познаниями мавров. Это он научил меня усыплять больного при разрезе живота и ампутации рук или ног. Он же рассказал, что кордовские медики просверливают дырочки в черепе, чтобы облегчить боль тех, чей мозг словно стиснут железным обручем. Даже уверял, что с помощью серебряных игл они умудряются возвращать зрение ослепшим от помутнения зрачка. Но в это я, конечно, не поверил.
– Ибрагим, если вы приметесь проделывать дырочки в христианских головах, вам собственной не сносить, – оборвала Констанция лекаря, позабывшего, что он беседует с княгиней, не с цирюльником.
– Да… да, – спохватился ибн Хафез. – Простите болтливость старика, княгиня. Но особенно меня поразило убеждение этого Иегуды, что исполнится обещание Всевышнего и его соплеменники возродят свое владычество в Сионе. Хоть и яхуди, он все же производил впечатление человека образованного и мыслящего.
– Не убеждение, а заблуждение. Обещание уже исполнилось – Утремер и есть воссозданное царство Давида и Соломона.
Египетский лекарь пожевал губами:
– Тем не менее эта мечта полностью овладела шатким разумом несчастного. Бедняга сочинял стихи, полные любви и тоски по Сиону. Сравнивал прах Сиона с благовонным мирро, реки – с амброзией… Надо отдать ему должное, стихи были изящны и трогали душу: «Сердце мое на Востоке, я же на Западе сам»… Все переживал, что не исполнит свой обет и не доберется живым до Иерушалаима, так он называл Аль-Кудс.
Кто бы мог предположить, что это жестоковыйное племя способно на пылкую любовь к земле, давным-давно утерянной ими за собственные грехи? Иерусалим, второстепенный для христианина-венецианца, был все еще дорог сынам этого отверженного и обреченного народа! Наверное, Господь вложил в негодные сердца евреев и приспешников Магомета такую страсть к Земле Обетования, дабы усовестить их примером добрых латинян и заставить верных сынов Церкви превзойти недостойные народы собственным рвением.
– Да какое значение имеют эти евреи?! – фыркнула Изабо. – Уж, верно, Иисус Христос христианин не хуже нас, и не допустит, чтобы Святая Земля пала в руки неверных! А куда это запропастился паршивец Вивьен?
Валет появился, насвистывая и лукаво стреляя наглыми, масляными от самодовольства глазками. Констанция погладила растревоженную плаванием Капризу:
– Пусть эти евреи воочию узреют построенное нами Царство Давида, пусть убедятся, как они посрамлены и как торжествует истинная вера. Пока стоит земная твердь и кружится небесная сфера, не владеть им ни Землей Воплощения, ни Градом страстей Христовых.
Дорога в Иерусалим, как ей Господом и положено, вела ввысь. Сквозь прозрачный хрусталь небес октябрьское солнце слепило, но уже не палило по-летнему. Тропинку затеняли сосны, рожковые деревья и дубы, а сухой осенний воздух благоухал смолой и полынью. Гнедая Каприза трясла гривой, взбираясь на очередной пригорок, и помахивала хвостом, спускаясь в заросшие ельником вади-овраги. Мечту о пешем паломничестве пришлось забросить: Иудейские горы – самая опасная часть пути. С холмов окрестности охраняют крепости Казаль де-Плен, Торон де-Шевалье и возведенный покойным патриархом Уильямом Малинским Шатель-Арнуль, но даже средь бела дня из-за нависающих над головами скал может раздаться дикий вопль бедуинов, за любым валуном или в придорожной пещере могли затаиться разбойники. Поэтому с флангов группу путешественников – княгиню Антиохии с ее свитой и присоединившихся к ним паломников из Тура – охраняли тамплиеры-сержанты на мощных боевых дестриэ, в кольчугах под черными туниками, с обнаженными мечами в руках. Командовал ими сенешаль Андре де Монбар. Чтобы поспевать за своими защитниками, паломники из всех сил погоняли старых мулов, упрямых ослов и не слушавшихся узды лошаденок. Привалы делали только на огражденных стоянках.
Позади осталась Яффа с домом Симона-кожевника, приютившего апостола Петра, с шумным, грязным, пестрым месивом людей и товаров на венецианском базаре, с укрепленной цитаделью тамплиеров, монастырями и соборами богатого армянского квартала. В первый день пересекли сжатые поля ячменя и сахарного тростника долины Рамлы. За полвека латинского владычества расцвело заброшенное ранее побережье: под защитой франков местные жители проложили дороги, навели мосты, починили древние акведуки, понастроили винодельни и маслобойни, на каждом ручье вздымали радугу лопасти водяных мельниц. Через тридцать три рынка Заморья непрерывной чередой брели груженные караваны из дальних стран, и гаваням не хватало причалов для торговых судов.
– Ибрагим, взгляните, как благоденствуют ваши единоверцы под нашей властью! В исламских землях атабеки и шейхи не перестают разорять земли соседних эмиратов, а у нас даже магометане наслаждаются миром и процветанием.
Но Ибрагиму легче мертвого воскресить, чем отдать должное христианам:
– Не все наслаждаются. Ибн Барзан, правитель Мадждаль Ябы, бросает своих феллахов в тюрьмы, вымогает четыре динара там, где полагается платить один, запрещает читать Коран по пятницам, требует, чтобы правоверные работали в священный день и отрубает ступни ног тем, кто осмеливается перечить.
Правитель Мирабеля Бодуэн Ибелин, сын Барисана и потому прозванный арабами ибн Барзаном, действительно самонадеянный и высокомерный барон и, Бог ему судья, возможно, чрезмерно суров, но весьма огорчительно, что во всем плодоносящем саду Земли Воплощения Ибрагим заметил лишь одно червивое яблоко! Если бы Констанция всех нехристей по одному Ибрагиму мерила, она бы вообразила, что все они – люди самоотверженные и сострадательные! Но Левант последователи ислама завоевали с беспримерной жестокостью. Грануш пересказывала армянские предания, как тюрки-сельджуки при покорении Киликии и Сирии христиан как овец резали, с живых людей кожу сдирали, младенческие головки о камни крошили. А фатимидский халиф аль-Хаким даже усыпальницу Господа в Святом Граде разрушил.
– Мы не брезгуем перенимать ваши умения, мы переняли сохраненную вами мудрость древних, ваши знания в медицине, астрономии, географии, строительстве. Теперь христиане не хуже вас выделывают кожу, куют оружие, наши вилланы выращивают сахарный тростник, апельсины, арбузы и абрикосы. – Перечисляла неоспоримые доводы княгиня, – А вы, чему вы научились у нас?
– Милосердная и справедливая властительница беседует со мной, вислогорбым верблюдом, с терпением, незаслуженным моей глупостью. Гордость, только ущемленная гордость не позволяет нам учиться у победивших нас кафиров, – уныло признался упрямец, уклончиво пряча взгляд.
Старик раздражал неподатливой покорностью. Басурманским феллахам в Утремере живется несравнимо лучше, чем их собратьям под сирийскими Зангидами и египетскими Фатимидами. А паломники, дивящиеся на глиняные дома, укрытые тенью пальм и плодовых деревьев, уверяли, что неверным под властью латинян живется даже лучше, чем добрым христианам в Европе. А уж в сравнении со зверствами оголтелых альмохадов в Иберии, франки и вовсе истые ангелы! Евреев, и тех безропотно терпят, – благодаренье Богу, этих-то в Заморье считанные единицы, – поскольку, что делать, гонители Сына Божьего оказались искусными умельцами в крашении шерсти и в стеклодувном деле. Да разве и сам Ибрагим не предпочел Антиохию Александрии?
Морщинистые щеки ибн Хафеза тряслись в лад поступи мула, нос сокрушенно клевал с каждым упреком, рука с разбегающимися по ней руслами вен терзала растрепанную бороду:
– Вы заслуженно презираете меня, поношенную ветошь. Мне пришлось покинуть возлюбленную свою Аль-Искандарию и поселиться в гостеприимной Антиохии, потому что скончался сын эмира, которого я лечил. Клянусь Аллахом, я сделал все, чтобы спасти мальчика, но зачастую медицина бессильна, а горе отца требовало отмщения. С тех пор, опасаясь его всепроникающего гнева, я скитаюсь среди иноземцев и иноверцев. Боюсь, мне суждено закончить свой земной путь на чужбине, вдали от библиотек и собраний ученых людей.
– О чем же тут сожалеть? Здесь вас не только не преследуют, но и сторицей оплачивают ваши умения.
– Ваша пресветлость совершенно справедливо укоряет своего раба в алчности. Виной всему моя неуемная страсть к учености. Мудрость и знания – это такие удивительные, чудесные, редкостные птицы, которые выживают только в золоченых клетках драгоценных манускриптов и в строках древних пергаментов, за которые приходится платить золотом. – Опять схватился за мочало бороды, как за якорь, способный вытащить из пучины любых сомнений. – Но с неимущих бедняков я ничего не взимаю.
– С неимущих даже я ничего не взимаю. У кого ничего нет, с того и взыскать-то нечего, – резонно заметила Констанция, чтобы врач не возомнил о себе чрезмерно.
Спереди послышались отчаянные женские вопли:
– Господи, спаси и помилуй! Иисусе, да явится воля твоя! Грешные, обреченные, покайтесь!
Ехавшая рядом Изабо фыркнула:
– Опять наша юродивая зашлась.
Это провидице Марго снова явился Спаситель. Паж Вивьен хихикнул:
– Полюбуюсь, пожалуй.
Сердце у Вивьена холодное, не ведающее сострадания, а может, юноша просто слишком молод и глуп, если может забавляться зрелищем одержимой старухи. Впрочем, пилигримы из Тура тоже неуважительно относились к благочестивой Марго.
На сей раз ясновидящая разошлась не на шутку: распростерлась в дорожной пыли, застопорив продвижение всего отряда, хлестала себя по пергаментным щекам, рвала всклокоченные седые пряди и истошно вопила на все холмы Иудеи. Увы, за время совместного странствия паломники привыкли к подобным представлениям, зачерствели сердцами и считали несчастную – и это мнение не скрывали – не столько благословенной праведницей, сколько наказанием Божьим.
Вот и теперь никто из попутчиков не наклонился к ней, ни одна сострадательная душа не подала фляги с водой, ни единый жалостливый человек не придержал ее ослика. Напротив, зловредный Вивьен еще и шуганул глупую скотину, ускакавшую в густые придорожные заросли ядовитой клещевины. Торопившиеся к Господу люди с отвращением наблюдали за припадочной и обменивались раздраженными замечаниями:
– Ну вот, опять полоумная за свое принялась! Сколько можно! Еще неизвестно, кто ее так корчит! Шарлатанка бесстыжая! Может, это и вовсе бес в ней.
Констанция послала к страстотерпице Ибрагима, но едва магометанин приблизился к Марго, та начала задыхаться и биться в судорогах. Ибн Хафез струсил, отошел. Опасно мусульманину иметь дело с поселившимся в латинянке джинном. Постепенно вопли перешли в неразборчивые стенания, бедняжка угомонилась, сержант-тамплиер выловил ей ослика, и нетерпеливые пилигримы, продолжая проклинать рехнувшуюся бабку, возобновили путь туда, где Спаситель принял смертные муки за грешных и слабых.
Изабо с обидой заметила:
– Со мной Иисус Христос почему-то не беседует.
Констанция то же самое подумала, но, как каждый раз, стоило мадам де Бретолио высказать их общую мысль вслух, как тут же суждение оказывалось нелепым.
– Он даже со мной не беседует, с тобой-то Ему с какой стати?
– Мне есть, о чем спросить Его, – ответила та, и Констанции словно шип в грудь вонзился: скончавшиеся младенцы Изабо, боже!
– Святая или больная, а лучшего пробного камня для милосердия ближних не найти, – хихикнул Вивьен, – была бы их воля, бесноватая давно вкусила бы истинного мученичества!
Сплетник с нескрываемым удовольствием пересказал княгине жалобы паломников. Еще в Туре странница сообщила окружающим, что слышит райскую музыку и ей является Иисус Христос, и подробно излагала дарованные ей видения. Эту милость небес, оказанную почему-то невежественной, грубой и простой женщине, богомольцы восприняли с вполне понятной обидой. Не то чтобы они были безжалостными и злыми людьми. Как раз наоборот! Намного достойнее и уважаемее этой тронутой деревенщины Марго, но с ними Спаситель мира почему-то не заговаривал, хоть падре и Господь ведали, что каждый из них – честный бюргер славного города Тура и примерный христианин. Мало того, блаженная молилась с такими криками и стенаниями, что невольно возникало сомнение – а не Сатана ли овладел ею? С какой бы стати поправший смерть Сын Божий снизошел до косматой, вонючей и вредной старушенции, которой брезговали все почтенные люди?
Но мало того, вскоре алчущая святости припадочная принялась искоренять в своих попутчиках их слабости и пороки и неотступно требовать от окружающих покаяния и исправления. Тут уж даже самые кроткие возненавидели старую ведьму.
Первый раз пилигримы пробовали избавиться от блажной в Орлеане: сговорившись, ранним утром удрали с постоялого двора, но к ночи карга настигла их Господним возмездием. В предгорьях Альп сердца паломников окончательно ожесточились, и они выгнали кликушу взашей, но благодаря нанятому проводнику и помощи нечистой силы неукротимая Марго умудрилась, неведомо какими лишениями и усилиями, перебраться через перевал Мон-Сени и, к отчаянию путешественников, нагнала их в Турине. В Венеции озлобленные французы, изнемогшие от ее нескончаемых видений и нестерпимого нрава, намеренно упустили несколько кораблей, ожидая, чтобы юродивая уплыла без них. Но не так-то просто оказалось всеми брошенной, слабой и полоумной собеседнице Агнца Божьего разжиться скарбом, необходимым для дальнего плавания и раздобыть себе местечко на борту. Наконец Марго все же выклянчила уголок на подходящем суденышке. Изнывавшие богомольцы вознесли благодарственные молитвы и поспешно зафрахтовали другой корабль. Пусть плывет себе хоть со всем ангельским чином, главное, чтоб без них.
Однако едва пилигримы обустроились, из очередной беседы с Христом Марго достоверно узнала, что их галера непременно затонет. Ну что оставалось беззащитным перед морской стихией путникам?! Скрежеща зубами и проклиная навязанную Провидением ясновидящую, путешественники, сопровождаемые сердечными напутствиями покинутого капитана, перетащили свои матрасы и клетки с курами на корабль ненавистной духовидицы.
– Долгое плавание со старой каргой в тесном трюме любви к ней не прибавило, – покатывался от смеха Вивьен. Констанция сама с трудом удерживалась от улыбки, но все же заступилась за бедняжку:
– Несчастная за свое благочестие терпит.
Изабо возмутилась:
– Не просто терпит, а намеренно алчет страданий! Надеется купить себе ими Царствие Небесное!
В том, что никакая Марго не провидица, а злобная притворщица, мадам де Бретолио убедилась, когда та напрямик высказала ей свое и Иисуса Христа мнение о женщинах, которые даже на богомолье выглядят блудницами вавилонскими. Тут, конечно, Марго судила суровее Исайи и Иеремии, но Изабо и впрямь, даже в темном плаще и под капюшоном, умудрялась вызывать у мужчин греховные мысли. Что-то в ней было неотразимое для мужского сладострастия, Констанции оставалось только жалеть подругу.
– Не старушенция – мученица, а те, кому приходится рядом с ней ехать, – скривил хорошенькую мордашку Вивьен.
– Мы терпим, а в святые она лезет! – поддакнула Изабо.
Действительно, Марго носила власяницу и не мылась. Возможно, так она больше нравилась ее создателю, но остальным приходилось туго. Корабль паломников, как назло, долго мотало по осеннему морю, и с утрени до комплетория кликуша неутомимо обличала пороки соседей по трюму и расписывала предстоящие им загробные кары. К концу пути эти добрые люди, предпринявшие ради спасения своей души тяжкое, дорогостоящее и опасное путешествие в Град Небесный, безнадежно погрязли в ненависти к безупречной праведнице.
Но гаже всех вел себя Вивьен. Улучив момент, подбирался к ослику Марго и, напирая конем на скотинку, сталкивал его с узкой тропинки. Наездница вцеплялась в шею животного и визгливо ругалась, а проказник гоготал во все горло. Один раз старуха таки полетела кубарем в канаву. Довольный паж с невинным видом проехал мимо недвижно валявшейся в пыли женщины, и все кающиеся невозмутимо протрусили вслед за ним. Только молоденький сержант-тамплиер подоспел к Марго быстрее Констанции. Бедняжка оказалась цела, хоть Бог ее знает, в чем там душа держалась: сквозь растрепанные жидкие космы просвечивала серая кожа головы, морщинистую шею изранила грубая власяница, босые ноги в кровь стерлись о колючие ослиные бока. На сей раз Марго уже не жаловалась и не ругалась, только плакала, утирая злые слезы трясущимися, тощими как мощи, руками. Констанцию пронзила невыносимая жалость. Но старуха оказалась неисправимой упрямицей: едва сержант взгромоздил ее обратно на ослика, как Марго вновь разразилась угрозами и проклятиями.
– Еще раз привяжешься к святой женщине, пойдешь пешком обратно в Яффу, так и знай, – припугнула Констанция Вивьена.
– Ничего себе святая! Святые разве так сквернословят? – возмутился негодник.
Изабо передернула плечами:
– Это она от страха и бессилия бесится. Чем еще такой былинке защититься? С обиды на людей и возомнила, что с ней Иисус беседует. Без этого кто бы на нее вообще внимание обратил?
Констанция не знала, кому верить: люди так презирали и обижали Марго, что Христос вполне мог пожалеть и утешить блажную.
– Хвала Господу, что она бессильна, не то нам всем бы круто пришлось, – обиженно огрызнулся валет.
Улучив момент, Констанция попросила провидицу замолвить за нее доброе слово перед заступником рода человеческого на тот случай, если Господь все еще вменяет ей в вину гибель Пуатье и провал крестового похода Людовика VII. Грануш и Изабо отмахивались от ее покаяний, да и отец Мартин и даже его высокопреосвященство единогласно уверяли, что все грехи княгини давно замолены и отпущены, но хотелось бы услышать подтверждения прямиком от собеседницы Вседержителя. Ведь даже патриарху Лиможскому Спаситель не являлся, не говоря уж о Констанции, хотя она была не только страждущей, крайне нуждавшейся в Его попечении, но и властительницей Антиохии.
С трепетом ждала ответа благочестивой женщины, в глубине души не сомневаясь в несомненном небесном милосердии: ведь кто, как не Констанция, защищал ясновидящую от поганца Вивьена?! Старуха долго жевала впавшим ртом, словно слова утешения предварительно приходилось смягчить, наконец выплюнула:
– Искала бы ты, княгиня, себе прощения, так не за женихом бы к королевскому двору мчалась, а в монастырь бы постриглась.
Несуразные слова неблагодарной Марго вонзились в Констанцию пригоршней колкого щебня. Она выпрямилась в седле:
– Что ты знаешь об обязанностях и предназначении властительницы Антиохии?! Это тебе всего-то и печали, что о покаянии заботиться, а на мне – долг правительницы. Бог избрал мне мое место, Он мне уделом не монашеский затвор предоставил, а трон Антиохии, и у меня нет права скинуть эту ношу. Я поклялась об Утремере заботиться, спасать от сарацин Землю Воплощения Христова, а не литании распевать! О нас, тех, кто защищает Его Гроб, Его землю, Всевышний сам молится!
Дернула поводьями так, что Каприза всхрапнула, но от Марго-репейника не отцепишься, старуха босыми пятками пинала брюхо ослика и неотвязно шипела сзади:
– Думаешь, Господь тебе за твои заботы обязан? Воображаешь себя сторожем на башнях его? А сама задумала посадить на престол града апостола Петра, святого Игнатия и святого Андрея разбойника жестокого, неразумного и неистового!
Констанция испугалась. Старуха, конечно, умалишенная, но вдруг она все-таки видит будущее? Обычным людям откровений не бывает, именно юродивые и пророчат истину. Изабо вклинилась на своей лошадке между княгиней и Марго:
– Не обращайте внимания, ваша светлость. Полоумная считает, один Иисус Христос женщинам в женихи годен.
Нет, Христос в князья Антиохии никак не годился. А если княгиня задумает снова выйти замуж, она выберет только самого достойного претендента, способного защитить ее княжество и весь Утремер. Достаточно она совершила тяжких и неисправимых ошибок. Твердое решение успокоило смятенную душу, но больше Констанция не просила полоумную бабку посредничать между собой и небесами.
Копыта Капризы мерно ступали по выбитой в известняке тропинке, скрипела подпруга, свистели пичуги в ветвях смоковниц и сикомор.
– Изабо, а ведь Дева Мария с младенцем этим же путем ехала, эти же холмы рассматривала, даже ослик ее о те же камни спотыкался!
– Да, – Изабо растроганно вдохнула всей грудью. – Навоз тут, и тот свежий.
Впереди бок о бок скакали Вивьен и сержант тамплиеров, тот, который заботился о Марго. Сержант запальчиво объяснял пажу звонким мальчишеским голосом:
– Бедный рыцарь Христа и Соломонова Храма не отступается от боя, если врагов меньше, чем трое на одного!
Вивьен не решился бы сразиться даже с одиноким вилланом, но болтать – не драться, пустомеля охотно принялся поддевать юношу:
– А я в монахи не гожусь. Мне и бедность с послушанием плохо даются, а уж с целомудрием я точно не в ладах!
Констанция смутилась и разозлилась. Она-то считала шалопая милым, невинным и безобидным забиякой, робко и нежно поклоняющимся ей, своей госпоже! Ерошила ему волосы, по щеке трепала! Сержанту, кажется, развязность собеседника тоже не понравилась, он сухо ответил:
– Вы, светское рыцарство, погрязли в пороках.
– В каких это пороках мы погрязли? – Умолчал лгун бесстыжий, что в рыцари годился еще меньше, чем в монахи. Но в пороках погряз, это верно. В Антиохии паршивец слезно жаловался княгине на безденежье, упросил госпожу взять на себя его путевые расходы, а теперь на его бедре позвякивал кошель-омоньер, неотличимый от того, из которого платил таможеннику кордовский еврей. – Это вы, тамплиеры, дали обет нищеты, а сами накопили несметные богатства и не признаете над собой ни власти короля, ни архиепископов! Всем известно, что ваш орден зазывает в свои ряды убийц и даже отлученных от церкви грешников!
Сержант отмалчивался, ничего нового в этих обвинениях не было, но его молчание только раззадорило ехидного Вивьена:
– А признайся, почему вам, монахам, велено спать одетыми, обутыми и с поясом, а в дормиториях до утра должны гореть светильники? Что, в темноте дьявол сильнее, а?
Тамплиер не выдержал:
– Я проучу тебя, щенок, как оскорблять храмовников!
Ударом кулака сбросил валета с седла на землю, сам спрыгнул с коня и, вытащив меч из ножен, двинулся на пажа. Вивьен завизжал, метнулся за чужие спины, сержант погнался за ним, размахивая оружием. Процессия застопорилась, все с криками бросились врассыпную.
Разметая толпу, в облаке белой мантии с красными крестами к драчунам несся на огромном дестриэ сенешаль ордена тамплиеров Андре де Монбар.
– Симон Ришар! – рявкнул он на сержанта. Тот, словно очнувшись, тут же замер. – Брось меч, ты недостоин его!
Сержант беспрекословно подчинился. Монбар сдернул с луки седла веревку, завязал на ее конце петлю и двинул своего скакуна на пятящегося Симона.
– Остановитесь! Прошу вас, остановитесь! – Грозный вид рыцаря испугал Констанцию. – Сенешаль, сержант не виноват, клянусь вам. Я своими ушами слышала, как мой валет подначивал его. Сержант только вступился за честь ордена!
Тамплиер даже не глянул на женщину, не полагалось ему. Нагнулся с седла к Симону, подхватил за ворот и поволок покорного, как тряпичная кукла, юношу к раскидистому дубу. Паломники растерянно взирали на готовящуюся казнь, братья ордена оставались невозмутимыми, одна лишь Изабо пронзительно визжала, но даже это не останавливало сенешаля. Констанция беспомощно огляделась:
– Вивьен, а ну признавайся, как было!
Бессовестный трус только жалко сморщился и спрятался в толпе. А Андре де Монбар уже столкнул беднягу с петлей на шее в дорожную пыль и перекинул веревку через огромную ветвь. Не раздумывая, Констанция пришпорила Капризу и вклинилась между палачом и жертвой. Дестриэ храмовника захрапел, попятился перед гарцевавшей кобылой, но с каждым его шагом веревка натягивалась все туже, приподнимая над землей барахтающегося, вцепившегося обеими руками в петлю, хрипящего Симона. Еще пара шагов – и юноша повиснет в воздухе. От воплей Изабо застлало уши.
Послышался дробный конский топот, толпа расступилась как Чермное море, и из нее, сотрясая землю, вылетел грузный шевалье. Подскакал к натянутой веревке, выхватил меч и одним махом перерубил ее. Симон рухнул на землю, покатился по склону, поспешно уполз в густые заросли мирта и лавра. Возмущенный тамплиер крякнул, занес меч, но перед ним еще мешкала Каприза со своей растерянной, испуганной всадницей. Отъехать Констанция уже не успевала, она только невольно прикрылась руками от страшно сверкавшего лезвия сенешаля. Меч в последний миг замер над ее головой, описал полукруг и медленно, неохотно, вернулся в ножны на бедре хозяина. Тамплиер с презрительной усмешкой оглядел заступницу, повернул жеребца и, не обращая больше ни на кого внимания, вернулся на свое место в арьергарде процессии. Констанция лепетала вслед какие-то оправдания, но Андре де Монбар даже не обернулся.
Оцепеневшие зеваки с облегчением затараторили, принялись пересказывать друг другу только что случившееся. Истошно запричитала Марго, не любившая терять всеобщее внимание. Изабо приосанилась, наградила неведомого смелого спасителя милостивой улыбкой:
– Шевалье, вы восхитили нас!
Рыцарь поспешно сорвал шлем с подшлемником, на солнце засверкала бритая башка д’Огиля:
– Ваша светлость, клянусь на завязках своей обуви, да ради вас и мадам де Бретолио Бартоломео дракону шею перерубит, не только пеньковую веревку! Ха-ха!
Изабо сморщилась, словно кислого молока хлебнула. Забытый всеми Симон вскарабкался на своего коня и, опустив голову, вернулся в ряды сержантов. А Вивьен, негодяй, присмирел ненадолго: не прошло и часа, и до Констанции опять донесся его самодовольный дискант, вновь самозабвенно плетущий хвастливые враки.
В шестидесяти стадиях от Иерусалима, в глубине долины меж тремя холмами, в Эммаусе, месте встречи Христа с апостолами, передохнули, испили воды из целебного источника в крипте недавно возведенного бенедиктинского храма. Византийские мастера еще расписывали стены базилики фресками, свежие краски сияли золотом, охрой, ультрамарином, суриком и лазуритом. Миновали последнюю охраняющую дорогу крепость – построенную Фульком Аква Беллу, возвышающуюся над дубами и фисташковыми деревьями. Утихли разговоры, путники устало тряслись в седлах, с нетерпением ожидая конца путешествия, сулившего встречу с Божественным и избавление от несносной Марго. Ломило спину, затекли ноги. Лошадь, с усилием взбиравшаяся на холм из глубокой лощины – шаг, еще шаг, – пряла ушами и фыркала, Констанция не выдержала, дала шенкеля, Каприза вскинула морду, заржала и рысью вынесла на гребень холма.
И внезапный вид Града Мученичества выдернул душу из житейских сует, как ветер вырывает платок из рук, и вознес, трепещущую, смятенную и потрясенную, в небесную высь.
В пыльной дымке сиреневых, бежевых, пепельных, лиловых и янтарных холмов лежал под кобальтовой синевой волшебный Иерусалим, освещенный теплым золотом заката, похожий на выцветший, но дивный и бесценный гобелен.
Пуп Земли, Сердце Мира, зеница ока каждого христианина мог уместиться в горсти. В светло-песчаных стенах, окруженных широким рвом, виднелись ворота Давида, дивные и манящие, подобные райским. Над ними возвышалась высоченная квадратная Башня Давида, знакомая с королевских монет, а справа – гигантская Башня Танкреда. А внутри стен овцами в загоне теснились золотистые каменные дома с террасами, с плоскими крышами или сводчатыми кровлями, возносились колокольни, и три серебристых купола невообразимых размеров цепляли к небу город, избранный Господом для пребывания там имени Его.
Так с Монт Жуа – Горы Радости – полвека назад впервые увидели место страстей Христовых Готфрид Бульонский, Сен-Жиль Тулузский и Танкред Тарентский. Волнение паломников передалось даже привычным к виду Святого Города тамплиерам.
Констанция на коленях твердила «Te Deum», и каждое слово обретало новый, незамутненный привычкой смысл. Рядом взволнованно сопела Изабо, предавалась очередному взрыву безумия Марго. Смотри, Марго, смотри и знай, что если бы недостойные и порочные жители Заморья замаливали по монастырям свои грехи вместо того, чтобы защищать эту землю, то не только Гроб Спасителя по-прежнему пребывал бы в руках язычников, но и Тур твой, Марго, да и вся прочая милая Франция с королевой вашей, к рождению сыновей неспособной, уже оказались бы под пятой ненасытных сарацин! Но не время сводить счеты со злобной старухой, когда сердце переполнено умилением и гордостью за франков. Чудеса свершаются и ради неблагодарных.
Ибн Хафез и тот скрючился на молельном коврике.
– Ибрагим, я вижу, даже магометане принуждены поклоняться Иерусалиму!
– Ваша сиятельность, одна молитва в Аль-Кудсе стоит тысячи молитв, совершенных в других местах, и каждый, служащий Аллаху, обязан посетить его святыни! Вот тот самый большой купол – это Масджид Куббат ас-Сахра. Сейчас он покрыт свинцом, но в лучшие… в прежние времена был из позолоченной латуни и сверкал так, что глазам было больно. Он возведен над скалой, с которой Мухаммед, Господин Пророков, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на небо. А тот, серебряный, поодаль – это Масджид Аль-Акса, куда благословенный Аллахом Пророк перенесся из Мекки.
– Все ваши молитвы и дольки чеснока не стоят! И вознесение это придумано вами, лишь бы оправдать захват Иерусалима! – грубо оборвал его Андре де Монбар. – На этом месте еще царь Соломон Храм построил! Купол справа – это Храм Вознесения Господня, на месте Голгофы королевой Мелисендой возведен, вон тот огромный – церковь августинцев Темплум Домини, а самый дальний – Темплум Соломонис. На этом месте со времен Юстиниана была Базилика Непорочной Богородицы, это ваши халифы вместо нее мечеть построили. Теперь это дворец нашего ордена. Басурмане от этих храмов даже тень не получат.
Ибрагим промокнул глаза рукавом:
– Да, ныне в нашей святыне конюшни храмовников.
Заблудшая, обреченная душа ибн Хафеза!
– В Мекке и Медине ваши святыни, – отрезал суровый рыцарь Христа. – Сами-то туда христиан под страхом смерти не пускаете. А Град Искупления навеки наш. Не нужно Иерусалиму почитание обрезанных собак. Чем больше этого почитания, тем больше крови за него прольется.
У ворот Давида располагались стойла и таможня. На склоне холма, по которому ступал Искупитель рода человеческого, глупые козы звенели колокольчиками и щипали траву, нахально растущую из благословенной земли. Босоногий мальчишка кидал в коз камешки. Как ни в чем не бывало лаяла самая обычная собака. Иерусалим был подобен Писанию – Благая Весть потрясала и спасала душу, и вместе с тем город был прост и обыден, как просты и обыденны пергамент и чернила, увековечивающие Божественную истину. Все в этом святом месте оказалось до смущения земным и похожим на знакомое с детства. Так, наверное, праведник озирает рай.
В Храме Воскресения Констанция опустилась коленями на холодный мрамор, закрывавший усыпальницу Господа, и, не смея взглянуть ввысь, замирая от ожидания чуда, воззвала:
– Господи, это раба Твоя, Констанция, дочь погибшего ради Тебя Боэмунда Антиохийского, внучка славного короля Иерусалима Бодуэна II, супруга Раймонда де Пуатье, отдавшего за Тебя жизнь…
Но слышался только надтреснутый голос Марго, а потом и ее причитания заглушило прекрасное многоголосие греческого хора. Когда крестоносцы отвоевали Иерусалим, первым делом они, конечно, восстановили единственно истинную веру и забрали у греческих схизматиков ключи от усыпальницы Господа, но в тот же год происками византийских попов на Пасху не снизошел Благодатный огонь, и пришлось уступить коварным ромеям алтарь в соборе. А армянам и яковитам достались старые часовни на западной стороне южного двора. Оставалось надеяться, что Бог сам смотрит и судит: кто – правоверные латинянине, а кто – еретики, исказившие символ веры и отрицающие непогрешимость римского понтифика.
Паломники возложили свой крест на груду прочих крестов на Голгофу. Княгиня старательно облобызала все алтари под несметными лампадами, обошла все часовни, помолилась у огромной серебряной статуи Иисуса Христа, у Животворящего Креста, прочитала семь покаянных псалмов у камня, преданно хранившего капли крови Спасителя, спустилась в крипту Святой Елены и туда, где равноапостольная нашла Животворящий Крест. Не было на земле места, более приближенного к раю, чем эта темная, пахнущая плесенью часовня. Помолившись здесь, Констанция была прощена и спасена. Сквозь горе потерь и прозябание последних лет светлым родником пробилась и потекла надежда.
Досаждало лишь, что сладчайший Иисус по-прежнему являлся и отвечал лишь настырной Марго. Впрочем, Констанция не упрекала Спасителя. Никому на свете эта одинокая старуха не была нужна, не мог же и Он покинуть ее.
На стенах, полу и даже на новых мозаиках блестели свежие царапины – выбитые кресты, даты, имена, гербы паломников. По просьбе княгини Бартоломео отколол от гробницы Спасителя малюсенький осколочек, а на портале собора старательно выскоблил кинжалом герб Антиохии. Теперь Констанция навеки под охраной реликвий, а память о ее паломничестве пребудет высеченной в камне во веки веков.
При королевском дворе вдову убиенного мученика князя Антиохийского принимали как царственную особу. Бароны Утремера – от всесильного коннетабля Менассе д’Иержа до многочисленных и горластых, как бедуинское племя, Ибелинов – предпочли забыть прошлую размолвку с павшим геройской смертью Пуатье. В честь княгини Антиохии устраивали пиры и турниры, ее сажали вровень с королевской семьей, дамы наперебой сочувствовали молодой вдове, матери трех сирот. Многих из присутствующих Констанция знала: кого-то помнила еще по встрече в Акре, кто-то гостил или служил в княжестве, некоторые, как шевалье Рейнальд де Шатильон, прибыли в Антиохию вместе с Людовиком и остались на Земле Воплощения, следуя примеру отказавшегося сойти с Креста Спасителя.
Констанции не терпелось увидеть претендентов на ее руку, но от вида первого из них, графа Суассонского, по общему мнению – весьма достойного барона, застыдилась своих глупых мечтаний. Граф пожирал ее выпученными глазищами и осаждал владетельную наследницу по всем правилам куртуазной науки. Только Констанции было бы легче после нектара и амброзии перейти на плесневелый хлеб, нежели после красавца Пуатье лечь в постель с жабой-Суассоном. Кузену Бодуэну и тетке Мелисенде пришлось бы волочь ее к венцу связанной.
Впрочем, Суассон оказался далеко не единственным воздыхателем. Многие безземельные бароны намеревались попытать счастья на матримониальном ристалище и при приближении Констанции вскидывались, словно боевой конь при звуке рожка. Рыцари наперегонки бросались угождать ей и пели безудержные дифирамбы внезапно обнаруженным достоинствам властительницы Антиохии. Так, наверное, постоянно чувствовала себя Алиенор, но Констанция – впервые. Даже вокруг развязной Агнес де Куртене столько рыцарей не толпилось. Хотя толстый семнадцатилетний Амальрик, граф Яффы и Аскалона, младший брат короля, не отходил от рыжеволосой красавицы и смотрел на нее с таким обожанием, что людям неловко становилось.
А вот Рейнальд де Шатильон нежными признаниями не преследовал, не вздыхал, кубка за Констанцию не поднимал, цветов и подарков не дарил, отвечал нехотя и нравиться не старался. Но именно его она невольно искала взглядом. Не одна она. Многие дамы в присутствии светлоглазого, надменного красавца с ямкой на подбородке, с густыми темными бровями и хрипловатым голосом краснели, сбивались и глупо хихикали. Но Шатильон вел себя с прелестницами равнодушно, а они одновременно и побаивались его, и жалели, и восхищались им. Констанция с досадой заметила, что рядом с шевалье и сама старалась вытянуться, казаться выше и стройнее. К месту и не к месту смеялась грудным смехом, тайком оглядываясь на него, часто меняла наряды и обильно душилась соблазнительным аравийским ароматом. Он привлекал не только неотразимым обликом, он казался загадочным и необычным: то мрачным, то отчаянно веселым, и даже когда держал себя невозмутимо и спокойно, спокойствие его было спокойствием натянутого до отказа лука, вставшего на дыбы жеребца, рвущего причальный канат корабля. До боли хотелось, чтобы, дав себе волю, он полетел именно к ней.
Однако просить Шатильона сопровождать ее по святым местам она бы никогда не решилась. Это уж шальная Изабо подстроила. С тех пор, как король начал благоволить к мадам де Бретолио, неугомонная вертихвостка похорошела, помолодела, и фонтан ее жизнелюбия вновь забил до небес. Впрочем, Констанция больше не корила ее, горбатого могила исправит.
За полвека владения Иерусалимом латиняне восстановили все разрушенные неверными святыни. На гигантский купол Темплум Домини водрузили крест и превратили его в церковь августинцев. Огромную скалу внутри, ту самую, на которой Иакову приснилась соединяющая землю и небеса лестница с ангелами, облицевали мраморными плитами и огородили железной кованой решеткой, а у входа воздвигли алтарь. Правда, мраморные стены по-прежнему украшали голубые мозаики с вьющимися по ним листовыми орнаментами и золотые и серебряные надписи, похожие на корабельные реи в бушующем море. Некоторые шептали, что это чуть ли не оставшиеся от халифов сунны Корана, некоторые утверждали, что здание было построено византийцами, а люди знающие доказывали, что этот прекрасный храм и был остатками разрушенного халдеями Храма Иерусалимского. Одно было несомненно – Святилище Господне находилось именно тут.
Тем не менее, Соломоновым Храмом прозывался соседний дворец, увенчанный серебряным куполом. До недавнего времени он служил королевской резиденцией, а ныне его занимали тамплиеры, оттого прозванные бедными рыцарями Христа и Соломонова Храма. Царь Соломон построил под зданием необозримые конюшни, в которых арочные своды поддерживали столбы из гигантских камней. В них храмовники держали тысячи боевых коней. А в самом помещении, весьма обветшалом, хранили оружие, одежду, еду, запасы зерна. Нашлось внутри место и церкви, и солярию, и термам. Знатным гостям-сарацинам позволяли молиться в отведенном для них приделе, хоть это и возмущало порой пилигримов, не ведавших терпимых обычаев Заморья.
С орденом храмовников соперничали братья-монахи ордена госпитальеров, они же иоанниты. В огромной зале их лазарета могли уместиться две тысячи страждущих. Даже Ибрагим поразился, узнав, что четыре доктора два раза в день обходили всех пациентов, и каждый из больных имел не только чистую простыню, но и сапоги – дойти до отхожего места, а роженицам выдавали колыбели, чтобы ни одна из них не заспала дитя. Констанция пожертвовала госпиталю две тысячи локтей полотна.
Каждый день сострадательные братья-госпитальеры кормили также две тысячи бедняков, прислуживая недужным с ревностностью и преданностью, словно знатным сеньорам. Заботились они и о беспризорных детях, которых в Иерусалиме было больше, чем ангелов в раю. Сравниться с ними в самоотверженности мог лишь орден святого Лазаря, ухаживающий за прокаженными в лепрозории за воротами святого Стефана.
Ордена рыцарей-монахов, воплощавшие воинствующее милосердие христианства, достигли в Заморье невиданной мощи: одни лишь госпитальеры владели в Латинском королевстве семью крепостями и ста сорока поселениями. Но прав был Вивьен, обвиняя братьев в непослушании архиепископам: и тамплиеры, и госпитальеры признавали только капитулы собственных орденов да папу римского, а с патриархом Иерусалима Фульхерием Ангулемским не ладили. Стоило святому отцу начать проповедь в соседнем Храме Воскресения Христова, иоанниты принимались оглушительно бить в свои колокола. До того дошла вражда, что однажды они ворвались в Усыпальницу Господню и стреляли в ней из луков, уподобившись Навуходоносору, разрушителю Храма Соломонова.
Тесно застроился Иерусалим, замкнутый в двойные стены с башнями над пятью главными вратами и со множеством бастионов. Тридцать тысяч жителей обрели себе в нем место, вдвое больше, чем в Акре или Тире, и каждому нашлось в нем место. Глухие каменные ограды монастырей тонули в тени скорбных кипарисов и разметавшихся крон угрюмых сосен, узкие, кривые, карабкающиеся вверх и скользящие вниз улочки, по которым не могла проехать телега, куда никогда не падал луч света, где в жаркий полдень пробирал озноб и звонкое эхо шагов металось меж сплошных стен, выводили на раскаленные, слепящие паперти. Из темноты соборных дверей выплескивались гулкие молебны, текли благовония и ладанный дым, оглушал колокольный звон и перегуд молитв пяти дюжин иерусалимских церквей, базилик и часовен. Их до отказа заполняли паломники из всех уголков Европы, отличавшиеся от суетного городского люда просветленными, растроганными лицами. Коленопреклоненные странники с умилением разглядывали знакомые по Писанию места и слушали толкования проводников и драгоманов, пояснявших увиденное на родных им наречиях.
Копейщикам княгини приходилось щитами расталкивать любопытных. Городская толпа приветствовала вдову героя, погибшего в бою с сарацинами, женщины крестили бедняжку, старухи утирали глаза. Констанция велела Вивьену одаривать нищих, и вскоре княжеский кортеж сопровождали все убогие столицы.
Дом сладчайшей Девы Марии стоял неподалеку от дворца Пилата, от дворца Ирода было рукой подать до жилища Симона Фарисея. Констанция молилась в армянском монастыре рядом с резиденцией Первосвященника Каиафы, по дороге на Масличную гору пила из источника, в котором Дева Мария стирала пеленки божественного младенца, умывалась из Силоамской купели той же водой, которой Иисус врачевал болезненных, отдыхала под оливами, в тени которых сидел Спаситель. Повторяя псалмы, брела по Его следам в Гефсиманию, к месту трибунала Каиафы, на Оливьерскую гору с отпечатком ноги Иисусовой. Лила горькие слезы на Виа Долоросе, целовала следы Господа, благоговейно касалась капель Его крови на камнях, и душа ее облегчалась нестерпимым состраданием и любовью.
На Сионской горе, у Храма Последней Вечери, бродили, как одиннадцать веков назад, куры и петухи. Под деревом Иуды Искариота даже трава не росла, и Констанция обошла его широким кругом, а бесшабашный Шатильон невозмутимо топтал корневища копытами своего Баярда, и голые ветви задевали его по голове и плечам.
Королева Мелисенда успела понастроить в Иерусалиме более царя Соломона. Храм Воскресения Христова из руин превратила в самый прекрасный собор Латинского Востока, возвела великолепную Базилику святой Анны. Недавно достроенный королевский дворец украшали мраморные портики, стены покрывали навощенные фрески, в садах росли апельсиновые и гранатовые деревья, пальмы и мирты, журчали фонтаны. Дочь армянской принцессы Мелисенда покровительствовала возведению нового армянского кафедрального собора святого Иакова, благоволила к яковитам, даже греческое аббатство святого Сабы одарила деньгами и землей, потому что худший из христиан предпочтительнее лучших из басурман, а в королевстве и от худших из басурман не удалось избавиться. По соседству с Башней Давида ютились даже две сотни евреев, единственных из их недостойного племени, которым было дозволено проживать в Граде Христовом. Король отдал им на откуп красильный дом, и никому другому не разрешалось в Иерусалиме заниматься крашением тканей. Ибрагим разузнал у них, что знакомый ему еврей Иегуда Галеви до Иерушалаима все же добрел, но едва принялся лобызать камни, как его затоптал насмерть сарацинский всадник. Таков, значит, был ответ Господа на безумные чаяния этого обреченного народа возвратиться в Сион.
Три рынка выстроила Мелисенда в Иерусалиме, на самом большом из них, крытом, только хлебных лавок имелось три дюжины и бесконечно тянулись ряды рыбников и мясников. Вокруг Храма Воскрешения Господня торговали золотых дел мастера, в Патриаршем квартале, рядом с Церковью святого Георгия, вонял и шумел свиной рынок, у ворот Давида продавали зерно и скотину. Под портиками у скобяных, суконных, оружейных и ювелирных лавок громоздились тюки тканей, связки свечей, башни кастрюль, ковры, сундуки, кальяны, седла, клетки с птицами. В узких переулках торговали снадобьями, благовониями, ладаном, экстрактами растений и цветов, амброй, толчеными мумиями, сушеными скарабеями, драконьей кровью, целебными красными камнями киновари, липкими смолами и гашишем. Взметали пыль босые ноги августинцев, мелькали темные одеяния бенедиктинок, сверкали на солнце белые клобуки картезианцев, отбрасывали мрачную тень черные скапулярии цистерцианцев. Повсюду толпились и толкались яковиты, абиссинцы, грузины, марониты, сирийцы – люди всех цветов, настолько странные видом, что брало сомнение: да люди ли они?
Прямо на прохожих с громкими криками «Посторонись! Дирбаллак!» катили громыхающие тачки мальчишки-подмастерья. Короткобородый сириец в пестром халате оттаскивал в сторону груженного корзинами с виноградом ослика, прижимались к стенам замотанные в чадру бедуинки с узлами на головах, не уступала дороги франкская дама с открытым дерзким взглядам лицом, слал вослед ругательства гладко выбритый рыцарь. Спешили по крытому Кардо худые бородатые греки в длинных далматиках со свертками рукописей под мышками, брел еретик-копт, смахивающий на ходячую мумию в белом хлопковом одеянии. Чернокожие рабы-суданцы с лоснящейся кожей вели верблюда жирного египетского купца в ярких шелках. Заносчивый тамплиер в белой мантии с алым крестом раздвигал толпу грудью жеребца. Тесные проходы загораживали менялы и нищие; зазывал голодных паломников разносчик, щедро посыпая пряным заатаром хрустящие, выпеченные в виде обода иерусалимские булки; на улице, торговавшей готовыми обедами, стоял чад от вращающихся на вертелах кусков баранины, шипела на углях мешанина куриных почек, пупков и сердец. Тошнотворная вонь рыбьего жира и тухлой требухи в полной мере оправдывала название места: Малькисин – Скверная кухня.
Иерусалим оказался схож со смертным человеком: в нем таилась божественная душа и его обременяло грешное тело. Небесный Иерусалим был городом из откровений Иоанна, обителью Господней – Вратами Небесного царства на Земле, со стенами, украшенными драгоценными камнями, с жемчужными воротами, с мощенными золотом и серебром улицами, где не было нужды ни в солнце, ни в луне, потому что его освещала Господня слава, в нем текла жизненная влага и цвело Древо Жизни.
Но земной Иерусалим, столица Латинского королевства, кишел грязью и пороками. В граде откровений и упований, как в любом другом, в узких переулках неосторожных прохожих поджидали грабители, постыдные вертепы завлекали развратников, простаков облапошивали мошенники и обчищали воришки, побирались нищие, хватали за полу покрытые коростой и паршой калеки, обнажались продажные девки, слышались грубые крики и ругань. Даже Пуп Земли не мог существовать без бочаров, портных и стекольщиков, без корзин, подков и гвоздей, как не мог мир Господень устоять без суровых рыцарей.
В воздухе роились осенние мухи, над узкими улицами и тесными рыночными рядами витал смрад, сновали злые бродячие псы, рыскали по грудам мусора тощие, наглые коты, по мощеным мостовым из лавок кожевенников и мыловаров стекали вонючие потоки, выплескивались помои, которым некуда было деваться, потому что не было тут ни моря, ни быстроводной реки.
Но больше воды жаждала Констанция бесценных реликвий.
Сколько бы денье не просили за волос святой Варвары или за каплю молока Богородицы, княгиня платила, не торгуясь. Разумеется, приобретала лишь те священные предметы, истинность которых была заверена сертификатом патриархата. Торговля поддельными мощами стала для многих мошенников настолько доходным промыслом, что сложить бы все щепки от Животворящего Креста – корабль бы получился, а то и целый флот. С каждым днем склад подлинных реликвий в покоях Констанции становился все выше. В Антиохии бесценные останки обретут достойное место в раках замковой часовни, а молоко Богородицы Констанция, как полагается, разведет водой и напоит им своих крошек.
На слепящем солнце Иерусалима выдохлась вдовья тоска, святые места врачевали сердце, каждый день нес радость и исцеление души, упоение и незабываемое счастье соприкосновения с божественным. Новые впечатления и люди окончательно застили прошлое, а войны севера стали казаться далекими и невзаправдашними, как зимние дожди летом. Констанция оглядывалась на следовавшего за ней шевалье Шатильона и ей хотелось пустить Капризу вскачь.
У Сионских ворот Констанции нагло поклонился и что-то прокричал подпивший солдат, и тотчас Рейнальд налетел на нахала конем, придавил его к стене и треснул мечом плашмя. У княгини от неожиданности и радости жар испепелил щеки. Хотела отчитать рыцаря за излишнюю суровость, но заметила стиснутые челюсти и бешеные глаза и поостереглась.
– Ваша светлость, – шепнула Изабо, – отошлите вы этого Шатильона подальше. Не доведет это до добра. Он опасен для мужчин, губителен для женщин, и вам вовсе не пара младший сын мелкопоместного сеньора. Он во Франции коня бы не прокормил.
Констанция отмахнулась, ей море было по колено:
– Я не конь, сама решу, кто мне пара.
Королева Мелисенда словно услышала, призвала племянницу в свои покои в Башне Давида.
Камни Башни были сбиты свинцовыми скрепами, окруженный рвом фундамент покоился на глыбах времен царства Давида, двести крутых ступеней вели наверх. Когда полвека назад в этой мощной цитадели укрылись последние сарацинские и еврейские защитники Иерусалима, Танкреду пришлось договориться с ними и оставить их в живых, хотя всех прочих неверных объятые благочестивым рвением победители пожгли и вырезали. Под высокими сводами слышался орлиный клекот, в арках мелькали летучие мыши-вампиры. В темной восьмиугольной зале со сводчатым потолком гулко отдавались шаги, сквозняки тушили факелы. Как в детстве, вспотел лоб и похолодели руки.
Черная, чуть не монашеская хламида с длинными рукавами свисала с прямых плеч королевы, голову и шею плотно обхватывала повязка, на плоской груди единственным украшением лежала ладанка с бесценным волосом Спасителя. Мелисенда казалась святой с византийской иконы. Подняла племянницу из поклона, внимательно оглядела, поцеловала в лоб, подвела к пяльцам. Придворная дама протянула иглы с уже вдетыми шелковыми нитями. Мелисенда вышивала Иисусов нимб, а Констанции выпало расшивать землю под ногами Спасителя.
– Дитя мое! Последний раз я видела вас… когда? В Сен-Жан д’Акре, сдается. Более десяти лет тому назад, не так ли? Тогда еще были живы наши незабвенные Пуатье и Фульк. Вы были такой юной, а мой Бодуэн и подавно был еще ребенком.
– Ваше величество, с тех пор так много всего стряслось, – Констанция замолчала, справляясь под пристальным взглядом тетки с подкатившим к горлу рыданием. Преодолела спазм и уже веселее добавила: – Зато Бодуэн вырос в замечательного рыцаря и выказывает все признаки великого короля.
– Как это он их выказывает? – Вернувшаяся к рукоделию Мелисенда впилась иглой в глаз римскому солдату. – Ну конечно, дай Бог, будем надеяться, что он станет таковым, когда Господь заберет меня к себе.
Мелисенда говорила уверенным тоном здорового человека, собирающегося жить вечно, а до тех пор не намеревающегося поступаться и пядью власти. Впрочем, покладистый сын не оспаривал трон. Бодуэна манила слава героя, а от ярма хлопотного правления отвлекали чужие жены и азартные игры, в то время как Мелисенда умела и содействия могущественных баронов добиться, и противников устранить. Все влиятельное духовенство Заморья тоже безоговорочно поддерживало набожную и щедрую монархиню. Так что королева не сомневалась, что и ясноглазая, учтивая тихоня-племянница подчинится ей беспрекословно:
– Дорогая Констанция, вам надобно выйти замуж.
Но напрасно Мелисенда полагала, что повелевать княгиней Антиохии окажется так же легко, как рыцарями и прелатами. Констанция покорно склонила голову, учтиво ответила:
– Мадам, ваше царствование доказывает, что женщина может единолично править даже Иерусалимским королевством. Я последую вашему примеру и посвящу себя княжеству и детям.
– Дитя мое, – Мелисенда, похоже, никогда не теряла терпения, – так же, как руке для вышивания нужна игла, так же женщине для правления необходим мужчина! У меня был Фульк, а теперь Бодуэн. А вам-то тем более – в вашей пограничной Антиохии!
– У наших границ теперь тихо, мадам. Нуреддин не трогает княжество, поскольку избегает трений с Византией, и мне очень помогает его высокопреосвященство.
– Византия сама в любой момент может оказаться опасной, и Нуреддин оставил вас в покое, только чтобы без помех захватить Дамаск. Мы не можем допустить, чтобы он стал хозяином всей Сирии. Север Утремера должен защищать властитель, способный вести армию в бой и в случае нужды заступиться за нашего дамасского союзника.
– В таком случае, тетя, позвольте мне найти супруга по собственному выбору. Не могу же я выйти замуж ради Дамаска.
– Дитя мое, сама я в свое время венчалась с Фульком без малейшей сердечной склонности, но это не помешало нам править королевством в полном единодушии и воевать, по примеру царя Давида, с сирийскими арамеями, аскалонскими филистимлянами и каирскими вавилонянами.
По знаку королевы придворная дама бережно подала Констанции тяжелый Псалтырь с выгравированным на слоновой кости переплета соколом – символом Фулька. Внутри роскошного молитвенника толпились изящные буквы, золотые, красочные миниатюры с фигурами Спасителя, святых, царя Давида, Адама и Евы. Пергаментные страницы украшали тщательные изображения животных, растений, грифонов, львов, умело выписанные крошечные арфы, кубки и изящные виньетки. Лицо Мелисенды смягчилось и стало заметно, что когда-то она была дивно хороша.
– Я слышала, дорогая тетя, согласие с Фульком вам все же не сразу далось.
Деяния латинян в Заморье нередко повторяли подвиги Писания, а рыжий, как царь Давид, Фульк и прекрасная, как Вирсавия, Мелисенда напоминали библейскую чету даже больше, чем им хотелось. Подобно царю Давиду, уничтожившему Урию, мужа Вирсавии, Фульк покусился на жизнь графа Яффы Хьюго де Пюизе, которого, по слухам, любила Мелисенда.
Предпочтение Мелисенды придало графу Яффы дерзости: его собственный пасынок, Жерар де Гранье, обвинил отчима в заговоре против Фулька. От графа Яффского потребовали доказать свою правоту в поединке с обвинителем, но в назначенный день красавчик Хьюго на бой не явился. Уж не потому ли он струсил, что дал ложную клятву о невинности королевы и не мог рассчитывать в сражении на Господню поддержку? Мелисенда, конечно, знала все доподлинно:
– Все эти россказни о моей любви к Хьюго – наветы и злоязычие. Духовенство и все бароны были на моей стороне, а разве стал бы цвет Утремера брать сторону неверной жены?! Да и сам Фульк Анжуйский никогда не потерпел бы супружеской измены. Недаром его прадед, Фульк Нерро, обрядил изменившую ему жену в свадебное платье и сжег прелюбодейку на костре.
Фульк, несомненно, верил в невинность Мелисенды. Он любил жену и любил иерусалимскую корону, а обе эти любови были неразрывно связаны Бодуэном II, короновавшим дочь наравне с ее супругом. И бароны Утремера желали видеть на троне наследницу Бодуэна II. Фульк приговорил мятежника Пюизе к изгнанию, но на ожидавшего попутного корабля графа напал никому не известный бретонский рыцарь и ранил Пюизе. Бретонца схватили, но молва обвинила короля. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Чтобы доказать Мелисенде, что он тут ни при чем, Фульк повелел при четвертовании оставить преступнику язык, но тот истек кровью, так и не назвав заказчика убийства.
– Тетя, а Пюизе, вы больше никогда не увиделись с ним?
Резким движением королева обрезала нить:
– Пюизе угрожал трону, угрожал королевству, угрожал моему браку. Для тех, кто угрожает венценосцам, все всегда заканчивается плохо. Хьюго покинул Утремер и вскоре погиб в Сицилии.
Констанция взглянула на тетку и поняла, что та говорила чистую правду: не любила она Пюизе и перед Фульком грешна не была. А с какой стати Хьюго подумал иначе и даже решился на мятеж, четвертованный бретонец так и не поведал. Главное, что Фульк оказался во всем перед своей супругой виноват, и понапрасну оскорбленная Мелисенда обрела поддержку всех соратников своего отца. С тех пор король ни в чем не перечил жене и беспрекословно делил с ней престол, а королева свела счеты с недоброжелателями. Так и не сумев полюбить Фулька, Мелисенда полюбила власть.
Давно прошли времена, когда имя Иерусалимской Мессалины безнаказанно трепалось по всему королевству. Нынче, если люди судачили о королеве и о нынешней главной ее опоре – похожем на гигантского медведя коннетабле королевства Менассе д’Иерже, им приходилось настороженно оглядываться. Внушаемый Мелисендой страх защищал ее доброе имя исправнее преклонных годов.
– Давайте лучше поговорим о приятном, дитя мое. Вот, например, Ив де Несль, граф Суассонский, мог бы стать достойным князем Антиохийским.
Констанция покачала головой: нет, граф Суассонский не годится. Не может князь Антиохийский пучить глупые лягушачьи глаза. Это, конечно, его, жениха неразумного, предсказала ясновидящая Марго.
– Если вам не нравится граф, прекрасной партией стал бы Гуго д’Ибелин, сеньор Рамлы. Гуго молод и красив, если для вас это так важно.
Все драчливое и горластое семейство Ибелинов было предано Мелисенде, а Гуго д’Ибелин вдобавок приходился пасынком Менассе д’Иержу. Но он приударял за Агнес де Куртене, хоть жеманница и не глядела на него с тех пор, как рядом оказался брат короля Амальрик. Вдобавок, как все Ибелины, Гуго был вспыльчив и скор на расправу. Достойный рыцарь примется указывать Констанции, что делать и как себя вести, в награду за послушание будет наваливаться на нее ночами, потный, колючий и вонючий, делать ей детей, а днями увиваться за рыжей блудницей. И непременно развяжет войну с Нуреддином. Опять всей Антиохии придется жить в страхе. Из трех предсказанных провидицей он – жестокий. Констанция непреклонно сложила руки на коленях. Иерусалимские ассизы велели предоставлять наследницам выбор из трех претендентов, и тетка вздохнула:
– Тогда Ральф де Мерль. Ральф – самый галантный из баронов Триполи…
Учитывая, что сам граф Триполийский ведет себя как разъяренный кабан, в Триполи не очень сложно выделиться хорошими манерами.
– Мадам, если уж забыть обо мне и исходить исключительно из интересов Дамаска, то лучшим выбором стал бы Онфруа де Торон. Его Торон защищает дорогу из Тира в Дамаск, а его Белинас – ближайшая крепость к Дамаску.
Мелисенда оперлась щекой на руку, ласково, словно ребенку, растолковала:
– Милая моя, Онфруа де Торон – ложный друг моего сына. Он подначивает доверчивого и неопытного Бодуэна на безумные эскапады. Было бы губительно для государства сделать этого опасного человека еще и князем Антиохии. Мой сын отважен и полон благих намерений, но меня тревожат его порывистость и самоуверенность, – Мелисенда вздохнула. – Бодуэн устремлен на юг, юности не хочется заниматься защитой чужих завоеваний, ему хочется новых, собственных. Он предпочитает напасть на Аскалон, а не оборонять сарацинский Дамаск. Но опасность надвигается не с юга, а с севера: Фатимиды обессилили, и у нас развязаны руки, чтобы противостоять истинной угрозе – Нуреддину. Ральф де Мерль, значит.
– Мадам, неужели вам совсем меня не жалко? Я же ваша кровь и плоть!
– Мне всех жалко, – сказала Мелисенда невозмутимо. – Мне изгнанную в Латакию сестру Алису было жалко, мне жалко всех тех молодых, красивых, любящих и любимых рыцарей, которых мы посылаем в сражения, из которых они не вернутся. Мне жалко собственных сыновей, да и себя. Но Утремер не может держаться на этой жалости. Я от вас требую не больше, чем ото всех остальных. – Заметила упрямо стиснутые губы Констанции, сведенные брови: – Простите меня, дитя мое, какая же я плохая хозяйка! Попробуйте это чудесное вино из моих подвалов, оно способно оживить мертвеца!
Нет, тетку не умолить. Легче пробудить сочувствие в пьяном сельджуке, чем во внимательной и ласковой Мелисенде. Ее когда-то не пожалели, и с тех пор она не жалеет никого: ни собственного сына, ни Фулька, ни Пюизе, ни четвертованного бретонца, и уж, конечно, ей не жалко непокорной княгини Антиохии. Для нее правление – это сложная и важная игра, а Констанция – только пешка на поле ее стратегии, и она двинет эту пешку туда, куда сочтет нужным. Но Констанция не пешка. Она хоть и не помазанница, но княгиня заслугами собственных предков, не милостью Иерусалима. И имеет свое разумение, что хорошо и что плохо для ее княжества. Впервые за много лет Антиохия жила спокойно, а Мелисенда задумала развязать с Нуреддином новую войну. И все ради Дамаска, из-за которого уже погибло столько франков. Этот Дамаск, он как Молох, не перестает требовать жертв.
– Может, Ральф де Мерль – самый подходящий для меня супруг, но для заключения моего брака необходимо и одобрение василевса. У императора тоже имеются достойные кандидатуры, – невинно заметила Констанция.
Королева нагнулась к племяннице, впилась в нее взглядом, словно палач клещами:
– Я вижу, антиохийская моя овечка, вы надеетесь без помех щипать травку между Константинопольским орлом и иерусалимским львом, не так ли? – Откинулась, приветливо улыбнулась: – Что же вы не пьете, милая племянница? Это бесподобная кипрская нама, из моих личных подвалов.
Не смея ослушаться Мелисенды, Констанция под ее беспощадным взглядом дрожащей рукой медленно поднесла кубок к губам, сделала крошечный глоточек и замерла в ожидании боли.
– Я рада, что вам понравилось! – тетка добродушно похлопала ее по колену. – Подумать только, как много людей опасаются, что мое полезное и бодрящее вино способно им повредить!
Зазвонили к вечерне. В оконной арке в багряно-пепельном закате слепили взор купола Храма Воскресения Господня, Темплума Домини и Соломонова Храма, зеленела Масличная гора, белели, подобно высушенным на солнце костям, могильные надгробия Иосафатской долины, места грядущего Страшного Суда. Едва различимые в густеющих сумерках, спускались к Содомскому морю холмы Иудейской пустыни. На плоских крышах домов мигали светильники, доносились крики и смех. Порывы прохладного ветра трепали развешанное белье, несли тревожную горечь полыни, сладкую вонь тамплиеровых конюшен и аромат свежего хлеба.
Униженная Констанция отставила кубок. Тетка позабавилась ее страхом, но княгиня Антиохии не станет послушной иглой, расшивающей полотно Мелисенды. Если бы пришлось, она восстала бы против всего Утремера и Византии вместе взятых, но, похоже, в этом нет надобности. Между самой королевой и ее сыном обнаружился спасительный для Антиохии зазор, туда-то и бросится Констанция как загнанная лисица. Княгиня тоже может играть в королевские игры. Она охотно подаст неопытному кузену Бодуэну добрый родственный совет.
Перед возвращением на север отправились в Церковь Гробницы Богородицы в Иосафатской долине. Там же, рядом с могилой Богоматери, была захоронена и отважная и мудрая царица Морфия. Его величество любезно согласился сопровождать княгиню к месту упокоения их общей бабки. Отряд копейщиков по-прежнему возглавлял Шатильон, Бодуэн скакал между Констанцией и мадам де Бретолио, а Бартоломео замыкал процессию.
В затхлом, влажном склепе пахло ладаном и плесенью, на месте гробницы вознесшейся Девы Марии возлежал лишь букет пожухлых роз. Руки Изабо и Бодуэна столкнулись в кропильнице, король галантно подал даме зажженную свечу. Затем оба преклонили колена перед пресвитерием, мизинцы их нечаянно соприкоснулись. Юношу и даму можно было принять за жениха и невесту.
Справа от могильной плиты Непорочной Девы темнел вход в каменную крипту, запертый железными воротами. Проходя мимо, Бодуэн сказал:
– Эта часовня приготовлена для моей матери.
Сам он, как все короли Иерусалима, в свой срок упокоится у подножья Голгофы.
– Я буду молиться за долголетье королевы, кузен. Я надеюсь, она еще узрит ваши великие деяния, ибо уверена, что вы превратите Утремер из прибрежной полоски в великую империю.
– Мать управляет королевством осторожно и мудро, я полностью полагаюсь на ее величество.
Констанция охотно закивала, но не удержалась, поделилась неожиданно пришедшей ей в голову мыслью:
– Необходимо только помнить, что места искупления нашего не осторожность завоевала. – Вздохнула, потерянно прибавила: – Нам требуется больше, чем просто разумное правление, нам нужны подвиги. – Взглянула на кузена с надеждой: – Я слышала, вы мечтаете о взятии Аскалона. Это открыло бы путь на Египет. Ах, с покорением Египта, этого фатимидского Вавилона Утремер стал бы непобедим. – Сжала в волнении руки, – королева думает, что такое вам не по силам, но я верю в вас и буду молиться, чтобы вам удался ваш великий замысел.
– Менассе – верный и опытный полководец, а он поддерживает мать, считает, что перво-наперво нам необходимо положить предел посягательствам Нуреддина.
– Разумеется! Всегда есть необходимая грязная работа, от которой ни славы, ни владений, и дружественный Дамаск нам, конечно, важен. Но именно сейчас, когда Фатимиды так слабы, Аскалон остался без защиты. Есть деяния, которые может и должен свершить лишь король. Мы, женщины, сильны миром, поэтому королева строит церкви и рынки, но мужчины сильны победами. Когда-нибудь, ваше величество, вы завоюете империю. Только любящий взор матери по-прежнему видит в вас маленького мальчика, а мир ожидает героя.
Бодуэн пригладил волосы, оправил рукава, одернул пояс, словно уже готовился к грядущим свершениям:
– Иногда Менассе действительно чрезмерно осторожен. У Босры он пытался уговорить меня покинуть вверившуюся мне армию.
– Сир, я надеюсь, что вам, а не Менассе д’Иержу суждено взять Аскалон и навсегда обезопасить наше побережье. Египет слаб и падет в руки того, кто первым осмелится пихнуть его пальцем. Только бы не Нуреддин…
Вышли на свежий воздух. Изабо, прекрасная как пышный пион, сверкала лукавыми глазами, словно сама стремилась на штурм:
– Ах, я вижу вас на троне фараонов, ваше величество!
– Мой дорогой кузен, вам был знак. На пути от Босры вас и вашу армию спас белый рыцарь-ангел. Божий посланник мог сойти на землю только ради Господнего избранника. Благодать лежит на вас одном.
Констанция с Изабо наперебой твердили помазаннику, что он – единственный король Утремера, которому было даровано чудо. Ни Танкреду, ни Готфриду, никому из его предшественников на троне Господь не явил подобной милости. Как появление утренней звезды обещает наступление дня, так этот посланный Господом ангел обещал Бодуэну Божью милость и любовь. Его величество пользуется покровительством небес, он – первый король Иерусалима, родившийся в Земле Воплощения, настоящий сын Заморья, плоть от плоти, кровь от крови. Он избран совершить великие завоевания, не только опекать басурманский Дамаск. Бодуэн не прерывал их, а слушал, уставившись в землю, скрестив недвижно руки на гарде меча. Наконец, поднял голову:
– Еще мой отец надеялся взять Аскалон, но Нуреддин следит за нами, как собака за брошенной палкой.
– Сир, именно сейчас подходящий момент: опасаясь Византии, Нуреддин не осмеливается посягать на Антиохию, и тем самым защищена вся северная граница Латинского Востока. Мудрый государь воспользовался бы этим, чтобы добиться невиданного на юге.
Констанции удалось взволновать и воодушевить юного монарха. Она не кривила душой: Бодуэн непременно совершит великие дела и тем временем будет слишком занят, чтобы вмешиваться в ее судьбу. Конечно, ему придется начать с того, чтобы избавиться от опеки всем заправляющей матушки. Вряд ли Мелисенда добровольно уступит ему трон, зато досуга выбирать женихов племяннице у нее поубавится. Тут внутри неприятно шевельнулось, подняло змеиную голову отвратительное воспоминание: ведь так же Констанция уговорила Людовика VII напасть на Дамаск, но вновь прозвучал теткин голос: «Утремер не может держаться на жалости». Если юный монарх заберет власть в свои руки и начнет завоевание юга, это будет лучше не только для княгини Антиохии, но и для будущего всего Заморья. Да и самой тетке куда более подойдет вышивать церковные покровы, нежели принуждать к браку суверенную княгиню Антиохии.
Когда ехали обратно, Изабо улучила момент, подскакала к Констанции, от радости вся лучилась, и даже кобыла танцевала под ней:
– Ваша светлость, король попросил меня остаться с ним в Иерусалиме.
«Кобылице в колеснице фараона уподобил я тебя, подруга моя! Встань же, возлюбленная моя, прекрасная моя, иди за мной!» – сказал царь Иерусалимский мадам де Бретолио. Видно, и впрямь почувствовал себя самодержцем. Что ж, могилы часто напоминают, что жизнь скоротечна и не следует упускать ее радости. Мадам де Камбер непременно заявила бы, что прелюбодейство – смертный грех, и рано или поздно король так же настойчиво попросит Изабо покинуть двор. Но мадам де Бретолио не желала внимать предупреждениям, она уже ответствовала царю: «Привел меня царь в чертоги свои, – возликуем и возрадуемся с тобою!» Может, не точно в этих словах, но весьма похоже:
– Ваша светлость, я смогу остаться при дворе и пошью себе кучу новых платьев! – Обернулась, бросила блестящий взгляд на статного Бодуэна: – Пусть Эвро и Господь простят меня, будь что будет, не могу я его бросить, не могу!
У Констанции перехватило горло, она сжала руку Изабо:
– Душа моя, чтобы ни случилось, ты всегда найдешь у меня защиту и поддержку.
Оглянулась вокруг и увидела, что истинно сказанно: «Зима прошла, дождь миновал, удалился; цветы показались на земле; время пения настало и голос горлицы слышен в стране; на смоковнице началось созревание плодов, и виноградные лозы в цвету, издают благоухание». В животе затрепетали бабочки, она пришпорила Капризу, нагнала шевалье де Шатильона, бросила небрежно, будто что-то неважное, только что пришедшее в голову, а вовсе не сто раз передуманное, выношенное бессонными ночами:
– Ваша милость, я благодарна вам за ваше сопровождение. Вы прекрасно заботились обо мне, пока я была здесь. Если вздумаете искать лучшее место службы, приезжайте в Антиохию. Нам нужны отважные рыцари, и я постараюсь, чтобы вам у меня понравилось.
Улыбалась благосклонно, ожидая его благодарности, и сама уже ликовала, что решилась, что Рейнальд и дальше будет служить ей, останется рядом. «Друг мой – мне, а я – ему, пасущему средь лилий». Но он молчал, и Констанция подняла на него влюбленные, зовущие, молящие глаза. Шевалье на антиохийскую лилию не глядел, он уставился вперед, губу закусил добела, а потом бешено дернул поводья и процедил сурово:
– Спасибо, мадам, если служить, так уж лучше королю.
Она вспыхнула, растерялась, даже Каприза сбилась с ноги. Что ж он так груб с ней? Чем она его обидела? Шатильон злобно взмахнул плетью и пустился к городским воротам сломя голову, бросив кавалькаду в облаке пыли.
Констанция отстала и оказалась рядом с покряхтывающим и сопящим Бартоломео – оба отвергнутые, ненужные, немилые: княгиня Антиохии и неотесанный, самодовольный, болтливый грубиян. Молча ехали и в печали созерцали, как гарцевали перед ними бок о бок король и Изабо, и даже хвосты коней любовников мотались в сердечном согласии.
Пора возвращаться домой, это вид чужого счастья помутил ее разум.
* * *
Сразу после Пасхальных торжеств княгиня Антиохии двинулась в обратный путь. Угрюмый Бартоломео по-прежнему охранял отряд в самом опасном месте – в арьергарде, но больше не гоготал над собственными шутками и не давал обетов и клятв. Вместо мадам де Бретолио с ними возвращались двое рыцарей, сменянных на сарацинских узников. Третий антиохийский пленник так и не дождался освобождения, сгинул в нильских песках.
Море еще штормило, дули резкие ветра, ветер пах сырой землей, на склонах холмов лиловели ирисы и плодовые деревья трепетали цветущими невестами. Ах, ничего не осталось от всех смутных, но радужных надежд, с которыми Констанция пустилась в Иерусалим! Тот единственный, кто нравился, отказался служить ей, а что другое могла княгиня предложить наемнику? Каждый шаг увеличивал расстояние между ней и несговорчивым шевалье с дурным норовом, и душе становилось все больнее, словно все туже натягивалась нить, привязывавшая ее к Шатильону.
Вернувшись, Констанция решительно завела при дворе новые порядки. Пора Антиохии превратиться в изысканный двор, где никто не будет дремать по углам, ловить мух, клянчить фьефы и напиваться до положения риз. Отныне галантные кавалеры примутся декламировать шансон де жест и вести глубокомысленные диспуты, рыцари без страха и упрека начнут стремиться к совершенству путем преданного служения прекрасным дамам. А прекрасные дамы перестанут объедаться до колик, сплетничать, пересказывать и толковать глупые сны, молиться, ругаться и беременеть, а научатся тонко шутить, распевать кансоны, танцевать и устраивать Суды Любви. Про диспуты и Суды Констанция лишь краем уха слыхала, но не сомневалась, что справится.
Мамушка ворчала, что до поездки пупуш была вялая и грустная, как зимняя лягушка, а вернулась безмозглой и легкомысленной, как бабочка-однодневка. Ничего не смыслила старая армянка ни в душе ее пупуш, ни в новых куртуазных обычаях.
В соответствии с провансальской модой завели шутов, мимов, жонглеров и звездочета, со всего Утремера созвали желающих петь, назначили их труверами. Теперь каждый вечер при княжеском дворе, словно в Шампани или Провансе, собирались дамы и кавалеры для изысканных бесед, изощренных шуток, захватывающих игр и изящных танцев. Поэты и певцы исполняли сервенты, рондо и виреле, прославляли дам и девиц, а те вручали призы победителям. Избранное общество состояло из двух дюжин местных чаровниц различного возраста и меры прелести, после споров и обид поделивших меж собой роли Доброты, Скромности, Красоты, Надежды, Очарования и прочих подходящих аллегорий. Благочестие без спора отдали даме Доротее де Камбер. Констанция отказалась стать Постоянством, хватит того, что эта постылая роль выпала ей в жизни. Объявила себя Истинной Любовью.
Отвагой, Преданностью, Честью, Вассалом Любви, Разумом, Дружбой и Щедростью выступали безусые пажи, оруженосцы и дюжина безземельных дамуазо в поисках невест с приданным. Мамушка, правда, громогласно прозвала их Бахвалами, Словоплетами и Балбесами.
Вивьен душещипательно играл на виоле, за это поганца нарекли Вольным Духом и простили ему непрестанное вранье и трусость. Но без взбалмошной Изабо искрометного остроумия оказалось меньше, чем злоязычия, мелочных обид и солдатской грубости. Сиволапые кавалеры нещадно путались в фигурах хоровода кароля, оттаптывали дамам ноги, храпели под пасторелы Маркабрюна, а любезные их ухаживания ничем не отличались от наглых домоганий прежних времен. Первый же поэтический диспут – могут ли сердца разлученных любовников пересекать расстояния? – вместо разящих доводов, неоспоримых контрдоводов и убедительного доказательства истины породил только хихиканье, морганье и шарканье сапожищами. Последнее веселье упорно тушила тоскливая физиономия безутешного Бартоломео. Неотесанного простака, не сведущего в возвышенном смысле изящной игры, на куртуазные вечера звать перестали, но оставшиеся Магистры Страстей и Защитники Добродетелей тоже оживлялись лишь при исполнении единственного цветка антиохийской поэзии, ее жесткого и колючего кактуса – героической «Песни об Антиохии».
По преданию, этот шансон де жест о Первом Крестовом Походе и о взятии неприступного города на Оронтесе сложил участник осады города Ричард Пилигрим. Каждое празднество жонглеры и певцы с неустанным жаром исполняли дивное сказание, и так песнь сия возвышала души, что гостивший в Антиохии Гриндор де Дуэ, сам талантливый сочинитель, согласился по просьбе Констанции собрать все ее строфы и записать. Возвращаясь на родину, Гриндор пообещал исполнять героический эпос при французском дворе. Пусть, пусть соперница услышит великие поэмы, родившиеся в Антиохии и прославляющие предков Констанции, в сравнении с которыми ее с Людовиком поход выглядел еще более убогим и бесславным, хотя, казалось бы, он и так выделялся среди всех человеческих деяний в качестве беспримерного позорища.
Самой же Констанции из всех шансон де жест больше всех полюбилась поэма о несравненном Рено де Монтобане, мятежном вассале Шарлеманя. Мстительный и коварный император осаждал его замок, и Рено выходил на битву с ним и с каждым из его паладинов, но всегда оставался верным своей чести. В конце концов Шарлеманю пришлось примириться с Рено при условии, что тот отправится воевать с сарацинами, и так отважный и прекрасный герой прибыл в Иерусалим. Его волшебного говорящего коня звали Баярдом, как жеребца Шатильона, но, конечно, вовсе не из-за этого случайного совпадения так полюбился Констанции этот неукротимый и неистовый Монтобан.
Не всем галантные нововведения пришлись по душе в равной степени. Духовник распекал Констанцию, Грануш ворчала, что лапушка спятила, подражая французской чертовке, дама Доротея танцевала с задором базарного медведя, которого тянут за кольцо в носу, дама Филомена треснула клюкой несчастного Купидона-Николаса, которому полагалось в затеянной игре с завязанными глазами унюхать даму, надушенную драгоценным египетским бальзамом. Но вернуть Констанцию к расшиванию престольных пелен и к протиранию колен на церковном полу было так же невозможно, как засунуть в почку распустившийся лист. Рыцарям было строго наказано улучшить свои манеры, от мамушки и дам Констанция отмахивалась, а Господа Бога и духовных отцов задабривала богатыми пожертвованиями. Немного терпения – и Антиохия сравняется с Провансом и Аквитанией. Констанция втайне мечтала даже о турнирах, на которые собирались бы рыцари всего Утремера и бились бы во славу прекрасных дам. Но, увы, желающих сражаться понарошку в косном и отсталом Заморье пока не находилось.
Почти каждый день являлись в замок халдейские торговцы и персидские купцы. Разворачивали бесценные ткани, вяленые из верблюжьей шерсти или прозрачные как дым, окрашенные личинками кошенили или моллюсками пурпура. Привозили парчовые плащи, подбитые северными соболями, отороченные горностаями, предлагали прорезные рукава, длинные и широкие, как знамена, пристегивающиеся к лифу крупными жемчужинами, раскладывали морскую пену нежнейших кружев сорочек, достойных Афродиты. Шкатулки княгини не закрывались от лент, пуговиц слоновой кости, шагреневых поясов, филигранных аграфов, серебряных армянских украшений и золотых застежек-фибул с рубинами. Окованные сундуки ломились от сафьяновых перчаток, шевровых сапожек и бархатных башмачков, расшитых самоцветами, украшенных вышивкой и прорезями, в которых ножки казались изящнее ласточек. Даже верховые лошади позвякивали вызолоченными уздечками, а спины их покрывали чепраки из драгоценных персидских ковров.
Вдовью головную повязку сменил новомодный широкий обруч, прикрывавший лишь макушку и не мешавший завитым горячими щипцами кудрям спускаться на плечи. Жермена осветляла волосы Констанции лимонным соком, мазала осадком старого вина, смешанного с сосновой смолой и розовым маслом, промывала мукой из люпина. Княгиня ополаскивала ланиты чечевичной мукой, заметные ей одной морщинки выводила раствором гранатового сока, дынной кожуры и камеди рожкового дерева, а белизну нежной кожи защищала от ветра и солнца цветочным маслом, смешанным с яичной мукой. И серебряное зеркальце исправно подтверждало, что Констанция по-прежнему выглядела юной девушкой, а вовсе не вдовой с тремя детьми, отвергнутой безземельным служакой.
Летом египетский флот разогнал купцов: наглые фатимиды совершили нападения почти на каждый франкский порт – от Яффы и Акко до Тира и Бейрута. Латиняне лишний раз убедились, что назрела пора захватить разбойничье гнездо Аскалона. Пираты, однако, вскоре были изгнаны, и сокровища Африки, Индии и Азии вновь потекли через Левант.
Наряды и развлечения требовали динаров, драхм и безантов, но Констанция не намеревалась вникать в докучные финансовые заботы, у нее и без них неделями не находилось времени срочный приказ подписать. Защитой княжества ведал коннетабль Готье Аршамбо, государственные хлопоты взвалил на себя патриарх Эмери, а за хозяйственные нужды отвечали сенешаль, мажордом, бальи и кастеляны. В конце концов, личные траты княжеского двора были каплей в водопаде антиохийских расходов. Крепостям, дорогам и мостам требовались починки, воинам – вооружение, провиант и боевые кони, а львиную долю доходных земель захватил Нуреддин. Неблагодарные горожане, купцы и вилланы, процветающие под защитой княжеской армии, роптали из-за новых поборов и оброков и встречали свою властительницу уже не прежними сердечными благословениями, а угрюмым молчанием и мятежными выкриками. Поэтому Констанция все чаще посылала сына возглавлять процессии и приветствовать представителей гильд. Красивый мальчик с белокурыми локонами неизменно вызывал восторг и умиление переменчивой черни, как когда-то сама Констанция.
Детьми занимались наставники и няньки. Констанцию мучила совесть, и она несколько раз пыталась заставить себя читать с ними молитвенник, но никому это времяпровождение удовольствия не доставило и вскоре было заброшено. Что поделаешь? Государыни – не простые матери семейств, у них своя ноша. Играть с детьми любая нянька может. Восьмилетний Бо похудел, вытянулся, интересовался только конями и оружием, бредил боями и победами. Он любил мать, но скучал с ней и рвался от нее во двор, как когда-то его отец. Пухленькая, краснощекая, вечно замурзанная и неизменно веселая Филиппа носилась по замку забавным щенком, шалила, таскала за хвост собак, пряталась от гувернантки, рвала и пачкала свои одежки, хватала со стола сладости и тут же липкими ручками обнимала Констанцию, наряженную Зарей-Авророй. А златокудрая и синеглазая Мария превратилась в избалованную и упрямую капризницу, но уже в семь лет блистала такой несравненной норманнской красой, что льстецы прочили ей блестящий брак, а Грануш то и дело бормотала обереги от чужих похвал. Впрочем, одряхлевшая нянька теперь во всем узревала тревожные знаки: в полете птиц, в форме облаков, в пролитом молоке, в тревожных старческих снах.
Однако ни обновы, ни дети не спасали от томления. Как-то в галерее княгиня наткнулась на служанку с ратником. Несколько дней перед глазами стояли их сомкнутые тела и преследовало воспоминание любовных стонов. Казалось, Констанция ощущала ласки шершавых ладоней неведомого солдата, щетину его щек и нежную гладь твердой шеи, щекотный ежик темных волос. Не таким уж великим грехом стало бы на третьем году вдовства задержать руки на плечах пригожего егеря, ссаживающего ее с седла, но Констанцию останавливал не один страх огласки и беременности. Не могла княгиня после Пуатье лечь под конюха, гордость претила превратить храм своего тела в постоялый двор для первого встречного. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Она вожделела к отсутствующему, а доступных не хотелось. Жажду вина водой не утолишь.
Из Франции пришла очередная невероятная весть: король Людовик расторг брак с Алиенор.
– Бросил-таки Людовик потаскушку, – с удовлетворением подбоченилась Грануш.
Но Констанция не сомневалась, что это сама Алиенор избавилась от рохли-короля и непременно обернет случившееся себе на пользу. И все же наконец-то гордячка из помазанницы стала герцогиней, ровней Констанции. Все это вроде ее давно не касалось, уже не только отцвела ее любовь к Пуатье, но даже горе по нему задвинулось в памяти в такое место, куда Констанция никогда не заглядывала, а вот обида и ревность по-прежнему сворачивали душу в змеиный клубок. Французская волчица не только Пуатье обворожила, она и соперницу навеки околдовала.
Наступила весна. На охоте Констанция вдыхала запах земли, распахивала шерстяной плащ, подставляла истомившееся лицо солнцу и порывам теплого южного ветра. В небесах парил коршун, выслеживал грызунов, ютящихся в корнях олив и фиг. В долине стригли тонкорунных овец. Опрокинутые на землю бараны блеяли, забавно мотали в воздухе тонкими ногами, жирные пласты рун отпадали, обнажая бело-розовые, голые, новорожденные, беззащитные шкурки. Констанция заплакала, не зная почему. Потому что голос горлицы не ее звал, и виноградные лозы не ей благоухали.
А как-то утром вышла в залу, а там, опершись на оконную нишу, стоял Шатильон. Перламутровые глаза шевалье невозмутимо взирали на нее из-под черных крылатых бровей, и был он много прекраснее, чем ей помнилось.
К вечернему застолью княгиня явилась с обручем на лбу, с волосами, собранными в золотую сеточку, с выщипанными и подведенными сурьмой бровями, благоухающая сандалом и так туго утянутая в сюрко цвета голубиного пера, что ни есть, ни пить не решалась, благо и не хотелось:
– Мессир, странные и противоречивые известия доходят до нас о происходящем в Иерусалиме.
Рено расправлялся с жирной гусиной ногой так, будто из Иерусалима его пригнал голод:
– Ваша светлость, нашего покладистого короля Бодуэна словно подменили. На второй день Пасхальной недели внезапно ворвался в Церковь Воскресения и потребовал, чтобы патриарх короновал его. Фульхерий Ангулемский отказался наотрез, и тогда его величество сам увенчал себя лавровым венком и прошелся по городу римским героем.
Таковы мужчины – даже почтительный, преданный Бодуэн в конце концов спихнул мать-соправительницу с общего трона.
– А что же королева?
– Королева не собирается отказываться от престола. Ее поддержало духовенство, вся стая Ибелинов и коннетабль Менассе д’Иерж. Амальрик тоже принял сторону матери против брата. Созвали Высшую Курию, и бароны поделили королевство как пастуший пирог.
– Вот как? И как же они поделили Землю Христову?
– Королеве поначалу отошла Иудея и Самария с Иерусалимом, а королю – Галилея, Акра, Тир и остальной север страны. Только король с дележом не согласился. Мелисенда со своими сторонниками заперлась в Башне Давида, его величество Башню осадил, но цитадель невозможно взять силой.
Эмери горестно воскликнул::
– Неужто вновь великое Царство Давида поделится на Иудею и Израиль?! – Смерил вестника неприязненным взором: – А вы, мессир, что же, сочли за лучшее сбежать? Еще Плиний Младший заметил…
Рука с кинжалом замерла над гусиной тушкой, под смуглыми скулами затанцевали желваки, и святой отец почел за лучшее не рассыпать перлы древней мудрости перед недостойным и несдержанным головорезом. Медленно, не поднимая глаз, Рено ответил:
– Я между львицей и львом встревать не намерен. Мать и сын в конце концов договорятся, а счеты сведут с теми, кто под руку попадется. Менассе д’Иерж бежал в крепость Мирабель, и ему уже под страхом смертной казни велено навеки покинуть Утремер.
– Спаси нас Господь, – сокрушенно забормотал Эмери. – Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет.
А шевалье словами Евангелия вещать не умел, поэтому просто сказал:
– Пусть для них черт каштаны из огня таскает. – Вскинул блестящие глаза на Констанцию, спросил напрямик: – Мадам, я прибыл узнать, угодно ли вам по-прежнему взять меня в свой гарнизон?
Констанция вспыхнула, поспешно кивнула, не в силах ответить. Рейнальд подтянул к себе ножку гуся, и под его ровными зубами захрустели птичьи косточки.
Борьба за престол всегда делает королей слабее, а знать – сильнее. Наконец-то княгиня сможет отказать всем навязанным ей женихам.
Теперь, когда гордец уступил, явился служить ей, он стал незаменим. Без Рейнальда де Шатильона в Антиохии больше солнце не всходило. Он сопровождал княгиню повсюду, с ним она советовалась, обсуждала планы новых построек, его выспрашивала о французских обычаях. Куртуазный кружок, правда, зачах, как пальма на севере, уж очень неотесанными оказались его паладины: шевалье Жан де Лерак, именованный Оруженосцем Любви, похитил в городе молодую богатую вдову, кавалер Ришар де Таренс, назначенный Магистром Чести, бросил невесту под венцом, а Николас Сантин – Купидон – бессердечно проиграл в кости преподнесенный ему Сибиллой де Фонтень пояс – дар многозначительный и заветный. Смертный приговор утонченным времяпровождениям вынес Шатильон, оглушительно зевнув и покинув залу посреди трогательного повествования о несчастной любви Тристана и Изольды.
Да Бог с ними, с этими изысканными нравами! Это в Пуату, где процветают потребные для того музы, искусство изящного досуга занимает умы, а в Антиохии куртуазность всегда выглядела дворовым псом, которого пытаются заставить танцевать на задних лапах.
Да и в Иерусалиме с куртуазностью дело обстояло из рук вон плохо, судя по тому, что сын восстал на мать-помазанницу. Правда, чтобы выкурить Мелисенду из Башни Давида, Бодуэну пришлось договориться с ней полюбовно: о дележе королевства больше речи не шло, но все же он выделил королеве в домен Наблус с прилегающими землями.
Однако все эти новомодные истории любви – о королеве Изольде и ее верном Тристане, о любви Абеляра и Элоизы, о страсти Ланселота к королеве Гиневре – успели смутить Констанцию. Они возвышали сердечную страсть над всеми прочими добродетелями и утверждали, что это чувство поднимает простого рыцаря до принцессы, если в честь нее он совершил множество великих и необыкновенных подвигов. Шатильон, несомненно, был создан для великих деяний: в бою он был отважен и собран, после боя – беспощаден, умел владеть собой и принимать правильные решения в самых отчаянных ситуациях. Скоро он завоевал преданность подчиненных ему воинов и уважение командиров, и даже те, кто не жаловали безудержного и надменного новичка, отдавали ему должное и старались не задевать бретера.
Пуатье при жизни был самым сильным, отважным и прекрасным, его совершенства и достоинства сверкали, подобно Солнцу. Окружающие преклонялись перед ним, уважали и обожали его. Шатильон же был ни с кем не сравним, он был иным, отличным от всех прочих. Он тоже выделялся, но не слепил своими достоинствами, а, подобно Луне, мерцал приглушенным, таинственным и пугающим светом, был молчалив, скрытен и недоступен. Даже Констанция не могла догадаться, что он чувствовал, что хотел, о чем думал. Только знала, что вовсе не Рено добивался ее любви, а наоборот.
Он же бывал то приветливым, то угрюмым, и в зависимости от его настроений на Констанцию то проливалась благодать, то милость Господня покидала ее. По большей части ей было невыносимо. Презирая себя, она все чаще пыталась задобрить Рено. После того как обнаглевшие тюрки напали в соседнем графстве Триполийском на группу паломников, перебили охрану и увели несчастных пилигримов в рабство, княгиня поставила шевалье Шатильона во главе всей антиохийской конницы и платила ему не как прочим рыцарям – по сто пятьдесят старых, стертых и низкопробных безантов в год, а новенькими, чистой пробы гистаменонами и вдвое больше обычного. Не ждала признательности, но, похоже, младший сын графа Жьена из городка Шатильон и не собирался распинаться в благодарностях. Скоро ее предпочтение ни для кого не осталось секретом.
Грануш сразу невзлюбила Рейнальда:
– Голубка моя, ягодка, я его боюсь. Он мимо в мрачном облаке проходит, я чувствую несчастье!
– Ай, балик джан, а про Пуатье ты не предчувствовала, что он сначала разобьет мне сердце, а потом уйдет на верную смерть, оставив меня с тремя сиротами?!
Потеряла старая татик чутье к людям, стала беспокойной и подозрительной. Целыми днями таскалась за Констанцией, бормотала какие-то приговоры и наговоры, должные развеять тоску анушикс и исцелить сердце ее пташечки, да только колдовство ее выдохлось, стало совсем бесполезным.
И патриарху Эмери непочтительный француз с самого начала не пришелся по нраву. Отец Мартин тоже увещевал, многозначительно вздыхал и сыпал предостерегающими притчами. А придворные дамы наперебой пересказывали истории, из которых явствовало, что принцессы всегда должны выходить замуж за знатных вельмож и предоставлять бедным рыцарям вздыхать по ним, а не наоборот. Посторонние смеялись, ревновали, злорадствовали. Пожалуй, единственной, кому шевалье нравился, была Констанция, и единственным, кто упорно не замечал оказываемой ему чести, оставался сам Рейнальд.
– Мадам, – дамзель Сибилла расчесывала волосы княгини и смаковала очередную сплетню, – герцогиня Аквитанская вступила в новый брак.
– Когда? С кем? – Констанция дернулась так, словно ей прядь вырвали. – Она же только что с Людовиком рассталась!
– В День Святого Духа, ваша светлость. За родного внука покойного короля Фулька от его первого брака, за Генриха Плантагенета, герцога Нормандского, графа Анжу, Турени и Мэна. Говорят, этот Генрих еще совсем юноша, моложе герцогини лет на восемь и собой весьма пригож. И претендует на английский престол, пока, правда, не слишком успешно…
В руках Констанции хрустнул черепаховый гребень, и Сибилла, обожавшая во всем усматривать страшные предзнаменования, испуганно заахала. Так вот ради кого Алиенор стряхнула французскую корону! Нашла-таки резвого скакуна себе по вкусу! На этой земле Констанции и Алиенор было выделено одно счастье на двоих – и полную его меру смело забрала себе та из них, которая никогда не боялась поступать по собственному хотению.
В тот же день на прогулке Констанция пропустила кавалькаду вперед, дождалась Шатильона, пряча глаза, пылая до корней волос, предложила:
– Сир, пожалуйте сегодня вечером на чашу вина и игру в шахматы…
Усмехнулся недобро, покачал головой:
– Ваша светлость, боюсь проиграть больше, чем имею.
Не дожидаясь ответа, пустил коня прямо по нежным всходам овса. Констанция вслед только пискнула:
– Объедем поле, монсеньор, жаль понапрасну топтать посевы.
Он бросил через плечо:
– Мадам, чего беречь чужое поле.
И, словно назло, пустил вскачь мышастого жеребца. Она помчалась за ним, словно недоговорила что-то важное. Свита поскакала следом. Когда шевалье перевел коня на шаг, Констанция догнала его и, не зная, что сказать, от смущения принялась оправдываться:
– Феллахи кормят нас, зачем нарушать обычаи и спокойствие?
Невольно пыталась направлять Капризу в след Баярда, чтобы потрава была меньше. Ей было стыдно своего крохоборства, и она старалась не оглядываться на затоптанное поле. Немного соберет с него невезучий пахарь, после того, как по нему проскакало двадцать всадников. В Сирии уничтожать жатву и вырубать оливковые рощи – это тактика врагов, а она слишком привыкла подсчитывать осенние припасы, чтобы быть небрежной с весенними посевами. И пусть Рено винит в этом порченую терпимостью кровь пуленов, но ей было неприятно вредить покорным землепашцам без причины.
Рено склонился к Баярду, у того с удил капала пена, стащил перчатку, мягко потрепал гриву, конь заржал, вздрагивая мускулами под бархатной шкурой. Рено любил своего жеребца, оба были схожи и статью, и норовом. Констанция завороженно смотрела, как загорелая рука Рейнальда ласкала скакуна, у нее собственная шея заныла, так давно не касалась ее мужская ладонь. Обветренные губы Шатильона шелушились, но там, где они смыкались в красивую изогнутую линию, кожа была такая нежная, беззащитная и розовая, что сердце заходилось. Рено разомкнул губы:
– Черт бы драл этих басурман! Если бы мы изначально меньше о них заботились, не оставили бы им все земли, Палестину давно бы обжили добрые французы! А теперь мы без охраны за городские стены ступить не смеем.
Констанцию возмущало, когда новоприбывшие ругали порядки Заморья, вот и сейчас не удержалась, возразила:
– Добрые французские крестьяне в Палестину так и не явились, мессир, а басурманские феллахи покорны и платят не в пример большие налоги. И мне, шевалье, все равно, кто пашет мою землю.
Шатильон сорвал высокий стебель травы, принялся его обкусывать:
– Неудивительно, что не явились! Я сам не знаю, зачем я сюда явился! Здесь не только для христианского виллана клочка земли не найдется, здесь и рыцаря из благородного французского рода никто ровней не считает!
Он злился, и она не знала, как умилостивить его. Сказала напрямик:
– Ваша милость, я вас ничем обидеть не хотела.
Он так долго молчал, уставившись в серебристую гриву Баярда, что она уже подобрала поводья дальше ехать, тогда ответил – весело, но недобро:
– Мадам, вы меня не обидели. Я служу вам своим мечом, только я не прибыл в Утремер игрушкой стать. И чужую землю для будущего хозяина возделывать не намерен.
Что это с ним? Она была уверена, что нравится ему, что ж такого оскорбительного усмотрел он в ее приглашении? Разве ей легко было решиться? Каприза придвинулась к Баярду так близко, что колено Констанции уткнулось в конский бок. Баярд, это сущее чудовище, приученное в бою кусаться и драться копытами, злобно всхрапнул и бешено покосил глазом. Шатильон отбросил изжеванную травинку:
– Мадам, я не желаю, чтобы в один прекрасный день явился законный хозяин и прогнал старательного пахаря. Или все или ничего. Я с черного хода никогда не соглашусь ходить.
Вот на что он обиделся! Констанция беспомощно пролепетала:
– Как же это возможно, мессир? Мой дед был помазанником Латинского королевства… – Заметила, как он недобро сощурился, поспешно добавила: – Ведь все же против будут: мои бароны, патриарх, король, королева, василевс…
Отвернулся, пожал плечами:
– Славный девиз вы выбрали себе, мадам: «Боюсь и не смею!». Подходит женщине, которая так гордится предками-королями. Надеюсь, на латыни это лучше звучит.
Стегнул Баярда, гикнул и помчался от нее по полю наискось, нарочно вытаптывая посевы. Или показывая, что ему никто не указ.
Ей стало трудно дышать, не то от возмущения, не то от непереносимого отчаяния и унижения. Может, он прав, а она просто трусиха? И потому судьба угождает отважной Алиенор, а с Констанцией даже безземельный шевалье отказался партию в шахматы сыграть. Без игры поставил ей шах.
* * *
Эмери сначала бесконечно молился, потом долго вздыхал, сетовал на скудость казны, затем обиняками поведал, что достопочтенный граф Триполийский и добронравная супруга его Годиэрна рассорились меж собой, причем так, что король Бодуэн и королева Мелисенда, лишь недавно кое-как залатавшие собственную ссору, поспешили в Триполи мирить родственников. Чертил посохом по плитам пола, кряхтел, насупившись, молчал, жаловался, что Византия спит и видит, как бы прибрать к рукам вотчину Иоанна Златоуста, Илариона Великого, Иоанна Дамаскина, а его, Эмери Лиможского, патриархат отдать еретическому своему лжепатриарху на погибель и поругание.
Его высокопреосвященству уже за пятьдесят, он ссохся, сгорбился, из-под скуфьи давно не пышные пряди спадают, а поредевшие серые волоски свисают, чело избороздили морщины, на висках проступили старческие пятна. Констанции стало стыдно и жалко старика: все эти годы она как должное принимала его безотказные заботы о княжестве, а власть – хоть и сладкий кусок, но жует-то его Эмери не ради себя, а ради нее и ее потомков. Наконец перестал ходить вокруг да около, спросил напрямую:
– Дочь моя, так каков же будет ваш ответ Жану Рожеру Соррентскому?
Не может она, святой отец. Греческий жених ненамного моложе самого Эмери, и даже сватавшие его послы не решались воспевать его внешность. Патриарх, впрочем, радовался кандидатуре ненавистного Константинополя не больше самой Констанции. Но этот тошнотворный, как касторка, Жан Рожер, хоть и норманн по происхождению, а один из знатнейших вельмож Ромейской империи, цезарь и адмирал византийского флота. До недавнего времени был женат на любимейшей сестре василевса, и после ее кончины Мануил предложил его руку Констанции. Отказать такому претенденту, не испортив отношения с единственной защитой от Нуреддина, ни пастырь, ни Констанция не отваживались.
– Скоро у нас не останется власти воришку с рынка без разрешения Иерусалима или Константинополя плетьми поучить, – посетовал иерарх. Пожевал губами: – Единственный способ избавиться от греческого сватовства – не мешкая обручиться с достойным претендентом, верным сыном Церкви. Еще Сократ заметил, что брак есть необходимое зло, – повертел патриарший перстень, уточнил: – Для молодых владелиц феода, по крайней мере.
Констанции жар в щеки плеснул:
– С кем же мне обручиться?
Эмери взглянул с укором:
– Дочь моя, я вас много лет знаю, из любви к вам говорю: заигрались вы в эти куртуазные игры поганые. Жизнь не похожа на паскудные стишата Овидия и несуразные истории про Тристана и Изольду. В действительности люди не ведут себя мечтательными идиотами из труверских кансон. – Стукнул посохом, добавил назидательно: – Герцогу Аквитанскому его упражнения в галантном стихосложении не помешали двух жен в монастырь заточить.
Что может клирик в этом понимать?! Из-за того, что пастырю пустой куртуазной игрой представляется, она вся извелась, волосы лезут пучками, щеки провалились, скулы торчат, глаза запали, под ними страшные круги вычернились, все платья на ней висят. «Заклинаю я вас, дочери Иерушалаима, газелями или полевыми ланями – не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает она».
Хитрый старик схватился за сердце, заохал, зашептал, словно из последних сил:
– Пока Господь не призовет, буду защищать порядок, устои и добродетели. Этот Шатильон, попомните мое слово, беспощадный, самоуверенный и отчаянный авантюрист. Забудьте вы его, Бога ради. Дочь моя, вы сможете выйти замуж по собственной прихоти не раньше, чем монахи станут многоженцами. Король требует, чтобы вы прибыли в Триполи и обручились с Ральфом де Мерлем, и я больше не могу выручать вас. Раз мы отказываем Византии, нам необходимо заручиться поддержкой Иерусалима.
Констанция надеялась в просвете между Византией и Иерусалимом вольно дышать, Алиенор уподобиться, а их глыбы так над ее головой сошлись, что ей вовсе воздуха не осталось.
Вызвала Шатильона, сухо сообщила, что собирается выехать в Триполи, поручает ему обеспечить охрану в пути. Он не уходил, наверное, слухи о сватовстве византийца все же тревожили его. Но она про это молчала, хочет знать – пусть спросит. Стоял, расставив длинные ноги, заложив руки за спину, распрямив широкие плечи, желанный, красивый, молодой, ненаглядный. «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами». Окончился дождь, из-за туч вышло солнце и пахло прибитой дождем пылью. Он оказался в столпе света, словно сам светился. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Констанция пальцы сцепила, чтобы невольно не обнять его. Наконец сказал:
– Мадам, наверное, стоит, чтобы вы это от меня услышали. – Она еще смотрела на него, не ожидая плохого, но несчастья обрушиваются внезапно. – Я посватался к Эмергарде, дочери Огюста де Вье-Понта.
Стеклянный кубок покатился по плитам, она с ужасом уставилась на осколки, будто ценнее этого кубка ничего не разбилось. Казалось, тяжкий груз, который она из последних сил удерживала Бог знает сколько времени, выскользнул из онемевших рук и грохнулся ей на голову. Боль растеклась по телу, дошла до сердца и растерзала его жгучей обидой и гневом.
– Что же в этом такого, мадам? Эта девушка мне ровня и пара, и я могу жениться на ней, не стыдясь себя. Иметь дом, хозяйку у своего стола, женщину в своей постели, мать для своих детей.
Боже, да разве я не хочу дать тебе все это? Неужели, Рейнальд, ты предпочитаешь в постели скукоту вялую, девицу, которая никогда не будет любить тебя до того, что руки трясутся и горло перехватывает? Но вслух спросила неожиданно севшим, срывающимся голосом:
– Может, до вас дошли слухи о сватовстве Жана Соррентского? Я намереваюсь отказать ему.
– Как вам угодно, мадам. Каждый в таких делах может решать только сам за себя.
В смертельной тоске призналась:
– Я вот не могу.
– Очень сожалею это слышать, ваша светлость. Чего же стоит княжеская власть, если дозволено решать только за других?
Руки спокойно сложил за спиной, а сам ими неумолимо захлопывал перед ней врата рая. Ноги подгибались рухнуть на колени и рвались наружу рыданья, чтобы он пожалел ее, но она уже пробовала это с Пуатье и знала, что унижения напрасны. Наверное, есть в ней что-то ужасное, если те, кого она любит, предпочитают ей других женщин. Пуатье хотя бы сменил Констанцию на королеву Франции, на несравненную красавицу, а Шатильон на невзрачную серую мышку, дочь простого рыцаря променял. «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его». Достало сил выдавить:
– Рейнальд Шатильонский, я буду рада наградить вас за верную службу. Желаю вам счастья… с Эмергардой.
Постриг ей в дальний монастырь она желала, а ему – многие годы терзаться так, как терзалась сейчас сама.
На всем Латинском Востоке лишь один человек мог сравниться с Годиэрной де Ретель, графиней Триполийской, необузданным и гневливым характером – Раймунд Сен-Жиль, граф Триполийский. И на их общее несчастье именно они оказались мужем и женой. Дочь Бодуэна II была столь свободолюбивой и непокорной, что многие полагали ревность Сен-Жиля полностью обоснованной. Не найдя лучшего средства обеспечить в семье сердечную любовь и прочный мир, граф держал супругу в домашнем заточении, но графиня призвала на помощь родственников, и теперь со всех концов Утремера спешили в Триполи Бодуэн, Мелисенда и Констанция – восстанавливать марьяжное согласие.
Княгиня двинулась в путь под охраной вооруженного отряда, которым командовал Шатильон. Свыше ее сил было оставить его любезничать в Антиохии с этим мотыльком Эмергардой.
Горе, унижение и разочарование уже приобрели знакомый, привычный, утешительный вкус слез и крови. Упрямство и застенчивость боролись в ней и совершенно измучили ее. От ночных рыданий саднило щеки и закладывало распухший нос.
Миновали город Жибле, Джебайл в устах неверных, его знаменитую церковь святого Иоанна Крестителя с огромным баптистерием. Городом правило семейство Эмбриако, родом с Апеннинского полуострова, отчизны ростовщиков, корсаров и торговцев. Эмбриако, простым морякам, смельчакам и ловцам удачи, наподобие Антонио, повезло больше: в награду за доблесть, проявленную ими при взятии Триполи, они получили Жибле. С тех пор в многочисленных боях бароны Эмбриако так часто доказывали свою отвагу и преданность, что постепенно стали для франкской знати почти своими.
За Жибле громоздились на высоком холме темные, круглые базальтовые башни Маргата, антиохийского форпоста, которым владел до своей гибели супруг дамы Филомены. Узнав об обручении Шатильона, она попыталась утешить Констанцию на свой беспощадный лад:
– Мадам, ничего не поделаешь, когда дело касается женщин, самые благородные рыцари – подлецы и мерзавцы.
Грандиозная крепость запирала собой узкое ущелье, ведущее в земли ассасинов, подвалы ее могли вместить сотни человек, в гигантской цистерне хранился безграничный запас воды, а припасов хватило бы на пять лет осады для гарнизона в тысячу человек. Одна лишь дама Филомена не нашла себе в места в Маргате.
Отряд растянулся цепочкой по кромке узкого берега в тени отвесных скал, копыта чавкали в мокром песке, высокие волны с шумом разбивались о рифы, вздымая облака холодных брызг. Рейнальд вел колонну, мрачный, собранный, на княгиню даже не оглядывался. Постепенно берег расширился, выехали к дельте ручья, стекавшего к морю из широкого ущелья. Констанция оттерла влажное лицо, скинула набухший, облепивший тело плащ. В лучах солнца потеплело. Навстречу, сверкая металлом, мчался высланный вперед вестовой: приходилось быть настороже, по всей Палестине шатались бродячие отряды сарацин. Шатильон подскакал к Констанции:
– Ваша светлость, – он теперь только так к ней обращался, – к нам навстречу скачут тюрки!
Констанции, если честно, было все равно. Наоборот, она обрадовалась происшествию. Все лучше, чем ехать рядом с ним и знать, что он для нее потерян. Шевалье огляделся:
– Их намного больше, чем нас, на открытом пространстве нам туго придется. – У нее дух перехватило оттого, что Рено все же заботился о ней. Он поглядел из-под руки, как далеко позади остался узкий берег:
– Как только они нас завидят, разворачиваемся и несемся обратно.
Раздал приказания воинам. Латники немедленно сдвинулись на флангах, княгиню и прочих неспособных сражаться оттеснили в защищенную сердцевину построения. Констанция была уверена, что Рейнальд хоть краем глаза, но следит за своей повелительницей, поэтому беспрекословно, трясущимися руками, напялила хауберк на дорожное платье и нахлобучила шлем, пытаясь рассмотреть происходящее сквозь прорези для глаз. Оболтус Вивьен, нет чтобы помогать своей госпоже, заныл:
– О, как я бы хотел оказаться сейчас в родном Орлеане! Ничего мне не надо, ни славы, ни добычи, ни рыцарства, только быть бы сейчас дома, хоть последним нищим, но живым…
Бартоломео треснул труса по уху:
– Приди в себя, щенок! Может, тебе вот-вот с Господом объясняться!
От оплеухи негодник чуть из седла не вылетел, но продолжал подвывать. Констанция за себя вовсе не боялась, только жутко колотилось сердце. Д’Огиль благочестиво перекрестился:
– Клянусь во имя Богоматери ни единую обрезанную собаку не пощадить!
Вдали показалось и стало стремительно увеличиваться скачущее по берегу облако неверных. Завидев франков, тюрки заулюлюкали, рассыпались широкой линией, уже можно было различить вырвавшиеся вперед отдельные белые пушинки в развевающихся кафтанах. Антиохийцы развернули коней, перекинули щиты за спины и сломя голову понеслись назад, в спасительную щель узкого побережья. Небо покрылось свистящими стрелами, но преследователи были еще далеко, и наконечники на излете не пробивали крепкой франкской кольчуги, рыцари так и мчались, утыканные дрожащими стрелами.
Сразу за крутым поворотом по приказу Шатильона остановились, развернулись, растянулись на всю ширину берега, щиты сдвинули, копья выставили. Справа море гневно рушило на песок одну сердитую волну за другой, слева вздымались крутые уступы, взобраться на которые не смог бы и горный козел. Кони трясли головами в железных шанфронах. Уже слышался топот приближающихся коней и дикий визг: «Аллаху ахбар!» Рейнальд закричал: «К оружию! К оружию!»
Руки Констанции дрожали, дыхание прерывалось, во рту пересохло, но такое воодушевление овладело ей, что она сама была готова броситься на врага с мечом. Только никто не пустил ее в бой, наоборот, оттеснили за плотную ограду из рыцарских тел и лошадиных крупов. Каприза волновалась, Констанция гладила ее гриву, не замечая тяжести кольчуги, поднималась в стременах и пыталась сквозь заливающий глаза пот разглядеть происходящее. Из-под забрал воинов доносилось гулкое бормотание «Патер Ностер» и «Аве Мария», ратники осеняли себя крестным знамением. Срывающимся голосом княгиня принялась громко молиться за всех них, не сводя взгляда с трепещущего над Баярдом сине-красно-белого баннера Шатильона. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Дева Мария, если оба они останутся невредимыми, она клянется…
Не успела поклясться, как из-за прибрежной гряды на узкую кромку песка вылетел первый вражеский всадник. Он несся в ореоле брызг, ветер парусом надувал его белые одежды, ослепительно светлые в тени. Тюрки верили, что туго натянутый шелк способен погасить полет стрелы, но против арбалетной стрелы и меча из закаленной стали даже кованое железо бессильно. Ослепленный внезапной тьмой сельджук успел выстрелить наугад. За ним мчалась толпа его пособников, все они метились поверх головных всадников, и стрелы, пущенные круто вверх, то проносились над франками, то ложились в воду, не нанося латинянам вреда. Первый тюрок, подгоняемый сзади своими соратниками, обреченно гнал лошадь прямо на ощетинившуюся копьями стальную стену рыцарей, заполнившую пространство меж пучиной и горным уступом. Его жеребец отчаянно заржал, пытаясь остановиться, но сзади на него напирали другие кони, и, как волна на скалу, маленький, низкорослый арабский скакун напоролся на железный частокол, нанизался на острия копий, как перепел на вертел, дико заржал в предсмертной муке и рухнул, придавив седока. Грузные дестриэ, сплошь в броне, даже не дрогнули. Сарацина тут же прикончили. А за ним с улюлюканьем и воплями уже неслись его приспешники.
Рыцари закалывали врагов копьями, спрыгнувших с седел затаптывали копытами, оттесняли в воду, сбивали топориками-францисками. Одного за другим отправляли неверных на тот свет, словно те явились на Страшный Суд. Кони бешено ржали, звенел металл, то и дело слышался боевой клич франков: «Deus de vult!» В просвете между воинами Констанция разглядела, как меч Шатильона с размаху, свистя, опустился на тюрка, с чавканьем прошел сквозь человеческое тело. Верхняя часть перерубленного туловища свалилась на землю, а ноги все еще судорожно сжимали бока коня. Казалось, настал Апокалипсис. Констанция закричала, не слыша собственного голоса.
Когда между латинянами и сарацинами воздвиглась стена трупов и бьющихся, хрипящих лошадей, сельджуки потеряли присутствие духа. Многие пытались повернуть обратно, но их отбрасывали вылетавшие из-за поворота сотоварищи. Обезумев от ужаса, тюрки направляли коней прямо в прибой, от берега их тут же оттесняли новые беглецы, высокие волны захлестывали всадников вместе с жалобно ржавшими лошадьми. Вскоре вода заполнилась телами, покрасневший прибой уносил людей и животных в открытое море. Ряды врагов дрогнули, отчаянно стремящиеся назад наконец-то подмяли и опрокинули тех, кто только выезжал на кромку берега, тюрки повернули и, давя и опрокидывая друг друга, пустились наутек.
Зычный приказ Рейнальда: «Стоять насмерть, хранить ряды, защищать княгиню!» приковал к месту рыцарей, не позволил увлечься погоней. Констанция закусила нижнюю губу до крови, но даже не заметила боли. Сорвала тяжелый, неудобный шлем, золотые волосы разметал ветер. Сердце ее ликовало, рвалось ввысь, словно победный стяг. «Шестьдесят храбрецов вокруг него из храбрецов Исраэлевых. Все они держат меч, опытны в бою; у каждого меч на бедре его ради страха ночного».
Эти храбрецы, эти сквернословы, грубияны, от которых разило потом, кровью и спертым дыханием, которые только что бились за нее, обороняли ее, стали родными и близкими братьями. Рейнальд, этот насмешливый, недоступный, невозмутимый гордец, хоть и отказался от ее любви, но все же сражался с ее именем на устах, защищал ее, Констанцию, не щадил ради нее своей жизни! Она не замечала, что у нее текут слезы и кровоточат губы. До гробовой доски она не забудет его голос, приказывающий защищать ее. Тут, так близко от смерти, она поняла, что не отдаст его никакой Эмергарде. Рейнальд нужен ей, Констанции, и нет за него непомерной цены. Возбуждение боя продолжало пениться в крови и кружить голову. Он достоин любви ее, возлюбленный ее, ибо отважен, силен и прекрасен, как Рено де Монтобан.
Среди латинян ни убитых, ни тяжко раненых не оказалось, только трех дестриэ потеряли. Констанция была так взволнована и горда своим решением, что не замечала мертвых врагов. Промыла царапину Бартоломео и тщательно перевязала, посмеиваясь над выражением удовольствия и восторга на физиономии рыцаря, клявшегося, что ради такого ухода он был бы рад и головы лишиться. Помня, как делал Ибрагим, протерла алкоголем все мелкие порезы остальных раненых и замотала чистыми льняными тряпицами. Воины наперебой хвалили свою княгиню, и даже Рено одобрительно кивнул. Констанция отмахивалась, но у нее слезы наворачивались от восторга победы, от того, что все они живы и непременно будут счастливы, и оттого, что все эти рыцари, и главное – Шатильон, видели, как достойно их повелительница вела себя в бою.
Вивьен обыскивал вражеские трупы, срывал украшения, потрошил седельные сумки. Остальные тем временем оттаскивали в море дохлых сарацин, освобождая проход и торопясь покинуть опасный берег. Следовало засветло достичь стен Тортосы. За поворотом пустой берег был истоптан конскими следами, ведущими в глубь ущелья, прочь от моря. Такие разбойничьи, внезапные налеты тюркских шаек были обычным делом – потеряв надежду на легкую победу, сельджуки теряли интерес и уносились в поисках другой, менее воинственной добычи. Весь оставшийся путь Вивьен взахлеб описывал поседевшим в боях воинам, как он направо и налево рубил несметную тьму напавших на него басурман. При каждом пересказе уничтоженных им врагов становилось все больше и карманы бахвала от каждого движения звенели все громче.
Далеко позади, на безлюдном берегу, перетопленные заходящим солнцем в золото морские воды бережно, как мать ребенка, качали доставшиеся им тела.
Богатый, прекрасный своими церквями и соборами Триполи встретил гомоном чаек, морским бризом, привычной сутолокой разношерстной толпы. В порту со спин верблюдов разгружали азиатские благовония, ковры, индийские пряности, триполийские и фиванские шелка, дамасское оружие и сахарный тростник, а с кораблей сносили тюки с фландрским сукном, нормандским полотном и кипрскими винами, пшеницей и красками.
Графство Триполийское основал великий и отчаянный, слепой на один глаз Раймунд Сен-Жиль, граф Тулузский, маркиз Прованса и герцог Нарбонны, соратник и соперник деда Констанции Боэмунда Тарентского, прадед нынешнего владельца Триполи Раймунда II Триполийского. Шестой десяток уже шел легендарному Сен-Жилю, когда он повел своих провансальцев в крестовый поход. Неимоверно богатый, один из знатнейших принцев Франции, граф поклялся умереть в Земле Воплощения. Он бился в несчетных боях, голодал, мерз, терпел зной и жажду в осадах – порой снаружи, а порой внутри стен. Когда взяли Иерусалим, именно ему предложили корону Святого города, но Сен-Жиль отказался царствовать там, где Спаситель перетерпел смертные муки. Вместо этого старый герой вернулся в Константинополь, чтобы вести в Обетованную Землю ревностных, но нуждавшихся в предводителе ломбардцев. Однако всех их уничтожили сельджуки Малой Азии, а граф выжил и продолжал воевать то с сарацинами, то со своими же единоверцами – норманнами. Если бы не одержимость и вера Сен-Жиля, Утремер, возможно, так и не был бы завоеван, а если бы не его упрямство и вздорность, франки взяли бы Аскалон уже полвека назад.
А собственного владения в Палестине у Раймунда так и не заимелось. Последней осажденной им твердыней стал Триполи. В море, напротив Тортосы, Раймунд возвел сторожевую башню на фундаменте из затопленных суден, заполненных камнями и цементом, а с суши отрезал город неприступной цитаделью Мон Пелерин, магометане до сих пор продолжали называть ее именем своего заклятого врага – Калаат Санжиль, «крепостью Сен-Жиля». За грехи свои граф так и не сподобился дожить до падения Триполи, но свой обет погибнуть на Святой Земле исполнил. Графство и дурной его нрав достались потомкам.
Широко разевая черный провал рта в жестких, ржавых зарослях бороды, граф Триполийский орал так, что цитадель сотрясалась:
– Да пусть она хоть сдохнет, пусть пострижется!
Но скорее волк принялся бы травку щипать, чем неудержимая Годиэрна превратилась бы в смиренную инокиню.
– Он хочет, чтобы я постриглась?! – скрывавшаяся от мужа в монастыре кармелиток графиня швыряла серебряный кубок о каменную стену кельи с такой силой, что тот мялся. Огненные локоны взметались змеями Медузы Горгоны. – Пусть этот выскочка, этот незаконный наследник Раймунда Тулузского, этот гнусный убийца Альфонса себе тонзуру выбреет!
Констанция вздрагивала и умоляла тетку не кидаться столь чудовищными обвинениями. Годиэрна, родная сестра ее невзрачной, кислой матери, походила на яркий костер: в пышных одеждах цвета бычьей крови, занимавших почти всю монашескую келью, с хриплым низким голосом, со сверкающими очами, стремительными движениями, Годиэрна разменивала уже четвертую дюжину лет, но, несмотря на крупный, крючковатый нос, гневно сведенные густые брови и темный пух над яркими губами, оставалась еще видной женщиной. Сил и страстей в графине было немерено, а когда тетка расхохоталась над опасениями племянницы, Констанция могла бы поклясться, что и зубов у нее оказалось вдвое больше, чем полагалось человеку.
– Раймунд, твой отец – подонок! – торжественно сообщила графиня сыну. Повернулась к дочери: – Мелисенда, не смей реветь!
Двенадцатилетний Раймунд, бледный, носатый и ушастый юнец, казавшийся младше своих лет, молча обнял младшую сестру.
– Не могу без них жить, – радостно объявила Годиэрна и набросилась на детей с объятиями и поцелуями.
Как в ветреный весенний день, гневные грозы перемежались в тетке с палящим жаром страстей. Раймунд и Мелисенда терпели внезапные ласки матери столь же покорно, как и ее оглушительные окрики. Мелисенда Триполийская была на четыре года старше Марии Антиохийской и могла бы считаться хорошенькой, но девочку портили сутулость и запуганный вид. Нелегко, видно, приходилось несчастным детям с такими родителями!
– Дорогая тетя, – решился вставить слово король Бодуэн, – ради блага всего Утремера вам необходимо договориться с графом.
Годиэрна тут же обрушилась на миротворца:
– Посмотрите, кто учит меня миру в семье! Не вы ли, дорогой племянничек, носились по Иерусалиму увенчанный лаврами, как актер в мистерии, а затем свергли с трона и изгнали в Наблус собственную мать, коронованную помазанницу?
Этот пылающий костер ненависти грозил спалить все семейные связи. Бодуэн отступил, как отступает разум перед безумием. Миротворческие потуги зашли в тупик, и последняя надежда оставалась на прибытие любимой сестры Годиэрны – королевы Мелисенды.
С Бодуэном в Триполи прибыла Изабель. Возлюбленная короля выглядела великолепно. Очи мадам де Бретолио торжествующе искрились, носик был гордо вздернут, вишневые уста насмешливо улыбались, а порок все-таки, хоть зачастую и соблазнительней добродетели, все же не должен быть самоуверенней ее. Мадам де Бретолио вырядилась роскошнее даже княгини Антиохии. В прорезях пурпурного, громко шуршащего парчового блио виднелся полупрозрачный шелк нижней сорочки, тяжелый пояс украшала чеканка, на каждом изящном пальчике сверкало по перстню. Но едва подруги остались наедине, Изабо сразу растеряла весь свой победоносный вид:
– Ах, мадам, я люблю его величество больше жизни, но мы не ровня. Я не стою его. И дело не только в том, что он король. Бодуэн любит умные беседы с учеными людьми, читает истории благородных деяний, а больше всего радеет о благе королевства. А я во всем этом ничего не смыслю.
Констанция тут же простила бедняжке, что та разряжена как майский шест:
– Разве дама сердца должна быть засушенной чтением, словно каноник?! Ты прелестна, ты любишь его, ты способна развеселить любое сердце…
Веселая мадам де Бретолио только уныло качала головой:
– Не мое это счастье, оно мне не полагалось, и нет на нем благословения ни людей, ни Бога, вот оно и не идет мне впрок. Бодуэн уже не прежний галантный и добрый юноша, он стал жестче. И мне не до веселья, когда я знаю, что он планирует блистательный брак, что вот-вот закончится мое с ним время.
Словно подтверждая страхи Изабо, лопнуло ожерелье, которое она теребила в волнении, и жемчужины раскатились по галерее сердитым градом. Но даже Изабо не желала понять Констанцию:
– Мадам, дался вам этот Шатильон? Да таким рыцарям вся цена – двадцать экю, их с каждого корабля дюжинами сходит!
Прошли те времена, когда Изабо была доступной простушкой, влюбленной в задорного пустомелю де Брассона. Ныне она была способна любить только мужчину, достойного ее щедрой души, ее любящего сердца и ее прекрасного тела. Короля, не меньше.
На следующий день в Триполи прибыла королева Мелисенда. Размолвка с сыном и потеря трона не сломили монархиню. Власть суверена заменило влияние мудрости и опыта. Королеву сопровождали пышная свита и целый клир священников, и ее величество выглядела внушительнее, чем во времена своего правления. Сын по-прежнему выказывал ей почтение, а она обращалась с ним милостиво, словно подарила ему престол по собственной щедрости. Годиэрна тут же упрекнула сестру:
– Удивляюсь я тебе, Мелисенда. Мир не видел королевы, облеченной подобной властью, а ты смирилась с ее потерей, будто башмаки сменила. Сын тебя с отцовского трона спихнул, а ты все ему простила, как детские шалости прощала.
– Годиэрна, так в худой одежонке спиной к ветру садятся! – Мелисенда улыбнулась, она теперь часто улыбалась. – Я потеряла бы власть, только если бы не простила Бодуэна. После власти над королевством самое лучшее – это власть над королем. Он оставил мне Наблус, он снова почтительный сын, готов ко мне прислушиваться, ценит меня и благодарен мне. Лучше поладить полюбовно, чем сидеть одинокой и исходить желчью, поверь мне.
У Констанции от этих слов камень с сердца свалился. Она хоть и была уверена, что старой женщине больше подобает о душе думать, нежели в государственные дела вмешиваться, но услышать от самой королевы, что она довольна своим уделом, явилось огромным облегчением.
Годиэрна утопила встрепанную голову на груди у сестры:
– Я боюсь за свою жизнь, Мелисенда. Тут уже все так далеко зашло, тут уже либо я, либо он…
Мелисенда обняла несчастную, увела с собой, и как она увещевала графиню, Констанция не слышала, но сестринская привязанность сотворила чудо: неведомыми уговорами и доводами королева сумела утихомирить Годиэрну. Дамы вернулись в замок, и за праздничной трапезой графиня сидела бок о бок с супругом. Оба много пили. Растолстевший граф Триполийский, превратившийся со времен Акры из кабана в борова, злобно рассматривал родичей жены. Мелисенда была старше цветущей Годиэрны всего лет на восемь, но поскольку знала, что бой со временем еще безнадежнее, чем с сыном, она и тут давно уступила и потому вплотную приблизилась к черте, за которой женщина превращается в старуху.
За ужином она восседала на почетном месте рядом с сыном. Шатильон, разумеется, сидел на дальнем конце стола среди простых рыцарей, как и полагалось жениху Эмергарды, дочери ничтожного Огюста де Вье-Понта. Королева сделала знак виночерпию, предложила угоститься и Сен-Жилю.
– Ну уж нет, – Триполи прикрыл кубок короткопалой, поросшей бурой шерстью лапой, – я, дорогая свояченица, не такой любитель вашей знаменитой мальвазии, как покойный простофиля Альфонсо-Иордан. Мне мой Кретьен нальет.
Мелисенда пожала плечами, подставила собственную чашу и с удовольствием пригубила вино:
– Жаль пропадать божественному напитку. Граф, я пью за мир между вами и моей возлюбленной сестрой. Я надеюсь подать ей благой пример: я примирилась с сыном даже ценой трона и ныне между нами царят любовь, уважение и взаимопонимание.
Сен-Жиль рыгнул:
– Может, его величество просто мальвазию не любит, а? Вы, мадам, известная миротворица, помнится, даже Фульк рядом с вами побаивался пить и есть!
– Замолчите, граф, вы пьяны! – с презрением бросил Бодуэн.
– Пьян! Ну и что, клянусь кровью Христовой? Я и пьяный – хозяин в своем графстве! – язык у Сен-Жиля уже заплетался, но тем сильнее ему хотелось постоять за себя. – Проклятые бабы! Я свою дочь в монастырь постригу! Слышишь, Мелисенда, где ты?! – Грохнул кулаком по столешнице, девочка съежилась. – К кармелиткам, к матери в придачу!
– Не смейте трогать мою дочь, отвратительное убожество, – зашипела Годиэрна, но королева склонилась к ее уху, и графиня сникла как парус без ветра.
Король был доволен, что все разрешилось столь мирно и быстро. Из всего табуна его непокорных родственниц неукрощенной осталась лишь одна Констанция. Рядом с ней усадили смахивающего на ежа барона с низким лбом, извилистым длинным носом и торчащими в стороны усами. Это оказался легендарный Ральф де Мерль. Усач обратился к ней игривым, снисходительным тоном, который, видно, и завоевал ему репутацию галантного кавалера:
– Мадам, я узнал, что вы отказали Жану Соррентскому, и тот с горя постригся в монахи. Я надеюсь, его потеря – наше приобретение.
Изабо оглушительно захохотала:
– Наконец-то женщина привела мужчину к Богу. А то ведь вечно нас упрекают, что мы сосуд греха и пособницы дьявола!
Бодуэн взглянул на нее с досадой, но Изабо не замечала, она закусила удила и не владела собой: встревала в чужие беседы, жестикулировала, подзывала далеко сидящих мужчин, дулась, вертелась, обижалась, прерывала короля, закатывалась беспричинным смехом. Констанция покрывалась гусиной кожей от неловкости, страха и сочувствия, а его величество хмурил брови и избегал глядеть на свою нелепую аманту. Мелисенда тоже упорно игнорировала вульгарную полюбовницу сына. Бодуэн поднял бокал и громко на весь стол заявил, словно желая положить конец выходкам Изабо:
– Дорогая Констанция, Антиохия не может оставаться без князя, способного вести армию в бой. Вы отказали всем, кто сватался к вам, и мы больше не можем ждать вашего решения. Нам придется воспользоваться своим правом сюзерена. Мадам, вот перед вами Ральф де Мерль, славный норманн, благороднейший рыцарь, отважнейший воин и мудрый муж. Никто не может выдвинуть никаких возражений против него, и я уверен, вы не оскорбите меня и доблестного барона отказом.
Серебряная вилочка выпала из рук Констанции, звякнула о блюдо. Усы Ральфа де Мерля победно затопорщились. Сен-Жиль отбросил кость с мясом, рыгнул, вытер руки о волосы. Шатильон на своем низком месте молча уставился в кубок, охватив его с такой силой, что побелели костяшки. У жениха Эмергарды ни на что другое и не было права. Констанция ответила, надеясь, что голос ее не сорвется и не задрожит:
– Ваше величество, мессир Ральф де Мерль – достойный рыцарь, я глубоко польщена оказанной мне честью и, если бы не была обязана испросить совета василевса, согласилась бы немедленно.
Король ответил непривычно жестко:
– Мадам, у вас было три года выбирать и решать самой. Теперь в качестве вашего сюзерена и опекуна я решил за вас и уже обещал вашу руку благородному барону де Мерлю. А что касается ромейского императора – если бы вы придавали такое значение его советам, Жану Соррентскому не пришлось бы от стыда за полученный отказ в монастырь прятаться. Мы такого не допустим. – Повернулся к Ральфу: – Мессир, будьте уверены, наша добрая и покладистая Констанция выйдет за вас, даже если нам придется волочить ее к алтарю. Я не покину Триполи, не заключив этого брака.
Сен-Жиль перегнулся через стол, громко икая, просипел:
– Ральф, дружище, если вы хотите спокойно пить из собственного кубка, остерегитесь брать жену из этого гадюшника.
Констанция с трудом дышала. Она явилась сюда, рискуя своей жизнью и жизнью своих людей, чтобы оказать поддержку тетке и уважение семье. А Бодуэн поймал ее в ловушку и пытается обращаться с независимой княгиней Антиохии как с дочерью мелкого вассала. Да, Изабо права, он уже не тот почтительный и уступчивый юноша, которого надо было уговаривать вытребовать у матери отцовский трон. Ну что ж, посмотрим, чьи клятвы окажутся крепче:
– Мессир де Мерль, я уверена, вы не станете ловить короля на слове и позволите мне самой распорядиться собой.
Рыцарь дернул огромным кадыком, задвигал кончиком висящего носа, на подбородке повисла капля жира:
– Мадам, моя любовь к вам так велика, что я не в состоянии отказаться от своего счастья. Нам, как верным вассалам, остается только выполнить волю его величества, и клянусь, я не пожалею усилий сделать вас счастливой.
Годиэрна пробасила:
– Ну раз так, выпьем за еще один счастливый брак в нашей дружной семейке! Жаль, Иовета у нас аббатиса, а то бы мы и ее на всю жизнь осчастливили!
Восковая свеча на краю пюпитра переписчика трещала и мигала в затхлом воздухе монастырского скриптория, ее огонек двоился в немигающих кошачьих глазах Шатильона.
– Мессир, я позвала вас, чтобы поблагодарить за защиту в пути… – Он усмехнулся, видимо, презирая жалкий предлог, она быстро продолжила: – И потому, что мне нужно решать, как поступить. – Рено листал оставленную писцами книгу, но тут уставился на Констанцию с любопытством, она поспешно пояснила: – Меня собираются выдать замуж за Ральфа де Мерля. А он мне отвратителен.
Взметнул брови, невозмутимо спросил:
– Вы хотите, чтобы я его убил? – так спокойно, как будто не находил ничего особенного в подобной просьбе.
– Хочу, да, хочу, – Констанция засмеялась коротким злым смешком, тыльной стороной руки растерла слезы по лицу, – но только не вздумайте никого убивать, это погубит нас обоих.
– У меня много пороков, но я точно не трус.
– Рейнальд, мне не это нужно. Мне нужен тот, кто навсегда сможет меня ото всех защитить. Если я сама его себе не выберу, мне этого Ральфа навяжут, или Суассона, или Жана Соррентского. Да мало ли желающих?! – Он слушал, не перебивал, в приоткрытом вороте шемизы спокойно поднималась и опускалась грудь, казавшаяся в полутьме темной, как у нубийца. Ее так тянуло дотронуться до него, что голова кружилась. Глядя на отражения свечи в его зрачках, попросила тоненько, надеясь, что в полумраке не видно, как стыд выжег щеки: – Женитесь на мне, ваша милость. Прямо сейчас. – Он молчал, и она обреченно, как пригнувший в бездну, продолжила падать: – Мы можем пойти в часовню, вызвать священника и обручиться не откладывая. – Он уставился на нее завороженно, не моргая, словно на огонь засмотрелся. С невольным всхлипом, потому что перехватило дыхание, Констанция торопливо прибавила: – Всем придется смириться с нашим браком.
Делала вид, будто предложила простую шалость, а ответа ждала, как смертник – помилования. Он медленно поднял руки, она подалась к нему, но он не обнял ее, а сцепил их за затылком, перевел взгляд в сторону, сощурился, напряженно сведя брови и закусив губу. Что тут думать-то? Может, он не верил ей? Неужто все же предпочитал Эмергарду? Уже не притворяясь, что ей все равно, принялась страстно убеждать:
– Вам никогда больше не придется сидеть на нижнем краю стола. У вас будет стол и постель, и в постели буду ждать вас я, я рожу вам детей. Вы станете ровней любому.
Он вздрогнул, словно стряхнул наваждение:
– Не в том случае, если мы сделаем это скрытно. Я же говорил, что не буду в потайную калитку прокрадываться. Нам нужно согласие его величества.
– Да некогда его согласия ждать! Рено, неужто вы не понимаете? Он намерен обвенчать меня с этим омерзительным Ральфом! – У Констанции от отчаяния брызнули слезы.
– Отрадно, что я кажусь вам предпочтительней Ральфа.
А она ему кажется предпочтительней Эмергарды? Вспомнила, как много лет назад дама Алиса добивалась любви Раймонда, от стыда и обиды заполыхали лицо, шея, грудь. Было бы легче пройтись по углям босой, но она все же спросила, хоть сердце и ухало в груди, как раскачанный колокол:
– Рейнальд, а сами-то вы меня любите?
– Мадам, – так мягко, так нежно с ней вечность ни один мужчина не говорил, – чего стоят уверения в любви? Их даже у Ральфа полным-полно. Кстати, а куда мы денем галантного старину де Мерля?
– Не знаю, я сейчас не могу о нем думать.
Вздохнул, почесал бровь:
– Констанция, вы мне очень нравитесь. Меня к вам тянет. Вы прекрасная, добрая, веселая, умная и красивая. Я предан вам так, как должен быть предан своему сюзерену верный вассал и, наверное, даже больше. Но я не завидую вам, если вы свяжете свою жизнь с моей. Я… такой, какой есть, и другим быть не могу…
Боже, да все это совсем не важно! Он нужен ей именно такой! «Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?» Констанция закрыла лицо руками:
– Рено, вы, наверное, бог знает что обо мне думаете. Не очень-то скромно я вешаюсь вам на шею. Но я подумала, что мне будет легче предложить вам свою руку, чем вам попросить ее. Но все же, если вы меня совсем не любите, то, пожалуйста, не надо…
Он как-то сразу оказался рядом, обнял за плечи, зарылся лицом в ее волосы:
– Ну хорошо, милая моя вымогательница, я люблю вас… как умею, – больно сжал, притянул к себе, с хрипом втянул в себя воздух между ними: – Господь свидетель, ты желанна мне, девочка моя.
Сердце Констанции замерло, пропустило стук, а потом зашлось в отчаянном пасхальном благовесте, голова пьяно закружилась, грудь словно жидким оловом затопило, и ноги подогнулись растаявшим воском. Свеча оплыла, помигала и затухла, но что ей тьма, Констанция сама пылала горячее и ярче тысячи свечей. Сердце шаталось, носилось, падало и воспаряло от ненасытной нежности, от томительного запаха старых манускриптов, от свечного чада, от жара стыда и блаженного наслаждения.
«Положи меня как печать на сердце твое! Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Эйнгедских. В тени его сидела я и наслаждалась, и плод его сладок был небу моему. Левая рука его у меня под головою, а правая – обнимает меня.»
Не устерегла Констанция своего виноградника.
Годиэрна покорно приняла все условия графа и примирилась с ним, испросив лишь разрешения погостить некоторое время в Иерусалиме. Сен-Жиль разрешение охотно выдал – соберись Годиэрна по синайской пустыне сорок лет бродить, он еще больше обрадовался бы. В отличном настроении отправился провожать сестер до первой дорожной развилки, словно хотел убедиться, что они и в самом деле покинут Триполи. С ним был Ральф де Мерль. Присутствующие умилялись, наблюдая трогательное прощание Годиэрны с супругом, сулившее в будущем лишь любовь и сердечное согласие.
Сестры со свитой и охраной уже проскакали несколько лье, когда их настиг гонец с ужасной вестью: на возвращавшегося домой графа Триполийского у самых городских ворот напали ассасины и закололи графа вместе с сопровождавшим его Ральфом де Мерлем. Убийцы успели скрыться от возмездия, и подданным Сен-Жиля пришлось утолить праведный гнев расправой с местными басурманами.
Ассасины давно выслеживали и уничтожали всех суннитских правителей, им не было равных в искусстве убивать самыми неожиданными и изощренными способами. Зачастую какой-нибудь эмир спокойно засыпал в своей роскошной опочивальне, у дверей которой бдела преданная стража, лишь для того, чтобы посреди ночи вскинуться, захрипеть от удушья и изорвать подушки в напрасных попытках освободиться от шелкового шнурка. Нередко атабек принимал пищу из рук верного раба лишь для того, чтобы скатиться на ковер в страшных судорогах с пеной у рта. Неприступные гнезда последователей Исмаила соседствовали с тамплиерскими крепостями Камеле, Ла-Коле, Крак-де-Шевалье и с приморской Тортосой, но до сих пор не было случая, чтобы они покушались на франков, между ними и латинянами царил мир людей, у которых общий враг – сунниты. В бою при Инабе они даже сражались бок о бок с Пуатье.
На похоронах скорбящие шептались, что там, где появляется Мелисенда, неизбежно случается несчастье. Однако люди здравомыслящие напоминали охочим до вымыслов и наветов сплетникам, что ассасины ненавидели Раймунда с тех пор, как он передал госпитальерам крепость Крак-де-Шевалье, на которую они сами зарились. Укутанная в покрывало Констанция на заупокойной мессе сидела ни жива ни мертва, на похоронах едва держалась на ногах, потупив долу лихорадочно блестящие глаза и стараясь оставаться позади неприметной. Но никто, кроме нее, и не вспоминал о хороших отношениях Антиохии с ассасинами, а о том, что когда-то Констанция спасла жизнь одному из родичей Старца Горы, ведал только один Рено де Шатильон. Как бы то ни было, несчастный случай удачно избавил княгиню от Ральфа де Мерля, и тетка, которую, видимо, смягчила смерть в семье, подобрела к племяннице. Промолвила:
– Милая моя, а вы ведь напоминаете меня в юности, умеете добиваться своего. – И добавила задумчиво: – Хорошо, что Господь дал мне лишь сыновей.
Даже посулила уговорить Бодуэна согласиться на брак Констанции с отважным и полным достоинств шевалье Рейнальдом де Шатильоном.
После гибели Сен-Жиля Нуреддин напал на триполийскую крепость Тортосу и овладел ею. Крепость все же удалось отбить, и Годиэрна, женщина с сердцем льва, нимало не устрашенная судьбой убитого супруга, тут же передала ее тамплиерам. Теперь все оставшиеся владения латинян в Сирии защищали две вдовы и рыцари монашеских орденов.
* * *
В распахнутые полы королевского павильона виднелся песчаный берег и мощные, укрепленные многими башнями двойные стены Аскалона, полукругом спускающиеся к морю. Посреди шатра возвышался Животворящий Крест, вокруг реликвии толпились бароны королевства и князья церкви. Патриарх Иерусалима Фулькерий Ангулемский только что закончил молитву и теперь простер руки к собравшимся баронам:
– Сир, сыны мои, братья во Христе! Вот лежит перед вами наша святыня, частица Креста, на котором был распят Спаситель. Вот что Он сделал ради нас. Что мы готовы сделать во имя Его?
Бодуэн осенил себя крестным знамением, обвел окружающих твердым, властным взглядом. Высокий, плотный король еще больше раздобрел, стоял, расставив могучие, как дубы, ноги, крепкий живот распирал пояс. В последние годы в нем появилось истинно королевское величие.
– Друзья мои, верные вассалы, я ожидаю от вас мудрого и взвешенного совета. Решите: осаждать ли нам Аскалон и дальше или отступиться от этих стен? Остаться ли возлюбленному нашему Утремеру крохотной приморской полоской или стать великим царством Вавилонским?
Кастелян Хеврона Онфруа II де Торон, недавно назначенный коннетаблем королевства вместо изгнанного Менассе д’Иерже, возмущенно кивнул на город:
– Аскалон давно бы сдался, если бы эти собаки не были уверены в мощи городских фортификаций: мерзавцы знают, что их вдвое больше, чем нас, и уверены, что их стены несокрушимы.
Патриарх Фульхерий с упреком качнул митрой:
– Разве Господь не с нами? Разве не совершили мы крестные ходы и молебны у стен Аскалона? Разве не с нами омытый кровью Сына Божьего святой Животворящий Крест? Что же мешает нам, дети мои, так же пылко верить, что мы одолеем нечестивых филистимлян?
Архиепископы Тира, Кесарии и Назарета и с ними вместе епископы Вифлеема и Акры согласно закивали, зашуршали, заколыхали ризами, подтверждая действенность предпринятых мер и откладывая на будущее споры о том, к какой епархии отойдет Аскалон.
Молодой Гуго д’Ибелин, получивший после изгнания его отчима Менассе фьеф Рамлы, дерзко задрал прыщавый подбородок:
– Не недостаток веры мешает нам взять город, а египетские галеры, которые беспрепятственно подвозят с моря людей и припасы. Осаждать с суши крепость, открытую с моря – это как караулить лису у одного входа в ее нору, пока она свободно лазит из другого.
Адмирал королевского флота Жерар де Гранье, лорд Сидона, один из четырех главных вассалов Иерусалима, скривил рот:
– Как же я могу запереть море, когда у меня не осталось кораблей?
Совсем недавно семейство д’Ибелинов поддерживало Мелисенду, в то время как сам Жерар всегда был неколебимо верен молодому королю, ибо находился в опале у королевы-матери с тех давних пор, как обвинил своего отчима Хьюго де Пюизе в измене Фульку Анжуйскому. Бодуэн, как ожидалось, одержал верх над старой отравительницей, но вместо того, чтобы первым делом изгнать из королевства всех ее приверженцев, прекраснодушный венценосец заключил с матерью почетное соглашение и принялся сплачивать воедино всех правых и виноватых. И теперь недавние противники осмеливались попрекать вернейших сторонников! Выпятив брюхо, как петух на заборе, де Гранье напомнил:
– Его величество знает, кто всегда был готов за него жизнь отдать, а кто разобрал на доски все суда королевской флотилии!
Задиристый д’Ибелин затрясся, вытянулся гончей на сворке:
– Из чего же нам было строить лестницы и осадные башни? Мы и так вырубили все окрестные сады, за двадцать лье бревна таскали! А много ли толку от тех кораблей, что у вас остались, адмирал? Лучше бы мы их на обогрев пустили: египетские плоскодонки продолжают вплывать в морские ворота Аскалона невестой под венец!
Жерар даже шеей побагровел, надул пунцовые щеки и медленно, сквозь усы процедил:
– А ваши осадные башни на что сгодились? В арабские серали с них подглядывать? Что я могу с килевыми кораблями на этом мелководье? Удобной гавани здесь нет, к берегу подойти невозможно, не могу же я блокировать все взморье дюжиной суденышек.
Латиняне окружили Аскалон в февральские календы, но подготовку к захвату начали годы назад: со всех сторон окружили город крепостями и заградили сухопутное сообщение с Египтом, возведя в заброшенной филистимлянской Газе мощную цитадель. Никто не сомневался, что последний оплот Фатимидов на побережье Палестины падет в первый же месяц. Никто, кроме наглых обитателей города, у которых оказались нескончаемые запасы пищи и питья. Из-за их упрямства франки третий месяц сусликами торчали в песчаных дюнах. В феврале и марте на ветреном морском побережье у воинов в металлических хауберках от стужи зуб на зуб не попадал, палатки и шатры не просыхали от дождей и пришлось вокруг них вырыть канавы, иначе ливневые потоки смыли бы с собой весь лагерь. Весна принесла мучительное разнообразие – ночью солдаты по-прежнему тряслись от холода, зато днем солнце пустыни нещадно раскаляло металл доспехов. Помимо того, добавилась отвратная вонь от скопившегося вокруг лагеря мусора. Хоть рыцари поотважней и ополаскивались в морских волнах, но у многих началась потница и замучили вши. Все пространство между палатками смердело отхожими местами, провиант доставлялся с перебоями, питаться приходилось всухомятку, так как не хватало дров для костров, людей жалили скорпионы и змеи, шакалы и лисы упорно откапывали разлагающиеся лошадиные крупы, песок в полусыром хлебе скрипел на зубах, забивался в глаза и под ржавеющие от едкой морской влаги доспехи. Того и гляди, в лагере появится какое-нибудь поветрие. А наглые жители Аскалона продолжали с недоступных укреплений издеваться над попыткой христиан взять с суши открытый с моря порт.
Все это, конечно, можно было вытерпеть ради конечного торжества Господа, но безнадежная и бессмысленная затея надоедает вдвое быстрее многообещающего почина, и многие владельцы фьефов давно втайне рвались в собственные владения. Однако никто не был готов сдаться первым. Поэтому стратеги короля задумчиво изучали бушующие волны, бастионы в пятьдесят локтей высотой и бесполезные осадные машины. Король заложил большие пальцы за пояс, обвел взглядом баронов, привел последний довод:
– Друзья, вражеская гавань внутри наших земель – это не только острый меч у самого нашего горла, это еще и дыра в нашем кармане! Пока у египтян имеется Аскалон, наши порты будут терять прибыль от торговли с Африкой.
Бароны тоскливо засопели: торговлю рыцари, разумеется, презирали, пусть ею итальяшки мараются, но львиная доля доходов королевства поступала именно от пошлин на товары магометанских торговцев. Короля поддержал Великий Магистр госпитальеров де Пюи:
– Продолжим осаду, ваше величество, Аскалон – как твердая пробка, запирающая в сосуде блаженное вино. Стоит нам откупорить ее – и Египет наш. Халифат так слаб, что, если мы не возьмем его, он падет в жадные лапы Нуреддина.
Из-за спин знатных баронов послышался спокойный хрипловатый голос:
– На Пасху с весенней навигацией прибудет множество кораблей с паломниками.
– Договорите вашу мысль, мессир Шатильон, – любезно помахал пальцами Бодуэн. Король всегда проявлял учтивость даже к самому ничтожному шевалье, неизвестно как затесавшемуся в его свиту.
– Всех годных к военному делу богомольцев нужно доставить сюда, нам на помощь, – невозмутимо и неторопливо рассуждал Рейнальд, словно короля не окружало великое множество преданных и высокородных вассалов, чьи заслуги давали им право первыми додуматься до разумного совета.
Мысль была неплохая, но в глазах баронов ее непоправимо портило то, что высказал ее выскочка-француз из далекой Антиохии, внезапно объявившийся в королевском лагере. Поэтому Онфруа II де Торон повернулся к Шатильону спиной и справедливо указал:
– Многие паломники пребывают в Утремер в состоянии умиления и раскаяния и могут не согласиться воевать с сарацинами вместо того, чтобы отмаливать свои грехи по святым местам.
– Согласятся, если не оставить им выбора и если королевская казна оплатит каждый день участия в осаде, – Рейнальд решительно протиснулся вперед, тем самым добавив к вызывающей речи непочтительные манеры. – И все корабли, на которых приплыли паломники, тоже следует перегнать сюда, на это побережье.
– Корабли италийские, а с тех пор как эти торгаши разжились удобными гаванями по всему Леванту, на итальяшек нельзя полагаться! За сходную плату они первыми примутся снабжать аскалонцев! Все европейские суда должны быть отданы под мое начальство! – адмирал Жерар Сидонский расставил ноги и подбоченился, показывая, что в вопросах чести самая юркая галера не оплывет его ни справа, ни слева.
Д«Ибелин, разумеется, знал, что не может заслуживать одобрения план, усиливающий Жерара, и уже собирался привести в пользу этого мнения неотразимые доводы, как снаружи послышались крики. От аскалонских ворот к лагерю латинян галопом неслись двое всадников в чалмах и кафтанах, оба махали руками и пронзительно вопили. Наперерез им помчались стражники, и скоро к королевскому шатру подвели спешившихся магометан, один из которых радостно улыбался и приветливо взывал, мешая арабский и французский:
– Аль-Малик Бодуэн! Ас-саляму алейкум! Помните ли вы меня? Это я, ваш сахбак, ваш друг – Усама ибн Мункыз! Как же вы возмужали, Бодуэн ибн Фулк!
– Эмир? – король не верил своим глазам. – Что вы здесь делаете?
Действительно, сопровождаемый стражниками, в палатку с поклонами впорхнул бывший шейзарский эмир, участник мирных переговоров в Сен-Жан д’Акре, поверенный и приближенный покойного Мехенеддина: постаревший, но по-прежнему величественный и учтивый эмир Усама ибн Мункыз. Уголь бородки эмира алхимик-время превратило в благородное серебро, сам араб слегка усох, но не потерял ни прыткости тела, ни живости ума, ни изящества манер.
Навстречу ибн Мункызу бросился виконт Акры – Жерар де Баланс, вслед за ним гостя стиснул в объятиях галилеянин Уильям Фалконберг и его руки горячо пожал Филипп де Милли, сеньор Наблуса. Старые знакомцы были растроганы, убедившись, что все они еще живы и рты по-прежнему полны зубов. Война войной, осада осадою, а славный Усамка, умевший каждому дать почувствовать, что он его лучший друг, приятно напомнил о юности, о проказах в Акре, о добрых старых временах. Бароны также учтиво приветствовали не говорящего по-французски спутника Усамы.
– Какими судьбами вы в Аскалоне, любезный эмир?
– Ээээ… – Усама смешался, но тут же вновь обрел свое красноречие, сопровождая каждое слово плавными взмахами рук: – Два года тому назад главный визирь халифа Мисра, ибн Саллар, по праву именуемый Первым среди Справедливых и Мечом Ислама, послал меня и своего пасынка, – ибн Мункыз представил своего спутника, – моего почтенного друга эмира Насера ад-Дина Аббаса, укреплять Аскалон.
– Вы неплохо справились с поручением визиря, – мрачно кивнул на гигантские фортификации Арнульф, сеньор близлежащей крепости Бланшгард.
– О, ас-сайяди Арнульф, я бессилен выразить удовольствие, доставленное мне вашим признанием, – польщенный эмир прижал ладони к груди и поклонился, – ведь два года назад тут были одни руины! Только подобные вам знатоки могут оценить достигнутое мной! Теперь город совершенно неприступен, а вдобавок его защищает мой доблестный брат Али ибн Мункыз.
И араб плавно простер руку к Аскалону, предлагая франкам вместе полюбоваться его творением. Франки мрачно полюбовались, в тысячный раз за последние месяцы.
– Вы прибыли сдаться, дорогой Усама? Ради вас мы предоставим городу самые щедрые условия!
Эмир скорбно вздохнул:
– Йа аль-Малик! Если бы это зависело от меня, вы же знаете, друзья мои, я охотно отдал бы вам последний халат с собственного плеча, но это не в моей воле. Мы прибыли всего лишь ради несказанного удовольствия увидеть ваше праведное величество и всех вас, благородные друзья мои. А заодно обговорить обмен пленными и заключить краткое перемирие, которое позволило бы обеим сторонам похоронить своих погибших.
– О! Мы сожалеем услышать, что у вас много погибших, дорогой Усама, у нас-то все пребывают в прекрасном здравии, уверяю вас!
Эмир поднял ладони и закивал белым тюрбаном, вежливо соглашаясь. Король подмигнул:
– Ну ладно, несколько бедолаг скончались, но не из-за ваших обстрелов, а исключительно из-за нехватки дамского общества!
Действительно, из-за невыносимых условий лагерь оставили не только прачки, но даже гулящие девки.
– Да, – ибн Мункыз горестно вздохнул, – мое сердце тоже рыдает в груди при воспоминании о прекрасном гареме, покинутом мной в дивной Аль-Кахире. А при мысли о брошенных там книгах оно кровоточит.
Тем временем два полковых каноника с великими предосторожностями приподняли и вынесли из шатра Животворящий Крест. За минувшие годы Усама явно не растерял интереса к обычаям франков, вытянул вслед реликвии длинную шею:
– Да будет мне позволено узнать, друзья мои, если этот талисман так дорог вам, почему вы подвергаете его опасностям и превратностям боя? Почему не бережете в благонадежном месте?
– Дорогой эмир, потому что не мы бережем Крест, а он нас. Когда мы сражаемся под сенью этой драгоценной реликвии, поправший смерть Христос сражается среди нас, и мы не можем потерпеть поражение.
Опытный дипломат Усама только кинул исподтишка взгляд на несокрушимые бастионы Аскалона, на вонючий лагерь христианских свиней, зарывшихся в дюны землеройками, и в утешение кафирам заметил:
– Побеждает тот, чья звезда ярче, чье везение оказывается крепче!
Старые друзья еще некоторое время растроганно припоминали золотые дни Акры.
– Да смилостивится Господь над душой покойного Мехенеддина, – вздохнул король, сожалея, что ему так и не удалось отвоевать у старого шакала Буссарет и Дамаск. – Нынешний властитель Дамаска не достоин даже на его лошади сидеть, не только на троне!
Усама перевел своему спутнику, по-французски не понимавшему:
– Аль-Малик неверных хвалит покойного Муин ад-Дина Унура и надеется, что Аллах смилостивится над его душой.
– Еще бы не хвалить, поганый мамлюк гяурам Баниас подарил. Апостата на том свете до тех пор будут поджаривать, пока умма не отвоюет обратно весь Дар аль-Ислам, – ласково сказал Аббас и вежливо, в пояс, поклонился аль-Малику проклятых многобожников, укрывателей истины.
– Память моя стала дырява, как старая подстилка, – учтиво обратился ибн Мункыз к молчаливому красивому мужчине, – затрудняюсь припомнить, встречались ли мы с вами при дворе аль-Малика Фулка?
– Нет, меня там не было. Я прибыл в Утремер только четыре года назад и последнее время служу княгине Антиохийской.
– О! Душа моя слагает вирши каждый раз, когда я думаю о нежной и задумчивой мадаме Констанции. Как поживает светлейшая пери, подобная зимней заре? Мадам вышла снова замуж? Она была бы достойна украсить собой любой гарем. Нет? Какая жалость! – оживился Усама. – Эта женщина нуждается в любви, как лилия в поливе.
– Вы ошибаетесь, мой друг, – подмигнул ему король, – лилия превратилась в чертополох – прогнала всех, кого я предлагал ей в садовники.
Беспредметный разговор длился долго, пока наконец Усама не остался с Бодуэном наедине:
– Позволит ли великолепный аль-Малик обратиться к нему с просьбой, от которой ему последует великая польза? Пропустите вашего ни на что не годного, но верного и покорного друга через ваше оцепление. Мне необходимо вернуться в Аль-Кахиру вместе с моим достопочтенным другом Насером ад-Дином Аббасом.
– Вы так сильно стосковались по вашим книгам и гарему? – сочувственно поинтересовался король.
– Вы читаете в моем сердце как в развернутом свитке, ваше величество. Но еще больше я пекусь о возможном мире между нашими странами. С тех пор как я уговорил покойного Мехенеддина заключить мир с аль-Маликом Фулком, я навеки остался неисправимым миротворцем!
Усама пояснил, что от имени халифа Мисром правит никуда не годный визирь ибн Саллар, суннитский курд при шиитском дворе, которого лишь бесстыжие подхалимы величают Первым среди Справедливых и Мечом Ислама! Харам! Стыд и позор! Да проржавеет клинок этого Меча, если он у него имеется! Всего пару лет назад этот курд в своей безграничной глупости посылал его, ибн Мункыза, в Сурию, дабы сговориться с Нур ад-Дином о совместном нападении на сынов Троицы. Но недостойный друг франков Усама постарался, чтобы из этого замысла ничего не вышло, поскольку был и остался убежден, что главную опасность для всех прочих правителей Востока представляет сам ненасытный Нур ад-Дин, да лишит Аллах милости того, кто замышляет против своих единоверцев!
– Ваше великолепие, Нур ад-Дин намеревается захватить Дамаск, Миср и весь Фалястын, – доверительно поведал эмир. – Он опасен вам так же, как и фатимидскому халифу. Мисру и франджам необходимо объединиться против тюрка. Но нынешний визирь – этот никчемный и распутный ибн Саллар – не понимает этого! Мой достойный друг Аббас – его приемный сын, – Усама указал на своего спутника, – намеревается отстранить своего негодного отчима от кормила власти и при моей посильной помощи взвалить на себя ее бремя. Если наш план удастся, то ничто не помешает дражайшему аль-Малику вскоре заключить с Мисром выгоднейший союз, который положит предел Нур ад-Дину.
– Даже взятие Аскалона не помешает? – расхохотался Бодуэн. – Дорогой Усама, сердце говорит мне, что вы всегда действуете в интересах мира и всех нас.
Разум же говорил королю, что интриги неугомонного ибн Мункыза так или иначе непременно пошатнут Египет. Он разрешил сарацинам беспрепятственно проехать сквозь его войска.
Довольный ибн Мункыз повел Аббаса к коновязи:
– Ну что, мой драгоценный друг? По-прежнему ли вы грустите по приятной жизни в победоносном городе тысячи минаретов?
– Как верблюд по оазису! Будь проклят этот мерзкий Фалястын, в котором одни лишь войны!
– В таком случае мои новости покажутся вашим ушам сладостными, как предвечерняя азана муэдзина. Дорогой друг, аль-Малик укрывателей истины поручил мне вести с халифом переговоры о мире, так что нам необходимо срочно вернуться в Аль-Кахиру. Я открою вам сердце без утайки: у нас имеется еще одна причина гнать коней. Вы ведь знаете, что мои сны, как правило, вещие? Так вот, во сне я видел, что главному визирю халифа, вашему отчиму и нашему замечательному повелителю, осталось жить совсем недолго. А если бы, допустим, ибн Саллар, этот острый и верный Меч Ислама внезапно скончался, – а ведь никто не удивился бы, если внезапно скончается человек, проводящий дни и ночи в распутстве и сладострастии? – то именно вам, мой благородный друг, пришлось бы заменить нашему драгоценному халифу этого полного пороков, недостойного курда-суннита. Я надеюсь, что, став визирем, вы вновь обретете все приятности жизни!
Выехав беспрепятственно из окружения неверных, Усама опустил поводья и отравленной стрелой полетел в сторону Аль-Кахиры, не бросив на покинутый Аскалон ни единого прощального взгляда:
– Поторопимся, мой дражайший Аббас, поторопимся. Все в мире решает судьба, и человек – только муравей, сухой листок, гонимый ветром событий. Но иногда, для того чтобы поднялся попутный листку ветер, старому Усаме приходится взмахнуть полой своего халата.
Бодуэн смотрел вслед всадникам, пока сарацины не скрылись за холмами и ветер не занес в песке следы их коней.
По совету Шатильона италийские суда на Пасху доставили паломников из Яффы и Акры, но для успешного штурма этих непривычных к оружию вилланов не хватило, а едва они провели на пустынном берегу достаточный срок, чтобы заработать обещанные им деньги и индульгенции, как принялись тяготиться нескончаемой осадой. Капитаны кораблей тоже не желали терять драгоценное время летней навигации на патрулирование аскалонского побережья. Первой благое дело под покровом ночи покинула трирема «Серениссима», недаром над ее кормой реял девиз «Non aspetto! – Не жду!». Прочие судовладельцы сходили с ума, представляя себе выгодные фрахты, достающиеся ее капитану, известному пройдохе Антонио, пока они бесприбыльно торчат в водах Аскалона, подобно евнухам у дверей гарема. Одна за другой галеры покидали рейд. А едва последний венецианский корабль скрылся за горизонтом, как море застлали египетские паруса, и во вражескую гавань беспрепятственно вплыли семьдесят фатимидских судов из Александрии, до кормы заполненных припасами и оружием.
Еще три месяца миновало в бессильном разглядывании гигантских бастионов.
У жителей Аскалона уже вошло в обычай нагуливать себе аппетит перед ужином, прогуливаясь вдоль парапетов укреплений и посмеиваясь над маджнунами – дурными франджами, томящимися на палящем солнце в зловонном лагере.
К августу изнемог даже упорный, как вол, Бодуэн. В несчетный раз объезжая стены города, он с бессильной досадой рассматривал из-под ладони вражьи куртины. В хвосте свиты понуро трусил на похудевшем Баярде Рейнальд. Почти четыре месяца он провел под стенами Аскалона, но случая отличиться и обрести благосклонность короля все не представлялось. Его догнал и учтиво окликнул скакавший следом тамплиер:
– Я слышал, мессир, вы из Антиохии? Могу ли я узнать у вас о здоровье благородной княгини?
– Вот не знал, что тамплиерам разрешено интересоваться женщинами, – прищурился Рено. – С большей нежностью ее тут вспоминал только басурманский эмир.
– Княгиня Антиохийская когда-то спасла меня от позорной казни.
Рено взглянул на тамплиера с уважением:
– Как это вы умудрились заслужить позорную казнь с такими учтивыми манерами?
– Тот случай помог мне их приобрести. Сержанту-тамплиеру оказалось достаточно нарушить дисциплину и уронить честь ордена. Я не сдержался и из-за пары обидных слов скрестил мечи с задиристым пажом ее светлости. Наш сенешаль уже закинул веревку на дерево, и только княгиня удержала де Монбара, не устрашившись даже его меча. Я не боюсь смерти, но не так должен погибнуть брат ордена.
Храмовник сказал это просто, без напыщенности или хвастовства. Протянул руку Рейнальду, Шатильон склонился с седла, ответил крепким рукопожатием:
– Рад свести знакомство с висельником. Так это вас Вивьен подначил? Неисправимый забияка. Если вернусь в Антиохию, непременно снесу ему голову.
– Конечно, вернетесь. Передайте тогда княгине, что спасенный ею Симон навсегда остался благодарен ей. Хоть мне и не следует обращать внимание на женщин, но я не мог не заметить, что она прекрасная дама.
– Это бросается в глаза. Я вот тоже так считаю, потому и прибыл сюда – просить короля дать согласие на наш брак, но мне все не представляется случай отличиться и снискать такую милость.
Рено похудел, оброс черной щетиной, глаза покраснели и слезились от недосыпа и песчаного ветра. Все устали и отчаялись. Король вот-вот снимет осаду. И что тогда? За неудачную кампанию никто не станет награждать рукой самой владетельной принцессы Утремера. Тамплиер не отвечал, сгорбился в седле и продолжал рассматривать необоримые фортификации.
Скачущий впереди Бодуэн круто остановился, подняв жеребца на дыбы, свита столпилась вокруг венценосца, напирая друг на друга конскими крупами:
– Все, снимаем лагерь.
Рыцари сжимали челюсти, хмурились, пялились в землю и молчали, потому что лучшего плана ни у кого не было. Магистр госпитальеров де Пюи сокрушенно подергал ус:
– Нам больше не собрать войска для подобного усилия. А без Аскалона южная Иудея никогда не будет в безопасности, и нам уже вовеки не взять Египет. Повторится ошибка с Алеппо: захвати мы эмират полвека назад, Нуреддин сегодня овец бы пас, а не Сирией владел.
Магистр тамплиеров Бернар де Трембле тут же запальчиво уличил соперничающий орден:
– Госпитальерам не терпится захватить Египет, чтобы им сподручнее было через Александрию торговать! Наша миссия включает в себя только Святую Землю!
– Оказывается, Иберию тоже, с тех пор как вам обещали десятую долю доходов от всех отвоеванных в ней владений. Сдается, каждая земля, с которой можно поживиться, наполняется для храмовников святостью!
– Мы убедились, что Аскалон осадой не взять, значит, придется штурмовать, – прервал Шатильон перебранку Магистров.
– Да как?!
Казалось, широкий оскал городских стен насмехался над усилиями латинян.
Симон подал голос:
– А что если собрать весь хворост и ветви из вырубленных садов, все оставшиеся бревнышки, щепки и деревяшки, свалить все это у подножья стены, залить маслом и попробовать развести огонь? Если запылает как следует, кладка может рухнуть, а если сначала поджечь мешки с хлопком, густой дым не позволит защитникам затушить пожар.
Все плодовые бустаны, оливковые и финиковые рощи вырубили еще зимой, от цитрусовых плантаций остались одни пеньки, фиговые деревья и шелковицы давно сравняли с землей, а пригодные стволы пошли на сооружение осадных башен. Но море порой выбрасывало древесину, и высохшего конского навоза имелись авгиевы запасы.
– А почему вы не предложили это ордену, брат Ришар? – раздраженно спросил Магистр Бернар де Трембле, грубо дернув уздечку своего жеребца.
– Мессир Рейнальд де Шатильон только что поделился этим планом со мной, Мастер. Мне бы такое и в голову не пришло. Если вы помните, ваше величество, это не первый план нападения, предложенный шевалье Шатильоном.
Рено усмехнулся, покачал головой, но промолчал. Ив де Несль, граф Суассонский, не терпевший антиохийцев с тех пор, как ему отказала их княгиня, процедил:
– Если прежний план Шатильона был так хорош, то почему мы по-прежнему по эту сторону стены?
Рыцари согласно закивали, внутренние споры и разногласия отступили перед необходимостью дать общий отпор новоявленному авантюристу. Один король почесал свалявшуюся бороду:
– Стоит попробовать. Иначе все было напрасно. Немедленно пошлем ратников на сбор всего, что может гореть.
– Планы придумывать и кизяки собирать – не на стену лезть, – громко сказал Гуго д’Ибелин, уставившись в упор на Шатильона. Ибелины сами были новой знатью, возвысившейся только в Утремере, и, чего Гуго уже совсем не мог простить выскочке, прекрасная Агнес де Куртене отличала Рейнальда.
Первым в узкий проем ворваться – на верную смерть пойти. В пылу боя любой рванулся бы, отпихивая товарищей, но тут все со злорадством предоставили эту честь умнику, вылезшему поперек более достойных людей. Шатильон рывком развернул коня:
– Ваше величество, я надеюсь, мне будет позволено идти на приступ первым.
Симон перебил его:
– Эта честь должна принадлежать храмовникам. Не годится кому-либо оказаться преданнее Господнему делу.
Бернар де Трембле оттеснил злобно всхрапывающим конем брата Ришара, прошипел:
– Вы сегодня, Симон, прямо в каждой бочке затычка! – Заметил издевающийся взгляд де Пюи, приосанился и громко заявил: – Если стена рухнет, я берусь захватить город с сорока братьями! Сам поведу их. А вы, Ришар, – бросил мстительно, – понесете знамя.
– Спасибо за честь, Мастер, – спокойно ответил Симон. Самая опасная должность, она и самая почетная.
Побросали в разведенные костры все, что могло гореть и у чего не оказалось хозяина, способного отстоять свое добро, пожертвовали даже осадной башней, и от плавящего жара огромного пламени рухнула наконец-то поврежденная обстрелами куртина. Сорок тамплиеров, среди них сам Магистр ордена и знаменосец Симон Ришар, ворвались в образовавшуюся брешь, и пока крохотный отряд гордецов пытался покорить город, их товарищи не позволяли прочим рыцарям последовать за ними. Королевские воины могли бы одолеть храмовников, но король повелел не поднимать меча на собратьев по оружию.
К вечеру все было кончено. Верхушки бастионов увенчались фонарями, защищенными от ветра стеклянными колпаками. В их колеблющемся свете качались сорок обезглавленных трупов, привязанных за ноги и перекинутых через парапеты. Аскалонцы одолели не пожелавших делиться славой и добычей храмовников, обезглавили их тела и надругались над несчастными мучениками, вывесив их пищей для птиц. Болталось под порывами морского ветра, словно продолжая спор с госпитальерами, туловище Великого Магистра ордена Бернара де Трембле. Покорно закинуло вниз руки тело Симона Ришара. На развевающихся белых льняных коттах кровяным подтеком расплывался алый крест, символ мученичества. Шатильон приподнял руку, словно хотел перекреститься, но вместо этого сгорбился, отвернулся и вытер глаза от вечно летящего в них песка. В конце концов тамплиер предназначен погибнуть за дело Христово так же непреложно, как цветам приходится облететь, чтобы дерево принесло плоды. Вот только Симон поспешил, выхватил у судьбы удел самого Рейнальда. Что ж, если приведется, Шатильон вернет этот долг тамплиерам.
Осажденные залатали брешь досками из египетских кораблей, но негодующие латиняне обрушили на пробоину всю силу своих метательных машин и было ясно, что долго заплата не продержится. Рассчитывая на численное преимущество, руководимое дьявольским наущением ополчение Аскалона вышло сражаться на равнину. Шатильон с остервенением дрался в первых рядах.
Всевышний хоть и сурово испытывал франков, но совершенно отвергнуть своих сынов не восхотел и даровал им над филистимлянами блистательную победу, подобно которой над ними не одерживал даже царь Давид.
Оставшиеся в живых аскалонцы, лишившиеся армии, с полуобрушенным бастионом, поспешили вступить в переговоры и согласились сдать город.
Франки опьянели от счастья. Поистине, король их опоясан мечом Иисуса Навина! Со взятием Невесты Сирии королевство достигло невиданных прежде размеров. Навеки исчезла угроза с юга, и кто знает? Не за горами завоевание всей земли Гошен. Ведь недаром Бодуэн пропустил Усаму ибн Мункыза сквозь осадное кольцо. Едва этот учтивый придворный, талантливый поэт и образованный любитель изящной словесности вернулся ко двору халифа, как там произошел очередной переворот – всемогущий визирь Меч Ислама был убит своим пасынком Насером ад-Дином Аббасом, тут же сменившим покойного приемного отца в милостях халифа. Халиф между тем отличался сластолюбием и не утруждал себя государственными делами. Страна Нила стала неуправляемой, фатимидский Вавилон повис на низкой ветке гнилой грушей.
Бодуэн выказал благородство и милосердие, дозволил всем жителям покинуть Аскалон со всем их скарбом и дал им три дня на сборы. Заодно поинтересовался у парламентариев о судьбе брата его доброго знакомца Усамы. Достопочтенный Али ибн Мункыз, ответили аскалонцы, погиб от руки пьяных от алчности тамплиеров и ныне наслаждается в райских кущах всем, что обещал Пророк тому, кто собственной рукой переписал Священную Книгу Коран пятьдесят четыре раза.
К королю, наблюдавшему за городскими воротами, извергавшими медленно уползавшую в пустыню змею изгнанников, подъехал Рейнальд:
– Сир, позвольте принести свои поздравления. Великое деяние, о котором христиане мечтали больше полувека, наконец-то совершено вами.
Бодуэн обернулся, широко улыбнулся, хлопнул Шатильона по плечу:
– Рено, в этом и ваша огромная заслуга! Вы отлично проявили себя при этой осаде, я видел, как рубила в бою ваша рука, но что еще ценнее – у вас и голова золотая.
– Ваше величество, я надеюсь еще не раз послужить Утремеру. – Взъерошил ежик волос, помялся и все же решился: – Наверное, этот момент не хуже любого другого попросить у вас согласия на наш брак – мой и вашей кузины Констанции Антиохийской.
Король натянул удила, уставился на шевалье в недоумении. Неужто наемник думает, что княгиня может выйти замуж за рыцаря удачи? Вид у Шатильона был донельзя виноватый. Бодуэн досадливо хлопнул себя по мощной ляжке:
– Я должен был предвидеть что-то такое. Усамка как всегда оказался прав: не могла Констанция надолго остаться одинокой. Рено, я не хочу казаться неблагодарным. Позвольте, я вознагражу вас хорошим фьефом, но рука княгини Антиохии предназначена скрепить важный для Утремера союз с одним из европейских дворов или с Византией.
Рено сокрушенно потупился:
– Вряд ли Констанция теперь сгодится для этого, сир.
Король смутился, сдвинул брови, посмотрел на Раймонда с упреком:
– Ах вот как… Это не очень хорошо говорит о вас обоих, Рейнальд.
Закусил губу. Годы правления приучили не давать воли ни гневу, ни досаде. На нестерпимом августовском солнце белокожий помазанник варился: пунцовое лицо и шея Бодуэна покрылись веснушками и облезали клочьями, пот струйками стекал под кольчугу. Шатильона же зной пустыни сушил как жар печи: он лишь смуглел, покрывался морщинками и поразительно светлые глаза еще ярче выделялись на дочерна загорелом лице. Хорош собой этот отчаянный шевалье. А вдобавок удал, сообразителен и, главное, дьявольски везуч. Не удивительно, что сорвал антиохийскую лилию, как придорожную ромашку.
Рейнальд поднял голову:
– Сир, Шатильоны – древний и достойный род. Наместник Христа Урбан II был из нашей семьи, так что мы тоже внесли свою лепту в освобождение Святой Земли.
– Неужели вы надеетесь, что василевс согласится на ваш брак с правительницей Антиохии?
– Если василевс женит княгиню на своем кандидате, Антиохия окончательно станет греческим владением. В любом случае Мануил слишком занят сражениями с конийскими сельджуками, чтобы что-либо предпринять по этому поводу.
Король почесал потемневшую от копоти и грязи бородку:
– Вы, Шатильон, как всегда, просчитали все ходы!
Венценосец был охвачен счастьем победы, благодарностью и чувством братской близости к соратникам, бившимся с ним бок о бок. Аскалон изрыгал сарацин. На юг, к мареву песчаных холмов тянулась нескончаемая череда арабских беженцев: брели пешком женщины с огромными тюками на головах, бежали следом плачущие дети, тряслись на ослах, телегах и верблюдах мужчины, и немалая заслуга в этом принадлежала Рейнальду. В Утремере нет больше столь предусмотрительного и сообразительного рыцаря. Бодуэн ценил эти качества, он и сам научился постоянно прикидывать, что послужит к вящей пользе его царства. Может, и лучше иметь на троне Антиохии человека всем ему обязанного, нежели чванного родственника Мануила или непокорного французского принца. К тому же, чего скрывать, взбалмошная кузина Констанция и этот парвеню выкрутили своему сюзерену руки, а при плохой игре оставалось лишь скорчить хорошую мину:
– Похоже, шевалье, нет крепости, которая бы не сдалась вам. Раз так, не буду вас задерживать, не годится, чтобы моя кузина вызывала насмешки у алтаря. Жерар де Баланс и Филипп де Мильи проводят магометан до безопасного места.
Жерар де Баланс и Филипп де Мильи честно исполнили условия договора с аскалонцами и сопровождали печальную вереницу побежденных до самого синайского оазиса Лариса-Аль-Ариша, а там передали их под опеку тюркского эмира, обещавшего довести бездомных единоверцев до надежных стен Аль-Кахиры.
Изгнанники добровольно вверились коварному тюрку. Правда, потом бедуины рассказывали, что натыкались на заплутавших, потерянных, отчаявшихся людей, бредущих по пустыне без воды и пищи. Несчастные жаловались, что едва франджи скрылись за ближайшей дюной, услужливые проводники тут же напали на беззащитных скитальцев, ограбили их и многих обратили в рабство. Но не впервые сыны Аллаха обращались друг с другом безжалостнее франков.
* * *
– …в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии…
Звуки Te Deum отталкивались от стен, парили по церковному нефу, увлекали душу в небесную высь. «Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце… в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца его». Солнце ударило в цветной витраж, рассыпалось по храму веселыми разноцветными зайчиками, пересчитало сапфиры и гранаты на эфесе благородного Монэспуара – драгоценном даре невесты жениху. Но весь свет застил склонившийся над Констанцией жених.
«Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить; твой народ будет моим народом, и твой Бог – моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду; смерть одна разлучит меня с тобою». Аллилуйя!
Часть II Князь
И будут два одною плотью
так что они уже не двое, но одна плоть.
Евангелие от МатфеяПронзительней воплей чайки, непереносимее визга раздираемого хищником кролика, страшнее крика болотной выпи голос человека под мучительной пыткой. Второй час сквозь захлопнутые окна проникали в княжеские покои леденящие душу стенания, и принадлежали они не четвертуемому убийце и не колесованному святотатцу, нет. Вопли издавал патриарх великого Божия града Антиохии, Сирии, Аравии, Месопотамии и всего Востока, его высокопреосвященство Эмери Лиможский.
Пока палач с подручными наотмашь хлестал обнаженного прелата, несчастный мученик лишь взывал о помощи и проклинал своих истязателей; когда заплечных дел мастера вылили на кровоточащие раны главы антиохийского церковного престола бочонок едкого меда, глаза иерея едва не выкатились из орбит, а горло раздул вопль, но он лишь хрипел и всхлипывал от стыда и боли. Когда его бросили связанным на крыше, страдалец поначалу лишь стонал. Но когда солнце раскалило камень, сожгло кожу и истомило гортань, а раны обсели зудящие, кусающие и жалящие полчища гнуса, несчастный старик потерял человеческий облик и принялся безумно, отчаянно кричать.
Констанция металась по зале, не находя себе места. Заткнуть бы уши, засунуть голову под подушку, оглохнуть, лишь бы не слышать мук пастыря, который годами пекся о ее душе, крестил ее малюток и все годы ее вдовства нес бремя правления Антиохией как еще один обет, данный Господу.
Ссора князя с патриархом была неминуема, слишком долго Эмери единолично решал все в Антиохии, слишком богатым был пастырь этого вечно нуждающегося княжества. Иерей не только отказался венчать княгиню с Шатильоном, он открыто противился этому браку, уговаривал, молил свою духовную дочь не делать неимущего искателя приключений без связей и влияния князем Антиохийским.
Да только легче было бы уговорить водопад не срываться с горы.
После свадьбы Шатильон повел себя так, словно Антиохия принадлежала ему с рождения. На всех грамотах и прошениях его крупная, размашистая, жирная подпись погребала под собой тонкие, изящные буковки княгини. Констанция с радостью передала Рейнальду всю власть, но патриарх, привыкший за четыре года управлять самолично, не желал уступать кормило вчерашнему наемнику. А Шатильон не выносил пренебрежения и в ответ на него впадал в бешенство, становился мстительным и жестоким. Может, прожгли в душе Рено черную дыру незаглаженные обиды и презрение вышестоящих баронов, из которых многие ему и в подметки не годились; может, слишком долго для его достоинств и гордости служил он простым рыцарем в ночном дозоре, но, заняв антиохийский трон, Шатильон не потерпел заносчивого ослушания патриарха.
Эмери замолк, видно потерял сознание от жары, жажды, боли и сводящего с ума зуда от копошащихся в ранах слепней и мух. Но вопли продолжали звучать в голове Констанции. Все время поношения и пытки священнослужителя она стояла на онемевших коленях, не стирая стекающего со лба пота, вцепившись в наперсный крест, словно утопающий за доску, и молилась за страдальца и за его истязателя:
– Спаси меня, Боже, ибо объяли меня воды до души моей… Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать… – Вновь тишину пронзил душераздирающий крик, она покрылась испариной. – Иисус Христос, Сын Божий, сам познавший муку, поддержи несчастного страдальца! …бездна заключила меня… О, Рейнальд, Рейнальд! Что будет с тобой, кто после этого оправдает тебя на Страшном Суде?
Переплет окна на фоне слепящего неба казался черным крестом с телом распятого на нем. Сдайся, сдайся, упрямый старик, не воображай себя Иовом и Иоанном Крестителем! Нет больше мочи терпеть вместе с тобой! Но иерей все орал, хрипел, стонал, терял сознание, а требованиям князя не уступал. Не потому, конечно, что сокровища патриархата были ему дороже жизни, а потому что ненависть к Шатильону и собственная гордость побеждали боль. Чем дольше жестоковыйный прелат принимал смертельную муку, тем больше князь Антиохии уподоблялся Ироду Антиппе и Навуходоносору.
Уши опять заложил отчаянный, срывающийся голос иерея, дама Филомена вскочила, с колен с глухим стуком упало на ковер шитье и покатились мотки нитей, но Констанция приказала:
– Останьтесь, мадам.
– Как вы можете, ваша светлость! Это же… это же наш Эмери! – Дряблые щеки почтенной дамы тряслись, глаза сверкали мученической готовностью постоять за патриарха и защитить его от безжалостного преследователя.
Не хватало, чтобы дряхлая старушка, из которой песок сыпется и неведомо в чем душа держится, помчалась князю прекословить. И Констанция не пойдет. С ней-то Шатильон всегда оставался учтив, он только взглянет на супругу невидящим от ярости взором и отдаст какое-нибудь новое, еще более страшное распоряжение касательно жестоковыйного патриарха. Когда посланник привез из Константинополя отказ василевса оплатить поход антиохийцев на Киликию, Рено заставил незадачливого грека съесть привезенную грамоту. Сцепив на груди трясущиеся от ярости руки, закусив до крови губу, захлебываясь собственным клокочущим дыханием, смотрел, как посол, давясь и содрогаясь, дожевал весь пергамент и проглотил императорскую печать из чистого золота и свисающие с нее шелковые шнурки. От неминуемой смерти беднягу спасло только рвотное средство Ибрагима. Нет, бесполезное заступничество Констанции сгодилось бы лишь для очистки собственной совести. А этого она себе не позволит. Она будет страдать вместе с патриархом и нести тяжесть свершенного греха вместе с Рейнальдом, потому что во всем виновата она. Это Констанция поведала супругу, что его высокопреосвященство откупился от Нуреддина изрядной долей патриарших сокровищ, и когда Шатильону потребовались деньги для снаряжения карательного похода против византийского Кипра, он вспомнил о церковной казне. А горделивый патриарх, уверенный в своей ненаказуемости, наотрез отказал князю.
Теперь уже мамушка попыталась незаметно шмыгнуть в дверь, но Констанция успела ухватить край ее юбки:
– Татик-джан, это может остановить только сам Эмери!
– От князя и от тебя, я смотрю, тут ничего не зависит…
– Князь уже так далеко зашел, что без урона для своей чести не может сдаться. А духовному лицу смириться никогда не зазорно. Князь от патриарха только денег добивается!
– Денег и повиновения!
Мамушка сразу оказалась в стане врагов Шатильона: вслух заявляла, что Рено в подметки Пуатье не годится и даже взгляда ее анушикс не достоин. И уж конечно, старая армянка не простила новому правителю удачного похода против армянской Киликии. Армянский царь Торос II Рубенид еще лет десять назад бежал из ромейского плена, поначалу скрывался у своего кузена Жослена II де Куртене в графстве Эдесском, а когда Византия увязла в борьбе с анатолийскими сельджуками, исхитрился захватить у империи немало киликийских земель. Поэтому в обмен на признание Шатильона князем Антиохии автократор потребовал от него вернуть Византии отторгнутые Торосом владения. И напрасно Констанция напоминала татик, что это император заставил князя воевать с армянами.
– Ишь ты, василевс заставил! Из чужой-то кожи широкие ремни легко резать! А патриарха Антиохии обмазать медом и бросить мухам на съедение ему тоже василевс повелел?!
Грануш, ничего не поделаешь, всю жизнь как щегол на серебряной цепочке: любовь держит няньку подле Констанции с ее выводком, но старушка не в силах перестать болеть душой за своих армян и втихаря молиться за них. Да только понапрасну: везение Шатильона равнялось его дерзости. С помощью тамплиеров Рейнальд отвоевал у армян Александретту, а затем потребовал у Константинополя возмещения понесенных им расходов. Ромейский самодержец надменно отказал, требуя завершить покорение Киликии. Как и все остальные, Мануил не представлял себе, сколь безудержен и неистов Рейнальд.
Получив отказ, князь не удовольствовался унижением византийского посла. Он тут же передал завоеванную Александретту тамплиерам. Храмовники вдобавок восстановили крепость Гастон, запирающую вход в Сирию. Шатильон же примирился с Торосом, и теперь оба задумали совместный поход против Византии. Для этого требовалось золото, и Рейнальд уже знал, где его взять.
Однако патриарх Эмери Лиможский, смиренный клирик, миролюбивый книжник, Христов служитель, свет учености Земли Воплощения, любитель мудрости древних, прославившийся своей любовью к правоверным христианам и милосердием к иноверцам, отказал воинственному рыцарю наотрез. Рено, не убоявшийся властителя Ромейской империи, не поколебался и патриарха пыткой принудить к щедрости. А тот теперь упирался, истязая себя и всех вокруг своими муками.
– Это князь европейским обычаям следует, у них в Европе принято сурово наказывать, – длинный нос мадам де Камбер шевелился, как у жующей кусок сыра мыши. – Там преступников четвертуют и на кострах сжигают, а насильников на мостах за мошонку подвешивают.
Дама Доротея явно подобные расправы одобряла, но мамушка возмущенно всплеснула руками:
– Так то преступников и насильников, а Эмери Лиможский, хоть и латинский патриарх, а все ж подобной казни не заслужил!
Констанция закрыла лицо ладонями, пытаясь прогнать возникающие перед глазами кровавые, залитые жгучим медом язвы обнаженного старика и вьющихся над ним мух, оводов и ос:
– Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего…
Рейнальд был отважным и хитроумным военачальником, верным предводителем антиохийских воинов, выказывал почтение супруге и проявлял отцовскую ласку их дочери Агнессе, непорочному ягненку. Но после двух лет супружества Констанция больше всего на свете боялась непредвиденных, непонятных, пугающих деяний мужа. Ничего плохого Шатильон ей не учинял, слова грубого не говорил, даже голоса не повышал, однако стоило ему взметнуть брови, уставить в нее пронзительный, недоуменный, недовольный взор – и у нее холодело под ложечкой.
Крики замолкли, внезапная тишина оглушила. Констанция привстала. Скончался упрямый прелат или уступил наконец? Тишина звенела в ушах, терзала неизвестностью пуще воплей страдальца.
– Вивьен, узнайте, что там происходит.
Из юного шалуна, которому жадность, малодушие и лень прощались за забавность и обворожительность, Вивьен умудрился превратиться в плешивого батлера с одутловатым лицом. Несмотря на отросший животик, щеголь наряжался по новой моде в очень узкий в плечах и длинный котт, расширяющийся на бедрах множеством вшитых клиньев. Видом своим весьма гордился, постоянно оправлял завязки и с удовольствием оглядывал грушу своей фигуры в каждом отражении. Из юного ангелочка получился старый черт, ворчала мамушка. Несчетное количество раз княгиня намеревалась прогнать его за постоянное вранье и злобные пакости и непременно решилась бы, но еще на брачном пиру Шатильон подошел к Вивьену и внезапным ударом кулака свалил беднягу наземь:
– Это тебе за Симона Ришара, тварь!
Присутствующие при виде окровавленного валета оторопели. Тогда антиохийцы еще не привыкли к непредвиденности и безудержности своего правителя. Констанции стало жаль беднягу, потерявшего от удара два зуба, и она больше не помышляла об изгнании шалопута, хоть наглый бездельник по-прежнему ни на что не годился. Трус и сейчас заколебался, но княгиня так стремительно повернулась к нему, что он шмыгнул носом и поплелся к дверям, волоча ноги, словно брел против необоримого речного течения.
Эмери все же уступил, слава Тебе, Господи! Все сокровища патриархата теперь принадлежали князю. Констанция послала Ибрагима позаботиться об измученном старике и молилась, чтобы его высокопреосвященство простил Шатильону пережитые муки и унижения по примеру Спасителя, простившего своих гонителей.
Но себя Констанция прощать не собиралась. Она нарушила свой обет – не защитила невинно пострадавшего. Под вой и причитания мамушки, суровое молчание дамы Филомены и умильные похвалы дамы Доротеи цирюльник выполнил приказ: нежные пряди мягко падали к сафьяновым туфелькам Констанции и скоро окружили табурет золотым нимбом. Увидела себя в зеркальце, похожую на мальчика, не выдержала, расплакалась. Обстриженную, повинную, кающуюся голову тщательно закутала в покрывало. Страшно было представить, что скажет Рейнальд, увидев ее обритую наголо, но княгиня Антиохии не имела права покорно смириться с проступками того, кого сама посадила на трон.
* * *
Последние годы франки и сарацины, словно в шахматной игре, по очереди делали каждый свой ход и попеременно ставили друг другу шах.
Поначалу счастье улыбалось Иерусалиму. Бодуэн захватил Аскалон, а Каирский двор сотрясал один дворцовый переворот за другим, и в каждом, словно дрожжи в хлебной муке, оказывался замешан старый знакомец – Усама ибн Мункыз. После нескольких покушений и перемен власти Фатимидский халифат так изнемог, что только постоянная угроза Нуреддина на севере не позволяла латинянам захватить страну Нила. Бодуэн удовлетворился обещанием очередного правителя-визиря уплатить его королевству огромную дань – сто шестьдесят тысяч динаров.
В Сирии франки по-прежнему защищали Дамаск от Нуреддина и тем временем чувствовали себя там как дома: наследник Мехенеддина не только с готовностью оплачивал христианский протекторат, но и лично являлся засвидетельствовать свое почтение Бодуэну каждый раз, когда король появлялся на севере. Франкские ополчения беспрепятственно проходили по землям эмирата, и посланники короля даже посещали дамасские базары, широко пользуясь правом выкупать христиан из басурманской неволи. Однако собственные подданные презирали Муджир ад-Дин Абака за то, что он опирался на латинян, и считали его изменником веры, поэтому многие из них обрадовались, когда Нуреддин внезапно появился под стенами города. Жители надеялись, что если эмират сдастся атабеку, тот возобновит поставки зерна в Дамаск: из-за неурожая и войны мешок пшеницы стоил уже 25 динаров, и те, у кого таких денег не было, мерли от голода.
Иерусалимская армия тут же бросилась защищать союзника, но на сей раз опоздала. На седьмой день осады жители спустили со стены еврейского квартала веревку, воины Нуреддина проникли внутрь, и дамасцы охотно сдались тому, кого прозвали Светом Веры, о милосердии и справедливости которого среди них уже давно ходили легенды. Город святого Павла, место, где было написано Евангелие от Матфея, попал в руки заклятого врага латинян. Арабский скакун обогнал рыцарского дестриэ.
Отныне весь восточный фланг Заморья – от Эдессы на севере до Заиорданья на юге – принадлежал Зангиду, одержимому одной мыслью – уничтожить франков. Атабек Алеппо сумел разжечь рвение мусульман и дал им важнейшее до сей поры преимущество христиан – воодушевление и веру в себя. Впервые сарацины почуяли возможность полной победы полумесяца над крестом.
Однако Нуреддин хоть и алкал войны с неверными, но предпочитал действовать осмотрительно и наверняка, а по всей Сирии по-прежнему свирепствовал неурожай, и атабека по-прежнему отвлекали розни с конийскими сельджуками Анатолии. Поэтому Зангид поспешил заключить перемирие с Бодуэном и даже продолжил выплачивать дань Дамаска – восемь тысяч динаров. Латиняне пошли на соглашение, ибо за полвека так устали от войн и людских потерь, что даже с этим сыном дьявола были готовы уживаться до той поры, пока не изыщут способа избавиться от него. Чем кровожадней и воинственней становились неверные, тем больше франки жаждали мира, чтобы спокойно наслаждаться своими прежними завоеваниями.
Наверное, Констанция была плохой христианкой и нерадивой правительницей, но больнее потери Дамаска ее уязвила весть, что Алиенор Аквитанская взошла на престол Англии вместе с супругом Генрихом Анжуйским. Констанция любила своих мужей и охотно одаривала их властью и владениями, в то время как холодная Алиенор сама умудрялась получать от своих мужей блистательнейшие короны Европы.
Сыны Троицы владели всего-навсего узкой прибрежной полосой, но самонадеянно верили, что их власть над Фалястын незыблема. Однако Нур-ад-Дин вовсе не забросил своего намерения одолеть врагов Аллаха, атабек лишь выжидал подходящего случая для нападения. Девятая сура Корана повелевала выполнять договор, заключенный с многобожниками, но только до тех пор, пока те первые не нарушат его. Поэтому Свет Веры не боялся связать себе руки миром, твердо уповая, что несдержанным и воинственным франджам ненадолго хватит разумения соблюдать данное слово.
В благоприятный кисмет Нур-ад-Дина уверовал и Усама ибн Мункыз. Быстрее всех в Леванте ухватывал эмир намеки на волю Аллаха и следовал за его милостями с безошибочным нюхом свиньи, чующей трюфеля в глубине земли. В результате подстроенных им покушений и смен властителей шейзарский интриган приобрел в Мисре такое множество завистников и недоброжелателей, что уже следующей весной вынужден был бежать из Аль-Кахиры в Сирию вместе со своим другом визирем Насером ад-Дином Аббасом и содержимым халифской сокровищницы. По дороге караван захватил гарнизон Аш-Шубика-Монреаля, Заиорданской крепости королевства. Армянский эскорт бежал, а Насера передали храмовникам. Бывший визирь внезапно, но оттого не менее горячо возжаждал обратиться к христианству и, не откладывая, приступил к постижению истины. Но, когда каирский двор предложил за убийцу ибн Саллаха шестьдесят тысяч динаров, алчные храмовники прервали посвящение Насера в таинства своей веры и выдали пленника. Нежные руки четырех безутешных вдов ибн Саллаха разорвали несчастного на куски.
Один непотопляемый ибн Мункыз, хоть и лишился в пути самого драгоценного достояния – четырех тысяч свитков рукописей, тем не менее добрался до Дамаска и предложил победоносному Нур-ад-Дину свою верную службу и бесценные советы за соответствующее вознаграждение.
* * *
Под безоблачным небом попутный ветерок нес победоносное войско антиохийцев к родным берегам, оставляя позади сожженный, разграбленный и опустошенный Кипр.
Трирема «Серениссима» и прочие корабли флотилии скользили по гладкому, спокойному морю, и все же многим воинам на палубе с непривычки было не по себе. Но мало кому приходилось так тяжко, как плотному, седоусому рыцарю лет сорока. Пот струйками стекал по вискам выбритой головы, бедняга корчился и морщился. Зеленый от тошноты, то и дело склонялся над бортом и, перекосившись от отвращения, отворачивался от остальных попутчиков.
– Ба! Старый знакомый!
Смуглое лицо капитана Антонио рассекла усмешка: кто бы подумал, что его палубу снова замарает знакомый франк, неспособный перенести даже прибрежную прогулку. Но Бартоломео д’Огиль встрече с италийским прохвостом вовсе не обрадовался. Несмотря на ясную погоду, рыцарь дышал через силу, постоянно сглатывал слюну и не сводил взгляда с горизонта, вцепившись волосатыми ручищами в снасть, как скряга в дукат.
– Не вы ли, дорогой сеньор д’Огиль, клялись съесть собственную перчатку без соли, если когда-либо снова подымитесь на корабль? – услужливо напомнил Антонио.
– Я на Кипре столько дерьма съел, что, считайте, выполнил свой обет уже десяток раз, – хмуро ответил Бартоломео и страдальчески свел мохнатые, похожие на гребешок волны брови.
– Вас следует поздравить: за три недели вы покорили весь остров! – восхищенно покачал головой венецианец. – Никогда родине Афродиты не оправиться от этого разгрома!
Трюм, кормовую надстройку и все каюты зафрахтованной антиохийцами «Серениссимы» до отказа забили тюки с золотом, серебром и ценными трофеями, и, если бы на палубе не валялась сотня этих бешеных франков, попутный ветерок непременно увлек бы груженую сокровищами трирему прямиком к родным венецианским лагунам.
Бартоломео не ответил, только сглотнул вязкую слюну. Легкая победа и богатая добыча не смывали тошнотворный вкус этого ужасного похода. Три недели назад, пока армяне продолжали жалить Византию в Киликии, Торос, Рейнальд и тамплиеры наняли флотилию и отплыли к греческому острову. Латиняне кипели возмущением – видно, Комнин считал, что рыцарская кровь должна литься ради него бесплатно, если отказался оплатить захват Александретты! Он скоро убедится, во что обойдется Ромейской империи его скупость и пренебрежение к франкам!
Остров походил на райские кущи. Бирюзовые прозрачные морские воды, белые скалы побережья, тихие полукруглые бухты, сосны на песке, засаженные виноградниками холмы, золотое колыхание пшеничных полей, оливковые рощи, заросшие кедровыми лесами горы, мирные греческие деревушки с красными черепичными крышами, в сердце каждой – каменная церковь с высокой колокольней. Но Кипр был выбран Шатильоном не за красоту, а потому что был богат, близко расположен, плохо защищен и управляем племянником ненавистного василевса.
В первом же бою Бартоломео отличился. Это был бой, славный, честный бой. Что с того, что не с тюрками, а с киприотами? Главное, что воины Шатильона вскоре смяли неприятельское ополчение и пленили самого губернатора вместе с его прославленным военачальником Михаилом Бранасом. Остров был захвачен почти без потерь и по праву стал добычей завоевателей. Бартоломео гордился победой и радовался невиданной поживе – разве не собственной силой и кровью отважные рыцари испокон веков добывали славу и состояние?
Но поселиться в неприступном замке на вершине холма, где средиземноморский ветерок продувал бы каменные залы, питаться козьим сыром, заедать оливы и лук мягким пшеничным хлебом с хрусткой корочкой, пить сладкую, тягучую, отдающую солнцем коммандарию из вяленого винограда и вдоволь вздыхать при этом о далекой и жестокой мадам де Бретолио не пришлось. Франки не собирались задерживаться на острове: их было слишком мало, чтобы удержать его, а Константинополь, по слухам, уже снаряжал армию.
И тогда, чтобы больно и обидно наказать Ромейскую империю, князь Антиохийский отворил врата ада, и вся армия Шатильона, включая простака и добряка Бартоломео, губительным вихрем прошлась по острову Киприды. Пылали запаленные дома, поля и овины, во дворах, на обочинах дорог валялись разрубленные трупы мужчин и тела поруганных женщин с бесстыже задранными подолами. В дымном воздухе висели стоны раненых, отчаянные вопли брошенных младенцев, звон кандалов бредущих по дорогам верениц пленников с кровавыми язвами на месте ушей и носов… Конечно, сам Бартоломео в жизни не опоганил бы свой Куражо, заслуженный меч лучшей дамасской ковки, ушами греческих попов, но рыцарь не мог ни остановить остальных, ни избавиться от нестерпимой, пронзительной жалости к киприотам и тягостных сомнений в правоте латинян.
– Это ведь Кипр во время Первого Великого похода спас от голодной смерти крестоносцев, когда они осаждали Антиохию, – венецианец с наслаждением сыпал соль на раны франка. Понизил голос, прищелкнул пальцами: – Кстати, если в вашей добыче имеются паникадила, образа и облачения поценней, я подскажу вам честнейшего перекупщика.
Рыцарь рухнул на сверток толстых пеньковых канатов, на висках вспухли жилы, к горлу подкатил рвотный спазм. Антонио наконец-то отцепился, и вовремя, потому что еще одно невыносимое напоминание о качающихся на одной петле дверях сельских храмов с выбитыми витражами, об окровавленном трупе священника на пороге, о затоптанных копытами иконах, вырванных из серебряных и золотых окладов, о загаженных, порушенных алтарях – и сокрушенному ужасом и раскаянием д’Огилю пришлось бы изрубить италийского насмешника на мелкие кусочки.
Наглые чайки резко кричали женщинами, насилуемыми солдатней. А что подумает благородная дама Изабель, когда услышит о творимых антиохийскими воинами безобразиях? Чего доброго, подумает: какой же негодник этот Бартоломео, которого я всегда считала образцом всех мужских добродетелей и чьей преданностью я заслуженно гордилась! И некому будет объяснить ей, что Бартоломео остался верен своему высокому долгу ее паладина! Рыцарь вытер испарину с блеклого, перекошенного мукой лица, его тошнило не из-за одной качки:
– Клянусь самой прекрасной и доброй дамой Изабель де Бретолио, первым делом пожертвую Непорочной Деве серебряный подсвечник. Даже два! А за все случившееся пусть Господь с Шатильона взыскивает. И я скорее сжую свой сапог, чем снова подниму благородный Куражо на безобидных вилланов, которые вдобавок почти такие же примерные христиане, как и мы.
* * *
Весной аль-Малик многобожников Бодуэн со своей армией поднялся на тучные пастбища возле Баниаса и захватил у мирных туркменов, подданных Нур ад-Дина, великое множество скотины и конских табунов. Это нападение подало султану желанный повод нарушить опостылевший мир с грязными пожирателями свиней. Подстегнули его и воинственные настроения дамасской толпы.
К тому времени несколько десятков семей магометанских феллахов сбежали во владения Нур ад-Дина от жестокости христианского повелителя Ибн Барзана, владевшего Рамлой, а также крепостью Мадждаль Яба-Мирабелью и Явне-Ибелином. Беженцы заселили в Халебе и в Дамаске целые кварталы и принялись громко ратовать за священную войну с франджами, ибо в случае победы надеялись вернуть свои земли. В мечетях и на базарах они перечисляли обиды, нанесенные им многобожниками – жестокими вымогателями, которым чуждо сострадание и справедливость. Поэты декламировали в чайханах душераздирающие скорбные плачи о поруганном Аль-Кудсе и утерянных отчих домах, а множество имамов, суфиев, ученых, правоведов и хафизов-знатоков Корана призывало ускорить грядущий Конец Дней и уговаривало правоверных вооружиться для джихада, о котором во дни их отцов и дедов и арабы-то редко вспоминали, а тюрки так и вовсе понятия не имели. Все больше горячих голов рвалось сражаться с погаными кафирами до полного торжества, и даже люди благоразумные поверили в достижимость освобождения земель Дар-аль-Ислама от гнета укрывателей истины.
Нур ад-Дин, опытный всадник, торопился оседлать порожденные его успехами надежды и воодушевление. В отличие от своего отца, невежественного тюрка-сельджука, нынешний атабек Халеба, недаром прозванный Светом Веры, был воспитан арабскими наставниками в духе сунны. Он собрал вокруг себя множество поэтов, грамматиков, факихов-чтецов и толкователей Корана, людей пера, уламов-богословов, суфиев и законоведов, и все они беспрестанно восхваляли необходимость джихада и славные деяния его предводителя Нур ад-Дина.
Шаиры-правоведы воспевали добродетели Защитника ислама на площадях и в мечетях всего Дар аль-Ислама, имамы читали назидательные проповеди о благочестии правителя, многочисленные хакимы обосновывали важность завоевания последователями Аллаха святого города Аль-Кудса, а кади, ответственные за исполнение законов шариата в рядах аскара, воодушевляли солдат примером их военачальника. Стараниями глашатаев безупречного атабека принялись величать царским титулом аль-Малик аль-Адил – Справедливый Царь.
Нур ад-Дин всячески способствовал процветанию ислама и не жалел денег на помощь нуждающимся и на благочестивые цели: без устали строил в Дамаске и Халебе новые мечети и минареты, открывал и содержал медресе, опекал суфийские братства, каждый месяц жертвовал девять тысяч драхм вакфу на выкуп суннитских пленников и два раза в неделю сам или посредством своих представителей выслушивал жалобы любого обиженного. Правоверный правитель, он изгнал из своих владений всех еретиков, шиитов в первую очередь, и уверял, что сам Пророк посылал ему озарения, обещавшие скорое и полное торжество над многобожниками.
Когда один из приближенных указал эмиру, что все эти пожертвования было бы правильнее употребить на жалование войску, Нур ад-Дин воскликнул:
– Клянусь Аллахом, я не надеюсь победить без их молитв, ибо в Коране сказано: «Это вашим беднякам вы обязаны милостью Бога и вашей победой!» Разве не будет грехом, если я прекращу заботы о людях, чьи стрелы-молитвы летят точно в цель, пока я сплю на моем ложе? Для этих людей предназначена доля в моей казне, нельзя мне отдать ее кому-либо, помимо их!
В Свете Веры, которого перестали кликать тюркским атабеком, а принялись титуловать султаном, муджахиды обрели долгожданного предводителя. Вскоре во всем мусульманском мире не осталось столь почитаемого правителя, за единственным исключением багдадского халифа.
Вместе со своим курдским военачальником Асадом ад-Дином Айюбом Ширкухом, недаром прозванным Горным Львом, победителем Бринса Раймонда де Пуатье, Нуреддин принялся нападать на Баниас, и страдавшие от набегов франджей бедуины с туркменами охотно помогали ему.
Все лето Господне 1157 прошло в непрестанных стычках. Сарацинам удалось вероломно подстеречь армию Бодуэна на переправе через Иордан, у брода Иакова. Около трехсот рыцарей и восемьдесят семь братьев-тамплиеров попало в руки нехристей, в том числе королевский маршал Одо де Сент-Аман и Великий Магистр Бертран де Бланшфор. Сам король спасся чудом, проскакав галопом пять лье до Сафеда.
Проклятые басурмане вернулись в Дамаск, торжествующе воздев на пики белокурые головы несчастных жертв и волоча пленных за конскими хвостами. Дамасская чернь встретила победителя всенародным ликованием и чествовала сельджука как великого героя ислама.
Однако Господь хоть и строго карал своих сынов, но полного поражения им по-прежнему не желал: Тот, кто некогда оставил семя Израилю, чтобы в конец не уничтожилось Его наследие, Тот и теперь пощадил Заморье и наслал на земли неверных собак землетрясения, превратившие их города в развалины, а в октябре обрек самого Нуреддина на тяжкую хворь. По басурманскому обычаю приближенные, почуяв запах смерти повелителя, тут же принялись интриговать и соперничать. Латиняне усердно молились о скорейшей кончине заклятого врага, тем временем стараясь разграбить, разрушить и поджечь как можно больше принадлежащих ему деревень и мечетей и захватить побольше пленных и рабов.
Зангид хоть и выжил, но зачах, растерял бешеный свой напор и дьявольскую воинственность. Передал командование курду Сиракону-Ширкуху, сделал его правителем Дамаска, а сам проводил время в молитвах, размышлениях, чтениях и беседах с муллами. Немощь Нуреддина спасла Утремер и оказалась весьма на руку Византии. Но франкам по-прежнему не хватало сил для решительной победы, поэтому Бодуэн продолжал лихорадочно искать могущественных союзников. Осенью сенешаль королевства Онфруа II де Торон и бывший коннетабль королевства Гильом де Бюр поспешили в Константинополь, дабы заверить василевса, что Иерусалим не имел никакого отношения к злодействам князя Антиохийского на Кипре, и просить у императора для двадцатисемилетнего Бодуэна III руки какой-либо из его родственниц.
Той же осенью 1157 года от воплощения Господня из Фландрии прибыли изрядные силы крестоносцев. Настал благоприятный момент нанести сокрушительный удар по ослабленному болезнью и междоусобицей Нуреддину.
* * *
Порывы стылого ветра сотрясали королевский шатер, пламя свечей дрожало и колыхалось, в их мерцающем свете метались тени рыцарей. Снаружи хрипло перекликались усталые часовые, ржали кони, сквозь полотняные стенки шатра светились костры, весь лагерь пропах дымом, гарью пожарищ и переворачивающими кишки ароматами бобовой похлебки и жарящихся кур.
Бодуэн в изнеможении опустился на сундук, оруженосец стягивал с монарха покореженную в двух местах кольчугу, король тяжело дышал. Рейнальд Шатильонский сбросил на земляной пол драный, замызганный бурой кровью и грязью плащ и сдирал перчатки. Темное, заросшее щетиной лицо посерело от утомления, но перламутровые глаза сверкали и движения оставались ловкими по-прежнему:
– Ваше величество, завтра весь город будет наш.
Стены Великой Кесарии, которую магометане прозывали Шейзаром, обрушились от возмущения земли еще в августе. Содрогание земной тверди превратило мощные укрепления в груду камней, а рухнувшая цитадель погребла под руинами все правящее семейство Мункызитов, на свою беду собравшихся отмечать обрезание одного из принцев. Из всего рода шейзарских эмиров Божьего гнева избежал лишь один Усама, пребывавший в Дамаске при дворе Нуреддина. Впрочем, это никого не удивило, Бодуэн тогда только усмехнулся: «Если грянет новый потоп, на Арарате Ноя встретит сухой Усама».
Первыми беззащитностью города воспользовались ассасины, тут же захватили развалины цитадели. А осенью, когда стало ясно, что хворый Нуреддин ничем франкам не угрожает, под наспех восстановленными укреплениями Шейзара-Кесарии появились совместные силы Иерусалима, Антиохии и неутомимого Тьерри Эльзасского, графа Фландрского, вновь, уже в третий раз, прибывшего со своими войсками в Палестину за славой и владениями.
К полудню короткого, пасмурного зимнего дня латинянам удалось смять беспорядочное, неумелое сопротивление городского ополчения и ворваться в тесные, извилистые переулки нижнего города. Большинство защитников Шейзара разбежалось по окрестным горам, часть отступила в верхний город, но, как всегда, нашлось несколько бешеных собак, готовых драться даже в самых безнадежных условиях. Сражение с ними было трудом неблагодарным и неблагородным – нижний город заселяла городская чернь, добычи никакой, славы и того меньше. В проходных дворах с высокими оградами, среди глухих стен негде было развернуться с конем, копье становилось бесполезным, даже мечом орудовать оказывалось несподручно. И все же с помощью топориков, булав и кинжалов рыцари и ратники до захода солнца зачищали развалины и постройки, вырубали сады, поджигали дома и выковыривали затаившихся басурман из погребов и укрытий. К темноте почти весь обезлюдевший нижний город лежал в дымящихся руинах, и по нему носились лишь обезумевшие псы.
Потемневшие от грязи и дождя растрепанные волосы короля торчали дыбом, но Бодуэн светился от счастья:
– На восходе двинемся на верхний город. Цитадель полуразрушена, а ассасины с местными вояками – как шакалы с гиенами. Завтра Великая Кесария будет нашей. – Король прижал кулак к губам, зажмурился и потряс головой: – Наконец-то. Столько лет мы мечтали об этом. Последний раз Пуатье с Иоанном осаждали этот город лет двадцать назад.
– Я, кажется, обречен шагать по жизни в сапогах славного Пуатье, – хмыкнул Шатильон.
– Не самый худший предшественник, – Бодуэн пренебрежительно пожал широкими плечами, нагнул голову, оруженосец растер ему шею и волосы мокрым полотнищем.
Шатильон сузил глаза:
– Кесарию все же взять не смог.
– Он изрядно старался, чтобы даже ненароком не взять, потому что в обмен на нее Иоанн Комнин грозился у него Антиохию забрать. – Впрочем, те давние дела не волновали Бодуэна. Несмотря на изнеможение, король был весел и доволен. Принял в закоченевшие руки кубок с теплым вином, с наслаждением отхлебнул пряный напиток: – Теперь на очереди Харим, затем Камела-Хомс, это откроет дорогу на Дамаск. Бог даст, сдохнет Нуреддин, овладеем Сирией и сразу двинемся на Египет. Возлюбленный наш Утремер превзойдет Царство Давида и Соломона. Господи Иисусе, да будет воля твоя…
Голос короля пресекся от волнения, он выдохнул теплый пар вина, счастливо засмеялся. В последнее время было неимоверно трудно противостоять натиску сарацин. Когда этим летом в засаде на броде Дочерей Яакова чуть не триста рыцарей попало в плен, жизненно необходимый Белинас удалось отстоять только благодаря сорвиголове Шатильону и Господнему попечению. Но теперь все изменится!
Снаружи послышались голоса, приветственные возгласы ратников, звон оружия и взрывы солдатского хохота. Полы шатра распахнулись, внутрь в облаке влажного холода ввалился толстый, заросший поседевшей бородой Тьерри Эльзасский, граф Фландрии, и шатер тут же заполнился вонью его пота. Следом проскользнул низкорослый и хрупкий юный граф Триполийский Раймунд III Сен-Жиль, вытер концом рукава темное, некрасивое носатое лицо, с брезгливой аккуратностью стряхнул капли влаги с плаща. Король приветственно помахал гостям:
– Друзья, я счастлив видеть вас целыми и невредимыми! Тьерри, поздравляю вас! Ваше первое владение в Заморье уже завтра падет к вашим стопам!
Граф Фландрский потер руки, трубно шмыгнул потекшим от тепла носом:
– Эта ваша Великая Кесария – только начало. Клянусь страстями Господними, я выкорчую себе знатный феод из этих языческих гнезд!
– Учтите, граф, город будет вассальным владением Антиохии, – сухо вставил Шатильон. Все толпились у стола, тянулись за вином, один он оказался в стороне.
Тьерри даже не повернулся на голос, только чванливо вздернул грязный веник спутанной бородищи:
– Ваше величество, как договорено, я принесу вам оммаж за все свои земли в Сирии.
– Договорились о свадьбе, да жениха не спросили, – Рено сложил руки на груди, недобро прищурил глаза, на скулах запылали ярко-алые пятна. – Трое моих рыцарей погибло сегодня: Огюст де Сорель, Пьер де Монтень и Эвро де Бретолио, хоть о последнем ваше величество, возможно, и не будет убиваться, – дерзко вскинул на короля светящиеся глаза.
– При чем тут Антиохия, Шатильон? – король вспыхнул, проигнорировав гибель мужа полюбовницы. – Княжество отродясь не владело Шейзаром.
– Антиохия полвека весь Латинский Восток грудью с севера заслоняет. Каждый владелец крепости на Оронтосе обязан принести оммаж Антиохии, в Сирии нет места латинскому феоду, который бы мне не подчинялся.
– Клянусь каплей крови Спасителя, место найдется, – прогудел Тьерри, кладя руку на свой обоюдоострый меч, – все, что мой Вигуро отобьет у сарацин, сгодится. Не волнуйтесь, на приданое вашей жены никто не покушается, – разверз в бороде темную яму рта и загоготал, колыхая толстым брюхом.
– Погодите, Тьерри, – отличное настроение короля испарялось быстрее винного тепла. – Князь, Антиохия не в состоянии в одиночку защищать Сирию, Иерусалиму постоянно приходится являться вам на помощь, королевство в любом случае – верховный сюзерен и самой Антиохии, так почему бы будущему сеньору Великой Кесарии не стать прямым ленником Иерусалима?
Бодуэн не глядя протянул кубок Раймунду Сен-Жилю, по-прежнему минуя Шатильона, и тот вспылил:
– Меня вашей помощью не попрекайте, ваше величество. Кто на озере Хула даже не позаботился выставить часовых? Разве я не дрался за Белинас, которым владеет ваш лучший друг Онфруа? Но Антиохия – сюзерен всех латинян Сирии, так же как Антиохийский патриархат простирает свою власть над всей Сирией.
– Рено, про патриархат вы лучше не поминайте! – светлый блин королевского лица залил багрянец возмущения. – Я ушам своим не поверил, когда услышал, что вы с несчастным клириком содеяли!
Весь Утремер потрясло измывательство Шатильона над отцом церкви. Едва его величество узнал, что достойнейший иерарх подвергся мукам и унижению, он немедленно направил в Антиохию послов: Эмери Лиможского освободили из заключения и с почетом доставили в Иерусалим. А теперь, когда сам гонитель пастыря напомнил об этом своем гнусном деянии, королю и вовсе расхотелось уступать ему.
– Кто бы не владел Великой Кесарией, ему придется принести оммаж мне, – Рейнальд дерзко дернул плечом.
– Скорее кобель ощенится, чем один из знатнейших вельмож Европы принесет оммаж неведомому выскочке, – в злобе граф Фландрский пнул кованый сундук и искривился от боли. – Святой Винсент, в третий раз я раз являюсь со своим войском на помощь благословенному делу борьбы с сарацинами, и каждый раз христианское единство тонет в дрязгах и претензиях князей Антиохийских. Прошлый раз Пуатье крестовый поход сорвал!
Шатильон только зубами скрипнул. Бодуэн давно отставил кубок, вцепился руками в стол, ногой дрожал так, что шпора позвякивала:
– Подумайте, князь. Благодаря Тьерри Эльзасскому мы смогли вернуть вам Шатель-Руж. Безвозмездная подмога графа давно требует награды!
У Шатильона глаза недобро сверкали и кривая улыбка дрожала, словно он радовался возможности перечить людям его знатнее и могущественнее:
– Никто не делает Господу одолжение, воюя в Его Земле. Мой долг – защищать права Антиохии.
Король пожал плечами. С тех пор как он согласился на брак сумасбродной кузины, Шатильон умудрялся каждым своим деянием заставлять суверена раскаяться в данном разрешении. Что сделано, то сделано, Рейнальд умел поставить людей в безвыходное положение, каждый раз разумным оказывалось уступить его безумию, однако и дальше отдавать франкские земли под власть необузданного нувориша Бодуэн ни за что не станет. Если благоразумие постоянно уступает безумию, то чем оно лучше?
– Я обещал город Тьерри и не могу нарушить свое слово. Если вы, князь, будете настаивать, мне придется снять осаду.
Сказал и сам не верил, выпучил на Шатильона совиные глаза. Но тот только желваками заиграл, и на лбу жила вспухла: несмотря на всю их учтивость, король и Сен-Жиль относились к нему так же свысока, как фламандский грубиян. Тьерри Эльзасский был женат на единокровной сестре Бодуэна, дочери покойного Фулька Анжуйского, Сибилле Анжуйской, и все эти родовитые свойственники подпирали и поддерживали друг друга, словно колья одного забора, и единодушно смыкали ряды, когда младший сын рыцаря настаивал на своих правах и охранял свою честь так же рьяно, как они сами. Но какие доводы у них были, помимо кичливости? В последние годы Утремер походил на корабль, управляемый пьяным кормчим, и князь Антиохии не собирался грести на их невезучей галере бесправным и покорным рабом. Процедил сквозь зубы:
– Ваше величество, я готов сражаться и рискнуть собой и своими воинами, завоевывая для графа этот город, но на Оронтесе нет места независимому домену! Если граф не хочет продолжать штурм, я готов завтра взять цитадель с одними своими ребятами.
– Как это «с одними своими»? А мы сегодня тут что, в прятки игрались? У меня тоже люди тут погибли! Ничего вы себе в одиночку не возьмете! – Ноздри Тьерри раздулись, воинственно выставилось необъятное брюхо, толстые короткие пальцы сложились в похабный жест.
Юный граф Триполийский обвел остальных баронов умоляющим взглядом:
– Если мы не договоримся, то, как верно заметил его величество, предпочтительнее снять осаду, чем потом между собой из-за этого Шейзара передраться.
– Князь, неужто вы и впрямь намерены в сапогах Пуатье след в след шагать? – от досады король вскочил на ноги, затряс шест так, что заколыхался весь павильон. – Ведь мы можем сделать то, что не удалось покойному – отвоевать один из крупнейших эмиратов Сирии!
– Ваше величество сами верно заметили, что у моего предшественника были веские резоны отступиться. Я не глупее его и не сверну в болото только оттого, что мне противно идти за ним на твердой почве.
Снаружи зарядил дождь, капли глухо бились о полотнище, где-то прохрипел петух, чудом улизнувший от солдатского костра, завыли собаки. Король провел рукой по лицу, вздохнул:
– Рено, моя честь не позволяет мне нарушить данное слово. – Встал прямо перед строптивцем, с мольбой добавил: – Но, князь, я видел, как вы сражались сегодня! Я не могу поверить, что вы готовы все это бросить! Подумайте, другой такой оказии не случится! Неужто сарацины предпочтительней Тьерри?!
Король и бароны смотрели на Шатильона, как псы на взобравшуюся на высокую ветвь росомаху. Никто, никто из них никогда бы не отдал ему ни пяди своих прав! Сжал желваки, выдохнул упрямо:
– Я не могу поступиться сюзеренными правами Антиохии. Хоть вы, граф, в нашей поганой луже и белоснежный лебедь, но в Утремере никаких особых прав не имеете. Если вы хотите получить себе сирийский город, я с готовностью помогу вам завоевать его, но будь вы в Европе хоть кум королю, в качестве сеньора Великой Кесарии вам придется стать моим вассалом. Не вижу тут ничего зазорного для вашего сиятельства.
– Скорее, Шатильон, у меня на ладони борода вырастет, – просипел Тьерри, приставив жирную ладонь едва ли не к лицу князя Антиохийского.
Бодуэн угрюмо пожал плечами, как бы снимая с себя ответственность, рухнул обратно на сундук. Этот Шатильон – башмак, натирающий ногу до крови! Но босым ведь не пойдешь! Тщедушный Сен-Жиль, натерпевшийся вдоволь склок в собственном семействе, умоляюще протянул руки, завертел вороньим носом, ловя взгляды баронов:
– Мессиры, противно будет Господу, если мы понапрасну протратим наши силы! Раз мы все здесь вместе, мы можем захватить другое место, о котором нет споров. Молю, отложим разногласия и возьмем хотя бы Харим. Он нужен нам позарез.
Поскольку никто не уступил с Шейзаром, все стремились доказать, что действовали не из одного бешеного упрямства и готовы внять разумным доводам. Крепость Харим господствовала над равниной между Антиохией и Алеппо и являлась удобным плацдармом для нападения на противника.
– А Харимом кто будет владеть? – Тьерри хоть и резко спросил, но от предложения не отказался.
– Мой вассал, – отрезал Рено. – Харим уж точно всегда был фьефом Антиохии!
Король опередил Тьерри, готового снова вскипеть:
– Князь, если мы поможем захватить Харим, вы согласитесь, чтобы на правах вашего вассала им владел кто-либо из людей графа Фландрского?
Сен-Жиль снова взмолился:
– Мессиры, Реджинальд де Сент-Валери сегодня отличился, и мы все знаем его как достойнейшего и верного соратника. Почему бы ему не стать сеньором Харима и вассалом Антиохии? Он ваш человек, граф Фландрский.
Маленький граф Триполийский ничем не напоминал своего шумного и яростного отца, он даже руки к груди прижал, так ему хотелось, чтобы бароны вразумились, договорились, согласились, чтобы вся военная кампания и прибытие в Святую Землю фландрских крестоносцев не остались бесполезными, чтобы погибшие на приступе Шейзара рыцари сложили головы не напрасно. Тьерри пожевал конец собственной бороды, размышляя, не таится ли в этом предложении скрытого урона для его чести, махнул в знак согласия ручищей.
С первым тусклым светом зимнего дня обреченные жители Шейзара обнаружили, что проклятые франджи сворачивают палатки, грузят обозы, строятся боевым порядком и покидают полуразрушенные, лишенные защитников стены города. Безгранично милосердие Аллаха! Аллаху акбар!
А Нуреддин хоть и тяжко хворал, но пока было дыхание в ноздрях его, слово его было закон. Поэтому беззащитный Шейзар по его приказанию был захвачен немедля.
Харим латиняне взяли вместе: настоятельная нужда в этой крепости и желание каждого доказать, что не он – губитель всей затеи, помогла довести осаду до конца. Но после этого Шатильон покинул поход, вернулся в Антиохию с грузом обид тяжелее доспехов, отчего гонора только прибавилось. Победу над Зангидом неподалеку от Тивериады Бодуэн с Тьерри Эльзасским одержали уже без князя Антиохийского. Дошли бы и до Дамаска, но хитрый Нуреддин предложил мир, и, как всегда, у измученных и разрозненных защитников Заморья не хватило дыхания на длительную кампанию.
Франкам по-прежнему приходилось истощать свои силы в непрерывной борьбе за каждый камень, за каждую крепость, обескровливать себя в мелких стычках. А на юге все это время лежал фатимидский Вавилон, истребивший в династических междоусобицах всех своих военачальников и оставшийся беззащитным как устрица без раковины. Рыцарям достаточно было бы явиться в долину Нила, чтобы завладеть этой неимоверно богатой и необъятной империей, но неспокойная Сирия, словно скандальная девка, не отпускающая путника из непотребного дома, удерживала христианских воинов на севере.
* * *
Поздней весной, сразу после Вознесения Господня, с попутным караваном в Антиохию возвратилась Изабо. Явилась верхом на отменной кобыле, с новым седлом и сверкающей серебром уздою, на чепраке вился вышитый золотом многозначительный девиз «Во имя любви». На платье мадам де Бретолио пошло не менее пятидесяти локтей травчатого шелка, накидка была оторочена горностаем, широкий подол оттягивали зашитые динары, а четверо слуг едва втащили громадный, набитый добром сундук в отведенную ей на башне опочивальню. И все же Изабо была безутешна. Добродетельные люди судачили, что королевская потаскуха печалилась вовсе не о супруге, геройски погибшем под Шейзаром, а о том, что пресытившийся король отослал ее с глаз долой.
– Скорбеть по мужу, видать, легче, когда полюбовник взашей выгнал! – острый нос благочестивой Доротеи де Камбер дрожал от вони чужих пороков.
Только дама Филомена, вечно отличавшаяся от добрых людей несуразными взглядами, и тут прозвучала фальшивой нотой в общем стройном хоре осуждения:
– Первой восставшего Спасителя блудница узрела, не праведники.
Грануш, единственная позаботившаяся, чтобы уставшую путницу ждала чистая кровать, блюдо пахлавы с фисташками и бадья с теплой водой – смыть дорожную пыль, тут же уткнула руки в боки:
– Ай кник, мадам, чтобы нашей Изабо Спасителя узреть, ей бы не помешало посидеть годик-другой на воде и хлебе в обители со строгим уставом! Или хотя бы вырез на платье ушить!
Констанция на вечное ворчание мамушки не обращала внимания. Оно служило Грануш веслом, которым та подгребала со спасительным плотом своих забот к несчастным, терпевшим крушение на реке жизни. Но многие корили княгиню за то, что та встретила прелюбодейку, словно святую у райских ворот: поселила в княжеском замке и не расставалась с ней. Один сумасбродный князь Антиохийский неожиданно поддержал жену:
– Никто тебе не указ, и чужие грехи – не твоя забота. Мадам де Бретолио тебе как сестра и этого достаточно. Бодуэн не только её прогнал. Он, лишь бы с Мануилом породниться, и от меня отрекся, поклялся василевсу на кресте, что к моему походу на Кипр не причастен и всячески осуждал меня.
Из-за княжьей поддержки добронравным людям пришлось порицать распутную мадам де Бретолио хоть и ревностно, но вдалеке от господских ушей. Но, конечно, они были правы: получившая отставку королевская любовница выплакала все глаза вовсе не о погибшем супруге и не о собственном прелюбодеянии.
– Мадам, ей тринадцать лет! Тринадцать! А мне уж скоро тридцать! – Тридцать и три, если Констанция не разучилась считать, но бедняжке Изабо наверняка сейчас не до математики. – И говорят, она на диво хороша собой!
– Изабо, да его не ее тринадцать лет пленили, а то, что ее дядя – император Ромейской империи, и приданое ее несметное! Бодуэн бы не расстался с тобой, если бы не отчаянное положение королевства!
– Он забудет меня! Жизнь моя кончена! Никогда больше я не буду знать счастья!
– Да что ты несешь, Изабо! Как я горевала по Пуатье, а все же новая любовь настигла меня. Может, настало твое время сочетаться законным браком с хорошим человеком.
На это крепко надеялся и Бартоломео д’Огиль. Предупрежденный Констанцией верный воздыхатель не смел идти на приступ сердца Изабо с обычными своими орудиями – тяжеловесными, как метательные камни, шутками и лобовым, как таран, бахвальством. Зато рыцарь решительно встал на защиту доброго имени дамы сердца – не спуская с мадам де Бретолио восторженных, налитых кровью глаз, громко сипел, сжимая рукоятку меча волосатыми ручищами:
– Клянусь хвостом осла Спасителя, я разрублю напополам каждого, кто не согласится, что мадам де Бретолио чиста и непорочна как жемчужина!
Но чистая и непорочная Изабо, в которой здравые люди узревали только малоимущую, немолодую, одинокую и брошенную любовником блудницу, презрительно отворачивалась от преданного паладина и в свою очередь норовисто клялась:
– Да я лучше Христовой невестой заделаюсь, чем снизойду до этого краснорожего чурбана!
Мадам Доротея де Камбер согласно кивала крысиным носом: нет, нет лучшего удела для молодых и красивых греховодниц, чем посвятить остаток своих дней покаянию вдали от мира.
– Ах, мадам де Бретолио! Всей душой я поддерживаю ваше намерение! Все в этой бренной юдоли – тлен! Монашество для вас – единственный путь к спасению!
Набожность старой дамы служила окружающим постоянным укором. Мадам отстаивала все мессы, зорко следя за негодниками, норовившими покинуть храм, едва пробормотав «Отче наш», не расставалась с часословом, постоянно твердила молитвы и псалмы, читала и перечитывала притчи и жития мучеников, ее повсюду сопровождали запах ладана и стук четок. Благочестивая женщина помнила все именины святых и угодников, постилась в дни скоромные и голодала в постные, вела точный учет грехам ближних, а своих и вовсе не имела, и корсаж ее топорщился больше от освященных ладанок, нежели от собственной дряблой плоти. Детей у нее не было, да и откуда они могли возникнуть у праведницы, не забывавшей, что Церковь воспрещает плотские радости в Пост Великий и в Пост Рождественский, а также во все прочие постные дни и в дни воскресные, да и в канун их, разумеется, и в неделю до Троицына дня, конечно, да и во все среды, пятницы и субботы настойчиво рекомендует воздержание. Причащалась же раба Божия Доротея так часто, что даже аббат Мартин как-то укоризненно попенял, что тело и кровь Христовы – все же не бренная пища, чтобы ими до отвала наедаться.
Бартоломео советов мадам де Камбер пугался, багровел, вытирал обильный пот с бритой головы, умоляюще шаркал сапожищами:
– Лучше солнце убрать с небосвода, чем мадам де Бретолио в монастырь заточить! Клянусь на завязках Иисусовых сандалий, один весьма достойный рыцарь счастлив будет сражаться за честь взять мадам в супруги!
Выпячивал грудь и бросал вокруг грозные взгляды, тонко намекая, кто этот достойный рыцарь. Только прежняя безропотная Изабо исчезла. За годы жизни при королевском дворе в качестве любовницы монарха мадам де Бретолио научилась давать отпор как завистникам, так и доброхотам:
– Даже не сомневайтесь, мадам де Камбер, непременно постригусь – как только стану старой, уродливой, злобной и завистливой ханжой, тело которой уже никому не будет потребно, а душа опротивеет даже Господу.
Констанция взяла Изабо под руку, повела в сад. В другой руке держала маленькую лапку четырехлетней Агнессы. Под виноградными шпалерами дошли до аптекарского огорода, о котором уже давно вместо Грануш заботился помощник Ибрагима, молодой армянский лекарь Арам. На грядках по-прежнему качались белые соцветия валерианы, млел шалфей, от розмарина веяло сухой хвоей, волнами налетала тревожная свежесть лаванды. Но Констанции и Изабо больше не хотелось носиться по аккуратным рядам нежных всходов или хлестать друг дружку охапками колючих стеблей. Хотелось уткнуться в плечо подруги и выплакаться. Сели на замшелый камень балюстрады фонтана. На милом лице Изабо виднелись следы времени и печалей: тень легла на чуть опустившиеся углы все еще пухлых губ, живые, блестящие вишневые глаза облепила паутинка морщин. Наверняка и она замечала в Констанции схожие изменения. А может, и не замечала, потому что Изабо по-прежнему оставалась несказанно доброй:
– Ваша светлость, какой прекрасной дочерью благословлен и этот ваш брак, – нежно поцеловала сидящую у нее на коленях Агнессу де Шатильон. – Истинное яблочко с ветви прекрасной яблони. Каждый день молю Богоматерь за ваших детей.
Констанция погладила ее руку:
– Изабо, милая моя Изабо! Еще не поздно тебе самой стать матерью! Напрасно ты так сурова к Бартоломео. Рыцарь признался, что провел под твоим окном всю ночь и не роптал, даже когда на него ночной горшок выплеснули!
Мадам де Бретолио прижалась щекой к темненькой детской макушке:
– Ах, мадам, я же все понимаю, я знаю, что д’Огиль предан и честен как сардоникс, к которому и воск не пристанет, но такой он неуклюжий, такой несуразный! Ну что это за воздыхатель с содержимым ночного горшка на медной башке!
– Ну, башка у него, может, и медная, зато сердце золотое и рука железная. Смешной воздыхатель может стать хорошим мужем.
– Если бы мы отдавали свое сердце самым добрым и преданным! Но мы дарим его только тому, кто будет играть им, как набитым трухой мячом!
В тени цветущих олеандров парило от летнего зноя, поэтому, наверное, Констанции стало невыносимо душно:
– Изабо, иногда мне кажется, я схожу с ума! Ты слышала, что Шатильон творит? Сначала наш несчастный патриарх Эмери, потом Кипр, теперь эта ссора с Бодуэном и Тьерри Эльзасским… Он стал занозой в глазу всего Утремера!
Рено гордился молниеносным покорением Кипра, хвалился, как вовремя успел покинуть остров до прибытия византийской армии, кичился, что на годы вперед обогатил Антиохию захваченной на острове добычей. Князь перечислял свои тамошние подвиги так громко, часто и настойчиво, будто глушил совесть и слухи: Грануш уверяла, что антиохийские войска на Кипре бесчинствовали – отрубали носы и уши греческим священникам, женщин лишали чести, крестьян обращали в рабство. Ее послушать, так латинские рыцари выходили чудовищнее Тиберия и Нерона. Но мамушка всегда плохо относилась к Рейнальду и запросто могла очернить князя, лишь бы выгородить своих армян. Зато Изабо легко отмахнулась:
– Не тревожьте себя по пустякам, ваша светлость. Пусть уж лучше киприотов изводит, чем жену. Что толку в учтивости возлюбленного и в его почтении к клирикам, если он отбрасывает вас, как старую ветошь?
Нет, Рено не пренебрегал Констанцией. Наоборот, он ретиво исполнял супружеские обязанности и всегда был ласковым с ней. Ласковым и при этом холодным, как эфес меча. Но как это объяснишь? Констанция накопила на него множество обид, но вся ее горечь почему-то не могла потеснить любовь. Только с каждым днем становилось все страшнее, больнее и обиднее.
– Я за него боюсь, Изабо, и его самого тоже боюсь! Меня даже его удача пугает, она следует за ним, как маркитантка за армией. Порой кажется, в него дьявол вселился и меня приворожил!
– Ну, в нужде и дьявол подмога, – прежняя лукавая улыбка мгновенно омолодила Изабо. – Не нам его судить, пусть в этом его духовник и Всевышний разбираются, мадам. А долг жены – поддерживать мужа.
– Изабо, хоть ты, негодница, и богохульствуешь через слово, а все же я безмерно рада, что ты вновь со мной.
Обе обнялись и заплакали. Уверял же святой Бернард, что слезы – это крылья молитвы и вино ангелов. А совместные слезы – двойное благо и утешение.
В сентябре из Константинополя в Тирскую гавань прибыла племянница Мануила, принцесса Феодора, выбранная василевсом в невесты для короля Иерусалима. С ней прибыли крайне необходимые иерусалимской казне сто тысяч золотых полновесных гиперпиронов, приданое ценой в тридцать тысяч гиперпиронов и еще десять тысяч золотых на покрытие свадебных расходов. Его величество Бодуэн III с пышной свитой встретил сокровища и суженую, препроводил их в столицу, и в Храме Воскресения Господня нареченных тут же повенчал бывший патриарх Антиохии Эмери Лиможский: еще один щелчок по носу непокорного князя Антиохийского. Торжества продолжались несколько дней, и каждый их миг терзал Изабо раскаленным железом ревности и обиды.
* * *
Констанция свернулась на холодном камне подоконника, обняла поджатые колени. От высокого узкого окна дуло, частый свинцовый переплет леденил бок, в маленьких стеклышках дробилось смутное отражение Рейнальда. Князь рывком стащил с себя шемизу, раздраженно комкал ее в руках:
– Говорят, Мануилу так не терпится до нас с Торосом добраться, что он с пятьюстами всадниками впереди всего войска мчится. Аназарб уже сдался без сопротивления, греки вот-вот у наших стен покажутся. Твой кузен за одну милостивую улыбку ромея от меня отступился, за свою Феодору и дружбу Комнина расплатился всегдашней монетой королей Святого Града – верховной властью над Антиохией и ее князем.
Констанция молча разглядывала город. В сумерках зимние тучи цеплялись за шпиль Иоанна Златоуста, за колокольню святой Феклы, тянулись к земле столбами дыма. Над кровлями тревожно парили птицы. Шатильон за ее спиной плюхнулся на край ложа, нетерпеливо раздирал завязки кожаных шоссов:
– Я без споров передал Харим вассалу графа Фландрского, я бок о бок с Бодуэном за Белинас сражался, только этим летом мы вместе разгромили и прогнали Нуреддина из Фатхи в устье Иордана, но для всех них я по-прежнему черная овца. – Рванул тугой чулок, послышался треск швов. – Только благодаря мне мы не потеряли ни единой крепости, но этого никто не помнит. Зато все уверены, что если бы не Шатильон, то вся Сирия уже пала бы в руки франков!
Констанция не оборачивалась, не отвечала, рисовала на запотевшем стекле крестики. Рейнальд не выдержал, с силой запустил одежный ком в угол:
– Иисус и святая Дева Мария! Не молчите с таким укором, мадам! Невозможно было разорить Кипр одной кротостью и уговорами!
– А необходимо было разорить?
– Да, клянусь Гробом Господним! Я должен был показать ромею, что я ему не наемник и не раб, что нельзя безнаказанно обмануть князя Антиохии и выставить его на всеобщее посмешище. За надменность, глупость и коварство правителя расплачиваются его подданные. Они – его заложники. Мне пришлось нанести удар по самому уязвимому месту в Византийской империи. К тому же кипрские вилланы пытались утаить свое добро.
– Спросили бы патриарха, чем это грозит, быстро бы все принесли.
– Ты знаешь, что с Эмери это было не только из-за денег. Это с самого начала было – либо я, либо он. Никогда он не посмел бы так самонадеянно отказать в чем-либо Раймонду де Пуатье! Пуатье изгнал Домфорта за куда меньшие провинности! Признайся, ты ведь тогда не очень громко возмущалась действиями своего первого супруга?
Констанция клялась себе удерживаться от споров с Рено, но тут не вытерпела:
– Пуатье никогда не начинал безнадежных войн, он старался не загонять себя в угол. Делал все, чтобы не уступить Антиохию ромеям, но умел не довести дело до открытого столкновения. И от Домфорта он избавился с согласия и при поддержке папы!
С лица Рено отхлынула кровь, он замер, повесив руки между колен, уставившись в пол:
– Значит, Пуатье был осторожным и мудрым властителем, а я, выходит, оголтелый разбойник с большой дороги? Так я и знал, мадам, что когда-нибудь вы это скажете! Что же делать, я не сын герцога, не питомец английского короля.
Она почувствовала, что причинила ему боль, ее залила волна торжества. И следом сразу, как мутный песок в приливе, прихлынули непрошеные жалость и раскаяние. Рено ведь многое натворил, лишь бы превзойти своего несравненного предшественника, лишь бы уподобиться Танкреду и Готфриду Бульонскому, в надежде добиться признания высокомерных баронов Латинского Востока.
Маленькая Агнесса, спавшая в стенной нише, всхлипнула во сне. Шатильон тут же оказался у ее колыбельки, склонился над дочерью, заботливо подоткнул вокруг разметавшегося детского тельца беличье одеяло.
Голос Констанции потеплел:
– Может, к лучшему, что Тьерри Эльзасский отказался принести оммаж Антиохии. Никогда заносчивый граф не стал бы нам верным вассалом. Я попрошу короля заступиться за тебя перед императором.
– Король только возрадуется, если Мануил уничтожит меня. – Сгорбил широкие плечи, растерянно мял в кулаке край дочернего одеялка. – Тороса кто-то позаботился предупредить, что василевс вовсе не в Конию двигается, и Рубенид успел скрыться в горах. Говорят, армянский царь по всей Сирии голубями связь держит.
У Констанции от страха с лица кровь слила, она повернулась, чтобы встать с подоконника, отойти от окна, но не успела, Шатильон опередил ее, опустился рядом с ней на корточки:
– Меня вот никто не станет укрывать, – сгреб ее обеими руками, зарылся лицом в колени жены, его дыхание обожгло сквозь ткань. Констанция не выдержала, погладила коротко стриженый затылок, нежную, гладкую кожу шеи, провела пальцем по трогательно выпирающим позвонкам, по обрывающемуся на месте ворота загару. Он поднял к ней лицо, уставился молящими, сверкающими глазами: – Если бы я знал, где Торос, мне было бы что предложить Мануилу в обмен на прощение.
Констанция похолодела, растерялась, ответила бесцветным голосом:
– Да как узнать-то? Торос в любой пещере может прятаться, никто не знает Таврских гор так, как он. Все жители Киликии готовы укрывать своего армянского властелина.
– Все эти армяне, они все заодно, за своего царька в огонь и в воду. Даже мои армяне ему наверняка помогают. – Кивнул на запотевшее окно: – Вон, сколько тут голубей носится. Неудивительно, если Торос все из Антиохии узнает. А мне кто поможет?
Сам виноват, сам отвратил от себя всех, но что ей делать с этим шилом жалости, которое пронзает ее даже сквозь толстый слой злости и колет в самое сердце? Шатильон заслужил наказание, но ему грозила смерть. Рено теперь редко делает ее беззаботно счастливой, только никто другой по-прежнему на это и вовсе не способен.
– Рейнальд, зачем ты такой – безудержный, безжалостный и никакого страха в тебе?
Он свел брови, вздохнул, прижавшись к ее коленям щекой, признался:
– Не знаю. Ну не вложил в меня Господь ни жалости, ни смирения, ни страха. Только честь, и бешенство, и отчаянного упорства до отвала. Я знаю, чего хочу и знаю, как это взять, а мне мешают те, которые сами ничего не могут. Меня презирают те, что сами не стоят моего мизинца. Мне с самого начала пришлось только на себя рассчитывать, отец был щедр исключительно на побои. Даже своего первого Баярда и вооружение для крестового похода я был вынужден позаимствовать, не стал затруднять себя спросом, а папашу отказом. И с тех пор я сам по себе, сам за себя и против всех. Кроме тебя, душа моя.
Представила Рено маленьким, худеньким, беззащитным, испуганным мальчиком, похожим на Бо, и огромного, толстого отца, колошматящего малыша дубиной. Сердце сжалось. Она сама все знала о слабости и беспомощности нелюбимого ребенка. Униженное дитя выросло в рыцаря, неукротимого и мятежного, как Рено де Монтобан. За нанесенное оскорбление Монтобан убил племянника Шарлеманя, и мстительный Шарлемань много лет преследовал мятежного вассала. Так и Шатильон не боялся всем противостоять: патриарху, греческому императору и королю Иерусалима. Теперь все они ополчились на ее возлюбленного. Нет, она не может покинуть его:
– Пуатье сумел заставить себя склониться перед василевсом. И прощения просил на могиле Иоанна. Он сделал это ради Антиохии. Тебе следует повиниться, Рено.
Шатильон нашарил розовую пятку Констанции, забрал в теплую ладонь, принялся греть, пробормотал угрюмо:
– Мон Дьё, не за тем я прибыл в Утремер, чтобы землю перед греком целовать.
– А зачем? Погубить нас всех? О, Рено, когда-нибудь тебе уже никто не сможет помочь.
От его руки жар расползался по телу, захотелось прижаться к нему, уткнуться лбом в плечо, вдыхать запах его кожи, и не отпускать. Рено без обычного гонора пробормотал свою обычную присказку:
– Я прибыл нагнать страху на весь Восток и прославиться на весь Запад. Но, если ты мне не поможешь, я закончу мои дни в Константинопольском каземате. Душа моя, разузнай у Грануш, где Торос скрывается, а?
Констанция сглотнула захлестнувший горло ком любви, страсти, нежности, пересилила себя, не ответила. Шатильон завладел ее стылой, безжизненной рукой, перевернул, уткнулся в ладонь, поцеловал, обдавая теплым дыханием:
– Ты мерзнешь, жена? Ты холодна ко мне, словно монашка…
Констанция покачала головой: ах нет, вовсе, вовсе не холодна. Он почуял, что она дрогнула, стал льнуть, как большой пес, вцепился манящим, ласковым, хмельным взглядом, забормотал хрипло:
– Милая моя Констанция, у меня ведь никого, помимо тебя. Ты – единственный мой человек на этом свете, единственная, отдавшая мне все, что имела. Спаси меня.
Все ее обиды и весь гнев таяли, стоило ему приголубить ее. Грехи Рено вопияли к Господу и даже у нее вызывали отвращение, но душу, как подцепленную на крючок рыбу, тянул и переворачивал страх за него, веселого, отчаянного, бесшабашного. Киприотские вилланы были заложниками своего василевса, а княгиня – заложницей безобразий и неразумия Шатильона. Вилланов, конечно, жалко, но небеса наверняка позаботятся о несчастных, а вот за заблудшего Рено, кроме нее, ни на земле, ни на небе никто не станет заступаться.
– Ты что, думаешь, армянский царь нашей Грануш докладывает, где он прячется?
– Она все знает. Или может узнать, если захочет.
– Да она никогда мне не скажет.
– Даже ради моего спасения?
Защипало в носу. У Рено, и правда, никого нет, помимо нее. Татик ради князя и пальцем не шевельнет. Когда-то Констанция не смогла простить Пуатье, и ничего хорошего из этого не вышло. Достаточно Шатильон напуган и унижен.
– Рено, я умолю епископа Латакии заступиться за тебя, у него с греками хорошие отношения. И потребую, чтобы Бодуэн исполнил свой долг нашего сюзерена – выступил в твою защиту. Я буду молиться за тебя, Рейнальд. Но главное, склонись перед императором. Для автократора ничего нет важнее его гонора. Ради твоего поклона он все забудет и простит.
Шатильон уже отряхнулся от уныния, уже снова скалил зубы в волчьей ухмылке, руки уже проникли под ее сорочку, гладили тело жены, в голосе вновь послышалась насмешливая уверенность:
– Я знал, что ты меня не покинешь, что моя Констанция спасет меня. Может, я не святой и не могу равняться с прочими баронами смирением и покладистостью, но был бы я как все, я бы сейчас не с княгиней Антиохии обнимался, а с сапогами соседнего ратника на соломе донжона.
В холодном ночном воздухе доносился издалека узнаваемый бой любимых колоколов: привычно гудел гулкий, мощный бас Большого Петра, ему вторил надтреснутый звон Старой Урсулы и переливался серебряный благовест Сладкой Анны. На дворе залаяла собака, со стылых улиц ответили гавканьем и воем прочие псы, донесся унылый крик ночного сторожа. Констанция натянула беличье покрывало на мерзнущие плечи, вдохнула въевшийся в шкуру запах собственных благовоний и пыльную затхлость старого меха. Шатильон безмятежно спал, закинув руку за голову.
С самого начала она знала, что Рейнальд не чета остальным, что он иноходец среди меринов. Пусть он не такое доблестное зерцало чести, как Пуатье, зато он верен ей и любит ее. Может, не так, как ей мечталось, лишь так, как умеет, но все же любит. Поэтому он не в донжоне, а в ее постели. Вот только кровь от сердца отхлынивает от страха при мысли, куда доведет всех их его необузданная, шальная безудержность.
* * *
Пропала Грануш. Напрасно Констанция гоняла Вивьена и слуг разыскивать ее по всему замку. Вечером взломали дубовую дверь мамушкиной каморки. Узкое ложе было аккуратно застелено чистейшим полотном, над изголовьем висели иконы и пучки душистой лаванды и розмарина. Лежал Псалтырь в серебряном окладе, нетронутыми оказались даже запоры окованных сундуков со спрятанными на дне – Констанция знала – золотыми монетами, предназначенными на похороны старушки и на заупокойные молитвы по ее душе. А татик как сквозь землю провалилась. Послали в армянскую церковь, в монастырь святого Георгия, на армянское подворье, прочесали весь рынок – напрасно. Черная желчь страшного подозрения захлестывала душу при воспоминании, что Рейнальд хотел выведать у мамушки укрытие Тороса. Но князь уже отбыл в императорскую ставку в Мамистру, да и не осмелился бы он тронуть няню княгини. А может, и осмелился. Никто не мог знать, на что он способен. Теперь Констанция не находила себе места из-за опасений за его судьбу и из-за тревоги за Грануш.
– Может, она куда-то уехала, родню навестить?
– Изабо, нет у нее никого, только мы. Она бы не исчезла, не сказав мне.
– Ну значит, украли эту ценность несказанную. Продали непорочную нашу Грануш в магометанский сераль.
На следующий день уже и Изабо не зубоскалила. Обыскали весь замок и город, опросили всех стражников. Констанция не выдержала, вместе с Изабо в сопровождении трех копейщиков спустилась в каземат. Свет факелов отражался в лужах мокрот и освещал лишь узкий проход, остальное подземелье тонуло в кромешной тьме. Окутала нестерпимая, плотная, как болотная жижа, вонь. Казалось, вместо воздуха княгиня вдыхала чужую грязь и мерзость. Представить, что чистая, безупречная, достойная мамушка Грануш, заменившая княгине Антиохии мать, могла попасть в этот ад, предназначенный для убийц, воров и сарацинских пленников, значило заподозрить, что княжеством правила уже не Констанция, а чужая, враждебная и безжалостная воля.
– Изабо, пойдем отсюда, я с ума сошла ее тут искать.
– Уж спустились, так проверим до конца.
Изабо продолжала поднимать факел и заглядывать сквозь решетку в каждую камеру. Значит, она тоже опасалась, что Рено был способен на подобное злодеяние.
Стиснув зубы, прижав к носу надушенный платок, Констанция нащупывала путь в темном, узком проходе. Из-за прутьев тянулись клешни рук, пытались ухватить край одежды, умалишенные узники делали оскорбительные жесты, выкрикивали поношения и проклятия. Тюремщику приходилось отпирать ржавые запоры, чтобы перевернуть валявшиеся в глубине камер недвижные тела, убедиться, что это клятвопреступники, разбойники или должники, а вовсе не татик – опора и любимица княгини. К счастью, Грануш в этом жутком месте не оказалось.
Констанция уже повернула обратно, упрекая себя за безумные подозрения, как на решетку бросилось обросшее космами существо в драных лохмотьях, выпростало руку, чуть в глаза ей не вцепилось, зашипело:
– Чтобы князю головы не сносить, чтобы ему самому гнить в каземате, чтобы ему света Божьего вовеки не увидать…
Тюремщик хлестнул узника по рукам, Констанция, не оборачиваясь, опрометью выскочила наружу, на свободу, на свежий воздух. Проклятия Рейнальду, в этот самый миг вымаливающему прощение у Мануила, застряли в ушах страшным предсказанием.
В главной зале наткнулись на растерянную даму Доротею.
– Мадам, – метнулась та к княгине, воздевая четки в заломленных руках, – сестра Тереза утверждает, что в монастырь кармелиток позавчера привезли какую-то старую армянку и держат ее втайне ото всех, под запором.
– Ваша светлость, – Изабо понизила голос, – если Грануш в монастырь отправил тот, о ком мы думаем, то лучше вам лично поехать требовать ее выдачи. И Бартоломео с его отрядом прихватите. Он хоть и болван, а ради вас любой монастырь в щепки разнесет.
В щепки разносить убежище кармелиток не пришлось. Обнаружив у ворот монастыря конный отряд в полном вооружении, аббатиса безропотно выдала княгине армянскую старуху. Всю обратную дорогу в паланкине Констанция держала безвольную, обмякшую как пустой мешок Грануш в своих объятиях. Пыталась ее расспрашивать, но несчастная, видно, от пережитого разумом повредилась: плохо соображала, ничего толком рассказать не могла, а может – не хотела.
– Грануш-джан, – настаивала Констанция, – тебя Рейнальд сюда привез? Он что-то выспрашивал? Про Тороса разузнавал? Что ты ему сказала?
Грануш охала и плакала, до синяков вцеплялась в руку Констанции, но ни в чем не признавалась. Передавая узницу, мать-настоятельница, тряся клобуком, клялась, что доставленную женщину хоть и держали в келье взаперти и втайне, но не пытали, не обижали, ни голодом, ни жаждой не морили. А что с ней до этого делали, того мать Женевьева не ведала. Привез ее какой-то рыцарь, сказал: от княгини, постричь, мол, в монахини и не выпускать. Да, постригли, теперь она сестра Катарина.
На обратном пути княжий паланкин миновал Храм святого Георгия, княгиня велела свернуть в переулок. Распахнутые створки ворот армянской лавки висели на одной петле, дом стоял пустым и разоренным, посреди двора еще тлела сожженная голубятня. Констанция схватилась за горло, ей показалось, что в нее вонзилось каленое железо и выжгло дотла то место, где еще совсем недавно ютилась, кутаясь в оправдания и отговорки, ее неразумная любовь.
Никогда раньше мамушка не болела, всегда сама выхаживала всех захворавших. А теперь лежала на узкой постели, упрямо уставившись в потолок, лицо сморщилось и запало от усталости и боли. Констанция впервые заметила, как исхудала и постарела татик. Вместо упитанной, бодрой, решительной женщины, готовой спорить до хрипоты за мелочи и воевать до победы за существенное, на жестком тюфяке из свалявшейся морской травы покоилось невесомое старческое тельце.
Разумение все же вернулось к несчастной, ибо Всевышний не хотел, чтобы раба Божья Грануш ушла от своих близких, не простившись. Однако с разумением к татик вернулось и упрямство:
– Никто меня не пытал и не выпрашивал, не придумывай себе муку! Просто зажилась я на этом свете, всё, пора мне.
Как она, армянка, в латинский монастырь попала, не объясняла, запиралась в упрямом молчании, только псалмы твердила. От помощи Ибрагима наотрез отказалась:
– Нечего нехристю меня на пороге рая останавливать.
Ибрагим, поглядев на больную, и сам не настаивал:
– Высокородная госпожа княгиня, у достопочтенной мадамы Грануш нет больше желания жить, а в таком случае я бессилен.
Знахарь все же оставил питье, предназначенное облегчить телесные страдания, но мамушка сразу догадалась, что столь действенное зелье могло быть приготовлено только хитрыми нечестивыми руками, стремящимися лишить ее последних праведных мук на этой земле, и не пожертвовала ни каплей райского блаженства ради басурманской бурды. Уже двинуться не могла, а глаза все источали жалость, все ласкали напоследок Констанцию, все причитала, переходя на армянский:
– Я рада, рада представиться, дитя мое, лав балик. Иисус может сделать ложе смерти мягче пуховых облаков. Астхик моя, лапочка родненькая, ухожу я, покидаю тебя. Грустно оставлять тебя, но ты не бойся, не тревожься, пупуш масенький, я всю твою боль унесу, цавд танем. Здесь я уже ничего для тебя сделать не могу, одни хлопоты и волнения у тебя из-за меня, я оттуда тебя беречь буду.
– Ах, им пупуш татик, ну что такое ты говоришь! – Было стыдно даже думать о самой себе, следовало помочь Грануш сделать ужасный переход, но так непереносимо больно и страшно было потерять свою вечную опору, так захлестывала непереносимая жалость к старушке, что слезы и сопли рекой текли. – Татик, милая, дорогая, любимая, не думай обо мне, я уже давно большая, сильная, я сама за себя постою. А за твою душу во всех церквях будут вечно каждый день мессу служить. – Шепотом призналась: – В армянских тоже.
Передать бы самое важное Пуатье. И отцу. И Алисе. Но всю жизнь Грануш хлопотала только о Констанции, настало время перестать утруждать родимую. Только татик сама знала, что тревожило и мучило ее аревик:
– Не волнуйся, анушикс, первым делом найду его, расскажу, как ты убивалась, как за него молилась, как ради него в Иерусалим ходила…
Ради него? Констанция заплакала от стыда и горя. Всегда, всегда татик думала о ней незаслуженно хорошо! Даже верила, что Констанция весь Утремер спасет, а что ее воспитанница на самом деле совершила? Вверила Антиохию губительному сумасброду!
– Ах, татик-джан, останься, не покидай меня! Я исправлюсь, клянусь, я все поправлю, я впредь такой буду, какой ты хотела!
– Будь спокойна, пупуш мой родненький, я и оттуда глаз с тебя не сведу… и за Бо нашего, за Марию, Филиппу и Агнессу, моих крошек предстательствовать буду. И за Изабо… – Тут шепот умирающей заглушили отчаянные рыдания – это в голос запричитала мадам де Бретолио. Мамушка сморщилась: – Будет тебе, коза. Оставляю вас друг на дружку.
Старушка вздыхала – не о себе, уходящей в райские кущи, а об овечке своей, остающейся здесь, на грешной земле, на видные только ей в будущем муки и страдания Констанции. Та стояла на коленях у края постели, гладила маленькую, слабую ладонь Грануш-джан. Чем она заслужила – всю жизнь греться у яркого огня этой любви? Как расплатиться теперь, когда уже поздно? Дыхание Грануш стало клокочущим, хриплым, согнутые, узловатые пальцы слабо шарили по постели:
– Гиж и шаш, сумасшедший… Гог и Магог… Сатана… несет с собой гибель, боль и смерть…
Опять впала в забытье. Констанция задыхалась от жалости и ужаса. Как тяжко умирать даже такой непорочной женщине, как Грануш! Гнала от себя страшные разгадки мамушкиного бреда, но о Рейнальде де Шатильоне больше не молилась.
Дама Доротея тоже не молилась, даже сочла нужным приторным тоном пояснить даме Филомене:
– Я бы, конечно, и рада порадеть за умирающую, но вовсе не уверена, что Господу угодны молитвы за армянку. Как вы полагаете, мадам?
Поджала губы, взглянула искоса, курицей на зерно, ожидая поддержки своему нелегкому, но единственно правильному решению. И мадам Мазуар поддержала, без колебаний плеснула на прогорклое масло благочестия дамы Доротеи своим едким уксусом:
– Конечно, не молитесь, мадам де Камбер. На что дались нашей Грануш ваши скупые молитвы, когда Господь ее и так ждет с распростертыми объятиями?
Констанция тоже не сомневалась, что татик непременно попадет прямиком в рай, хоть и придерживалась своих армянских обрядов и Рождество с опозданием на две недели справляла.
Явился армянский священник, в знак Господней любви и милосердия помазал умирающую святым елеем. После соборования Грануш лежала строгая, молчаливая, отстраненная, словно уже на том пути, куда за ней никому не последовать. Затем впала в беспамятство и отошла в лучший мир как в сон. Умерла так, как всегда надеялась, как любовно планировала свою кончину уже два десятка лет – в собственной душистой постели, причастившаяся, пусть и по-армянски неразбавленным вином, исповедовавшись, среди любящих ее людей, под шепот молитв, вдыхая благовоние ладана.
В весеннюю, пахнущую сыростью землю легло бренное тело рабы божией Катарины, в миру бывшей мамушкой Грануш, заменившей княгине Антиохии родную мать. Констанция осиротела. Без татик замок как будто опустел, и стало мертвенно холодно, словно сдернули покров греющей, защищающей любви. Казалось, Грануш вынесла из ее опочивальни последнюю горящую свечу, и Констанция, вновь маленькая и беспомощная, осталась в жуткой тьме совершенно одинокой.
* * *
Холм был крутым, размытым зимними дождями, стылая глина чавкала под босыми ногами, просачивалась сквозь пальцы. Над посиневшими, издрогшими ступнями развевался подол рубища. Рейнальд поднимался медленно, склонив непокрытую голову. Болтающаяся на шее намокшая толстая веревка волоклась по земле. Кончик лезвия благородного Монэспуара, повисшего в левой руке, чертил в грязи борозду. Оголенная до локтя десница тянулась в мольбе к василевсу, давая возможность восседавшему на вершине холма Мануилу упиться унижением непокорного латинянина. Вдоль Виа Долорозы антиохийского князя толпились персидские сатрапы, сельджукские атабеки, арабские визири, эмиры и простые шейхи, выше по холму выстроились греческие нобилиссимы: сенаторы, димархи, архонты и магистры.
На полпути князь остановился, понурив голову, показывая, что не смеет приблизиться к Багрянородному и Порфирородному самодержцу. Следовавший за ним сонм монахов немонашествующих, без сандалий и с непокрытыми головами, ведомые Жераром, епископом Латакии, обошли кающегося князя и, выпевая печальные песнопения, побрели скорбным шествием к великолепному престолу, встали на колени, проливая из очей слезы, простерли к Равноапостольному руки, моля о снисхождении к кающемуся.
Окруженный кувикулариями с секирами император долго сидел недвижно, предоставляя монахам молить вволю. Лишь снизойдя в конце концов к душераздирающим рыданиям и жалкости клира, подал знак, что дозволяет мятежному князю подойти.
Рейнальд пошел к престолу Его Царственности медленно, с усилием, сгорбившись и сокрушенно уставившись в землю. Наконец добрел. Теперь краем глаза видел автократора, утопавшего в пурпуре и золоте на высоком кресле, с плеч ниспадали складки багряницы-порфиры, над головой Комнина висели императорские регалии – крест жезла Моисея и мечи, в небе развевались хоругви, по сторонам плескались полы шелкового шатра. С диадемы на виски ромея спускались цепочки жемчуга и драгоценных камней, но лик грека был темен и хмур, а устремленный поверх князя взгляд непроницаем.
Рейнальд медленно встал на одно колено, василевс оставался неподвижным. Рейнальд опустился на оба колена. Император по-прежнему не замечал кающегося, и тогда Шатильон одним стремительным движением рухнул к его ногам, распластав перед собой руки, как на плаху лег. Так унизился, что уже и не стыдно было, словно в мистерии или в игре участвовал.
Сопровождавшие его воздели руки в мольбе. Стало тихо, толпа замерла.
Пора было самодержцу решать, как поступить с виновным князем, но Мануил не шевелился, тянул тугую тетиву молчания, будто в дурном сне. Шатильон чувствовал на себе презрительные, как плевки, взгляды ромейских стратигов, сенаторов и эпархов. Не только они наслаждались его позором. У подножия трона теснились и посланники Нуреддина, персидского филарха Ягупасана, переминались армянские дипломаты, стояли представители царя Грузии и даже обоих братьев Данишмендидов, которым угрожал общий с Его Царственностью враг – конийский султан Кылыч-Арслан. Дивились на происходящее визири Багдадского халифа, послы народов азийских, хоразмиян, сузян, екватанцев, авазгов, иберийцев, филистимлян, мидиян и вавилонян фатимидских. Но тяжелее всего было унижаться под взглядами франков, а этих в Мамистре собралось множество. Только король Иерусалима не явился, видимо, не желал вмешиваться в судилище, поскольку не намеревался защищать беспокойного Шатильона, но и оказаться обвиненным в его гибели не стремился.
Князю казалось, что он уже вечность лежит распростертый у пурпурных туфель императора, грудью сквозь дерюгу ощущая каждый камушек, зарывшись лбом в сырую грязь, с ноздрями, забитыми густым запахом почвы. По рядам латинян прошло легкое движение, возникли и крепли шорохи и ропот: видеть столь жалким рыцаря и барона франкам стало непереносимо, зазорно, да и непристойно. Рено даже с земли замечал, как переступали, хлюпая грязью, сапоги, позванивали шпоры, как волосатые кулаки стискивали рукояти мечей в досаде на Шатильона, валяющего в пыли франкскую честь. Небось, надолго запомнят добровольное унижение князя Антиохийского, но и Комнину его не простят. Хоть бароны и считали Рейнальда худородным пришельцем, но в глазах иноземцев он все же был одним из них. Судьба князя их не волновала, зато рыцарское достоинство – весьма, а уничижение Шатильона отбрасывало тень на каждого. Но Рейнальд не ради них тут валялся.
Мстительный автократор обратился к окружавшим его нобелиссимусам и беседовал с ними вполголоса, упорно не замечая простертого во прахе кающегося. Гул среди латинян стал громче, влага от мокрой почвы проникла сквозь рубище и неприятно холодила тело, во рту скопилась вязкая слюна, от неудобного положения затекла рука и неуместно зачесало ногу. Сколько же можно тянуть поношение? Уж либо прости, либо карай. Секунду поколебался, не вскочить ли, не рассмеяться ли греку в лицо, но это не смыло бы пережитый срам, только сделало бы его напрасным.
Наконец Мануил опустил взор на поверженного мятежника. Встал с престола, подошел к преступнику, поднял его и прикоснулся сухими, неразомкнувшимися устами к устам Рено. Зрители оживленно задвигались, радостно заговорили, не скрывая облегчения и пряча легкое разочарование. Драгоман провозгласил три условия, на которых Багрянородный соглашался даровать прощение: князь Антиохийский должен был сдать цитадель Антиохии, поставлять ополчение в византийскую армию и посадить на патриарший престол иерея, которого, по древнему обычаю, Верный во Христе пришлет из Нового Рима – Константинополя.
Все это Рейнальд клятвами утвердил, ни в чем не переча. Бывший неугомонный возмутитель спокойствия превратился в безоговорочного вассала Византии, во искупление своих кипрских безобразий вручил Порфироносному последние остатки независимости Антиохии.
* * *
В Пасхальное Воскресенье толпа волновалась перед воротами святого Петра, люди поднимались на цыпочки и расталкивали друг друга, чтобы получше рассмотреть процессию.
Нынешнее торжественное и великолепное вступление императора в Антиохию мало отличалось от въезда в этот же город его отца, Иоанна Комнина, два десятка лет тому назад. Василевс прибыл в вассальное княжество со всей возможной помпой, всячески подчеркивая, что он его верховный сюзерен. Вновь вместо лилий Антиохии на городской цитадели реяли греческие орлы, улицы были устланы коврами и засыпаны весенними колокольчиками, анемонами и маками, перед конем Багрянородного шествовали высокие, светловолосые телохранители-варяги из императорской гвардии, а покорный, повинившийся Рейнальд де Шатильон вел коня автократора в поводу, как когда-то Раймонд де Пуатье. Но Констанция на сей раз супругу не сочувствовала и страха не испытывала, хоть и любопытствовала увидеть воочию ромея, с которым ее едва не помолвили в детстве.
– Несчастный князь! – вздохнула пучеглазая, толстогубая Сибилла де Фонтень. – Только бы не споткнулся, это будет плохой знак!
Даже под венком китайских роз девица смахивала на карпа.
– Лучше так, чем с отрубленными ушами и носом, – отрезала Констанция.
Дерзостно было со стороны Сибиллы вздыхать над судьбой князя Антиохии. Бесприданница поступила бы разумнее, подыскивая себе соответствующего жениха, а не ошиваясь подле Бо. Сама Констанция Рено не жалела. Смерть мамушки все изменила. Что-то тогда в душе надломилось, и супруг перестал казаться необузданным, непонятым и неправедно обиженным героем Монтобаном, а увиделся тем, кем и был всегда – прельстительным, но жестоким искателем Фортуны. Что с этим новым отношением к мужу делать, как дальше вместе жить, и как предотвратить его будущие безумства, растерянная Констанция не знала. Сожалеть, что князь выкрутился, добился прощения василевса – не получалось, от благоволения Мануила и ее судьба зависела, но брала невольная досада, что необузданный самодур так легко отделался. Наверняка, многие негодовали, в том числе и кузен Бодуэн, и Эмери Лиможский, пребывающий в Иерусалиме изгнанником, и все те, кому теперь с замиранием сердца приходилось ожидать следующей выходки князя Антиохийского.
Его величество Бодуэн III шествовал позади процессии без короны и меча, рядом переваливался толстый Амальрик, его брат и наследник, за ними тянулись прочие знатные франки. Впрочем, хоть король и брел позади греков безоружным и без регалий, все знали, что в милостях ромейского самодержца он нынче следовал первым.
Едва Шатильон покинул ставку Комнина, как Бодуэн немедля прибыл в Мамистру и с первой же встречи очаровал автократора. Император удерживал при себе нового родича десять дней и без устали обсуждал с ним планы совместных будущих военных кампаний. Грек всегда восхищался западным рыцарством, подобного которому в его империи не имелось, и, обнаружив в новом друге его высочайший образец, полюбил короля Иерусалима всей душой. Между двумя государями вспыхнула истинная сердечная привязанность. Достаточно было Бодуэну лишь высказать пожелание, и Мануил, увлекшийся величественной ролью всемогущего благодетеля, спешил удовлетворить просьбу. Бодуэн, который за князя Антиохии ходатайствовать не стал, за армянского царя Тороса заступился, и василевс тотчас помиловал и Рубенида, которому, правда, тоже сначала пришлось поваляться в пыли, но разве это чрезмерная плата за жизнь и киликийские горы вдобавок? Благодаря королю автократор также учел захирение Антиохии и уменьшил число воинов, которые княжество обязалось выставлять в помощь Константинополю.
А когда его величество сломал себе руку, упав с коня во время охоты, – кто при этом не вспомнил страшную судьбу его отца Фулька Анжуйского? – император лично положил руку свойственника в лубок и ухаживал за своим царственным пациентом с преданностью старшего брата.
Личная приязнь свершила чудеса: Мануил не только выделил изрядные суммы на украшение Святого Гроба в Иерусалиме и Базилики Рождества Христова в Вифлееме, но поговаривал о возможности разрешить теологические расхождения с Римом и положить конец злосчастной схизме между латинской и греческой церквями. Однако усердно делая вид, что готов на будущие уступки, хитрый византиец все же посадил на престол антиохийского патриархата византийского ставленника Афанасия.
Внешне Багрянородный оказался таким же невзрачным и смуглым, как и покойный Иоанн. Недаром венецианцы оскорбили василевса шутовской коронацией эфиопа. Но в отличие от напыщенного и недоброжелательного отца, у Мануила оказался живой взор и приветливый лик. Только ромей, так старательно пытавшийся уподобиться героям рыцарских баллад, свою трусливую греческую предусмотрительность перебороть не смог: хоть все колокола Антиохии и раскалывались от гостеприимного звона, и чернь чествовала василевса пригоршнями риса и благословениями, а Порфироносный все же поддел кольчугу под фиолетовую мантию и расшитые самоцветами персидские одежды и заранее вытребовал от города заложников, а всех остальных в процессии лишил оружия, включая лепшего друга и дражайшего родича Бодуэна.
И все же отношения между ромеями и франками переменились. В отличие от Иоанна, Мануил не стремился к возвращению захваченных западными варварами византийских земель. В последние годы на его империю покушались ненасытные сицилийцы, восстали непокорные венгры и сербы, даже киевские князья пытались стряхнуть с себя длань Константинополя и заменить греческого патриарха на местного ставленника. Священную Римскую империю Конрада III унаследовал Фридрих Барбаросса, который тоже оказался враждебным василевсу. Так что франки уже не казались столь большим злом. Василевс де-факто признал создавшийся в Палестине статус-кво и ныне ожидал от латинян лишь поклонения, почестей и славы, а поскольку греки все чаще пытались добиться своего золотом, а не сталью, Комнин был щедр, как море, и приветлив, как майский день.
В свою очередь франки уже не опасались греческих схизматиков, а видели в восточных христианских собратьях единственных возможных союзников против Нуреддина и Фатимидов. Все уступки византийским обычаям были оправданы ради грядущего уничтожения атабека Алеппо.
Восемь дней оставался ромей в Антиохии дорогим гостем и милостивым властелином, и своей приветливостью, дружелюбием и невиданно щедрыми дарами покорил как баронов, так и городскую чернь. Не поленился даже устроить судилище, призванное утвердить его право суда в качестве верховного сюзерена. Но самой удачной затеей василевса, обожавшего рыцарские забавы, оказался турнир.
Констанция сидела в первом ряду, вокруг на высокой трибуне теснились дамы и кавалеры. Светило апрельское солнце, теплый ветер трепал пестрые вымпелы, баннеры и штандарты, музыканты били в барабаны, дудели в дудки и играли на свирелях. Огромную арену засыпали толстым слоем песка, доставленного по Оронтесу с морского берега баржами. Деревянную ограду ристалища сплошь увешивали эмблемы, девизы и щиты с гербами состязающихся, а изумрудная равнина за городом кишела народом, собравшимся полюбоваться невиданным зрелищем. Жонглеры и фокусники развлекали публику, кузнецы раздували горны, торговцы бойко распродавали сладости, дешевые украшения, одежду и оружие, мошенники завлекали простаков играми, требующими ловкости, доверчивости и полных карманов, труверы исполняли героические песни, девки выискивали распутников, ценящих прелести Венеры выше лавр Марса, а воры обчищали ротозеев.
Внутри арены толпились состязающиеся в накинутых поверх кольчуг табардах, на франкских шлемах гордо развевались наметы с зубчатыми, словно изрубленными сарацинскими саблями, краями. Драгоценных боевых дестриэ от холки до копыт украшали перья, бубенцы и помпоны, спины их покрывали чепраки с вышитыми гербами. Головы и груди благородных животных защищали доспехи. Жеребцы волновались, вставали на дыбы, рвали повод, грызли удила и размахивали хвостами с вплетёнными в них лентами.
По всей Франции подобные турниры вошли в обычай, и многие младшие рыцарские сыновья забавлялись и кормились ими. Даже протесты церковников не могли заставить шалопутов поступиться новым увлечением. Напрасно духовный отец Европы клюниец Бернард заявлял, что погибшие на турнире отправляются прямиком в преисподнюю. И хотя в Утремере каждому, способному носить оружие, сполна хватало настоящих боев, все же молодые шевалье, включая пятнадцатилетнего Бо, были в восторге, и всем пришлось покориться прихоти императора, разыгрывающего из себя Шарлеманя на огороженной арене.
Мануил, разодетый по французской моде в длинную бархатную котту и плащ, застегнутый у плеча золотой фибулой, дружески болтал с королем Иерусалима, между монархами вертелись борзые собаки, ошейники сверкали карбункулами и смарагдами. Оба монарха упорно не замечали Рейнальда, беседовавшего неподалеку с коннетаблем Антиохии Жоффреем Сурденом. Комнин намеренно унизил князя в Мамистре, а Бодуэн, по слухам, считал, что Шатильон еще слишком легко отделался. Теперь оба венценосца вели себя в Антиохии как дома. Неподалеку ошивался и Бо, которому предстояло впервые участвовать в состязаниях оруженосцев. От волнения юноша заикался больше обычного. Когда Констанция слышала прерывистую, мучительно запинающуюся речь пунцового от смущения, брызжущего слюной сына, она одновременно и жалела его, и досадовала, что отрок не может взять себя в руки и говорить так, как полагается отпрыску благородного рода. Боэмунда уже и в глаза прозывали Заикой. А вот его двоюродного дядю Амальрика тот же злосчастный семейный изъян не волновал: полногрудый толстяк хохотал над шутками маршала Уильяма Тиреля, кудахтал и колыхался всем своим необъятным туловищем.
Мадам де Бретолио неотступно следила за королем:
– Как он весел, а? И как охотно готов сражаться ради нее!
– Изабо, этого союза требовало благо королевства.
– Посмотрите на нее, мадам. Ей четырнадцать лет, она племянница византийского императора, богата, глупа и прекрасна, как заря. Королевство не могло потребовать от Бодуэна более легкой жертвы.
Та, о ком она говорила – Феодора, новая королева Иерусалима, восседала по другую руку от княгини Антиохии, и для нее, разумеется, Изабо не существовала. Бодуэн, до женитьбы грешивший развратом со многими женщинами, ныне не мог надышаться на бело-розовую, похожую на цветок вишни, девочку-жену. Феодора принимала свое счастье как должное, держалась с византийской надменностью и взирала на всех, в том числе и на супруга, с холодным равнодушием. Она плохо говорила по-французски и поэтому, а может, и из-за презрения к западным варварам, по большей части молчала. Когда кто-либо слишком приближался к ней, высокая гречанка брезгливо отодвигалась, а если отойти не могла, откидывалась назад, тем самым понапрасну обижая людей. Ни чувства ее, ни разум еще не проснулись, но холодность этой драгоценной куклы воспламеняла Бодуэна сильнее, чем когда-либо волновала бурная страсть Изабо.
За жизненно необходимый союз с Византией, суливший Утремеру безопасность и совместный поход против Нуреддина, король, не задумываясь, расплатился не только опостылевшей Изабо, но и независимостью Антиохии: еще в Мамистре Бодуэн отрекся от всех прав Иерусалима над княжеством и безоговорочно признал верховный суверенитет Ромейской империи над своим северным соседом. Впрочем, он находил этому множество резонов, необходимых каждому малодостойному отступничеству:
– Дорогая кузина, бесшабашному и неукротимому князю греческая узда пойдет лишь на пользу. Под протекторатом Константинополя Антиохия будет в несравнимо большей безопасности, чем одиноким островком в море сарацинских владений.
Что бы ни думала сама Констанция о Рено, когда ее супруга осуждали или презирали другие, они тем самым осуждали ее выбор и ее саму. Однако король давно превратился из порывистого юноши, бредившего геройскими свершениями, в правителя, озабоченного лишь государственной выгодой. Констанцию возмущало равнодушие кузена к судьбе Антиохии, задевало его враждебное отношение к Рейнальду, даже его слепое обожание замороженной Феодоры было ей неприятно. Когда-то и Констанция была юной девочкой-женой, но никогда Раймонд де Пуатье не искал так назойливо ее взгляда, не таскался за ней таким покорным, верным псом. Да и второго супруга ей пришлось уговаривать взять себя в жены. А Феодору невозможно было представить даже взволнованной, не то что потерявшей голову от страсти.
– Изабо, а вон Бартоломео в одежде твоих цветов. Он громогласно дал обет не снимать сапог, пока ты не поцелуешь его.
– Боюсь, в такой жаркий день я не решусь приблизиться к нему, чтобы разрешить его от этого обета.
– По дороге сюда я своими глазами видела черного кота, – испуганным шепотом сообщила Сибилла.
Безжалостная Изабо всплеснула руками:
– Что ж вы на крайнее место уселись, дамзель?! Вы что, не знаете, что на углу сидеть – семь лет жениха не встретить?
Девица вскочила как ошпаренная. Констанция распорядилась:
– Идите на верхние места, милая. И учтите, что следующий черный кот будет означать для вас потерю места при моем дворе.
Только предвестниц несчастий ей не хватало! Участники турнира продефилировали по ристалищу, выкрикивая боевые кличи.
– Я почти всех состязающихся уговорила засунуть кусочек облатки под кольчугу, – похвасталась действенными мерами благочестивая мадам де Камбер.
Состязания начались с жюте – поединков оруженосцев и еще не посвященных в рыцари дамуазо, среди них был и Боэмунд Антиохийский. В последнее время сын совсем отошел от матери, зато все больше сближался с носатым и ушастым Раймундом Сен-Жилем, тоже прибывшим на турнир. Граф Триполийский хоть и был на голову ниже Бо, зато уже прошел посвящение в рыцари, был на пять лет старше и намного умнее.
Констанция волновалась за сына, но юноша выступил превосходно – удержался в седле до конца боя и даже сбил с коня собственного оруженосца. Впрочем, если бы Пьер не позаботился, чтобы его господин одержал убедительную победу, княгиня прогнала бы недоумка взашей. Все время, что Бо сражался на ристалище, сзади ойкала и охала губошлепая Сибилла. Приберегла бы дочь простого виконта свои непрошенные волнения для кого-нибудь попроще: Антиохия нуждалась в могущественном альянсе, и наследника княжества ожидал блистательный союз. Сидящая неподалеку неприятная Агнес де Куртене, на которой год назад очертя голову женился влюбчивый Амальрик, напоминала, как никчемны жены без владений. Мало того, рыжая стерва при каждой возможности улыбалась Шатильону, тот ухмылялся и отворачивался, а у Констанции при этом в глазах темнело от бессильной ярости.
Изабо прошептала на ухо:
– Ваше сиятельство, василевс с нашей Марии глаз не спускает!
У Изабо страсть к сводничеству, но она была права. Множество мужчин заглядывались на вспыхивающую, неотразимую улыбку Марии и на ее фиалковые очи. Не избежал девичьих чар и пожилой византиец, чья оставшаяся в Константинополе престарелая жена вместо красоты и юности славилась одной набожностью. Стройная Мария с густыми распущенными льняными волосами и темными бровями превосходила прелестью даже королеву Феодору. Тщеславная девица так гордилась своей внешностью, что отказалась прикрыться от солнца соломенной шляпой или покрывалом, будущий загар и веснушки ее ничуть не тревожили. Сама Констанция тоже загорела, но кто станет рассматривать ее, когда рядом сидела Мария, провозглашенная труверами Афродитой и Еленой Прекрасной?
Во время недолгого перерыва разровняли песок и оттащили раненых, а затем герольд торжественно провозгласил, что Багрянородный и Порфироносный автократор, самодержец Ромейской империи, Верный во Христе доминус Мануил Комнин сойдется в жюсте – копейном поединке – с Милостью Божией Латинским королем святого города Иерусалима Бодуэном III. Уже сидевший в седле Бодуэн указал левой рукой на свою воздетую к небесам правую, а затем на императора, поясняя зрителям, кому он обязан всей мощью излеченной десницы. Многочисленные вассалы короля захлопали и затопали ногами о дощатый настил трибун, греки тоже вежливо зашуршали. Герольд махнул флажком, и Бодуэн погнал вороного скакуна навстречу Мануилу, выставив зажатое под мышкой копье. Василевс несся с другого конца ристалища на гнедом жеребце. Зрители задержали дыхание, таранный удар копья мог запросто пробить кольчугу. Одна Феодора сидела невозмутимая.
– А чего ей волноваться? – прошипела Изабо. – В случае гибели Бодуэна она всю Акру во вдовью часть получит.
В первом забеге царские особы промчались, лишь скрестив в воздухе копья. Доскакав до конца арены, развернулись и вновь двинулись друг на друга. Во второй заход копье каждого сломалось о щит противника, а в последнем состязании их кони сшиблись и взвились на дыбы, но оба умелых всадника удержались в седлах.
Никогда мир не знал подобной братской дружбы между франками и ромеями! Никогда будущее Утремера не казалось столь обеспеченным. Трибуны тряслись от топота, хлопаний и волнения зрителей.
Марии и Феодоре, избранным красивейшими дамами турнира, предстояло награждать победителей. Самовольная, порывистая Мария вскочила с места, и – высокая, тонкая, – сбежала на песок ристалища так проворно, что лепестки роз разлетались из венка и реяли вокруг ее головы, а светлые волосы с вплетенными лентами метались за спиной ангельским ореолом. Василевс тут же подскакал к ней, склонился с седла, и она – ланиты разгоряченные, дыхание порывистое – ласковыми руками обвязала Мануила шарфом, еще хранившим тепло и аромат девичьего тела. Пусть Его Царственность оценит антиохийскую лилию и приищет синеглазой, белокурой чаровнице достойного жениха из числа своих бесчисленных родичей.
Феодора трибуны не покинула, через судью передала Бодуэну перчатку. Король благоговейно поцеловал дар супруги, засунул его за ворот и, поднявшись в стременах, салютовал ей поднятым мечом. Гречанка милостиво кивнула в ответ. У Изабо был такой несчастный вид, будто ее ударили. Констанция шепнула:
– Не переживай ты так. Сколько бы копий кузен не ломал ради нее на турнирах, он не забыл проделок собственной матушки. Скорее он вспотевшего коня к студеной воде допустит, чем Феодору к правлению.
Изабо выговорила с мукой:
– Зачем ей правление, когда он обожает ее? Я ради него местом в раю пожертвовала, а этой ледышке улыбнуться ему лишний раз зазорно.
Может, этим Феодора и держала Бодуэна. Констанция сама хотела бы весь жар сердца направить на нужды княжества и на богоугодные дела, а не на страдания по Шатильону, который из-за нее ни единожды даже мига сна не потерял.
В последующем общем поединке главным победителем оказался все тот же Мануил. Император так усердствовал, что умудрился счастливым ударом опрокинуть вместе с конем Гуго д’Ибелина, а тот, рухнув, ненароком сшиб сенешаля Антиохии Эшиварда, сеньора Сармании. Франкские рыцари подобных подвигов совершить не сумели, потому что они, в отличие от мальчишествующего Комнина, честно пытались не калечить противников, даже греков, а это требовало от привыкших к убийственным сражениям воинов самообладания и удержу. Констанция следила только за Рено. Его Баярд цвета серой золы мелькал в самой гуще боя. Внезапно Мануил сбил Шатильона с коня, Констанция так стиснула руку Изабо, что та ахнула, но подскочившие оруженосцы тут же помогли князю Антиохийскому подняться и покинуть ристалище. Скоро наступил и черед короля быть сброшенным на землю увлекшимся Комниным. Только тут василевс немедленно спешился и бросился на помощь собрату-помазаннику.
Антиохийские девицы и прекрасные дамы взволнованно хихикали, перешептывались, выбирали себе амуров среди воинов поудачливее и посылали им те детали своего туалета, без которых становились еще прекраснее. Рыцари привязывали эти дары к древкам копий. Констанция ничего Рейнальду не послала, да тот и не просил, зато шепнула подруге:
– Изабо, помилосердствуй, подари мессиру д’Огилю ленту. Он испепеляет тебя взорами.
Изабо хоть и терзалась страстью к Бодуэну чуть не до потери аппетита, а на седоусого и лысого Бартоломео тут же обернулась. Нет, никогда Изабо не превратится в достойную матрону наподобие дамы Доротеи!
Бой оправдал ожидания. Двое рыцарей погибло, полдюжины были покалечены, побитыми оказались почти все. Император выступил очень достойно, франки не ожидали от плюгавого грека такого умения и силы, но остальные ромеи не могли сравниться с латинянами, неоткуда было женственным и изнеженным византийцам набраться такого опыта конной рукопашной схватки.
Солнце скрылось за вершинами гор, и весь двор поспешил к накрытым на лужайке столам. Рейнальд сидел злой, угрюмый, но невредимый. Чтобы заплатить за него выкуп, придется ввести соляной налог. Констанция старалась не обращать внимания на его недовольство, а все же радовалась, что оно мешало ему перемигиваться с бесстыжей Агнес. Мануил и Бодуэн восседали под центральным балдахином, опять беседовали меж собой, и хоть Рено игнорировал их невнимание, Констанцию подчеркнуто пренебрежительное обращение коронованных особ с князем Антиохии оскорбляло.
Феодора торчала восковым истуканом, зато Мария, оказавшаяся напротив василевса, наоборот, то и дело вскидывала на Багрянородного нахальные, смеющиеся аметистовые глаза и хохотала алым ртом. Сорокалетний невзрачный автократор пыжился под взглядами дерзкой юницы.
Изабо на застолье не осталась, вызвалась вернуть в замок пятилетнюю Агнессу де Шатильон. Девице Сибилле было велено ей помогать, и дамы с детьми и няньками отбыли под охраной непременного, когда дело касалось мадам де Бретолио, Бартоломео. Но жестокосердая дама его сердца только косилась на сапоги своего преданного воздыхателя и фыркала.
Пирующие громко нахваливали Его Царственность, наперебой делились восторгами, давали обеты не брить одну из щек или не пить ни глотка воды до следующего боя, одна мадам де Камбер осеняла себя крестным знамением:
– Ловушка дьявола и ничего больше! На турнирах этих поганых только семь смертных грехов выходят победителями. Против Нуреддина бы так сражались! – Указывала на кружащих вокруг пиршественного стола ворон: – Вон бесы над вами летают, на том свете всех драчливых бездельников прямо в латах в зловонной сере топить будут.
В укор остальным сотрапезникам дама Доротея отказалась от пирогов с семгой, угрями и форелью, но Констанция вспомнила присказку мамушки «лучше бедняков кормить, чем поститься» и ела без угрызений совести. Вообще удивительно, как трудно стало ныне потревожить ее совесть.
– Зато на этом свете отважных рыцарей девушки и дамы любят! – заявила Мария и метнула на Мануила вызывающий взгляд.
Бесшабашность и своенравие Марии намного превосходили ее несравненную красу, хоть мужчины замечали только внешность. А для Марии невзрачность Комнина никакой роли не играла. В отличие от матери, да и от младшей сестры Филиппы, Мария не страстной любви искала, а возвышения. Для нее императорский удел и титул с лихвой возместили бы темный лик низкорослого самодержца, да увы, Комнин был женат. Правда, никчемная германская жена василевса так и не сумела подарить империи необходимого наследника мужеска пола, а теперь и вовсе захворала. Сдавалось, что брак этот оказался Всевышнему неугоден. Мануил обратился к Констанции:
– Ваша светлость, я поражен вашим придворным лекарем-арабом. Всю жизнь я интересуюсь медициной, перечитал множество научных трудов, сам смешиваю лекарства и даже решаюсь врачевать и резать жилы. Но никогда мне не случалось сталкиваться со столь знающим и преданным своему делу целителем. Он истинный Гиппократ. Если вы отпустите его со мной в Новый Рим, я специально для него создам академию, дабы его глубочайшие познания и умения распространились в христианском мире.
– Ваша Царственность, мы чрезвычайно ценим Ибрагима аль-Дауда, и знания его не пропадут: в последние годы у него появился ученик, старательный и смышлёный армянский лекарь, со временем он переймет все познания египтянина.
Но автократор продолжал настаивать, видимо, привык получать все желаемое:
– Этот Ибрагим – настоящий Гален наших дней! В Новом Риме он мог бы обучить не одного, а множество подающих надежды медиков.
– Греков, что ли? – процедил сквозь зубы Рейнальд.
– Ромеев. Тех, кто умеет и хочет лечить, – сурово обрезал Комнин. – Спасать человеческие жизни – первая обязанность каждого христианина.
Рено выслушал гостя, невежливо облокотившись на стол, водрузив подбородок на стиснутые ладони – желваки ходили на скулах, нижнюю губу закусил. Констанция ответила уклончиво:
– Ибрагим ибн Хафез – свободный человек, он должен сам принять решение.
Шатильон перебил ее:
– Ваша Царственность, есть одно небольшое препятствие – против этой басурманской собаки предъявлено обвинение в колдовстве. Как только суд расследует его злодеяние, он будет весь ваш, хоть в виде щепотки угольков.
Тогда Констанция подумала, что обвинение – вполне пригодная придумка, чтобы удержать ценнейшего врачевателя в Антиохии. Только напрасно за десять лет, прошедших с их первой встречи, она так и не научилась воспринимать угрозы Шатильона всерьез. Плевал Рено на то, будет или не будет поганый басурманин исцелять антиохийских недужных. Любой ценой он хотел уязвить унизившего его императора, хоть единожды желал безнаказанно поступить наперекор автократору, обращавшемуся с князем Антиохийским как с ничтожным выскочкой.
– Какой-то поганый магометанский знахарь, – пожал он плечами, когда Констанция обнаружила, что конклав действительно обвинил Ибрагима ибн Хафеза в колдовстве. – Ему все равно рано или поздно гореть в геенне огненной. Начнет чуть пораньше.
– Рейнальд, разве ты не помнишь, как ты сам добился, чтобы он лечил умирающего Рюделя?
– Ну и что? Он же его не вылечил, не так ли?
– Супруг мой, я прошу и заклинаю тебя, спаси Ибрагима!
– А разве я не просил тебя узнать, где Торос? Но ты отказала, и твоему супругу пришлось как рабу валяться у ног Мануила.
– Боже, Рено, ты ведь это не всерьез?
– Всерьез. Пусть меня, наконец, воспринимают всерьез. Мир может перевернуться, Мануил может завоевать все Средиземноморье, Бодуэн может лебезить перед греком сколько угодно и пренебрегать мною. Вы, мадам, можете обдавать меня холодом, потому что вбили в голову, что я повинен в смерти вашей няньки, но у себя в княжестве я имею полное право казнить колдуна, обвиненного церковным судом.
Когда-то Констанция была молодая, гордая и бесстрашно указывала Пуатье, что княжество принадлежит ей, а не ему. Но то, чего не сумел достигнуть могучий, яростный аквитанец, того добился бессердечный Шатильон – Констанция боялась перечить супругу. Пуатье мог бесить, сводить ее с ума, но она понимала его и знала, чего он добивался: чести, славы, пользы для Утремера, торжества Господня, побед, любви – вещей понятных, которых каждый ищет в этом мире. А Рейнальд оставался непредвиденным. Все мирское было для него не целью, а орудием доказать или достигнуть чего-то невидимого и неощутимого, выказать миру свое превосходство и уязвить недоброжелателей. Даже Констанцию он любил, только пока она была ему преданной союзницей, а когда столкнулся с ее осуждением, отшатнулся и от жены. Он словно боролся не столько с сарацинами, сколько с окружающими. А может, даже с самим собой. И в этой борьбе он ничего и никого не боялся и не щадил ни себя, ни других.
* * *
Ибрагим вернул княгине посланный ему кошель, отказался внять предупреждению и покинуть Антиохию. «Когда-то я уже бежал из Аль-Искандарии, спасая свою жизнь, и больше не побегу. Вся Антиохия знает, колдун ли я или просто добросовестный медик, пытающийся облегчить людские страдания. Я имею право опровергнуть нелепые обвинения».
Оказалось, что у обвиняемого магометанина в церковном суде защитников мало. После страшного приговора Констанция бросилась к королю.
– Дорогая кузина, я сожалею, что вы теряете своего лекаря, но я ничем не могу вам помочь. У меня нет власти отменить церковный вердикт или заставить князя помиловать преступника. Мое вмешательство лишь обрадует его светлость – он только и ищет возможность доказать, что ему ни король, ни император не указ. Если я встряну, пострадает мой престиж, а ваш знахарь обречен в любом случае.
– Ваше величество, как безжалостно вы научились взвешивать, что послужит к вашей пользе, а кем можно пожертвовать!
– Не к моей пользе, – широкое лицо Бодуэна замкнулось, посуровело, – не к моей, а к вящей пользе королевства. Не вы ли сами призывали меня к великим деяниям? Не вы ли научили меня противостоять родной матери? Не без вашей помощи, дорогая кузина, я научился перед каждым поступком спрашивать себя лишь одно: пойдет ли это на пользу Утремеру? В государстве, подвергающемся стольким опасностям, это первая обязанность помазанника. Поверьте, я давно не делаю ничего по неоправданному, личному капризу. И позвольте заметить, что, если бы вы вели себя так же, ваша светлость, вам не пришлось бы нынче искать управу на собственного супруга.
Что толку в суровой оценке давних поступков, последствий которых никто не мог предвидеть заранее? Король считал, что стал разумным, а на самом деле он стал бессердечным и бессовестным – пытался выдать замуж Констанцию против ее воли, сверг с престола родную мать, выгнал Изабо, свел дружбу с императором-схизматиком, заключил перемирие с Нуреддином. Если бы Бодуэн обходился с Рено как с родственником и другом, а не выказывал ему одно презрение и не переметнулся полностью на сторону ромея, он мог бы влиять на князя, и тот, возможно, не превратился бы в изгоя, не преисполнился бы горечи и ненависти и не докатился бы до злодейств.
Но ни за что Констанция не допустит, чтобы так жестоко и позорно казнили ни в чем не повинного старика, годами лечившего и спасавшего ее и ее семью! Она обещала ибн Хафезу свою защиту, и теперь это дело чести. Княгиня вызвала тюремщика и говорила с ним с глазу на глаз.
В подземелье быстро темнело, и тюремщик с лоснящейся кожей, от которого, как от хорька, за десять шагов разило терпкой вонью, снова заорал, что, если паршивый армяшка не хочет завтра утром оказаться на костре вместе со своим басурманским колдуном, он должен немедленно выметаться. Но Арам все медлил, а Ибрагим, тот уже и вовсе никуда не спешил, сидел неподвижно, скрестив ноги, сложив на старческом брюшке чахлые руки, с костей которых свисала дряблая, веснушчатая кожа:
– Сын мой, ты только сохрани мои книги и манускрипты. Все самое важное в них, а не в этой старой, никчемной голове. И непременно отправляйся в Аль-Искандарию. Только вобрав весь опыт тамошних врачевателей – мусульманских и иудейских, ты станешь тем лекарем, каким можешь быть. Упомяни во дворе большой мечети Сулеймана мое имя, и тамошние медики помогут тебе, хоть ты и не правоверный, – аль-Дауд задумался, глядя на закатное небо в проеме окошка. – Судьба забыла меня, и я остался один, как слепой верблюд, брошенный в пустыне ушедшим караваном. Хотел бы я знать, что было предопределено свыше, а что зависело в моей судьбе от меня? – Склонил голову и промолвил задумчиво: – Больше всего мне жаль, что я так и не научился лечить проказу.
– Мой господин, – Арам в отчаянии взъерошил свои иссиня-чёрные патлы по-прежнему худыми, как палочки, руками, – как вы можете думать сейчас о какой-то проказе?
Старик с недоумением перевел черепашьи глаза в морщинистых веках на своего помощника:
– Как же так, ибни, сынок? До последней минуты надо пытаться узнавать что-то новое. Что бы ни случилось за порогом земного бытия, лучше покинуть сей мир с добавочной толикой знаний, чем уйти из него невеждой.
Арам воскликнул с отчаянием:
– Клянусь, учитель, я никогда не прощу франкам содеянного с вами!
Ибрагим покачал головой:
– Если бы зло и жестокость были присущи только латинским кафирам! Но такая же несправедливость когда-то изгнала меня из родного Мисра. От зла в этом мире далеко не убежишь. Мой мальчик, Аллах заповедал нам проявлять снисходительность, творить добро и отвернуться от невежд, и пока мы не научимся относиться так к каждому человеку, зло не будет истреблено в этом мире.
Арам скрипнул зубами, со всей силы пнул гнилой топчан:
– Зло в злых людях, вот где. Когда я впервые увидел княгиню, она мне показалась сошедшим на землю ангелом! А она бросила вас, даже не заступилась, ничем не помогла!
– Мадама Констанция просила за меня аль-Малика франджей, не ее вина, что богатым и знатным властителям не хочется ссориться с бешеным Бринсом Арнатом ради никчемного знахаря.
– Вы не никчемный. Вы мне как отец, вы мне дороже отца. Мой отец всю жизнь только о деньгах думал, а вы…
Аль-Дауд покряхтел, потрепал Арама рукой по колену:
– Ну, раз у меня вдруг появился долгожданный сын, то пусть мои знания и мое имя живут в нем: в Аль-Искандарии назовись сыном Дауда. Пусть на земле останется лекарь с этим именем. А теперь оставь меня одного, мой дорогой ибн Дауд. Мне нужно еще успеть подумать кое над чем, а времени в обрез.
Прижал Арама к груди, затем оторвался, отвернулся, промокнул глаза, опустился на колени и склонился до земли в сторону Мекки:
– Ля иляха илляллах, нет божества, кроме Аллаха…
Во дворе Арам наткнулся на огромную поленницу, в середину которой был врыт столб с цепями. Выбежал за ворота и отчаянно, надрывно зарыдал. А когда наконец утер слезы рукавом, поднял глаза к луне и почти провыл:
– Клянусь, я отомщу вам, проклятые, бездушные, жестокие франки!
Когда Шатильону доложили, что приговоренный к сожжению знахарь избежал казни, умудрившись самовольно помереть ночью то ли от страха, то ли с помощью дьявола, князь только рассмеялся:
– Хммм, молодец старикашка, всех вокруг пальца обвел. – Задумался: – Но совсем без казни тоже невозможно, оповещения сделаны, народ радуется предстоящему развлечению. Сожжем хотя бы того разбойника, который трех детей прирезал. Пусть все останутся довольны.
* * *
Мануил остался доволен чрезвычайно. Василевс полюбил Бодуэна как сына, а король, в свою очередь, узрел в новом друге и родиче опору, надежду и предводителя всего христианского Востока. Никогда раньше звезда Византии не светила франкам так ярко и путеводно! Перед отъездом автократор оказал честь вассальному княжеству, возведя Боэмунда Антиохийского в рыцарское достоинство. Неизвестно, кто больше упивался своим участием в этой церемонии – новоиспеченный рыцарь или Верный во Христе, впервые участвовавший в акколаде.
Как было договорено, уже в мае прямиком из Антиохии совместные силы Византии, Утремера и Киликии двинулись на захват Алеппо, столицы Нуреддина. Ведь все унижения, уступки, непомерные чествования, несчитанные расходы, отказ от суверенитета Антиохии, даже заключение брака с Феодорой – все было ради того, чтобы, примирившись, всем христианам сплотиться в единую невиданную силу и не просто отстоять очередную крепость, а раз и навсегда отсечь гидре голову – захватить Алеппо и положить конец империи Зангидов. Вожделенное избавление Леванта от угрозы басурман стало досягаемым. Рейнальд жадно разглядывал золотые стены Алеппо, возносящиеся в нестерпимо синее весеннее небо. О, как хотел он стать тем, кто первым ворвется в алеппскую цитадель!
Да только понапрасну после полувека споров, взаимных подозрений и недоразумений положились простодушные и доверчивые франки на хитроумного и коварного грека. Не успело христианское ополчение подойти к рубежам Нуреддина, как напуганный тюрок прислал в ставку императора послов, уполномоченных заключить мир на любых условиях, и Констанция оказалась права: почет, всеобщие восхваления и главенство над латинянами – вот что искал ромей вместо прочных и спасительных завоеваний. Нуреддин легко сумел нащупать ахиллесову пяту тщеславного и богобоязненного Мануила: нехристь убедил автократора, что Алеппо ничем не угрожает Византии, и, хоть терпеть не мог освобождать пленников, предложил василевсу выпустить из тюркских подземелий шесть тысяч латинян, томившихся там уже многие годы.
Удар был тяжким. Бодуэн со знатнейшими баронами явились к Мануилу, убеждали, молили Его Царственность не упускать невозвратимую возможность затоптать змеиное гнездо, покончить с джихадом навеки. Но Комнин, воочию узрев Алеппо, понял, что осаждать этот город его армии пришлось бы месяцами. И ради чего? Зангиды действительно не представляли опасности для Ромейской империи, наоборот, они соперничали с ее врагами – конийскими сельджуками, и тем самым держали их в узде. А Нуреддин тут же посулил василевсу двинуться со всем своим аскаром против главного из конийцев – анатолийского султана Кылыч-Арслана. Поэтому император не видел резонов тратить время, деньги и силы на обуздание сирийских басурман:
– Нуреддин тяжко болен, он больше не опасен Святой Земле. А Антиохию я особо взял под свою защиту, исмаилитяне не посмеют нападать на вассальный мне город.
Бодуэн продолжал стоять, понурившись, и такое горькое разочарование и упрек читались в его глазах, что василевс пожевал темными губами, перекрестился и добавил:
– Нуреддин грозится казнить всех этих узников, если я не договорюсь с ним. Когда я предстану перед своим судией, что я ему скажу? Что предпочел войну спасению шести тысяч христианских душ? Большинство из них – ваши единоверцы и соратники.
Король только зубами скрипнул. Большинство пленников – ненадобные франкам германцы, гниющие в алеппских застенках уже десяток лет, со времен неудачного крестового похода Конрада. Никто из них в Палестине ни на единый день не задержится.
Рейнальд, который ради мира с ромеями в ногах у императора валялся, больше других негодовал на предательство Мануила. Как близки они были к тому, чтобы захватить вражескую опору, ворваться в ворота недоступной твердыни, промчаться с триумфом по узким улочкам, разграбить сокровища, разорить мечети, овладеть недосягаемой цитаделью! А теперь кто знает, как и когда это случится?!
Не удержался, сверкнул наглыми глазами из-под темных бровей:
– В день суда Ваша Царственность скажет Всевышнему, что Святая Земля и Гроб Господень стоили шести тысяч воинов, которым Господь давно велел за себя сражаться и погибнуть во имя Свое.
Мануил взглянул на него холодно:
– Я уже убедился, князь, что для вас у человеческой жизни нет никакой ценности, будь то кипрский крестьянин или великий врачеватель. – Завершая аудиенцию, добавил в утешение убитому разочарованием Бодуэну: – Вы, франки, так могущественны, что вашему королевству ничто не угрожает. И Гроб Господень и все прочие Святые места в полнейшей безопасности.
Напрасны оказались все унижения, уступки и мольбы. Латиняне были готовы признать Багрянородного своим главой, своей надеждой и опорой, а он предпочел несомненной общей победе вечную хитрость ромеев – властвовать, разделяя. Византия вновь избрала излюбленную политику равновесия в ущерб общей борьбе всех христиан с сарацинами. Осталась арбитром, способным склонять чашу весов в угодную сторону, держа попеременно руку то Запада, то Востока, и тем самым определяя ход событий в Леванте. Сюзерен, друг, родственник, главный союзник и покровитель франков Мануил Комнин предал родство, нарушил дружбу, попрал доверие, забыл общность веры в Спасителя, пренебрег долгом сюзерена перед вассалами, разорвал союз с верными союзниками и бросил латинян несолоно хлебавши на пороге окончательного триумфа.
Помимо германцев – ходячих скелетов, поспешивших обратно в Европу, получили свободу и триста рыцарей, плененные два года назад у брода Дочерей Яакова, среди них и королевский маршал Одо де Сент-Аман, а так же великий Магистр тамплиеров Бертран де Бланшфор и восемьдесят семь братьев ордена. Для храмовников договор Мануила с Нуреддином явился нежданным и единственным спасением, ибо тамплиер не мог дать за себя никакого выкупа, помимо собственного оружия и пояса.
Среди доживших до воли оказался и Бертран Тулузский – склочный бастард покойного Альфонсо-Иордана, который после неожиданной смерти папаши пытался захватить триполийские владения. Сломленный десятью годами заточения Бертран больше ни на что в Утремере не претендовал и никаких земель на Латинском Востоке не требовал. Вместе с ним Нуреддин пленил и его сестру, но среди освобожденных бедняжки не оказалось. Шли слухи, что несчастная вышла замуж за Нуреддина и родила атабеку наследника – Исмаила ас-Салиха. Люди ужасались участи благородной дамы, замурованной в басурманском гареме, но Констанция, напротив, порадовалась за нее – слишком короток женский век, чтобы десять лет из него провести в подземелье.
Довольный Мануил вернулся на Босфор. Византия продолжала цвести, как цветет куст, под корнями которого так и не истребили хорька. Рано или поздно хорек перегрызет корни куста.
* * *
Тем же летом, за три дня до сентябрьских календ василевс овдовел. Этот нежданный поворот Фортуны возродил много надежд.
Поскольку Берта-Ирина родила лишь дочь, нужда Комнина в сыне-наследнике была настоятельной, и вскорости в Иерусалим прибыли приближенные Его Царственности: брат византийского военачальника Иоанн Контостефанос, главный драгоман константинопольского двора италиец Феофилакт, а также свойственник автократора Василий Каматерос, глава его личной варяжской стражи.
Почетное посольство просило у короля Бодуэна, сердечного друга и близкого родича Равноапостольного, беспристрастного совета в выборе достойнейшей среди знатных дев Заморья, дабы Багрянородному сочетаться с оной браком и укрепить пошатнувшийся союз ромейской империи с Заморьем.
Подходящих для византийского престола дев на всем Латинском Востоке было две – Мария Маргарита-Констанция Антиохийская, дочь Констанции, и Мелисенда Триполийская, дочь Годиэрны. По всем статьям Мария свою соперницу превосходила – и красотой, и знатностью, и главенством Антиохии перед Триполи. Именно ей подобало стать матерью будущего императора Ромейской империи. Мало того, подобное родство обезопасило бы Антиохию навеки.
Да только король пекся вовсе не об интересах своей кузины Констанции или о благе друга и родича Мануила Комнина, а о том, чтобы Антиохия не попала окончательно под влияние Византии. Коварный суверен, неверный родич и лживый друг, он надоумил вверившегося ему василевса предпочесть пышной лилии скромный лютик.
Будущей василиссе принялись по всему Утремеру собирать невиданно роскошное приданое, а обойденная Мария превратила жизнь в антиохийском замке в кромешный ад. Со смерти Грануш Констанция редко покидала свою опочивальню, но Мария настигала ее и там, врывалась вихрем, вываливала обиду:
– Мадам, ее уже в королевских приказах именуют «будущая императрица Константинополя»! Князь должен что-то предпринять!
– Не вздумай приставать с этим к князю! Только этого не хватало. Он уже и так столько всего предпринял, что ему на глазах у всех пришлось землю есть, лишь бы Мануил простил его.
Мария замерла, пораженная догадкой:
– Так вот почему император обошел меня! Чтобы не родниться с вашим бешеным Шатильоном!
Констанция отсчитывала капли имбирного эликсира в хвойный напиток. Ибрагима больше не было, Грануш лежала в сырой земле, даже Арам куда-то запропастился, а Филиппа кашляет и Агнессу по вечерам лихорадит. Мария покрутилась по комнате, не дождавшись ответа, воскликнула:
– Мадам, я вижу, вам все равно, что со мной случится!
– Да что с тобой может случиться, дочь моя? Найдется жених и для тебя. На Мануиле свет клином не сошелся.
– Но я хочу именно императора! Вы, мадам, вышли замуж за кого хотели, почему же я должна отдать императора этой выскочке Мелисенде?
У Констанции давно не осталось ни сил, ни желания кого-либо утихомиривать:
– Потому что я была правящей властительницей княжества и могла сама выбирать супруга, а ты должна ждать, чтобы выбрали тебя, вот почему. Хоть ты и считаешь себя пенорожденной Афродитой, но своего у тебя – три простыни и две скатерти, Мария.
– Мадам, имея такой выбор, вы должны были выбрать лучше! Теперь из-за этого шального ничтожества я лишилась возможности стать императрицей!
– Десять… Одиннадцать… Двенадцать… – Констанция заткнула горлышко кувшинчика мягким воском, аккуратно вытерла руки. – Может, пойдешь и самому шальному ничтожеству в лицо заявишь, что это он у тебя империю украл?
Мария смутилась, но тут же нашлась:
– Это не он украл. Это всё эта серая моль Мелисенда! Я же помню, как василевс на турнире пожирал меня глазами!
– Мария, лучше молчи об этом, если не хочешь до пострига допрыгаться. Мануил в то время женат был! Тебе не добавляет чести, что ты сама тогда чуть не на колени к нему садилась!
Мария побледнела, раскрыла рот, но не смогла выдавить из себя ни звука, только бессильно ловила воздух губами. Констанция сразу пожалела о суровых словах, вскочила, перевернув целебную настойку, обняла дочь. Ах, Мария, прости, прости, душа моя! Так уж мы, женщины, устроены, что за любую собственную жестокость и измену нас мучает меньший стыд, чем за неудавшуюся попытку завлечь мужчину!
– Это я одна виновата, я должна была тебя удержать, остановить, но я же сама в материнском тщеславии надеялась, что если ты императору понравишься, он предложит тебе почетный брак с кем-то из свойственников. И это еще возможно, не отчаивайся.
Мария бросилась матери на грудь, обе разрыдались.
– Мадам, я не могу. Я умру, если Мелисенда будет императрицей, а я – простой дамой при ее дворе! Как он мог предпочесть мне ничтожную тихоню?! Как? Она же заморыш прибитый, взгляд косой, руки потные, ногти сгрызены, косолапая. И разве можно сравнить графство Триполийское с Антиохией?!
– Это не он выбирал, дитя мое. Это все происки короля, его вина. Василевс из учтивости его совета спросил, а Бодуэн уже позаботился сделать союз с Триполи неизбежным. Король давно нам больше враг, чем друг. Он и лекаря моего отказался спасти, и Рейнальда на произвол судьбы в Мамистре бросил.
Мария бросилась на колени, обхватила ноги матери:
– Милая мама, неужели ничего нельзя поделать?
– Ничего, дочь моя. Нечего и мечтать, чтобы император породнился с Шатильоном.
Хоть и ответила так дочери, сама тоже не могла смириться с крахом всех надежд. И права Мария, все это – вина Шатильона. Из-за необузданного и неистового Рейнальда Антиохия теряет союзников и силу, превращается в изгоя, из-за князя в последние годы Констанцию и ее близких поражают одни несчастья и невзгоды!
Только глупая Филиппа, на три года младше сестры, простодушно недоумевала:
– Да этот Мануил – старикашка невзрачный! Он же тебе даже не нравится!
Из замурзанного сорванца Филиппа превратилась в милую, покладистую, светловолосую девушку с привлекательным круглым лицом, длинными ресницами и нежным ртом. Ее прелесть была блеклой копией яркой красы Марии, и нрав ее тоже был тихой заводью по сравнению с горным водопадом старшей сестры. Филиппа целыми днями мечтала о любви, распевала трогательные шансон де фам, плела венки и тоскливо вздыхала: жизнь ее проходила попусту вовсе не потому, что в ней не хватало поклонения и власти, а потому, что ей уже целые тринадцать весен миновало, а ожидаемый прекрасный рыцарь все мешкал и мешкал. Но морщинистый и плешивый Комнин, да будь он хоть властителем всего подлунного мира, ей и задаром не был надобен. Щеки Марии вспыхнули от злости:
– Филиппа, ну что ты вообще понимаешь?! Это тебе нужно миловидное как серафим ничтожество, лишь бы сочинял любовные кансоны, падал на колени и клялся в страсти. Какая разница – нравится мне Багрянородный самодержец или не нравится?! Мне в тысячу раз меньше нравится, что весь Утремер возложил чаяния на эту блеклую тень, что не я, а ничтожная Мелисенда будет правительницей Ромейской империи!
– Мелисенда вовсе не блеклая! Она красивая и славная девушка!
По мнению Филиппы, сестра не в меру гордилась собственной внешностью и совершенно напрасно отказывала всем остальным девицам, сестер включая, в праве нравиться мужчинам.
– Ничего себе будущая императрица! – Мария сгорбилась, вздернула плечи, скосила шею набок, исподлобья уставилась на Филиппу диким испуганным зверьком, руки ее судорожно зашарили по юбке и лифу. Сестра не удержалась, захохотала:
– Злючка ты, Мария! Если бы хоть что-то из того, что ты о ней говоришь, было правдой, василевс уже давно бы от нее отказался. Говорят, его посланники выпытали о ней всё, ей даже пришлось дохнуть на каждого, и византийские медики ее нагую обследовали. Ничего – ни косоглазия, ни вшей, ни потливости, ничего из того, что ты о ней рассказываешь, не нашли. Да пусть она будет себе на здоровье императрицей. Подумаешь! Это же не настоящая правительница, один титул. Вся тоскливая жизнь василиссы проходит в терпеливом присутствии на занудных церемониях и службах, а по ночам еще, представь, этот сморчок Мануил…
– Ах, Филиппа, ты просто невыносимо глупа! Уж поверь мне, я бы не стояла византийской иконой! Я бы родила наследника и управляла всей империей! Весь мир был бы в моей власти!
– Признайся, тебе просто обидно, что, хоть ты и из кожи вон лезла, а василевс предпочел другую.
Мария гремучей змеей метнулась к сестре и вцепилась ей в волосы. Та едва сумела вырваться. Нет, правильно Бог бодливой корове рог не дает. Сама же Филиппа отдаст сердце и руку только достойному, необыкновенному и прекрасному собой герою, который полюбит ее навеки!
Влетало и даме Доротее, осмеливающейся умильно призывать Марию к христианскому смирению и любви к ближнему. Один Шатильон, всему причина, продолжал делать вид, что ему все нипочем.
Констанция часами сидела без движения, уставившись в окно невидящими глазами, играла перстнями, тайком плакала, не спала ночами. Господи, неужто невиданная честь и спасительное родство с могущественной Византией – все утечет графству Триполийскому?! В чем заключается долг матери и правительницы? Разве не сказано: «Не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных»? Нечестивый этот – супруг ее, Рейнальд де Шатильон, князь Антиохийский, ею возвышенный. Это его – «разбойника жестокого, неразумного и неистового», – предсказала Марго, только Констанция слепа была. Он превзошел меру в злодействах своих, и о нем повелел Господь: «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Ведь сказал царь Давид: «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие», и предупреждал псалмопевец: «Кровожадного гнушается Всевышний».
Она молилась за него, но никто не может молиться вместо другого. Она клялась быть с ним в горе и в радости, но еще раньше клялась защищать беспомощных и спасать Утремер. А ее обритая голова ни Грануш, ни Ибрагима не спасла, и впредь Антиохию не защитит.
Что станется с человеком, который перешел дорогу императору, королю, патриарху и собственному семейству? Многажды битый пес продолжает любить хозяина, но когда-нибудь даже он нападет на своего мучителя и перегрызет ему горло.
Часть III Пленник
Мы скрепили наше Соглашение кровью, Иерусалим. Я освобожу узников твоих из ям…
Захария, 9:11В конце ноября 1160 года Господня, незадолго до дня святой Екатерины, Шатильон с армией отправился на бывшие Эдесские земли, в горы Мараша, и промышлял там неподалеку от Балинаса-Баниаса. Он уже возвращался со стадами тучных коров, табунами скаковых лошадей и отарами длиннорунных овец, отбитыми у местных землевладельцев – армян, сирийцев и туркменов, когда на его ополчение напали сарацины. Многие воины погибли, а сам Рено с несколькими рыцарями был пленен правителем Алеппо Маджд ад-Дин ибн Ад-Дайем, сводным братом Нуреддина.
Вот и распахнулись перед ним ворота Алеппо, вот и поднялся он по узким улицам к цитадели, да только не так, как надеялся. Все жители города высыпали полюбоваться унижением франков. Под барабанный бой, звон тимпанов, пронзительные завывания свистулек и истошные вопли черни тянулись латиняне вдоль глухих глиняных стен. Кони тащили по грязным колдобинам подпрыгивающие в жуткой пляске обезглавленные тела, а отрубленные кровоточащие головы погибших мотались на пиках. Оставшихся в живых сарацины усадили попарно на верблюдов и вложили в прикрученные за спиной руки неразвернутые знамена с болтающимися на них скальпами мертвых товарищей. Волочился в дорожной пыли разодранный красно-синий штандарт Антиохии, бурая кровь залила четыре вздымавшихся башенных зубца на червленом поле баннера Шатильона. Нехристи вытирали ноги о поруганные штандарты, плевали и выплескивали на них ночные горшки и помои, а спотыкающуюся вереницу связанных по двое пехотинцев, сержантов и ратников забрасывали гнилыми фруктами.
Князя Антиохии заставили брести пешком, привязанным к хвосту облезлого верблюда. Пронзительная музыка, гортанные, хрипящие чужеземные крики и отвратительное варварское улюлюканье раздирали уши, перед залитыми кровью и потом глазами мелькали верблюжьи и лошадиные крупы, в раны и ссадины лезли жирные навозные мухи, со лба стекала гнилая мякоть персика, в плечо ударил ком грязи, мимо виска просвистел камень, туго скрученные веревкой руки тянула и дергала шелудивая скотина. Шатильон не уклонялся от ударов, только утирал лицо о плечо и шел, опустив голову, чтобы не видеть злобных басурман и поруганные останки соратников, еще утром скакавших бок о бок с ним, да старался не упасть, когда верблюд внезапно пускался рысью. Не хватало правителю Антиохии тащиться по земле на глазах у обрезанных собак. Висеть мочалом на пике перед алеппским сбродом – невеселый жребий, но Рено был готов к гибели так же, как и к победе, а вот к унижению и позору рыцарь не может подготовиться.
Во главе процессии гарцевал на гнедом коне высокий, худой, смуглый, с выбритыми щеками и жидкой козлиной бороденкой атабек Алеппо Махмуд Нуреддин, позади скакал его молочный брат, правитель Дамаска Маджд ад-Дин, в пурпурном кафтане и белоснежной чалме с золотой вышивкой, украшенной огромным изумрудом. Уздечка и стремена его жеребца сияли чеканным золотом, переливалось сплошь расшитое жемчугом седло. Рено только зубами скрипнул при виде своего Монэспуара, привешенного к поясу нехристя. За Маджд ад-Дином следовал его наследник Аззам ибн Маджд ад-Дин. Как полагалось знатному эмиру, его голову тоже венчал белый с золотом тюрбан, а с плеч спускался зеленый бурнус с алой подкладкой. Нуреддин же, напротив, выглядел простолюдином в простом серо-буром полосатом халате, на коне, покрытом невзрачной шерстяной попоной. Величия в атабеке Алеппо было не больше, чем мужественности в евнухе, лишь саблю украшали драгоценные каменья. Однако даже франки не путали повелителя с его роскошно одетыми придворными, потому что обожание и преклонение толпы указывало на него, как свет зари – на восток.
Голова кружилась от жажды и ноги подкашивались от усталости, тошнотворно воняли испражнения, которыми облили пленных, но надо было собрать последние силы, чтобы достойно встретить любую участь, даже мучительную смерть: сарацины нередко приволакивали христианских воинов в свои города, только чтобы бросить их кровожадной толпе на растерзание или использовать как мишени для лучников.
Верблюд резко остановился. Нуреддин заговорил – негромко, спокойно, и толпа замолкла, внимая каждому слову. Некоторые слова и Рено уловил: «Аль-Малик аль-Адил… муджахид… Аллаху Акбар… Йа мансур! О победоносный! Джихад…» —всякий раз после них слушатели разражались восторженными криками. Множество бородачей вокруг записывали речь султана, все исступленно радовались. Не каждый день удается захватить второго по знатности принца франджей – самого разбойника Бринса Арната! – и протащить его со скованными ногами по грязи и навозу! Оказавшийся рядом оруженосец Альберик перевел Шатильону слова атабека:
– Проклятый сельджук сам себя называет собакой! Кто, мол, этот аль-калаб Махмуд, чтобы заслужить такую победу?! Аллах, мол, дал эту победу исламу, а не Махмуду!
– Ты понимаешь их тарабарщину?
– У меня мать из яковитов.
В ответ на самоуничижение эмира толпа зашлась в еще более громких воплях восторга. Люди тянули руки к Нуреддину, многие рыдали, бросались на землю, осыпали его рисом. Женщины хлопали себя по рту ладонью, визжали бешеными собаками:
– А-ва-ва-ва-ва-ва-ва!!!
Все басурмане без разбора – раскормленные богачи в атласе, изможденные нищие в рубищах, полуголые рабы и женщины, до глаз закутанные в покрывала, – были омерзительны Шатильону, а их повадки, жесты, выражения лиц – нестерпимы. И отвратительней всего был сам Нуреддин, исчадие ада.
– Что он говорит?
– У правоверных, мол, должна быть только одна ихняя суннитская вера, одна страна вокруг всей Палестины и одна цель – джихад…
Если бы не Альберик, Рено, может, и успел бы вырваться из окружения. Он уже поворотил коня, когда заметил троих сельджуков, подступавших с поднятыми саблями к оруженосцу, и такое отчаяние, страх и растерянность были на востроносой физиономии бедняги, у которого даже шлема не оказалось, что Рено, не раздумывая, развернулся и помчался на подмогу. Это была самая большая его глупость. Теперь оба в цепях.
Вслед за Нуреддином из толпы выступили и заголосили ораторы: некоторые в пышных тюрбанах и белоснежных одеждах, а иные – босые и в отрепьях. Нищих бродяг толпа почему-то встречала особо восторженным ревом. Они долго завывали, читая не то речи, не то поэмы, сопровождая это широкими жестами, но все слушатели – и сам Нуреддин, и все его визири, эмиры и шейхи – терпеливо внимали болтунам, осаждая коней, а в некоторых местах разражаясь поощрениями.
– Это поэты-шаиры благодарят Аллаха и наперебой восхищаются благочестием, скромностью, победоносностью и справедливостью Нуреддина, – пояснил Альберик.
– Они будут хвалить его милосердие и щедрость, пока мы все не скончаемся от жажды, – Шатильон облизал растрескавшиеся губы.
Из-за спин зевак выдвинулась женщина в темной, глухой абайе, высокоскулая, черноглазая, густобровая, с решительным и гордым лицом. Толпа расступилась перед ней. Она поклонилась Нуреддину и принялась молить его о чем-то, протягивая к нему ладони.
– Нищая, что ли?
– Нет, главная жена его – Исмат, дочь Мехенеддина. Просит у него денег.
Рено скривился. Нуреддин между тем нисколько не смутился из-за того, что собственная жена всенародно позорила его и себя. Отвечал попрошайке назидательно и велеречиво, сопровождая слова плавными жестами, словно был проповедником, а не военачальником. Видно было, что речь его предназначалась всем собравшимся на площади. Народ притих, стоящие спереди кивали и передавали его слова тем, кто стоял далеко. Временами Нуреддин останавливался, украдкой следил, успевают ли длиннобородые записывать за ним.
– Ну что? Не дал? Сказал, самому не хватает? Зря унижалась? – усмехнулся Рено.
– Не дал, скупердяй чертов. Сказал, у нее уже есть три торговые лавки, они приносят двадцать динаров, и хватит ей. Он, мол, только хранитель сокровищ мусульман, все деньги нужны на священный джихад, и он не намерен гореть в адском огне из-за того, что предал умму, так они прозывают весь магометанский народ.
– Найдется ему из-за чего гореть, пусть не старается.
Альберик продолжал пояснять, стремясь, видимо, хоть чем-то оказаться полезным своему спасителю:
– Нуреддин жертвует вакфу – это у них вроде церковных пожертвований —мельницу и печь, на доходы от них будут выкупать из франкского плена бессемейных басурман, при условии, что они сунниты и знают Коран наизусть.
Нуреддин съехал с дороги, пропуская мимо себя отряд тюркских лучников. Он склонял перед воинами голову, почтительно приветствовал каждого, а когда замечал раненого, останавливал процессию, клал руку на плечо увечного и ласково, но твердо обещал:
– Друг мой, если бы ты мог видеть награду, предназначенную тебе в раю, ты бы молился о потере второго глаза! Сын мой, Аллах так вознаградит тебя в ггрядущей жизни, что если бы ты не был необходим умме в наших будущих боях, ты бы надеялся, что твоя рана смертельна!
А когда мимо понесли тела погибших, атабек спешился, поклонился и сказал:
– Выходя на бой, наши муджахиды выставили себя на продажу, и Аллах купил тех счастливцев, которые погибли. В обмен за их жизнь Всевышний щедро уплатил им блаженствами рая!
Рено только сквернословил, когда Альберик переводил эти выспренние речи, но Зангид несомненно умел воодушевлять доверчивую чернь: каждое подобное заявление необыкновенно распаляло народ – все восторженно вопили, улюлюкали, многие рвали на себе одежды, благословляли султана, раненые бросались ему в ноги, рыдали и целовали край его дрянного халата. Хитрый тюрок кланялся им в ответ и даже не пытался держаться с полагающимся правителю достоинством.
Верблюд, за которым брел Рейнальд, остановился в заторе, и Шатильон оказался совсем рядом с атабеком. Мокрый комок кизяка больно расплющился о скулу, толпа злорадно загоготала. Кровь бросилась в голову князю. С ненавистью и вызовом он уставился прямо на Нуреддина, а поймав его взгляд, не опустил глаз. Чернь взревела, Шатильон через силу ухмыльнулся, хоть бравада его и была весельем отчаяния, он не сомневался, что за это крохотное торжество над ненавистным врагом последует страшное возмездие. Но ехавший за Нуреддином эмир в спускающемся до конских копыт зеленом бурнусе, которого Альберик назвал Аззамом, посмотрел на Шатильона с омерзением и что-то сказал султану, Рено уловил только свое прозвище – Бринс Арнат. Лишенный чести Нуреддин всего-навсего руку поднял – стражники немедленно обнажили сабли и отогнали от франков разъяренную толпу.
– Что он сказал? Почему этот зеленый вдруг за меня заступился?
– Я не расслышал, – пробормотал юноша и отвел глаза.
На площади перед Большой мечетью вереницу латинян снова остановили. Грохотали барабаны, терзали уши погремушки, толпа проклинала и поносила пленников, плевала в их сторону и закидывала гнилыми фруктами, сухими кизяками и острыми камнями. Наконец за измученными, окровавленными страдальцами захлопнулись ворота Алеппской цитадели, высоченной, как Башня Вавилонская. Во дворе франкских рыцарей ссадили с коней, а Шатильона отвязали от верблюда. Магометанский цирюльник насильно выбрил всех бородачей, стражники сбили кандалы и развязали веревки. Всем управлял Аззам в зеленом плаще. К нему обращались с превеликим почтением, называя его «эмиром джандаром». По словам Альберика, «эмир джандар» – это важный сановник при дворе атабека, заведующий смертными приговорами и пытками. Чем больше Рено вглядывался в этого эмира, тем более знакомым казался ему поганый тюрок, но где он мог его видеть, Шатильон так и не вспомнил. По знаку Аззама четверо тюремщиков потащили бьющегося клейменым жеребцом князя внутрь цитадели. Спустили по множеству ступеней, проволокли по тесному проходу и спихнули по крутому скату на дно глубокой, темной ямы. Следом покатился Альберик, за ним грузно плюхнулся Шарль де Ланье. Падение Шарля было особенно чувствительным, недаром соратники прозвали его Толстяком.
В соседние темницы побросали прочих франков. Некоторое время слышались крики, перебранка, лязг запоров. Постепенно воцарилась тишина, нарушаемая только внезапными воплями. В вырубленном в скале подземелье воняло сыростью и мочой, земляной пол покрывала слизистая грязь. Шатильон сел у стены, потирая кровоточащие запястья и щиколотки. Ничего, ничего, главное, что он остался в живых, что его не казнили на потеху толпе, лишь бы доказать ей, что нет правителя добрее, жалостливей и достойнее, чем аль-калаб Махмуд Нуреддин. Не он первый, многие бароны попадали в заточение, даже король Иерусалима Бодуэн II дважды оказывался в плену. Князю Антиохийскому, конечно, долго сидеть не придется, его быстро выкупят.
Сквозь крошечное отверстие в стене доносился далекий монотонный гул уличной черни, когда стало смеркаться, его перекрыл тоскливый вопль муэдзина. Последний косой луч солнца проник за решетки и лег на грязную, облупленную, исчирканную бесчисленными предыдущими узниками стену каземата. В заходящем свете высветились корявые, съезжающие вниз буквы цвета запекшейся крови: «Здесь умирает ослепленный, больной, сошедший с ума и всеми забытый Жослен де Куртене, граф Эдесский. Всевышний, не покинь раба Своего».
Рено пробила дрожь.
* * *
Казалось, все вздохнули с облегчением, избавившись от неудобного князя. Сын Констанции Боэмунд воспользовался волнением среди городского люда, забоявшегося остаться без защиты боеспособного правителя, и тут же попытался захватить власть, по праву принадлежащую Констанции. Сам бы отрок на это никогда не решился, но его подначивал иерусалимский король, давно стремившийся вернуть Иерусалиму суверенитет над Антиохией. В последние годы Вседержитель наслал на Констанцию множество горестей, но предательство сына ошеломило. За какие грехи, в какой момент она утеряла благое материнское влияние на собственную плоть и кровь? Да и было ли оно когда-то? В детстве Бо обожал юную, красивую и душистую мать, постоянно льнул к ней, ластился, кто бы мог подумать, что едва он вырастет, княжеский престол окажется ему дороже? А она ведь всей душой любила первенца и всегда старалась быть хорошей родительницей, просто сначала, после гибели Пуатье, были годы ослепившего, оглушившего вдовства, потом всех и вся надолго застила неутолимая страсть к Шатильону, а в пору правления супруга ей потребовались все внимание и выдержка, чтобы справляться с его непредсказуемыми поступками и их последствиями. У детей, слава Богу, в достатке имелись няньки, гувернантки, придворные, валеты, пажи и духовные отцы. Но всегда казалось, что тихий, покорный сын тут, рядом, а их связь незыблема. Ведь никогда Констанция не поднимала руки на чад, никогда не обижала никого из своих отпрысков и всегда сожалела, что ее полностью поглощали семейные неприятности и государственные обязанности! И Бо ведь был далеко не единственным: вслед за ним родилась Мария, за ней Филиппа, потом появилась Агнесса де Шатильон – и каждое дитя требовало сил и времени… Нет, не ее вина, что за тяжкие годы сын превратился из послушного, трогательного, любящего мальчика в упрямого, скрытного и недалекого честолюбца!
Зато – нет худа без добра – вряд ли константинопольскому сюзерену княжества понравилось самоуправство иерусалимского венценосца, поспешно сместившего с Антиохийского патриаршего престола греческого архиерея Афанасия II и вернувшего в Сирию многотерпца Эмери Лиможского. Отношения Констанции с Эмери к прежнему не вернулись. Мало того что злопамятный клирик не простил ей возвышения Шатильона, но, не желая поступиться патриархатом, Эмери всячески противился ее сближению с Византией. А где еще законная правительница Антиохии могла искать заступничества и управы на мятежного сына, если собственный кузен и франкский суверен предал ее?
С необузданным Шатильоном исчезло и главное препятствие к браку Мануила с Марией Антиохийской. Но, к глубочайшему сожалению Констанции и к бурному отчаянию Марии, помолвка Мелисенды Триполийской и Мануила Комнина к этому времени уже являлась делом решенным. На июльском собрании баронов в Назарете Мелисенду всенародно именовали будущей императрицей, и по всему Заморью для триполийской выскочки собирали невиданное приданое: Бодуэн IV и королева-мать преподнесли ей щедрейшие дары, а юный брат ее Сен-Жиль, донельзя осчастливленный лестным выбором, разорил графство Триполийское ради оказанной сестре чести – построил дюжину галер и доверху нагрузил их свитками драгоценных тканей, доспехами, седлами, попонами, коврами, оружием, горами золотой, серебряной и фарфоровой посуды, столовыми и туалетными приборами, шкурами невиданных зверей, бесценными священными реликвиями, амфорами с драгоценным каирским бальзамом, одеялами из беличьих животиков, подбитыми соболем плащами, образами в драгоценных окладах и сундуками, забитыми браслетами, цепочками, фибулами, серьгами, кольцами, перстнями, поясами, тиарами и заколками для волос.
И все это в то время, как престол Констанции дрожал от происков сына и его покровителя Бодуэна.
– Изабо, мало того что Антиохия потеряет родственную поддержку Константинополя, а я – княжество, но, боюсь, наша Мария лишится последнего рассудка.
Дочь действительно не могла смириться с тем, что на константинопольский трон садится ее двоюродная тетка. Пыталась даже Заику заставить помочь себе, подлизывалась, ластилась, убеждала:
– Бо, милый братик, ты обязан мне помочь! Ты ведь понимаешь, как тебе будет выгодно, если твоя сестра, а не сестра Сен-Жиля станет императрицей, правда?
– Что ты ххххочешь, чтобы я ссссделал? Поссорился из-за тебя с королем? Пал на колени и молил императора взять за себя самую избалованную девицу христианского мира?
Заика оказался горазд только мать с престола спихивать. Сам ни на что не решался, поэтому сестре мрачно отказывал, а может, просто действовал под указку Бодуэна. Мария не сдавалась, скандалила, угрожала:
– Ты что, не соображаешь, что без союза с Византией один король не спасет тебя от Нуреддина? Первое, на что он тебя надоумил – выгнать греческого патриарха! Думаешь, это императору понравилось?
Обычно Бо от бессилия и досады только слюной брызгал и заикался нестерпимее обычного, но на сей раз неугомонная Мария взбесила его:
– Пппотаскуха! Я тттебя… – топнул ногой, чтобы помочь словам вылететь: – Я тттебя в монастырь запру!
– Правильно маман говорит, что ты полный кретин! Бодуэн прикидывается твоим покровителем, а много тебе с него толка? В Константинополь он почему-то триполийскую тихоню отсылает!
Бо – рослый, но ниже покойного отца, сильный, но не чета Пуатье, пригожий, но не сравнить с Раймондом, – уподоблялся погибшему князю только одним – бешеными приступами ярости. Бросился на сестру, чтобы треснуть ее, но Марию не так-то просто догнать – быстрая, ловкая, она белкой скакала вокруг стола, выплевывая в лицо брату:
– Да, да! Использует тебя! Испппппользует! Боится союза Антиохии с ромеями!
Заика метнул в негодницу серебряным кубком, да с такой силой, что кубок, ударившись о каменный пол, расплющился в лепешку и оставил на плите трещину. Но все же от слов Марии давало трещину и его доверие к венценосному родичу и сюзерену. А шальная задира уже понеслась к матери в скрипторий – жаловаться на недотепу-брата и требовать помощи. У греческих писцов уши вытянулись длиннее бород.
Расстроенная, измученная, вынужденная заниматься докучными документами и рассматривать назойливые прошения в то время, когда на самое насущное – уплату рыцарям – средств не хватало, Констанция схватилась за голову:
– Что я-то могу поделать?!
Одна Изабо хранила спокойствие. Когда умчалась Мария и удалились писцы, навалилась на хрупкий пюпитр пышной грудью:
– Мадам, может, еще не поздно все поправить. Если бы Мануилу не терпелось так же, как семейке Сен-Жиля, брак давно был бы заключен. Но жених всячески мешкает и тянет, продолжает выяснять подробности о нареченной, будто надеется узнать что-нибудь, что позволило бы ему отказаться от нее.
– Он и с Бертой-Ириной тянул годами. Но король уже послал в Константинополь Отто фон Рисберга за объяснениями.
Пюпитр хрустнул и покосился. Изабо невозмутимо выпрямилась:
– Спросил бы меня лучше. Мне для ответа не надо на Босфор таскаться. Я, сидя здесь, знаю, почему этот брак так бесконечно откладывается и, скорее всего, никогда не состоится. Помните, мадам, сама Годиэрна публично признавалась, что Мелисенда – вовсе не дочь ее покойного супруга?
Рука княгини, выводившая подпись, дрогнула, на драгоценный пергамент легла жирная клякса:
– Годиэрна, действительно, в разгаре ссоры с мужем ляпнула, что Мелисенда, мол, «моя» дочь, но мало ли, что скажет в ярости безудержная женщина, Изабо. Ты же понимаешь, что значит подобное обвинение? Это уничтожит доброе имя юной девицы, рассорит нас с Бодуэном и с Триполи…
Констанция встала, свитки раскатились по плитам, в волнении заметалась между стенами, не замечая, что топчет чужие мольбы и надежды. Изабо насмешливо протянула:
– Надо же, какая беда – потерять таких незаменимых сторонников! Да Бодуэн с вами поступил не лучше, чем со своей матерью или со мной, ваша светлость. – Впервые Изабо говорила о бывшем возлюбленном не с жалобами и слезами, а сухо и язвительно.
– Пресвятая Дева наказала его за тебя, Изабо. Живот Феодоры по-прежнему плоский. Нетерпеливый Амальрик уже собственного первенца окрестил Бодуэном, не иначе, как к престолу примеряет.
– Да, мадемуазель Сибилла уверяет, что это ужасно плохая примета и для венценосца, и для новорожденного.
– Дурища Сибилла превратилась в настоящую ворожею, во всем зрит знамения, пророчествует напропалую. Пеклась бы о своем будущем, а не чужое выведывала. Разве можно ведать грядущее? Я вот думала, что решу судьбу всей Страны Обетованной, а давно уже верному вассалу коня подарить не могу! И насчет Шатильона верила, что его ждут невиданные подвиги и неумолчная слава, что он и впрямь нагонит страху на весь Восток и изумит весь Запад, таким необыкновенным он мне представлялся! А головорез кончил алеппской ямой. – Упала в кресло, добавила с горечью: – Одну Алиенор судьба балует, она как крольчиха рожает английскому королю сына за сыном.
– О, мадам, что с того?! Вам ли не знать, сколько печалей и забот могут принести сыновья? Подождите, подрастут ее львята, тоже раздерут ее сердце. Если женское счастье построено на мужской верности, оно непременно рухнет. Десять заповедей любви мужчинам даются труднее двенадцати подвигов Геракла.
Констанция бросила лукавый взгляд на подругу:
– Ну, одного рыцаря без страха и упрека, который верно служит своей даме и выдержал все наложенные на него испытания, мы все же знаем.
Изабо только фыркнула и склонилась к рукоделию, скрывая торжествующую улыбку. Констанция задумчиво вертела гусиное перо в руках:
– Вся любовь во мне давно перегорела – и к Пуатье, и к Шатильону, а ненависть к Алиенор жива. Как это зло в нас оказывается настолько сильнее добра и любви?
– Было бы наоборот – в любви, верности и добре не было бы никакой заслуги.
Констанция вспомнила, как желала, как добивалась Шатильона, вспомнила, что из этого вышло, задохнулась невыносимой обидой:
– Заслуга в них, может, и великая, а вот пользы ни малейшей. – Подтянула очередное прошение, но вернуться к чтению не могла: – А вдруг я возьму грех на душу, а Мануил все равно на Марии не женится?
– Женится. Он аж трясся от вожделения к ней. Уж мне ли не признать старческой похоти? К тому же других подходящих невест в Утремере нет. И ему ценно родство с княжеством Антиохийским, а не с графством Триполийским, до которого Византии нет никакого дела. А главное, – передразнивая мадам Доротею, Изабо ханжески опустила глаза, поджала губы и молитвенно сцепила руки, – какой же тут грех? Вот умолчать о таком было бы непростительно! Нельзя же допустить, чтобы Багрянородный и Порфироносный самодержец, Равноапостольный, Боговенчанный Доминус обвенчался с девицей, чья мать славилась распущенностью по всему Заморью!
– Изабо, уж если ты превратилась в рьяную поборницу добродетели, то того и гляди сатана символ веры прочтет!
Констанция стиснула руки, не зная, на что решиться. Кузина Мелисенда помнилась худенькой, бледной, милой девочкой, только бесконечно жалкой и забитой. Бедняжке в детстве доставалось не меньше, чем самой Констанции. И не вина юницы, что кузен Бодуэн и ее распутная мать воспользовались ею, это ведь они затеяли недостойное сватовство. Но Изабо права – и в самом деле происходило ужасное: Годиэрна соблазняла своей дочерью – пусть ничего не знающей, но императорской диадемы недостойной! – наивного, доверчивого вдовца. Так Иродиада погубила Иоанна Крестителя прельстительной Саломеей. И пусть сама Мелисенда не виновна, но чем виновна безупречная Мария Антиохийская? Бодуэн предпочел ей Мелисенду, только чтобы предотвратить сближение между Византией и Антиохией. А у Марии ведь на Мануила несравнимо больше прав, начиная с неоспоримо благородного происхождения и кончая куда более достославной генеалогией! И понравилась она греку задолго до того, как король вмешался. Изабо права, недопустимо позволить плоду прелюбодеяния занять престол ромейских самодержцев, посягнуть на место, предназначенное незапятнанной, белоснежной лилии Антиохии.
Мадам де Бретолио заметила невозмутимо, как о деле давно решенном:
– Я уверена, что смещенный Афанасий охотно поспешит в Константинополь, чтобы спасти наивного автократора от позорного брака. Заодно откроет глаза василевсу на то, кто его истинный друг и заботится о его чести и достоинстве, а кто печется лишь о собственной выгоде.
Разумеется, Констанция пеклась о чести и достоинстве василевса.
* * *
Рено раздраженно приказал:
– Шарль, заткнись или я прибью тебя!
Толстяк ныл постоянно. Потому что был голоден, потому что у него болели суставы, тянуло колени, кололо в боку, зудело в зубе, потому что ночью он мерз, а днем ему было душно… Сейчас он с ужасом вглядывался в сгиб локтя и жаловался:
– Это не просто сыпь! Это больно и чешется. Это проказа, я уверен, что это проказа! – Испугавшись собственных слов, взвизгнул: – В этом чертовом подвале что угодно подцепишь!
Если бы хворь невыносимого Шарля зависела от Шатильона, ипохондрика разбила бы не вялотекущая проказа, а мгновенная гибель:
– Довольно, зануда. Какая тебе разница, от чего тут сдохнуть?
Но добросердечный Альберик поднялся, с усилием, прихрамывая и покачиваясь, добрался до соседа, склонился над рукой малодушного нытика, внимательно рассмотрел болячку, небрезгливо потыкал пальцами в белую сыворотку плоти. Шарль взвизгнул.
– Это просто потница, – успокоил его юноша. – У моего брата проказа, я знаю, как она выглядит.
Шарль тут же отпрянул от юноши, словно обжёгся. Тот не обиделся, плеснул из миски воды, пучком соломы тщательно протер складки кожи Толстяка. Терпение у юного оруженосца было ангельское, и оно тоже бесило Рейнальда, когда обращалось на недостойного труса. И это в то время как именно Альберик, а вовсе не Толстяк, явно сдавал и слабел. Он уже почти не мог ходить, отощал до того, что стал похож на простынку на просушке, и чах с каждым днем.
Без бывшего оруженосца Шатильон в эти первые месяцы заточения сошел бы с ума. Зима на дне каменного мешка уничтожила веру в себя: бесполезны оказались его ум, сила, дерзость, решимость и отчаянность. Он впервые ощутил себя ничтожным и беспомощным. Никто из двух его сюзеренов о нем не вспомнил, он не получил ни единой весточки от семьи, до него не дошло ни слова поддержки от вассалов и соратников. Господь, защитивший пророка Даниила во рву со львами, равнодушно предоставил Рейнальду де Шатильону гнить в басурманской яме. Князь был готов к героической смерти, он стоически перетерпел бы пытки, но не мог перенести медленное, бессмысленное, унизительное прозябание, неведомое будущее, равнодушие всего христианского мира, угрозу тихого угасания и захирения, собственное бессилие и полную бездеятельность. Темница обесценила все его достоинства мужчины и честь рыцаря. Князь Антиохийский был взвешен и найден легким, наряду с балбесом и трусом Шарлем, отчего терпеть Толстяка стало лишь противнее.
Другое дело Альберик. У хлюпика отродясь не имелось ни мощи, ни воинских умений, ни необходимой солдату жесткости. Зато в нем обнаружились бездонные запасы того, что оказалось тут гораздо полезнее – смирения, сострадания, терпения, незыблемой веры в Бога и любви к людям, даже к таким нестерпимым, как Толстяк. Иногда Рейнальду казалось, что его бывший низкорослый, чернявый оруженосец, который не только в рыцари не был посвящен, но и непонятно как оруженосцем-то заделался, был ангелом, но, конечно, ангелы не могли быть такими невзрачными замухрышками.
Сверху послышались шаги, с потолка посыпались известка и пыль – это тюремщик Али распахнул крышку в потолке ямы и спустил на веревке корзину с вонявшим тухлятиной месивом. Рено протянул миску Альберику. Тот прошептал:
– Ваша светлость, что-то кусок в горло не лезет.
Сероватая кожа обтянула кости, и золотистый взгляд юноши теперь смотрел куда-то вдаль, мимо людей. Он все больше молчал. Еще вчера Рено перетащил его под окно, но ни свет, ни свежий воздух не помогали. В тюрьме Альберик был не жилец.
Забытый всеми Шарль с трусливой жадностью потянулся к оставшейся на полу бурде:
– Если ваша милость все равно не хочет…
У Шатильона потемнело в глазах, он отшвырнул миску ногой, испуганно взвились мухи, плесневелый рис с червивыми бобами разлетелся по полу:
– Никто здесь не ест до тех пор, пока эти сволочи не отпустят Альберика!
Сказал и впервые за последние месяцы снова почувствовал себя мужчиной.
Больной прошелестел из своего угла:
– Ваша светлость, прошу вас, не надо. Нуреддин ценит своих пленников больше любого выкупа. Не случайно у него их шесть тысяч оказалось. Мне уже не видать свободы.
– Это мы решим, не Нуреддин.
– Сир, вы понапрасну губите себя, а если у кого и есть надежда выйти отсюда, так это у вас.
– Не понапрасну, малыш, не понапрасну. Вот видеть, как умирает мой оруженосец и ничего не сделать, это было бы гнить понапрасну. Да нехристи никогда не осмелятся потерять меня.
Он, конечно, не верил, что представляет для язычников такую великую ценность, что может угрожать им своей смертью, но он вновь обрел себя. Наконец-то прекратится убийственное бессилие и бездействие. Опасное единоборство с противником было привычным состоянием, рискуя жизнью, он снова ощутил себя живым. Он опять мог решать и приказывать – в первую очередь себе, но и товарищам, и, главное, ненавистным обрезанным собакам. Да он с радостью умрет, защищая Альберика и собственную честь.
Поначалу тюремщик Али невозмутимо подтягивал нетронутую еду обратно. Потом принялся волноваться, заглядывал в застенок, сердито ругался и плевался. Десятью выученными словами князь объяснил, что узники отказываются принимать пищу, пока «хаджиб» – заведующий тюрьмой – не согласится назначить выкуп за его оруженосца. Переводить ему ответ Али не потребовалось. Как всякий франк, Рено знал арабские сквернословия. Каждый раз, когда спускали еду, Шарль унизительно молил позволить ему поесть. Но князь предупредил, что, если прожора дотронется до миски, над которой теперь с жужжанием носились сотни мух, он размозжит ему голову о стену. Шарль горько стонал, безутешно рыдал и сосал пальцы, уставившись на кашу из бургуля, сохлые лепешки и сырой лук. Рено уже не знал, что досаждало больше – голод, сворачивающий кишки, или безутешные всхлипы Толстяка, готового обменять честь и жизнь товарища даже не на чечевичную похлебку, а на плесневелую лепешку. А Альберик лежал безучастно, тоскливо разглядывая крохотный клочок неба.
На третий день крышка лаза распахнулась, и в проем заглянул сам эмир джандар – тот самый смутно знакомый Шатильону человек в зеленом бурнусе. Высовываясь из-за его плеча, Али причитал:
– О достопочтенный ас-сайяди Аззам ибн Маджд ад-Дин, не моя вина, если проклятые кафиры сдохнут от голода!
– Освободите моего оруженосца, он умирает, – прохрипел Рено из последних сил. – Моя семья уплатит любые деньги. Иначе вам останутся только наши бесполезные трупы!
– Аюа, да. Я дам тебе одну жизнь, свинья, – неожиданно ответил тюремный смотритель на корявом французском, – но советую тебе выбрать твою собственную.
– Жизнь и свободу? – быстро спросил Рено, сердце встрепенулось, и показалось – сейчас само уйдет, бросив негодное тело.
– Нет, остаток твоих дней ты проведешь в этой джуббе.
– Это не жизнь, – отвернулся к стене. Такая слабость навалилась, что язык едва поворачивался.
– А со вторым что?
– Что хотите.
Ни до чего ему больше нет дела, он умирает.
– Наам, ты сказал.
Аззам отдал Али какие-то приказания. Рено распознал слова «калаб маджнун» – бешеная собака.
Умереть не позволили. Беспомощных, как зимние мухи, латинян выволокли из темной, зловонной джуббы. Шатильона швырнули в угол двора. Где-то хрипло, яростно выл и лаял невидимый пес и истошно, будто его резали на куски, вопил Шарль. Рено заставил себя подняться на ноги, качаясь, прислонился к стене, огляделся: недвижной маленькой копной валялся у стены Альберик, слепило солнце и мельтешили пестрые халаты – это несколько стражников зачем-то запихивали отчаянно извивавшегося и суматошно сопротивлявшегося Толстяка в огромный джутовый мешок, который скакал и дрыгался, словно в нем сидела нечистая сила. Из него-то и несся бешеный, злобный лай. Один из басурман треснул Шарля по голове дубинкой, тот сник, тюрки тут же завязали над его головой узел и поволокли куль с продолжавшей биться внутри собакой за ворота. Страшный, полный нестерпимой человеческой муки и смертельного ужаса вопль Толстяка снова разорвал уши. Рейнальд прохрипел что-то, попробовал шагнуть вперед – и тут же перехватило дыхание от беспощадного удара под дых. В глазах потемнело. Слабый, как младенец, князь рухнул наземь.
Когда очнулся, храпели и ревели привязанные у стены верблюды, трепетали паруса вывешенных на просушку ярких тканей, шуршали верхушки пальм, в высоте вертелась, кружилась, опрокидывалась прямо на голову выцветшая от зноя синь, белое солнце резало зрачки. Рено пришел в себя, приподнялся на локте и сразу наткнулся на взгляд эмира джандара. И внезапно пламенем вспыхнуло узнавание: он вспомнил двор антиохийской цитадели, кишащий пленниками-сарацинами, и тощего, скрючившегося на земле бешеного мальчишку с вывихнутой щиколоткой, с глазами, полными звериной ненависти.
Солнце – и Аззама – заслонила склонившаяся над Рено тонкая фигура, от нее веяло цветом апельсина. Женщина присела перед ним на корточки, худенькие, смуглые руки, звеня браслетами, опустили на землю блюдо, от которого шел пар и тянулся волшебный аромат разваренной баранины, чеснока и приправ. На Рено в упор уставились испуганно-удивленные, бездонно-черные, густо подведенные сурьмой глаза. Через смуглый лоб и широкую переносицу спускалась золотая цепочка, на ней висел оранжевый лоскут, украшенный вышивкой и монистами, закрывавший низ девичьего лица. У Рено закружилась голова, и он потерял сознание.
* * *
Зной раскалял плоские кровли, порывы иссушающего пустынного шарава трепали флаги на башнях, хлопали ставнями, взметали змейки пыли. Внутри рыцарской залы антиохийской цитадели царили полутьма, лучшая подруга отцветающих женщин, и их неизменные наперсницы – тоска и заброшенность. Даже воздух пропах затхлым ладаном и старыми коврами. Сами ковры – армянские махфура, глаз знатока не обманешь! – были бы достойны дворца халифа, если бы не изгибали на них бесконечные шеи карминные драконы, не ветвились изумрудные древа жизни, не распускала золотые крылья птица Феникс и не оскорбляли Аллаха прочие запрещенные изображения.
Плавными движениями рук хозяйка замка предлагала Усаме ибн-Мункызу засахаренные фрукты, фундук и грецкие орехи, варенье из розовых лепестков, булочки из толченого миндаля, кунжутную халву, медовую персидскую нугу, любезно протягивала кубок с охлажденным вином, но эмир сложил руки в вежливом отказе: он лишь завернул в Антиохию, следуя из Халеба в Мекку, а в таком пути алкоголь неуместен. Время хаджа – священные для мусульман часы, каждый день поста засчитывается за целый год. Правда, ваша светлость, истинная правда – прежде вашему недостойному другу случалось пригубить греховный напиток, но ныне, хвала исправляющему грешников Аллаху, настала лучшая пора. Его господин аль-Малик аль-Адил Нур ад-Дин Абу аль-Касим Махмуд ибн Имад ад-Дин Занги, атабек Халеба и эмир Дамаска, —да пошлет ему Аллах долгую жизнь! – возродил праведные нравы шариата. Ныне жажду эмира легко утоляет ледяная вода Джебеля эш-Шейха, прозванного франджами Ермоном, и не сладостей ныне жаждет эмир, а единственного – услужить прежним друзьям, перво-наперво высокородной бринсессе, о несчастьях которой услыхал с сокрушением сердца.
Тебризский ковер под ногами, в тридцать локтей длиной, великолепен. Однако, чтобы определить цену точнее, следовало бы пощупать ворс, посчитать узлы на обороте. Но чтобы заметить на лице мадамы Констанции утекшие годы, достаточно внимательного взгляда знатока. С грустью выискивал Усама ибн Мункыз в хмурой госпоже средних лет волшебную девочку-лилию, когда-то лишившую его покоя. Бринсесса по-прежнему держала себя со сдержанным достоинством, но в ней появились уверенность и озабоченность – печальные метки женского одиночества и неприкаянности. Несмотря на тридцать и пять прожитых зим, мадама Констанция все еще могла обрести прелесть в мужских глазах, песочные часы ее фигуры по-прежнему привлекали и задерживали взгляд, и все же очарование юности угасло в ней: лик больше не светился изнутри молочным сиянием, исчезла неопределенная, но неотразимая пленительность, порхавшая солнечным зайчиком между обольстительным изгибом губ и восторженно сияющими опаловыми глазами. На переносице залегла упрямая морщинка, и горечь и разочарование угнездились на лице, в минувшие дни озаренном трогательной, доверчивой нежностью щедрой, беззаветной любви. Мягкость юной Констанции усохла, как мякоть засохшего персика, и сквозь нее проступила жесткая косточка нелегкого нрава, свойственного всем женщинам ее рода. С удовлетворением убедился ибн Мункыз, что даже самые замечательные рыцари-франджи не сумели подарить счастья этой лилии.
Впрочем, эмир был слишком хорошо воспитан, чтобы выдать нелестные впечатления. Вместо этого, в утешение отцветающей женщине, посетовал на собственные шестьдесят семь зим, хоть и чувствовал себя превосходно:
– О, моя прекрасная и высокородная госпожа! Как приятно убедиться, что годы не властны над вами! Я поражаюсь, что вы признали меня в моей нынешней дряхлости, ибо беспощадное время подточило меня, как половодье точит речной берег! Я был стремительнее потока и тверже в бою, чем судьба, а ныне стал словно томная девушка, возлежащая на мягких подушках за покрывалом и пологом!
– Время не в силах забрать у вас мудрость, почтенный эмир! – невежливо сказала мадама Констанция, даже не попытавшись возразить жалобам гостя. – Самой же мне некогда печалиться о юности, слишком много у меня других потерь.
Почтенный шейх кивал с участием. Всей Сурии было известно, что власть выскальзывала из рук Констанции Антиохийской, как мокрое бревно: после того, как ее непутевый муж попал в плен, недалекий и неопытный сын ее Боэмунд, вдохновленный примером и поддержкой иерусалимского малика, предъявил собственные претензии на трон Антиохии.
Самое время одинокой и преследуемой женщине любой ценой попытаться освободить воинственного супруга!
– Мое сердце кровоточит, когда я думаю о судьбе Бринса Арната, высокородная мадама Констанция, – признался Усама, с наслаждением откусывая от тающего во рту печенья в карамели и рассеянно отхлебывая из чаши со сладким, щекочущим ноздри гипокрасом. – Наше давнее знакомство и мое искреннее почтение к вашей светлости понудили вашего преданного друга Усаму во имя предписанного Аллахом милосердия поспешить в Антиохию в надежде оказаться полезным! Я буду счастлив предоставить в ваше распоряжение свое ничтожное влияние при дворе справедливого и мягкосердечного атабека Халеба, дабы вести переговоры о выкупе вашего супруга.
Всех этих ковров не достало бы, чтобы вызволить Бринса Арната, истинную соринку в глазу Пророка, из застенков Нур ад-Дина, зато любой персидской или армянской кошмы с лихвой хватило бы, чтобы Усама по неискоренимой своей доброте похлопотал бы за несчастного! Но мадама Констанция поморщилась, словно ее вино горчило:
– Достопочтенный эмир, я бессильна спасти князя, я бессильна спасти даже саму себя! У меня ни денег, ни власти, а мой сын или король не дадут за Рейнальда даже денье! От нынешнего патриарха князю тоже не приходится ожидать помощи.
Эмир скорбно покивал головой, перебрал яшмовые четки, с которыми теперь не расставался. Да, похоже, у бешеного маджнуна Арната не осталось ни единого доброжелателя. Вряд ли и василевс станет хлопотать о разорителе Кипра. Бывший повелитель Антиохии не стоит нынче не только шелкового исфахана, но и грубой рогожки. Однако грустно убедиться, что эти мадамы заменяют безусловную преданность расчетливыми рассуждениями! Усама положил на сердце ладонь, костлявую и темную, как птичья лапа:
– Мой господин Нур ад-Дин, несомненно, милосерднейший из земных правителей, а все же судьбы франджей-узников могут быть весьма печальными. Вот, помнится, Роберт ибн Фульк, правитель Сахйуне, был доблестным воином и поддерживал приятельство с тогдашним эмиром Дамаска Тугтегином. Но, когда Роберт во время сражения упал с коня и попал в плен, ни их прошлая дружба, ни то, что Роберт был абрас – прокаженный, не защитили его от казни.
Бринсесса побледнела, закусила губу, хотела что-то сказать, но удержалась. Эмир сокрушенно вздохнул, пригубил наново наполненный кубок. Дверь распахнулась, и в залу стремительным вихрем ворвалась высокая и тонкая, как кипарис, дева. У Усамы дух захватило от ее прекрасного, светящегося изнутри лика, от темных бровей над глазами цвета персидского камня счастья фирузэ. Золотым столбом поднятого ветром песка парило за ее спиной светлое облако волос. Мадама Констанция уловила смятение старика:
– Это моя дочь принцесса Мария Антиохийская.
Следом за дивной газелью не поспевал хромой, низкорослый, щуплый христианский суфий, босой, в грубом рубище, с темными волосами, криво подстриженными под горшок. Странно, что подобные бродяги вхожи к ее светлости. Холодные глаза гурии небрежно скользнули по пожилому мусульманину, зато она собственными руками подвинула к окну табурет для оборванца, налила и с поклоном подала ему кубок вина. Все же не напрасно Усама сделал крюк на дальнем пути: вид прекрасной женщины – одна из посланных Аллахом радостей.
– Ваша несравненная дочь в полной мере унаследовала красу матери, о величественная и могущественная госпожа, – эмир учтиво вытер рот рукавом халата.
– Краса Марии намного превосходит незначительную приятность моей юности, и я надеюсь, что благодаря ей принцессу ждет блистательный брак.
Как раз трогательной приятности юной Констанции в надменной пери не замечалось. Взбалмошная гордячка даже за христианским дервишем ухаживала с вызывающим видом. Но ее невиданный на Востоке северный облик ошеломлял, словно блеск серебряной монеты среди медной милостыни. Констанция кивнула на голодранца:
– Альберик был оруженосцем моего мужа и был захвачен вместе с ним. За него единственного Нуреддин согласился принять выкуп.
Остроносый, конопатый юноша заморгал, понурил обгрызенную козьими ножницами башку, залопотал, почему-то оправдываясь:
– Я же вовсе недостоин… Это все только благодаря самоотверженности князя… Ради меня, ничтожного, мой сеньор жизнью рискнул. А бесконечно милосердная княгиня уплатила за меня непомерную сумму, которой я и здоровым-то никогда не стоил. – Вздохнул, поджал под табурет грязные ноги. – А бедро все не заживает, мадам, я больше ни на что не гожусь, даже на лошадь не в силах сесть, – неуклюжим рывком склонил перед Констанцией детскую шею, торчащую из широкого ворота, – ваша светлость, это ж как стыдно, что я ничем не могу вам послужить! С вашего дозволения, я в Иерусалим двинусь. Там в госпитале ордена святого Лазаря даже хромой калека пригодится – ухаживать за прокаженными во имя любви Господа и его святых Апостолов.
Констанция подвинула к увечному вываренные в меду персики, мягко сказала:
– Дорогой Альберик, нет более приятного Господу и более нужного людям деяния, чем помощь больным и страждущим. Ваша жизнь теперь ценнее, чем жизнь любого рыцаря. Я не могла бы истратить деньги богоугоднее, нежели выкупить вас.
– Мессир, – бесцеремонно прервала Мария излияния матери, – вы лучше поведайте нашему алеппскому гостю, в каких условиях его милосердный господин содержит несчастных франков!
Альберик распахнул на чуть поморщившегося эмира золотистые глаза:
– Его светлость сидит на дне темной каменной ямы и терпит голод, холод и многие унижения…
Мария топнула ногой:
– Расскажите, что эти сельджуки сотворили с Шарлем де Ланье!
Чаша мелко затряслась в руках христианского суфия:
– Несчастного Шарля, упокой Господь его душу, засунули в один мешок с бешеной собакой, – голос его дрогнул, брови сошлись на переносице недоумевающим домиком, – и утопили…
Усама вздохнул, развел руками: кому же приятно такое слышать? Но мадаме Констанции не повредит представить, на что она обрекает мужа, когда, вместо того чтобы хлопотать о нем, выкупает никчемных оборванцев:
– Да, еще Салах ад-дин ал-Яги-Сийани любил эту казнь. Эти варвары-тюрки обожают изощренные способы наказания. – Оживился, пощелкал пальцами, припоминая: – Но все-таки никто не был таким по этой части изобретательным, как покойный Тугтегин. Рассказывают, когда он захватил графа Жерваза Басошского, правителя Табарийе, он срезал ему верхушку черепа и пил из полученной чаши вино, а граф все еще был жив и смотрел на наслаждающегося Тугтегина. Несчастный Жерваз целый час протянул, пока скончался.
Беспощадная княгиня даже бровью не повела, а Мария поежилась:
– По-моему, из стеклянного кубка пить приятнее. Но Шатильону бы непременно понравилось, он сам в таких делах был изрядным выдумщиком. Помните, маман, как он нашего Ибрагима приказал сжечь?
Констанция резко поднялась, отошла к окну:
– Довольно! Эти подробности только терзают нас, поскольку мы бессильны спасти князя. На все воля Господа, – перекрестилась. – Смерть поджидает каждого, а мученическая кончина обещает место в раю. Я молюсь за несчастного Рейнальда де Шатильона денно и нощно.
На месте любящего женского сердца у мадамы Констанции давно остался кусок угля. Как это произошло? Что натворил непутевый франдж с женщиной, которая отдала ему свою руку вопреки всему свету? Ведь без него она сама и ее княжество беззащитны! На что же она рассчитывает, жалея за спасение Бринса Арната даже протертого килима? Усама еще раз взглянул на высокомерную, сияющую победной уверенностью Марию и вспомнил, что помолвка султана Рума Мануила с сестрой бринса Триполийского расстроилась. Так вот на что надеется бринсесса и вот почему не спешит вызволять из плена мешок хлопот и неприятностей, по неразумию взятый ею в супруги!
Солнце садилось, приближалось время молитвы магриба, из окна повеяло дымом, полынью, дальней дорогой. Пока Усама теряет время с многобожниками, от которых ни ему, ни Аллаху не причинится ни малейшей пользы, пока его ягодицы терзает сидение жесткого стула, в караван-сарае единоверцы-попутчики уже давно развалились на мягчайших сатиновых подушках, наслаждаются мелодичными звуками аль-уда, курят душистый кальян, слушают искусные вирши персидского поэта и ведут неспешные, мудрые беседы, а тюркская прислуга подает им сладкий шербет. Усама поднялся, церемонно откланялся:
– Ваша светлость, я загнил от безделья, подобно тому как индийский меч ржавеет от продолжительного пребывания в ножнах. Но если только милосерднейшему Аллаху будет угодно позволить его недостойному рабу дойти до Благородной Мекки, я непременно вознесу и свои никчемные молитвы за вас и за Бринса Арната, дабы Аллах сжалился над ним в День Суда! А за все пережитые несчастья пусть возместит вам лучшим, милосердная бринсесса.
Расстроенный, покинул эмир княжеский замок, ибо всегда грустно видеть, как беспощадное время превратило пленительный цветок в сохлую колючку, а ее прекрасный плод норовит упасть в греческий гинекей, а не в сераль преисполненного достоинств истинного фариса ибн Мункыза. Ах, неизбежное бремя лет, будь оно проклято, ибо отнимает мощь у мужчин и прелесть у женщин, но не лишает смертных их невыполнимых желаний! Если Аллаху будет угодно позволить своему рабу записать его размышления и воспоминания, ибн Мункыз непременно поведает потомкам, что, когда проходит назначенное время жизни, от доблести и силы человека не остается ни малейшей пользы.
* * *
Вскоре в Антиохию прибыло византийское посольство во главе с приближенными императора – внуком василевса Алексием Комниным и префектом Нового Рима Иоанном Каматеросом, ближайшим соратником Мануила. От имени Его Царственности, императора Ромейской империи, знатные греки торжественно просили у княгини Антиохии руки ее дочери – несравненной Марии Антиохийской. Тот, кто заставил Солнце и Луну сиять во славе, Тот смог позаботиться и о капризной принцессе! Одного присутствия послов столь высокого ранга оказалось достаточно, чтобы Констанция снова прочно заняла престол. А если предпочтение, оказанное безупречной Марии, ошеломило и разгневало юного графа Триполийского и встревожило короля Бодуэна, так об этом Констанция не печалилась, ибо уже убедилась, как мало стоила их дружба.
В конце лета счастливая и гордая дева отбыла из гавани святого Симеона в Константинополь с невиданной помпой, подобающей невесте василевса. На лбу ее сияла диадема, за ней тянулся длинный парчовый шлейф, знатнейшие византийские вельможи вели ее с обеих сторон за кончики пальцев, а она, которая всегда носилась необузданной кобылицей, теперь семенила крошечными, едва заметными шажками и плыла меж рядами провожающих небесным облаком. Вся в мечтах о блистательном будущем, не пролила при расставании ни слезинки. С грустью и тяжкими предчувствиями смотрела Констанция вслед кораблю. Никогда больше в этой жизни она не увидит прекрасную и взбалмошную Марию. Амбиции, гордость и неукротимость ее близких в короткое время забрали у нее супруга, сына и дочь. Всю жизнь Констанция поступала так, как только и могла поступить, и каждый раз добивалась задуманного. А пустота и одиночество вокруг нее лишь росли и ширились.
Предчувствия, однако, оказались обычной неуемной материнской тревогой: уже на Рождество в Храме святой Софии три патриарха – Константинопольский Лука Хрисоверг, патриарх Александрии Софроний и патриарх Антиохии в изгнании Афанасий II венчали ее дочь с василевсом. Свадьбу отмечали многодневными пирами, великими дарами церквям и монастырям и колесничными бегами на ипподроме.
Радость Констанции омрачила лишь юная Мелисенда, чрезмерно воспарившая в честолюбивых замыслах. Не перенеся разочарования внезапного афронта и позорных слухов о своем незаконном происхождении, та, которую еще недавно величали будущей императрицей, приняла постриг. Видит Бог, Констанция искренне жалела несчастную кузину, ставшую жертвой пороков и амбиций родичей. Бедняжка страдала недолго, вскоре зачахла в обители от стыда и горя. Поистине, Годиэрна ела кислый виноград, а у дочери на зубах оскомина!
Еще хуже воспринял отказ брат Мелисенды – Раймунд Сен-Жиль. Возомнил себя Авессаломом, мстящим за бесчестие сестры своей Фамари: погрузил на построенные для приданного галеры разбойников и, в наказание грекам за нарушение сговора и поруганную честь семьи, отправил флотилию грабить многострадальный Кипр.
Зато Антиохия наконец-то оказалась под надежным протекторатом Византии, и неразумный Бо с подстрекателем Бодуэном отныне не смели посягать на власть матери, пользующейся расположением императора.
В конце того же лета Господня 1161 сдала и старшая Мелисенда. Правительницу, без которой невозможно было представить Утремер, внезапно хватил удар. В одночасье мудрая, деятельная женщина потеряла память и разумение, впала в детство и никого более не узнавала. Верно сказал мудрый царь Соломон, что даже величайший из всех, царствовавших в Иерусалиме, даже мудрейший из них умирает наравне с ничтожным и глупым, и все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем.
Сестры королевы – Годиэрна Триполийская и Иоветта, аббатиса монастыря святой Марии и Марты в Вифании, не отходили от постели несчастной и преданно за ней ухаживали. Констанция тоже непременно поспешила бы к одру тетки, но присутствие там этих неразлучных жен-мироносиц, в особенности необузданной Годиэрны-Иродиады, грозило превратить трогательное семейное прощание в непотребный скандал. Вдобавок неразумно было теперь покидать Антиохию: нетерпеливый сын мог и не отпереть княгине ворота по возвращении.
В начале осени, сразу после Рождества Божьей Матери, самая могущественная в истории христианского мира женщина-правительница – королева Иерусалима Мелисенда – легла в заранее уготованную могилу рядом со своей матерью, королевой Морфией, в той самой Иосафатской Церкви Святой Девы, где когда-то Констанция вдохнула в ее неблагодарного сына мужество и высокие устремления, а Изабо обрела в его глазах прелесть Суламифи.
* * *
Раз в неделю заключенных выпускали из ямы фараоновой на внутренний двор, и брадобрей тупым ножом больно скреб их головы и подбородки. Басурмане считали бороду украшением мужчины и ревниво следили, чтобы никто из бесправных латинян не отрастил этого признака достойных мусульман.
Однажды ворота распахнулись, и под охраной мамлюков вошел эмир джандар, Аззам ибн Маджд ад-Дин, роскошно одетый и надменный. Все тюремщики, включая толстого хаджиба, принялись униженно кланяться. Рено понял, что Аззам явился за ним, отступил к стене, сжал кулаки и приготовился дорого продать свою жизнь. Но эмир джандар в его сторону даже не глянул. По его знаку мамлюки схватили молодого и статного узника, скрутили ему руки за спиной.
– Кто это? – тихо спросил Рено у Паскаля Лаборда.
Паскаля, немолодого, сутулого, замкнутого тамплиера, недавно бросили в яму к Шатильону. Рено с ним ладил. Князь всегда уважал силу воли тамплиеров, их верность, мужество и непримиримость к язычникам, а этот выходец из Оверни никогда не жаловался, не терял ровного расположения духа и ничего ни у кого не просил.
– Это Дамиен Фокомбер, – коротко ответил Паскаль.
Франку запрокинули голову, на белой шее напряглись жилы и задергался кадык. Подошел цирюльник. Аззам что-то сказал, склонившись над несчастным.
– Выкуп требуют, – догадался Паскаль.
Фокомберы были знатной и богатой семьей Утремера. По-видимому, нечестивцы это знали, вот и вымогали за Дамиена неподъемные деньги. Пленник в ответ что-то злобно прохрипел. Аззам кивнул стражникам, мамлюки окружили несчастного, Паскаль сделал шаг вперед, Рено предупреждающе ухватил его за локоть. Не торопись, брат-тамплиер, басурманам только приятно будет и с тобой расправиться, ничем Дамиену не поможешь. Если беду можно поправить деньгами – это еще не настоящая беда. Из-за спин тюрков они видели только ноги пытаемого, судорожно сучившие по земле, и доносились его полузадушенные хрипы. Наконец брадобрей выпрямился – в поднятых клещах был зажат окровавленный зуб. Аззам опять что-то рявкнул, ответа Рено не расслышал, тюремщики снова навалились на плечи Дамиена, цирюльник во второй раз потянулся ко рту пытаемого, но тот взвыл на всю джуббу, и в горле его клокотала то ли ярость, то ли кровь:
– Да! Да! Согласен! Согласен!
Подскочил писец, протянул пергамент и перо. Фокомбер приложил к документу трясущуюся руку. Аззам выхватил пергамент, повернулся и, не удостоив никого взглядом, покинул двор. Оставшийся на земле узник уткнул окровавленное лицо в ладони, плечи его жалко тряслись. Испуганные заключенные молчали, многие отвернулись, не желая видеть унижения товарища. Но челюсти Рено свела зависть, кислая как уксус:
– Хотел бы я так легко отделаться. Я бы без споров согласился на любые условия, только за меня никто не станет платить, даже если мне все зубы до последнего вырвут, – невольно ощупал языком пока еще целый частокол.
Паскаль пожал плечами:
– Я об этом и не думаю. Бедный рыцарь Христа может предложить за себя только боевой пояс и кинжал. И то и другое у меня давно и так отобрали. Я отсюда живым не выйду.
Сказал это спокойно, без горечи или обиды. Набрал из пристенного фонтанчика воды и понес чашу Дамиену. Лаборд умел перетерпевать тяготы заключения безропотно и с достоинством. Он одновременно и раздражал князя смирением со своей участью, и поражал силой духа, которую черпал в неколебимом доверии к Господу. У самого Шатильона не было ни смирения, ни терпения мученика, и полагаться он привык только на себя, и уж если сам не справлялся, то и на небеса не рассчитывал. Но сейчас его охватило теплое чувство общности с братом-храмовником. Конечно, Рено не желал Лаборду доживать век в застенке, но невольно полегчало на душе оттого, что он не был тут единственным покинутым без надежды на избавление.
Когда до подземелья дошла весть, что падчерица стала византийской императрицей, как кипрей на пепелище расцвела страстная надежда: не может же новый зять, который ради вызволения совершенно чужих ему пленников от Алеппо отказался, оставить свойственника в заточении у сирийских арамеев? Но время шло, а ничего не происходило, только стылую зиму сменяло знойное лето, и вновь наступали холода, а затем ледяной каменный мешок опять превращался в душную парилку. Год шел за годом, близкие устраивали свои судьбы, радовались и благоденствовали, но ни хаджиб, ни эмир джандар не вспоминали о Шатильоне, никто не вел с ним переговоры о выкупе, и из внешнего мира до узника не доходила ни единая обнадеживающая весть. Выше сил человеческих было сохранять упования. Видно, обречен был Рено, и ждала его участь Жослена Эдесского.
Раз за разом представлял, как избежал бы засады, стоило только выбрать в тот день иной путь, как остался бы на свободе, если бы вовремя развернул Баярда. Понимал, что эти навязчивые попытки переиграть прошлое бессмысленны, что сожаления напрасны, но не мог перестать. От собственного бессилия захлестывало невыносимое, как задушенный вопль, отчаяние, и тогда метался по подземелью тигром в клетке. Чтобы не сойти с ума, изыскивал занятия. Развлечений в застенке было мало: можно было пугать летучих мышей, ковырять грязь на полу, скрести стены, мечтать, петь или молиться. Начал было тренировать тело – приседать, подпрыгивать, отжиматься, но скудная плошка риса с бобами и плесневелые лепешки не оставляли сил для движения: трясущиеся руки и ноги быстро сводила судорога, перехватывало дыхание, заходилось сердце. Во дворе можно было беседовать с другими франками, пробовать он заговорить и с магометанскими заключенными. Некоторые отвечали добродушно, а некоторые поносили кафиров. Как каждый живущий в Леванте, Рено знал пару арабских слов и ругательств, но теперь от тоски и скуки принялся усердно осваивать этот общий для всех мусульман язык. Удивительно, как быстро заучивается басурманская тарабарщина, если повторение новых звуков остается единственным развлечением. К тому же это позволяло объясняться с тюремщиками. Али хоть и был сельджуком, но по-арабски говорил охотно и все чаще присаживался на корточки у лаза в яму поболтать с Бринсом Арнатом, которого нынче называл не иначе как «ахиликом», то бишь братом. Видимо, сторожить темницу было столь же безрадостно, как и сидеть в ней. Тюремщик часто что-то декламировал, потом пытался разъяснить сказанное. Рено догадывался, что то были басурманские заклинания из Корана, но все равно старался вникнуть в смысл слов и запомнить их. Али улыбался щербатым ртом и щедро оделял ахилика финиками или оливками.
Самым отрадным было устроиться под крохотным подвальным окном. Закинув голову, можно было видеть узкую полоску неба с рассекающими его ласточками. Снаружи доносился монотонный гул города, звякал колокольчик водоноса, журчал настенный фонтан, вопил муэдзин, ревел верблюд. Унылые звуки не давали забыть, что за пределами душного, провонявшего отхожим местом застенка текла людская жизнь.
Иногда мимо окна проходили люди, были видны только их ноги, и каждый день двор подметала рабыня. Рено был уверен, что это та самая девушка, которая когда-то поставила перед ним блюдо с пловом, он узнавал ее по слабому аромату цветущих апельсинов, а еще быстрее – по тому, как туго сворачивался в животе узел радости и возбуждения. По сравнению с князем Антиохийским даже ничтожная невольница была счастливицей: она могла гулять снаружи когда хотела и разговаривать с другими людьми. Девушка мела двор, а потом удалялась куда-то и взгляд ее натыкался не на одни своды каменного застенка. Ее рабская доля рисовалась князю Антиохии безбрежной, полной, заманчивой, бескрайней свободой.
Когда она появлялась во дворе, Рено устраивался у окна, и Паскаль в это время не тревожил его. Тихо напевая, девушка мелкими шажками переступала вослед взмахам метлы. У нее были тонкие, смуглые лодыжки, на них при каждом движении сверкали и бренчали браслеты. Кожа босых ступней задубела и растрескалась. Маленькие, кругленькие пальчики поджимались и распрямлялись с каждым шагом, их грязные, поломанные ноготки были выкрашены полустертой хной, над щиколотками колыхались края грубых парусиновых шаровар.
Никогда Шатильон не видел более соблазнительного женского тела. Об этих девичьих ступнях можно было грезить весь остаток дня, они возникали в его снах, с мечтами о них он просыпался. А еще отчетливо помнил ее лишь однажды увиденные тонкие руки и распахнутый, удивленный взгляд соколиных глаз над оранжевой чадрой.
Как-то женский голос крикнул с другого конца двора: «Сумайя!», девушка выронила метлу и вприпрыжку поскакала на зов. Так он узнал, что ее зовут Сумайя. Теперь повторял это имя часы напролет, словно перебирал четки. Однажды, набравшись храбрости, попытался окликнуть ее: «Сумайя, Сумайя, ана Бринс Арнат! Йялла такалами! Подойди к окну!» Девушка ойкнула и поспешно убежала, позвякивая браслетами, как козочка колокольчиком. Рено ждал ее до заката, но она так и не вернулась.
На следующий день двор подметали чьи-то толстые, волосатые мужские лодыжки в грязных шлепанцах. Их обладатель не напевал, а смел всю пыль в подвальный проем окна, прямо в глаза узника.
Девушка вернулась через несколько дней, но Рено больше не осмеливался окликать ее. Смуглые, костлявые щиколотки с бренчащими браслетами стали для него дьявольским, неодолимым соблазном, несравнимо более колдовским и чарующим, чем прелести и ласки всех женщин его прошлого. Мужчина, мимо которого без волнения не могла пройти ни одна придворная дама, тот, кого так страстно добивалась княгиня Антиохии, теперь со сжигающим нетерпением и неодолимым волнением ждал появления рабыни, лица которой никогда не видел. Сумайя появлялась – и у него сердце забивалось в горло и трепыхалось там птицей, а если запаздывала – Рено мрачнел. Так же, как весь свет теперь падал из единственного крохотного окошка, так же вся сладость бытия свелась для Бринса Арната к бесправной магометанской рабыне.
* * *
Констанция в последний раз оглядела нагие стены опочивальни: слуги разобрали и вынесли кровать с балдахином, сундуки, стулья, сняли шпалеры, скатали с пола ковры, но разве можно погрузить на телегу все случившееся, сказанное и пережитое в опустевшей, гулкой комнате? Здесь прошла жизнь, здесь родились все ее дети. Как увезти в изгнание привычный с младости вид на кровли и башни Антиохии, на родные горы?
А приходилось не только покинуть навеки отчий дом, но и расстаться с княжеской властью. Она испробовала все, что было в силах человеческих: просила защиты у принесших ей оммаж вассалов, взывала к горожанам, обращалась с мольбой к могущественному Мануилу, посылала гонцов к византийскому наместнику Киликии Константину Каламаносу, предлагала выгодный союз армянскому царю Торосу II, даже у Сицилии искала помощи. Сулила за поддержку то, что могла и что не могла отдать. Все оказалось бесполезно, никто не отозвался, напротив, неблагодарная городская чернь, прознав о ее призыве к грекам, возмутилась и приняла сторону мятежного сына. А на подмогу Заике спешно прибыл Бодуэн, и Эмери Лиможский охотно поддержал молодого князя, обещавшего вернуть ему патриарший престол. Заговорщики стремились предотвратить окончательный отпад Антиохии к Константинополю и в конце концов сумели выхватить власть у законной правительницы. Ну что же, те, кто ожидает, что сын-изменник, нетерпеливый наследник, станет верным вассалом, будут обмануты и преданы в свою очередь.
Со двора доносилась ругань конюших и возниц. Констанция с привычным усилием распахнула тяжелую створку окна, дотянулась до ветви старого лимонного дерева, сорвала одинокий перезрелый плод, вдохнула тонкий, кислый аромат. Сняла со стены распятие и навсегда покинула опочивальню, где прошла жизнь. Когда нога сама нащупала на ступеньке знакомую с младенчества щербинку, иглой закололо в груди. Пришлось остановиться, чтобы не появиться перед людьми заплаканной.
В углу двора уже маячили печальными чучелками дама Филомена и дама Доротея. Какими же они стали крохотными, низенькими, жалкими и согбенными годами! Да и Констанция, завернутая в темное покрывало, наверное, выглядела убого, и вот-вот превратится в такую же забытую, лишнюю, одинокую женщину. Дамзель Сибиллы де Фонтень среди кучки приверженцев опальной княгини не оказалось. Видно, плохой приметой для будущего девицы было сопровождать поверженную госпожу в изгнание. Бесполезный и никому не нужный паршивец Вивьен тоже куда-то запропастился.
Зато гарцевал у ворот неизменный Бартоломео, возглавлявший небольшой отряд стражи. Рыцарь с седла почтительно поклонился княгине. Констанция подошла к нему, положила руку на стремя:
– Храни вас Господь, мессир, за вашу преданность и верность.
Бартоломео хотел ответить, даже рот распахнул, но не смог выдавить ни слова. Стащил с головы шлем, вытер пот, стараясь, чтобы никто не заметил, что заодно промокнул и глаза. Уже когда Констанция отошла к паланкину, нашелся и прогудел:
– Да чтоб мне умереть без покаяния или… хуже того – всю жизнь на кобыле ездить, да чтоб я свой верный Куражо сломал, если я… как иуда или самаритянин там какой, чтобы бесценную госпожу предать… когда и так уже год жалованья не платили…
Запутался, побагровел, в замешательстве снова сердито нахлобучил шлем и остолбенел от нежданной, невиданной и совершенно незаслуженной награды – впервые за много лет прекрасная, взыскательная и недоступная дама его сердца Изабель де Бретолио милостиво улыбнулась своему паладину.
Констанция все не могла заставить себя двинуться в путь: поочередно то осыпала поцелуями маленькую Агнессу, то прижимала к груди плачущую Филиппу – как расцвела милая и добрая Филиппа, едва Мария перестала затмевать ее нежную прелесть! До тех пор крестила, благословляла дочерей и брала с них клятвы не забывать ее и поскорее навестить в Латакии, пока не вмешалась Изабо и мягко, но решительно не положила конец душераздирающему прощанию.
Обе старые дамы с кряхтеньем погрузились в выделенный им паланкин: дама Доротея – сетуя и жалуясь всем святым, а дама Филомена – стоически вскинув пепельную голову.
Печальная процессия прогрохотала по подъемному мосту, двинулась вниз по узким, кривым улочкам каменного верхнего города, по полным зевак площадям и рынкам глинобитного нижнего. Констанция не выглядывала за плотно задернутые занавески, но знала, что прохожие не поднимали детей, чтобы те полюбовались на свою властительницу, нищие не бежали за ее выездом, монахи не благословляли, подданные не приветствовали, и ни единая душа не сожалела о лишенной трона законной правительнице. Лишь присутствие стражи под командованием устрашающего Бартоломео заставляло злорадствующих ротозеев помалкивать и неохотно расступаться.
Констанция стиснула руки и сидела молча, сглатывая солоноватый привкус невыплаканных слез. Только когда паланкин поравнялся с маленькой армянской лавкой, торгующей керамикой у храма святого Георгия, встрепенулась:
– Это все – дело рук короля. Сначала Бодуэн собственную мать предал, потом тебя, Изабо, потом Шатильона. Меня он предавал при каждой возможности. И за несчастного Ибрагима отказался заступиться, а теперь подбил неразумного Бо последовать своему примеру – восстать против родительницы. Я бы простила утерю княжества, но то, что лишил меня сына – не прощу.
Остановила процессию, вручила Бартоломео толстый кошель:
– Друг мой, передайте хозяину лавки, скажите: «Для тха-джана Арама, в память нашего Ибрагима».
Кортеж продолжил путь сквозь неблагодарную толпу, шарахающуюся от бывшей государыни как от зачумленной. Когда в последний раз за изгнанницей захлопнулись городские врата – полегчало, словно отвязали от позорного столба. Констанция раздвинула занавески, жадно вдохнула запах унавоженной, распаханной земли. Никогда больше она не вернется в неблагодарную Антиохию.
Изабо тоже приободрилась. То и дело выглядывала из паланкина и каждый раз с милостивым смешком поражалась тому, что рядом неизменно оказывался славный, бравый и, как теперь стало совершенно очевидно, весьма представительный и могучий рыцарь Бартоломео д’Огиль.
К исходу второго дня достигли Ла Лиша, называемого сирийцами Латакией, а греками – Лаодикеей, печального места изгнания и одинокой кончины Алисы.
Однако Латакия оказалась вовсе не мрачным затвором. Основанный еще византийцами, большой красивый торговый город с удобной гаванью и двумя внушительными замками на холме был застроен величественными домами из обтесанного камня и мрамора, над садовыми оградами склоняли ветви смоковницы, яблони, вишни, оливы, миндальные, персиковые и фисташковые деревья. Напротив главного собора в сводчатых галереях огромного рынка шла бойкая торговля.
Здесь новую госпожу и повелительницу приветствовали, ей низко кланялись, и хоть она уже ведала цену верноподданническим чувствам вилланов, все же после оскорбительного недоброжелательства Антиохии они несли отраду.
Море волнующе пахло влажным туманом и водорослями, низкое солнце сверкало на волнах, губы увлажнил соленый, свежий бриз. И нежданно нахлынула радость, и показалось, что в лазурной бухте, трепеща парусами, ждет трирема «Серениссима», готовая нести молодую и влюбленную Констанцию навстречу вечной страсти и счастливой судьбе.
Все повеселели: Бартоломео – потому что самая неприступная крепость в поднебесном мире уже приоткрыла ему ворота, и победитель намеревался влететь в них бешеным аллюром; Изабо – потому что этот славный, доверчивый простак д’Огиль еще и понятия не имел, сколько способов доводить его до отчаяния, а затем нежданно орошать живительной благодатью своих милостей держала в запасе дама его сердца. Даже обе старые галки – дама Доротея и дама Филомена – высовывались из паланкина и пугали прохожих благосклонными улыбками беззубых ртов. Мадам де Камбер до слез радовалась тому, что все в благословенной и благополучной Латакии способствовало приятным размышлениям о тлене земного существования, о близящейся неизбежной кончине и о суровости загробного воздаяния. А дама Филомена с одного взгляда с мрачным удовлетворением убедилась, что и здесь люди глупы, неблагодарны и погрязли в заблуждениях, отчаянно нуждаясь в непреклонной правдолюбице, способной раскрыть им глаза на себя.
В городском соборе Констанция спустилась в склеп. Могилу Алисы Иерусалимской покрывала холодная тяжелая мраморная плита. Вспомнилась последняя встреча с матерью, когда обе впервые увидали Раймонда де Пуатье, щека снова вспыхнула полученной от Алисы оплеухой, всплыл в ушах ее принужденный, жалкий смех и снова сох на коже ее иудин поцелуй, но те далекие события больше не причиняли боли. Давно истлела бившая Констанцию рука, и за утекшие годы рассыпалась в прах дочерняя обида, завершилась их ссора. Теперь ей самой предстояло доживать свои дни в изгнании, повторять материнскую судьбу унылым припевом из жалобной женской кансоны.
А ведь когда-то Констанция намеревалась все сделать иначе, мечтала стать травинкой, которая перерубит меч, спасти всю Землю Воплощения, свершить необыкновенные деяния, но жизнь прошла, а пророчества Грануш так и остались неисполненными. В судьбе Латинского Востока княгиня Антиохии оставила меньше следа, чем «Серениссима» на волне. Ничего ей не удалось, ничего. Она была нежной и верной женой, и ни одному из ее супругов не была нужна ее страсть. Любила своих чад всем сердцем, но Мария покинула мать без единой слезинки, а сын лишил трона. Старалась быть справедливой и милосердной государыней, а подданные не пожелали терпеть над собой власть женщины. Обеспечила Антиохии покровительство Византии, и за это иерусалимский король и патриарх изгнали ее из города. Видно, и впрямь прокляла Алиса свою единственную дочь.
Собор и замок окружали высокие сосны, над головой шуршали корявые ветви, ноги утопали в мягком ковре ржавых иголок, томительно пахло терпкой, горькой хвоей и сухой, сладковатой смолой.
В старой крепости отперли пустовавшие княжеские покои, распахнули ставни, из дальних комнат доносились гулкие голоса выгружавших пожитки слуг. В зале у окна пылилось растянутое на пяльцах заброшенное вышивание. Констанция встряхнула ткань. С полурасшитого покрова протягивал руки Иисус Христос в терновом венке. В корзине валялись полуистлевшие нити. Теперь, когда у изгнанницы сколько угодно времени, она завершит покрывало. Новыми нитями примется расшивать вслед за Алисой стежок за стежком. Так же, как и жила по проложенной матерью стезе – след в след. Ей тоже осталось лишь молиться да рукодельничать.
В стрельчатом окне сосны раскидали паутину крон, запутавшееся в них солнце кровоточило густой охрой на парапет. Сильно закололо в груди. Распахнулись скрипучие двери, заметался на стенах свет внесенных свечей, слуги затопили очаг, приблизились шаркающие шаги дамы Филомены:
– Мадам, яковитские священники просят аудиенции, добиваются разрешения возвести в Латакии собственный собор.
Возмущенная мадам де Камбер запыхтела сердитым ежом:
– Нечего! Хватит о мирском хлопотать! О душе следует печься, не о еретиках! Из праха мы созданы и в прах вернемся! К смерти пора готовиться!
Но мадам Мазуар вдруг обрела прежнюю непреклонность:
– Только о смерти думать – при жизни мертвой стать, мадам де Камбер. Вон мать-настоятельница монастыря Святой Девы Марии жалуется, что Латакия полна беспомощных калек, о вдовах павших воинов и о сиротах их некому позаботиться. Сестры делают, что могут, но это капля в море.
Констанция отмахнулась. Не будет она выслушивать чужие мольбы, закончилось время ее обязанностей и забот. Суровые сосны согласно махали темными лапами: поздно, уже слишком поздно, время твоих бесплодных усилий истекло, все суета сует. Могильным призраком вползала в замковый двор лиловая тень.
Только дама Филомена не уступала:
– Наша княгиня не из тех, кто лишь молится. Ведь это ее светлость не сдала Антиохию Нуреддину! – Впервые старушка так горячилась. – Вспомните, мадам, вы ведь со времен Иоанна добивались спасительного союза с Византией, вы и теперь благодаря Марии можете сделать для этого союза больше всех прочих.
Внезапно из глубины покоев донеслось сильное контральто ангельской красы: «Veni, Sancte Spiritus! О, приди к нам, Дух Святой!» Как давно Констанция не слышала пения Изабо! Дивный голос струился, не отпускал, вел за собой и от прекрасных звуков вся темная, горячая, ненасытная кровь Констанции отхлынула от сердца и огненным комом подкатила к горлу.
Да, из праха создана Констанция и в прах вернется, она всего лишь немощная травинка, лишенная власти изгнанница, и совершила такое множество ужасных поступков и непоправимых ошибок, что их следовало бы отмаливать до конца ее дней. Но дама Филомена права как всегда: Констанция оставила на Земле Обетованной глубокую борозду. Еще в юности она примирила Антиохию с Иоанном, она когда-то затеяла альянс Утремера с Дамаском, она направила взоры юного Бодуэна III на юг и изменила всю политику Латинского Востока! И разве не пожертвовала она ради Святой Земли тем, кого любила?
Вот и сейчас, увы, покаяние придется отложить, потому что завтра княгиня встретится с яковитскими священниками – да, встретится. Яковитов-монофизитов в Сирии великое множество, союз с ними необходим франкам. Они и в Алеппо живут, может, в силах их епископа окажется облегчить судьбу Шатильона. И с матерью-настоятельницей Констанция увидится, поможет несчастным женщинам и осиротевшим чадам. И вызовет прево: в порту необходимо возвести новые причалы и снизить таможенные сборы, чтобы переманить в Латакию купеческие суда из окрестных портов – благие дела требуют денег. А раз уж все равно ей не счесть грехов, она привлечет в город умельцев-евреев. Нет, рано внучке королей, дочери и вдове героев превращаться в кающуюся инокиню и вышивать от зари и до заката. Даже в Латакии Констанция не уподобится Алисе, не замкнется в обиде и злобе, не обратится в прах.
Для самого сильного и мудрого все неизбежно кончается сырой землей, но пока человек жив, он должен исполнять свое предназначение. Ее долг – заботиться о Земле Воплощения Христова, не литании распевать. Она последует примеру королевы Мелисенды: примирится с неразумным и легкомысленным сыном. Как бы ни был Бо виноват, Констанция будет помнить, что и сама во многом перед ним виновата, она не проклянет своего первенца, не лишит его ни своего опыта правительницы, ни материнской любви. И через честолюбивую Марию продолжит укреплять союз ромеев с франками.
– Дама Доротея, дама Филомена, идите почивать, нас завтра много дел ждет.
Когда-то, когда она была молодой, красивой и владетельной княгиней, она молилась в Храме Воскресения Христова, а Он явился сумасшедшей Марго. Теперь у нее не осталось ни молодости, ни красоты, ни княжества, но с полувышитого покрова Спаситель взирал на Констанцию с любовью и одобрением. Господь поставил ее сторожем на башнях своих, и о тех, кто защищает Его Землю, Он сам молится.
Во мгле распахнутого окна угадывался невидимый простор, метались светлячками души умерших некрещеными младенцев, вздыхало и плескалось море, по безграничной глади стелился манящий лунный луч, благоухали кипарисы, шуршала во тьме листва, мерцали звезды и веял ветер.
Сердце замерло, а потом заколотилось так сильно, словно пыталось нагнать опоздание. Грудь снова пронзила знакомая с недавних пор острая боль.
* * *
За свинцовым переплетом умирал пасмурный декабрьский денек, встроенная в деревянный альков кровать, на которой метался в бреду король Иерусалимский, тонула впотьмах. Светлые волосы больного свалялись в патлы, из угла рта на густую бороду стекала густая слюна, губы запеклись в лихорадке, измученные, воспаленные, красные глаза бессмысленно уставились на тусклый свет окна. В ногах страдальца повизгивала любимая борзая Альфа, у изголовья переминался и мял в руке край полога князь Антиохии Боэмунд III. Крайне несчастливо его величество умудрился захворать, испортив этим начало правления нового князя. Нездоровье венценосца могло подать пищу для слухов и подозрений, а мать, как назло, уже отбыла в Латакию, и теперь некому посоветовать Бо, что делать. И винить некого, кроме этих паршивых сирийских лекаришек. Хотя, конечно, первым в своем недомогании повинен сам Бодуэн. Еще два дня назад его величество был здоров и весел, на охоте мчался за вепрем впереди всех, намеревался вскоре двинуться в обратный путь, в Иерусалим. За ужином пожаловался на легкий озноб, попросил вызвать к нему сирийского целителя. Этот неразумный обычай лечиться у всяких армян, жидов, греков, сирийцев и даже басурман ввела неуемная мать, оправдывая это их особыми познаниями, правоверным медикам якобы неизвестными. Так тем и были хороши латинские доктора, что без крайней надобности к ним никто не рисковал обращаться! Когда-то в Антиохии действительно имелся египетский знахарь редкого умения, это из-за него вся знать Утремера обрела такую неоправданную веру в медицину, что при самом легком нездоровье бросалась кувшинами хлебать микстуры и пригоршнями глотать панацеи. Однако толкового и добросовестного Ибрагима извел отчим в одном из приступов самодурства, и с тех пор все чего-либо стоящие иноземные целители обходили Антиохию.
К королю явился какой-то чернявый армяшка, всучил его величеству укрепляющий настрой, а к утру Бодуэна начало знобить, король принялся жаловаться на головную боль, тошноту, боли в животе, и от него на три шага разило чесноком. Бросились искать армянского колдуна, но тот как сквозь землю провалился. Все это выглядело весьма зловеще и бросало тень на хозяина, под чьим кровом так неуместно занемог суверен. Господи, помоги монарху не скончаться в Антиохии! Где угодно, только не тут!
Раймунд Триполийский спешно прислал собственного медика Барака, еще одного сирийца, как будто от рук схизматиков умирать приятнее, чем от рук доброго латинянина! К тому времени король уже вовсю исходил рвотой и поносами. Вот и сейчас в его опочивальне стояла такая чудовищная вонь, что приходилось держать окно распахнутым, одновременно сжигая в камине целую поленницу кедровых дров. Слуги входили и выходили, меняли свечи, затаскивали чистую воду, мягкие полотенца, по приказанию Барака обтирали больного, меняли под страдальцем подстилки и выносили изгаженные кровью и фекалиями простыни. Альфа злобно рычала и огрызалась, но выгнать ее было невозможно. Вонь испражнений Заика был готов терпеть, его пугал смрад обвинений в случившемся.
С постели опять послышались стоны, прерывистое дыхание и урчание королевского живота, опять возник назойливый Барак:
– Ваша светлость, его величеству необходимо дать рвотное средство.
Князь переборол всегдашнее нежелание прорываться сквозь барьеры неподдающихся звуков, мрачно буркнул:
– Что ттттам в этом вашем рвотном?
– Молочай, бальзамин и настой прочих целебных трав…
Раймунд Триполийский уверял, что этот сирийский врачеватель – лучший медик в Триполи, а то и во всем Утремере, на него осталась вся надежда. Но хороший лекарь, как никто другой, мог стать прекрасным отравителем:
– Ссссначала сам своего пойла ппппопробуй, – от злости на доверчивого короля, на эскулапов-чернокнижников, на собственное нестерпимое заикание и на то, что у матери правление протекало всегда без сучка без задоринки, а у него с самого начала княжения начались какие-то непредвиденные пакости, князь наподдал сапогом жаровню. Полыхающие угли разлетелись по полу, знахарь согнулся до земли и подобострастно отхлебнул чуть не половину содержимого колбы.
– Хватит! Ттттак лечить ннннечем станет! Своей головой за его величество ответишь!
С помощью слуг Барак, тревожно косясь на рычавшую Альфу, влил в рот больного темную, едко пахнущую настойку. Бодуэна вскоре охватили корчи и колики, он закинул голову, шея напряглась в чудовищном усилии, на ней вспухли жилы, изо рта хлынула рвота с комками кровяной слизи. Псина заскулила, чуя муки хозяина, подобралась к нему, принялась вылизывать испачканные бороду и лицо страдальца.
Князь в отчаянии бросился на свежий воздух, едва справляясь со спазмами гадливости, но вскоре его позвали обратно. Бледный лекарь в ужасе указал на дохлую собаку.
– Что это? – Князь сморщился от отвращения. – П-п-п-почему Альфу убили?
– Пес вылизал рвотные выделения его величества, ваша светлость.
Боэмунд побелел, перевел испуганный взгляд на больного. Тот как раз пришел в сознание, прохрипел:
– Заика, зовите сенешаля, коннетабля, маршалов, виконтов…
Едва успели вытащить собачью тушу, снова поменять постельное белье и щедро оросить тухлый воздух бергамотовым ароматом, как бароны обступили кровать, протискиваясь вперед и отпихивая друг друга.
– Если Господу будет угодно забрать меня, престол наследует мой брат Амальрик. Он будет разумным государем, – Бодуэн сжал пылающей рукой свисающую с шеи ладанку с частицей Животворящего Креста, – святыню ему передайте…
Соратники короля помалкивали: кто сапоги рассматривал, кто пояс поправлял, некоторые внимательно изучали плиты пола. Права Амальрика были несомненны, но если ради Бодуэна они были готовы в огонь и воду, то младший брат вызывал некоторые сомнения. Собственно, сам Амальрик сомнений не вызывал: хоть он и интересовался книгами и женским полом гораздо более, нежели своими славными и преданными баронами, он все же был рыцарем рассудительным и благородным. Но имелось одно препятствие, которое никто не решался высказать вслух. Бодуэн сам уловил недовольство приближенных, прохрипел:
– Знаю, что вам мешает. Пусть Высшая Курия поставит условием его развод с Агнес де Куртене. Пусть на греческой принцессе женится. Император поможет ему завоевать Египет, раз уж мне так и не удалось. Зато Амальрик примирит моих сторонников со всеми, кто вместе с ним мать поддерживал. Я всю жизнь радел только о Стране Обетованной и знаю, что брату тоже государство важнее всего на свете. – Откинулся на подушки, сириец оттер пот, обильно стекавший с королевского чела. – Феодору не обижать. Отдать ей Акру во вдовью часть, как было обещано. Нам нельзя ссориться с Византией. Заика, вы тоже… мой вам совет, женитесь на Комниной. Другой мирской защиты у латинян не осталось. Констанция права была.
Князь насупился. Он был влюбчив, вот и сейчас его сердцем полностью овладела очередная прекрасная фемина, и менять ее на какую-то греческую ледышку он не собирался. Но спорить не стоило, вряд ли умирающий сможет настаивать.
– Ваше величество, как только вам сссстанет лучше, мы перевезем вас в Иерусалим.
Король рванул ворот шемизы:
– Глотка горит и рот жжет. Пить дайте… – Знахарь принялся по ложке вливать в страдальца настой из полыни, измельченного корня анжелики и отвара дубовой коры. Отдышавшись, Бодуэн прошептал: – А где Изабо?
– Какая Изабо, ссссир?
Больной тыльной стороной руки вытер со лба испарину:
– Моя Изабо, мадам де Бретолио…
– Ээээ… С моей мммматерью в Латакии, ппполагаю. Она ее придворная дама.
Бодуэн криво усмехнулся, уставился на тусклое окошко, помолчал, перевел воспаленный взор на Заику, заметил на его лице страх и отвращение к нему, спросил, прикрывая ухмылкой трясущихся губ сумасшедшую надежду:
– Может, доставить меня в Латакию?
Заика в досаде дернул край балдахина. Только не хватало, чтобы суверен оказался под тлетворным влиянием маман с этой распутной мадам де Бретолио. Обе немедленно принялись бы интриговать и пытаться вновь завладеть княжеством, а умирающие, к сожалению, подвержены раскаянию и зачастую предпочитают радеть не о земной пользе окружающих, а о спасении собственной души. Но новый мучительный приступ судорог, хвала Спасителю, отвлек короля от мимолетной блажи.
Распихивая сановников, к одру корчащегося монарха уже пробирался восстановленный на патриаршем престоле патриарх Эмери в литургическом одеянии, за ним следовал клир святых отцов, возглавляемый духовником Бодуэна, все в крайнем волнении от выпавшей на их долю редкой чести сопровождать в лучший мир помазанника. Подавленные несчастьем бароны неохотно расступались перед этими мрачными поводырями.
После исповеди и соборования Бодуэну полегчало. Он тут же повелел нести себя в столицу.
На рассвете того же дня, задолго до выхода в путь королевского кортежа, через те же Ворота Моста Антиохию покинул торговый караван Абу Талиба ибн Хуссейна, богатого купца, удачно перепродавшего венецианцам груз тончайшего египетского полотна и возвращавшегося в Миср за новой партией выгодного товара. Головного верблюда тянул за повод только что нанятый Абу Талибом щуплый чернявый поводырь Сулейман ибн Дауд. Несмотря на благозвучное имя, Сулейман был сирийским гяуром и говорил на языке Корана с местным выговором, но верблюды слушались невзрачного необрезанного, как кобры – флейту индийского факира, а главное, простак нанялся служить караван-вожатым весь путь до Аль-Искандарии за одно пропитание.
Король добрался до Триполи, но там ослабел и вынужден был остановиться. Ему было всего тридцать и три года, в нем оставалось сил еще на три десятка лет, он еще не родил от горячо любимой Феодоры сына-наследника, но главное, он все еще не воплотил свои замыслы о завоевании Египта. Поэтому он не был готов умереть, тем паче из-за неприглядной желудочной хвори. До февраля Бодуэн метался между жизнью и смертью. Венценосец напрягал всю железную волю рыцаря и боролся с недугом, как боролся бы с коварным, ненавистным и неправым врагом. Его пожирал внутренний огонь, трясла лихорадка и корчили судороги, он впадал в забытье, но едва ему легчало, он приказывал двигаться дальше. Словно нахлестывал себя, как когда-то скакуна, спасаясь от преследования. Но смерть, пешая, хилая и неторопливая, все-таки настигла рыцаря, как настигала каждого, будто он хоть Александром Магнусом, хоть защитником Града Христова, ибо чем величественнее задуманное смертным, тем реже дано ему завершить замысел.
На двадцатом году царствия, 10 февраля 1163 года от воплощения Господня, отважный воин проиграл свою последнюю битву. Его величество Бодуэн III, милостию Божией Латинский король Иерусалима, защитник Святых Мест страдания и распятия Спасителя, хранитель Иудеи, Самарии и всей прочей Палестины скончался в Бейруте в присутствии знати и прелатов Святой Земли, и душа его, освобожденная от оков сдавшейся плоти, вознеслась к небесам, дабы возложить на себя корону, которой не суждено будет потускнеть вовеки.
Восемь дней двигался траурный кортеж из Бейрута до Града Мученичества, и на всем пути гроб поджидали толпы скорбящих. Города и деревни пустели, когда рыдающие подданные выходили провожать правителя, завоевавшего Аскалон и подарившего Утремеру союз с могущественной Ромейской империей. На памяти живущих, да и в людской истории, не случалось такой всеобщей, глубочайшей и беспредельной горести по безвременно почившему монарху. Даже иноверцы спускались с гор, дабы выразить почтение отважному и справедливому аль-Малику франджей.
В Иерусалиме Бодуэна III захоронили у подножья Голгофы, в месте, где за человеческие грехи был распят Господь, в том же самом Храме Воскресения, где двадцать лет назад помазали на царствие. Бездетная шестнадцатилетняя Феодора удалилась в Акру.
Шли слухи, что генерал Нуреддина Сиракон предложил своему повелителю использовать возможность и напасть на франков, но султан Дамаска и Алеппо заявил, что следует уважить траур сынов Троицы по благородному государю и «пощадить их, ибо они потеряли такого правителя, какого больше нет во всем остальном мире». Однако латиняне не сомневались, что, если бы у поганого тюрка имелись силы и надежды преуспеть, он не проявил бы такого уважения к их горю.
Что же касается достойного преемника – взошедший на престол двадцатисемилетний Амальрик скоро выказал себя стрелой из того же колчана Анжуйской династии. В том же году вместе с северными властителями и византийцами разгромил сельджуков в долине Бекаа, и между франками и сарацинами началась борьба за захиревший от внутренних розней Египет. Всем было ясно, что тот, кто завладеет этой неисчерпаемо богатой и безграничной страной, тот и возглавит самую могущественную державу Леванта. Центр соперничества переместился с севера на юг.
В этом состязании у франков имелось важное преимущество: в сезон дождей, когда пустыня покрывалась травой и копыта лошадей не проваливались в песок, иерусалимская армия могла погрузить на верблюдов несколько сот козьих мешков с водой, за три дня пересечь Синай по прибрежной Виа Марис и внезапно оказаться под стенами фатимидских городов, в то время как между полчищами Нуреддина и вожделенным Египтом лежал месяц пути по пустыне в обход Утремера.
Условием коронации Амальрика Высшая Курия поставила расторжение его брака с Агнес де Куртене, «не той женщиной, которая должна быть королевой, а в особенности королевой такого города, как Иерусалим». Амальрик к этому времени не хуже брата научился решать головой, а не сердцем: женолюбец успел понять, что ему слишком нравятся все пригожие женщины, чтобы любить лишь одну из них, и охладел к рыжей капризнице. В качестве причины развода, впрочем, указали чрезмерное родство супругов. Амальрик передал Агнес графство Яффское и благоразумно позаботился, чтобы Латинскому королевству не угрожали в будущем династические распри: оговорил условие, что их дети – сын Бодуэн и дочь Сибилла – сохранят право наследовать престол.
Агнес, к легкой досаде Амальрика, печалилась недолго, тут же обручилась с Гуго д’Ибелином, ибо как не переводятся подобные женщины, так не переводятся и вожделеющие к ним мужчины.
* * *
Как огромный дракон пустыня утром дула на Алеппо душным зноем, а к вечеру утягивала обратно жар раскаленных за день камней и стен. Паскаль играл с прирученным сверчком, а Рено в поисках глотка воздуха устраивался у окна. Сумайя, козочка его души, давным-давно исчезла, он даже не выспрашивал тюремщиков – вышла ли замуж, продана ли на базаре за три динара, жива ли? О супруге своей, как только понял, что та не придет ему на помощь, Шатильон запретил себе вспоминать, а вот от наполовину придуманной маленькой рабыни-певуньи в душе осталась дыра, и туда в эти предвечерние часы влезала и пиявкой присасывалась к сердцу тоска.
Время молитв узники прикидывали по солнцу и по призывам муэдзинов. Однако сегодня истошные вопли понеслись в неурочный час, и постепенно к ним присоединился гул толпы, далекий и тревожный, как шум приложенной к уху ракушки. Шум становился все громче, все отчетливее звучали леденящий душу бой сарацинских барабанов и жуткие завывания труб. К крепости явно приближалось шествие, а может, и армия.
– Паскаль, не за нами ли?
Загрохотали ворота, сидевшая на стене ящерка-геккон шмыгнула наружу, в тюремном проходе над головами послышались шаги, возня, голоса. Рено достал из укрытия стесанный кусок камня и лезвие, выточенное из старого крюка для кандалов. Паскаль принялся спокойно читать псалом:
– Господь твердыня моя… на него уповаю…
Распахнулась крышка над лазом, но появились не тюремщики, а одного за другим в яму впихнули новых заключенных. Рено поднялся навстречу и остолбенел, не веря собственным глазам: в алеппское подземелье кубарем скатились знатнейшие латинские бароны – граф Триполийский и молодой граф Эдесский! А вослед им по скользкому накату съехал и Боэмунд Антиохийский, возмужавший и переросший отчима на полголовы!
– Бо! Откуда ты здесь?! – Рено помог юноше подняться, тот не признал грязного, отощавшего узника, отпрянул. – Бо, Заика мой дорогой, это же я, Рено де Шатильон! Жослен! Сен-Жиль… – голос его прервался, он тревожно оглядел новоприбывших: – Как вы сюда попали?
Подтаскивал вошедших к свету, тряс, всматривался в каждого, стискивал в объятиях, хлопал по плечам, по спине, целовал, от волнения задыхался. Это же его прошлое, это часть прежней жизни и отобранной свободы ворвалась в каземат! Новички, помятые и ошеломленные, вглядывались в него, стараясь скрыть жалость и страх. Раймунд Триполийский вел себя сдержанней других, он еще с осады Шейзара не ладил с Шатильоном. Жослен III, такой же нескладный и светлый, как покойный отец, воскликнул:
– Да вы отлично выглядите, князь! Отъелись на басурманских харчах! Вот только выбриты небрежно.
– Выбрит – не обрезан, – отшутился Рено. – Что стряслось с Утремером, раз вы все здесь?
Сен-Жиль сухо ответил:
– Утремер уцелеет, если его величество бросит бессмысленную эскападу в Египте и поспешит на помощь северу. – И то ли укоризненно, то ли удовлетворенно заметил: – А о вас давно не было слышно.
С точностью до дня Рено знал как давно:
– Три года, восемь месяцев и двадцать девять дней.
Молодой Куртене, у которого язык всегда был отлично подвешен, поведал о последних событиях и о том, каким образом цвет Палестины угодил в алеппский каземат. Его величество Бодуэн скончался уже полтора года назад, упокой Господь его душу. Новый венценосец Амальрик задался целью подчинить себе Египет, но пока он воевал на юге, северу приходилось нелегко. Король хоть и не из тех блистательных полководцев, которые очертя голову бросаются в любую битву и увлекают за собой армию, зато он упорный и настойчивый стратег и давно покорил бы этот гнилой халифат, если бы его не стреножила собственная пагубная нерешительность. Она у Амальрика не от трусости, а от чувства долга и осознания лежащей на нем ответственности. А вдобавок каждый раз, когда его армия стоит под стенами Бильбейса, Каира или Александрии, Нуреддин поспешно развязывает враждебные действия в Сирии. Зато с тех пор как уступили ромеям суверенитет над Антиохией, словно вытащили шип из сапога: отношения с греками теперь самые дружественные. В прошлом году вместе с войсками византийского губернатора Киликии Константином Коломаном напали на сарацин в долине Бекаа. Победа была полной, да только Нуреддин все же выскользнул из рук сальным обмылком, босым удрал на обозной кляче, даже саблю бросил. Впрочем, басурманским атабекам не часто случается пасть в бою или попасть в плен – трусы сами полки в бой не ведут, следят за сражением откуда-нибудь с пригорка, так что в случае поражения первыми задают стрекача.
Этой весной Зангид послал в Египет своего лучшего военачальника Асада Сиракона-Ширкуха, прозванного язычниками Горным Львом Веры, того самого, который сразил Пуатье на Инабском поле. Со старым львом отправился и львенок – его племянник Юсуф ибн Айюб, и пока Амальрик дрался с ними на берегах Нила, Нуреддин осадил Харим. За нехваткой иерусалимской армии по всему северу объявили всеобщий арьербан – призвали каждого, способного держать оружие, даже монахов поставили в строй пехотинцами. К шестистам рыцарям и двенадцати тысячам франкских пехотинцев и на этот раз присоединились доблестный севастократор Коломан с отборными ромейскими войсками и армянский царь Торос вместе с братом Млехом. Сообща поспешили великой ратью на подмогу Реджинальду де Сент-Валери, из последних сил удерживающему Харим.
Рено представлял, как двигались с мерным грохотом полчища, как реяли над головами пестрые баннеры, трубили горны, ржали жеребцы, сверкал металл, как понеслась стеной христианская рать и опрокинула врагов. Туда, в сечу, к соратникам, рубящим врагов плечо к плечу, хотелось так отчаянно, как хочется размять годами скрюченное тело. Шатильон в пламя помчался бы, лишь бы не гнить в вонючем подземелье.
– Язычники от нас сломя голову улепетывали. Торос предупреждал не увлекаться преследованием, мнимое отступление – их излюбленный маневр, но Заика не выдержал, помчался за ними, – Жослен пожал плечами, – ну и мы в стороне не остались.
Бо обиженно пробасил:
– Если бы не засада и не болото, я бы покончил с тюркской собакой. И если бы этот трус Торос не сбежал с пппполя боя.
– Торос не виноват, что оказался опытнее и умнее, – возразил Жослен. Рубенид приходился ему двоюродным дядей, и Куртене никогда не отрекались от армянского родства. – В следующий раз в безнадежной ситуации я тоже сбегу. Подлые нехристи завели нас в болото, развернулись и порубили как жертвы перед алтарем. Кто уцелел, побросал оружие и сдался на милость неверных собак.
Рено промолчал. Сам о следующем разе уже и мечтать не смел. Бо фыркнул:
– А знаете, Рено, кого мы под Харимом видели? Вашего знакомца Усаму ибн-Мункыза, приятеля маман. Он теперь правая рука Нуреддина.
– Я бы никогда не ставил на тех, кто оказался против Усамы, – пожал плечами Шатильон. – Он вроде талисмана, этот эмир. – Пересилил себя, спросил: – А что же с Антиохией? Жива ли моя дочь Агнесса?
Про супругу не спросил. Поначалу отчаянно цеплялся мыслями за нее, как за нить, ведущую на свободу. Констанция не может жить без него, она не бросит, вытащит обратно! Но годы шли, в джуббу попадали новые рыцари, а от княгини Антиохии не доходило ни весточки, ни слова. Он понял, что надежды напрасны, что не только король, но и жена отреклась от него, предала, и это причинило такую обиду, породило такую боль и ненависть, что он ответил ей тем же: отрезал от себя все думы о той, с которой было прожито семь лет и прижито единственное дитя. Время шло и так много его утекло, что постепенно удалось забыть ее. Бесконечными днями и ночами вспоминал Рено каждый день прошлой жизни, только мысли об этой женщине научился обходить, как обходит опытный кормчий губительные отмели.
Заика вздернул подбородок:
– Агнесса в Константинополе, пппри дворе Марии. А мать в своих вдовьих поместьях – в Латакии и Джебалии. Присмирела, о бедных заботится, церкви строит. Святая стала, кроткая. Письма мне ласковые пишет. Я с ней примирился. Одна Филиппа осталась в Антиохии, замуж идти отказывается, неземную любовь ждет, дурища. Это все эти куртуазные истории про всяких Ланселотов и Гвиневр ее с толку сбивают.
Пасынок никогда не был особо крепок умом, всегда был капризным и самовлюбленным, и княжеская корона хоть и прибавила ему высокомерия, но из-под его надменности по-прежнему, как кривые ноги из-под короткой котты, торчали его неопытность и неуверенность.
– Кузине Констанции есть, что замаливать, – Раймунд Сен-Жиль поджал тонкие губы.
Заика и не подумал за мать вступаться, а Шатильон не стал расспрашивать. Все, что касалось Констанции, стало неважным, он даже не помнил, любил ли ее когда-либо. Словно спустился в царство мертвых, куда не проникали даже воспоминания об оставшихся наверху.
Жослен огляделся, скорчил мину:
– Н-да, тут не очень уютно… – Обернулся к Заике: – Князь, как только выберетесь, похлопочите за нас на свободе.
– Ппппочему я?
– Потому что вам долго сидеть не придется. Вы родич Мануила, а Нуреддин не станет связываться с ромеями. Он греков боится. Василевс непременно поспешит вас выкупить. Вы для всех – самый подходящий правитель Антиохии.
– Что значит «самый ппподходящий»? Я единственный законный правитель Антиохии! – Бо надулся, выпятил губу точь-в-точь, как это делала Констанция, и у Шатильона засосало в груди.
– Не думаю, что Нуреддин беспокоится о законности, но он вряд ли захочет, чтобы Иерусалим прислал в Антиохию воинственного Онфруа де Торона. Или чтобы Византия просватала Филиппу за какого-нибудь могущественного греческого Галахада!
Заика покраснел, забрызгал слюной, перебираясь через слова, как через каменистое поле:
– Византия никогда нннне позволит никому другому ппправить Антиохией, я – брат императрицы! Ззззато вам, Куртене, тут еще ссссидеть и ссссидеть. Вашу-то сестрицу из королевской постели попросили.
Шатильон вскочил на ноги:
– Друзья, не стоит ссориться. Бо, сын мой, конечно, ты освободишься первым. Ты о Паскале тогда позаботься. Тамплиерам труднее всех из плена вырваться, а у Амальрика, небось, куры золота не клюют, если ему Египет теперь дань платит?
Бо напыжился, давая понять, что сам решит, о ком заботиться, но Шатильон не замечал, суетился как радушный хозяин: разбросал вдоль стен солому и тростниковые циновки, показал, в каком углу подземелья расположен нужник над бездной, где вода капает со свода:
– Заика, устраивайся в углу. Жослен, тащите вашу охапку ко мне поближе.
Потирал руки, объяснял здешние порядки, строил планы:
– С утра можем вместе молиться, потом упражнения. Это важно, это держит. Будем состязаться, соревноваться. У нас шахматные фигурки имеются, из мякиша вылепили, будем играть. Арабский с тюремщиками учим, они охотно помогают, думают, так мы к их магометанской вере придем, но Господь хранит. Раз в неделю во двор выпускают, бреют, сволочи, тупыми ножами, зато можно побыть на воздухе, на солнце…
Новичков, конечно, жаль, смертельному врагу не пожелаешь тут оказаться, но какое счастье, что они с Паскалем больше не одни!
Сен-Жиль сморщил длинный нос:
– Воняет тут у вас. Я, пожалуй, у окна устроюсь.
Шатильон чувствовал неприязнь графа Триполийского и не хотел ссоры, но под окном было место Паскаля, а Лаборд, Рено знал, никогда не станет спорить. Но здесь, в его, Шатильона, яме, не знатность все будет решать. Само вырвалось:
– У окна Паскаль.
– Брат-храмовник подвинется, не так ли?
Паскаль безропотно отодвинул ногой драное одеяло и свои поделки:
– Мне все равно, где ангела-хранителя во сне видеть. Скажите, а тамплиеры были с вами в бою?
Жослен угрюмо пробормотал, избегая взгляда Лаборда:
– Были и рыцари, и сержанты. Шесть десятков рыцарей погибло, говорят, только семеро спаслось. Вы же знаете, брат-храмовник, неверные собаки оставляют в живых только тех, за кого надеются получить выкуп.
Все безмолвствовали, поэтому Рено воскликнул с нарочитой веселостью:
– Ну, за меня им вряд ли кто даже старый плащ отдаст. И Мануил, последняя надежа христианских пленников, тоже не станет печься о тех из нас, кто его Кипр разорял.
Сен-Жиль отмахнулся от мухи, но так резко и с такой досадой, словно Шатильона отгонял. Триполи был низеньким и невзрачным, его нос перевешивал, но вел себя с раздражающим высокомерием. Жослен взбил сапогом жидкий слой соломы:
– Рейнальд, все же ромейская императрица – ваша падчерица. А у меня, как правильно заметил наш остроглазый Заика, родственниц в постелях помазанников больше не имеется.
Рено не ответил. Безнадежное положение Жослена не утешало, но ему легче было с такими же покинутыми, как он сам. Граф Триполийский даже к новому князю Антиохии относился свысока, а Заика вообще никого, кроме себя, не замечал. Хотя нет, рослый и крепкий Бо после каждой фразы оглядывался на замухрышку Сен-Жиля. Он его побаивался, как огромный барбос порой побаивается злой кошки. Но Куртене, Шатильона и Паскаля оба владетельных принца за равных явно не считали: Лаборд – простой брат монашеского рыцарства, у парвеню Шатильона больше ни кола ни двора, а лишившемуся Эдессы Жослену король, правда, пожаловал в лен некоторые земли вокруг Акры, да их на арену для турнира не хватило бы. Однако Рено не собирался терпеть тут, в каземате, чужую спесь. Без злорадства, но твердо сказал:
– Нуреддин не любит отпускать знатных пленников. Ему приятно иметь франкских принцев в своих закромах. Мы у него вроде драгоценных камней в сундуке скряги. Так что у всех нас тут только одна эта темница, придется поровну делить ее на графства и на княжества.
Явился Али, как всегда лениво ругаясь, спустил на веревке корзину с ужином. Принцы вскочили, закричали, требуя освобождения, встречи с Нуреддином. Еще не знали, как напрасны тут вопли и мольбы. Шатильон вытащил из корзины грязную миску с чечевичной кашей, пресные лепешки-питы, финики и изюм:
– Черт бы их драл, нас втрое больше, а еды столько же.
Боэмунд сморщился, увидев грязно-бурую массу, Жослен тоже отпрянул, учуяв вонь кушанья:
– Этой гадости и так слишком много.
– Раньше было еще хуже. Одним рисом пытались нас кормить. Но на таком количестве пищи нам не выдержать. Мы ослабнем. Надо добиться, чтобы увеличили порции.
– И чтобы не давали этой дряни, – вознегодовал Заика, – я хочу мяса и вина.
Один Паскаль невозмутимо зачерпнул ложкой мерзкую бурду, пробормотал слова псалмопевца «Были слезы мои мне хлеб, день и ночь» и принялся за еду.
– А как вы собираетесь добиться своего, Шатильон? – Сен-Жиль недобро сузил пронзительные глаза.
– Тут есть только один способ настоять: отказаться есть и быть готовым голодать до конца, если не уступят.
Заика дрыгнул ногой:
– Мерд, я не позволю проклятым басурманам морить меня голодом. Я с вами, Рено, рискнем.
Сен-Жиль одним движением руки осадил вышедшего из-под его влияния князя:
– А вы уже пробовали таким образом чего-нибудь добиться, мессир?
– Пробовал, когда требовал освобождения умирающего Альберика.
– И тюремщики уступили?
Сен-Жиль спрашивал с сомнением, и Шатильону было приятно срезать его:
– Вы же видите меня перед собой живым, нет? – Однако, чтобы этот самоуверенный Триполи знал, на что идет, Рено добавил: – Правда, в отместку сволочи казнили труса и нытика Шарля. Если мы выставим требования, нам придется стоять до победы и быть готовыми к любому наказанию. Один раз сломаемся, уступим, нашим угрозам уже никогда никто не поверит. – Не удержался, поддел надменного триполийского урода: – Но может, граф, вы слишком любите свою красивую голову, чтобы рисковать ею?
Заика сидел с открытым ртом, ожидая решения желчного Сен-Жиля. Куртене уперся узким подбородком в колени и слушал, кусая губы. Триполи криво усмехнулся:
– Я не боюсь, я… – задрал подбородок, задумался, потом процедил с презрительной миной: – Я нахожу это неразумным. У вас, Шатильон, удивительное умение превратить плохую ситуацию в ужасную. Возможно, вы не цените собственную жизнь, но князя Антиохийского, – кивнул на Заику, – наверняка скоро выпустят, ему-то зачем своей головой рисковать? Опять же, брат-храмовник… – обернулся к Паскалю: – Вас не тревожит, что, когда тюремщики сердятся на несгибаемого Рейнальда де Шатильона, они имеют нехорошую привычку вымещать злобу на менее ценных узниках?
Лаборд спокойно поставил миску на пол:
– Нет, не тревожит. Если ценой моей жизни спасетесь вы, пусть будет так. Я все равно никогда не освобожусь, даже если бы король Амальрик за меня все сокровища Аравии предложил. Но смерть нисколько не хуже, чем эта жизнь, и я не настолько дорожу этим вонючим подземельем, чтобы не променять его на хорошее местечко в Царствии Божием.
Рено скрипнул зубами, он с самого начала почуял враждебность Триполи.
– Я не жертвую Паскалем, наоборот, я предлагаю всем действовать заодно, а не делиться на тех, кому есть что терять и кому нечего. Поодиночке нас сломят.
Сен-Жиль надменно проронил:
– Вы, Шатильон, и раньше были без царя в голове, и сейчас пытаетесь подбить нас на опасные действия. Я хочу выжить и хочу, чтобы выжили все остальные, а всё, чего вы хотите, это победить любой ценой, и чтобы мы строились за вами. Вы готовы развязать противостояние, в котором мы совершенно бессильны, а наши тюремщики всесильны.
Слова Сен-Жиля были, конечно, оскорбительны, и прежний Шатильон бросился бы на наглого заморыша – решить их спор силой. Но годы заключения изменили Рено, к тому же он тут дольше всех, он ответственен за новичков и потому не станет спорить. Готовность выжить любой ценой отвратительна, она противоречит рыцарской чести, но Сен-Жиль – умный, собака, и с собачьим нюхом выискал слова, подорвавшие готовность остальных бороться. Рено пожал плечами:
– Бессилен тот, кто цепляется за жизнь и не готов ею рискнуть. Если бы басурмане хотели нас убить, они могли бы это сделать, но они хотят нас унизить, превратить в рабов, а тот, кто боится смерти, непременно станет рабом. Шарль поплатился именно потому, что вызвал презрение обрезанных, они уважают одну силу. Но решайте, как хотите. Хотите терпеть постоянный голод и медленно загибаться от недоедания – ваше право.
Куртене захрустел пальцами, сказал примирительно:
– Да чего вы ждете от нас, Рено? Если бы мы были готовы бороться до конца, наши тела сейчас клевали бы птицы на поле боя. Мы сдались с целью выжить. Какой же смысл после этого бесславно погибнуть за лишнюю лепешку? Теперь у нас осталась только одна возможность победить – выжить и дождаться освобождения. – Потянулся к миске, добавил: – Сен-Жиль прав: первым пострадает храмовник. Может, Паскаль и готов собой пожертвовать, но я никем жертвовать не готов, особенно собой.
– А ради чего тут жить, Жослен? Посмотрите вокруг, мы как крысы в норе.
– Каждый день может что-то случиться: нас выкупят, Нуреддин помрет… Поэтому, если это единственная пища, я готов ее есть.
Подхватил ладонью горсть каши и, стараясь не дышать, отправил ее себе в рот. Заика смотрел на Куртене, как на базарного фокусника, заглатывающего змею:
– Ну кккак?
– Гадость, князь. Но, боюсь, фаршированных молочных поросят и седло зайца здесь не подадут.
Бо сглотнул слюну:
– А ппппомните, Шатильон, на пиру в честь императора тридцать блюд в ттттри перемены накрывали?
– Еще бы! В первой перемене перепела, куропатки, фазаны, павлины, каплуны, цапли, курицы, гуси, все в собственных перьях, со всех жир капает…
– Пироги с жаворонками в лимонном или апельсиновом соусе, с шафраном, с мускатным орехом, окорока в кардамоне, – подхватил Жослен, отрывая кусок сохлой питы.
Даже Сен-Жиль не выдержал, хрустя луком, припомнил:
– А вторая перемена – рыба речная и морская: карпы, угорь копченый, миноги, крабы и щуки, рыбное заливное. И все в сметанном соусе, с подливками, с перцем, под растопленными сырами. Остатками наших пиров тысячу бедных кормили.
Заика с отвращением уставился на жижу в миске:
– Ааааа! Я не могу тттак! Я есть хочу! – Злобно ударил кулаком по стене. Его лицо, одновременно похожее на лицо Констанции и вместе с тем неприятно чужое, страдальчески сморщилось.
– Да что ты, Бо, – фыркнул Рено. – Здесь ни мамушек, ни слуг, ни пажей, ни оруженосцев. Решил жить любой ценой – так вот эта цена. Привыкай.
– Этттто вы привыкайте, а я – князь Антиохии, я – зять ромейского императора! Когда освобожусь, ппппервым делом женюсь на любой родственнице Мануила, хоть косой, хоть горбатой, лишь бы василевс о ней пёкся! И любого греческого попа по его выбору на ппппатриарший престол посажу.
Заика разбросал ноги по полу, надулся, совсем как в детстве, сквозь мужские черты его лица постоянно проступал облик Констанции. Шатильон потрепал пасынка по колену:
– Да не волнуйся, Бо, привыкнешь, смаковать будешь. И будет чем на императорском пиру хвастаться.
Паскаль, стесняясь, тихо сказал:
– Я на таких пирах отродясь не бывал, но все бы сейчас отдал за яблоки моего детства. Такие у нас в Оверни они росли крупные, сладкие, наливные, хрустящие… – Уставился слепо в темноту каземата: – Однажды снег рано выпал, и алые яблоки падали прямо в снег и лежали на нем, как красные сердца… – Смущенно признался: – Я по ним больше всего тоскую.
Все приуныли.
– Я бы сейчас даже хлебу, который мы собакам кидали, обрадовался, – вздохнул Жослен. – На воле буду наслаждаться каждой крошкой, мне и императорского пира не надо.
Шатильон привычно подтер куском питы остатки каши в треснувшей, жирной, никогда не мывшейся миске, сверкнул на Жослена светлыми очами из-под темных бровей вразлет:
– Куртене, на какой воле? Не вы ли уверяли, что о нас с вами никто не станет беспокоиться?
Лицо у Жослена III было бледное, неказистое, с такими расплывчатыми чертами, словно его стирали до тех пор, пока с него не смылось все, за что мог зацепиться глаз. Но с этой невзрачной физиономии на Рейнальда глядели умные глаза. Граф Эдесский ответил твердо, без тени сомнения:
– Да что вы, Шатильон. Это Мануил и Амальрик о нас не станут беспокоиться, а тот, кто пророка Даниила в такой же яме ото львов защитил, тот непременно нас спасет. А если и Он не справится, то уж моя Агнес непременно нас отсюда вырвет. Сестрица за меня любому атабеку глотку порвет. И вас она вряд ли забыла, сколько бы мужей у нее не перебывало.
Рено отложил миску, кивнул на стену:
– Граф, я бы не стал убивать вашу надежду, но рано или поздно вы и сами увидите: взгляните на надпись над вашей головой. Ее написал кровью несчастный слепец, который тоже надеялся здесь пять лет назад.
Жослен привстал, повернулся к стене, нашел почти стертую бурую надпись, некоторое время недвижно смотрел на нее, потом прижался к корявым, нечетким буквам лбом и долго стоял с закрытыми глазами. Все молчали. Наконец Куртене с силой втянул в себя воздух, повернулся к остальным. Глаза у него блестели, но голос был сух:
– Мы не крысы в норе. Мы – зерно в зимней почве, мы – пустыня, дожидающаяся разлива Нила. Мы будем свободны. Будем. И тогда мы отомстим за каждую гнилую фасолину, за каждое унижение, за каждую каплю крови, за каждый украденный у нас день жизни.
Рено пронзила дрожь и ледяной щекоткой дошла до корней волос. В невыносимой тьме собственного малодушия и отчаяния, в сумерках терпения и мученичества Паскаля вдруг засветила указанная Жосленом цель – выжить, чтобы отомстить. Он стиснул руку графа:
– Да, Жослен. Вот теперь мне действительно было бы обидно сгинуть тут.
* * *
На белоснежном скакуне, покрытом драгоценным персидским ковром, сгорбившись, потея и пребывая в отвратительном расположении духа, в начале августа 1167 от Рождества Христова его величество король Иерусалима Амальрик I въезжал в распахнутые ворота первого сдавшегося ему египетского города – легендарной Александрии, крупнейшего порта Леванта, через который в Средиземноморье текли неисчислимые богатства Индии.
За четыре года царствия помазанник третий раз являлся в библейскую Землю Гошен и каждый раз совершал все, что было в человеческих силах, дабы не позволить полководцу Нуреддина Асаду Сиракону-Ширкуху завладеть халифатом, который становился тем благожелательнее к франкам, чем больше нуждался в их защите. В отличие от бешеных суннитов, фатимидские шииты откладывали джихад против неверных до пришествия сокрытого до конца света имама, а до той поры надеялись использовать латинян к собственной выгоде: нынешний правитель страны Нила – визирь Шавар – уже несколько лет опирался исключительно на рыцарские мечи. Чтобы уберечь дружественную власть, Амальрик осаждал непокорные Шавару города, охранял покорные и ограждал Вавилон от полчищ Сиракона. Король выжидал удобного случая завоевать Египет, однако каждый раз отвлекали события в Сирии. Три года назад он был на грани полной победы, но Нуреддин спутал его планы, захватив в плен князя Антиохии с графом Триполийским и осадив Антиохию. Амальрику тогда пришлось безотложно договариваться со Львом Веры об одновременном выходе из Египта и мчаться на помощь северному флангу Утремера.
Этой зимой стало известно, что неуемный Сиракон снова направляется в Египет. По всему королевству немедленно объявили арьербан, и все, кто по каким-либо причинам не мог участвовать в походе, уплатили десятину, даже церковные владения. Конечно, те, кому пришлось раскошелиться, тут же заклеймили монарха алчным сребролюбцем. Но Амальрика постоянно обвиняли в скупости и скаредности люди, которым своя мошна оказывалась дороже Святой Земли.
Собрав ополчение, латиняне двинулись в Египет короткой Виа Марис, чтобы опередить сельджуков, пока те спешили по пустыне за Содомским морем, с помощью бедуинов определяя путь днем по солнцу, по рельефам гор, по хребтам дюн, а ночью – по Северной звезде. Асаду Сиракону, сдается, сам Сатана помогал: он все же обогнал Амальрика, встал лагерем у подножья фараоновых пирамид в Гизе и попытался склонить визиря Шавара на свою сторону, уговорить его предать христианских союзников. Но визирь отказался, ибо только поддержка франков могла избавить его от всякого рода мрачных предчувствий и сокрушить его врагов, из которых сам Горный Лев Асад был первым, а Нуреддин – вторым. Так что Шавар, напротив, пообещал королю четыреста тысяч слитков золота, лишь бы тот не покидал Землю Плодородного Полумесяца, пока в ней остается нечестивый Ширкух-Сиракон. Но Амальрик, сознавая, с кем имеет дело, поставил условием, чтобы его с Шаваром соглашение подтвердил лично сам халиф.
Гуго, сеньор Кесарии, и говоривший по-арабски казначей храмовников Жоффруа Фуше – египтяне настояли на присутствии одного из тамплиеров, ибо знали, что их слово нерушимо, – были допущены в святая святых фатимидов – во дворец халифа, куда доселе не ступала нога латинянина. Послы узрели невероятную роскошь, дивных зверей, неведомых птиц, сады и фонтаны, которым не имелось равных даже в Константинополе. Халиф аль-Адид оказался высоким юношей с пробивающейся бородкой, вавилоняне простирались перед ним ниц, и сам Шавар целовал его туфлю, но прямой и доблестный Гуго этим не смутился, потребовал, чтобы халиф скрепил договор рукопожатием. После некоторого замешательства и объяснений евнухов аль-Адид сообразил, что без защиты франков не доживет до следующего намаза и уступил: наместник Магомета снял перчатку и вложил мягкую, холеную длань в заскорузлую ладонь честного рыцаря, хоть и сделал это без видимой радости.
От посланников короля не ускользнуло, что Каирский Вавилон несметно богат и беззаступен, как отара без собаки, виноградник без ограды и рай без апостола Петра.
Сначала армии Амальрика и Сиракона долго стояли друг против друга на противоположных берегах Нила, затем маневрировали по Египту, потом снова заняли выжидательные позиции. Амальрик любил действовать наверняка и медлил начинать бой.
Копыта дестриэ вязли в здешних песках, и египетские его союзники были вояками слабыми и ничтожными: суданцы, берберы и армяне – все эти рабы или наемники более мешали, нежели приносили пользу. А несметная армия Сиракона состояла из тюрков, курдов и мамлюков, чуть не с пеленок упражнявшихся в стрельбе из луков в человеческий рост и с младенчества не покидавших седла. Благоразумный и осторожный монарх мешкал до тех пор, пока во сне не явился ему святой Бернард и не осудил строго, сказав, что такой защитник Гроба Господня недостоин кусочка Животворящего Креста на своей груди.
Уже на следующий день Амальрик вышел на поле брани и необъяснимым образом потерял множество людей и весь обоз. Не иначе, как кто-то из его воинов вступил в бой не с чистым сердцем, не покаявшись в смертном грехе. Не могли же без причины пострадать столь многие: погиб отважный Евстафий, понес тяжкое ранение епископ Вифлеемский Радульф, а Арнульф из Турбесселя и Гуго Кесарейский – те и вовсе угодили в руки вавилонян! Эх, дорого обошлось христианину пожатие руки халифа. По счастью, Тот, Кто наказывает и исцеляет, Кто поражает и дает жизнь, Тот и теперь не пожелал, чтобы Его наследие уничтожилось вконец, подобно Содому и Гоморре – Амальрик все же сохранил большую часть армии.
Однако Сиракон захватил Александрию. Оставил одного из молодых эмиров, своего племянника Юсуфа ибн Айюба, защищать ее, а сам помчался разорять прочий Египет. Франки осадили порт. За три месяца блокады жители изнемогли от голода, и Сиракон согласился сдать Александрию при условии, что обе армии – сельджукская и франкская – вновь покинут Египет, а город вернется фатимидам.
Ополчение Амальрика к этому времени тоже дошло до полного изнурения. Притом, едва королевская армия двинулась в земли южного соседа, Нуреддин по своему злокозненному обычаю напал на сирийские рубежи Утремера. На сей раз захватил Акаф, сравнял с землей Шатонёф, защищавший дорогу между Дамаском и Тиром, и покусился на земли Триполи, чей владелец уже три года томился у него в заточении. Ненасытный Зангид грыз северные владения латинян, как мышь головку сыра. Самой тяжкой потерей в последние годы стал Белинас-Баниас – важнейшая твердыня, оборонявшая территории Иерусалима от Дамаска, и святое место, где апостол Петр получил ключи от Царства Небесного. Вдобавок перешла в нечестивые руки и возведенная Амальриком неподалеку крепость Нимрода. Теперь границу сторожил один Бофор. Взвесив положение, король благоразумно согласился на условия Сиракона.
Поэтому сразу вслед за Амальриком, под оглушающий грохот дьявольских барабанов, трезвон бубнов и пронзительный писк зурн, под сенью зеленых знамен Фатимидов и в сопровождении собственных никудышных воителей, в ворота Александрии подбоченившись въезжал будущий хозяин города, единственный, кто извлек пользу из усилий, мук и жертв франков – визирь Шавар. Из предосторожности в этот жаркий августовский полдень бравый вояка был одет в стеганую казаганду, в которой под шелком пряталась кольчуга, и даже из-под чалмы на горло трусливого визиря спускалась кольчужная сетка.
И уж окончательно портила Амальрику триумфальный въезд последняя досадная мелочь: несмотря на годы походной жизни венценосец стал так тучен, что живот свисал с седла, и приходилось постоянно менять устающих под ним коней.
Город Александра Магнуса заполнили любопытствующие победители. Братались с недавними врагами, сводили счеты, шатались напоследок по прямым, ведущим к морю, улицам, изучали укрепления, которые только что осаждали, заглядывали в мечети и в церкви коптов, любовались колоннадами, садами, мраморными зданиями, а более всего восторгались высоченным путеводным маяком, изумлявшим еще древний мир. На гигантской башне Фароса гордо, хоть и ненадолго, реял Иерусалимский штандарт.
Вечером в королевскую ставку прибыл племянник Сиракона Юсуф ибн Айюб, возглавлявший оборону Александрии. Молодой эмир ничем не напоминал дядю – низенького и жирного курда с бельмом на глазу, над внешностью которого потешались даже его собственные солдаты. Племянник был невысоким, хрупким, с аккуратно подстриженной бородкой на ввалившихся от осадного голода щеках. Глаза у эмира были живые, умные и без бельм. Юсуф поклонился и почтительно, но как к равному обратился к монарху-победителю:
– Доблестный и справедливый аль-Малик Морри ибн Фулк, я много наслышан о чести франджей. Я слышал, вы даже настояли, чтобы сам лжехалиф шиитов аль-Адид совершил немыслимое – обнаженной рукой скрепил договор с вами. Разве вы не поклялись, что жителям и нашим сторонникам не будет причинено никакого зла? А в эту минуту приспешники Шавара режут, грабят, насилуют и обращают людей в рабство. Они убивают не только жителей аль-Искандарии, но и ваше слово и вашу честь, благородный аль-Малик.
Ну, не одни люди Шавара сводили счеты со сторонниками Сиракона. Настрадавшиеся во время осады горожане тоже спешили отомстить захватчикам-суннитам. Но нельзя было подать Льву Асаду повод остаться в Египте, поэтому его величество тут же послал к визирю гонца с требованием прекратить безобразия и даже предложил Юсуфу предоставить его раненым и больным лодки, которые довезут их до Акры. Молодой магометанин учтиво и с благодарностью принял предложение и попросил допустить к ним местных лекарей – сирийца Сулеймана ибн Дауда и яхуди Мусу бин Маймуна.
Тем временем слуги внесли скромный полевой обед. Король указал на стол:
– Эмир, окажите мне честь, будьте моим гостем. У меня египетский повар.
Айюбид невольно бросил голодный взгляд на дымящееся блюдо баранины, но принялся отнекиваться. Этих басурман всегда приходится уговаривать. Наконец согласился, учтиво поблагодарил, попросил только, чтобы накормили и его оставшегося снаружи евнуха-раба Каракуша. За столом молодой человек тоже умел себя вести: ополоснул руки, пробормотал свои негодные молитвы, терпеливо, опустив глаза, дождался, чтобы хозяин закончил свои, и только после понуканий и увещеваний взял с блюда небольшой кусочек мяса, хоть руки его и тряслись от голода. Амальрик, который сам чрезвычайно любил поесть, не выдержал, стал подкладывать гостю наиболее жирные и вкусные куски. Юсуф слабо отказывался:
– Облака вашей щедрости и снисходительности щедро поят мою нужду, благородный аль-Малик Морри.
Настроение завоевателя Александрии исправлялось с каждым проглоченным куском и с каждой похвалой гостя.
– Вам нелегко пришлось во время осады, а? – спросил он с искренним участием.
– Нелегко, – просто согласился эмир, – но я бы скорее умер от голода вместе со всеми остальными жителями, чем сдал бы вам город без приказа исфахсаллара Ширкуха, хоть мне и было очень жалко жителей.
Король посмотрел на эмира с любопытством:
– Мы зовем вашего дядю Сираконом. Он необычайно умелый и отважный военачальник, и я заметил, что он пользуется безграничной преданностью всего своего войска. Даже мы, франки, отдаем должное Горному Льву. Поистине, мне жаль, что мы вынуждены враждовать. Если бы все мусульмане были такими, как ваш дядя и вы, Юсуф, мы бы давным-давно договорились.
Юсуф вскинул на короля меланхоличные глаза цвета угля:
– Ваше величество, вы замечательный человек, благородный и достойный, вы незаслуженно добры ко мне и милосердны к пленным и раненым, и я испытываю к вам благодарность, уважение и приязнь, но… – Он подождал, пока драгоман перевел и продолжил: – Но мы никогда не сможем договориться, потому что мы правоверны и покорны Аллаху, а вы, какими бы достоинствами вы не обладали, у вас нет главного – вам не открылся свет истины, высокородный и достойный аль-Малик Морри. И вы забрали у правоверных то, что дорого нам, как сын отцу, как возлюбленная страстно влюбленному, как дорога человеку зеница его ока – Аль-Кудс. Поэтому мы будем усердствовать на пути Аллаха, покуда любой ценой не заберем у вас нашу святыню обратно и не изгоним всех франджей из Дар аль-Ислама, земель ислама. – Улыбнулся мягкой улыбкой: – Впрочем, местные христиане смогут продолжать жить под нашей властью, как жили всегда.
Прямота и спокойная убежденность сарацина подкупали, хоть король не понимал, как мог искренний и разумный человек упорствовать в столь чудовищных заблуждениях и питать столь необоснованные надежды.
– Мусульмане, даже сунниты, даже ваш повелитель Нуреддин, прекрасно заключали с нами мирные договоры!
– Мусульмане договариваются с кафирами либо для того, чтобы спасти себя, либо чтобы выиграть время, набраться сил и тогда напасть на вас.
– Вот поэтому мы и считаем вас коварными!
Юсуф улыбнулся и лицо его вновь из печального преобразилось в открытое и доброе:
– Обещаю, что всегда буду договариваться только на условленный срок и постараюсь никогда не нарушать заключенного соглашения. – Подумал и прибавил: – А если придется нарушить – предупрежу.
Виночерпий наполнил кубки. Эмир от вина не отказался, однако лишь омочил в нем губы. Он был умен, этот племянник Льва, а рассудительностью напоминал королю его самого. Амальрик ответил столь же откровенно:
– А я обещаю вам, что вы никогда не сможете захватить город страстей Иисусовых, и ради этого я сделаю все, что в моих силах. Но это не мешает мне тоже испытывать к вам искреннюю симпатию, эмир. Оставайтесь моим гостем до вашего отбытия в Сирию, в Александрии для вас теперь небезопасно. Мы постараемся быть учтивыми и внимательными хозяевами. Ваш недавний пленник Арнульф из Турбесселя послужит вам личным телохранителем, чтобы никто не вздумал оскорбить или задеть вас.
– С удовольствием останусь, уважаемый аль-Малик, ибо испытываю полное доверие к вам, и кроме того, от моей смерти вам не проистекло бы ни малейшей пользы.
Амальрик закатился таким смехом, что заколыхалась даже грудь:
– Даю вам слово христианского рыцаря, что пока вы мой гость, я не буду замышлять против вас ничего дурного.
Да какой был бы толк в гибели молодого и неопытного Сираконова племянника? Но редкий случай расположить к франкам родича и пособника своего противника король упускать не собирался. К тому же новый знакомый и впрямь вызывал невольную приязнь. Поэтому, когда эмир признался, что голод заставил жителей Александрии съесть всех лошадей, его величество тут же преподнес эмиру в дар выносливого и послушного дестриэ. Про Амальрика болтали, что он прижимист, и он сам первым признавался, что корыстолюбив, но корысть – она разная бывает, за иную и драгоценного коня не жалко. У Юсуфа на глаза навернулись слезы, он явно расстроился, что у него не оказалось ответного равноценного дара:
– О, аль-Малик Морри, мне пришлось помогать голодающим, и у меня не осталось средств даже на закят, обязательную милостыню, – пробормотал он смущенно. – Все, что я могу предложить, это мои клюшки для поло. Это очень хорошие клюшки. Я ведь в Сурии был постоянным партнером султана Нур ад-Дина в этой игре.
– Мой друг, если вы будете столь добры, преподнесите мне такой дар, который не может сделать никто другой: уговорите Нуреддина проявить милосердие к нашим северным принцам, которых он держит в Алеппо: смягчить условиях из заключения. – Эмир превозносил Амальрика, и ему было приятно в ответ продолжать поражать гостя заботой о ближних.
– Обещаю вам это, – улыбка вновь преобразила серьезное лицо Юсуфа. – Я много всякого слышал о ваших обычаях, но впервые наглядно убедился, что франджи могут быть щедрыми, благородными и милосердными, великий государь.
Король покраснел от приятного смущения. С каждой минутой гость нравился ему все больше:
– Не сомневаюсь, что вам пришлось выслушать полно наветов на нас! По вашему мнению, мы высокомерны, глупы, грязны и невежественны! А между тем в западном мире процветают науки, искусство и ремесла, мы ценим свободу, мы не поклоняемся правителям как божествам и не ввергаем подданных в рабство. Истинный рыцарь беззаветно предан сюзерену, защищает вассалов и благороден с врагами. Он должен быть учтивым, сдержанным, сострадательным и щедрым.
Король наставительно подчеркнул:
– Помните, друг мой, нет лучшего средства завоевать сердца, чем безграничная щедрость принца.
Недальновидные люди, упрекающие Амальрика в стяжательстве, не понимали, что монарху необходимо иметь средства, из которых он потом может осыпать своими милостями! Но басурманский эмир согласился:
– Да, Пророк сказал: «Когда щедрый оступается, Аллах берет его за руку!»
– Ммм… Аллах за руку? Ну это, наверное, только тех, на ком креста нет, – помазанник потрогал висящую на груди реликвию и, успокоившись, продолжал: – Христианский рыцарь обязан помогать обездоленным и защищать бессильных, и если мы уступаем вам в чем-то, – Амальрик подставил кубок кравчему и подмигнул гостю, – так только в количестве жен, но зачем иметь много сварливых жен, когда можно иметь сколько угодно ласковых возлюбленных?
Довольный, гордый собой и всеми прочими латинянами король лихо опрокинул кубок, пока драгоман переводил.
– Хвала Аллаху, облагодетельствовавшему нас исламом, он заповедовал каждому мусульманину все то, что у вас предписано только рыцарям! – лукаво заметил гость.
– Э, нееет! – Амальрик покачал пальцем, чуть заикаясь от приятного волнения. – Рыцарь должен обладать не только совершенно незапятнанной честью, но и иметь ясное разумение. У него должно быть дддва сердца: одно крепче алмаза, а другое мягче воска, и превыше всего он должен всегда стремиться совершать поступки, которые принесут ему славу, и ценой жизни избегать пппоступков, способных опозорить его.
Эмир уточнил:
– Значит, вы никогда бы не нарушили свое слово?
– Никогда! – король решительно икнул.
– Даже слово, данное мусульманину? – теперь Юсуф смотрел серьезно, словно поймал гяура в ловушку.
Его величество снисходительно усмехнулся, прощая неведение язычника, пояснил:
– Если рыцарь дал слово свободно, по собственной воле, то, разумеется, он должен его держать! Без нас мир погрузился бы в хаос. Есть, конечно, святые обязанности христианского рыцаря защищать Церковь, Веру и Господа, которые мусульманам не доступны, но даже вы, сарацины, не отказываете нам в умении сражаться. Вон я с пятьюстами рыцарями и пятью тысячами латников захватил Александрию с пятьюдесятью тысячами жителей. А что, по-вашему, делает нас столь доблестными воинами?
Юсуф ждал ответа, приподняв брови, и монарх торжествующе грохнул кулаком по столу:
– Да то, что костяк нашей армии состоит из рыцарей, и только рыцарям дано сочетать в бою ярость во имя Господа со строжайшей дисциплиной. Ну и Животворящий Крест, конечно. Как африканские слоны оживляются для боя при виде крови, так и рыцари, вассалы Христовы, воодушевляются, видя Животворящий Крест и вспоминая о Страстях Господних. Мы никогда не знали поражения, если шли в бой под этой святой реликвией.
Король откинулся на стуле, любуясь впечатлением от своих слов. Гость миролюбиво заметил:
– Нам никогда не понять, как две сбитые крест-накрест доски смогли бы сделать вас такими же многочисленными, как последователи Пророка, и осушить море, отделяющее вас от ваших собратьев в странах Дар аль-Харба, но я запомню ваше предупреждение насчет Креста.
Амальрик отмахнулся:
– Пока существует вечная Ромейская империя, вам с нами не справиться! Но вы, мой друг, вы тоже обладаете немалой долей рыцарских достоинств: вы мужественно сопротивлялись нашей осаде, вы учтивы с врагом, вы умеете сдерживать свои порывы, вы пришли ко мне просить о других! – Подумал, и великодушно добавил: – Будь вы христианином, вы могли бы превратиться в достойнейшего рыцаря!
Королю уже казалось, что если он докажет преимущества рыцарства, то грядущая победа латинян станет очевидной этому обходительному и приятному родичу Сиракона, а тем самым и неприятному Сиракону, а вслед за ним и ненавистному Нуреддину:
– Если вас интересуют наши обычаи, то мой коннетабль, прославленный шевалье Онфруа де Торон, с удовольствием расскажет вам все об обязанностях и требованиях чести.
Конечно, христианнейший монарх не сомневался, что молодой, незнатный курд жаждал узнать как можно больше о рыцарях, потому что даже в глазах врагов воины Запада являлись необыкновенными, чуть ли не мифическими существами. Недаром сам император Ромейской империи увлекся их несравненными обычаями и пытался подражать им!
– Аль-Малик Морри ибн Фулк, я тронут и принимаю ваше предложение с таким же чистым сердцем, как вы его сделали. И я постараюсь всегда, когда смогу это исполнить, не подвергая опасности священный джихад, действовать по отношению к вашим людям так, как требует того честь.
Амальрик откинулся от стола, распустил передавивший брюхо пояс. Он был доволен. Пусть этот Юсуф всего-навсего один из множества эмиров в армии Сиракона, он все же племянник Горного Льва, и, впитав правильные понятия, молодой львенок невольно расположится к латинянам. Так у защитников дела Господня окажется доброжелатель в стане врага.
Юсуф гостил в королевской ставке до отбытия сельджукской армии из Египта и за эти несколько дней со многими баронами свел приятельство, с некоторыми из них обменялся дарами и на всех произвел наилучшее впечатление. Прощаясь со своим хозяином, признался:
– Аль-Малик Морри, до сих пор я был лишен всякого честолюбия и никогда не жаждал большего, чем быть простым и верным исполнителем повелений моего господина. Сказать правду, даже в походе на Миср меня принудил участвовать мой дядя. Я не искал ни подвигов, ни завоеваний. Но ваши слова о том, что рыцарь должен стремиться к славе, запали мне в сердце. Отныне я намереваюсь добиваться героических свершений, и для врагов мое сердце будет тверже алмаза. Но я постараюсь смягчать его ради достойных милосердия.
Доблестный Онфруа II де Торон так расчувствовался, что, расставаясь, преподнес гостю отличный меч. Собственноручно опоясал эмира и наполовину в шутку, а наполовину всерьез воскликнул: «Вставайте, шевалье Саладин!», назвав Юсуфа по его почетному прозвищу.
Сиракон с его полчищами и племянником покинул Египет, а Амальрик привел свое войско к Каиру, где должен был получить от Шавара первые сто тысяч слитков золота и оставить в городе небольшой гарнизон, его командующим Амальрик назначил Гуго д’Ибелина, нынешнего супруга Агнес де Куртене.
Из всех богатств Александрии король забрал с собой лишь врача-сирийца – Сулеймана ибн Дауда, который не только обладал всеми медицинскими познаниями магометан и евреев, но вдобавок говорил по-французски.
Когда латиняне увидели, что Каир беззащитнее распеленатого младенца в колыбели, они возликовали. Deus vult! – этого хочет Бог. А хочет Он, – и как Ему такого не хотеть? – чтобы отныне несокрушимый Утремер простирался от Ливанских гор до Йемена и Нубии.
– Сир, эта земля в наших руках, – потер руки образцовый рыцарь, коннетабль Онфруа де Торон.
Но король всегда был благоразумным и осторожным, он видел не только возможности, но и их последствия, он всегда по семь раз отмеривал, просчитывал все за и против и действовал, только убедившись, что бездействие окажется гибельно. Обмануть Шавара с Сираконом и завладеть Каиром легко, но как удержать его?
– Мы пожали руки с халифом, я дал слово, – отмел искус его величество.
Однако бароны не уступали. Каждому было ясно, что когда ворота крепости распахнуты, следует въезжать в них, а разобраться, нужна тебе эта крепость или нет, легче изнутри:
– Шавар – нечестивец, а халиф – вообще сын дьявола, – сыпали они неопровержимыми доводами, – договор с ним ничего не стоит. Другой возможности завладеть Египтом может не случиться, а от этого зависит судьба Латинского королевства! Если мы не захватим Вавилон, то Сиракон уже весной непременно вернется, и нам придется заново воевать с ним.
Амальрик любил диспутировать и поэтому возразил своим верным соратникам вдумчиво и терпеливо:
– А если захватим, Сиракон вернется немедленно, и придется защищать Каир, а мы не можем себе позволить длительную кампанию на берегах Нила, в то время как Нуреддин угрожает Триполи.
Филипп де Милли, сеньор Наблуса, в сердцах бросил перчатку оземь:
– Мы уже понесли на севере огромные потери, и сам граф Триполийский в сарацинском плену. Все эти жертвы будут оправданы, только если мы захватим страну фараона!
Онфруа де Торон мрачно добавил:
– Ради этого Египта я пожертвовал своим Балинасом, а теперь мы уйдем с пустыми руками?
Король покраснел от невыносимой жары и досады, напомнил:
– Ммммессиры, мы выполнили то, что намечали – предотвратили падение Египта в руки Нуреддина, у власти дружественный нам Шавар, – кто-то пробормотал «дрянь редкостная», но король сделал вид, что не расслышал этой, в общем-то, верной оценки своего союзника, и продолжил: – Вавилоняне во всем нам ппппокорны и будут выплачивать каждый год огромную дань. Неужто мы хотим рисковать всем достигнутым?
Бароны хотели рисковать и не сдавались. Отойти от Каира им было труднее, чем азартному игроку покинуть карточный стол в разгар везения. Они наперебой убеждали помазанника не упускать редчайший случай. Каждый из них ставил на кон жизнь и свободу ради этого Египта, и вот он – лежит перед ними, беззащитный, как птенчик в гнезде, как муха в паутине, как однодневный жеребенок. Этот колосс на глиняных ногах слаб, как старая куртизанка. Отказаться и уйти было бы даже не грехом, а хуже – невиданной глупостью! Гуго д’Ибелин воскликнул:
– Ну не для того же мы собрали всеобщее ополчение, наложили на все королевство десятину и полгода месим тут пески, чтобы теперь все подарить нечестивой собаке Шавару?
– Я готов отрубить себе руку, которая касалась руки халифа! – верный Гуго Кесарейский потряс негодной рукой, ввергнувшей франков в нарушение Божьей воли.
Бароны с жаром поддержали Гуго, все они тоже были готовы отрубить ему руку, лишь бы овладеть страной, в которой золота имелось больше, чем песка. Их суверену было больно поступать противно советам и желаниям вассалов, но он видел дальше их слепой жадности и потому не мог пойти на неоправданный риск, обводил взглядом, протягивал руки, убеждал:
– Мессиры, как только я сочетаюсь браком с какой-либо из родственниц василевса, и мы заручимся помощью ромеев…
– Василевс тянет переговоры с вашим сватовством уже два года и не станет нам ни в чем помогать, пока вы полностью не пожертвуете суверенитетом Антиохии, – указал Жоффрей Фушо с прямотой тамплиера.
Магистр ордена госпитальеров Жильбер д’Эссайи, влезший в изрядные долги в надежде возместить расходы египетскими трофеями, хлопнул в досаде перчаткой по бедру:
– Моих пятьсот рыцарей и пятьсот туркополов хватит, чтобы завоевать всю Нильскую пустыню! В наших руках окажутся несметные богатства страны фараонов и морские пути с Индией и Африкой, и пусть потом хананеи попробуют их забрать! Много они смогли Святую Землю отнять? Вот тогда Мануил родную дочь пришлет вам на самом быстроходном дромоне!
Но Амальрик колебался. Он был дальновидным правителем, обладавшим острым, подозрительным умом, любившим действовать наверняка и потому старавшимся избегать опасных безумий, которые его недалеким приближенным казались удачными возможностями и геройскими подвигами. Напомнил в отчаянии:
– Захватим сейчас Каир, будем вынуждены воевать с Нуреддином на юге и на севере одновременно.
– Ваше величество, от Мануила нам придется ждать помощи дольше, чем вина от еще не посаженной лозы! – убеждал своего суверена Гуго д’Ибелин, которому предстояло гнить в гарнизоне паршивого Каира, пока в столице у Агнес не будет отбоя от желающих развеять ее одиночество.
– И когда нам вновь удастся объявить арьербан и снова взыскать десятину?! Следует брать посланное небесами. Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном, – сокрушался Гуго Кесарийский, который видел роскошь халифского дворца и потому знал, что Амальрик собирается отойти от распахнутых райских ворот.
– Правы тамплиеры, что отказываются участвовать в египетских кампаниях. Только ослабили Заморье, потеряли незаменимых людей, север забросили, а чего ради? – безнадежно вторил Магистр госпитальеров Жильбер д’Эссайи. – Что значат эти жалкие сто тысяч динаров в сравнении с исполнением Божьей воли, когда ясно, что из Египта можно выжать во сто крат больше?!
Свиту растолкал патриарх Иерусалима Несль, с кряхтеньем опустился перед венценосцем сначала на одно колено, а потом, морщась и опираясь обеими руками о посох, согнул и второе, склонил митру до земли:
– Сын мой, Иисус дал вам Египет и уповает на вас одного. Он и Пресвятая Дева льют в небе слезы и молят, чтобы вы не бросали Землю Гошен, в которую Они когда-то бежали, ибо без нее погибнет, не устоит и Гроб Святой. Разве не завещал Иосиф эту страну своим братьям? Разве не обещал Господь семени Давида всю землю от Евфрата до реки Нила? На вас Божественной благодатью возложено выполнение долга христианина.
Король закусил губу: Господь обещал, а требуют с Амальрика! И именно Несль унизил монарха, потребовав от него развестись с Агнес де Куртене в качестве условия восшествия на престол. Вот и теперь он пытается заставить государя танцевать под свою дудку! На лицах приближенных читалось одно: решись, Амальрик, решись! Но монарх – не искатель приключений, которому нечего терять, не шальной ловец Фортуны, он облечен огромной ответственностью за Латинское королевство, он связан соглашениями и договорами, и на сей раз им придется послушаться своего суверена, никто не заставит помазанника действовать вопреки собственному разумению. Амальрик склонился к святому отцу, пытаясь поднять его, оба потели и пыхтели, но пастырь упирался, выворачивался из королевских объятий, оседал грузным телом:
– Сын мой, клянусь Крестом Животворящим, на себя возьму весь грех нарушения договора! Сам отмолю его! Немедленно пошлем посланников к Римскому Понтифику, Святой Отец разрешит вас от обета! Вы губите Землю Христа, сын мой! Опомнитесь!
Амальрик уступил – оставил упрямого клирика валяться в пыли. Но уступить и совершить безумство – захватить Каир – он не намеревался. Его армию, а с ней и весь Утремер, может погубить одна-единственная оплошность. У Нуреддина не считано сельджукских собак, он может одновременно атаковать Антиохию, Триполи, Иерусалим и франкскую армию в Египте, а у защитников Гроба Господня всего полторы тысячи рыцарей, его войско не может надолго застрять в нильских песках. Амальрик непременно завоюет фатимидский Вавилон, недаром ведь Господь обещал! Но только заранее все обдумав, запланировав и заручившись помощью греков или сицилийцев, не опрометчивым наскоком. Не говоря уже о том, что король Иерусалима должен совершать славные и почетные деяния, а не те, за которые придется у папы индульгенцию вымаливать.
И была еще одна причина, почти невесомая, ничего не решающая, нелепая настолько, что король в ней даже самому себе не решался признаться: нестерпимо было представить, что молодой эмир, перед которым он похвалялся достоинствами и честью своих людей и который так восхищался «аль-Маликом Морри», сменил бы уважение на презрение.
Франки оставили небольшой гарнизон для защиты благоденствующего в гареме Шавара и покинули бессильный халифат.
Поистине, горе тем, чей правитель ценит собственную честь выше, нежели пользу государственную.
* * *
Как Жослен и предполагал, Мануил выкупил Заику в первый же год после пленения – не пожалел ста пятидесяти тысяч динаров. По мнению Шатильона, нынешний князь Антиохии и на сто пятьдесят динаров потянул бы только в связке с хорошим охотничьим псом, но остальное стоила честь императора, не желавшего иметь брата собственной супруги и вассала в сарацинском застенке. Прав был Жослен, именно такой – ни Мануилу, ни Нуреддину не опасный – Боэмунд и был всем удобен на троне Антиохии.
Воинственного Константина Коломана, захваченного одновременно с принцами Заморья, Нуреддин и вовсе вернул василевсу всего за сто пятьдесят шелковых халатов. После первой же победы над басурманскими войсками добился и Торос освобождения армянских узников.
А Рено, Паскаль, Сен-Жиль и Жослен по-прежнему томились в подземной джуббе. Шатильон и граф Триполийский друг друга не жаловали, но открытого столкновения оба старательно избегали, соблюдали подчеркнутую учтивость. Рено – потому что чертов этот Сен-Жиль был дьявольски умен и умудрялся в любом споре выставить противника в самом неприглядном свете, а хилый Сен-Жиль весьма разумно опасался бешенства необузданного Шатильона. Напрасно Куртене и Лаборд старались сгладить их обоюдную неприязнь.
Зато неожиданно смягчились тюремные порядки: заключенных стали каждый день выпускать на внутренний двор и кормили теперь гораздо лучше прежнего – в корзине нередко оказывалась курица или баранья нога. Видимо, баснословная плата за Заику повысила ценность оставшихся в застенке франкских баронов. Но самой отрадной переменой стали посещения яковитского епископа Алеппо Игнатия.
Круглолицый, курносый, улыбчивый клирик, с выбивающимся из-под скуфьи венчиком седых волос, с карими, близко посаженными, живыми глазками, внимательно и ласково взиравшими на вверенных ему заключенных, хоть и выглядел простовато, но латынь знал изрядно и по-французски изъяснялся гладко. Констанция когда-то помогла яковитам возвести и освятить их новый кафедральный собор в антиохийских владениях, а с тех пор западных латинян и сирийских христиан еще больше сблизила взаимная ненависть к греческому ставленнику Афанасию. Теперь Игнатий преданно пекся о заключенных принцах.
Радение христианского пастыря, пусть и сомнительного толка, несказанно ободрило дух несчастных. Епископ выслушивал исповеди, служил мессы, причащал и благословлял, прости ему, Господи, его негодные квасные гостии! По просьбе Сен-Жиля притаскивал сочинения древних. Граф Триполийский с неумеренным для благородного барона жаром пристрастился к чтению. Да вызубри он хоть всего Гомера наизусть, Гектором ему никогда не стать! И не только по-латыни читал, не жалел усилий даже в арабских сочинениях ковыряться. Утверждал, что это поможет понять врага. Рено наблюдал за приспособленцем с тайным презрением: пытаться понять врага – верный признак, что победить его ты уже не надеешься.
От его преосвященства заключенные узнали, что сразу после освобождения Заика помчался в Константинополь, где обручился с племянницей василевса, еще одной Феодорой, а по возвращении вновь вернул в княжество постылого Афанасия II. Многострадальный Эмери отлучил город от лона Святой Римской Церкви и в очередной раз отправился в изгнание, утешаясь мудрыми высказываниями Цицерона и Сенеки, своих древнеримских предшественников на сем горьком пути. Клирик Рима и греческий поп сменяли друг друга на патриаршем престоле, как ночь сменяет день, и с Заикой на троне над Антиохией сгустилась непроглядная темь.
Пока Коломан пребывал в плену, василевс послал в Киликию своего непутевого кузена, обаятельного и прекрасного внешне Андроника Комнина, по словам Игнатия, человека отчаянного, бедового, ненадежного и губительного для всех вверявшихся ему. Игнатий редко хорошо отзывался о греках, но, сдавалось, этот искатель приключений умудрялся превзойти любое злословие о себе. Неисправимый и шальной Андроник дважды попадал в византийские застенки за интриги и связи с родственницами императора и дважды бежал из тюрем. Второй раз укрылся в неведомом северном краю, где князь Ярослав Галицкий отдал под его руку многие земли русов. И в далекой Гиперборее не усидел сумасбродный Андроник, вымолил у Мануила прощение, вернулся, храбро сражался с венграми, а оказавшись в Киликии и прослышав о красоте Филиппы де Пуатье, заявился в Антиохию.
Шатильон помнил падчерицу еще забавной чумазой малышкой, но за годы его заключения отроки возмужали, а отроковицы превратились в невест. Похоже, что увлечение Констанции куртуазностью не прошло бесследно для ее юной и неопытной дочери: впечатлительная дева углядела героя в неуемном, ненасытном, неверном и в придачу женатом и немолодом женолюбце. Филиппа отдалась Андронику и не скрывала свою любовь.
Вскоре, то ли устав от конкубины, то ли убоявшись гнева возмущенного Мануила, совратитель перебрался в Иерусалимское королевство. Вслед за Андроником заявился в Антиохию и выкупленный Коломан и тоже попытался понравиться принцессе, но низкорослый, невзрачный и пожилой грек не смог и улыбки добиться там, где ни в чем не было отказа очаровательному, бесподобному Андронику.
От рассказов священника Рено еще нестерпимее ощущал, что сам замурован живьем. Страстно – до дрожи, до сердцебиения, до спазма в горле – завидовал людям, которые могли безумствовать, совершать просчеты, ошибки, губить Утремер, себя и других таких же вольных людей. Игнатий был пастырем терпеливым и снисходительным, но в ответ на стенания Шатильона круглое, курносое лицо епископа разгоралось от гнева, как у пекаря от жара очага:
– Разве вы не терзали латинского патриарха? Разве не преследовали, не убивали, не насиловали, не калечили и не грабили христиан на Кипре, пусть даже они и были греками, достойными еще и худшего?! Вы не мученик, не непорочный праведник Иов. Вы были мужем нечестивым и разбойным и низверглись в темницу, когда за грехи ваши покинул вас Всевышний!
Рено раскаивался в каждом из деяний, которые привели его в узилище и оставили там, возможно, навеки. Исповедовался, отрекался от себя прошлого, лишь бы Господь сжалился и вызволил его. Припомнил себе даже такую мелочь, как приговоренного к казни ничтожного александрийского лекаришку. Да, Игнатий прав был, Шатильон свершил немало суровых и бессердечных поступков, но ужаснее всего он поплатился как раз за необдуманное, случайное, бескорыстное и милосердное движение души, за позволение пленному тюркскому мальчишке с вывихнутой ногой ехать в телеге, а не тащиться пешком или на плечах других узников. Спасенный Аззаз не захотел оставаться должником жестокого франка, взамен сохранил Бринсу Арнату жизнь и тем самым обрек его на мучительное, бесконечное прозябание в аду джуббы.
Поэтому истовее, чем о грехах, сожалел Шатильон о злосчастных, неисправимых случайностях и ошибках, которые ввергли его в руки сарацин. Когда представлял, что мог бы не отправляться в горы Мараша той злосчастной осенью, или, что было бы еще удачнее, мог бы возвратиться с награбленным скотом иным путем, или хотя бы вовремя развернуть коня и успеть вырваться из окружения, горло перехватывала горькая, душащая удавка искреннего сокрушения и отчаяния.
Перед закатом в каземат Господним благословением или дьявольской издевкой проникал тонкий, пыльный золотистый луч. От его теплого света, от сухого шуршания пальмовых листьев, от голубиного воркования, от песочно-горького предзакатного дуновения пустыни, от далекого гнусавого распева муэдзина в горле вставал ком и сердце начинало колотиться о ребра, как рыба в сачке. Луч быстро таял, и спускались сумерки: самое непереносимое время в заточении, когда душа наполнялась невыносимой тоской и рвалась наружу, готовая отбросить тяготившую ее оболочку тела, а впереди подступал могильный мрак ночи, глухо твердивший, что никогда больше ты не поскачешь на жеребце, никогда не сольёшься в любви с женщиной, а вместо этого, забытый всеми, испустишь дух в этой вонючей яме, сдохнешь, околеешь, и тебе не суждено даже христианское погребение.
Амальрик меж тем двинулся в Египет в четвертый раз – упредить предательского Шавара, вознамерившегося переметнуться на сторону Нуреддина. К этому времени его величество в очередной раз навеки и бесповоротно отказался от суверенитета Иерусалима над Антиохией, за что был вознагражден рукой Марии Комниной, внучатой племянницы Мануила, по сдержанному отзыву Игнатия – не самой красивой принцессы на свете, но, если вспомнить, сколько этих племянниц василевс уже отослал в Утремер, красавиц на всех хватить и не могло. Зато умиротворенная Византия обещала в помощь новому свойственнику сто пятьдесят быстрых двухъярусных галер с острыми носами, шестьдесят больших судов, пригодных для перевозки боевых коней и двадцать гигантских дромонов, способных нести на борту осадные машины.
Тамплиеры наотрез отказались участвовать в новом походе. После того как храмовники потеряли в бою за Харим шесть десятков рыцарей, они перестали доверять свои силы постороннему командованию. Орден отговаривался, что якобы недостойно нарушать союз и нападать на дружественного соседа. Зато весьма нуждавшимся в деньгах госпитальерам и прибывшему из Франции с большим отрядом крестоносцев графу Неверскому так не терпелось начать подвиги во имя славы Господней, что Амальрик даже не смог дождаться обещанного ромеями флота. Латиняне без проволочек и решительно взяли Пелузий, город в дельте Нила, прозываемый вавилонянами Бильбейсом, и в отместку за сопротивление люди графа Неверского разграбили его и вырезали все население, рассчитывая ужасом сломить дух египтян.
Тут бы не мешкать, ковать, пока горячо, но Амальрик словно очнулся: сменил внезапную решительность на привычные колебания и принялся внимать посулам Шавара. Тот взахлеб обещал немыслимое: клялся уплатить франкам невиданную дань в два миллиона динаров, а тем временем халиф аль-Адид слал Нуреддину отчаянные мольбы о помощи, присовокупляя к ним локоны своих жен, страшащихся многобожников. Горный Лев Сиракон со львенком Саладином и с огромной армией снова помчался в Египет. Даже насланная Господом песчаная буря не сумела остановить его.
Жестокость крестоносцев оттолкнула от латинян коптов-христиан, которых в Египте было великое множество, и так напугала остальных жителей, что даже эти трусливые собаки обрели мужество сопротивляться. Каир предпочел сгореть, нежели сдаться. Франки не смогли захватить Землю Гошен, потому что казались египтянам хуже самой смерти.
В январе Амальрику пришлось отступить, и подоспевший Сиракон овладел Землей Плодородного Полумесяца без единого боя. Шавар, правда, ничего своим коварством не выиграл: племянник Сиракона Юсуф ибн Айюб Саладин тут же заманил визиря в ловушку и самолично обезглавил.
Впрочем, недолго правил и Сиракон: теперь, когда самое великое его деяние было завершено, курд скончался от обжорства, и плоды дядиных побед пожал его удачливый племянник, получивший от Нуреддина титул аль-Малика аль-Назира – Победоносного царя. Молодой эмир с грустными глазами и доброй улыбкой проявил себя решительным правителем: когда при захвате дворца халифа он столкнулся с сопротивлением армян и суданцев, сердце его оказалось тверже алмаза – Саладин без колебаний сжег всех армянских лучников и бараки с семьями суданцев, а сдавшихся под его слово воинов немилосердно перебил его брат. Львенок превратился во Льва.
Игнатий, разумеется, винил в провале экспедиции Мануила Комнина, медлившего с присылкой обещанного флота, но кто бы ни был виноват, Амальрик достиг прямо противоположного тому, к чему стремился все царствие: так и не сумев захватить Фатимидский халифат, он все же умудрился сокрушить Шавара и собственными руками усадил на трон фараонов юного эмира, которого когда-то так охотно наставлял в делах доблести. А ради манящего миража страны Гошен франки уступили Византии Антиохию и потеряли Харим, Балинас, Кастель-Блан, Араим и множество прочих укреплений.
Вскоре при странных обстоятельствах, но крайне удачно для Саладина, скончался и молодой халиф шиитов. Остальных фатимидских принцев аль-Малик аль-Назир заточил во дворце и не допускал к женщинам, дабы они не заимели потомства. Зеленые знамена Фатимидов сменили черные стяги багдадских Аббасидов, и в мечетях Мисра отныне возносили пятничную хутбу за суннитского багдадского халифа.
Однажды прелат явился в неурочный день, отвел Шатильона, долго вздыхал, мялся и молился. Наконец сокрушенно поведал, что супруга Рейнальда, княгиня Констанция Антиохийская, жившая последние годы праведной, полной благих дел жизнью, предстала перед Творцом. Рено смолчал, только зубами скрипнул. Его супруга Констанция – никакая не праведница, а женщина упорная, страстная и властная, скромная, застенчивая тихоня и при этом упрямая, настойчивая честолюбица, великодушная и надменная, защищавшая близких как кошка котят и беспощадная к тем, кто становился ей поперек дороги, умевшая любой ценой добиваться желанного, тихая заводь с опасным водоворотом в глубине, горячая как пламя и ледяная как далекая звезда – умерла уже давно. Все женщины, которых он когда-то любил в прошлом, и те, которые любили его, все они умерли для узника, и первой – предавшая и покинувшая его в несчастье, полная добродетелей святоша из Латакии, пальцем не шевельнувшая, чтобы помочь собственному мужу. Господь ей ныне строгий судия. Шатильон даже не пытался молиться за ее душу. Какой толк хлопотать о той, по которой он не скорбит, когда Всевышний не слышит даже его страстных мольб о нем самом?
Ночью отчетливо всплыл в памяти розовый аромат Констанции, неуловимое касание пушистых золотых волос, приятная, теплая тяжесть и мягкость тела жены, почти неосязаемая для грубых солдатских пальцев нежность кожи, любовный шепот, стоны… Неужто нет ее больше среди живых? Рейнальду показалось, что земля дрогнула. Он замер, пораженный. Пол ямы еще раз явственно качнулся под ним. Сердце бешено заколотилось, Шатильон приподнялся на локте. Стало быть, смерть Констанции все же значила для него больше, чем показалось поначалу, если от одного воспоминания о ней мир вокруг задрожал? Но тут вся скала резко колыхнулась, а с потолка посыпались пыль, камни и щебень.
Шатильон вскочил, с воплем бросился к окну, судорожно затряс намертво вделанную решетку – не умирать же замурованным живьем в ловушке обвала! Вокруг скрежетало и грохотало, незыблемые камни сдвигались, падали, катились, летела пыль, колебалась вся земная твердь, все подземелье ходило ходуном и грозило завалить каземат. Узники прижались к оконному проему, отчаянно взывая о помощи. Лаборд стал громко читать псалмы, остальные подхватили хриплыми, срывающимися голосами. Каждой клеточкой тела, каждым помыслом, каждым вздохом страстно хотели жить.
Джубба была выбита в толще подземной скалы, и скала устояла, охранила доверенных ей жертв.
Когда толчки прекратились и улеглась пыль, Шатильон убрел в самый глубокий, темный угол. Там, отвернувшись от остальных, пытался пересилить непроизвольные спазмы рыданий. Выворачивало от стыда за пережитое унижение, за собственное бессилие, за дикий страх скончаться в грязной, темной дыре после стольких лет напрасных мук. Господи, не страшно умереть, страшно так бояться смерти! Страшно быть притиснутым к зарешеченному окну и отчаянно, невольно пытаться уцелеть с той же животной, неудержимой силой, с какой утопающий вдыхает воду. Зачем, для чего он влачит это позорное, тягостное прозябание?
Дабы раскаяться, неутешительно заверял Игнатий. Но почему-то Господь не даровал подобной возможности тысячам других своих созданий: сам епископ со слезами описывал, что гнев Божий разрушил стены Халеба-Алеппо и западную часть цитадели, и все города и крепости Сирии – Шейзар, Хама, Хомс, Латакия и Джебалия – лежали в руинах. Город Триполи тряхнуло так, что он весь превратился в горы камней и мало кто остался невредим. В Тире рухнули массивные башни. Не счесть было крепостей, ставших беззащитными. Франков спасло лишь то, что земли басурманских арамеев пребывали в еще худшем состоянии.
Игнатий с сокрушением, но и с некоторым удовлетворением праведника, уставшего созерцать чужие грехи, замечал, что конец света приблизился вплотную: из треснувшей от Божьего гнева земли вырывались губительные испарения чумы, холеры и мора, а базары переполнились всяческими чревовещателями и звездочетами, уверенно предсказывающими, что вот-вот встанет на Западе черное солнце, и явится Антихрист в сопровождении орд евреев, и со дня на день причинится невиданное сотрясение Вселенной, небесные тела столкнутся на путях своих, и от этого неминуемо воспоследуют сильнейшие ураганы, и даже море выплеснется из собственных берегов. Множились свидетельства, что землю заселили вампиры, демоны и привидения, и каждый мог убедиться, что все людские старания постигал полный крах.
Однако Господь ведал, что творил! Набожно сложив руки с распухшими, узловатыми суставами и сдерживая ликование, простительное свидетелю Божьей воли, Игнатий поведал, что первыми казни египетские настигли самых недостойных: кафедральный собор святого Петра в Антиохии рухнул прямо на греческого еретика-самозванца Афанасия и на весь его недостойный клир! Тот еще под завалами задыхался, а насмерть перепуганный антиохийский князь уже мчался в крепость Косер – молить Эмери Лиможского вернуться в проклятый им город, снять интердикт и избавить несчастную Антиохию от дальнейшего разрушения.
В мире, катящемся к концу, скончался и союзник латинян – двоюродный дядя Жослена III де Куртене, благородный и отважный армянский царь Торос II. Власть в Киликии захватил его ничтожный брат Млех, который сначала постригся в тамплиеры, а затем передумал и принял басурманскую веру. Теперь франки враждовали и с киликийцами. Лишь страх перед ромеями удерживал Нуреддина от новых нападений на Заморье. Но Игнатий жаловался, что в своих владениях султан все усерднее притеснял христиан, дабы нечестивцы считали его рьяным последователем повелений Магомета: увеличил их налоги и подати и повелел всем крещеным, наравне с презренными иудеями, отмеченными красным лоскутом на плече, носить особый пояс и брить голову, чтобы нехристи могли узнавать христиан и поносить.
Там, где еще не стряслась беда, там настигал позор: неуемный искатель приключений Андроник Комнин получил от Амальрика в лен Бейрут, однако жить спокойно в мире, где существовали красивые женщины, сердцеед не мог – строгая, холодная и невозмутимая вдова Бодуэна III Феодора, дочь родного племянника грека, в свою очередь потеряла из-за собственного пятидесятилетнего двоюродного деда разумение и честь. Вдовая королева покинула богатейший фьеф Акры и бежала в Дамаск с женатым и отлученным от церкви авантюристом. Нуреддин охотно предоставил кровосмесительной паре убежище.
Заживо погребенный Шатильон сходил с ума, у него пересыхало во рту и кружилась голова. В тысячный раз он перебирал в памяти неоцененные, разбазаренные на суетное и сиюминутное, безвозвратно утекшие мгновения утерянной свободы, сладость каждого бездумно прожитого дня, блаженство ночей, пыл ожесточенных боев, невозвратимые радости и горести, удачи и поражения. Изможденное голодом, холодом, а пуще всего бездействием тело в равной мере алкало наслаждений и тягот, и отчаянно рвался из стен темницы изнемогающий дух, которому в заключении приходилось еще непереносимее, чем телу.
Пуще всего Рено тосковал по Баярду. Родной, любимый запах коня, теплое, влажное фырканье, внимательный карий взгляд искоса, нежное касание шелковистых губ на ладони, хруст яблока в зубах, благодарное помаргивание длинными ресницами, дружеский взмах хвоста, жемчужный отлив бархатной шкуры… Пальцы помнили, как хватались за луку седла, левая нога хранила в себе плавный взмах, которым вдевалась в стремя, правая словно отталкивалась от земли, а руки невольно напрягались ненужным более, нерастраченным, бесплодным усилием подтянуть тело. В мыслях Рено птицей взлетал вверх, опускался в седло, и на спине жеребца ему было удобно, как неродившемуся младенцу в материнском чреве. Столько счастья дарило стремительное, ловкое, сильное, наполнявшее ликованием движение! Каждую косточку, каждый мускул ломило от невыполнимой тяги вновь превратиться в единое существо, возникавшее из человека и жеребца – во всадника, кавалера, шевалье, в мифическое животное кентавр, в рыцаря. Теперь лишь во снах удавалось испытать упоение скачки, когда, казалось, они с конем могли нестись без устали до края земли, счастливые, победоносные и вольные. Давно уж сгинул Баярд, а тоска по нему глодала душу.
Амальрик верно понимал, что спасение Заморья лежит в завоевании страны Нила и добивался ее покорения упорнее, чем древние иудеи – исхода из нее. Овладевший Египтом Саладин покамест не тревожил франков – они отделяли и отвлекали от него Нуреддина, позволяя ему независимо править Вавилоном. Только зимой 1170 года курд овладел Газой, поубивал всех ее защитников, саму крепость разрушил, а также захватил Айлу, превратив Тростниковое море в пруд исламского мира.
Король отчаянно пытался сколотить новую коалицию, теперь уже против Саладина. Да только Европа охладела к Святой Земле, как утомляется старик капризами и невзгодами взбалмошной любовницы. Амальрик затруднялся отыскать среди европейских властителей даже достойного супруга для дочери Сибиллы: ныне европейцы прибывали на Землю Обетованную литургию прослушать, а не отдать жизнь за Христа. Лишь Мануил Комнин, схизматик и грек, продолжал незыблемо поддерживать латинян Утремера.
Но когда в октябре византийский флот в очередной раз прибыл к берегам Египта, Амальрик вновь впал в бесконечные сомнения, опасения, промедления и колебания и окружил порт Дамиетту, лишь полностью истощив собственные запасы провианта. Осада сытого города голодным гарнизоном, как и следовало ожидать, провалилась.
Нехватку решительности Амальрик пытался восполнить настойчивостью. Он даже самолично отправился в Константинополь и провел там полгода, склоняя Мануила к еще одному совместному нападению на Египет. Союз франков и ромеев держался, потому что сельджуки являлись общими врагами и потому что баснословно богатая земля фараонов влекла обоих, а захватить ее можно было лишь сообща.
Зима 1173 года Господня выдалась необыкновенно стылой и снежной. Мерзли пальцы, от дыхания поднимался пар. Окно пришлось заткнуть соломой, и заключенные страдали не только от невыносимого холода, но и от постоянной тьмы. Каждый выход во двор превратился в испытание: как ни запахивали узники дырявые стеганые халаты потуже, как ни кутались в старые верблюжьи одеяла, студеный ветер пронизывал до костей, и насквозь промокали обмотки на ногах.
Первым захворал Паскаль Лаборд. Рено не отходил от трясущегося в лихорадке храмовника, по капле вливал в него воду, днем и ночью держал за руку, протирал пылающий лоб влажной тряпкой и молился, молился, молился. Волосы больного слиплись от пота, грудь судорожно вздымалась, горячечное дыхание вырывалось со свистом, и Рено невольно дышал с ним вместе, словно пытался помочь Паскалю сделать каждый следующий вздох. За проведенные вместе годы незаметно для самого себя привязался к тихому, застенчивому рыцарю Христа. Если бы Шатильона спросили – любит ли он кого-нибудь, он бы только засмеялся, никто ему никогда не был нужен. А сейчас оказалось, что легче было бы глаз потерять, чем молчаливого соседа, который выращивал под окном какие-то былинки, бесконечно размышлял над каждым ходом в шахматах да слушал сверчков. Даже Жослен был себе на уме, а Лаборд – вот он, весь как на ладони, чистый, как хрусталь. Шатильон сказал бы это другу, попрощался бы, но Сен-Жиль постоянно наблюдал за ними холодным, пронзительным взором. Да и что толку в чувствительных словах и трогательных жестах? Тут помочь надо, дотянуть умирающего до прихода епископа, чтобы брат ордена Христа ушел в лучший мир, исповедовавшись, соборовавшись, пусть хоть с помощью яковита. Тамплиеру было важно умереть со священником, он ведь даже в заключении пытался соблюдать посты и святые дни. Но Сен-Жиль считал иначе. Граф Триполийский вбил себе в голову, что хаджиб позаботится о больном тамплиере – лекаря позовет или хотя бы теплые одеяла даст. А может, просто боялся заразиться. Так или иначе, он настаивал, что следует сообщить тюремщикам о состоянии Паскаля. Шатильон возражал. Не станут обрезанные собаки лечить храмовника, все одно помрет, так пусть по крайней мере до конца останется среди друзей. Но граф словно искал случая поступить наперекор Рейнальду: дождался появления Али и выдал недужного. Храмовника вытащили из ямы, хоть для этого трем жирным тюремщикам-тюркам пришлось держать бешено сопротивлявшегося Шатильона.
Паскаль не вернулся. Через три дня их выгнали во двор. Сен-Жиль охнул, закрыл лицо руками, Шатильон поднял взгляд, горячая волна рванула в груди и заложила уши.
Все же вырвался из темницы кроткий, святой человек и ныне бредет по снегу в Оверне, собирает с заснеженной земли упавшие красные яблоки, и нет среди них червивого, все цельные и душистые, как душа тамплиера. И сам он Господом подобран, лучшее яблоко в райском саду, праведный и совершенный Паскаль Лаборд. Стал он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет. А на припорошенной снегом крепостной стене чернела его сморщенная и надклеванная грифами голова.
В горло хлынул сладковато-железный привкус крови, глаза застила алая злоба, Рено захрипел, затрясся и тигром набросился на Сен-Жиля, пытаясь задушить или хотя бы вырвать глаза тому, кто обрек умирающего на казнь.
Тюремщики разняли их, увели ошеломленного графа Триполийского внутрь каземата. В застенок к Шатильону и Куртене он, на свое счастье, больше не вернулся, а вернулся бы – Рено бы позаботился, чтобы уславший Паскаля в рай до срока, сам поспешил бы в ад. Бессмысленная и мучительная гибель чистого душой человека, непонятно зачем обреченная Господом протомиться десять лет в застенках, не давала покоя.
– Как зачем? – недоуменно мигал Игнатий. – Магометане наверняка предложили Паскалю перейти в ислам, а когда он отказался, казнили несчастного. Так они поступают со всеми братьями рыцарских орденов. Вы хотели, чтобы он дожил до моего прихода, чтобы я исповедовал эту невинную душу и отпустил ей грехи, а Господь в своей милости позволил ему постоять за веру, подарил брату-храмовнику мученичество. Жизнь и смерть брата Паскаля не были бессмысленны, ибо ему пришлось выбирать между добром и злом, и он сделал верный выбор. А в этом и есть предназначение каждого из нас – совершить правильный выбор между Господом и дьяволом.
– Паскаль и так всегда был на правильной стороне.
– Может, его пример был предназначен для кого-то другого, – голос добряка Игнатия неожиданно посуровел, – может, ему было предопределено вразумить упорствующего, которому требуется немереное страдание, чтобы понять свой путь.
– Думать так – беспредельная гордыня, монсеньор! Уж я-то Господу давно ни на что не гожусь, ради меня губить Паскаля – это как прекрасного дестриэ загубить, чтобы паршивого мула спасти.
Шатильон злобно пнул камешек, но, видно, не всякое страдание помогало, от боли в пальцах ничуть не полегчало. Он уже давно все понял и про себя, и про собственный путь. Разумеется, он тоже на стороне добра, то бишь, на стороне христиан против поганых обрезанных. Только таким человеком, как Паскаль, ему никогда не стать. Но так же, как меч нужен кресту, как хлеб растет из унавоженной земли, так же и грешный Бринс Арнат, такой, какой он есть, со всеми его бесчисленными пороками и недостатками, стань он свободным, оказался бы полезнее невинному Агнцу, Земле Искупления и правому делу, нежели многие святоши, а уж полезней графа Триполийского и подавно.
Обезображенная голова храмовника еще долго разлагалась на сарацинской пике, его обезглавленное туловище гнило в какой-нибудь безвестной общей могиле, но Рено не сомневался, что совершенную, чистую душу мученика белокрылые серафимы унесли прямиком к Небесному Престолу.
А Раймунда Триполийского тем же летом выкупил Амальрик. Пятьдесят тысяч динаров собрали король и тамплиеры, еще тридцать тысяч сам граф обязался выплатить после освобождения и в обеспечение долга передал Нуреддину вместо себя заложниками своих вассалов. Жослен воспринял новость молча, только пальцами хрустел, а Шатильон захлебнулся злобным отчаянием:
– Будь они прокляты! Сен-Жиль для них свой, он Амальрику кузен. Его и вызволили, и встретили с чествованиями, и дарами забросали, и владения вернули в целости и сохранности! А нас все забыли и предали, словно прокаженных!
Падчерица Шатильона Мария Антиохийская родила ромейскому императору долгожданного сына; дочь Агнесса вышла замуж за наследника венгерского королевства Белу и вскоре вместе с супругом воцарилась в Венгрии, но Рено был по-прежнему покинут могущественными родичами.
Он перестал упражнять тело, прекратил умываться, бросил бессмысленное изучение арабского, не отвечал больше Али и остальным тюремщикам, наружу выходил исключительно по принуждению, Игнатия не ждал, принесенным епископом новостям не внимал, даже молиться отказывался. Лежал, уткнувшись взглядом в стену. За что ему все эти годы муки? Почему он покинут людьми и Создателем? Разве не вышел он в крестовый поход во имя Его и в обмен на полное прощение всех грехов? Разве не сражался беспощадно со всеми Его врагами, будь они даже греки-схизматики?
Чертова дюжина лет, полных невыносимых страданий, одиночества, унижений и боли! Чертова дюжина лет страха. Страха пыток, страха, что ослепят, кастрируют, изуродуют, вырвут зубы, отрубят ногу или руку. Хотя на что ему его члены, на что тут зрение? Долгое время пугало помешательство. Рено знал, как оно случается: душе узника становится нестерпимо в сыром застенке, и она покидает истерзанное тело, улетая к поросшим весенними ирисами холмам, над которыми гудят шмели, где вместо невыносимого смрада пота и испражнений ей мнится сладостный аромат цветущих апельсиновых садов. А тем временем покинутое тело лишалось всего человеческого, принималось жутко, бессмысленно орать, совершать неосознанные, опасные действия и либо само губило себя, либо гибло от рук тюремщиков. Только постоянным усилием воли Шатильон до сих пор избегал соблазна безумия, но теперь манил даже такой побег от ужасной действительности. Только Игнатий не сдавался, спорил:
– Вы считаете, вам хуже всех? Хуже тех франков, которые строят в Египте укрепления на нечеловеческой жаре, подобно иудеям, возводившим пирамиды фараонов? Разве вас заставили окончить ваш век в забоях эдесских свинцовых рудников? Разве вас хлещут плетью? Разве вы одиноки? Поглядите на эту надпись, – пастырь простер руку, и Рено вздрогнул, он кожей чувствовал эти бурые буквы, ему не надо было оглядываться, – разве вас ослепили? Искушали принятием ислама?
Нет. Даже мученичества Господь не послал Шатильону.
Игнатий был уверен, что знает причину:
– Он хранит вас для некоей цели. Не смейте отчаиваться и сомневаться, что у Всевышнего имеется свой план и вы нужны ему!
– На что? На что я могу сгодиться? Во мне отродясь ничего не было, кроме дерзости и отваги, ничего, кроме умения сражаться и побеждать, а теперь и вовсе человеческого не осталось. Я… мне было все равно, что скончалась… – слова ссыпались с искусанных, растрескавшихся губ горькой шелухой, но имя застряло, вместо этого выдавил из себя: – …моя супруга. Я родную дочь забыл, ни по кому не тоскую, ни единую человеческую душу не оплакиваю, разве что Паскаля, – рванул полуистлевший ворот дерюжной рубахи, – я как прокаженный – вообще ничего не чувствую, кроме ненависти к магометанским собакам!
Игнатий даже не поморщился, будто обычную исповедь слышал:
– Шатильон, прекратите жалеть себя. Не вы прокаженный, не вы потерянный, не вы погибший. Наоборот, вы с Куртене – последняя надежда, вы – опора и вы – избранные, – вздохнул, оперся на посох всем телом, обмяк, словно невероятная тяжесть навалилась на его плечи, прошептал: – Не у вас проказа, а у невинного отрока, дофина иерусалимского престола. С тех пор, как об этом узнали, все объяты горем, и никто не ведает грядущего.
Жослен охнул. Несчастный Бодуэн был его родным племянником.
Весь вечер Куртене просидел у стены, привычно подтянув к подбородку острые колени и остервенело, с хрустом, ломая пальцы. В сумерках неопределенные черты его некрасивого, бледного лица казались почти стертыми. Не моргая и не щурясь, словно слепой, разглядывал бесцветными глазами нечто незримое, сводил страдальчески белесые брови.
– Шатильон, – выдавил он наконец с мукой сквозь стиснутые зубы, – теперь я знаю, зачем Господь сохранил меня и вас. Мой несчастный племянник будет нуждаться в нас, в моей любви к нему и в вашей ненависти к его врагам.
О, если Господу нужен человек, умеющий ненавидеть, если ему понадобился мститель, то Шатильон подошел бы лучше любого! Если только Рено когда-нибудь выйдет из тюрьмы, он никогда не станет вновь жить бездумно и себялюбиво, ради себя одного, ради наживы и собственного возвышения, о нет! Если милосердный Иисус спасет его, Он сделает это не напрасно, потому что, прав Жослен, за эти годы Шатильон возненавидел обрезанных нехристей так, как их еще никто не умел ненавидеть. Так же, как желудь стремится стать дубом, камень – достигнуть центра земли, а меч – прорубить вражескую плоть, так же Рено посвятил бы остаток своих дней единой цели – мщению. Но им никогда не вырваться из подземелья.
– Чего ждать, Жослен? Для нас все кончится точно так же, как для Паскаля: наши головы тоже украсят стены алеппской цитадели, а глаза накормят здешних воронов. Пока Нуреддин жив, он меня не отпустит, это ясно.
– Значит, надо пережить Нуреддина.
Тут оставалось только смеяться:
– Как может замурованный, всеми забытый узник пережить султана, к услугам которого все медики исламского мира и о здоровье которого молятся все его подданные?!
Жослен никогда не отличался излишней храбростью в бою, твердости в нем было меньше, чем в сыром тесте, но сломать его оказалось нелегко: в плену он умудрялся вселять надежду даже в Рено:
– Может, именно потому, что о нас все забыли. Сколько бы Саладин не уверял Нуреддина в своей преданности, он теперь его главный соперник, а смерть прислуживает молодому Айюбиду преданней кормилицы. Пока подданные Нуреддина возносят за него бесполезные молитвы, курд позаботится, чтобы старый тюрок смертельно объелся или занедужил. – Усмехнулся: – Недалек тот час, когда чуткий Усама ибн-Мункыз перетащит свои драгоценные манускрипты и свою неколебимую верность к новому хозяину.
Нуреддин не молод, но и Шатильон успел состариться в этих сводах: он попал в заточение в расцвете лет, тридцати пяти годов, а ныне ему под пятьдесят. Поэтому, Господи милосердный, Иисус сладчайший, поторопись, яви свою Благодать, пошли твоим рабам знак, яви милость – уничтожь Нуреддина, вызволи из подземелья носителя мести и гнева Рейнальда де Шатильона!
* * *
Аль-Малик аль-Адил Нур ад-Дин сидел на верхушке холма, любовался прекрасным видом на окрестности Дамаска, утолял голод скромной трапезой, состоящей из фиников, питы и козьего сыра, и диктовал преданному Усаме ибн Мункызу послание к вероломному, низкорожденному курду, которого называл не иначе как «изменником», «наглецом» и «подлецом». Предатель захватил себе Миср, Землю Плодородного Полумесяца, завоеванную армией Нур- ад-Дина и по праву принадлежащую Нур ад-Дину, и возвращать не намеревался, а от участия в сокрушении нечестивых гяуров всячески отвиливал. Свет Веры промочил горло студеной водой Джебеля эш-Шейха и продолжил:
– Пишите, эмир. Ты зашел слишком далеко, Юсуф. Ты перешел все пределы. Ты всего-навсего слуга Нур ад-Дина, а теперь ты хочешь захватить власть для себя одного? Смотри не ошибись, ибо мы подняли тебя из небытия и сумеем снова ввергнуть тебя в ничтожество!
Ибн Мункыз одобрительно кивал благородной головой и старательно выводил буквы каллиграфическим почерком.
Опять над Левантом сгущались тучи: сельджукский атабек угрожал войной курдскому самозванцу, и отпрыску благородного рода Мункызов снова приходилось выбирать между падалью и дохлятиной. Арабы, сыны Аравийского полуострова, давно были покорены всеми этими тюрками, курдами, армянами, пополнявшими свои армии черкесскими, монгольскими, берберскими и прочими неведомыми степными дикарями, наспех воспринявшими слово Пророка, но даже понятия не имевшими о великих арабских достижениях и традициях. Род ибн Мункызов потерял свой Шейзар, арабы Леванта – власть над собственной землей и судьбой, а все утонченное, изысканное и благородное наследие ислама – от поэзии до медицины – вырождалось и хирело. Если бы не эти постоянные волны варваров-пришельцев, разве удалось бы проклятым франджам укорениться тут?
Полная чаша Усамы стояла нетронутой. Нет, вся студеная вода Сурии не смогла бы теперь утолить жажду эмира. Нёбо его внезапно взалкало влаги благословенного Нила. Непоседлив Усама, всю жизнь перебирался от двора ко двору. Скитания помогли ему сочинить множество прекрасных стихов и дожить до преклонных годов, вот и на сей раз старый шейзарец доверится зову дальнего пути.
Султан перечитал послание и объявил:
– Клянусь будущим воскресением, дарованным нам Аллахом, немедленно двинусь на неблагодарного предателя со всем моим аскаром.
Решение было принято, и Нур ад-Дин повеселел. Он отдал несколько приятных самому и угодных Аллаху распоряжений: о постройке нового госпиталя в Дамаске, о возведении вдоль всех крупных торговых путей караван-сараев, ужесточил наказания за питье вина. Прослушал чтение любимых хадис Пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха, а затем продолжил приятную прогулку с приближенными. Проезжая среди цветущих и благоухающих садов-бустанов, беседовал с образованным и мудрым эмиром ибн Мункызом о хрупкости человеческой жизни и о непрочности бытия. Что поделаешь, печалился в ответ Усама, лишь редкому избраннику Аллаха удается добиться своих целей, но и его ждет неизбежный конец. Воистину, человек всегда остается в убытке.
К вечеру султан занемог. Врачи хотели пустить ему кровь, но Свет Веры отказался:
– Человеку шестидесяти лет кровь не пускают.
Лекарь посоветовал выпить немного вина, и даже улем – знаток Корана – заверил, что ислам разрешает использование алкоголя в качестве медицины. Нур ад-Дин покачал головой:
– Если Аллах решил окончить мои дни, неужто он изменит свой приговор, если увидит, что я пью вино? – Улем пристыжено молчал, и султан прошептал: – Я не встречу своего Творца с запретным напитком в животе.
Видимо, велико было желание Аллаха встретиться со столь послушным и правоверным хаджой: все прочие способы лечения оказались недейственными, и спустя девять дней, в середине весеннего месяца шавваля 569 года от хиджры, аль-Малик аль-Адил Нур ад-Дин Абу аль-Касим Махмуд ибн Имад ад-Дин Занги, мудрый, милосердный правитель, хранитель Веры, восстановитель справедливости, неутомимый муджахид, не сходящий с путей священного джихада, вернейший сподвижник халифа, грозный гонитель христиан и их порочной веры, смиренный раб Аллаха, нуждающийся в милосердии Всевышнего и благодарный за Его милости, получил от своего Создателя последний приказ.
Вся умма скорбела о великом человеке.
В который раз смерть услужливо избавила Салах ад-Дина от угрожавшего ему соперника. Если бы так везло игроку в вертепе, его противники давно бы потребовали сменить игральные кости, но Салах ад-Дин умел делиться выигрышем, и все больше людей ставило все, что имело, на удачливого курда.
* * *
Когда Рено узнал, что проклятый Нуреддин предстал перед дьяволом, он воспрял. Теперь он не сомневался в скором спасении. Господи, милосердный и справедливый, единый, всемогущий и победоносный, Ты, чьему царствию нет конца, Ты сохранил и терзал своего раба с единой целью – выплавить из шлака его недостатков чистейший золотник ненависти к магометанам, превратить в своего мстителя и защитника. Только вот ждать свободы стало совсем невмоготу.
Султану наследовал одиннадцатилетний сын ас-Салих Исмаил, по слухам, сын дочери Альфонсо-Иордана, но все сарацинские правители, племянники, атабеки, эмиры и военачальники тут же принялись оспаривать друг у друга реальную власть.
Король Амальрик превозмог всегдашнюю нерешительность: воспользовавшись смятением врагов, немедленно осадил Баниас и одновременно предложил беспомощному сыну Нуреддина свою поддержку. Вновь возник выгодный франко-дамасский альянс, и в благодарность Дамаск отпустил двадцать франкских узников, томящихся в его казематах. Однако Шатильон и Жослен продолжали гнить в застенках Алеппо. Каждый день казался украденным и невосполнимым.
Неутомимый Амальрик спланировал новое, шестое по счету вторжение в Египет, на сей раз совместно с сицилийским флотом. Но еще у стен Баниаса его величество захворал желудочным расстройством и поспешно помчался в Иерусалим, где ему стало совсем худо. Он просил придворного лекаря Сулеймана ибн Дауда дать ему слабительных и рвотных средств, дабы очистить тело, но сириец воспротивился, заявил, что это истощит больного и приведет к смерти. Конечно, нашелся латинский невежественный знахарь, послушавшийся короля и тем самым погубивший его. Окончилось отпущенное венценосцу время, и прекратилось дыхание в ноздрях его. Смерть продолжала услужливо косить каждого, мешавшего Саладину.
11 июля 1174 года от Воплощения Спасителя Святая Земля потеряла тридцативосьмилетнего монарха, обладавшего безграничным видением, немереной энергией и неутомимой настойчивостью. Редкому человеку удается воплотить задуманное, и чем грандиознее замысел, тем чаще он остается незавершенным, ибо поистине великие дела превышают скудные возможности замысливших их смертных. Вот и пятому помазаннику на престоле Града Христова тоже пришлось уйти, так и не успев завоевать Египет.
Единственным прямым наследником мужского пола являлся тринадцатилетний смертельно больной Бодуэн IV, помимо него у Амальрика были лишь две малолетние дочери. Высшая Курия единогласно признала права смертельно больного дофина и трон Иерусалима занял прокаженный.
Во главе франков и во главе державы Нуреддина оказались беспомощные отроки. Как волк на блеяние барашка, в Сирию немедленно примчался Саладин и овладел Дамаском.
В конце июля паруса двухсот восьмидесяти четырех сицилийских кораблей застлали горизонт Александрии, но некому уже было поддержать их с суши, и Айюбид в очередной раз вышел сухим из воды.
Эти новости сводили Шатильона с ума. Нет, в Рено больше не было ни самомнения, ни гордости, ни себялюбия, ни алчности, ни тщеславия. Он больше не помышлял о том, чтобы нагнать страху на весь Восток и прославиться на весь Запад. Так мало времени осталось у него, пятидесяти и одного года от роду, что пора было отсечь все суетное и бесполезное, собрать все силы, мечты и мысли в одно единственное – в копье возмездия, способное пронзить кольчугу, поддеву, кожу, мясо, кость и впиться в самое сердце врага. Бывший князь покончил с прошлым, он был проведен через чистилище, чтобы спасти Заморье и уничтожить ислам. Годами Господь закалял его ненависть к обрезанным нечестивцам, и теперь в душе умещалась она одна, крепкая, чистая и пьянящая, как алкоголь. Когда Бринс Арнат выйдет на свободу, у сарацин не будет более опасного врага.
Часами он кружил по двору, как тигр по клетке, вынашивая планы мщения. Он нанесет сынам Исмаила смертельную рану, от которой они никогда не оправятся. Отомстит за себя, за Шарля, за Паскаля, за ослепленного старого Куртене, за всех, потерпевших от басурман. Око за око, зуб за зуб, сто за одного.
Регентом королевства при несовершеннолетнем Бодуэне Прокаженном стал Раймунд Сен-Жиль. В ту зиму, когда все сельджукские атабеки и наследники покойного Нуреддина спорили между собой за его наследство, граф Триполийский вместо того, чтобы создать из алеппцев, ассасинов, мосульцев и всех прочих врагов Айюбида крепкую коалицию и ничтоже сумняшеся напасть на общего противника, умудрился четыре месяца проспорить с возможными союзниками об условиях будущего альянса. Выставлял немыслимые требования и отклонял компромиссы до тех пор, пока к весне Саладин не завладел всей Сирией, за исключением Алеппо и Мосула. И тогда регент подписал перемирие с Саладином, предоставив главному врагу франков самое необходимое – время. Так Юсуфу ибн Айюбу удалось невероятное: объединить под своей властью огонь и воду – суннитских сельджуков и египетских арабов, бывших шиитов. Почти вся империя Зангидов досталась простому курду.
Как Рено и ожидал, Сен-Жиль оказался слабым, бездейственным военачальником и был полезен Утремеру не больше, чем евнух в свадебной постели. Латинский Восток нуждался в предводителе решительном, изобретательном, отчаянном и бесстрашном. Шатильон знал только одного такого человека, но день шел за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, лето сменилось осенью, старый год – новым, а человек этот по-прежнему гнил в алеппском подземелье.
* * *
Гильом, архиепископ Тирский, сел так, чтобы видеть лик Бодуэна IV, милостью Божией Латинского короля Иерусалима, защитника Гроба Господня и своего дорогого воспитанника. Архиепископ уже много лет сочинял правдивые хроники о деяниях франков за морем и ведал о каждом из иерусалимских венценосцев все, что сохранилось о них в человеческой памяти, и потому мог смело утверждать, что этот монарх – самый выдающийся из всей великолепной плеяды правителей Святой Земли и Града Мученичества. Уж на что пытливым был ум его друга Амальрика, упокой Господь его душу, почивший монарх даже постулатов христианства не принимал на веру и выпытывал у Гильома неопровержимые логикой доказательства существования загробного мира, а все же юный Бодуэн IV в зачатке проявлял больше решительности, чем было у его отца на пике успеха. Сердце архиепископа сжималось, когда он понимал, что буйное и ранее цветение даровано хранителю Града Христова, прозванному Прокаженным, потому что зрелых годов у него не будет – яркая утренняя звезда светит недолго. Чем могущественнее, способнее и деятельнее оказывались отростки правящего дома Анжу, тем быстрее косила их смерть, а этот благородный юноша хоть и был обезображен отвратительной хворью ужаснее всех прочих людей, а тем не менее являлся самым прекрасным Божьим созданием.
Пятнадцатилетний венценосец восседал во главе стола, загораживая собой окно. Изъеденное проказой, перебинтованное лицо пряталось в тени низко надвинутого капюшона. Правая рука Прокаженного тоже была плотно обмотана в белые, похожие на саван, пелены и недвижно покоилась на подлокотнике. Гильом помнил, как шесть лет назад впервые обнаружил, что мальчик не чувствует в ней боли. С тех пор рука полностью отказала несчастному. И все же с каким достоинством держался король, как красиво ниспадала с его широких плеч византийская далматика! Бодуэн IV не из тех, кто сдается: он научился держать меч в левой руке и управлять конем одними ногами, да так, что во всем Утремере не было наездника искусней.
Слева от его величества прилепилась Агнес де Куртене, плющ на могучем дубе, ржа на железном клинке, тля в венчике розы, вошь в одежде святого пилигрима. Амальрик после расторжения их брака благоразумно удалил от своих невинных чад эту порочную, ненасытную к мужчинам и деньгам женщину. Дофина король поручил ему, Гильому, ученейшему сыну Утремера, получившему превосходное образование в Париже и Болонье. Господь ведает, что пастырь сделал для своего воспитанника все, что было в его слабых силах. А принцессу Сибиллу растила покойная аббатиса Иоветта, ее двоюродная бабка, единственная из четырех дочерей Бодуэна II, родившаяся в пурпуре и пользовавшаяся в королевстве всеобщим уважением. Впрочем, те времена, когда женщины в Утремере почитались за свои добродетели и набожность, миновали безвозвратно. Ныне до того дошло, что некоторые отчаянные дочери Евы умудряются в боях участвовать, скрываясь под шлемом и доспехами.
Не успел Амальрик вручить душу Господу, как Агнес де Куртене явилась ко двору. О распутной стяжательнице ходили чудовищные слухи, что она состоит в преступной связи с Ираклием, нечестивым архиепископом Кесарии, и с неким новоявленным французишкой Амори де Лузиньяном. Но чистый, наивный Бодуэн привязался к недостойной матери со всем жаром нерастраченной сыновьей любви еще и потому, что недуг лишил юношу возможности сочетаться браком с женщиной. Мало того, что за грехи родительницы смертельная хворь настигла ни в чем не повинное дитя, так вдобавок отрок был вынужден и блуд Агнес искупать собственным невольным целомудрием.
Графине наверняка уже за сорок, она же почти ровесница Гийому, но вавилонская блудница явно полагает, что ее возраст незаметен: утянулась непристойным манером в карминные одеяния, щеки рдеют ярче, чем положено природой, истончившиеся губы рассекают бледное, усохшее лицо похабной красной щелью.
За длинным дубовым столом расположились десять членов Высшей Курии Иерусалимского королевства, на скамьях вдоль стен восседали церковные прелаты. Его величество заговорил негромким, хрипловатым голосом, едва заметно заикаясь и чуть подавшись вперед от усилия быть услышанным:
– Мессиры, святые отцы, друзья мои и вассалы, нам следует принять правильное решение. Как вам известно, граф Триполийский и князь Антиохийский помогли атабеку Алеппо отстоять его владения от посягательств Саладина. В благодарность Гюмюштекин согласился освободить всех имеющихся у него франкских узников. Среди них мой дядя Жослен III де Куртене и Рейнальд де Шатильон. Гюмюштекин требует за графа Эдесского пятьдесят тысяч динаров, а за Шатильона сто двадцать тысяч. Чтобы собрать такую сумму, нам потребуется помощь церкви и ваша.
Остановился, с трудом сглотнул слюну. Король не любил говорить, потому что люди в это время смотрели на него, и во взглядах их читалась жалость. Епископ подал знак кравчему, тот поспешно подставил с левой стороны венценосца кубок с укрепляющим напитком. Дама Агнес заявила громко и уверенно, словно являлась первой среди достойного собрания:
– Я уплачу выкуп за брата из собственных средств.
По рядам баронов прокатился шорох одобрения. Гильом подпер щеку рукой, внимательно оглядел Курию, запоминая каждое слово, чтобы потом точно и правдиво изложить происходящее в хронике. Да почему бы Агнес и не уплатить за Жослена? Кому еще ее братец надобен? У графини Сидонской до сих пор имелась часть оставленного ей Амальриком графства Яффы и Аскалона, вдобавок ей принадлежала и вдовья доля от владений ее второго супруга, покойного Гуго д’Ибелина, а ныне, – хоть этого и не заподозришь по ее разнузданному поведению – она шестой год пребывала замужем за Реджинальдом де Гранье, сеньором Сидонским. Имея столько богатых мужей, можно позаботиться о единственном неимущем брате. Но на доверчивого венценосца щедрость матери произвела благоприятное впечатление, он склонил голову:
– Мадам, я не сомневался, что вы сделаете все возможное ради нашего дорогого Жослена. Я не забуду этого. Остается Рейнальд де Шатильон.
Гильом с любопытством ждал, кто первым выскажется насчет этого призрака прошлого. Видит Бог, все не так просто, как кажется прекраснодушному и доверчивому Бодуэну. Бывший князь Антиохии, отец венгерской королевы, отчим греческой императрицы, почти шестнадцать лет гнил в басурманском каземате. Он умудрился выжить там, где давно испустил бы дух всякий другой, ни один франк не томился в узилище столько лет. Разумеется, врагу таких мук не пожелаешь. Понятно, что этот Шатильон давно превратился в легенду, в символ страданий латинян, в пример их стойкости и героизма. При его имени у каждого рыцаря по коже шли мурашки. И вот внезапно явилась возможность выкупить его. Но недаром бароны помалкивали. Среди собравшихся у Шатильона не имелось ни родных, ни друзей, во всем Заморье у давно сгинувшего узника не осталось ни вассалов, ни владений, большинство прежних соратников успело полечь в боях или скончаться от хворей, а нынешнего венценосца и на свете-то не было, когда бесшабашный князь Антиохийский угодил в плен. Рейнальд был пришельцем в этой земле и остался в ней чужаком. Констанция Антиохийская скончалась, а их общая дочь, пасынок, падчерица и ее Багрянородный и Порфироносный супруг, похоже, не дадут за негодного родича и ржавого обола.
А между тем Гюмюштекин требовал за одряхлевшего в застенке безземельного головореза семь раз его вес в золоте. Это была гора драгоценного металла, и каждый знал множество способов протратить его с гораздо большим толком. Да и Церковь могла бы на эти деньги спасти сонм куда более достойных душ.
Первым взял слово бальи – регент королевства, богатейший и влиятельнейший барон Заморья Раймунд Сен-Жиль, граф Триполийский. Маленький, щуплый, темноликий как все провансальцы, с мускусно-черными, прямыми, свисающими на лоб прядями и огромным носом ворона, регент поклонился его величеству, заговорил веско, неторопливо, впиваясь в слушателей острыми, пронзительными глазами:
– Сир, мессиры, я сам провел в заключении девять лет, лучше многих знаю, каково это. И все же скажу: освобождать Шатильона будет ошибкой. Не только потому, что у самого бывшего князя за душой и пары подштанников не имеется, и выкупать его придется нам, что чистое разорение, хотя это тоже существенно. Главная беда, что Шатильон – неудержимый, неразумный и опасный человек. Он начал свое княжение с глумления над пастырем церкви, испортил отношения Антиохии с Византией, а затем унизил перед василевсом честь всех франков. Своими грабежами он восстановил против нас христианское население Сирии, и, если бы не Шатильон, мы бы уже давно владели Шейзаром. Я бы не брал его у Гюмюштекина даже в подарок.
Собравшиеся сосредоточенно взвешивали слова умного, дальновидного и рассудительного графа. Самого Рейнальда люди помнили смутно, но о прежних проделках этого искателя приключений, втершегося в их ряды через женскую постель, были наслышаны. Но главное, сто двадцать тысяч золотых слитков на дороге не валяются.
– Этих денег хватило бы, чтобы содержать в течение года несколько сот молодых и сильных рыцарей! – выпятил нижнюю губу Реджинальд де Гранье, сеньор Сидонский.
В ответ на замечание супруга Агнес скривила яркий рот:
– А откуда вы возьмете эти сотни рыцарей, мессир, если мы бросаем пленных невыкупленными? И разве вы сами, Сен-Жиль, не посылали точно так же собственные галеры грабить Кипр? Но вас никто никогда не попрекал выкупными деньгами.
Кто знает, ратовала бы графиня столь рьяно за освобождение прежнего пригожего дружка, если бы достойный сеньор Сидона не напоминал башмак с оторванной подошвой?
Граф Триполийский пробуравил настырную женщину неприязненным взором:
– Ваше сиятельство, я сидел с Шатильоном в одном застенке, я знаю его лучше всех. Его прежние проделки – ничто, по сравнению с тем, что этот неудержимый человек натворит, если вырвется на волю. Мы только что заключили мир с Саладином, но Шатильон непременно нарушит его, потому что ему нечего терять, у него ничего нет, он живет разбоем. Он сделает все, чтобы привести нас к войне.
Агнес де Куртене манерно завела очи долу:
– Шатильон всегда был рыцарем испытанной верности и невиданной стойкости. Я убеждена, что он еще преданно послужит королевству и Господу. Не все так миролюбивы, как вы, Сен-Жиль.
Бальи действительно выходил сражаться против нехристей с задором наемника, которому уже век не платили. Он и Хомс-то осадил только потому, что там сидели его вассалы, выданные им три года назад в обеспечение уплаты его собственного выкупа. Едва Саладин предложил их выпустить, Сен-Жиль тут же с ним примирился. Всегдашний везунчик Айюбид отделался освобождением нескольких заложников. Но осада Хомса все же отвлекла султана от Алеппо, и в благодарность евнух Гюмюштекин предложил франкам выкупить Шатильона и Куртене.
Магистр тамплиеров Одо де Сент-Аман, сам отсидевший три года в сарацинской неволе, тоже высказался без обиняков:
– Лучше бы бальи не упоминал этот злосчастный мир, который они с Онфруа де Тороном умудрились заключить как раз когда на Айюбида ополчились эмиры Алеппо и Мосула и настало самое время покончить с этим врагом Господа.
Коннетабль Онфруа II де Торон, старейший член Высшей Курии, благородный осколок славного прошлого, в последнее время незаслуженно оттиснутый в сторону выскочками, столпившимися вокруг трона нового государя, вспылил:
– Я помню множество случаев, когда удобные возможности расправиться с врагами Господа были упущены из-за независимой строптивости тамплиеров! Саладин хоть и магометанин, но человек чести, и зачастую иметь с ним дело легче, чем с иным христианином!
Коннетабль знал Саладина лично еще с египетских походов, был высокого мнения о его искренности, благородстве и щедрости, и, видимо, эта симпатия сыграла роковую роль. С тех пор багдадский халиф признал Юсуфа ибн Айюба султаном Египта и Сирии, тот стал еще сильнее, и удобная возможность покончить с ним была упущена.
У Сен-Жиля было много сторонников: не только старый сенешаль всегда выступал с ним заодно. Ибелины тоже во всем действовали наперекор Агнес с тех пор, как Балиану д’Ибелину удалось сочетаться браком со вдовой Амальрика, гречанкой Марией. Все, что вторая жена проигрывала первой в красе, она искупала неумеренным честолюбием и с первой была на ножах. Даже супруг Агнес, Реджинальд де Гранье, вельможа рассудительный, уважаемый и образованный настолько, что читал арабские сочинения, поддерживал разумного и влиятельного Раймунда Сен-Жиля, тоже изрядного книгочея. Отрадно, что все больше достойных франкских баронов интересовались сохраненными исламским миром познаниями. И разумеется, все симпатии самого Гильома, просвещенного отца церкви, пребывали на стороне здравомыслящих пуленов, видящих в магометанах людей, с которыми можно и давно пора договориться, дабы достигнуть мира и процветания Заморья.
Однако непутевая графиня цеплялась за Шатильона как за частицу безвозвратно ушедшей юности и боролась с бальи за влияние на сына-помазанника. Вот это больше всего тревожило воспитателя, душу вложившего в отрока. Ради любви к Господу архиепископ Тирский относился бы к нераскаявшейся грешнице снисходительнее, оставь она в покое его мальчика.
Но и не одна Агнес опасалась Сен-Жиля. Граф Триполийский, кузен Амальрика, являлся ближайшим наследником престола мужского пола, а нынешнему венценосцу не суждено иметь потомство. Ближе Сен-Жиля к короне стояли лишь две сестры Бодуэна IV – дочь Агнес Сибилла и дочь Марии Комниной Изабелла. Вдобавок, за хлопоты, связанные с бальяжем, граф Триполийский получил от короны Бейрут, а будучи супругом Эшивы де Бюр, он владел также и Галилеей. Столь всесильный и владетельный человек становится опасен, когда на троне сидит неопытный и смертельно больной монарх. Для противников регента его ненависть к Рейнальду Шатильонскому уже являлась веской причиной выкупить пленника. Горемон, сеньор города Бейсана, что на юге от Тивериадского озера, двадцать лет заседавший в Курии, прокряхтел:
– Бывший князь Антиохии, конечно, совершал ошибки, но следует признать, он весьма успешно осуществлял все свои замыслы. Рено был отличным стратегом, хитрец всегда знал, где у врага незащищенное место, в которое можно нанести самый болезненный удар. Положение наше отчаянно, и никто из присутствующих, – уставился водянистыми старческими глазами прямо на Сен-Жиля, – не имеет спасительного плана.
– У меня есть план, спасительный и разумный, – презрительно оттопырив губу, прервал его Раймунд Триполийский. – Не лезть на рожон, сохранять мир и спокойствие и тянуть время, пока сатана не заберет Саладина! Поверьте, за годы плена я хорошо изучил этих собак. Вся власть у них концентрируется лишь в одном правителе, как только он умирает, ничто больше не скрепляет его империю. У них нет традиций мирной, упорядоченной передачи власти. Смерть каждого властелина означает войну всех городов и эмиратов между собой, массовые покушения и братоубийственные схватки. У курда семнадцать наследников. Как только его не станет, его держава рассыплется.
Сен-Жиль мог убедить недоверчивых, но был бессилен с ненавидящими его. С тех пор как неизвестные злоумышленники закололи в темных переулках Акры Миля де Планси, соперника графа в борьбе за регентство, вдова Миля, Стефания, владелица всего Заиорданья с неприступными крепостями Монреаль и Керак, открыто обвиняла нового бальи в убийстве своего супруга. Если Сен-Жиль не советовал выкупать Шатильона, Стефания наверняка не пожалеет на это никаких денег.
Недавно прибывший из Фландрии красавец Жерар де Ридфор, еще один непримиримый враг Сен-Жиля, прекратил играть завязками бархатного сюрко и с ненавистью уставился на неказистого бальи:
– Покамест сатана склонен всячески способствовать Саладину, и никому из его противников еще не удалось пережить его. Если бы вы, граф, изучили требования нашей чести так же хорошо, как повадки сарацин, вы бы знали, что ваш план отсидеться нам мало подходит. Если бы мы хотели только выжить, мы бы постриглись иноками в тихую обитель где-нибудь под Брюгге, но настоящие рыцари созданы сражаться и побеждать. Шатильон умел это делать, поэтому вы и страшитесь его больше Айюбида.
Лицо Агнес прояснилось. Вот это слова – так слова! Приятно, когда сбивают спесь с зазнавшегося триполийского урода.
Архиепископ давно недоумевал, как это дальновидный и прозорливый Раймунд Сен-Жиль умудрился совершить непоправимую ошибку, рассорившись с Жераром де Ридфором? Прибыв в Утремер, шевалье де Ридфор нанялся на службу к Триполи, и тот обещал новому вассалу руку первой же наследницы фьефа в своих владениях. Но когда прекрасная Люсия унаследовала прибрежный фьеф Ботрун, рачительный Сен-Жиль предпочел отдать девицу пизанскому купцу, отвалившему сюзерену невесты ее вес в золоте. Граф заимел десять тысяч безантов и заклятого врага. Де Ридфор тут же перебрался на службу в Иерусалим. Этот новичок далеко пойдет и на каждом шагу, при каждой возможности не преминет совать палки в колеса Сен-Жилю.
Граф Триполийский побледнел от ярости. Ох уж эти пришельцы из Европы! Ничего не смыслят в местной ситуации, презирают сложившиеся тут обычаи, завидуют здешней знати, считают, что пулены вероломны, склонны к вранью и коварству, сами же не умеют и не желают находить общий язык с мусульманами, не отличают бедуинов от тюрков, не ведают о разнице между суннитами и шиитами, путают армянина с сирийцем, не берегут достигнутое своими предшественниками и оттирают от власти тех, кто уже четыре поколения защищает эту страну собственной кровью.
Но и Джон, сеньор Арзуфа, один из самых доверенных соратников Амальрика, тоже поднял седую голову, прокряхтел:
– Покойный король, упокой Господь его душу, был вдумчив и осторожен. И вы тоже, граф Триполийский, дай вам Бог долгих лет, вдумчивы и осторожны. А положение наше все безнадежнее, и если мы продолжим действовать тем же вдумчивым и осторожным манером, мы обнаружим себя в море. Шатильон, может, полон недостатков, но он – другой, и нам пора начать действовать иначе. Рейнальд был не самым покладистым человеком и не самым дальнозорким. Но в нем были те же страсть, бешеная неудержимость, самозабвенная горячность и пылкая вера в себя, которые позволили славным паладинам завоевать эту страну и которые ныне полностью выветрились из их потомков – остывших очагов.
Сен-Жиль сразу понял, в кого бросил камешек выживший из ума старикан. Раздраженно пояснил:
– Мы сильны не только хваленым рыцарским духом и безрассудной решительностью. Несравненно важнее то, что у нас, в отличие от всех этих султанатов и эмиратов, царствует право, а не сила. У нас есть Высшая Курия, чьи постановления обязательны для всех, у нас велика власть Церкви, в Утремере каждому известны его права и обязанности, и среди нас не царит произвол.
Его величество, однако, не спешил соглашаться со всесильным бальи. Гильом давно замечал, что хоть граф Триполийский и вел себя с монархом почтительно и должность хранителя королевства исполнял добросовестно, он не сумел или не захотел проявить по отношению к тяжко больному мальчику родственную привязанность, в которой тот так нуждался. Неудивительно, что юный венценосец слепо шел на зов горячей крови к этим никчемным Куртене. Триполи, скупой не только на деньги, но и на душевное тепло, был уверен, что людям все можно объяснить и убедить их доводами разума, а это не так. Люди не хотят справедливости, люди алчут участия и любви.
Бодуэн поправил досаждавшие бинты на лице, обвел саднящими глазами спорящих. Что за человек был этот Шатильон, от которого некоторые ждали беды, некоторые – выручки, но никто не сомневался, что его освобождение принесет с собой огромные перемены?
Сен-Жиль махнул рукой, опустился в кресло, презрительно заметил:
– Похоже, взращенные на героических деяниях предков вояки всегда предпочтут опасного безумца человеку осторожному и разумному! Хотите платить гору золота за призрак – ваше дело.
Вальтер III де Бризебарр, лорд Бланшгарда, пограничной с Египтом крепости, заметил:
– Наша главная беда – не нехватка денег. Как можно защищать рубежи, когда храмовники действуют исключительно по собственному усмотрению? Нам позарез нужна их поддержка, а Рейнальд проделал вместе с ними множество кампаний и всегда умел ладить с орденом. Похоже, что Шатильон – единственный, кто может добиться содействия тамплиеров.
Агнес торжествующе вздернула острый подбородок. О Триполи, тебе еще придется считаться с Куртене!
Онфруа мрачно предупредил:
– Попомните мое слово: Шатильон стакнется с ними, и они станут еще непокорнее.
Магистр тамплиеров в ответ только плечами пожал. Король слушал терпеливо и внимательно, только то и дело промокал глазницы влажной тряпицей. Его величество почти утерял возможность моргать, и оттого ему сильно досаждала сухость в глазах, но Гильом Тирский взрастил юношу на примерах короля Артура, Шарлеманя и Готфрида Бульонского и был уверен, что даже полуслепыми очами монарх прекрасно разберет, в чем состоит его долг помазанника, суверена и христианина.
Граф Триполийский потерянно оглядел баронов, воскликнул в отчаянии:
– Вы ждете свежего ветра, но дайте волю этому урагану – и он сметет нас!
Агнес вцепилась коготками в ручки кресла, вытянула тощую шею, прошипела:
– Как же вы боитесь его, если берете на себя право не давать ему этой воли!
Сен-Жиль только зубами скрипнул. Он пытался охранить Утремер от напасти, которую эти недалекие люди собирались выпустить на свободу, а они опасались его, регента, не перестававшего днем и ночью изыскивать способы защиты королевства!
Гильом засунул руки поглубже в рукава, мартовский день был прохладен, и прелат зябнул. Сен-Жиль был правильным человеком на правильном месте, он способствовал избранию его, архидиакона Гильома, на престол архиепископа Тира, но графу никогда не удастся увлечь за собой людей, которых он неприкрыто презирает. И конечно опасения графа Триполийского напрасны: на что мог сгодиться давно одряхлевший физически и сломленный душевно человек, отсидевший треть своего века в подземелье? Его освобождение – вопрос цены милосердия, не государственной безопасности.
Прокаженный венценосец стиснул левую покорную руку в кулак. Силы духа Бодуэну IV было не занимать, но что в том толку, если его не слушалось тело! Он тоже, как Шатильон, находился в заключении и потому сострадал узнику. Король принял решение. С трудом, глухим голосом, но с необычной для столь юного правителя уверенностью, молвил:
– Мессиры, никто не знает, окажется ли Рейнальд де Шатильон благом или проклятием. Может, он и впрямь давно сломленный и выживший из ума старик. Но у нас нет выбора. Наш рыцарь и вассал томится в заточении дольше, чем я живу на этом свете. Это значит, что все эти годы вместе с ним томится наша честь. – Помазанник с трудом сглотнул, глянул на мать, Агнес ласково улыбнулась сыну. Юноша перевел дыхание и продолжил: – Если наконец-то нам предоставилась возможность освободить страдальца, мы это сделаем любой ценой, иначе нашему королевству не снискать милости Господа. Нам требуется чудо, а мы не будем достойны спасения, если покинем мученика.
Обратил покрасневшие, воспаленные глаза на наставника, и Гильом не выдержал, скрывая выступившие слезы, одобрительно кивнул возлюбленному воспитаннику. Никому на свете так не требовалось чудо, как венценосцу ценнейшего в мире государства. Да и чего стоит жизнь, которую проживают одним умом?
Триполи раздраженно плюхнулся на скамью, он снимал с себя всю ответственность за решение, в котором видел больше христианской праведности, нежели государственного смысла:
– Ваше величество, вашими добрыми намерениями вы мостите себе дорогу в рай, а Утремеру – в небытие.
* * *
Жослен III де Куртене задрал бледное лицо к солнцу, расстегнул сюрко и шемизу. Его величество тоже хотел бы ощутить майские ласковые лучи, но что толку подставлять теплу и свету ничего не чувствующую, покрытую белесыми чешуйчатыми пятнами кожу? Рейнальд де Шатильон от табурета отказался: скрестив ноги, устроился на траве в тени апельсиновых и гранатовых деревьев. С высоты кресла король видел его круглую темную макушку с заплатами седины и крепкую шею с врезавшимся воротом белой хлопковой галлабии. Таинственный Бринс Арнат оказался вовсе не измученным старцем-доходягой, а могучим, как дуб, мужчиной. Рукава арабского одеяния Рено засучил по локоть, на неожиданно изящном левом запястье мускулистой руки болтался серебряный браслет.
Король сказал:
– Граф Триполийский считает, что спасение королевства – в мире с султаном. Граф утверждает, что только глупец развяжет войну с противником, который настолько сильнее нас.
Рено вскинул голову, со смуглого лица обожгли глаза, светлые, словно добела раскаленное железо:
– Граф, конечно, умен, но совершает ошибку многих умников – недооценивает остальных людей. Он, видно, держит Саладина за глупца, если думает, что Айюбид, который настолько сильнее нас, будет хранить с нами мир. – Шатильон сцепил руки так, что побелели суставы: – Саладин добивался перемирия, чтобы мы не мешали ему завершить покорение Сирии. Как только он завоюет Алеппо и покончит с ассасинами, он примется за нас.
Дядя Жослен одевался как все латиняне – в брэ и сюрко, сидел на скамье, а не на земле, и там, где Шатильон раскалялся как железо в горне, Куртене только пальцами хрустел:
– Сир, этот низкорожденный курд, конечно, вовсе не зерцало рыцарских добродетелей, каким его вообразил Онфруа де Торон. Саладин, не задумываясь, убирает каждого, кто ему мешает, он и сдавшихся под его слово пленных казнил, и восставших в Египте шиитов распял, и наши владения разоряет безжалостно, но он сумел убедить магометан, что во всем, что касается джихада, он такой же чистой пробы, как его египетское золото: он, действительно, бессребреник, не имеет ни пороков, ни слабостей, все доходы тратит на войну, отдает ей все силы и время, живет в походном шатре, даже хадж откладывает. К тому же он невероятно щедр и милостив со своими сторонниками, и это увеличивает их число каждый день. Нам куда лучше было бы иметь дело с жестоким и алчным врагом, вроде Кровавого Имадеддина. Магометане уверены, что безупречный Саладин сумеет отвоевать Палестину, поэтому его власть прочна. Даже ассасины не посмеют расправиться с тем, на кого возложены надежды всего исламского мира. Он молод, и он тут надолго.
Шатильон с силой жеребца втянул в себя воздух:
– Что мы можем предложить ему за мир? Иерусалим со святыми местами? Меньше, чем всё, предводитель джихада не возьмет. Прочный мир между нами невозможен. Либо сарацины опрокинут нас в море, либо мы изгоним их в пустыню.
– Но перемирие возможно, – указал Бодуэн, пытаясь принять правильное решение, – а за несколько лет многое может случиться: я намереваюсь выдать принцессу Сибиллу за Гильома де Монферрата, он кузен императора Священной Римской империи и французского государя и недаром прозван Длинным мечом. Это обеспечит королевству достойного преемника, – Бодуэн сказал это просто, без горечи.
Жослен был спокоен, как вода в глубоком омуте, а Шатильон кипел, как горный поток на камнях, но одна и та же вода и тут и там, и одно и то же думали оба.
– Сир, перемирие позволит Саладину окончательно завладеть всей Сирией. Мы втридорога покупаем время, которое разумно использует только враг.
– Мессиры, за время вашего заключения в Утремере многое изменилось, и не к лучшему. Прежде наши силы с сарацинами были сопоставимы, а теперь Европа занята отвоевыванием Иберии, а Айюб господствует над державой от Нила до Тигра, от Эфиопии до Персии, лишь Алеппо с Мосулом еще сопротивляются, да мы торчим посреди его владений, как алтарь в мечети.
Бодуэн опустил голову, тихо добавил:
– А хуже всего, что вместо могучего военачальника на иерусалимском престоле сижу я, а скоро даже сидеть не смогу. У меня правая рука давно никуда не годится, а теперь и левая начала сдавать. В последнем бою я упал с коня и не смог подняться в седло. Верный Онфруа вынес меня из боя. Слабый правитель придает врагам дерзости.
Король не ждал жалости, но у Жослена дрогнул длинный подбородок:
– Сир, нет никого ближе к Иисусу, чем прокаженный. Важен ваш дух, ваша решимость. А сильные руки найдутся.
А Рено не стал утешать, взъерошил короткую бородку, черную, с яркими клоками седины. Наверное, еще не привык к ней. Сорвал длинную травинку, мрачно заявил:
– Опасней всего – наше собственное малодушие. Мы восемьдесят лет делали невозможное возможным, а теперь потеряли волю к победе и надеемся только оттянуть противостояние. Хватит нам принимать навязанные бои в невыгодных условиях, пора самим выбрать удобное нам время и место и напасть на нехристей в неблагоприятный для них момент.
Бодуэн покачал головой, хрипло, с усилием объяснил:
– Наших сил недостаточно. Я могу вывести в поход двадцать тысяч солдат, но из них только 766 рыцарей и 5025 сержантов от церковных приходов и городов, остальные – легкая конница туркополов и наемные пехотинцы-сирийцы. А вавилонскому псу Египет поставляет неограниченные запасы золота высочайшей пробы, и за это золото остальные провинции обеспечивают его бесчисленными воинствами. Причем, вражеские полчища уже не суданцы и нубийцы, а сплошь искусные в военном деле тюркские и курдские лучники и отважные мамлюки, с пеленок в строю. Бедуины с туркменами тоже охотно помогают султану, потому что от трапезы льва перепадает и гиенам с шакалами.
В сад вышла Агнес, подарила поцелуй мира Шатильону, ласково улыбнулась сыну, обняла брата и уселась рядом с ним, расправив шафрановые юбки. Бодуэна кольнуло, что мать не подошла к нему, но ведь он и сам не позволил бы ей целовать или обнимать себя. Да и кожа его больше не чувствовала касаний. Тело отмирало, только душа, увы, не теряла чувствительности, она по-прежнему жаждала любви и ласки. Мать не боится заразы, графиня Сидонская не только самая прекрасная дама во всем Утремере, она еще и самая отважная, любящая и преданная женщина на свете: не покинула брата, не предала Шатильона, и даже сына рвется сопровождать в походах. Но проказа не просто страшит, она отталкивает. С этим надо смириться. Король переборол себя, продолжил деловито:
– У королей Англии и Франции свои заботы, они пытаются откупиться деньгами, а нам деньги полезны, но новый крестовый поход необходим. Европе наша ноша непредставима. Герцог Анжуйский выставляет короне на поле боя тридцать четыре рыцаря, герцог Бретонский – тридцать шесть, наш воинственный граф Фландрский всего сорока семью рыцарями обязан. А у меня граф Яффский, сеньор Сидона и принц Галилейский – каждый по сотне в бой выводит, а сеньор Заиорданья – сорок. И службу несут бессрочно. Мы все больше зависим от орденов, у них общим числом еще около шестисот рыцарей, и они единственные продолжают получать пополнение из Европы. Баграс и вся южная часть Антиохии под началом храмовников, а госпитальеры весь север графства Триполийского защищали, пока Сен-Жиль был в плену. В Иерусалимском королевстве тоже все больше крепостей укомплектованы их гарнизонами. К несчастью, ордена соперничают, заботятся только о своих интересах, своевольничают, никто ни с кем не может договориться. Шатильон, говорят, вы старый друг тамплиеров, орден до сих пор помнит, что вы передали им Александретту. Мы рассчитываем на ваше посредничество.
– Я всегда находил общий язык с храмовниками. Без них мы Аскалон не взяли бы, и Александретту я с их помощью у армян отвоевал, а после мы вместе восстановили Гастон. На Кипре тоже вместе были, – ухмыльнулся, покусывая травинку, и серьезно добавил: – В джуббе с нами брат-храмовник сидел – Паскаль Лаборд, благородная и святая душа.
Бодуэн никогда не встречал рыцаря, подобного Рено. Из латинского барона Рейнальд де Шатильон превратился во франкского бедуина Бринса Арната: с арабами беседовал на их языке, без басурманских ругательств не обходился, привык к их пище, даже несъедобный для христиан рис поедал с удовольствием, и одежду и обычаи магометан перенял, но их самих возненавидел так, как только Господь воинств Саваоф умел ненавидеть врагов Израиля.
– Сир, у нас мало сил, и потому мы должны пользоваться ими, как ассасины кинжалом: втыкать клинок туда, где нет брони и где это смертельно, – Рено ткнул пальцем в ямку над левой ключицей. – Огромное преимущество Айюбида в том, что его считают предводителем джихада. Но это и его ахиллесова пята, потому что на самом деле курдский калаб занят присвоением Мосула и Алеппо, а вовсе не защитой ислама, на который, к нашему позору, никто и не нападает. Но я нападу и, клянусь истинным Иосифом, докажу, что этот Юсуф бессилен заступиться за свою ложную веру.
– Что вы предлагаете? – Король перестал ощущать жгучую боль, весь подался вперед, завороженный пылом Шатильона.
– Не дожидаться конца перемирия, наоборот, пока не поздно, помешать Саладину овладеть Алеппо. Необходимо перенести войну в Дар аль-Ислам – на сарацинские территории. Самый важный для них путь – это Дарб-эль-Хадж между Каиром и Дамаском, дорога их нечестивого хаджа. По этой вене течет кровь в сердце ислама, в их святые города Мекку и Медину. Из наших Заиорданских замков – Керака и Монреаля – ее можно перерубить, и тогда армия Египта не сможет пройти в Сирию, а басурмане Сирии и Месопотамии не смогут совершить свое обязательное паломничество. И магометанские караваны необходимо грабить, пока пески не занесут их торговые пути и не испустит дух их торговля, которая кормит и поит их.
Затаив дыхание слушал Бодуэн эту неистовую душу. Разве их отцы и деды завоевали эту страну тем, что стремились лишь к возможному? Рейнальд откинул очередную изжеванную травинку, продолжил:
– Наши лошади не могут идти по пескам внутрь Аравии, значит, нам придется пересесть на верблюдов. Я бы отбил крепость Калат аль-Гинди, в ней последний источник питьевой воды до Айлы, и Айлу вернул бы, чтобы Тростниковое море не служило больше неверным домашним водоемом. Я бы напал на Тарбук – прихожую Медины. Мы не можем изгнать Саладина из Сирии, но мы можем заставить его самого все бросить и помчаться на защиту своих южных владений.
Агнес восторженно захлопала в ладоши, а Бодуэн даже дышать забыл. Регент уверял, что Шатильон – безумный и неуправляемый авантюрист, а королю с каждым словом все больше нравился этот предприимчивый и дерзкий герой. Его величество видел перед собой расчётливого стратега, прекрасно понимающего силу и слабость и франков, и сарацин, способного к непредвиденным решениям и внезапным действиям. Этот Рейнальд и впрямь неистовый: по летам он королю в отцы годится, но в нем пожаром полыхает тот огонь, который светил латинянам уже почти столетие и который даже не тлеет в снулом Раймунде Сен-Жиле. Да, за Бринса Арната уплатили гору золота, но никто другой в Леванте столько не стоил. Он – как дрожжи, без которых тесто не взойдет.
Лицо и тело Бодуэна были покрыты белесыми струпьями, брови выпали, правая рука совсем не действовала, он передвигался в носилках, почти ослеп, с трудом говорил, но слушая Шатильона, король поверил, что еще успеет совершить подвиги, достойные его предшественников – постоит за веру христианскую, защитит Заморье и нанесет врагу смертельный удар. О чем еще может мечтать умирающий? А Рено продолжал, весь напряженный, как повисший на цепи пес:
– Повелите – и я буду вашей рукой и вашим мечом. Прежде я искал добычи, славы и власти, а обрел только годы страданий и потерял все, что имел. Теперь у меня ни трона, ни владений, нет даже кровли над головой. Жена скончалась, дочь навеки покинула Утремер и забыла меня, я одинок и нищ, – поперхнулся, дернул головой, оттянул ворот галлабии, – зато прошли времена моих бесцельных безумств, теперь я знаю, чего добиваюсь – уничтожения ислама, нашей победы над последователями Магомета.
Этот Бринс Арнат хоть и был здоров, как бык, а тоже оказался прокаженным. Его величество постарался, чтобы голос не выдал сострадание и волнение:
– Шатильон, королевский домен жалует вам в лен Наблус. Фьеф поставляет двадцать рыцарей.
Рено улыбнулся – и словно брызнуло светом и теплом: от глаз разбежались лучи морщин, сверкнули белые зубы, на щеках сквозь короткую щетину обозначились ямочки. На него было приятно смотреть, он вызывал доверие и приязнь, его хотелось слушать еще и еще, и его присутствие грело, как огонь стылой зимой. Неудивительно, что мать так добивалась его освобождения.
– Спасибо, ваше величество, нам пригодится каждый из этих рыцарей. Мне покоя не дает, как мало времени у меня осталось, но всё, что осталось, иншаллах, я отдам защите Утремера.
Бодуэн кивнул. Ему отпущено и того меньше. Король вспомнил пагубную нерешительность отца. Нет, он не проведет последние ценнейшие дни в бесконечных колебаниях и просчетах, как добивается того вдумчивый и осторожный граф Триполийский, приближая Заморье к неизбежному концу:
– Мессиры, вы найдете во мне верного союзника. Я – плоть от плоти Утремера, его сын и защитник, нет у меня другого места в этом мире, и на том свете мне нечем оправдаться, кроме как любовью к этой земле. Я не опозорю себя потерей королевства и Земли избавления, с честью завоеванной моими предками. Дядя, вас я сделаю сенешалем королевства. И выкуплю для вас у Онфруа его Торон. Шатильон, в следующем году я достигну совершеннолетия. Тогда я назначу вас бальи вместо Триполи. И пошлю вас обоих к Мануилу – уговорить его снова предоставить нам флот.
Эти два безземельных шевалье – один изначально был перекати-полем, а другого сарацины лишили его графства – отныне станут оплотом Заморья.
Агнес облизнула пальчики, весело заявила:
– Мой дорогой сын, я так счастлива, что вы вняли тем, кто знает, что делать и верит в победу, и наконец-то вышли из-под влияния этой противной ледышки Сен-Жиля. – Потрепала брата по рукаву: – Жослен, я нашла тебе прекрасную невесту – дочь Анри де Милли, наследницу Петры, Монфора, Шато де Руа и трех дюжин укрепленных деревень в Галилее.
Жослен ухмыльнулся, потянулся, выставил длинные ноги:
– Агнес, после двенадцати лет заключения я вряд ли окажусь придирчивым. Если девица молода, красива, богата, владетельна и красиво попросит меня, я, пожалуй, соглашусь.
К монарху с поклоном подошел бородатый сириец, беззвучно расставил склянки и узелки, протянул его величеству чашу.
– Чем только этот Сулейман ибн Дауд не мучит моего мальчика, – пожаловалась Агнес, – все на свете диеты перепробовал, заставлял бедняжку париться в горячих серных источниках, «сарацинской мазью» мазал, кровь пускал.
– «Сарацинская мазь»? Это же сулема, живое серебро, страшно ядовитая штука.
– А что делать? – Агнес страдальчески закатила глаза, протянула руку к блюду за рахат-лукумом с фундуком.
Шатильона что-то тревожило в этом сирийце. Он пытался рассмотреть королевского медика, и наконец тот поднял голову: длинная борода, суровое лицо, беспросветно темные глаза. Где-то Рено видел его, когда-то слышал этот голос, но не мог вспомнить – где и когда. Все, что произошло в его жизни до плена, казалось случившимся в иной жизни и не с ним.
– Мадам, откуда этот лекарь? Кто он такой?
Агнес протянула Шатильону кусочек фисташковой пахлавы:
– Понятия не имею. Христианин-сириец, хоть и прозывается басурманским именем. Но он лучший врач Леванта. Рено, вы ведь любите восточные сласти?
Рено отвел от своего лица пальчики с пахлавой, спросил лекаря:
– Где вы учились медицине, Сулейман?
– В Аль-Искандарии, Бринс Арнат, у искуснейших врачей Египта. Но графиня ошибается, я далеко не лучший врач. Моше бен Маймон, иудей из Кордовы, врач эмира аль-Фадиля, визиря Саладина, несравненно лучше меня.
– Иудей! – Агнес скривилась.
Сулейман поднял голову от королевской руки, с которой разматывал бинты, непроницаемым, мрачным, как бездна, взглядом уставился прямо на Рено:
– А лучшим на свете целителем, самым искусным и самым преданным страждущим был Ибрагим ибн Хафез аль-Дауд.
Вновь склонился, продолжил невозмутимо обнажать кожу Бодуэна, всю в белых струпьях. Рено задумался, покусывая травинку, рассматривая лекаря из-под сведенных бровей:
– Бодуэн III был отравлен в Антиохии врачом-сирийцем.
Сулейман кивнул:
– Да, его величеству не повезло. Вы велели казнить Ибрагима ибн Хафеза, и некому стало помочь больному. А государь, наверное, остался бы в живых, если бы аль-Дауд был жив.
– Ибн Дауд, – сказал Рено, уставившись в землю, – иногда мне кажется, что мое прошлое преследует меня. Оно страшно рассчиталось со мной и в Алеппо. Я искренне раскаиваюсь в казни Ибрагима. Поверьте, я был наказан за него, и я, разумеется, не хотел, чтобы король Иерусалима заплатил за мой грех жизнью.
Лекарь весь был поглощен намазыванием белой пасты на кожу венценосного пациента.
– Мой лекарь делает для меня все, что может, – благодушно заметил Бодуэн, – только его чудодейственные эликсиры и продолжают придавать мне силы.
Агнес поднесла ко рту засахаренную сливу:
– Да, только Сулейман и Альберик облегчают страдания моего мальчика.
Рено провел рукой по лицу:
– Альберик? Какой Альберик?
– Ну кто же не знает Альберика? Тоже побывал в плену, кстати. Он уже годами ухаживает за прокаженными в лазарете у ворот святого Стефана. Криво стриженный такой, невысокий. Сам хромой, а таскает на спине тех, кто не может ходить, и ноги им моет.
Его величество кивнул:
– Альберик – святой человек. После мессы целует каждого из несчастных, это многого стоит для людей, которых никто никогда не касается с любовью.
Шатильон ошеломленно покачал головой:
– Значит, хоть одна вещь в жизни мне все же удалась правильно, если мой бывший оруженосец вершит такие добрые дела!
– А! – король дернулся от изумления, восторженно уставился на Шатильона: – Он рассказывал, что посвятил себя прокаженным в благодарность за то, что некий рыцарь в тюрьме заступился за него и отказывался есть, настаивая на его освобождении! Уж не вы ли спасли его?
Бодуэн восторженно взирал на этого необыкновенного человека, сидящего на земле в арабской одежде. Сколько же удивительного пережил и совершил этот легендарный Бринс Арнат! Сирийский врач тоже поднял голову, вперил страшные очи в Шатильона. Рено улыбнулся, покачал головой:
– Вот уж нет, сир. Наоборот, я думаю, это меня спасли молитвы и заступничество Альберика.
Ибн Дауд собрал свои склянки, откланялся:
– Ваше величество, похоже, последняя моя мазь эффективней сулемы. Впредь будем пользоваться ею.
Агнес склонилась к Рено, приказала с вольностью красивой женщины, считающей себя вправе повелевать всеми мужчинами вокруг:
– Рено, друг мой, хватит скучных разговоров о тягостных и неприятных вещах. Вы видите эту аллею? В конце ее вас ждет Соленое море, пустыня Моав, Эдом и все Заиорданье с замками Керак и Монреаль. Тот, кто будет владеть всем этим, станет не только четвертым по значению и мощи бароном в королевстве, но и очень счастливым мужчиной. – Хихикнула, указав бровями вглубь сада: – Спешите, друг мой, спешите. Я в вас уверена.
По усыпанной гравием дорожке, минуя кусты цветущего гибискуса, Рено вышел к крошечному водоему, заросшему по краям лотосом. На закраине сидела женщина с длинными, густыми, смоляными кудрями, спадающими барашками на крутую спину. Она обернулась на хруст его шагов, с широкоскулого лица обожгли горящие, темные как оникс, очи. Вся кровь Рейнальда отхлынула от сердца, а потом сильной, жаркой волной прихлынула обратно и затопила до белков глаз. Разум твердил, что это совсем другая женщина, а сердце упрямо узнавало, и так это нежданное сходство обрадовало, что он и не подумал разубеждаться.
Он стоял рядом, а она закинула голову, рассматривая его. Ее маленькие босые ступни плескались в воде. Солнце играло на бирюзовом фаянсе дна, на плещущейся поверхности пруда, окольцевавшей тонкие женские лодыжки серебряными браслетами. Время остановилось, оглушительно заливался жаворонок, шелестели пальмовые опахала в вышине, журчали струи, квакали лягушки и жужжал шмель, но все заглушил барабанный грохот сердца в ушах. Он опустился на корточки, склонился к самым ее зрачкам, в них мелькали отражавшиеся от воды блики. Она не отодвинулась, а тоже неотрывно, жадно смотрела в ответ. Как давно он хотел ее увидеть и теперь пристально разглядывал синеватую беззащитную речушку жилки, текущую к виску и убегающую в густую поросль темных завитков, широкую переносицу с крохотной морщинкой, короткий прямой нос в веснушках, темный, едва заметный пушок на верхней губе, обветренные, полные, дрожащие от сдерживаемой улыбки губы, такие мягкие и розовые в своей сердцевине. Глазам стало нестерпимо горячо. Как же ты повзрослела, козочка моя! Тыльной стороной руки нежно погладил ее по щеке.
Первой не выдержала Стефания, смутилась, отпрянула:
– Так вот каков наш герой, шестнадцать лет заточения… – поежилась, во взгляде плавал задор и невысказанный вопрос. – Такой срок…
Он уже знал, о чем думает каждая женщина, глядя на него: а остался ли ты еще мужчиной, Бринс Арнат? Владелица Заиорданья Стефания де Планси уже дважды овдовела и, если честно, сама давно уже не была свежей завязью. И солнце Леванта сожгло эту женщину сильнее, чем следовало, и в смоляном каскаде волос блестели многочисленные серебряные струи. Ее смеющиеся, зовущие, смело распахнутые соколиные очи опутала сеточка морщин, в углах крупного рта залегла тень годов.
– Стефания, девочка моя, – Шатильон обхватил двумя пальцами проволочный локон, притянул ее пылающее, умопомрачительное лицо к себе, – поверьте, у нас еще вся жизнь впереди.
Ее кожа пахла разогретым на солнце песком, рот был прохладным и сладким, как переспевшая смоква.
* * *
Солнце только взошло над далекими горными хребтами, а над равниной Дамаска воздух уже дрожал от зноя.
Войска спешно строились в боевой порядок под началом коннетабля Онфруа де Торона. Шатильон жадно вдыхал пьянящий запах коней, навоза, железа, кожи и пыли, взметенной копытами волнующихся скакунов. Душа ликовала от заливистого конского ржания, родного звяканья металла и зычных голосов латников. Над головой развевался белоснежный Иерусалимский штандарт с серебряно-золотым крестом, вокруг трепыхалось великое множество пестрых баннеров, среди них и родной сине-красно-белый стяг Шатильона. Бодуэн простерся на земле перед Животворящим Крестом, и все ополчение взмолилось о божественном заступничестве. У многих катились слезы.
– Adiuva Deus! Да поможет нам Бог! – хрипло прокричал король.
Прокаженному монарху помогли взобраться на коня, накрепко привязали к седлу. Меч он держал в левой руке, еще способной нести оружие. Но свое место в авангарде этот заживо гниющий венценосец не уступил никому. За ним строился отряд прокаженных рыцарей ордена святого Лазаря, у многих из-под кольчуги виднелись перебинтованные конечности, некоторые тоже были примотаны к седлам, и белые плащи с зелеными крестами колыхались на ветру, подобно саванам. Всем было известно, что эти Ожидающие Благословенной Смерти сражаются с невиданным отчаянием и дерзостью, потому что им нечего было терять на грешной земле, а болезнь избавила их от боли. Никто не умеет погибать так героически, как обреченные.
Шатильон ухватился за седло, поймал левым сапогом стремя, оттолкнулся правой ногой от земли и одним не позабытым телом рывком взлетел на спину Баярда. Знакомое движение захлестнуло счастьем и возбуждением. Распирало грудь и подкатывало к горлу исступление, которому наконец-то предстояло вырваться. Магометане выпустили Рейнальда из подземелья, как выпускают стрелу из лука. Шестнадцать лет они натягивали тетиву, и отныне его мщение будет поражать их сердца до последнего вздоха Бринса Арната.
Это бушевавшие внутри ярость и нестерпимая обида помогали сжимать в отвыкших от оружия руках меч и копье, это они делали невесомыми щит и кольчугу, это ненависть стиснула накрепко бока нового Баярда, нервного, выносливого и чуткого скакуна, пепельно-бледного, как все дестриэ Шатильона и как сама смерть.
Рыцарь словно замер у края обрыва, готовый рвануть, взмыть, полететь, понестись по равнине смерчем до подножья Ливанских гор, топтать созревшие колосья, вырубать виноградники, жечь полные зерна овины, гнать пахарей-феллахов в непроходимые горы, накатывать неудержимой лавиной на вражеские города и крепости и разорять земли эмирата, пока не выйдет на бой из-за стен Дамаска армия Саладинова брата – Туран-Шаха. И тогда завяжется долгожданная сеча, и вырастет до небес и засияет над головами латинян Животворящий Крест, и сам святой Георгий примется разить сарацин плечо к плечу со своими излюбленными сынами.
Воздух пронзил упоительный зов боевого рога, всадники выровняли и сомкнули ряды. Гарцевавший рядом Жослен де Куртене приподнял забрало и прохрипел:
– Шатильон, дружище, даже если бы я сейчас был одной ногой в раю, я бы убрал ее и отправился биться!
Рейнальд обвел слезящимися от ветра и черт знает еще от чего глазами железные ряды рыцарского вертограда, частокол вздымающихся копий, опущенные забрала, глухие квадратные шлемы, трепещущие над ними наметы, храпящих, вздымающих гривы и рвущих узду жеребцов. Из сотен глоток вырвался и заложил уши боевой клич франков: «Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!» И за мгновение перед тем, как вместе с Жосленом, королем и всем прочим прокаженным рыцарством понести врагу смерть и разрушение восставшими из могил всадниками Апокалипсиса, вскричал Бринс Арнат в упоительном самозабвении:
– Я буду сражаться с сарацинами, пока не окажусь в аду обеими ногами!
Эпилог Волк и Лев
Подземный ангел роз кровавых строк
Считает прибыль на железных франках…
Анри ВолохонскийИюльское солнце зависло на выцветшем, сероватом от дыма небе. Проклятый день был жарким и душным, а крохотная тень от верблюжьей шкуры сарацинской палатки росла так медленно, что Шатильон мог и не дожить до того, как она полностью накроет его. Сбросил бесполезную кольчугу, остался в одних брэ и в жесткой от засохшего пота рубахе. Неподалеку в изнеможении растянулись коннетабль Амори де Лузиньян, Магистр тамплиеров Жерар де Ридфор, Онфруа IV де Торон – сын Стефании и пасынок Шатильона, чуть поодаль ждали решения своей участи еще полторы сотни сдавшихся на милость Саладина рыцарей. Король Утремера Ги де Лузиньян сидел в пыли, уткнув лицо в ладони, его белокурые локоны превратились в серые, грязные патлы и мелко дрожали.
Лузиньян хоть и был потомком великого Шарлеманя, но за четырнадцать поколений благородная кровь императора превратилась в жилах пуатевинца в перекисшее сусло, которое то и дело шибало в его пригожую голову. Скудный разумом, слабый характером и убогий опытом, вздорный Ги явился в Палестину из Аквитании вслед за своим братцем Амори, где обоим грозила расправа за убийство графа Солсбери. К тому времени протоптанная Шатильоном тропинка из гарнизонной стражи в Высшую Курию превратилась в торную дорогу. С тех пор как Констанция вышла замуж по собственному влечению, каждая наследница фьефа служила приманкой для обольстителей, и многие владетельные дамы последовали примеру княгини Антиохии, не все, правда, озаботились церковным благословением. Вот и оба красавчика Лузиньяна устроили свою судьбу благодаря влиятельным женщинам: Амори стал любовником всесильной Агнес де Куртене и коннетаблем, а Ги повезло еще больше – за него вышла замуж овдовевшая Сибилла, сестра Бодуэна Прокаженного. Первый супруг Сибиллы Гильом Длинный Меч, маркиз Монферратский, знатный и прекрасный рыцарь, скончался от лихорадки месяца три после венчания, несмотря на преданный уход Сулеймана ибн Дауда.
Рено не выдержал жалкого вида помазанника:
– Ги, возьмите себя в руки, не тряситесь как грешник на Страшном Суде!
Король поднял голову, его закопчённые, щетинистые щеки пробороздили извилистые ручейки слез. Срывающимся от бессильной злобы голосом он упрекнул Магистра тамплиеров:
– Это все ваша вина, Жерар. Это вы внушили мне, что Сен-Жиль убеждал нас остаться в Ла Сафури, только чтобы вернее погубить. Я послушался вас, мы двинулись в этот проклятый поход – и вот все потеряно.
Шатильон не стерпел такого малодушия:
– Как будто вы не знали, ваше величество, что если Сен-Жиль скажет, что солнце светит, то Магистр на Святом Писании поклянется, что оно приносит одну лишь тьму. Он ведь и королем вас сделал только Триполи в отместку.
Долгая болезнь и немощь Бодуэна Прокаженного успели расколоть единство баронов. Запах смерти над престолом превратил наследников трона и их сторонников в грифов и гиен. Едва скончался последний бесспорный венценосец – Бодуэн V, восьмилетний сын Сибиллы и Гильома Монферратского, – как многие принялись решать вопрос дальнейшего престолонаследия по собственному разумению.
Принцессу Сибиллу поддерживал ее дядя Жослен III де Куртене, а многочисленные Ибелины горой стояли за младшую дочь Амальрика – Изабеллу, поскольку Балиан Ибелин сочетался браком с ее матерью – Марией Комниной.
После двух сестер ближе всех к трону был кузен Амальрика Раймунд Сен-Жиль Триполийский, и эта близость сводила графа с ума, он еще пять лет назад пытался свергнуть Прокаженного. Он даже похороны Бодуэна V не почтил своим присутствием, а сломя голову помчался в Тивериаду – собирать Великую Курию в своих владениях. Не учел только, что в Иерусалиме остался его смертельный враг – Жерар де Ридфор, который так и не простил Сен-Жилю проданной купцу невесты.
Несколько лет назад Жерар вступил в орден тамплиеров и за короткий срок сумел стать Великим Магистром. Он не дожидался решения баронов. Едва сын Сибиллы лег под плиту у Голгофы, Ридфор приказал братьям-храмовникам запереть все ворота Иерусалима, и патриарх Ираклий – еще одна жалкая креатура Агнес де Куртене – помазал Сибиллу на царствие под охраной послушных Магистру братьев ордена. Влюбленная королева тут же переложила корону на своего супруга Лузиньяна. Так Утремер обрел убогого монарха, не способного вести за собой никого, помимо жены. Его родной брат Жоффрей и тот заявил, что уж если Ги сделали королем, то его, Жоффрея, должны были сделать Господом Богом.
Жерар де Ридфор огрызнулся:
– Мы бы дошли, если бы Сен-Жиль не повел нас непроходимым путем и не выбрал место для ночевки без воды и укрытия.
Совет Сен-Жиля оказался плохим, может, даже предательским, но ему предшествовало столько благих намерений, себялюбивых интриг, алчности, зависти, соперничества и вражды среди баронов, что каждый внес посильную лепту в то, чтобы завтра на сирийских рынках христианские рабы продавались дешевле пары сандалий.
Если бы Рено пекся только о личном преуспеянии, он поддержал бы младшую из сестер – Изабеллу: принцесса была замужем за его пасынком Онфруа IV де Тороном, сыном Стефании, но Ги де Лузиньян хоть звезд с неба и не хватал, зато беспрекословно слушался опытного, овеянного легендами Бринса Арната, а клика Изабеллы непременно оставила бы заправлять Утремером регента Сен-Жиля. Как ни крути, слабохарактерный болван представлялся предпочтительнее умного и опытного предателя. Да и не годился нежный сынок Стефании в монархи. Он и сейчас умудрялся выглядеть несчастнее всех. Миловидный и женственный, словно алтарный мальчик, Онфруа был, в отличие от Лузиньяна, смышлен, начитан и полон понятий о чести, но оказался умельцем только штаны в скриптории протирать: первым не выдержал, удрал от собственных сторонников, явился в Иерусалим и присягнул соперникам на верность. А вот Триполи с потерей трона не смирился: отказался принести оммаж Лузиньяну, отторг Галилею от остального королевства и заключил отдельный мир с Саладином.
Ибелины тоже ненавидели нового венценосца, поскольку старший из троих братьев когда-то сам надеялся получить руку Сибиллы, но Бодуэн IV предпочел тогда более знатного аквитанца Лузиньяна, в надежде, что союз с Лузиньянами укрепит связи Заморья с Европой.
Саладин был счастлив усугубить раскол среди латинян и два месяца назад, в мае, потребовал у Сен-Жиля прохода своих войск по землям Галилеи. Граф Триполийский и на это безропотно согласился.
Шатильон вытер черный от чада лоб, поглядел на манящую, недоступную гладь Галилейского моря, на темные холмы на дальнем берегу:
– Интересно, Жерар, как вы теперь выкрутитесь?
Будь Айюбид справедлив, он бы наградил Ридфора. Ведь это Магистр, у которого всегда было больше отваги, чем ума, напал неподалеку от Назарета со ста сорока рыцарями на впущенное Сен-Жилем в рубежи Утремера семитысячное войско неверных. Из того боя при Крессоне лишь трое спаслись бегством, в их числе и сам зачинщик Ридфор. А головы остальных тамплиеров увенчали сарацинские пики.
– Нехристи братьев ордена в живых не оставляют, – угрюмо ответил Магистр.
Шатильон сухо засмеялся:
– Это простых храмовников не оставляют, которым нечего за себя предложить. А вы наверняка что-нибудь придумаете, чтобы сельджукские сабли не отправили вас в рай до тех пор, пока вы весь Утремер в преисподнюю не свергнете.
После несчастья Крессона среди баронов поднялась буря негодования против Сен-Жиля. Союзника Саладина обвиняли даже в тайном принятии ислама, а патриарх Иерусалима пригрозил отлучить изменника от церкви, расторгнуть его брак с Эшивой Галилейской и освободить его вассалов от оммажей. Когда Триполи обнаружил, что единственным его другом остался глава джихада, он почел за лучшее примириться с Лузиньяном. Латиняне снова были едины – и вовремя, ибо тридцатитысячная армия султана Египта и Сирии пересекла Иордан.
После праздника апостолов Петра и Павла самое большое на людской памяти двадцатитысячное королевское ополчение выступило навстречу врагу и стало лагерем у галилейских источников Ла Сафури, заслоняя собой Палестину, но пытаясь избежать открытого боя. Тогда, чтобы выманить противника из стратегически превосходной позиции, сарацины напали на Тивериаду.
Сен-Жиль с пеной у рта уговаривал Лузиньяна оставить город и собственную супругу на милость Саладина. Но какой толк от армии, если она бережет стратегическое превосходство, а не разоряемый Утремер? Шатильон с Жераром де Ридфором переубедили короля выступить на помощь осажденным. От Ла Сафури до Тивериады вело всего шесть с половиной лье, и спуститься к городу под обстрелом тюркских лучников было пусть и трудной задачей, но вполне посильной. Да, сарацин было больше, но с каких это пор огонь пугает, что древесины многовато?!
Да только если Сатана задумал сделать исполнимое неисполнимым, ему оказалось достаточно отдать армию франков под общее командование безмозглого Лузиньяна, его коварного соперника – умника Сен-Жиля и неуправляемого Жерара де Ридфора.
Вчера утром они двинулись маршем по старой римской дороге. На выходе из Ла Сафури сержантам пришлось зарубить какую-то неугомонную древнюю старуху, злобно проклинавшую «грешных разбойников» и сулившую им погибель. Сельджукские конные лучники обстрелами и непрекращающимися нападениями замедляли движение тамплиеров в арьергарде, а авангард стремился поскорее достигнуть спасительного озера, и вскоре колонна опасно растянулась меж холмов. К полудню все же пробились к источнику Турана, но воды там оказалось – кот наплакал, и Сен-Жиль, которому принадлежала привилегия возглавлять и вести ополчение по своей земле, предложил двинуться к источнику Саджара. За каждую пядь приходилось сражаться с армией Саладина, и вскоре люди и лошади изнемогли от усталости и жажды. Сарацинам удалось оттеснить христиан с намеченного пути и отрезать им возвращение к Турану.
Еще до захода солнца Магистр тамплиеров заявил, что его воины обессилели и валятся с ног. Сен-Жиль посоветовал разбить лагерь на сухом плато у деревни Марескальция. Скоро обнаружилось, что тамошние колодцы, наполнявшиеся зимними водами, высохли. Франки знали каждый камень и источник в Галилее лучше, чем дорогу от собственной постели к ночному горшку, но к концу первого дня они прошли лишь половину пути и потеряли треть людей.
От жажды у Рено закружилась голова. Свой последний глоток из походного бурдюка он сделал еще ночью, когда душащая гарь подожженной степи и жар запаленных врагами костров превратили разбитый ими лагерь в сущую преисподнюю, а басурмане непрестанно подвозили на верблюдах кувшины с озерной водой и на глазах у задыхающихся страдальцев выливали драгоценную влагу на землю. До утра франков поливал адский дождь сельджукских стрел, уши закладывали непрестанные жуткие вопли «Аллаху Акбар!». Тут уже не одна сумасшедшая старуха, но и Сен-Жиль предрек, что все они непременно погибнут и королевство обречено. Местные друзы, не простившие латинянам разрушения их Сарахмула, увидели, что положение христиан безнадежно, и переметнулись на сторону магометан.
Спасительная чаша Тивериадского моря мерцала внизу, до нее рукой было подать, но от сухих солдатских глоток ее отделяла двадцатитысячная армия Саладина, непроходимая глупость Лузиньяна и предательство графа Триполийского.
Рассвет дня святого Мартина из Тура застал латинян в плотном кольце врагов и огня. Несколько рыцарей графа Триполийского – Бодуэн де Фортью, Раймонд Бак и Лаодиций де Тибериас, пусть души их никогда не обретут прощения! – перебежали к врагам Господа и рода человеческого, а остальное воинство, полумертвое от вчерашнего перехода по безводной местности, от ужасной бессонной ночи в огненном пекле, дыме и под обстрелами, свернуло, по совету все того же Сен-Жиля, к Евангельской Горе Блаженств, вздымавшейся над равниной двумя верблюжьими горбами. Им удалось пробиться к ее подножью, но и здешний родник был сух.
Тогда граф Триполийский построил отряд клином и бросился в конную атаку на вражеское кольцо. Эмир Техеддин немедленно открыл в своих рядах проход для недавнего союзника и для четверых его пасынков и вновь сомкнул строй за последним из людей Триполи. Вместе с ними из смертельного окружения выскользнули также Реджинальд Сидонский и Раймонд Антиохийский, сын Заики и крестник Сен-Жиля. Отдельным маневром удалось вырваться только Балиану Ибелину и бравому сенешалю Жослену Эдесскому. Такой уж он человек, Жослен. Слишком умен, чтобы геройски защищать гиблое дело. Как бы то ни было, беглецы бросили соратников на верную смерть.
Совсем рядом, в Тивериадском озере, дезертиров ждала вода, сладкая и опьяняюще свежая. Вот он – вкус предательства, он благоухает свободой и жизнью. Это преданность и честь воняют потом и кровью.
После этого оставшиеся в окружении пали духом. Но последняя надежда исчезла, когда неверные отбили драгоценную святыню – Животворящий Крест. Патриарх Ираклий отговорился от участия в походе болезнью, – трусостью та болезнь прозывается, – и раскопанную на Голгофе Еленой Равноапостольной святыню нес в бою епископ Акры, мир ему. Госпитальеры и тамплиеры продолжали мужественно сражаться в первых рядах, но вскоре все обезумели от жажды, усталости и жары, от гари и чада запаленной степи – и ряды латинян сломались. Всадники исступленно пытались опрокинуть сарацин и пробиться к озеру, а пешие лучники бросились спасаться от удушливого дыма под развалинами стены на верхушке северного холма. Без защиты лучников рыцари теряли под вражеским обстрелом коней, и некому стало оборонить пехотинцев от сельджукских сабель.
Последние полторы сотни рыцарей отступили на вершину южного холма Горы Блаженств, к алому королевскому шатру. Из последних сил призывая на помощь святой Гроб Господень, Шатильон с товарищами еще три раза атаковали вымпел Саладина, но все их отчаянные попытки захлебнулись. Они сопротивлялись до тех пор, пока не попадали на землю в изнеможении и не предали себя Божьему милосердию.
Латиняне начали схватку у места Нагорной проповеди в час распятия Христа, бились во имя Его все то время, пока Спаситель терпел смертные муки, и в тот миг, когда Сын Божий скончался на Кресте, нечестивый Айюбид стал хозяином поля. За шесть часов страданий Иисуса, за время, отделяющее утреннюю литургию от послеобеденной, доблестные франки потерпели поражение в святой, великой, почти столетней борьбе за Палестину. Двадцать тысяч хранителей Утремера были разгромлены в прах, все славное христианское рыцарство Палестины порублено или пленено. Армии франков больше не существовало, дорога на Иерусалим была открыта, место искупления христиан стояло беззащитным.
Рено принялся жевать траву, в надежде высосать хоть каплю свежести из пожухлого и затоптанного ковыля. Скорее бы дали напиться. Скорее бы что угодно, лишь бы прекратилась жажда. Пощады ожидать не приходилось: ведь если бы не Бринс Арнат, Волк Керака, франкский бедуин, недаром прозванный сарацинами Дьяволом, Айюбид завоевал бы Заморье еще десять лет назад.
– Онфруа, неужто прав был Сен-Жиль, и следовало любой ценой сохранять мир с неверными?
Отказавшийся от короны книжный умник судорожно вздохнул впалой грудью:
– Теперь никогда не узнаем. Некоторое время мы, наверное, могли бы продержаться, если бы избегали рукопашных боев, прятались за крепостными стенами и не мешали Саладину разорять наши владения и брать наши города и крепости. Но, чтобы полностью и окончательно победить бессчетных магометан, требовалось чудо, а мы, видно, оказались его недостойны.
Саладин и впрямь мог позволить себе проиграть тысячу сражений – его полчища вновь и вновь воскресали из-под земли упырями, а для франков каждое столкновение было решающим. Но как раз в этом бою численность войск была сопоставима. Им случалось одерживать верх и с несравнимо меньшими силами. Да только сегодня иссякли не одни источники Галилеи, иссякли и везение франков, и милость Господня.
Десять лет назад у Монжизара триста семьдесят пять рыцарей, полсотни из них – Ожидающие благословенной смерти, вместе с восьмьюдесятью четырьмя тамплиерами и несколькими тысячами пехотинцев преградили путь к Иерусалиму двадцати шести тысячам врагов. Смельчаков ждала либо слава, либо смерть. Даже пасынки Сен-Жиля и братья Ибелины в тот день вершили чудеса храбрости, и сам святой Георгий, покровитель Утремера, явился на равнину Рамлы на белом коне, дабы отомстить сарацинам за осквернение его храма в Лидде. Мамлюки не выдержали напора рыцарской кавалерии – и франки разметали их, словно сокол стаю журавлей. Тогда, десять лет назад, смертельно больной король и бывший узник Алеппо с кучкой соратников теснили тысячи врагов как баранов, которых загоняют в овчарню, и толпами отсылали нехристей в преисподнюю. То была нежданная, полная и блестящая победа немногих достойных над бесчисленными окаянными.
Антихрист спасся, удрав верхом на верблюде. Повернись судьба чуть иначе, и не Шатильон сейчас, а султан десять лет назад встретил бы свою смерть. Люди верят, что все решает воля Божья и человеческие усилия, но в ту ночь все решил прыткий верблюд и дьявольское везение Саладина. И все же тогдашний разгром пошатнул власть Айюбида в Египте и заставил его отложить попытки завоевания Утремера.
Во скольких сражениях бился Волк Керака! В Синае, у Мардж-Айюна, под Бельвуаром, на реке Литани, у Брода Яакова… Одиннадцать лет он вдоволь поил свою жажду мести! Бринс Арнат вдохнул в снулое рыцарство пуленов новые силы, вернул франкам дух отчаянности и дерзости.
После битвы при Монжизаре Рено пять лет был самым влиятельным бароном Латинского Востока. Алеппский узник не забыл попечения епископа Игнатия: патриарх яковитов Михаил Сириец прибыл на встречу с Прокаженным в Иерусалим, и монофизиты Сирии объединились с латинянами в защите Палестины. Бодуэн назначил сеньора Заиорданья регентом королевства и послал его с Жосленом в Константинополь договариваться с Мануилом Комниным о новом нападении на Египет. Бринс Арнат больше не был князем Антиохийским: он оставил позади унижение в Мамистре и отбросил прежние обиды. Утремер нуждался в помощи ромеев, а в голодный год не рубят готовое плодоносить дерево из-за его колючек. Шатильон успешно столковался с василевсом, и покорение Земли Гошен еще было достижимо, да только каждый раз так много должно было сложиться удачно для победы и самой малой ошибки было достаточно для гибели!
Огонь не боится дерева, но даже сухая древесина может завалить и удушить пламя, если нет притока воздуха, а к покинутым своими единоверцами франкам давно не пробивалось извне даже слабого дуновения.
Посланный в Европу за помощью надушенный и нарядный патриарх Ираклий немытым европейцам не понравился. Даже Генрих II Плантагенет, такой же внук Фулька и такой же Ангевин, как и Бодуэн Прокаженный, отказался от положенных перед ним ключей от ворот Града Мученичества и от Храма Воскресения Христова, предпочел искупить грех убийства архиепископа Кентерберийского одними деньгами. В Палестину заявился лишь кузен Бодуэна, Филипп Эльзасский, сын Тьерри, старого недруга Шатильона еще по осаде Шейзара. Однако желания сражаться за Господа у нового графа Фландрского не возникло, он попал под тлетворное влияние северных принцев и категорически отказался разделить командование с Шатильоном в планируемом египетском походе. Князь Антиохийский и граф Триполийский тоже увильнули от франко-греческой кампании, настаивая на необходимости отбить Харим. Вместе с Филиппом Эльзасским они совершили несколько бестолковых походов на севере, Харим так и не отвоевали, но план короля и Шатильона вырвать из груди Айюбидовой империи ее сердце – Египет – сорвали. Семьдесят византийских кораблей понапрасну прождали на рейде Акры целый месяц и вернулись на Босфор.
Рассказывают о Святом Геральде, что он бросал осажденным иерусалимцам камни, и эти камни превращались в хлеб. Много лет без устали Мануил бросал латинянам хлеб, но они неизменно превращали его в камни.
Пятнадцать лет защитная длань ромейской империи над Землей Воплощения останавливала сарацин, до тех пор пока сам Комнин не оказался наголову разбит конийскими сельджуками. От этого поражения Византия так и не оправилась, Мануил больше не ведал ни дня радости, а вскоре скончался. После его смерти вырвалась наружу дикая ненависть ромеев к латинянам, которых столько лет привечал их василевс. В Константинополе начались погромы и резня италийских купцов, престол захватил старый авантюрист Андроник, соблазнитель Филиппы и Феодоры. Он заключил мир с Саладином и заставил сына Мануила подписать смертный приговор собственной матери. Прекрасную Марию задушил евнух, а вскоре и сын ее, Алексей II, последовал в мир иной. Спустя пару лет новоримская чернь растерзала и самого Андроника, но Утремеру от этого уже не было толка. В Ромейской империи больше не имелось твердой власти, и франки очень скоро ощутили свое одиночество в Леванте. Даже Киликия с воодушевлением возобновила с ними свои распри.
Зато Заика немедленно развелся с постылой греческой женой и женился на немолодой и незнатной Сибилле де Фонтень, уже второй десяток лет ошивавшейся при княжеском дворе без малейшей надежды на замужество. О ней говорили, что она передает сведения Саладину, а князя околдовала. Иначе как ворожбой этот союз и объяснить нельзя было. Бессмертный Эмери привычно отлучил Боэмунда III, проклял любимый город и удалился в Косер.
А давно забытая Андроником Филиппа Антиохийская вышла замуж за старого коннетабля Онфруа II де Торона. Дед был внуку не чета: в бою у Брода Яакова верный воин заслонил собой Прокаженного монарха и сражался за своего суверена с сатанинским отродьем так, как когда-то Иаков с ангелом на том же самом месте бился. Ценой собственной жизни спас помазанника. Филиппа ненадолго пережила его. Дети Констанции унаследовали неуемное, страстное сердце матери.
Нет, не станет Рено в свой последний день вспоминать Констанцию. Все в Утремере искали утоления своим страстям и амбициям, и женщины не были исключением. Многих уж нет на этом свете. Давно скончалась Агнес де Куртене, у которой вожделение и приязнь всегда побеждали честь и долг. Даже родная дочь Агнесса, оставшаяся в памяти сопящим клубочком в колыбели, и та легла в землю далекой Венгрии. А бывший узник Алеппо пережил их всех, словно судьба вернула ему годы заточения.
Ушел и Бодуэн IV. Под конец жизни Прокаженный устал, он нуждался в спокойствии, чтобы умереть, и ради этого заключил с курдом мир. Перемирие было выгодно и изможденному Айюбиду: в Сирии свирепствовал голод, ему требовался срок, чтобы оправиться от потерь, дождаться лучшего часа и подготовить новое нападение. Но Шатильон не намеревался дарить врагу Господа время и возможности, он не собирался помирать в постели.
Едва скончался от таинственных колик властитель Алеппо Исмаил, сын Нуреддина, – а мешавшие Саладину на этом свете никогда не заживались, – султан начал перебрасывать войска из Египта в Сирию. Вот тогда Волк Керака напал на богатый караван, направлявшийся из Дамаска в Мекку. Вовсе не из одной алчности, хотя золото, шелк, жемчуг и ладан еще никому не мешали. Время нападения было выбрано так, чтобы отвлечь внимание султана от Алеппо, притянуть огонь на себя. Зато эмир Мосула успел вступить в Алеппо, и город еще два года не давался Айюбиду, да и уважение исламского мира к Саладину покачнулось, когда обнаружилось, что глава джихада, всесильный султан Египта и Сирии, не может обеспечить безопасность хаджа. В отместку жестокий язычник захватил и заточил пятнадцать сотен ни в чем не повинных пилигримов из Европы, пригнанных бурей к египетским берегам.
Однако Бринсу Арнату то нападение стоило благоволения Бодуэна. Главным бароном в королевстве стал Триполи. За то, что Шатильон поддержал избрание на патриарший престол Ираклия, отвергнутый второй претендент, архиепископ Тира Гильом, расписал сеньора Заиорданья в своих «Деяниях франков за морем» в самом неприглядном виде, обвинил Рейнальда в жестокости, непослушании и безответственности. Но как бы не очернял хронист Волка Керака, Рено тогда признал главенство Триполи. Он и во время короткого царствования Бодуэна V продолжал прислушиваться к Сен-Жилю, вновь заполучившему бальяж. Шатильон доказал, что понимает необходимость единства латинян гораздо лучше, чем понимал это сам Триполи весь последний год.
Впрочем, грош цена писаньям обозленного архиепископа, исказившего, а то и полностью утаившего славные деяния Рено и тамплиеров. Чего стоила одна невероятная эскапада Бринса Арната в Красном море!
Два года Рено готовился к ней. С помощью бедуинов-шиитов – недаром его самого прозвали франкским бедуином – на спинах верблюдов переволок пять построенных им галер от Соленого моря в залив Аккабы. Два корабля под его командованием охраняли у острова Фараонов отвоеванный им порт Айлу, а остальные, укомплектованные тремястами воинами и басурманскими пиратами, целый год грабили и топили магометанские суда и разоряли берега Аравии, уже лет пятьсот не видавшие креста. Бринс Арнат и его люди ходили в Джедду, доплыли до Адена, сожгли порт Медины. Они сделали Тростниковое море непроходимым для мусульманских торгашей и даже внутрь суши совершили дерзкий рейд. Не ожидали басурмане в сердце ислама христианских мстителей. Рейнальд мечтал полностью разграбить их священные города, уничтожить могилу их Пророка, предать все магометанские капища глумлению, разрушить их Каабу и утопить в море их черный камень, но нехватка людей и лошадей помешала. Эх, были бы все защитники Заморья так же дерзки, кто знает, чего можно было бы добиться? А теперь ему глотка воды не добыть.
Уже через год адмирал султана разбил крошечный флот Рено, предал захваченных корсаров мучительной смерти, а тех, кого не казнил, ослепил, чтобы они никогда не смогли указать путь к святыням ислама. А все же Шатильон помог Бодуэну, воевавшему той зимой в Сирии: надолго остановил морскую торговлю нехристей, навел ужас на басурманское побережье, заставил трепетать Мекку и Медину, а главное – опозорил Саладина и вернул себе дружбу больного венценосца. Воспоминание об этом даже сегодня поило душу почти как вода.
Именно тогда Айюбид поклялся убить франкского Дьявола собственной рукой. Теперь вряд ли что-либо может спасти Рено. Хотя… Султан всегда был способен на неожиданные галантные жесты даже по отношению к смертельным врагам. Когда он осадил Керак во время свадьбы Изабеллы и Онфруа, Стефания послала ему угощение с праздничного стола. Курд оценил браваду франкской дамы и в ответ пообещал не обстреливать башню новобрачных.
Даруй, Господь, долгие дни этой лучшей из женщин. Та заминка в каменном ливне позволила дождаться сигнального огня с Башни Давида, сообщавшего, что уже слепой, умирающий Бодуэн IV на носилках спешит спасать Крак де-Моав. Эх, что говорить, в одном ногте разлагающегося заживо короля было больше решительности, доблести и здравого смысла, чем во всех остальных пуленах вместе взятых! Даже когда несчастный Прокаженный стал неузнаваем, когда нос его провалился, жуткие язвы покрыли руки и ноги, когда он мог лишь невнятно шептать и его таскали в паланкине, Бодуэн IV и тогда оставался самым мужественным рыцарем Утремера.
Рено всегда легко договаривался с бедуинами, пиратами и женщинами. Но из всех дочерей Евы лишь Стефания оказалась ему под стать как старое седло, как привычный меч, как Баярд.
Горлица моя, терпкое мое вино, арак, от глотка которого спирает дыхание, сладкая лоза виноградная! С самого начала он знал, что они поладят. С того момента, как увидел ее на закраине пруда. А может, и раньше, как только услышал, что Стефания де Милли – владелица Керака и Монреаля. Она сделала Бринса Арната сеньором Заиорданья, хранителем южной границы королевства и никогда не переставала радовать и восхищать.
Но если говорить о мучительной жажде, которую может утолить только одна-единственная, о тоске, о ненасытном вожделении, о женщине, околдовавшей все думы… нет, этого со Стефанией не было. Что-то подобное Рено испытывал только к маленькой магометанке-рабыне, которую толком никогда даже не видал. Сумайя, сокол его души, так и не севший на его перчатку, родник, из которого Рено не сделал и глотка, не усластивший нёбо дикий мед, если ты жива поныне, ты давно уже дородная, пожилая матрона. Но в памяти сеньора Заиорданья ты навеки осталась молоденькой и худенькой певуньей, и у него по-прежнему пересыхает во рту, когда он вспоминает тебя.
Но нынче у Рено пересохло во рту, потому что он уже сутки не пил. Пасынок тоже сник.
– Эй, Онфруа, не падай духом. Объясни мне, как этому низкорождённому курду, одному из множества враждующих эмиров и шейхов, удалось стать повелителем исламского мира?
Онфруа приподнял лисью мордочку:
– Саладин умел быть беспощадным, когда это требовалось, и жалостливым, когда мог позволить себе великодушие. Он держал данное слово, никогда ничего себе не присваивал, наоборот, щедро раздавал все завоеванное.
Отозвался Эрнуль, оруженосец сбежавшего Балиана Ибелина:
– Чтобы такое неправое дело восторжествовало, и впрямь нужен был необычный, полный редких достоинств человек.
– — Да, он такой и есть. Сарацины поверили в него, и быть его приверженцем стало несравненно выгоднее, нежели оставаться его врагом. Неудивительно, что в каждом противостоянии все больше магометан переходило на его сторону. Мы можем утешаться, что нас победил поистине необыкновенный человек.
– Ему везло, как может везти только сыну Дьявола.
– Так везет тому, в чьем успехе заинтересованы многие.
Рено кинул презрительный взгляд на поникшего короля:
– Зато нам везло как Иову, мерд. Злой рок убивал одного за другим всех наших достойных государей.
Ги обиженно проблеял:
– Если бы вы, Шатильон, не напали по вашему обыкновению на очередной караван и не порушили последнее перемирие, всей этой войны не случилось бы.
Рено лег, заложил руки за голову, уставился в безоблачное небо. Голова так кружилась от голода, жажды и усталости, словно он летел.
– Это было ваше перемирие, Ги. В своих владениях я был таким же властелином, как вы в ваших, и если Лев Ислама нуждался в мирном проходе его торгашей и паломников через Вади Мусу, он должен был договариваться со мной. Но он уже сам не хотел мира. Я никогда не видел торговый караван, продвигающийся под охраной такого множества мамлюков. Это была переброска войск. И впущенная Сен-Жилем в Галилею басурманская армия не красой здешних земель любовалась, а разведывала дороги и водопои. Жаль, что сам Сен-Жиль не озаботился разузнать их получше. С того момента как Саладин овладел Мосулом, он готовился напасть на нас и сделал бы это, даже если бы все мы были кроткими и покорными как граф Триполийский.
Последнее время Утремер дышал на ладан. Побережье оказалось в морской блокаде, богатый Египет кормил Айюбидов, саладиновы банды опустошали и разоряли Галилею и ее жителей-самаритян, королевская власть была беспомощна, казна истощена, а патриарх Иерусалима прославился замужней любовницей-итальянкой. Неудивительно, что в этой крайности каждый действовал по собственному усмотрению: госпитальеры и тамплиеры отказывались подчиняться постороннему командованию, граф Триполийский и князь Антиохийский заключили с обрезанными сепаратные перемирия, и курд использовал их владения для подготовки нападения на Латинское королевство, а глава рода Ибелинов переселился в Антиохию, лишь бы не присягать Лузиньяну. Даже венецианские и генуэзские торгаши, почти сто лет богатевшие кровью франков, корабельными крысами переметнулись к новому египетскому хозяину, сообразив, с кем теперь выгодней иметь дело. И только неистовый Рейнальд де Шатильон, этот пришелец, парвеню и авантюрист, оголтелый и свирепый безумец, продолжал в одиночку защищать от нечестивцев проход из Египта в Сирию, лишь его Моав и Эдом мешали Саладину объединить свои земли в единое железное кольцо-удавку на горле Заморья.
Да, в марте Волк Керака захватил караван и беспощадно расправился с пленниками – скинул со стен или заточил в подземелья. Если Магомет хотел спасти своих рабов, он мог явиться и вызволить их, но почему-то и пальцем не пошевелил. Когда на престоле сидело такое ничтожество, как Лузиньян, франкский бедуин поступал так, как считал нужным, и уже ни у кого не нашлось бы столько золота, чтобы перевесить Рейнальда де Шатильона. Вот только вряд ли все золото мира спасет его сегодня.
– Мессир, – маленький Онфруа тронул отчима за рукав, – сыграйте на тщеславии Саладина. Султан любит красивые и впечатляющие жесты, предоставьте ему возможность проявить свое благородство на людях и пощадить вас.
Стрекотали кузнечики, тоскливо вскрикивала какая-то птица, смеялись и переговаривались между собой басурманские рабы, возводившие неподалеку огромный роскошный желтый шатер. Жить хотелось. Рено так жадно оглядел галилейские холмы, словно и их хотел выпить, сверкнул злой улыбкой:
– Не волнуйся, малыш. Мне ли не знать, как обращаться с сарацинами.
Нет, чтобы не утверждал писака Тирский и прочие враги Шатильона, вовсе не Бринс Арнат погубил Утремер. Он просто не смог спасти его вопреки всем остальным.
– Зачем все это было, Онфруа? Ради чего почти столетие мы так отчаянно боролись за Святую Землю? Зачем понапрасну погибло столько хороших христиан и отважных воинов?
Онфруа пожал плечами:
– Так еще царь Соломон спрашивал, что пользы человеку от всех трудов его? Человек всегда умирает, и ничего из того, ради чего жил и боролся, не остается. Кроме одного…
– Чего?
– Славы. Вон Александр Македонский – юным погиб, и империя его развалилась. Юлий Цезарь, Ахилл, Гектор – все убиты, ни Римской империи, ни Трои нет на свете, а слава их в веках пребывает. Или мученики вот тоже… Людям ведь не только земли и города потребны. Торжество духа, примеры доблести и чести им, может, не меньше нужны.
– Онфруа, ты не обижайся, но как получилось, что ты про геройство все лучше любого понимаешь, а сам без боя уступил трон Сибилле с Лузиньяном?
Юноша долго рассматривал землю у себя под ногами, потом прошептал:
– Не хотел междоусобную войну между франками развязывать. Побоялся гибель Утремера на совести иметь. Лучше никакой славы, чем такая. Тут ведь великое дело свершилось. Христиане на защиту Святой Земли из всех уголков Европы прибыли, все крещеные заодно против басурман-захватчиков сплотились. Показали миру и Господу величие и мощь христианского рыцаря, остановили магометан, не позволили нечестивцам весь мир захватить.
– А потом между собой перегрызлись, – добавил Эрнуль.
– Чтобы такое богоугодное дело загубить, много человеческих пороков и грехов надобно, – грустно согласился Онфруа.
– Неужто теперь проклятые басурмане весь христианский мир одолеют?
– Может, наоборот, – Онфруа решительно свел бровки. – Сегодняшнее несчастье непременно всколыхнет Европу. Басурмане теперь ликуют, они еще долго этой победой будут упиваться, будут черпать в ней уверенность, что правы оказались и могут нас сокрушить. И оттого станут только еще более нетерпимыми, замкнутся в своих предрассудках и вознамерятся весь христианский мир уничтожить. А нам… Нам, чтобы возродиться, придется измениться, многому научиться, даже у самих басурман. Придется дальше их пойти.
– Вас послушать, Онфруа, нам ликовать следует!
– Нет, конечно. Для вас, для меня, для всех нас все это, разумеется, очень горестно. – Добавил с убеждением, видимо, подбадривая себя и остальных пленников: – Но это поражение – начало нашего воскресения.
– Откуда ты это знаешь?
– Потому что мы готовы учиться, даже у нехристей-врагов и древних язычников. А они чем дальше, тем больше одному своему Корану верят.
Как мало в этом утешения, когда самому предстоит казнь. А Бринс Арнат ведь мог бы жить еще годы. Волк Керака был полон сил. Видно, это густая ненависть к басурманам пропитала его, как смола – корабль, заполнила его сердце и жилы так, что ни слабость, ни дряхлость не проникли в тело. Только от жажды уже весь горел, когда наконец мамлюки приказали предстать перед султаном.
Первым в желтый шатер вошел Ги де Лузиньян, за ним Рено, следом брели Жерар де Ридфор, коннетабль Амори де Лузиньян, Онфруа и прочие знатные пленники. Затесался в ряды баронов и оруженосец Эрнуль.
Маленькая фигурка Саладина в зеленом тюрбане восседала на подушках. Султан указал королю на место подле себя, а когда увидел Бринса Арната, нахмурился и глаза стали колючими. Повелел Шатильону сесть рядом с Лузиньяном и сразу же с плохо сдерживаемой яростью принялся упрекать владыку Заиорданья в его «злодеяниях», в вероломстве и в нарушении клятв и соглашений. Перекосился весь, руки в кулаки сжимал, почти кричал:
– Сколько раз ты клялся и нарушал клятвы, сколько раз ты давал обещания и отрекался от них, заключал и разрывал договоры, сколько раз ты принимал соглашение, чтобы затем отвернуться от него!
Ярость врага придала Шатильону сил и помогла сохранить спокойствие. Он не стал оправдываться и напоминать Саладину, что тот и сам нарушал долг и слово: захватил Египет Нуреддина, отвоевал у Исмаила отцовскую державу, казнил сдававшихся под его слово пленных, заточил в казематы Дамьетты безвинных паломников, под видом торговых караванов перебрасывал по Дарб эль-Хаджу войска. Не было причин обрезанному псу считать себя достойнее Волка Керака. Шатильон ответил просто и честно:
– Таков обычай королей, и я лишь следовал по проложенному пути.
Сидевший между ними Лузиньян трясся от страха, а при упоминании королей жалко икнул. За жизнь и свободу ему придется, конечно, сдать Саладину города и крепости, но Рено не сомневался, что малодушный Ги с радостью согласится. Оба – что Лузиньян, что Ридфор – поведут себя как бобер из Бестиария, который отгрызает себе тестикулы и бросает их преследователям, лишь бы спастись.
Султан заметил серую бледность и растерянность короля, наверное, ему понравилось смирение государя франков, он тут же смягчился, ласково заговорил с ним, заверил, что ничего плохого ему не грозит. Низкорожденный курд преклонялся перед самодержцами и обращался с ними особо, чтобы показать, что и сам причислен к ним. Повелел принести воды со льдом и сиропом, взял золотой кубок, отпил от него глоток и протянул Лузиньяну:
– Пей вволю, аль-Малик.
Саладин любил красивые жесты, даже христиан сумел убедить, что галантен и полон достоинств. Вот и сейчас предложение питья означало, что Лузиньяну оставлена жизнь. Ги вцепился в чашу и шумно глотал сладкий, как сама жизнь, шербет. Саладин метнул быстрый взгляд на Шатильона – унизится ли Бринс Арнат, взмолится ли о воде? Да лучше Рено сам себе жилу прокусит и из нее напьется, чем доставит Айюбиду такое торжество. Бринс Арнат давно уже не головорез, готовый ради прощения валяться в грязи Мамистры. Но видеть, как хлебает Ги, как течет вода по его щетинистым, грязным щекам, было тяжко. Рено попытался сглотнуть, да гортань была суше Синайской пустыни. Внезапно Лузиньян перестал лакать и протянул Рено кубок. Вот ведь Ги! Трус и болван, а, оказывается, заботливее святого Мартина, разделившего плащ с нищим!
У Рейнальда в глазах потемнело, так его тянуло к чаше, от запаха питья охватила горячка, а в животе поднялась ужасная резь. Саладин пристально следил за ним. И Шатильон внезапно понял, почему нехристь проявил такую любезность к Лузиньяну: чтобы досадить Бринсу Арнату, чтобы помучить заклятого врага. Рено хотел пить больше, чем жить, но взять верх над Айюбидом хотел еще больше. Пусть тот сам предложит. Никто не скажет, что Волк Керака унизился или показал свою слабость. И он отвел руку Лузиньяна. Саладин этого явно не ожидал, помрачнел, сурово бросил:
– Пей, потому что ты больше никогда уже не будешь пить.
Так же безошибочно, как чуял запах шербета, Рено почуял, что Саладин не убивает его лишь для того, чтобы насладиться его унижением. Победить напоследок своей щедростью и благородством того, кто одиннадцать лет был настолько нестерпимым гвоздем в седле, что магометане прозвали его Дьяволом, того, кого он дважды поклялся собственноручно обезглавить. Пить хотелось безумно. Рено дышал часто, как загнанный пес. За студеную воду он отдал бы в этот момент всю будущую вечную жизнь. Но в этой у него осталось только одно – не сдаться, не позволить Айюбиду восторжествовать, в последний раз самому одолеть проклятую некрещёную собаку. Казалось, это клейкая, густая ненависть к Саладину залепила гортань. Ничем не будет Рено обязан этому Льву Аллаха, ничем, даже жизнью. Почувствовал, как пульсирует на виске жила, с трудом разомкнул спекшиеся губы, глядя прямо в проклятые эбонитовые глаза, заявил с торжеством:
– Если Господу будет угодно, я никогда не буду ни пить, ни есть ничего твоего.
Саладин смешался, нагнулся вперед, спросил с угрозой:
– Бринс Арнат, по твоему закону, если бы ты держал меня у себя в плену, как я сейчас держу тебя, как бы ты поступил со мной?
Все-таки надеялся, что Рено будет молить его. Зачем? Смерть прекратит жажду быстрее шербета, а умирать неизбежно. Шестьдесят два года – немалый срок для рыцаря в Утремере. Многие трусы прожили куда меньше. Рено только бровь заломил и ответил напоследок искренне и от всего сердца:
– С Божьей помощью я бы отрубил тебе голову.
Когда толмач перевел, красивое лицо Саладина перекосилось от ярости:
– Свинья! Ты мой пленник, а смеешь так высокомерно отвечать мне!
Вскочил, рука его потянулась к перевязи, на которой он по примеру Магомета носил меч. Рено напрягся, стиснул зубы. Схватка их всегда была не на живот, а на смерть, и все, что мог в этой жизни, Волк Керака уже сделал. Сейчас будет удар. Это будет коротко и быстро.
Но султан овладел собой, топнул ногой и выбежал из шатра – невысокий, худой, похожий на птицу в своих ярких, развевающихся одеждах и в большой чалме. Охрана и свита поспешили следом. Послышался топот копыт.
Вот и победил Бринс Арнат последний раз.
Закатное солнце просвечивало сквозь желтый шелк, тень от каллиграфической арабской вязи на ткани ложилась на пленников, и золотой воздух залил их, затопил, поймал, как мух в гигантском янтаре. Лузиньян и Ридфор избегали взгляда Шатильона, видно, боялись, что его вина падет и на них. Он все же пересилил себя, попросил:
– Мессиры, поведайте о моей гибели честно и без утайки. Пусть люди знают, что Бринс Арнат не страшился, веру Мухаммеда не принимал и не молил о пощаде.
Понурившиеся бароны молчали, словно он их в трусости упрекнул. Даже Онфруа смутился, как будто отродясь не слыхал об Александре Македонском и Ахилле. Они еще надеялись жить, и правильно: кто-то должен и дальше спасать Землю Обетованную. А Шатильон, Шатильон уже думал только о добром своем имени, о славе, которая ждет каждого франка, чье железное сердце не тронула ржа трусости и себялюбия.
Ответил Эрнуль, оруженосец Балиана Ибелина:
– Волк Керака, если останусь жив, поведаю. Клянусь вам в том Отцом, Сыном и Святым Духом.
Рено закрыл глаза. Отныне он за порогом всех побед и поражений. Бредет себе по обжигающему ноги охровому песку между вздымающимися уступами серо-дымчатых скал, среди бархатных складок дюн, приближается неторопливо к слепящей глаза поверхности Содомского моря, к белым соляным льдинам на водной глади.
Вот и ужаснул Бринс Арнат весь Восток и прославился на весь Запад.
* * *
Для чего Аллах дозволяет своему рабу, родившемуся еще до того, как укрыватели истины захватили Аль-Кудс, дожить до девяноста и двух годов, если не для того, чтобы явить ему милость воочию узреть победу сынов рая?
Немощное тело Усамы ибн Мункыза давно одряхлело, голова поседела, но душа по-прежнему была молода и ненасытна. И дабы насладиться торжеством Аллаха, неугомонный эмир последовал за победоносной армией правоверных.
Его возлюбленный сын Мурхаф ибн Мункыз, сверх меры осыпанный милостями султана, повелел, чтобы рабы несли отца в покойном кресле и заботились обо всех нуждах почтенного старца. Стариковская плоть, она – как капризная женщина, доставляет тем больше забот, чем меньше дарит радостей. И поскольку самой неотложной и насущной нуждой шейзарского эмира было помедлить в этом мире до освобождения Аль-Кудса, Усама наблюдал за боем у Хаттинских рогов из безопасного отдаления.
Но теперь, когда триумфатор объезжал поле битвы, Усама заставлял нубийских невольников поспевать за конем султана, хоть остолопы и спотыкались на камнях и трупах, а кресло тряслось и кренилось. Салах ад-Дина сопровождал его сиятельный сын – Аль-Малик аль-Афдал, победитель тамплиеров в битве при Крессоне, чуть сзади следовал любимый племянник султана – отважный Таки ад-Дин, захвативший сегодня обожествляемый франджами деревянный крест, вдогон тянулись визири, эмиры и личная стража Салах ад-Дина в желтых кафтанах.
Имад ад-Дин аль-Исфахани, секретарь султана, прозванный аль-Катибом, с гордостью рассказывал Усаме, как перед боем его господин носился от правого фланга аскара до левого, проводил смотр всем отрядам, расставлял воинов на самых выгодных позициях. Аль-Малик аль-Назир умел воодушевлять войска: «Какая самая благородная смерть?» – спрашивал он муджахидов, а те отвечали в упоении: «Смерть на пути Аллаха!» Тогда благочестивый военачальник напоминал, что от блаженств рая их отделяют лишь мечи гяуров. А в разгар сражения ободрял правоверных криком: «Победа над врагами Аллаха!» – и клич подхватывали тысячи глоток.
Этот день был благоприятным для поборников ислама – истинная вера восторжествовала над неверием, и среди сынов Троицы воцарилась смерть. На черной от огня земле меж обломков скал валялись драные и грязные стяги со сломленными древками, украшенные гербами щиты, раздутые крупы дохлых коней, сброшенные шлемы, отрубленные руки и ноги. Невидящими глазами мертвецы уставились в небо, и при приближении всадников вороны лениво взлетали с обгоревших тел, сваленных друг на друга, как камни в кладке.
Сиятельный Аль-Афдаль тоже стал вспоминать, как до последней минуты колебался исход боя:
– Оттиснутая на верхушку холма горсточка потерявших лошадей франджей бросалась в атаку с отчаянием смертников и сумела оттеснить наши ряды, хоть пеший рыцарь и неуклюж, как краб-отшельник без раковины. Аль-Малик аль-Назир следил за битвой, менялся в цвете, щипал в тревоге бороду, а потом закричал, не сдержав волнения: «Сатана не может победить!» Когда я увидел, что мамлюки оттеснили врагов обратно на холм, я не удержался и воскликнул: «Мы победили!» Но султан повернулся ко мне и сказал: «Замолчи! Мы не победили, пока стоит алый Лузиньянов шатер». Три раза бросались сыны дьявола на ряды истинно верующих и три раза были отбиты, и только тогда наконец-то рухнул кровавый шатер. И победоносный султан простерся на земле в благодарности Всевышнему и сквозь слезы радости сказал: «Вот теперь мы победили».
Аль-Катиб признал:
– Да, эти отверженные сражались смело, хоть и знали, что уже сегодня лягут в могилы. Но последнее слово осталось за саблями ислама.
Отважнее и безумнее франджей в военном деле не было и не будет людей на земле. Не будет и безжалостнее их, жаднее и ненасытнее. У демонов креста имелась лишь одна цель: захватить чужие земли, награбить как можно больше сокровищ. Ради этого они с неутолимой алчностью восемьдесят восемь лет разоряли и мучили правоверных и не творили ничего, помимо зла и вероломства, не ведая хороших и добрых дел. Даже между собой эти бешеные свиньи не могли прийти к согласию. И потому остались бессмысленными все их старания и напрасными все их триумфы. В бою, начатом еще в пятницу, в святой и благословенный день, Аллах, Великий и Всемогущий, даровал победу своим сынам.
Рядом с креслом Усамы плелся, оступаясь на кочках и придерживая чалму, врачеватель султана, яхуди Муса бин Маймун, которому повелели следить за самочувствием почтенного эмира, да только самочувствие Усамы было великолепным:
– Ас-сайяди бин Маймун, – эмир назидательно воздел узловатый палец, – проклятые сыны крещения называли преступления славными подвигами, а особенно отличившихся в грабежах, убийствах, насилиях и жестокости, вроде этого Бринса Арната, считали героями!
Как Усама и надеялся, его услышал не только яхуди, но и сам Салах ад-Дин. Султан натянул повод короткоостриженного гнедого Бурака, обернулся:
– Разве тот герой, кто совершает дерзкие, безрассудные, бесполезные, рискованные поступки, а не тот, кто годами планирует, готовится, запасается, нападает осмотрительно и готов отступить, чтобы в лучший час попробовать снова?
Юный аль-Афдаль вздыбил своего скакуна, торжествующе заявил:
– Герой тот, кто победил!
Салах ад-Дин улыбнулся в седеющую бороду:
– Герои гораздо чаще мужественно, красиво и бессмысленно погибают, сын мой. Они нужны как соль в пище, но трудно обойтись одними героями, ибо они всегда действуют очертя голову. – Оглядел каменистую, бурую землю в базальтовых валунах, теряющиеся в дымке сумерек холмы Аль-Джалиля, прижал руку к сердцу и признался: – С того дня, как я завоевал Миср, я знал, что завоюю и Фалястын.
Таки ад-Дин закивал:
– Наш милосердный и справедливый султан ревностно и верно служил Аллаху, шел его путем и исполнял Его заветы, и потому Аллах даровал ему торжество над врагами.
Усама знал много причин неизменного торжества низкорожденного курда, но вслух перечислил только те, которые Несравненному Правителю аль-Малику аль-Назиру было бы приятно услышать:
– Лишь одному из тысячи удается исполнить в этой жизни задуманное, но хранителю и защитнику правоверных удалось. Султан Мисра и Сурии победил еще и потому, что настойчивость и упорство его бесконечны, потому что он никогда не щадил самого себя и не падал духом в тяжких обстоятельствах.
Айюбид признался:
– Трудностей и неудач было не счесть. Сколько раз я отступал от стен Аль-Керака! Мои тюрки, курды, арабы, суданцы и бедуины не могли сравниться с железными рыцарями в рукопашной. Мой аскар бывал разбит множество раз, нам случалось бежать с поля боя, и мои всадники рассыпались по холмам, как жемчуг с лопнувшей нитки бус. Лишь благодаря воле Аллаха я оставался невредим, Тот, Чье повеление невозможно отменить уберег меня даже от хашашийя. И каждый раз я собирал новое ополчение, я создал армию прирожденных воинов, я покупал мамлюков, нанимал опытных лучников и продолжал священный джихад до тех пор, пока враги веры не потерпели унижение.
Усама добавил с удовлетворением:
– По желанию Аллаха всесильные гяуры уподобились стрелам с обломанными наконечниками и укоротились дни их властителей.
Аль-Афдал воскликнул запальчиво:
– А свинью, которую они называли королем, Аллах поразил позорной болезнью!
Султан покачал головой:
– Я видел аль-Малика Абраса в бою при Рамле. Этот умирающий франдж, несмотря на свои забинтованные руки, вел своих людей за собой с невиданной отвагой и нанес нам ужасное поражение. В том сражении только Аллах и его ангелы милосердно спасли ислам. Тогда я понял, что Аллах не хотел, чтобы государство укрывателей истины пало при Абрасе. Зато вчера, когда аль-Малик Лузиньян отверг совет мудрейшего из многобожников Санжиля и сначала покинул неприступную Саффурию, а потом Туран и выступил в обреченный путь, я не поверил нашему счастью. Это Сатана помутил их разум.
Усама крякнул, тросточкой указывая рабам путь между трупами:
– Две Сатаны – Джорар Ридафор и Бринс Арнат.
Лицо Саладина омрачилось:
– Бринс Арнат хуже всех прочих. Мое сердце мягкое как воск для верных сынов Аллаха, но оно твердое как алмаз для сынов ада. Волк Аль-Керака издевался над невинными, он подвергал пыткам мирных людей, он оскорблял меня лично и нарушал договоры со мной. Он принес огонь и меч к воротам священных городов. Я дважды поклялся, что убью его собственными руками. – Султан оглядел склон холма, на котором тела громоздились друг на друге так, что коню негде было поставить копыто, произнес задумчиво: – И все же я не люблю проливать кровь, потому что кровь не спит, она требует отмщения.
Усама не присутствовал при встрече Салах ад-Дина с пленными, но от аль-Катиба уже слыхал, что султан гостеприимно предложил аль-Малику Лузиньяну чашу шербета. Лузиньян пил розовую воду, а потом передал чашу Арнату. И султан сердобольно не помешал дьяволу утолить жажду, но сказал Лузиньяну:
– Это не я, а ты дал напиться этому человеку. Ты не просил у меня позволения, и потому я не обязан сохранить ему жизнь.
На это Бринс Арнат ответствовал дерзостно, но вместо того, чтобы убить грязного пожирателя свиней, Благочестие Веры вскочил и покинул терзаемых пламенем ужаса пленников. И теперь, объезжая поле битвы, он явно колебался, как поступить. Что поделать, Айюбид не любил бессмысленную жестокость, он помнил, что сам всегда нуждался в милосердии Аллаха и потому казнил лишь тех, кто отвергал или оскорблял ислам. Султан, будь им доволен Аллах, был требователен к себе и бесконечно терпелив и снисходителен ко всем остальным, он был справедлив к самым недостойным, не ожидая в ответ благодарности; прощал, когда мог наказать, сохранял кротость и мягкость даже в ярости, желал добра недругам и предпочитал других людей самому себе. По доброте своей он даже скрыл от умирающего халифа Мисра, что его страна уже молится за здоровье багдадского халифа, чтобы тот не покидал этот мир с тяжким сердцем. Но он дважды поклялся убить Бринса Арната собственной рукой.
Салах ад-Дин остановил Бурака на склоне, залюбовался далекой бирюзой озера, оправленного в зелень кущ:
– Аль-Кади аль-Фадиль, – обратился он к визирю, – вы помните бесчинства Бринса Арната, которые этот волк творил из своих крепостей?
Визирь вытянул руку, звучно продекламировал:
– Что значат для правоверного Аль-Керак и Аш-Шубик? Это ярость, от которой перехватывает горло, это пыль, которая застилает вид, это лев, который каждый день рвет человеческое мясо и пьет кровь!
Усама сам писал изысканные и мудрые стихи и любил читать их больше, чем слушать пение птиц. Султан знал многие из них наизусть, и если на этот раз он обратился к незатейливым виршам аль-Фадиля, то лишь потому, что думы его были заняты Бринсом Арнатом, и он искал указание, как надлежит поступить с этим сыном дьявола.
Для Усамы навеки осталось загадкой, чем прельстил злодей мадаму Констанцию. Большой ошибкой франджей было предоставить женщинам власть и права мужчин! Разумеется, среди слабого пола встречаются умные жены, любящие матери, благородные сестры и преданные дочери, оказывающие неоценимое подспорье своим мужчинам. Дочь Мехенеддина Исмат заслужила такое уважение мудростью и отвагой, что после смерти Нур ад-Дина ее взял в жены Салах ад-Дин. Но лишенные разумения гяуры допустили неслыханное: чтобы их дочери и сестры наследовали их владения и сами выбирали себе супругов. Так сладострастные, слабые мадамы возвысили негодных к правлению. Первым и худшим из этих выскочек был Бринс Арнат. И долг призывал Усаму укрепить чрезмерно мягкое сердце султана. Поэтому, когда Салах ад-Дин вежливо попросил уважаемого эмира ибн Мункыза в свою очередь прочесть его замечательные стихи, знаменитый поэт предпочел обратиться к священным аятам Корана:
– О несравненный и величайший султан, написано в Коране: «Разве ты не видел, как Аллах поразил армию Элефанта?» Этот Элефант, этот яростный слон – это Бринс Арнат. И сказано: «И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас! Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока вера не будет полностью посвящена Аллаху!» – Старец напряг надтреснутый голос, вывесился из кресла так, что оступились державшие его рабы: – И сказано также в Священном Коране: «Где бы они ни были встречены, они должны быть схвачены и перебиты избиением. Не слабейте и не призывайте к миру». – Добавил, похлопывая негодников-нубийцев тросточкой и оправляя халат: – Царствование отверженных сынов крещения в Фалястыне – позор для ислама.
По щекам сострадательного султана заструились слезы, ибо предписанное ему сражение было для него ненавистно. Он резко поворотил коня назад:
– Волк Аль-Керака – предатель, предводитель неверных, беглец из ада. Аллах решил так, как он решил.
Султан скакал молча, направляя Бурака между телами, и лик его был мрачен, как у человека, принявшего нелегкое решение. Вернувшись в шатер на холме, он повелел привести к нему Бринса Арната, а когда тот вошел, воскликнул:
– Смотри, я защищу Мухаммеда от тебя!
Выхватил саблю и нанес Арнату удар по левому плечу. Лезвие отсекло Дьяволу руку, хлынула кровь, Дьявол страшно охнул, но все еще стоял. Тогда подскочили верные мамлюки и зарубили насмерть этого худшего из нечестивцев.
Аллах тут же вверг его душу в адский огонь, а тело повалилось на землю. Султан наклонился, окунул пальцы в кровь многобожника и окропил ею свою голову в знак того, что исполнил данную им клятву и отомстил. По его приказу голова Бринса Арната была отделена от тела, а обезглавленный труп слуги за ноги поволокли наружу, мимо ожидавшего в прихожей Лузиньяна, и бросили у входа в шатер.
Аль-Малик франджей, видя, какая участь настигла его спутника, посчитал, что станет следующей жертвой, и затрясся от ужаса. Но султан заметил его трепет и бледность, дал ему знак приблизиться, успокоил, унял его страх и, посадив рядом, сказал:
– Этот человек пал жертвой своей злобы. Его вероломство погубило его самого, его заблуждения и дерзость стали причиной его смерти. Королям не пристало убивать королей, однако этот человек перешел все границы.
Салах ад-Дин приказал, чтобы голову Бринса Арната доставили в Дамаск, всю дорогу волоча ее по земле, чтобы все видели, как наказан тот, кто оскорбил султана, и чтобы показать правоверным, которым Волк Аль-Керака причинил столько вреда, что они отмщены.
Поистине, справедливый правитель – тень Аллаха на земле!
А еще через день милосердный победитель повелел привести всех захваченных в плен тамплиеров, госпитальеров и рыцарей ордена Монтегаудио. Двести тридцать непримиримых врагов ислама вывели на возвышенность, с которой было хорошо видно Бухайрат-Табарию, на чьих берегах явил столько чудес Иса ибн Мариам.
Когда последние лучи солнца исчезли со склонов холмов, их призвали отречься от Распятого, признать Аллаха своим Богом, ислам – своей верой, Мекку – своей святыней, мусульман – своими братьями, а Магомета – своим Пророком. Но все они злостно упорствовали в своем неверии, и тогда султан оказал честь достойным суфиям и толкователям Корана, поручив им отсечь головы нечестивцев. Суфии засучили рукава и ревностно принялись за благое дело. Салах ад-Дин был очень доволен, особенно когда усердным правоведам, многие из которых впервые держали саблю в руках, удавалось зарубить пленников ловко и быстро. Но некоторые справлялись с трудом, долго вкривь и вкось кромсали связанных идолопоклонников, а некоторых даже пришлось сменить, потому что их рвение намного превышало силу и умение. А рыцари-монахи, эти дети Сатаны, спорили за право быть убитыми первыми.
Для казней потребовалось все время между вечерней молитвой магриб и ночной молитвой иша. Лишь глава тамплиеров Джорар Ридафор избежал лезвия.
В последующие дни возмездие настигло также апостатов и изменников-туркополов, сражавшихся на стороне сынов крещения. А остальные франджи, которых насчитывалось чуть ли не десять тысяч – оруженосцы, рядовые пехотинцы и бедные рыцари, за которых некому было платить выкуп, – нагие и униженные, жалкие и несчастные, связанные веревками и шнурами от палаток, побрели покорно на базары Сурии. Укрыватели истины потеряли не только армию и предводителей, они потеряли силу духа, надежду и веру в помощь своей Троицы.
Табария тут же сдалась под власть сабли, и милосердный султан позволил жене Санжиля покинуть крепость со всем ее имуществом.
Благочестие Веры всегда обладал редким умением взвесить ситуацию и жертвовать недостижимым ради достижимого, но достижимого он добивался с быстротой и неутомимостью голодного льва. Не теряя времени, султан двинулся на Акку, и уже в следующую пятницу Джоселен Куртене, любивший жизнь и боявшийся смерти, без сопротивления распахнул перед ним ворота этого богатейшего порта. И тем же летом – хвала Аллаху, дозволившему своему рабу Усаме помедлить в этом мире, дабы услышать эти радостные вести! – более пяти десятков оставшихся без гарнизонов городов и крепостей Аль-Джалиля и Самиры приняли милостивые условия султана и сдались. За время, меньшее, чем нужно, чтобы подробно поведать об этом, желтые стяги победителя увенчали цитадели Шхема-Наблуса, Хайфы, Кайсарийи, Нацерета, Сидона, Бейрута, Джебайля. Даже священная для кафиров гора Тавор перешла в праведные руки. Одна Яффа оказала сопротивление Сайф ад-Дину, младшему брату Салах ад-Дина, и за это все ее жители были обращены в рабство.
Победоносный даритель единства и силы не ведал слабости на путях джихада: он истреблял посевы, разрушал крепости, сносил деревни, уничтожал церкви, сжег Рамлу, Лидду и еще бессчетное множество городов и крепостей. Благочестие Веры засыпал колодцы, срывал виноградники, выкорчевывал оливы и пускал на дрова плодовые деревья. Упорно и без устали Несравненный Правитель превращал благодатный край в каменистую пустошь, чтобы он больше никогда не смог прокормить иноверцев. Курдскому воину-кочевнику не было жалко процветания и богатства земли. Никогда Фалястын не оправится от разорения, учиненного во имя торжества Аллаха.
Лузиньян, этот барабан, полный ветра, послушно прибыл под стены Аскалона и умолял жителей города сложить оружие в обмен на его свободу. Невеста Сурии, которая тридцать четыре года назад сопротивлялась проклятым сынам Креста целых семь месяцев, на сей раз сдалась в считанные дни. А все неприступные крепости тамплиеров на границе с Мисром, включая Газу, эн-Натрун и Бейт-Джибрил, распахнули ворота по приказу главы их ордена, которого они не смели ослушаться. Так Джорар Ридафор потерял честь, но сохранил голову и был отпущен на волю. Впрочем, вскоре он снова попал в плен, и поскольку ему уже нечего было предложить за себя, он последовал в адское пламя вслед за своими товарищами.
Франджи больше не жертвовали собой за Побережье, а наоборот, отдавали Побережье ради спасения собственных ничтожных жизней.
Все трофеи и пленников сиятельный султан без сожаления раздаривал родичам и воинам, так как презирал удобства и роскошь, никогда не искал личного обогащения и был щедрее самой природы. Благочестие Веры всегда стремился привлечь людей на свою сторону и не жалел для этого ни знаков уважения, ни владений, ни земель.
Когда он двинулся на Аль-Кудс, к нему присоединились огромные толпы правоверных, факиров, законников, ученых мужей и дервишей, ибо какой мусульманин не захочет сказать своему Творцу в Судный день: «Я воевал за Аль-Кудс!». Поспешил и Усама к стенам святого города, поскольку и его встреча с Создателем была неминуема.
Султан предложил великодушные и милостивые условия сдачи, но, к его изумлению, гяуры отказались, заявив, что не оставят добровольно место, где потерпел за них смерть Иса ибн Мариам.
Город взялся защищать Балиан ибн Барзан, один из немногих, вырвавшихся из окружения в бою при Хаттине. Этот Балиан был женат на греческой принцессе Марии Комниной, вдове аль-Малика Морри, и среди франджей равнялся королям, и потому получил от благородного султана особое разрешение войти безоружным на одни сутки в Аль-Кудс, чтобы вывести оттуда свою царскую семью. Но, когда Балиан увидел, что в гарнизоне осталось всего два рыцаря, и королева Сибилла с патриархом Ираклием пали к его ногам, он возглавил ничтожный гарнизон, попросив султана освободить его от данной клятвы. И султан освободил, потому что ибн Барзан был достоин уважения, а город был за чертой спасения, хоть этот франдж и предпринял колоссальные усилия для его обороны. Он спешным порядком посвятил в рыцари всех рыцарских сыновей старше шестнадцати лет и тридцать юнцов из горожан, вооружил всех способных держать меч и даже содрал серебро с купола их главнейшей святыни – Храма Погани и Мусора, который они называют Храмом Гроба Господня.
Поистине, пока не вытоптан и не выкорчеван с корнем сорняк рыцарства, эта упрямая поросль будет давать все новые и новые цепкие побеги!
Латиняне босыми кружили вокруг стен, воздевая кресты, матери обстригли волосы детей и погружали их до подбородка в холодную воду, но Аллах не смилостивился над ними, и на шестой день баллисты правоверных пробили брешь в городских укреплениях со стороны заросшего оливами холма Джебель аз-Зейтун.
Теперь справедливый султан намеревался поступить с многобожниками так, как сами они поступили с жителями Аль-Кудса восемьдесят восемь лет назад, то есть предать их всех мечу. Но этот хитроумный и беспощадный Балиан пригрозил, что, если Салах ад-Дин не позволит сынам Троицы выкупить себя, они уничтожат в городе все святыни ислама и убьют пять тысяч находящихся в их руках мусульман. И снова победитель проявил сердоболие и позволил латинским свиньям уплатить за себя выкуп и покинуть город со всем имуществом.
Так в пятницу, 27 раджаба, в ночь вознесения на небеса Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха, над бастионами священного аль-Харама аль-Кудса аш-Шарифа, где стоял престол царя Дауда и Храм царя Сулеймана, где Аллах явил свои чудеса и где грядет Страшный Суд, взвились победоносно десять стягов Пророка.
Салах ад-Дин исполнил данные кафирам клятвы, более того: очень многих – всех стариков, хворых и сотни и тысячи прочих – он пожалел и отпустил вовсе без выкупа. Ибо даже став могущественнее всех могущественных, Юсуф ибн Айюб обращался с малыми и слабыми как с равными и жалел, а не презирал бедняков.
Но семь тысяч неимущих гяуров и восемь тысяч их женщин и детей все же стали рабами, так как их патриарх Ираклий предпочел увезти с собой всю патриаршую казну в Антиохию, вместо того чтобы оплатить свободу единоверцев. На арабских сукках христиан стало больше, чем арбузов, цена их спустилась до трех динаров, и никто не знал, что с ними делать.
Среди выкупивших себя была и вдова Бринса Арната. За своего сына, женоподобного аль-Хонфери ибн Хонфери из Тибнина, попавшего в плен в последней битве франджей при Хаттине, Стефания предложила сдать принадлежащие ей Аль-Керак и Аш-Шубик-Монреаль. Но гарнизоны крепостей, эти выкормыши Бринса Арната, отказались сложить оружие, и тогда мужественная женщина вернула сына султану. Салах ад-Дин, даже во врагах почитавший достойное уважения, безвозмездно освободил аль-Хонфери и тот отправился защищать Сур, прозванный франджами Тиром. А защитники Аль-Керака и Аш-Шубика, сплошь состоящие из таких же упрямых врагов истинной веры, как и их покойный Бринс, предпочли изгнать за стены собственных жен и детей и бешено сопротивлялись: Аль-Керак – год, а Аш-Шубик – полтора, до тех пор пока голод не сломил последних из этих беспощадных детей Сатаны.
За это время пал после тяжкой осады Сафед, а бывший Бельвуар, что над рекой Иордан, вновь превратился в Звезду Ветров – Каукаб аль-Хаву. Вернулись в праведные руки Торон-Тибнин, Бейт-Лахм, Хунин, называемый свиньями Шатонёфом, и многие прочие твердыни.
В пятницу – неизменно счастливый день для последователей Пророка! – в землях Сурии захватили Джебайл, а следом Эль-Ладакию, Бюрзей, Дарбсак и Гастон-Баграс. Госпитальерам и тамплиерам удалось удержать лишь Маргат, Тортозу и Калаат Хосн, прозываемый франджами Крак де Шевалье. И повсюду султан позволял сдавшимся защитникам удалиться в Сур, хоть тем самым и увеличивалось число неприятелей внутри стен их последнего оплота на побережье, потому что это соблазняло еще сопротивлявшиеся гарнизоны сложить оружие.
От поношения ислама, именуемого Утремером, когда-то простиравшегося от Месопотамии до Аккабского залива, осталось всего три города – переполненный беженцами Сур, куда теперь впускали одних воинов, Триполи, тоже вскоре исчерпавший свои запасы и захлопнувший ворота перед беженцами-единоверцами, и Антиохия, чей правитель и не думал помогать собственным крепостям, а вместо этого, спешно освободив всех мусульманских пленников, молил султана о мире.
Аль-Малик аль-Назир заставил италийские корабли принять на борт и увезти в Европу христианских беженцев из Аскалона, передал святые места многобожников в Аль-Кудсе грекам, открыл свободный вход в город коптам и эфиопским абиссинцам и вновь разрешил яхудам селиться в Святом Городе.
Салах ад-Дин воистину показал, как ведет себя благородный победитель.
А среди отверженных сынов креста, да отвернется от них Аллах, воцарились смерть, разрушение и отчаяние. Санжиль, спасший свою шкуру ценой чести, вскоре умер по милости Аллаха, заболев или не перенеся позора, ибо все соотечественники считали его изменником.
Всемилостивейший и всемогущий Аллах, да будет благословенно Его имя, позволил своему верному рабу Усаме ибн Мункызу услышать все эти радостные вести до прихода к нему ангела смерти Азраила. Воистину, не напрасно пять раз в день просил усердный и набожный Усама ибн Мункыз у Всевышнего как можно дольше наслаждаться триумфом ислама.
Исполнилось обещание Пророка, что правоверные на время потеряют Аль-Кудс, но потом Тот, Чьему предрешению невозможно противодействовать вернет умме Святой Город.
С золотого купола Куббат ас-Сахра снесли огромный крест и два дня таскали его на веревках по улицам, валяли в грязи и предавали поруганию. Это увенчало великолепную победу ислама.
А крест кафиров, захваченный в Хаттинском бою, вокруг которого франджи кружились как мушки вокруг огня, который был их твердыней, средоточием и опорой их суеверий, гордыни и тирании, перед которым они простирались во прахе и которому пели гимны, вздымая его, мудрый султан повелел зарыть у порога дамасской мечети, чтобы каждый правоверный, входя в нее, попирал их Бога своими ногами. Так истину от заблуждений отделило острие меча.
Все это Благочестие Веры совершил не ради богатств и не из мести.
Гяуры были сильны, а сыны Пророка, благодаря Аллаху, неодолимы. Салах ад-Дин не был бесстрашным и безудержным героем, он был больше, чем героем – он был победителем героев. Благочестие Веры обладал всеми достоинствами поборника ислама, правителя и человека, и потому ему удалось то, чего четыре поколения не мог добиться ни единый мусульманский правитель – стереть с лица земли Латинское государство, как стирают буквы с пергамента. Даже благородный эмир из славного арабского рода ибн Мункызов оказался вынужден признать, что простой курд сравнился завоеваниями с самим халифом Омаром.
Василевс Рума Исаак Ангел поздравил султана с победой, не догадываясь, что Пророк также обещал, что поборники ислама захватят и Землю Рум с ее столицей на Босфоре.
Во время самого радостного события – во время первой пятничной молитвы в омытой розовой водой мечети аль-Акса победитель даровал знаменитому поэту Усаме ибн Мункызу великую честь находиться с ним рядом. Когда Аллах умастил благоверных росой своей благодати и дал им вкусить сладость плодов веры, Салах ад-Дин признался почтенному старцу:
– Достопочтенный эмир, я больше никогда не вернусь в Аль-Кахиру. Как только Аллах подарит мне победу над остальным Фалястыном, я разделю и раздам все свои земли, завещаю моим близким и верным сподвижникам все, что имею, и уплыву по морю в дальние страны. Пророк обещал, что сначала правоверные завоюют греческий Рум, а потом и италийский город Рим, и я буду преследовать укрывателей истины и в их странах до тех пор, пока не освобожу землю ото всех, кто не верит в Аллаха, или пока не скончаюсь на пути джихада. Ибо вражда между сынами света и тьмы не закончится, пока не наступит полная победа богобоязненных, с которыми всегда и всюду пребудет Аллах. Пророк заповедал убивать иноверцев и сражаться с ними везде, где они встретятся, и где бы они не встретились, они должны быть схвачены и перебиты избиением, пока не исчезнет искушение и пока вся вера не будет полностью посвящена Аллаху. А до тех пор Пророк повелел не слабеть и не призывать к миру.
Так сказал сиятельный султан Мисра и Сурии, аль-Малик аль-Назир, даритель единства, древко и украшение знамени истины, победитель неверных, защитник и хранитель поборников ислама, завоеватель Аль-Кудса аш-Шарифа, отец побед и верный слуга Аллаха Юсуф ибн Айюб.
Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – Пророк Его.
Ашхаду ан ля ил`яха `илля Лл`аху уа `ашхаду `анна Мух`аммадан ра`сулю Ллахи.
Слова были услышаны, путь проложен, знамена Пророка трепетали, сабли сверкали, награда ждала муджахидов, и тень полумесяца легла на Землю.
КОНЕЦ
Примечания
1
Во всем тексте романа устами автора говорят его герои, и высказываемое ими уничижительное отношение друг к другу является лишь отражением свойственных средневековым людям представлений и предрассудков, не имеющих ничего общего с мировоззрением автора, уважающего все верования и народности.
(обратно)
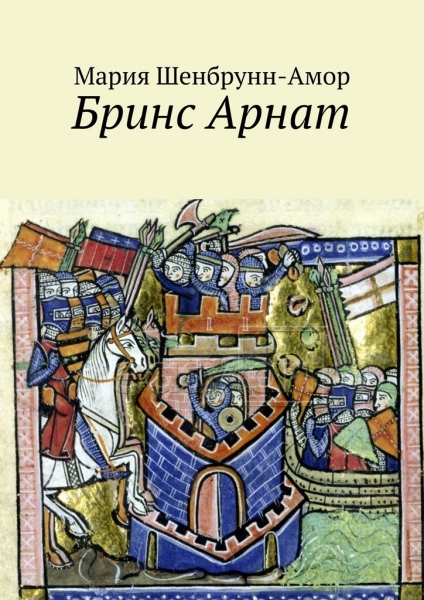




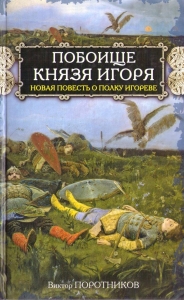
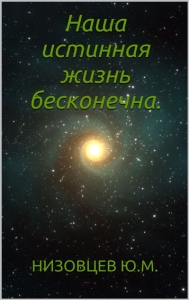


Комментарии к книге «Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад», Мария Шенбрунн-Амор
Всего 0 комментариев