• Курт Давид • Черный Волк Тенгери, сын Черного Волка исторические романы{1}
Чингисхан Биографическая статья
Из энциклопедии «Британика».
Издательство Вильяма Бентона,
1961, т. 12
ЧИНГИСХАН (около 1155–1227 гг.) — монгольский император, родился в урочище на берегу реки Онон. Его отец, вождь Есугей, в это время вел военную кампанию против татарского предводителя по имени Темучин. Война окончилась победой Есугея. Разгромив врага, он вернулся домой, где его встретило известие, что его жена Оэлун родила сына. Осмотрев ребенка, Есугей увидел на маленькой ладошке, сжатой в кулак, пятнышки запекшейся крови. Суеверный монгол связал это со своей победой над татарским вождем и назвал младенца Темучином.
Потеряв отца, в возрасте тринадцати лет Темучин должен был стать верховным вождем монголов. Однако смерть Есугея послужила толчком для отделения некоторых племен, до этого вынужденных держаться вместе, подчиняясь могущественному предводителю. На увещевания Темучина вожди племен ответили: «Даже самые глубокие колодцы высыхают, самые твердые камни иногда рассыпаются. Почему мы должны оставаться верными тебе?»
Его мать Оэлун не могла смотреть на то, как ослабевает власть ее сына. Она отправила тех, кто еще оставался верным ему, против отложившихся племен. В результате примерно половина вассалов некогда большой орды Есугея хотя и с колебаниями, но сохранила верность Темучину, заставляя, однако, того постоянно сомневаться в их надежности. Но даже с такими ненадежными соратниками Темучину удавалось бороться против заговоров и противостоять открытой вражде соседних племен, особенно найманов, кераитов и меркитов. С одним из этих племен Темучин вел практически непрекращающуюся войну до 1206 года, когда он собрал достаточно сил, чтобы объявить себя верховным правителем всех племен Монгольской степи. Он созвал курултай (съезд вождей) на берегах Онона, где был провозглашен великим ханом над всеми племенами с новым именем Чингисхан (кит. Cheng-sze — «истинный властитель»). В это время у Чингисхана остается лишь один открытый противник в Монгольских степях — найманский хан. Против него Чингисхан и направляет свои войска. В одном из боев он так умело разгромил силы найманов, что Кучлук, их предводитель, бежал к Иртышу. Вместе с ним бежал его союзник, меркитский хан Тохта-беки.
Завоевание Китая. Чингисхан задумывает вторжение в империю китайских татар (киданей), ранее отвоевавших Северный Китай у династии китайских императоров Сун, давних врагов кочевников, и создавших свое государство. Первым шагом стало покорение западной части государства тангутов Си-Ся. Захватив несколько укрепленных городов, летом 1208 года он отошел к Лунцзиню, пережидая нестерпимую жару, выпавшую на тот год. Тем временем до него доходят известия, что его старые враги Тохта-беки и Кучлук готовятся к новой войне с ним. Упреждая их вторжение и тщательно подготовившись, Чингисхан разбил их наголову в сражении на берегу Иртыша. Тохта-беки оказался в числе погибших, а Кучлук спасся бегством и нашел приют у киданских татар (Кара-кидани). Удовлетворенный победой, Чингисхан снова направляет свои войска против Си-Ся. После победы над армией китайских татар, которой руководил сын правителя, он захватил крепость и проход в Великой Китайской стене и вторгся непосредственно в саму Китайскую империю, государство Цзинь и прошел до Няньси в провинции Ханьшу. С нарастающим упорством он вел свои войска, устилая дорогу трупами, в глубь континента и установил свою власть даже над провинцией Ляодун, центральной в империи. Несколько китайских полководцев, видя, что монгольский завоеватель одерживает неизменные победы, перебежали на его сторону. Гарнизоны сдавались без боя.
Утвердив таким образом свое положение вдоль всей Великой Китайской стены, осенью 1213 года Чингисхан посылает три армии в разные концы Китайской империи. Одна из них, под командованием трех сыновей Чингисхана — Джучи, Чагатая и Угедея, направилась на юг; другая, под предводительством братьев и полководцев Чингисхана, двинулась на восток к морю; сам Чингисхан и его сын Тули во главе основных сил выступили в юго-восточном направлении. Первая армия продвинулась до самого Хонана и, захватив двадцать восемь городов, присоединилась к Чингисхану на Великой Западной дороге. Армия под руководством братьев и полководцев Чингисхана захватила провинцию Ляо-си, а сам Чингисхан закончил свой триумфальный поход лишь после того, как достиг морского скалистого мыса в провинции Шаньдунь. Но то ли опасаясь междоусобиц, то ли вследствие иных причин он решает весной 1214 года вернуться в Монголию, но перед этим отправляет следующее послание-ультиматум китайскому императору: «Все ваши владения в Шаньдуне и других провинциях к северу от Желтой реки теперь принадлежат мне. Единственное исключение — ваша столица Йенпин (современный Пекин). По воле небес вы теперь так же слабы, как я силен. Однако я хочу покинуть завоеванные земли, но чтобы умиротворить моих воинов, настроенных к вам крайне враждебно, вам надо одарить их ценными подарками». Китайский император с радостью принял эти условия своей безопасности. Заключая столь желанный для него мир, он подарил Чингисхану дочь покойного императора, других принцесс императорского дома, пятьсот юношей и девушек и три тысячи лошадей. Однако не успел Чингисхан уйти за Великую Китайскую стену, как китайский император перевел свой двор подальше, в Кайфын. Этот шаг был воспринят Чингисханом как проявление враждебности, и он снова ввел войска в империю, теперь обреченную на гибель. Война продолжилась, и пока Чингисхан завоевывал все новые города и провинции Китая, беглый найманский хан Кучлук не сидел без дела. С присущим ему вероломством он попросил давшего ему убежище татарского хана помочь собрать остатки армии, разбитой при Иртыше. Заполучив под свою руку довольно сильное войско, он заключил против своего сюзерена союз с шахом Хорезма Мухаммедом, до этого платившим дань каракиданям. После короткой, но решительной военной кампании союзники остались в большом выигрыше, а татарский хан был вынужден отказаться от власти в пользу незваного гостя. Завоевав таким образом власть и укрепив свой пошатнувшийся авторитет, Кучлук снова задумал помериться силами с властителем монголов. Узнав о приготовлениях найманов, Чингисхан тут же выступил в поход, в первой же битве разгромил армию найманов и захватил Кучлука. А его владения (ханство) стали лишь удельным княжеством огромной Монгольской империи. После этого Чингисхан устремился к границам Хорезма. Он не намеревался переходить границу и отправил к шаху Мухаммеду послов с подарками и посланием следующего содержания: «Приветствую тебя! Я знаю, сколь велика твоя власть и сколь обширна твоя империя. Я отношусь к тебе как к самому любимому сыну. Однако ты должен знать, что я захватил Китай и все территории тюркских народов к северу от него. Ты знаешь, что моя страна — родина воинов, земля, богатая месторождениями серебра, и мне нет нужды захватывать другие земли. Наши интересы равны и заключаются в том, чтобы поддерживать добрососедские торговые отношения между нашими подданными». Это миролюбивое послание было хорошо принято шахом, и, по всей вероятности, монгольские армии никогда бы не появились в Европе, если бы не одно происшествие. Вскоре после того, как посольство Чингисхана вернулось из Хорезма, он послал своих первых купцов в Трансоксиану. Но они были схвачены и убиты, обвиненные в шпионаже Инельюком Гаир-Ханом, правителем Отрара. В гневе Чингисхан потребовал выдать нарушившего договор правителя. Однако, вместо того чтобы выполнить это требование, Мухаммед обезглавил одного из послов монгольского властителя, а остальных отпустил, предварительно обрезав им бороды. Такое оскорбление делало войну неизбежной, и весной 1219 года Чингисхан выступил из Каракорума. Начатая им кампания несла в себе далеко идущие цели и с первых же дней стала приносить самые неожиданные результаты.
Разграбление Бухары. С самого начала армия завоевателя была разделена на две части: одной командовал второй сын Чингисхана — Чагатай, направлявший свой удар против защитников Хорезмской империи на севере; вторую возглавил старший сын — Джучи. Его основной целью было завоевание Сыгнака и Дженда. Против воинов Джучи Мухаммед выслал армию в четыреста тысяч человек. И эта огромная армия потерпела поражение. По словам очевидцев, на поле боя осталось сто шестьдесят тысяч мертвых хорезмийцев. С остатками своего войска Мухаммед бежал в Самарканд. Тем временем Чагатай спустился к устью Сырдарьи (в то время — Яксарт), прошел Тарс и осадил Отрар, город, где правил человек, оскорбивший достоинство Чингисхана. После пятимесячной осады крепость была взята штурмом. Все окружение правителя города и его самого казнили, а город после грабежа сровняли с землей. В это время третья армия Чингисхана окружила и взяла штурмом Ходжент, тоже расположенный на Яксарте. Четвертая армия, возглавляемая самим Чингисханом и его младшим сыном Тули, подходила к Бухаре. Ташкент и Нур сдались без боя. После короткой осады и Бухара попала в руки монголов. Войдя в захваченный город, Чингисхан поднялся по ступенькам главного минарета и оттуда прокричал своим воинам: «Сено скошено, дайте лошадям поесть». Дважды повторять не пришлось. Город был разграблен, а жители подверглись величайшим насилиям или бежали, те, кому это удалось. Жажда мести, охватившая Чингисхана, была утолена только тогда, когда город разрушили и спалили дотла. После ухода последнего монгола лишь высокий минарет да единственный дворец свидетельствовали о том, что когда-то здесь был «центр всех наук».
Оставив Бухару в руинах, Чингисхан по долине Согдианы направился к Самарканду. Предатели открыли ему ворота и без боя сдали город. Так же поступили и в городе Балхе. Но ни в том, ни в другом случае добровольная сдача не спасла жителей города от насилия и грабежа. Дальше Самарканда Чингисхан не пошел, но отправил Тули с семидесятитысячной армией взять Хоросан, а два летучих отряда во главе с Джебе и Субедеем-багатуром преследовали Мухаммеда, который скрылся в Нишапуре. Проигравший войну и не имеющий поддержки Мухаммед бежал к Каспийскому морю, где в прибрежной деревушке Астара и умер от приступа пневмонии, передав власть своему сыну Джелал-ад-Дину. Тем временем Тули вместе со своим войском вошел в провинцию Хоросан и взял штурмом Нессу, после чего появился перед крепостными стенами Мерва. Воспользовавшись изменой жителей города, монголы захватили его и по свойственной им манере разграбили и сожгли город. Из Мерва Тули отправился в Нишапур, где столкнулся с чрезвычайно упорным сопротивлением. Четыре дня жители отчаянно сражались на стенах и улицах города, но силы были неравные; город был взят, и, за исключением четырехсот ремесленников, оставленных в живых и отправленных в Монголию, остальные мужчины, женщины и дети были зверски убиты. Герат избежал судьбы Мерва и Нишапура, открыв свои ворота монголам. На этом этапе своего продвижения по городам Азии Тули получил приказ от отца присоединиться к его армии в Бадахшане. Чингисхан собирался после небольшого перерыва, во время которого он захватил Газни, возобновить преследование Джелал-ад-Дина. Получив подкрепление, Чингисхан настиг Джелал-ад-Дина, который со своими турками укрепился на берегу реки Инд. Хотя войска Чингисхана сильно превосходили армию Джелал-ад-Дина по численности, турки фанатично защищались. Только когда монголы разгромили их наголову, фактически уничтожив почти всех, оставшиеся в живых в смятении бежали. Джелал-ад-Дин, видя, что битва проиграна, вскочил на свежего коня, погнал его к реке недалеко от поля битвы и бросился в воду. С восхищением смотрел Чингисхан на этот отчаянный поступок своего врага и без сожаления увидел, как вынырнувший всадник выбрался на противоположный берег. Некоторое время спустя Чингисхан снова пошел по следам Джелал-ад-Дина, бежавшего на этот раз в Дели, но, поняв, что тот неуловим, монголы вернулись в Газни, по дороге опустошив провинции Лахор, Пешавар и Меликпур. Здесь Чингисхану сообщили о том, что жители Герата свергли правителя, которого назначил Тули, и на его место поставили своего человека. Чтобы подавить восстание, Чингисхан отправил армию в восемьдесят тысяч человек. После шестимесячной осады Герат был взят. Целую неделю не прекращались убийства, пожары и грабежи. По свидетельству очевидцев, 1 600 000 человек были замурованы в стены города. Отомстив, Чингисхан вернулся в Монголию через Балх, Бухару и Самарканд.
Появление в Европе. Пока происходили эти события, Джебе и Субедей-багатур со своими отрядами прошли через Азербайджан и весной 1222 года вторглись в Грузию. Здесь они разбили объединенные силы лезгинов, черкесов и кипчаков и пошли на Астрахань, преследуя остатки кипчаков вдоль Дона. Монголы разгромили и половцев, которые бежали на Русь. Русские князья были встревожены появлением загадочного врага. Однако Мстиславу, князю Галицкому, удалось уговорить их собрать на берегу Днепра объединенную армию. Здесь он и встретил посланцев из монгольского лагеря. Даже не выслушав их, Мстислав казнил посланцев. Монголы ответили на это событие такими словами: «Вы хотели войны, вы ее получите. Мы не причинили до этого вам никакого вреда. Бог беспристрастен, он рассудит нас». В первой же битве у реки Калка славяне были полностью разбиты, и остатки армии бежали от победителей, а те, опустошив Волжско-Камскую Болгарию, удовлетворенные добычей, вернулись по реке Ахтуб в Среднюю Азию, где и соединились с основной армией монголов.
Оставшимся в Китае монгольским войскам сопутствовал такой же успех, что и армиям в Западной Азии. Монгольская империя была расширена за счет нескольких новых завоеванных провинций, лежащих к северу от Желтой реки, за исключением одного-двух городов. После смерти императора Сюинь-Цзуна в 1223 году Северная китайская империя практически прекратила свое существование, и границы Монгольской империи почти совпали с границами Центрального и Южного Китая, управлявшегося императорской династией Сун.
По возвращении из Центральной Азии Чингисхан еще раз провел свою армию по Западному Китаю. Во время этой кампании астрологи сообщили Чингисхану, что пять планет находятся в неблагоприятном соответствии. Суеверный монгол посчитал, что ему грозит опасность. Под властью дурного предчувствия грозный завоеватель отправился домой, но по дороге заболел и вскоре умер (1227 год). В своем завещании Чингисхан назначал своим наследником третьего сына Угедея, но до тех пор, пока тот не будет провозглашен Великим ханом (императором), смерть Чингисхана должна храниться в тайне. Похоронная процессия двинулась из стана Великой Орды на север, к реке Керулен. Завещание монгольского властителя выполнялось с такой тщательностью, что людей, попадавшихся навстречу процессии, убивали. Через родное становище его тело пронесли жены, и в конце концов он был похоронен в долине Керулена.
Так закончился путь одного из величайших завоевателей, когда-либо живших на земле. Родившись в маленьком монгольском племени, он, сын рядового вождя, добился того, что его армии победоносно прошли от границ Китая до берегов Днепра. Хотя созданная им империя в конце концов распалась как из-за неумелого правления последующих монгольских властителей, так и вследствие объективных исторических закономерностей, она оставила многочисленные свидетельства своих побед над другими народами. Одним из таких свидетельств является присутствие турок в Европе, вытесненных из Центральной Азии монгольскими завоевателями.
Черный Волк
Глава 1 СТРАХ ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА
Они зовут меня Кара-Чоно, Черный Волк. Однажды утром я шел вниз по течению реки, как часто хожу по утрам вниз по течению, ступал голыми ногами по мокрой от росы траве, как это всегда бывало по утрам, и мечтал о рыбе, которую хотел наловить. Хорошо об этом мечтать в утренней тишине — она словно замерла в кустах и траве долины. Иногда ветерок треплет ветки и стебельки, тогда они легко-легко подрагивают, как девушка от первого поцелуя.
Над рекой поднимался туман.
Вскрикнула птица.
Где-то хрустнула ветка.
Вскоре я достиг того места, где давным-давно ураган вырвал с корнями гордый кедр, росший на крутом берегу. По его стволу я перебежал речку почти до того места, где из воды торчала верхушка дерева. Здесь я уселся, опустил уду с наживкой в голубой Керулен и опять стал мечтать о рыбах, которые мне попадутся.
Я был счастлив.
У другого берега, на мелководье, неподвижно стояла серая цапля, а повыше открывался молчаливый и загадочный черно-зеленый лес, из-за которого выкатывалось солнце. Стоило мне оглянуться, и я увидел бы нашу орду: тонкие дымки стрелами уходили в небо. И пока сонные еще кони стряхивали морось со своих грив, скот уже удалялся в сторону тучных пастбищ. Вслед за рогатыми, тесно сбившись друг к другу, семенили блеющие овцы.
И тут я поймал первую рыбину, а потом вторую и третью, когда вытащил из воды четвертую, я улыбнулся моей отлетевшей мечте о богатом улове.
Счастье мое все ширилось в груди.
Я убил рыб ножом, нанизал их на кожаный ремешок и привязал к крепкой ветке. Они были красивыми даже теперь, когда жизнь покинула их.
У одинокой цапли вырвался из горла хриплый крик, голова ее хищно и злобно задралась вверх.
Потом она торопливо оставила мелководье и возбужденно заторопилась к красным лилиям, которые цвели в тени леса.
Обернувшись, я посмотрел в сторону нашей орды. Вон юрта моего отца, вон соседские, а дальше — вязовая рощица. За ней темная пропасть и потом уже цепочка холмов, с которых видна тянущаяся к самому горизонту бескрайняя степь.
Не успела еще цапля подлететь к ближайшему дереву, как я заметил группу всадников, которые, громко крича и угрожающе размахивая копьями, мчались вниз по холму. Мне показалось даже, что до меня донесся их смех. Да, они смеялись. Солнце слепило им глаза — они скакали прямо против солнца, и лица их отливали красноватой бронзой.
Их и впрямь охватило веселье. Теперь я слышал их смех отчетливо. Может быть, смеялись над женщинами и детьми, в страхе спрятавшимися в юртах или бросившимися врассыпную по кустам, где они дрожали, как листья на ветру, и причитали; или над стариками, которые словно замерли в нерешительности на том месте, где их застало появление всадников; или над парнями, которые отгоняли скот подальше в степь, чтобы и его спасти, и самим не погибнуть. Они смеялись, эти невесть откуда взявшиеся чужие всадники, смеялись с издевкой и презрением к нам.
А я? Счастье оставило меня. Положим, рыба, нанизанная на ремешок, по-прежнему висела на суку, безжизненная, но блестящая на солнце. Но степь гудела под копытами множества лошадей, степь содрогалась, трепетала, с травинок вся роса опала. Чужие всадники вылетали на своих малорослых лошадках из столбов желтого песка и кружили вокруг юрт, смеялись, протыкали их копьями, орали, поджигали наши жилища — серый дым уже потянулся в небо. И вдруг из орды вырвался один-единственный всадник на нашей лошади и погнал ее вниз, к реке. Как же чужаки завопили! И сразу все бросились в погоню, будто одного его поймать и хотели. Охваченный страхом, всадник скакал к реке взапуски с собственной тенью.
— Темучин! — крикнул я. — Сюда!
— Это тайчиуты{2}, Чоно!
Его лошадь понесла, а потом рухнула под ним. Он покатился вниз с откоса, а потом прыгнул в реку. Я тоже прыгнул в реку. И мы оба поплыли к противоположному берегу, ныряли под воду и плыли, ныряли снова и снова, опасаясь стрел преследователей. Но они в нас не стреляли. Я видел, как они погнали лошадей в воду, но недалеко, остановились и снова разразились жутким хохотом. Связка мертвой рыбы покачивалась как ни в чем не бывало на суку, а небо над головами было ласковым и таким улыбчивым, будто ничего не случилось.
До леса мы добрались поодиночке и бросились искать спасения в чаще, продираясь сквозь густой кустарник и подлесок, перебираясь через лежащие стволы умерших деревьев, и вскоре я заметил, что Темучина рядом со мной нет. Мы потеряли друг друга из виду.
Я прислушался.
Никого нет — ни тайчиутов, ни Темучина. Только маленькие птицы перепрыгивали с ветки на ветку, отчего те подрагивали. Иногда золотые персты солнца упирались в пестрое оперение птиц. Я был бы рад взять такую птичку в руку, чтобы согреться от ее тепла: в тенистом лесу мне было холодно, в промокшей до нитки одежде меня лихорадило, а изодранные руки и ноги кровоточили. Все лицо горело от ссадин и царапин. К тому же я был голоден. Мне вспомнилась пойманная рыба и то чувство счастья, которое я испытал совсем недавно. Почему тайчиуты преследуют нас, почему ведут себя так, будто наши пастбища и наша река — их владения?
Некоторое время спустя я оказался перед огромной каменной глыбой, по которой струйками стекала вода. Здесь росла сочная трава и дикий лук, которого я поел, а потом собрал еще много ягод, сочных и прохладных. Высушил на теплых камнях свою одежду, промыл порезы на теле холодной водой.
Лишь с наступлением сумерек, когда птицы умолкли, я отважился спуститься к реке. Несколько вернувшихся чаек постанывали в верхушках деревьев. У Керулена горели костры тайчиутов. Я видел их лошадей, до меня доносился запах жареной баранины.
— Ты можешь вернуться туда, Кара-Чоно, тебе нечего бояться, — услышал я за спиной знакомый голос.
— Темучин!
— Не радуйся. В твоем несчастье повинен я. Тайчиуты замыслили схватить одного, чтобы властвовать над всеми.
Я подумал: этот один — ты, Темучин, сын Есугея. Это он объединил тысячи монголов, он разбил татар и взял в плен их вождя. Когда твой отец вернулся в орду с победой, ты только-только родился. И тебя нарекли именем плененного вождя — Темучином, Стальным Ножом. Ты был его первенцем, а закон требовал, чтобы тебя назвали в честь самого знаменательного при твоем рождении события. Много лет спустя татары отомстили твоему отцу. Пригласили на пир, от чего у нас не отказываются. К сожалению, он не потребовал, чтобы хозяева принимали яства и напитки перед ним. В угощение подмешали яд, и он умер. После смерти твоего отца, Темучин, другие племена оставили орду, потому что не желали повиноваться мальчишке, даже если он сын великого вождя. Таргутай, вождь тайчиутов, был первым, кто ушел из-под руки твоей матери и от тебя.
— Я не пойду к ним, Темучин. Если им нужен один, чтобы повелевать всеми, мы все должны сплотиться, чтобы этого одного им не отдать. Разве не так?
— Что у меня есть? Моя мать в горе, у нас осталось девять лошадей и шесть овец. Ты слышал, как сегодня утром хохотали тайчиуты, Чоно? Это они над нашей бедностью смеялись.
У реки все еще горели костры часовых, люди Таргутая пили хмельной кумыс, распевали песни, шутили и смеялись так громко, будто уже посадили Темучина в деревянную клетку, в которую запирают вождей побежденных племен.
— Нам пора в путь, Темучин! Попросим соседей помочь нам. Может быть, хунгиратов, ведь твоя невеста из их рода. Ее отец, могущественный Дайсечен, тебе не откажет.
— Когда приходишь в чужую орду нищим просителем, Чоно, уважения не жди.
Сквозь лесную крышу пробивался лунный свет, похолодало, и мы отползли поглубже в чащобу, чтобы поспать. Мне опять приснилась рыба, как я с богатым уловом возвращаюсь в отцовскую юрту. В моем сне отец сказал:
— О-о, голубой Керулен, зеркало неба, богаче тебя нет реки в мире! Ты утоляешь нашу жажду, ты умеряешь наш голод.
Темучин мне тоже приснился. К нему спустился с небес белый сокол и принес пищу.
Причиной этих снов был голод, и тот же голод повлек нас утром на север, чтобы мы вырвались наконец из этой лесной клетки, размеров которой не дано измерить никому. Но и сюда добрались тайчиуты. Мы снова вдыхали далекий запах их костров. Они заранее праздновали победу над плененным Темучином, хотя Темучина пока не схватили. Им незачем углубляться в лес: они не сомневались, что, обессилев, Темучин сам отдастся в их руки.
Мы целыми днями и долгими ночами брели на юг, на запад и на север. Мы догадывались, что тайчиуты перекроют нам все удобные выходы из леса, и то и дело путали следы. На восток мы не шли: в той стороне у леса нет конца.
— Ты не жалеешь, Кара-Чоно, что остался со мной, что из-за меня голодаешь и терпишь муки?
— Мы голодаем потому, что тайчиуты загнали нас в лес, мы терпим муки потому, что они хотят схватить тебя, выходит, виной всему тайчиуты, а не ты, Темучин.
У Керулена есть места, где лес сбегает с западного берега и устремляется в степь.
— Если мы перейдем через реку, — сказал Темучин, — темные и непроницаемые дали нашей страны будут хранить нас и помогать.
Два дня спустя мы достигли этих мест, снова переплыли реку, передохнув на маленьком островке, поросшем березами, а потом, уже совсем без сил, доплыли до другого берега. Но не успели мы укрыться под сенью сумрачного леса, как тайчиуты набросились на нас и скрутили. А потом поскакали с нами по степи, навстречу прокаленному солнцем дню и вечеру длинных теней. Они положили нас поперек седел, связав по рукам и ногам. Участь всех пленников — страдания и неизвестность. Моя голова свисала так низко, что тайчиут, пожелай он, мог ударить меня по ней носком сапога или стременем. Я не владел больше своими мыслями и видел только пролетающую мимо траву, вдыхал запах пыли и крови, забыв и думать о моих рыбах.
Нас привезли к пышной юрте Таргутая. Вождь сидел перед глубокой миской с бараниной и бросал кусочек за кусочком прямо себе в рот. Пальцы его лоснились от застывшего жира, жир засох и на широких черных усах на верхней губе. На нас он внимания не обратил, он все ел и ел, запивая мясо холодным кумысом. По его знаку — он щелкнул пальцами — слуга принес ему сушеные фрукты на фарфоровой тарелке. Стражники бесшумно передвигались по шелковым коврам или молча сидели под стенкой юрты в ожидании приказа своего владыки.
Таргутай вытер жирные руки о волосы, и на этом трапеза завершилась. Слегка приподняв голову, он увидел наши связанные ноги и хриплым голосом спросил:
— Неужели у строптивого Темучина отросли четыре ноги и он будет теперь пастись вместе со своими овцами?
На что Темучин ответил:
— Неужели Таргутай, который некогда дружил с ордой моего отца, настолько состарился, что не может отличить барана или овцу от двух друзей?
Подбежавший к нам стражник схватился за меч, но Таргутай поднял руку:
— Оставь их! Я уважаю разум, потому что он острее меча. Тот, кого я вижу, достойный сын Есугея: волосы у него черные, глаза сверкают, речь исполнена смысла. Он как необъезженная лошадь. Когда ее заарканишь, она бесится и встает на дыбы. Значит, нужно ее укротить, унизить, замучить, заставить голодать. Закройте его в кане и отдайте ключ мне. Так он скорее поймет, что я не только владыка моих тайчиутов, но что весь его скот и все его пастбища отныне тоже мои! Его орда — моя орда, и его воля будет повиноваться моей воле.
А теперь, видно, пришел черед человека, который однажды солнечным утром пошел наловить рыбы. До сих пор меня не удостаивали ни словом, ни взглядом.
— Я велел поймать только одного, — сказал предводитель тайчиутов, — но раз ты не оставлял его ни днем, ни ночью, а он назвал тебя своим другом, я прикажу и тебя запереть в кане. Ты не сын предводителя или вождя орды, ты мне уже завтра утром скажешь, будешь ли служить мне, или умрешь от моей руки. Цена твоей жизни ничтожна, твоя смерть никого не воспламенит. Ты все равно что листок, который порывом ветра сорвет с дерева. Кто заметит унесенный ветром лист?
— Сколь ни ничтожна моя жизнь, слова Таргутая придают ей вес!
— Ты смерти не боишься?
Один из стражников замахнулся на меня плетью.
— Приставьте к ним обоим вместо храброго воина этого дурачка, одноглазого мальчишку-конюха, чтобы они поняли — для меня они всего лишь голодные степные крысы!
И нас вытолкали из его юрты.
Ночью на небе не пробежало ни облачка, лунный свет был таким сильным, что даже звезды померкли. Он словно облил серебром юрты орды тайчиутов. На деревянных ярмах, в которые нас заключили, можно было разглядеть каждую трещинку. Мы стояли неподалеку от шатра Таргутая, но на таком расстоянии друг от друга, что, если бы попытались перекинуться хоть словечком, его обязательно услышал бы стерегший нас мальчишка-конюх.
Время от времени в лунном свете между юртами скользили какие-то тени, и все они исчезали в юрте Таргутая.
То бесстрашие, с которым я предстал перед вождем тайчиутов, недолго сопутствовало мне в ночи. Тягостное ярмо сдавило мое мужество и надежду, потому что я привык сражаться в открытую. Я охотился на волков и антилоп, побеждал лосей и медведей, и никогда страх не закрадывался в мое сердце, даже тогда, когда мне грозила гибель — ведь и тогда я видел гордость победителя в глазах зверя, и от этого сил у меня прибавлялось. Однако у Таргутая для меня не нашлось ничего, кроме ярма, колодок и обидных слов. И после этого служить ему? Наши старики говорили: кто служит чужакам, будет с мясом и кумысом, но разве его жизнь не будет в ежечасной опасности?
В юрте Таргутая пели, праздновали победу над Темучином и орали во всю глотку, как в то утро, когда ворвались в нашу орду у Керулена. Один из слуг принес одноглазому мальчишке-конюху вареную баранью ляжку и глубокую миску с молоком. Тот так чавкал и громко прихлебывал, что было слышно за две юрты. А потом бросил обглоданную кость к ногам Темучина. У реки ржали лошади, на другом берегу выли трусливые волки.
В степной ночи есть час, когда все замирает и становится так тихо, будто она хочет проскользнуть в вечность, не пробуждая спящих ото сна и не выпуская бодрствующих за край ночи. Все вокруг цепенеет, ветер утихает, и лишь луна ходит над лесами, реками и пастбищами, ощупывая кусты и юрты. Я ощутил, что вот-вот что-то случится. И тут Темучин сорвался с места, побежал на одноглазого мальчишку и ударил его деревянным ярмом прямо в горло. Наш страж рухнул в траву, а мы с Темучином побежали к реке.
Залаял пес тайчиутов.
Заплакал ребенок.
Мы вспугнули ночную птицу, которая с криком полетела над рекой. Ступив в воду Онона, мы брели в сторону камыша, пока отливающая лунным серебром вода не достала нам до подбородка. С ярмом на шее и связанными руками далеко не убежишь, подумалось мне. Мы замерзли, но стояли в Ононе молча, хотя рады были бы переброситься словом. Но надо молчать: в такую ясную лунную ночь, когда воздух прозрачен, вода может донести звук наших голосов до орды тайчиутов. Впервые в жизни я боялся восхода солнца, потому что оно принесет мне не утреннюю тишину, не прогнувшуюся от росы траву, не мечты о пойманной рыбе, а смерть, если я откажусь пойти в услужение к Таргутаю. Поднять руку на Темучина они не осмелятся. Если сын Есугея погибнет, другой вождь наследует ему, отомстит за его смерть и подчинит себе племя, убившее Темучина. Есть много вождей, которые могут похвастаться более славными и могучими предками, чем Таргутай.
Со стороны орды появились всадники. У реки они разделились и поскакали вверх и вниз по течению. Останавливаясь, тыкали копьями в прибрежные кусты и камыш. Потом скрылись из виду.
Но один остался. Его лошадь приплясывала в лунном свете на берегу, отфыркивалась и снова приплясывала. Всаднику никак не удавалось ее успокоить. Спустившись к воде, он спрыгнул с лошади и раздвинул камыш перед собой.
— Вот видишь, Темучин, — воскликнул он, обращаясь словно в никуда, — как раз за упрямство тебя и ненавидят! — И поскакал потом вдоль по берегу, но не туда, где в степном тумане исчезли остальные, а обратно в орду.
— Пошли, — прошептал Темучин.
Выйдя из воды, мы осторожно пробрались к юрте, у которой одинокий всадник расседлал свою лошадь. Оказавшись в стоявшей справа от юрты кибитке, забрались в сложенную там овечью шерсть.
Тем временем тайчиуты вернулись от реки и из степи и на всякий случай обыскивали юрты. Добрались они и до нашей кибитки. Увидев перед собой большую кучу шерсти, один из них сказал:
— Никого здесь нет. Кто в такую жару заберется в шерсть?
Другой сказал, что поиски можно продолжить и утром.
— Все равно далеко они не ушли. Если в степь бросились, их там волки сожрут, а если в реку спустятся, вода их проглотит. Нет, под этим небом никому еще не удалось спастись с ярмом на шее. Или кому-то из вас приходилось слышать о таком?
Никто ему не ответил.
— Сделаем так: ляжем пока спать, а утром, сами увидите, прежде чем солнце зайдет за юртой Таргутая, эти двое окажутся в нашей орде и будут еще каяться. Видели вы, какими возвращаются оторвавшиеся от стада и колодцев верблюды? Вот такими будут и они.
Когда тайчиуты вышли из кибитки, орда вскоре снова затихла. Я услышал, как Темучин потихоньку выполз из шерсти. Я сделал то же. Темучин потряс за плечо улегшегося уже на подушки хозяина кибитки и тихонько проговорил:
— Оэлон-Эке приветствует тебя, дорогой Сурхан-Шира. Мать Тучи часто о тебе вспоминает.
— Темучин!
— Со мной друг, Сурхан-Шира. Выходи, Кара-Чоно, покажи ему ожерелье, которое дал нам в награду Таргутай.
Сурхан-Шира закрыл глаза и уши руками, как бы не желая ни видеть, ни слышать того, что сейчас от него потребуют.
— Ты ведь не забыл, Сурхан-Шира, — прошептал Темучин, — как я играл с твоими сыновьями на льду Керулена. Тогда я и сам был мальчиком. А ты с семьей жил в орде моего отца.
— Нет, клянусь Вечным Синим Небом, этого мне вовек не забыть!
— Тогда разбей наши ярма, Сурхан-Шира!
— А если они опять вас поймают? Тогда мой пепел развеют на все ветра. Нет, не смею!
Я беспомощно взглянул на Темучина. Как теперь быть? Но Темучин только улыбнулся.
— Как хочешь, Сурхан-Шира. Но когда Таргутай услышит, что ты нашел нас у реки и не донес ему, разве он не удивится? И что ты ничего не сказал о нас, когда обыскивали твою кибитку?
Сурхан-Шира разбил наши ярма, сварил в котле распиленного надвое ягненка, наполнил несколько кожаных мешочков кумысом, дал нам луки и стрелы.
— Пусть небо сделает вас невидимыми, пусть наградит ваших коней крыльями, чтобы не только вам, но и мне было суждено еще много раз встречать восход солнца.
— Моя мать, Оэлон-Эке, будет тебе благодарна, я тоже никогда-никогда этого не забуду, Сурхан-Шира.
Расщепленные деревянные ярма потрескивали в костре.
Он подарил нам еще двух желтых, как солома, кобылиц.
— Скачите! Ищите ваших матерей, — сказал он на прощанье.
Мы вскочили на неоседланных лошадей, вырвались в степь и от радости стали их нахлестывать. Их гривы так и развевались на ветру!
— Темучин! — кричал я.
— Кара-Чоно! — кричал он.
Утреннее солнце облобызало наши лица. Мы смеялись, кричали без конца «Темучин!» и «Кара-Чоно!» и не могли успокоиться, пока после полудня не достигли холмов, за которыми была наша орда — это на нее в то утро с гиканьем набросились тайчиуты. Придержав лошадей, мы остановились неподалеку от пропасти и долго любовались на рощицу вязов, на тучные пастбища, на голубой Керулен, который молчаливо огибал лес. Там, где стояли круглые войлочные юрты, трава была желтой, седой и мертвой.
— Мать Тучи ушла с моими братьями и остальной ордой к горе Бурхан-Калдун, — сказал Темучин. — Однажды гора уже спасла мне жизнь, и на ее вершине небо так близко, как нигде.
И мы поскакали вниз по реке, скакали полночи, продрались сквозь лес и оказались у подножия горы, где снова встретились с родными.
Глава 2 ЧТО ОДИН КИНЖАЛ, ЧТО ДРУГОЙ
Мои родители были бедными пастухами, которые о заболевшей овце пеклись больше, чем о родных сыновьях, и не потому, что не любили сыновей, а потому, что павшая овца означала для них голод, а умерший ребенок — всего лишь боль и печаль. Мой отец служил Есугею, участвовал в его набегах на соседние племена, когда вождь того требовал или когда враги первыми нападали на нас. Но по своей воле никого не убивал, никогда не мечтал вернуться из похода с добычей, всегда прислушивался к словам стариков и соблюдал обычаи предков. Некоторые называли его Молчальником. А кое-кто называет его так и поныне. Молчать он научился, когда ловил рыбу в Керулене или охотился в лесах Бурхан-Калдуна. После битв всегда радовался возвращению на берега реки у подножия гор, потому что любил одиночество и уважал жизнь.
Когда я, его старший сын, вошел в юрту и поведал, что нам с Темучином пришлось снести у тайчиутов, он поцеловал меня в глаза, открыл сундучок и достал из него завернутый в кусок шелка небольшой кинжал.
Мы молча оставили юрту.
Серое утро, занимавшееся над ордой, изгоняло ночь, сталкивая ее в степь, где луна уже спряталась за острыми травами.
За вершину Бурхан-Калдуна цеплялись тучи, в отступавших сумерках на северном склоне горы чернел лес. Мы начали карабкаться наверх по крутой тропинке, и чувство, что ты идешь навстречу расцветающему утру, было приятным. Особенно для меня, которому уже незачем было бояться восхода солнца.
На вершине легкий ветерок теребил траву.
Мы сели на валун и, не произнося ни слова, повернули головы в сторону черневшего внизу леса, за которым виднелась широкая розовая полоса, — это выкатывалось солнце. Мы сняли наши шапки, повесили на шею ремни и благодарно поклонились раскаленному огненному шару. После чего отец достал маленький кинжал и, протянув мне, торжественно проговорил:
— Когда-то мне довелось охотиться со старым Есугеем по ту сторону Керулена в густом лесу. Нас было двенадцать охотников, кому было велено окружить и загнать зверя. Но убьет его наш вождь — таков был приказ, который мы уважали не только потому, что вождь был строг. И хотя Есугей был хорошим охотником и его стрела всегда попадала в то место, которое он называл, в то утро он не попал с первой стрелы в могучего медведя. Да и вторая не попала ему в сердце, как хотел Есугей, и разъяренный зверь пошел прямо на него. Одиннадцать охотников побледнели и оцепенели, не зная, как быть — нарушить приказ или нет? Но я успел выпустить стрелу прежде, чем медведь подмял нашего вождя. Попал я точно, а потом еще воткнул в него кинжал. Рядом со стрелой.
— А что Есугей, отец? Что сделал, что сказал?
— Да, что он сделал и что сказал, Кара-Чоно! Тогда я так же ждал его слов, как ты сейчас моих. Вдруг он сказал бы, что сам справился бы со зверем? Никто не посмел бы ему перечить. И разве я вообще смел тягаться с моим вождем? Он мог бы обвинить меня в том, что я усомнился в его храбрости. Да что там — как я вообще мог нарушить приказ? Но Есугей был мудр, и он сказал: «Одиннадцать из вас подчинились моему приказу, и это едва не стоило мне жизни, а один нарушил его и спас меня от смерти. И если я его сейчас отблагодарю, то разве за непослушание? Сами подумайте об этом, и вы поймете, о чем я веду речь». И тогда, Кара-Чоно, Есугей подарил мне этот дорогой кинжал.
Лучи солнца огнем переливались в драгоценных камнях ножен и рукояти и отбрасывали пестрые брызги на лицо отца.
Над нами беззвучно кружили два сокола, которые вдруг ринулись вниз, прямо на стаю чаек. Белые перья грустно опускались в Керулен, и течение реки покачивало их, унося с собой.
Отец сказал:
— Отнеси кинжал Темучину в подарок за то, что благодаря его хитрости вам удалось спастись. Пусть и он станет таким же мудрым, как его отец.
Спустившись к подножию горы, мы встретили там караван китайских купцов, направлявшихся в нашу орду. Дети с криками выбегали из юрт навстречу чужеземцам и замирали от удивления при виде ярких нарядов торговцев и перегруженных верблюдов. Сколько ящиков, сколько тюков!
И вот уже караван обступили пастухи, охотники и их жены. Каких только чудес не оказалось в тюках и ящиках: шелковые ковры с красочными орнаментами, бархатные платья и дорогие сукна, колчаны из слоновой кости, щиты, кинжалы, украшения и сладости.
Я с отцом стоял в толпе, внимая льстивым словам, с которыми купцы расхваливали свой товар и одаряли сладостями детей, не требуя ничего взамен.
Очень скоро ордынцы бросились к своим юртам, а потом вернулись со связками шкур, с баранами и лошадьми, один предложил даже своего яка, и китайцы с удовольствием обменяли его на целую кучу товара.
Я стоял с драгоценным кинжалом в руках и глазами искал Темучина. Его я не нашел, а увидел только его мать, Мать Тучи. Она, вся седая, предлагала китайцу миску, полную соли. Эту соль Мать Тучи добыла в одном из близлежащих озер. За нее она получила три пиалы. Постучав пальцем по тонкому фарфору, она посмотрела сквозь них на солнце, а купец тем временем брал из миски одну щепотку соли за другой и с довольным видом ссыпал обратно.
И тут появился Темучин. Он стоял у своей юрты в полном одиночестве, серьезный и сосредоточенный, и смотрел на торговцев так, будто собирался вот-вот выгнать их из орды или отнять все товары.
— Хорошо, что ты здесь, — сказал мне Темучин, глядя в сторону.
— Я хотел сделать тебе…
— Замолчи, Кара-Чоно, не нарушай течения моей мысли, а обрати лучше свой взор на купцов, и я объясню тебе, что мне выдали их гладкие улыбчивые лица. — И, помолчав недолго, он добавил: — Вон тот, например, что торгует коврами у белого верблюда. Он лысый, беззубый, а лицо лоснится от удовольствия. Видишь, как жадно он вцепился в волчью шкуру, которую ему предложили? Скажи, Чоно, сумел бы этот купец убить волка?
— Нет, ни за что! — Я даже рассмеялся.
— Вот видишь, а сам предлагает нашим охотникам за шкуры ровно столько, сколько ему нравится. А рядом с ним, видишь, купец продает легкие ткани, у него еще шрам на шее. Смог бы он обуздать скакуна?
— Нет, ни за что! — И я опять рассмеялся.
— Конечно! А как презрительно он посмеивается над нашими пастухами, потому что они живут в кибитках и кочуют со стадами от одного пастбища к другому. Они же из больших городов и живут в домах, сложенных из камней, за большими каменными стенами — так мне отец рассказывал. Приглядись попристальнее к третьему, к тому, что с перстнями на пальцах. Жмурится, как кот! Его перстни стоят дороже, чем все богатства нашей орды. Умеет он стрелять, попадет он в цель?
— Вряд ли. За него все сделают его слуги и телохранители.
— Ты прав. Моя мать просила у него за соль четыре пиалы. Я вижу, она получила три. Почему? Потому что он ее не уважает, потому что все торговцы вороваты, все они скряги и обманщики. Они считают, будто выше нас уже потому, что живут в каменных домах и носят дорогую одежду! — Темучин заглянул в свою юрту и вернулся с двумя луками и пучком стрел.
Я испуганно спросил:
— Что ты собираешься делать?
— Я покажу им, Кара-Чоно, на что мы способны, а нашим людям — на что чужеземцы не способны! Одних это возвысит, а других унизит.
Мы протолкались сквозь толпу к тому торговцу, который дал матери Темучина три пиалы вместо четырех.
— Могу предложить вам белую кобылицу, — сказал Темучин.
— И что вы хотите взамен, юный господин? — ответил торговец.
— Ничего!
— Ничего? Такого мне слышать не приходилось. Назовите сумму, я заплачу.
— Вы ведь верхом ездить умеете, правда?
Торговец ухмыльнулся.
— Неужели вы думаете, что мы пришли сюда из Поднебесной{3} пешком?
Я подвел к нему белую кобылицу. Это было животное рослое, беспокойное, с широкой грудью и длинной гривой. Некоторые ордынцы улыбались, другие смотрели на нас во все глаза, не понимая, какую игру затеял с торговцем Темучин.
— Вы получите эту лошадь даром, — сказал Темучин, — если проскачете на ней до реки и вернетесь обратно в орду.
Недоверчиво оглядев кобылу, торговец грубовато ответил:
— Я не кочевник какой-то, чтобы ездить верхом без седла.
— Мы, торговец, умеем скакать и так и эдак, — сказал Темучин, — но седло вы получите, будь по-вашему!
Мы повалили кобылу на траву, бросились всем телом ей на передние и задние ноги, закрутили ей хвост и уши так, что она заржала от боли, взнуздали ее и наложили седло с чересседельником.
— Вы хотите обмануть меня! — вскричал торговец. — Разве я слепой: ведь это необъезженная кобыла.
— Он лжет! Он лжет! — вскричало несколько ордынцев сразу. — Он нас оскорбляет! Он лжет, этот торговец!
Темучин дал пастухам и воинам выкричаться, а потом призвал к тишине:
— Слышали вы наш ответ? Мне и в голову не пришло бы потребовать от вас того, на что я сам не способен! Это против наших обычаев и законов отцов. Понятно, торговец?
— Хорошо, я поскачу. Но сперва докажите правоту своих слов.
Темучин, ни секунды не раздумывая, вскочил в седло, поскакал к Керулену, пустил лошадь галопом вдоль берега, и, хотя она несколько раз останавливалась, резко упираясь передними ногами в песок, или становилась на дыбы и била ими и даже бросалась в песок, выгнув шею, ей не удалось сбросить всадника. Темучин так ни разу и не коснулся земли подошвами сапог. Пастухи и воины орали от радости, запели песню, отбивая такт ладонями, и выкрикивали:
— Он настоящий Есугей, наш Темучин, он настоящий Есугей!
Мы все с гордостью поглядывали на торговца, который наблюдал за поединком не без беспокойства, но не отказался сесть в седло, потому что это было хотя и необъезженное, но благородное животное, и он был бы рад заполучить ее — тем более даром.
Когда торговец вскочил в седло, я держал лошадь в поводу. Наступила немая тишина, даже дети примолкли. Что-то будет?
— Так, — кивнул мне торговец, — а теперь оставь меня!
Я отпрыгнул в сторону. И лошадь побежала, нет, она помчалась во весь опор, она взлетела в воздух могучим прыжком, а потом упала вдруг на колени, и торговец, перевалившись через ее голову, рухнул наземь. А она сразу поднялась и затрусила к реке как ни в чем не бывало. Ордынцы расхохотались. А торговец, подстегиваемый желанием завладеть лошадью — может быть, он оказался храбрее, чем предполагал Темучин, — догнал ее и опять вскочил в седло. И снова упал, на сей раз в тот миг, когда лошадь неожиданно повалилась на бок и дико забила в воздухе копытами.
— Можете попытаться еще раз, — предложил Темучин.
А я подвел лошадь к нему и сказал:
— Она того стоит, торговец!
— Это не лошадь, а сущий дьявол! — Он сплюнул и, отряхивая свое платье от пыли, отошел в сторону.
— Может быть, кто-то из вас умеет стрелять из лука? — обратился Темучин к другим купцам. — Кто попадет в то место, которое я укажу, тому я ее подарю.
Никто не вызвался.
И опять мои ордынцы много смеялись, а некоторые из них перестали даже обменивать свой товар, сообразив, что купцы явно занижали цену. Другие же смотрели вслед удаляющемуся каравану с грустью: худо ли, бедно ли, но кое-что они хотели бы еще выменять. Им Темучин сказал:
— Пусть уходят. Они будут повсюду рассказывать, как их встретили в нашей орде. И тогда те, что придут после них, не будут так задирать нос и презрительно над нами насмехаться только потому, что мы живем в войлочных юртах и кочуем по степи. Всякому, кто будет вести себя с нами как с равными, мы окажем наше гостеприимство и будем с ним торговать.
И Темучин, молодой Темучин, которого народ назвал сегодня настоящим Есугеем, повел меня к своей юрте.
— Ты пришел сегодня ко мне, но я не слышал от тебя ни слова. Что случилось, Чоно?
— Меня прислал к тебе мой отец, — сказал я и развернул платок, в котором был кинжал. — Вот, Темучин, это подарок для тебя. За то, что благодаря твоей хитрости мы спаслись от Таргутая. Мой отец сказал, что желает тебе сравняться в мудрости с Есугеем, которого он очень уважал и которого однажды спас от верной смерти.
— Я знаю, — ответил Темучин, — во время охоты на медведя. Мне об этом не раз рассказывала мать. Такое не забывается, Чоно, и в этом есть своя мудрость.
Снаружи поднялся сильнейший ветер, он рвался в войлочные стены юрты. Темные тучи застили солнечный свет. За лесом рычал гром.
— Кинжал моего отца, — прошептал Темучин. — Дорогой подарок. И подходит к моему имени, Кара-Чоно, ведь я — Стальной Нож.
Темучин поднялся с ковра и подошел к обтянутому красной кожей сундуку. Из него он достал другой кинжал, тоже обернутый в кусок шелка.
— У этого ножа тоже есть своя история, Чоно. Он принадлежал татарскому хану Темучину, которого пленил мой отец и чье имя я ношу. От хана этот нож и достался. Ты мой первый друг, Кара-Чоно, и я дарю его тебе. Но сперва спрошу тебя, хочешь ли всегда быть моим верным другом? И чтобы я всегда был другом тебе?
— Но ведь ты уже на глазах бешеного Таргутая назвал меня своим другом, Темучин!
Ветер отбросил полог юрты. И мы увидели реку и лес, на который навалилась буря. С треском переломившись, в реку упал кедр. Молнии перечеркивали небо и стрелами падали в лес, гром катился по Бурхан-Калдуну, сотрясал землю и с ревом приближался к нашей орде.
— Хорошо, — сказал Темучин, — тогда поклянемся всегда быть вместе и хранить верность друг другу. Если ты нарушишь клятву, я убью тебя кинжалом моего отца, который ты мне подарил, а если клятву нарушу я, убей меня кинжалом татарского хана Темучина, который тебе подарил я. Справедливо это по нашим обычаям, Чоно?
— Справедливо, Темучин!
И мы обменялись кинжалами.
Когда я возвращался к отцовской юрте, пошел дождь. Сначала отдельные крупные капли, а потом дождь припустил и сделался таким сильным, что Керулен взбух и запенился. Там, где река на небольшом расстоянии текла вдоль открытого поля и делала потом изгиб, коричневая вода выхлестнулась на берег. Пенные гребни волн напоминали всклокоченные седые волосы.
У Кара-Чоно теперь есть друг, думал я, и этот друг — сын Есугея. Дождь мне был нипочем. Особенно теперь, когда мы с ним поклялись в дружбе. И я снова почувствовал себя счастливым, как в то утро, когда шел ловить рыбу. А гром? Его раскаты были для меня все равно что удары палок по барабану.
Отец сидел в юрте на войлочной подстилке и чинил сапоги. Я рассказал ему о событии, столь радостном для меня. Глаза мои сверкали от счастья. Отец слушал, не поднимая на меня взгляда.
Он молчал, мой отец, он молчал, продолжая чинить сапоги.
Глава 3 ВДВОЕМ НА ОДНОЙ ЛОШАДИ
И снова я пошел удить рыбу на Керулен, как часто делал по утрам до того, как попал в плен к тайчиутам. Иногда рядом со мной был Темучин. Мы ловили рыбу, сидя рядом. А иногда вместе охотились на степных сурков, байбаков, и тогда возвращались домой лишь после захода солнца. Моего каурого с вылезшим хвостом и выгнутой спиной мы так нагружали тушками байбаков, что он под их тяжестью едва переставлял ноги, когда мы возвращались в орду. Добычу мы делили пополам.
Сидя у реки один, я думал о том, почему промолчал отец, когда я рассказал ему о нашей с Темучином дружбе. В молчании стариков много мудрости. Да, он ничего не сказал, но это не означало ни одобрения, ни порицания. Он все продумал наперед, потому что удравшего верблюда вернуть можно, а вырвавшееся слово нет. Почему я размышлял о его молчании так долго, сам не знаю.
Однажды тайчиуты украли у нас восемь лошадей, и среди них серебристо-серого жеребца и ту самую огневую белую кобылицу, дикую и благородную, которая сбросила с себя торговца. Это случилось на наших глазах в тот час, когда солнце стояло в зените. Мы не успели даже схватиться за луки и выпустить им вслед наши оперенные стрелы, как их след уже простыл в степи.
— В погоню за ними! — воскликнул один из братьев Темучина.
— Как? — спросил его Темучин. — На чем?
И мы все замолчали, глядя на желтую равнину, в эту даль, в эту бесконечность — что делать, лошадей у нас не осталось. Кроме одной, пасшейся в лесу, у нас похитили всех. Мы ждали, когда она вернется, наша последняя в орде лошадь, и продолжали стоять на ярком солнце, которое, казалось, убегало за горизонт вместе с конокрадами, оставляя нас в сумерках и темноте.
— Сегодня они похитили наших лошадей, — сказал Темучин. — Завтра они точно так же угонят наших овец.
— А потом наших жен и детей! — сказал я.
— А когда угонят наших жен и детей, — добавил брат Темучина, — они сожгут наши юрты, а мы, мужчины, будем, как звери, прятаться по лесам…
— Но рабами не станем! — перебил его Темучин. — Лучше я буду жить и сдохну, как зверь, чем соглашусь быть рабом. Зверь свободен и стоит выше раба.
Вот так мы и говорили, и горечь разъедала наши глаза и сердца; женщины сидели перед юртами и горевали вместе с нами, дети плакали, а овцы блеяли, словно посылая прощальные приветы лошадям.
Взошла луна.
Мы сидели у костров, прислушиваясь к тишине.
Вернулся охотник с нашей единственной лошадью. На его лице было написано счастье: он хорошо поохотился и вернулся с богатой добычей. А когда мы рассказали ему, что у нас стряслось, он стал лицом похож на всех нас. Да и задумался о том же…
Мы поехали в степь вдвоем. Я да Темучин, вдвоем на усталой лошади. Сидевший впереди Темучин сказал:
— Послушай, Кара-Чоно! Когда я сегодня утром сидел с тобой у реки и удил рыбу, я подумал: хорошо бы иметь в нашей орде в сто раз больше лошадей и мужчин, в сотни раз больше, чем нас есть сегодня, и тогда вскоре нас стало бы в тысячи раз больше в орде — и мужчин и лошадей. Ты меня понял, друг?
— Нет, Темучин, не совсем.
— А не поймешь, если я скажу, что тысячи мужчин равны десяткам тысяч стрел?
— Тогда тайчиуты перестанут воровать лошадей и унижать нас.
— Я об этом и говорю, Кара-Чоно. Тогда Таргутай станет для нас все равно что ошметок сухого овечьего дерьма. А кто будет защищать кусок овечьего дерьма? Кто будет рисковать ради него своей жизнью? Но, друг дорогой, эти мысли пришли ко мне утром, а сейчас вечер, и мы сидим вдвоем на одной лошади, единственной, которая у нас осталась, и встреть мы кого-нибудь, он упал бы с коня от хохота, он бы поднял нас на смех, он издевался бы: «Сын Есугея едет на лошади вдвоем!» Видишь, Кара-Чоно, утро обещает, а вечер насмехается.
Мы переезжали неширокую речушку. Я ответил:
— Это правда, Темучин, твои слова справедливы. Но давай вывернем их — над чем вечер насмехается, утро выполняет. Разве в этом нет смысла?
— Чоно! — радостно воскликнул Темучин, хлопнув лошадь по крупу. — Смысл твоих слов нравится мне куда больше, чем смысл моих. Скажи, ты всегда выворачиваешь слова до тех пор, пока они тебе не понравятся?
— Я не выворачиваю их, чтобы они мне понравились, Темучин, я продумываю их со всех сторон, как меня учил отец.
Ночь была прохладная, трава под копытами лошади влажной. Иногда она доставала до стремени и хлестала по нашим сапогам. Светила луна, и следы серебристо-серого жеребца и других лошадей различались отчетливо.
Мы скакали три дня и три ночи, время от времени идя рядом с лошадью пешком, чтобы дать ей передохнуть. На четвертое утро увидели невдалеке табун и несколько юрт. Молодой парень доил одну из лошадей. Мы спросили его о тайчиутах.
Он ответил:
— Сегодня перед восходом солнца они прогнали мимо нас восемь лошадей, и среди них серебристо-серого жеребца. Если хотите, я покажу вам куда.
Он не стал даже возвращаться в степь, а отбросил в сторону второе кожаное ведро для молока и, дружелюбно улыбаясь, подвел к нам двух свежих лошадей, которых мы и оседлали, а сам вспрыгнул на жеребца гнедой масти.
— Поскачешь с нами? — спросил я.
— «Попавшему в беду да помоги» — всегда говорили наши старики, — ответил он. — Моего отца зовут Наху-Байан. А меня, его единственного сына, Бохурчи!
И снова мы скакали три дня и три ночи, пока не оказались вблизи хорошо охраняемого лагеря тайчиутов.
— Я вижу нашего жеребца, — сказал Темучин. — Ты отличный проводник, Бохурчи.
Жеребец вместе с остальными лошадьми пасся в большом загоне.
— Вперед, Чоно! Они украли у нас лошадей на глазах, при свете солнца, и мы вернем их себе тоже у них на глазах, при ясном свете солнца!
— А я? — спросил Бохурчи.
— Теперь твое дело сторона, друг! — сказал Темучин.
— Я пошел с вами, чтобы помочь. К лицу ли мне бросать вас сейчас?
Ну и мы все втроем врезались в табун и погнали наших лошадей в степь. Ошеломленные тайчиуты несколько мгновений стояли у своих юрт, словно обратившись в камень. Наверное, если и ждали, что мы появимся, то, конечно, ночью, но никак не средь бела дня.
А мы возникли перед ними ясным солнечным утром, будто званые гости.
Они бросились в погоню за нами.
Но расстояние между нами было очень большим, вдобавок мы постоянно меняли на полном скаку лошадей. Как вдруг от кучи преследователей отделился одинокий всадник-тайчиут на сером в яблоках скакуне, который, казалось, летел над степью. Всякий раз, когда я оглядывался, они увеличивались в размерах. Встречный ветер срывал с морды серого в яблоках клочья пены.
— Я остановлю его! — вызвался Бохурчи.
— Это я его остановлю! — вскричал Темучин. — Ведь они наших, а не твоих лошадей угнали!
И Темучин начал понемногу отставать.
Тайчиут держал в одной руке жердь с кожаным кольцом.
Темучин спустил тетиву лука. Стрела попала точно в цель, и серый в яблоках остался без всадника. Темучин так хлестанул нагайкой свою лошадь, что она дико заржала от боли и понеслась обратно во весь опор.
День заканчивался, и наступили сумерки, которые укрыли нас и сделали наши следы почти невидимыми.
Я сказал Темучину:
— Слух об этой нашей выходке ветер разнесет по всей степи, Темучин, о ней будут говорить во всех юртах, и люди повсюду будут воспевать твою храбрость, друг. И вспоминать о твоем отце, Есугее.
— Хорошо, Чоно, но разве вернули бы мы лошадей без Бохурчи?
— Нет, это он указал нам путь и дал лошадей!
— Значит, мы с ним поделимся, Кара-Чоно. Сколько лошадей ты хочешь, Бохурчи?
— Я присоединился к вам, потому что вы были в нужде. Неужели я потребую особого вознаграждения? Моего отца зовут Наху-Байан, то есть Богатый. Я единственный сын Наху-Байана. Того добра, которое мне выделил отец, мне за глаза хватает. Мне ничего не нужно. Разве я был бы вправе считать, что сослужил вам службу, если бы потребовал за это награду? — так ответил нам Бохурчи, прежде чем мы переступили порог юрты его отца.
Старик плакал. Это мы заметили по его покрасневшим глазам. Он укорял Бохурчи за то, что тот ускакал, не предупредив его.
— Мою жену убили тайчиуты, — объяснил старик. — И теперь я опасался, что потеряю сына.
— Два друга, которых постигла беда, пришли ко мне, — сказал Бохурчи. — И я присоединился к ним.
— Я порицаю тебя не за это, Бохурчи, а за то, что ты ничего не сказал мне. Что мне было думать все это время? Зато теперь сердце мое ликует: ты помог добрым людям.
— А что ты скажешь, Наху-Байан, если он теперь пойдет со мной? — спросил Темучин.
— Разве Темучин, сын Есугея, берет людей? Принимает их?
— Да.
Темучин бросил на меня многозначительный взгляд. Может быть, он вспомнил о ночном разговоре, когда он сказал мне: «Хорошо бы иметь в нашей орде в сто раз больше лошадей и мужчин, в сотни раз больше, чем нас есть сегодня, и тогда вскоре нас стало бы в тысячи раз больше в орде — и мужчин и лошадей».
— Тогда иди с ними, Бохурчи, — сказал Наху-Байан. — Держитесь друг друга и не бросайте друг друга в беде никогда!
Бохурчи забил овцу, уложил куски мяса в кожаный мешок и водрузил его на своего гнедого. Выпив в юрте Наху-Байана по нескольку кружек кумыса, мы неспешно направились в сторону Бурхан-Калдуна. При свете нового дня мы видели, как много ярких цветов поднялось за последнее время в степи, сейчас мы ехали уже не с прищуренными от злости глазами, и наши стрелы предназначались не преследователям, а рябчикам и степным лисам. А какие выдались ночи, какие звездные ночи! В ручьях и речушках мягко подрагивала полная луна, испуганно вскрикивали во сне птицы, шуршали в траве шустрые степные грызуны. Мы то сдержанно молчали, то оживленно переговаривались и так час за часом скакали сквозь тишину, а навстречу нам неслись красные и желтые цветы.
На горизонте уже показались белые войлочные юрты, когда Темучин сказал мне:
— Вдвоем мы выехали с тобой в степь, вдвоем на одной лошади, Кара-Чоно, а как возвращаемся?
— Втроем и на многих лошадях, Темучин!
— Выходит, смысл твоих слов был все-таки глубже моих, и я отныне не стану больше говорить, что ты выворачиваешь слова до тех пор, пока они не начинают тебе нравиться, а скажу, что ты так их продумываешь, что от них происходит польза. — И, обращаясь к Бохурчи, добавил: — Вот она, наша орда. Пока она маленькая, и ты единственный, кто пришел к нам со стороны, но ты, подобно моему другу Кара-Чоно, будешь в числе моих приближенных. А наша орда разрастется и займет когда-нибудь всю долину вдоль Бурхан-Калдуна. Увидишь, мы будем владеть самыми породистыми скакунами, мы поведем в бой храбрейших воинов.
И мы расстались.
Темучин пошел к Матери Тучи.
Бохурчи поставил себе юрту, подаренную ему отцом, а я пошел в свою, чтобы обняться с отцом.
— Вернули вы лошадей?
— Да, отец. Благодаря смелости и хитрости Темучина.
— Благодаря хитрости… — повторил он. — Смелостью своей он скоро сравняется с Есугеем, и о нем заговорят повсюду под Вечным Синим Небом. Его слава будет притягивать людей в орду, а хитростью он вернет вождей, отпавших от него после смерти Есугея. Но будет ли он равен отцу мудростью своей? Или сочтет первую пришедшую на ум мысль за лучшую, не взвесив вторую и третью?
Он взял железные щипцы и подбросил в угасающий уже костерок несколько сухих лепешек конского помета. Движения у него были такими же размеренными, как и ход мысли и речи. На его вопросы ответы не требовались, потому что он сказал еще:
— Когда ты, Чоно, обменялся с Темучином кинжалами и рассказал мне об этом, я встретил весть о твоей нерушимой дружбе с сыном Есугея молча. Я велел тебе подарить Темучину кинжал в знак благодарности, но я не советовал тебе отдавать свою жизнь сыну вождя, о котором заранее не скажешь, как он будет жить, получив власть над многими — это когда орда вырастет. А она вырастет. И он вернет себе власть отца.
— Разве ты сам не служил Есугею?
— Да, служил, потому что уважал, и повиновался, потому что он был мудр, но я мог покинуть его, если бы пожелал того. Верность вождю не следует ставить выше верности заветам предков. А разве ты сможешь покинуть Темучина после того, как вы поклялись быть одной грудью, одной шеей и одной головой? Поклялись в верности до последнего дыхания. В смерти все равны, а в жизни? В жизни первый — он! Ну, а ты? Дружить можно лишь с равными. А не так, чтобы один стоял высоко, а другой низко.
— Ты не доверяешь ему, отец?
— Нет, но я учу тебя тому, что поведала мне жизнь.
В медном котелке над огнем закипела вода. Отец засыпал в нее чай и соль, принюхался, вдыхая в себя тонкий запах, долил немного молока и помешал, сдержанно улыбаясь. А потом принес большие куски высушенного козьего сыра и миску с поджаренным просом.
Он отдал низкий поклон и поднял голову к своду юрты, где висели шкурки байбаков, после чего дал знак начинать чаепитие. Ветер приносил в юрту прохладу от реки. Где-то заскрипели колеса повозки. От Керулена возвращались девушки, ходившие по воду.
Мы легли на шкуры. Отец справа от краснеющего костра, а я слева от него, и на фоне темной юрты наши обращенные друг к другу профили отчетливо выделялись. Отец сказал:
— Ты спросил меня, Чоно, доверяю ли я ему, и я ответил тебе: нет! И все-таки расскажу тебе одну историю, которую я видел собственными глазами и слышал собственными ушами и в которой все правда, от первого до последнего слова. У Темучина было три брата. Однажды, еще юношами, они собрались поудить рыбу. Уселись рядышком на берегу, сделали себе крючки и начали таскать из реки разную мелочь: чебак-рыбу и хариусов. А потом сплели невод и наловили рыбы побольше, чтобы мать засушила ее впрок. И опять сидели рядом и ловили рыбу на крючки, сделанные из гвоздей. Четверо братьев — Темучин, Хазар, Бехтер и Белгутай{4}. Как вдруг Темучину с Хазаром почти одновременно попалось по огромному серебристому сазану. Но Бехтер и Белгутай — они были постарше — отняли знатный улов у младших. Вернувшись домой, Темучин и Хазар сказали матери:
— Нам попались на крючок сверкающие сазаны, но братья Бехтер и Белгутай отняли их у нас!
На что мать ответила:
— Да бросьте вы спорить! Братья, а никак не договоритесь. Ведь у вас, кроме ваших теней, нет никаких товарищей для игр. А кроме лошадиных хвостов, других нагаек нет! Вам бы с утра до вечера повторять: «Как бы нам смыть позор, как отомстить тайчиутам!» А вы между собой никак не договоритесь!
На что Темучин возразил:
— Еще вчера они отобрали у нас жаворонков, которых мы сняли на лету стрелами. Сегодня опять обокрали. Как нам жить с ними дальше?
Отбросив полог, они выбежали из юрты. Бехтер сидел на холме и сторожил лошадей, в том числе и серебристо-серого жеребца. Темучин подкрался к нему сзади, а Хазар спереди. Когда они, заправив стрелы, подползли поближе, Бехтер заметил их и сказал:
— Почему вы не говорите: «Оскорбление, которое нанесли нам тайчиуты, невыносимо. Как бы нам отомстить?» Почему вы обращаетесь со мной, будто я у вас бельмо на глазу или щепка во рту? Ведь у вас, кроме ваших теней, других друзей нет и, кроме конских хвостов, других нагаек — тоже? Откуда же столько злости против братьев? Ведь мы же свои люди! Смотрите не затопчите мой костер! И не вздумайте убивать Белгутая!
Так говорил он, спокойно сидя на поджатых ногах.
Но Темучин с Хазаром пустили в него стрелы спереди и сзади и ушли прочь.
Когда они вернулись, мать сразу поняла по их лицам, что произошло, и сказала:
— Убийцы вы! Один из вас вышел из моего горячего лона со сгустком крови в сжатой ладошке! А другой похож на хазарского пса, который набрасывается на собственных щенков. Вы похожи на хабланских тигров, шныряющих за добычей по краям теснин, на барсов, постоянно шипящих от злости, на огромных змей, всегда готовых удавить и заглотать кого-то, на соколов, ринувшихся за убегающей тенью, на ястребов, молча проглатывающих свои жертвы, на верблюдов, кусающих своих верблюжат за ноги, на волков, ураганом обрушивающихся на дичь, на мандариновую утку, которая сожрет своих же утят, если те сразу не поплывут за ней, на медведей-шатунов, которые готовы разорвать на части первого попавшегося. У вас, кроме ваших теней, нет других друзей, кроме лошадиных хвостов, у вас нет других нагаек, мы не смыли еще позора, причиненного нам тайчиутами, и вас не мучает день и ночь вопрос, как бы им отомстить?! Вы говорите только: «Как нам жить с ними дальше?» Это с братьями-то! И вот что вы с ними сделали…
Так мать поносила своих сыновей, повторяя слова далеких предков. Нет, я не то чтобы не доверяю ему, Кара-Чоно, но я хотел воспользоваться случаем и рассказать тебе о том, что видели мои глаза и слышали мои уши. Устраивай свою жизнь так, чтобы потом не плакать и не страдать по собственной вине.
Той ночью мой отец умер. Я только утром заметил, что он лежит и не дышит. Умер он так же спокойно, как привык дышать и говорить. Посиневшие губы его были крепко сжаты.
Я вынес его из юрты в степь. Мне почудилось, что в степи лицо отца разгладилось и он улыбнулся. А может, так оно и было.
Глава 4 ХРОМОЙ КОЗЕЛ
С того утра я ношу отцовский светло-синий халат. Так он завещал. Я носил его халат, и, значит, ко мне должны перейти его мысли. Одно совсем просто, а другое куда сложнее, тем более что теперь я жил в юрте совсем один: моя мать умерла несколько лет назад, а братьев убили во время вражеского набега. Можно охотиться в одиночку, можно удить рыбу одному, но как одному жить? Даже лось начинает бузить, оставшись в одиночестве. Когда встретишь в степи одинокое дерево, знаешь, что долго оно не устоит, природа сокрушит его. Я был рад дружбе с Темучином, хотя носил в себе слова отца, как носил на себе его халат.
Тем временем ветер разносил по степи весть о молодецких проделках Темучина, как и предсказывал отец. Молодые уши всегда радуются таким историям, а юные головы заняты мечтами о подобных подвигах. Да и как не стать храбрецом, когда у тебя за брата лес, а за сестер — сама степь?
Сначала к нам прибились двое, потом трое, а в один из дней целых четверо воинов. Они пришли с лошадьми, овцами, поставили собственные юрты со всем скарбом и утварью. С ними были их жены и дети. А потом начали появляться и другие, у которых ничего, кроме мечты и желания повиноваться, не было — они просто хотели служить Темучину.
— Мы хотим к сыну Есугея, — говорили они.
Или:
— Нас послали наши отцы. Они служили Есугею, мы будем служить его сыну.
А некоторые говорили так:
— Мы наслышаны о храбрости Темучина и его хитрости. Нас тоже грабят тайчиуты. Вот мы и решили идти к вам, чтобы соединить нашу силу с вашей.
Темучин ласково принимал их всех, в том числе и тех, кто ничего, кроме повиновения, с собой не приносил. Он отводил им хорошие места для юрт, давал то, без чего на первых порах никак нельзя было обойтись, показывал, где на Керулене самые рыбные места, заботился о том, чтобы в орде поддерживалась дисциплина.
А в один прекрасный день он поскакал на юг, к хунгиратам, где его ждала невеста по имени Борта. В возрасте девяти лет Темучин вместе с отцом гостил в этом племени, и Дайсечен, вождь хунгиратов, пообещал ему свою дочь в жены. И теперь Темучин хотел забрать ее в родную орду.
В его отсутствие он велел нам с Бохурчи присматривать за охотниками и пастухами, прибившимися к нам, и к тем, кто еще прибьется. Положим, их приходило не слишком-то много, но каждый день кто-то да появлялся. Иногда я думал: это Темучин вливает молодое, неперебродившее вино в старые мехи — иначе орда не разрастется.
Когда я как-то утром опять отправился поудить рыбу и сидел на бережку уже несколько часов, и хоть бы одна рыбешка клюнула, я услышал за спиной шелест шагов по траве. Оглянулся несколько раз, но никого не заметил. Может, мне это послышалось, а на самом деле просто пробежала мимо быстроногая антилопа?
И я снова закинул удочку.
Но тут в реку ухнул тяжелый камень. Я испуганно выдернул наживку из воды.
За моей спиной кто-то расхохотался:
— Мысли Черного Волка тяжелы! С перепугу хорошая мысль в голову не придет!
Я взглянул в желтые глаза представшего передо мной Хромого Козла. Так мы звали одного из живших в нашей орде стариков. Он был очень нехорош собой. Волосы он заплетал в три косицы, а в жидкую козлиную бороденку вплетал конский волос.
— Что тебе от меня нужно, старик?
Он снова рассмеялся:
— У войлочных стен твоей юрты есть уши, Кара-Чоно.
— И что же?
— Темучин вскоре заговорит мечом!
— Ничего нового я от тебя не услышал, старик!
— Темучин вскоре вспорет животы тайчиутам!
— Я по-прежнему не слышу ничего нового.
— Но если я передам Темучину, о чем тебе рассказал отец, прежде чем смерть забрала его к себе, о чем он тебе нашептывал… а это была длинная история, Кара-Чоно… Ну, тогда…
— Что «тогда»?
— Тогда он убьет тебя тем самым кинжалом, на котором вы поклялись в дружбе.
— Не выдумывай, старик!
— Да-да, он убьет тебя. Ему нужны острые сабли и острые стрелы, чтобы покончить с тайчиутами. А ты — тупая сабля, и твои мысли — тупые стрелы. Твой отец научил тебя сомневаться — и разделил твое тело! Темучину же требуются целые тела. Я спрашиваю: можно ли жить с половиной тела, можно ли побеждать со сломанной саблей, можно ли стрелять из половинки лука?
— Я ничего отцу не ответил, старик!
— А твои мысли? Разве они не при тебе под этим синим халатом, разве они не мучают тебя, как дурная болезнь?
— Да, они при мне, и я стараюсь расставить их по местам, старик.
— Значит, ты тратишь часть своих сил на ложные мысли.
Я промолчал, не найдя что возразить. Старик проковылял несколько шагов по траве, возбужденный, как вспугнутая цапля, начал ходить туда-сюда по берегу, а потом остановился передо мной как вкопанный, уставился на меня своими желтыми кошачьими глазами и проговорил:
— Я принесу Темучину весть о твоей дурной болезни, которая тебя пожирает, чтобы он не согрел на своей груди змею, способную задушить его ночью во сне.
— Ты не смеешь так говорить обо мне, старик!
— Не смею? Это почему же, Кара-Чоно?
— Темучин знает, что я разделял все его тяготы, когда мы с ним вместе прятались в лесу от тайчиутов, что я оставался с ним, хотя мне ничего не угрожало, что я и у Таргутая оставался ему другом, не перешел на службу к Таргутаю, не убоявшись смерти, назначенной на утро.
— Это было до того, как твой отец внушил тебе свои мысли, как он разделил твое тело на две части.
— Оставь меня! Что ты несешь? Пусть Темучин сам обо всем судит. Он не будет прислушиваться к словам человека, который рыскает под юртами в темноте, как шакал, и живет с того, что другие выбрасывают.
Хромой Козел гневно взмахнул рукой и широко открыл рот, но слова застряли у него в горле. Он прохрипел что-то неразборчивое, повернулся и заковылял обратно по траве — мимо кустов, прямо в орду. Завидев его, дети разбегались — они всегда убегали, стоило ему появиться, а их отцы и матери при виде его сразу мрачнели: он принадлежал в орде к числу тех немногих, которые считали, что надо втереться в доверие к Темучину и выслужиться. Вот и передавали ему все, что удавалось подслушать или выведать…
Вечером я сидел перед своей юртой один, как сидел потом на другой и на третий день, ожидая возвращения Темучина от хунгиратов и того, как он отнесется к наветам старика. На душе у меня было тяжело, хотя я и не допускал мысли, что Темучин поверит ядовитому нашептыванию Хромого Козла больше, чем моей клятве.
Темучин вернулся на пятый день вместе со своей невестой Бортой. Он ехал во главе большого отряда, который отец невесты, могущественный Дайсечен, дал в сопровождение дочери. В нем были друзья и подруги Борты, слуги и воины-охранники. Отряд двигался по долине неспешно, торжественно, и казалось, все вокруг: умытая росой трава, цветущие кусты и нежная голубизна неба — благословляло эту процессию. Небу, великому и бездонному, были по обычаям предков принесены жертвоприношения. Девушка ехала на белой лошади следом за Темучином. Она была в светящемся розовом платье из тончайшего китайского шелка до пят, и оно выделялось на фоне белого крупа лошади как две широкие кровавые полосы.
Мы с Бохурчи выехали навстречу отряду.
— Это моя Борта! — представил ее нам Темучин.
В кустах кричали птицы, и, когда мы достигли берега Керулена, нас встретили и сопровождали до самой орды степные чайки.
Поспорить своей красотой с цветком Борта не могла, но была хороша собой и прекрасно сложена.
Когда мы оказались в орде и народ встретил молодых ликующими криками, сбившись вокруг них плотным кольцом, Темучин сказал:
— Отсюда я уехал один, а вернулся с моей Бортой. Отныне она будет жить в нашей орде.
Для Борты поставили шатры: по нашим обычаям богатая дочь богатого вождя имела право жить в собственных шатрах или юртах. Темучин отвел для них самое красивое и удобное место в орде, на холме у реки, где росли стройные березы. Свадьбу мы праздновали три дня и три ночи, такова была воля Темучина. Мы сидели на холме, а на склонах — охотники и пастухи. Служанки Борты раздавали маленькие подарки, а Темучин показал собравшимся большую соболиную шубу, которую тесть дал ему с приданым.
— Эта шуба стоит дороже, чем все, что есть у нас в орде, — сказал он. — Я отвезу этот дорогой подарок вождю кераитов хану Тогрулу. Он был другом моего отца, а тот, кто с ним дружил, для меня все равно что отец.
Бохурчи шепнул мне:
— Видишь, как умен Темучин. Он отдает самое дорогое, но в один прекрасный день он получит взамен больше, чем стоят десять или даже сто соболиных шкур.
— Ты прав, Бохурчи, — ответил я. — Мысли Темучина простираются за пределы наших дней и ночей.
В то время как молодые парни скакали на своих низкорослых лошадях вокруг холма или разлетались на них далеко по степи, сражаясь за звание самого быстрого всадника и выпуская из пружинящих луков сотни стрел, я поглядывал на Хромого Козла, который сидел внизу среди пастухов, наблюдая за играми молодежи и почесывая свою черную бороду с вплетенным в нее конским волосом. На второй день празднества я понял, что пока я сижу с Темучином и его братьями, с Бортой и Бохурчи на большом пестром ковре перед шатром на холме, старик не решится приблизиться к Темучину со своими нашептываниями. Тогда я нашел на третий день свадьбы какой-то повод, чтобы пересесть на другое место, откуда я мог наблюдать и за стариком, и за Темучином и его приближенными. Я не сомневался, что Хромой Козел постарается найти способ остаться с Темучином с глазу на глаз.
Так и случилось.
Подобно коварной змее, старик переходил с места на место, поднимаясь по холму. Поднимется немного и передохнет, так что никто, кроме меня, этого и не замечал, как он протискивался сквозь толпу, как крадучись карабкался наверх. Меня он, правда, заметил, но уже будучи почти у цели. Его кошачье лицо улыбнулось мне. За такую улыбку убить и то мало.
Все это длилось гораздо дольше, чем я вам рассказываю: старик поднимался по склону холма с утра и до полудня. Только он оказался почти рядом с Темучином, как тот поднялся и с двумя большими серебряными кубками, полными кумыса, спустился вниз, к победителям скачек. Толпа радостными криками приветствовала юношу-победителя и его быстроногую лошадь, на голову которой Темучин в знак прославления вылил содержимое одного из кубков.
Старик словно осиротел на вершине холма, потому что Борта с приближенными Темучина спустилась вниз, чтобы подарить победителю скачек три шкуры сурков. Темучин оседлал скакуна из скакунов и воскликнул, обращаясь к толпе:
— Скажите мне, что превыше всего для мужчины и воина?
И юноша-победитель ответил ему:
— Свободный шаг, светлый день, быстрая лошадь под седлом и сокол на перчатке, который догонит любого зайца.
Другой подхватил:
— Уничтожить наших врагов, увидеть, как их богатые ханы повалились носом в песок и визжат, взывая о пощаде, отнять у них всех лошадей и все добро, услышать стенания их разбалованных жен.
— Ты близок к истине, — сказал Темучин. — Я скажу вам, что превыше всего для мужчины и воина. Нет радости для мужчины больше, чем сломить сопротивление врага, свести его под корень и завладеть всем, что ему принадлежало. Заставить плакать глаза их женщин, видеть, как слезы заливают их лица. Оседлать их крутозадых сытых скакунов. Сделать из животов и грудей любимых жен врагов мягкие и упругие подушки, целовать их розовые щеки и высасывать их сладкие губы, как лепестки цветов.
Мужчины выхватили сабли из ножен и взметнули их к небу, а копья воткнули в землю, что значило — смерть врагам! Они с криками окружили лошадь, на которой восседал Темучин, и я тоже был среди них и тоже восхвалял моего вождя и друга.
Но он призвал всех к молчанию, и толпа покорно умолкла, а он сказал:
— Не кричите чересчур громко, как будто в нашей орде тысячи воинов и лошадей. Пока что нас мало, и ваша радость может обернуться горем ближайшей же ночью, если хищные псы Таргутая набросятся на нас, — их во много-много раз больше.
Собравшиеся снова разделились на небольшие группы, вернулись к любимым играм и пили молочное вино из больших кружек.
А хромоногий старик спустился тем временем к подножию холма и попытался приблизиться к Темучину. Он кружил вокруг него, как кот, подобострастно глядя на сына Есугея и жадно пытаясь поймать своими желтыми глазами его взгляд. Я встал за толстый ствол полевого илима, но не потому, что опасался гнева Темучина, а потому, что хотел дать Хромому Козлу возможность донести до Темучина свой ядовитый навет, не будучи им замеченным.
Я не знаю, сколько слов он нашептал Темучину на ухо, может быть, пять, но никак не больше девяти — как получил от Темучина удар такой силы, что старик кулем повалился на траву и задергался, как выброшенная на берег рыба. Я сразу же вышел из-за илима и вместе с другими поспешил туда, где это произошло.
Темучин увидел меня, улыбнулся и, не называя меня по имени, проговорил, указывая на Хромого Козла:
— Этот, что визжит от боли, как раздавленная ехидна, хотел посеять вражду между мной и моим другом. Выходит, он презирает и меня, и моего друга, хочет внушить мне, будто я не знаю, что такое быть другом и что значит иметь друга.
— Мы убьем его! — воскликнул бритоголовый юноша.
Темучин удержал его со словами:
— Неужели ты хочешь омрачить наш с Бортой праздник, хочешь, чтобы мы смешали вино с кровью? Гоните его в глубь леса. Пусть он там перешептывается с дикими зверями, шипит и пресмыкается, как змея. Забудьте о нем, как выбросил его из своей памяти я.
Его прогнали, а Темучин обнял меня:
— Извини меня за восемь слов, злых, лживых, грязных, за восемь капель яда, которые попали мне в ухо, пока я не расправился с ним!
Вечером я сидел еще некоторое время рядом с Темучином на теплом ковре перед шатром Борты. Лето уже состарилось и охладело, но лица наши горели от выпитого вина.
Когда Темучин удалился со своей женой Бортой, я спустился с холма, прошел мимо других юрт к своей, думая о моем покойном отце и его словах.
Под шкурами было жарко. Я закрыл глаза, чувствуя радость на сердце.
Глава 5 ЧЕТЫРЕ ЧУЖИХ ВСАДНИКА
Солнце посылало теперь совсем немного тепла, а ветер сдувал с деревьев мертвые листья. Лес как бы похудел. Река вздулась и несла на своей спине на север пожухшие листья. Мы вернулись из Черного леса, что на реке Туле, где передали хану Тогрулу дорогую шубу и напомнили ему о его дружбе с Есугеем.
Застолье позади, позади молодецкие забавы, и по вечерам воины поглядывали в сторону холма, на котором стояли шатры Борты и где жило счастье Темучина.
С окончанием лета начал иссякать и кумыс. Женщины жаловались не меньше мужчин: кобылье молоко веселило и их, день без кумыса — все равно что пасмурный день. По вечерам они пели в юртах:
Когда степь зеленеет И длинные стебли колышутся на ветру в соку, Кумыс пенится в наших ведрах и кубках, Пенится и течет по праздникам рекой. Когда степь желтеет И длинные стебли колышутся на ветру, увядая, Кумыс не пенится в наших ведрах и кубках, Не пенится и не течет по праздникам рекой. Но мы мечтаем, Мечтаем о зеленом свете степей, О колышущихся на ветру сочных стеблях, Когда опять запенится кумыс в наших ведрах и кубках, Запенится и потечет по праздникам рекой.По утрам я уходил теперь не только ловить рыбу, но и на охоту в лес, потому что близилось время, когда волки начинают худеть, а их шкуры подниматься в цене.
Однажды мы с Темучином и Бохурчи, который прижился уже в нашей орде, поскакали в степь, пожелтевшую так, как о ней пелось в песне. Она совсем опустела и была до того негостеприимной, что бросала нам в глаза пригоршни песка. Встречный ветер раздувал оперения орлов, которые мы еще украсили, воткнув пышные перья сов. Орлы сидели на наших затянутых в кожаные перчатки кулаках.
Матово-красный шар солнца катился по облакам.
Вдали блеснул краешек озера.
Кричали чибисы.
Когда мы наметом пролетали теснины, мы слушали где-то совсем рядом свист байбаков, а под облетевшими кустами шныряли разные мелкие пушистые зверьки.
Мы ушли далеко в степь, дальше, намного дальше, чем обычно, но никого, кроме мелкого зверья, разбегавшегося при нашем появлении кто куда, и ничего, кроме перистых облаков над головами, не видели.
У маленького озерца, покрытого ранним утром тонким слоем льда, мы нашли первые волчьи следы. По расстоянию между широкими лапами сразу можно было догадаться, какой это крупный зверь; чуть в стороне лежали обглоданные кости.
Мы спешились и дальше пошли пешком. У невысокого холма присели и сняли с орлов маленькие наглазники, украшенные серебряными коронами, чтобы их глаза увидели то, чего не видели наши.
Когда поднявшийся ветер прогнал с неба облака, солнце позолотило степь. Вот она у нас перед глазами и под ногами, таинственная и необозримая. Там, где она смыкалась с небом, она не кончалась, а казалось, снова начиналась.
Сколько времени мы просидели молча, не скажу, но все мы встрепенулись, когда орлы напружинили крылья, защелкали клювами и, застыв, уставились в одну точку.
Мы отпустили их.
Сначала они спрыгнули на землю, забили могучими крыльями по хрупкой льдистой траве, а потом взмыли ввысь и улетели в сторону долины и в сторону степи, а три их тени беззвучно скользили внизу.
Мы вскочили в седла и помчались за орлами мимо озерца, на котором ночной ледяной покров успел уже растаять. Орлы сближались с волками. И вот они набросились на воющих зверей. В поднявшемся и завертевшемся столбе пыли плавали орлиные перья.
Мы спешились совсем рядом, мгновенно надели на орлов кожаные наглазники и поддели под их горбатые клювы по куску сушеного мяса, а потом задушили подыхавших волков, старого и молодого, содрали с них шкуры, трупы же оставили лежать как приманку.
К полудню у нас было уже семь шкур. Это было куда больше, чем обычно, но так как мы забрались очень далеко в глубь степи, мы на богатую добычу и рассчитывали.
Только мы собрались повернуть лошадей, чтобы вернуться в орду до захода солнца, как в теснину въехало четыре всадника в остроконечных войлочных шапках, как и у нас, и в таких же длинных и пестрых, как у нас, халатах. У них были при себе луки и полные стрел колчаны.
Они остановились в двадцати шагах от нас. Крупы их лошадей лоснились от пота.
Сидевший на белой лошади всадник крикнул:
— Что вы здесь делаете?
— Разве ты не видишь наших орлов и волчьи шкуры? — ответил Темучин.
— Значит, эта теснина и степь за ней принадлежат вашей орде?
— Так оно и есть!
— А кому принадлежит орда?
— Темучину.
— А где же сам Темучин?
— В шатре своей супруги.
Они пошептались, рассмеялись, и всадник на белой лошади спросил:
— Он женился?
— Мог бы он иначе находиться у своей жены?
— Далеко отсюда до его орды?
— Ты становишься невежливым, незнакомец! — сказал Темучин. — Вы задаете вопрос за вопросом, будто находитесь в своей орде и имеете право допрашивать нас! Но это вы находитесь на нашей земле, и, значит, мы имеем право узнать, кто вы и зачем вы здесь.
— Может быть, ты прав, — равнодушно ответил тот. — Но наш вождь послал нас задавать вопросы, а не отвечать на них. Приказано — сделано!
— В таком случае вашему вождю должно быть известно, что мы не примем вас как гостей. А с разведчиками мы поступаем так же, как с ними поступаете вы и как того требует закон степи.
— Нас четверо!
— Вы хотите сказать, что нас только трое? Я не слепой, незнакомец!
— Итак?..
— Не шевелись! Не отрывай рук от уздечки и не отводи глаз от меня. А если попытаешься, я уроню орла с кулака, и не успеет он еще коснуться лапами травы, как вам в спины вонзятся четыре стрелы!
— Вы хотите обмануть нас! — сказал всадник на белой лошади. — Когда мы въехали в теснину, мы никого, кроме вас, не видели.
— Если вы такие бесстрашные, что ж — оглянитесь! Правдивость моих слов сбросит вас с лошадей!
Они начали совещаться. Сидя в седлах прямо и неподвижно, они не отрывали рук от уздечек и не сводили с нас глаз. Только их лошади встряхивали гривами, прогоняя назойливых мух, залезавших в рот и в ноздри. Они долго совещались, эти незнакомцы. Сначала переговаривались совсем тихо, потом подняли голос, а под конец перешли на крик. Их старший требовал, чтобы кто-то один оглянулся, но никто из троих не осмеливался.
Мы пытались угадать по выражению их лиц, что у них на уме: тот перевес, который принесла нам уловка Темучина, мог в любую секунду растаять. Если кто-то из них все-таки оглянется, мы должны успеть натянуть тетиву и спустить стрелы прежде, чем эти разведчики набросятся на нас.
А они продолжали спорить. Чем дольше они спорили, тем больше становилась опасность, что мы не успеем их упредить.
— Оказывается, не такие уж вы бесстрашные, как хотите показаться, — подстегнул их Темучин, решивший, что будет лучше, если один из них все-таки оглянется.
Они молчали. Молчали и не оглядывались.
Темучин приказал им бросить луки, стрелы и сабли в траву.
И они покорно побросали свои сабли, луки и стрелы в траву.
Темучин приказал им приблизиться к нам на расстояние в десять шагов и спешиться.
Те покорно приблизились к нам на это расстояние, и, когда они спешились, мы налетели на них как ураган. Крича во все горло и нагоняя на них страх, мы схватили их лошадей за уздечки и огрели нагайками. Мы слышали еще у себя за спиной их крики:
— Это был Темучин! Темучин! Это мог быть только Темучин!
Когда мы вырвались из теснины и копыта лошадей колотили по промерзшей земле, мы какое-то время уходили на запад, потом на юг, и лишь под конец мы взяли направление на восток — когда эти четверо, наверняка забравшиеся на холм, никак не могли нас видеть.
В орду мы вернулись ближе к ночи, а не к заходу солнца, как собирались.
Темучин пригласил нас в свой шатер. Старая служанка Хоачин стояла на коленях перед очагом, раздувая огонь. Он отослал седовласую добрую старуху, сказав, чтобы она шла к Матери Тучи и развлекла ее немного своими разговорами.
Снаружи поднялся ветер, стены шатра начали прогибаться под его порывами. Из очага посыпались искорки.
— Мы победили их с помощью хитрости, и это принесло нам четырех лошадей, — проговорил Темучин не слишком-то радостно.
И добавил:
— Они ничего своему вождю не донесут: в степи человек без лошади — все равно что мертвец.
— Да, но мы-то что выиграли? — спросил Бохурчи.
— Ничего, — ответил Темучин.
А я вот что сказал:
— Да, мы не выиграли ничего. В наши земли засылают разведчиков и соглядатаев, а мы ни их имен не узнали, ни откуда они родом. Мы, правда, спаслись сами, но откуда нам знать, будем ли мы жить завтра? Кто засылает разведчиков и соглядатаев, однажды приходит и сам.
— Ты прав, Кара-Чоно.
— Может быть, это все-таки были тайчиуты?
— Нет, Бохурчи, — сказал Темучин. — Тайчиуты сразу признали бы меня.
Некоторое время мы молча сидели на мохнатых шкурах, прислушиваясь к завываниям ветра. Со стороны реки доносился хруст ломающихся ветвей. Река бурлила и с шумом билась о каменистый берег.
— Мы вышлем в дозор четверых воинов, — сказал Темучин. — Пусть объезжают наши земли днем и ночью и, если увидят приближающегося врага, своевременно нас предупредят. И тогда у нас хватит времени, чтобы уйти в глубь лесов. В теснины священного Бурхан-Калдуна еще никто не осмелился пойти за нами.
— Ты хочешь бежать от врага, Темучин?
— А ты хотел бы с ним сразиться, Бохурчи?
— Да, до последней юрты и до последней стрелы, столько, сколько будут видеть мои глаза и в руках останется силы!
— Их будет несметное количество, наших врагов, Бохурчи, — сказал я. — У меня в ушах по сей день стоит их дикий хохот — это когда они напали на нашу маленькую орду.
— Я пришел к Темучину, чтобы сражаться, а не чтобы скрываться, — ответил Бохурчи. — Я хочу биться с врагами. И если надо — умереть!
— А если умирать не надо? — Темучин наклонился всем своим крепким туловищем к Бохурчи так, что они чуть не стукнулись головами. — Разве избегать неравных битв не значит воевать умело и хитроумно? Что с того, если мы оставим им нашу пустую стоянку, большие желтые пятна на тех местах, где стояли наши юрты? Или лучше нам всем умереть, увидев перед этим, как враги приканчивают наших женщин и детей, как сжигают юрты и шатры — и все только потому, что нас меньше и мы слабее, хотя сражаться хотим? В то время как одни будут оплакивать нас, а другие ликовать, ветер отнесет наш пепел в Керулен. И что нам с того, Бохурчи? В твоих речах мало смысла, ты не додумал до конца. Если нас убьют, кто за нас отомстит?
Темучин распалился и даже вскочил на ноги, выкрикнув:
— Пойдем, Кара-Чоно!
Но он был прав. Мы оставили Бохурчи наедине с его недоспелыми мыслями и вышли из шатра. Прошли по длинному ряду белых юрт, отчетливо выделявшихся на фоне темного леса. Луну словно украли с неба, вокруг Бурхан-Калдуна бесчинствовал ветер, гудевший в его теснинах и в верхушках деревьев.
Темучин сам выбрал четверку воинов, которые должны были уйти в дозор на рубежи нашей орды. Он сказал им:
— Если предупредите нас слишком поздно, вы же будете виноваты в смерти ваших детей и жен. Ваши юрты и шатры, ваш скот и ваши повозки превратятся в пепел. А если успеете предупредить вовремя, вы обнимете ваших детей и жен в каменных пещерах Бурхан-Калдуна.
Нескольким другим воинам Темучин поручил обойти все юрты и предупредить народ о том, что может случиться и как себя следует вести тогда, когда он подаст условный знак.
Мы вернулись в шатер, и Бохурчи, одиноко сидевший у очага, негромко проговорил:
— Извини меня, Темучин. Я все хорошо обдумал и понял, что ты был прав, а я нет! Извините меня, Темучин и Кара-Чоно, за то, что я сгоряча поднялся над вашими мыслями.
Темучин протянул Бохурчи чашку горячего чая, а мне другую. И мы втроем пили горячий чай из белых фарфоровых чашек — тех самых, которые Мать Тучи выменяла за соль у богатого торговца.
Темучин в задумчивости сидел у очага, отпивал чай мелкими глотками и не произносил ни слова, хотя Бохурчи, наверное, ждал от него ответа — вид у него до сих пор был подавленный. Но я видел, что и Темучин был сам не свой.
— Неужели ты, Темучин, не принимаешь моего раскаяния, которое от самого сердца? — осторожно спросил Бохурчи.
Темучин даже вздрогнул от неожиданности.
— Да я, Бохурчи, простил тебя уже тогда, когда ты молча выслушал мою длинную речь. У меня вот какая забота: я тревожусь о моей Борте! — Он поставил чашку на ярко расписанный столик. — Вспомните, о чем спросил всадник на белой лошади в теснине: «Где Темучин?»
— Да, так оно и было, — подтвердил Бохурчи.
— А я ответил: «В шатре своей супруги».
— Да, ты так ответил, — подтвердил я.
— А они что сделали?
— Они рассмеялись и начали переговариваться.
— Да, Кара-Чоно, они рассмеялись и начали переговариваться, а тот всадник на белой лошади криво усмехнулся и спросил: «Он женился?»
— Ты ответил на это: «Мог бы он иначе находиться у своей жены?»
— Да, так я и сказал, Кара-Чоно.
— И только после этого, — заметил Бохурчи, — они спросили, далеко ли до нашей орды.
— Они хотят убить меня и похитить мою Борту, — сказал Темучин.
— Но ведь это были не тайчиуты, — возразил Бохурчи. — Ты сам говорил, Темучин.
— Нет, не тайчиуты. Тем был нужен я один, чтобы властвовать над вами и возвыситься над всеми, кто был под рукой моего отца, но эти четверо были, по-моему, из меркитов. Моя Оэлон-Эке, Мать Тучи, из меркитов. Мой отец Есугей похитил ее, когда она была еще совсем юной девушкой, а потом женился на ней. Что ж удивительного в том, что меркиты придут убить меня и похитить мою жену Борту? Только так я понимаю появление разведчиков в теснине.
Мы расстались.
Когда я подходил к своей юрте, буря улеглась.
Глава 6 ЧЕРНАЯ СОБОЛЬЯ ШУБА
Ночью выпал снег, а прошедший днем дождь слизал его. Груженные доверху разным скарбом повозки стояли в лужах. С островерхих крыш юрт стекали струйки воды, с деревьев тоже капала вода, овцы сбивались в тесные кучи и тупо поглядывали в сторону леса.
Никто из ордынцев не отправился на охоту, никто не пошел к реке половить рыбу.
Мы ждали, мы были вынуждены ждать, потому что не хотели раньше времени загонять скот в лес.
Воины, которые были посланы в дозор, а потом и другие, которые их подменяли, ничего тревожного пока не сообщали. Пожимая плечами, они говорили, что желтая степь пуста, только волки и шакалы шастают по ней под дождем в поисках добычи.
Так мы провели в ожидании и два, и три дня.
На четвертый Темучин приказал дозорным делать куда большие круги и не забыть заглянуть во все долины и теснины.
Дождь перестал, но солнце вроде бы не желало показываться нам, черные тучи нависли совсем низко и медленно кочевали к Керулену. Они закрывали от нас Бурхан-Калдун, который обычно с такой гордостью поглядывал на нашу орду.
На пятый день уставшие дозорные вернулись на совершенно измученных лошадях. Еще издали они дали понять, что ничего подозрительного не заметили, хотя прочесали все мыслимые и немыслимые уголки по всей округе.
После чего многие мужчины и женщины начали разгружать повозки, рассуждая при этом так:
— Мало ли что там показалось Темучину. Может быть, те четверо всадников, которые ему встретились, были изгнаны из своего племени за воровство или за какое-то другое прегрешение и теперь разбойничают в степи, грабя кого подвернется.
Темучин же посоветовал им оставить свой скарб на повозках, скот не разгонять и быть постоянно наготове.
Они его не послушались.
Когда и на шестой день ничего не произошло, другие мужчины и женщины тоже начали расставлять вещи на места в юртах и зажили прежней жизнью: опять ловили рыбу и охотились, кормили и пасли скот.
И только дозорные по-прежнему кружили по степи, как им приказал Темучин.
Я спросил его:
— Ты все еще ждешь?
— Да, жду.
— И сколько времени намерен ждать?
— Пока они не придут, Кара-Чоно.
Теперь я и сам удивлялся, почему он так уверен в своей правоте после того, как наши воины целые шесть дней не смыкали глаз ни на секунду, но так ничего и не заметили — даже лазутчиков меркитов и то нет. В степи было пусто, а он ждал, ждал, несмотря ни на что. На вопросы он отвечал односложно, совсем ушел в себя и лишь неодобрительно покачивал головой, порицая поведение своих людей — как это они смеют ослушаться его советов. Как-то, прогуливаясь с ним по орде, мы увидели юношу, который сидел перед своей юртой, распевая веселую песенку. Его друзья и девушка, которой он ее пел, улыбались во весь рот.
— Что это значит? — вскипел Темучин и, схватив юношу за волосы, рывком поставил его на ноги. — Когда воет волк, соловей не поет!
Друзья юноши в страхе разбежались.
На восьмой день тишину степи разорвали дикие вопли. С трех сторон на нас неслись большие отряды меркитов — а нас так никто и не предупредил! Они бросали в юрты горящие факелы, поджигали повозки и шатры. Стрелы летали по орде, как стаи птиц. Юрты загорелись, и к небу потянулись столбы дыма. Блея от страха, разбегались овцы.
Мы с Темучином и Бохурчи во весь опор поскакали в лес Бурхан-Калдуна.
— Где Борта? — закричал Темучин.
Ее шатер был весь в огне, но ее саму мы не увидели, как не увидели и лошади, которую подарил ей Темучин.
— Где Борта? — крикнул Темучин еще раз.
Но никто ему не ответил.
Когда мы собрались в теснине, а было нас совсем немного, Темучин в третий раз спросил:
— Где Борта? — но на сей раз совсем тихо.
Остальные боялись посмотреть ему в глаза.
Отсюда, сверху, раньше открывался отличный вид на нашу орду. Теперь стоянка была закрыта стеной дыма, которую ветром сносило в открытую степь. На траве там и сям валялись повозки со сломанными колесами, они догорали. Меркиты выволакивали из горящих юрт наших женщин, били их и волокли к своим лошадям.
Темучин сказал Бохурчи:
— Видишь, друг, меркитов вдевятеро больше, чем нас, мужчин, в орде. И теперь ты понимаешь, что на наши тридцать три стрелы они за раз выпустили бы двести девяносто семь своих, после чего живым не ушел бы никто?
Бохурчи кивнул.
— Не убеги мы сюда, — продолжал Темучин, — мы лежали бы сейчас между юртами, как те, кто не хотел меня слушать, кто не поверил мне. Мы спасли свои жизни, мы здесь. И хотя мы сегодня не приняли бой, настанет день, когда мы соберемся с силами и обрушимся на них. Верьте мне: никому из тех, кто напал на нас и увел наших женщин, не жить!
Мы с Темучином ушли дальше в горы, оставив в теснине только нескольких наблюдателей, чтобы следили за передвижением меркитов.
На другой день мы добрались до Каменного Волка, большого ущелья, где поместилась бы вся наша орда, послушайся они совета Темучина.
Здесь мы сделали привал.
Наблюдатели сообщили, что меркиты трижды объехали вокруг горы в поисках Темучина, а теперь отходят на север. Темучин сказал, обращаясь ко всем нам:
— Бурхан-Калдун спас мою жизнь, как жизнь мелкого насекомого. Я бросился за помощью к Калдуну, чтобы спасти свою жизнь, я пробирался на своей лошади по оленьим тропам, я соорудил себе хижину из прутьев, которые наломал на его лесистых склонах. Бурхан-Калдун сохранил мне жизнь. И я преодолел свой большой страх. С сегодняшнего дня я буду каждое утро приносить ему жертву и каждый вечер возносить ему молитву. Пусть мои дети и внуки никогда об этом не забывают и поступают так же!
Темучин, Бохурчи и я поднялись на вершину Бурхан-Калдуна. Мы сняли ремни и кушаки, положили на траву шапки и трижды по три раза преклонили колени, воздавая хвалу Вечному Синему Небу.
А внизу, в орде, старухи оплакивали похищенных дочерей. Дым рассеялся, но пепел был еще теплым.
Темучин искал Борту, хотя знал, что ее не найти, но он все равно искал ее в оставшихся целыми юртах и шатрах — ее не было нигде. И следа не осталось.
Вскоре опять выпал снег. На сей раз он лег и припорошил скелеты сгоревших повозок, юрты и убитых овец. Керулен тоже заснул подо льдом, и мы ходили ловить рыбу не только с удочками, но и с топорами, чтобы прорубать лунки. Только добыча была скудной. Наши лошади худели со дня на день. Все мы голодали. А зима выдалась долгой. Снежные бураны завывали в долине. Мы сидели по юртам, тесно прижавшись друг к другу, молчаливые и грустные. Никто в орде не пел больше песен — холод и голод вырвали песни из наших сердец. Когда мы говорили, разговор всегда заходил о весне, и когда нам снились сны, это были сны о весне. Однажды посреди зимы Темучин сказал:
— Сегодня мы страдаем, но думайте, как и я, о завтрашнем дне. О дне нашей мести меркитам.
Мы смотрели на него с удивлением, и до конца ему поверили очень немногие.
— Расскажи нам, как все будет, — попросил Бохурчи.
И Темучин сказал:
— Помните, что я говорил, когда вез к нам мою невесту Борту? Я показал вам большую шубу из черного соболя, которую подарил мне к свадьбе тесть, и сказал вам, что это дорогой соболиный мех, эта шуба стоит дороже, чем все добро нашей орды. И еще я сказал, что я собираюсь отвезти эту дорогую шубу вождю кераитов хану Тогрулу — он был другом моего отца, а кто дружил с моим отцом, для меня все равно что второй отец. И потом мы вместе с Кара-Чоно отвезли вождю кераитов, который, как вы знаете, стоит лагерем у Черного Леса, что на реке Туле, эту княжескую шубу. Я тогда сказал хану кераитов: в былые времена ты дружил с моим отцом Есугеем. И ты для меня все равно что отец, и я, твой названый сын, приношу тебе в дар шубу, которая досталась мне от моего тестя.
— И что ответил хан кераитов? — спросил Бохурчи.
— В благодарность за черную соболью шубу, сказал он, я обещаю вернуть под твою руку отпавшие от тебя племена. В благодарность за черную соболью шубу я соберу твой разделившийся народ. Я прильну к тебе, как грудь к шее. Вот что он мне пообещал. Поэтому-то я и сказал вам: сегодня мы страдаем, но думайте, как и я, о завтрашнем дне. О дне нашей мести меркитам.
Моя юрта уцелела, но я жил теперь не один, а делил свой очаг с Темучином, который потерял все, что имел: Мать Тучи, свою жену Борту и даже седовласую служанку Хоачин — их всех угнали меркиты. Зима тянулась еще долго, и чем больше она тянулась, тем больше мы страдали.
Хуже всего было ночами, бесконечными безлунными ночами, когда ни проблеска счастья не родится, ни птичьего крика не услышишь. Просыпаясь, мы подолгу сидели, безмолвно уставившись в огонь очага. Снежные бури бесились, набрасываясь, как дикие звери, на юрту и впиваясь своими холодными клыками в ее войлочные стены. Нам приходилось голыми руками изо всех сил поддерживать деревянную стойку внутри юрты. В такие мгновения мы старались не смотреть друг на друга, потому что и наши лица становились похожими на звериные. А когда снежные бури выдыхались, в орде завывали изголодавшиеся волки, чуявшие добычу в занесенных снегом юртах, и нападали на спящих, обессиленных голодом их обитателей. Мы с Темучином сидели на шкурах с кинжалами в руках, готовые к худшему.
Однажды огромная серая волчица просунула свою косматую башку сквозь полог юрты и замерла, но не от страха перед нами, а уставившись на огонь. Потом посмотрела на меня, на Темучина, но как бы не желая нам зла. Под взглядом голодной волчицы мы похолодели. Половина ее туловища была еще снаружи, а другая уже внутри юрты. Подняв свою огромную голову, она вдруг испустила душераздирающий вой, сделала шаг вперед, осторожный и неслышный.
Ее глаза горели огнем, но смотрела она почему-то не на нас, а на очаг. И еще один шаг вперед, такой же осторожный и неслышный, как и первый, и столь же нерешительный.
Снег на ее шкуре таял, превращаясь в бесчисленные блестящие жемчужины воды, которые, сливаясь, росли, а потом скатывались вниз. Стекали они и в ее широко открытые глаза, так что казалось, будто большая серая волчица плачет.
Вдруг она встряхнулась и вся подобралась.
В тот же миг мы оба швырнули ей в морду горящие головешки, которые кинжалами выхватили из огня.
Она от боли взвыла и подпрыгнула чуть не до самого верха юрты. Упав на задние лапы, резко повернулась и с воем выскочила наружу.
Вот так мы и проводили ночь за ночью, бодрствуя до самого утра, и ложились спать не раньше чем солнце начинало карабкаться на верхушки черных кедров у реки, а мы успевали привести юрту в порядок. Днем мы охотились в гуще леса, но и звери сделались осторожнее, голод гнал их все дальше и дальше в глубь леса, где, подобно нам, пытались дожить в своих логовах до лучших дней или подыхали там. Нередко мы возвращались домой без всякой добычи.
Иногда мы не разговаривали с ним целыми днями. Я, унаследовавший молчаливость и замкнутость от моего мудрого отца, взял на себя целиком заботу о Темучине, который не говорил больше ни о завтрашнем дне, ни о мести меркитам. Иногда мне казалось, будто набег врагов случился невесть как давно, а мой друг настолько ослабел, что мечтает о приходе весны, лишь не желая расставаться с жизнью, а не потому, что ему не терпится отомстить врагу. Безмерные страдания укорачивают желания до предела.
Темучин каждый день делал кинжалом зарубку, помечая время восхода солнца. Если солнце не появлялось два или целых четыре дня, то на пятый золотое лезвие кинжала отхватывало на стойке более широкий кусок, сокращая расстояние до знака весны, которую мой друг обозначил на стойке вырезанной звездочкой.
Когда я однажды спросил Темучина, надеется ли он по-прежнему ехать к хану Тогрулу к Черному Лесу на Туле и просить о помощи, лицо его побагровело от ярости. Он вскочил на ноги с железными щипцами для очага в руках, но отшвырнул их и сказал довольно спокойно:
— Я помню об этом, Кара-Чоно, я никогда об этом не забывал, ни когда бесновались снежные бури, ни под волчий вой, ни когда рушилась юрта и трещали стойки и планки, ни когда слова умирали от голода у нас в горле. Когда я делаю кинжалом зарубку, я мысленно убиваю меркита, и каждый кусочек дерева, означающий подъем солнца, это часть пути к моей жене Борте, которая страдает больше нашего — ветер доносит до моего слуха ее жалобный плач, а снежинки — это ее замерзшие слезы, выплаканные в чужие подушки, покрытые шелком или бархатом. Как бы посмел я, дорогой Кара-Чоно, забыть, в чем я поклялся, когда на нас накинулось горе?
Весна в этом году припозднилась. Ледяной покров с Керулена сходил медленно. А потом загрохотал ледоход, и эхо его прокатывалось по долине. Все мы сбегали к реке и следили, как льдины карабкаются и наползают одна на другую, как пузырится изжелта-коричневая вода, как она хлещет и пенится, как льдины ломаются на все более мелкие и увлекают вниз по течению все, что встречают на пути. Мы смотрели вслед уплывающему льду в глубокой задумчивости, словно этот ледоход увлекал за собой мытарства прошедших месяцев и нес их на север, где разбили свой лагерь меркиты.
Вскоре начала просыпаться и трава. Не только на берегу и в долине, она пробилась и сквозь серый пепел наших сожженных юрт и шатров. На обломках повозок сидели и вовсю распевали маленькие пестрые птички. Наши исхудавшие лошади паслись на берегу Керулена, где на солнце трава особенно быстро поднималась в рост.
А потом настало утро, когда мы отправились в неблизкий путь — к Черному Лесу на Туле. День, когда мы скакали по раскрывшей свои объятья бескрайней степи, выдался просто дивным.
Хан Тогрул принял нас в своей просторной юрте, выложенной толстыми дорогими коврами. Посреди нее стоял низкий красный столик с витыми позолоченными ножками. Сквозь зарешеченный верх юрты на смуглое лицо вождя кераитов падали лучи солнца. Вид у него был внушительный, степенный, и прежде чем позволено было говорить, все мы выпили по чашке молока.
Он сел.
После него сели и мы.
Темучин сказал:
— На нас подло напало не меньше трех меркитских племен, они угнали наших жен и детей. Мы пришли к тебе с почтительной просьбой: не поможешь ли ты, о мой владетельный отец, вернуть наших женщин и детей?
И хан ответил:
— Разве я тебе не обещал? Когда вы принесли мне соболью шубу, ты сказал, что раз я заключил союз о дружбе с твоим отцом, я тебе вместо отца. Значит, ты, Темучин, стал с той поры мне вместо сына. И, надев на себя шубу, я сказал: «В благодарность за черную соболью шубу, полученную тобой в подарок к свадьбе, я обещаю вернуть под твою руку отпавшие от тебя племена. В благодарность за черную соболью шубу я соберу твой разделившийся народ. И прильну к тебе, как грудь к шее». Мои эти слова или нет? Вернемся же к этим моим словам. В благодарность за соболью шубу я верну тебе твою жену Борту, даже если бы для этого мне пришлось свести на нет всех меркитов. В благодарность за соболью шубу я обещаю вернуть тебе всех твоих людей, оставшихся в живых, даже если для этого мне придется убить всех меркитов до одного! Пошли гонца к твоему младшему названому брату Джамухе. Пусть твой анда Джамуха{5} ищет нас со своими воинами у речки Хорхонах. Я пойду на битву с двадцатью тысячами воинов и ударю слева. Пусть твой младший брат Джамуха тоже выступает с двадцатью тысячами воинов и ударит справа! Время начала битвы пусть назначит Джамуха.
Темучин обнял вождя кераитов и сказал:
— Благодарю тебя, хан Тогрул, мой названый отец! Твое обещание стало для меня залогом всей моей жизни. Я не забывал о нем ни когда бесновались снежные бури, ни под волчий вой, ни когда рушилась юрта и трещали стойки и планки, ни когда слова умирали от голода у нас в горле.
И мы поскакали обратно.
В подросшей траве пламенел алый огнецвет, теплые весенние ветры подсушили уже землю, и она начала растрескиваться.
Дорога нам предстояла дальняя.
После полудня мы отдыхали обычно в тени какого-нибудь холма, чтобы к ночи быть опять свежими и полными сил.
Каждый год степь открывала мне свою красоту с новой стороны. Я любил ее, любил ее колышущиеся травы, нежные цветы, которые ласково оглаживал ветер, ее чибисов, умевших так жалобно кричать, ее степных куропаток и лесных воронов, ее орлов, гордо восседающих на огромных валунах и, кажется, тоже каменевших, ее юрких сусликов, снующих повсюду и при первой опасности скрывающихся в своих норах.
Лежа в тени холма, я любил прислушиваться к бесчисленным голосам степи. Они говорили мне о многом, ибо каждый голос — это жизнь, а каждой жизни что-то угрожает. И значит, голоса эти ликовали или стенали, заходились от радости или рыдали от боли. Темучин рассказал мне однажды, что, когда он в детстве воспитывался у хунгиратов, он познакомился там с людьми, которые умели разбирать разные таинственные значки. Он сказал, что это называется «читать». Я не умею читать и этих таинственных значков в глаза не видел, зато я умею толковать все до одного звуки, наполняющие степь.
Чаще всего мы лежали до той поры, пока вечером из-за травы не выползала большая звезда, фиолетовая или светло-зеленая, и всякий раз к ее свету примешивалось красноватое мерцание, словно ее коснулся прощальный луч солнца.
В этот поздний час мы обычно седлали лошадей и скакали сквозь ночь. Через много дней мы вернулись в нашу орду и принесли ее людям добрую весть.
Темучин, по-прежнему живший в моей юрте, сказал мне:
— Согласен ты, Кара-Чоно, передать Джамухе слова его старшего брата Темучина?
Я не отказался, потому что от всего сердца желал, чтобы к моему другу поскорее вернулась его дорогая жена Борта.
— Тогда скачи к Джамухе и расскажи о том, какое решение принял хан Тогрул. Скажи ему еще, что нас посетили три племени меркитов, что они надругались над моей постелью и разорвали мою грудь надвое.
Темучин послал со мной своих братьев, Хазара и Белгутая. Мы мчались мимо долин и холмов, как ветер, оставляя позади теснины и перевалы, пока не предстали перед Джамухой и не передали ему слова Темучина. Тот так ответил нам:
— Я знаю, что над постелью моего друга Темучина надругались, мне уже донесли об этом, и сердце мое саднит боль. Я знаю, что его грудь разорвана надвое, и моя печень воет, как волк. Чтобы отомстить, мы решили обрушиться на три племени меркитов: на удуитов, увасов и хаатов, и спасти нашу Борту. Один из их вождей, Тохтоай, кочует сейчас по степи Молодых Верблюдов. Буура-Кеере — этот мужчина начинает трястись от страха, когда слышит, как седельная кошма хлопает по крупу лошади, потому что принимает это за звук боевого барабана. Даир-Исун, второй вождь, разбил сейчас походный лагерь на острове Талхун, между реками Орхон и Селенга. А этот воин дрожит от страха, когда в закрытых колчанах начинают звенеть и дребезжать стрелы. Хаатай-Дормала, их третий вождь, кочующий сейчас по степи Ледяных Дыр, бежит со всех ног в Черный Лес, едва заслышит шелест травы на ветру. Мы спустимся вниз по реке Килхо на плоту из щетинницы и нападем на него. Мы проникнем в его шатер через зарешеченный верх и повалим опорный столб шатра. И когда мы сломаем священный столб, мы погоним перед собой весь его народ, так что лагерь опустеет.
Джамуха умолк, отпил несколько глотков чая с молоком и продолжил:
— Передай, Кара-Чоно, своему другу Темучину, моему старшему брату и хану Тогрулу: я, Джамуха, высоко поднял видный отовсюду флаг из шкуры яка. Заговорил сытым голосом обтянутый шкурой черного быка барабан. Я седлаю моего каракового жеребца. Я надел свой лучший кафтан, в руке у меня крепчайшее копье. На своих стрелах из персикового дерева я сделал зарубки. И теперь, прямо сейчас, мы идем на бой с меркитами! Повтори, Кара-Чоно!
Когда я повторил, он сказал еще:
— Договоримся так: когда мой старший брат, хан Тогрул, выступит в поход, он должен обойти по фронту у Бурхан-Калдуна моего друга Темучина, а встретимся мы у истока Онона. А я двинусь вверх по Онону, оставив войско брата слева. Потом один тумен — десять тысяч воинов брата — и мой тумен пойдут к верховьям Онон-реки и соединятся с вами у ее истока.
Джамуха подарил каждому из нас по обтянутой кожей кольчуге, а Темучину передал кривую саблю.
Глава 7 МЕСТЬ
Мы сидели на берегу.
Это было утром того дня, когда хан Тогрул со своими двумя туменами должен был подойти к Бурхан-Калдуну. Так мы условились.
Лошади стояли под седлами. Между седлами и крупами лошадей мы укрепили мешки с сушеным мясом, наши колчаны были набиты костяными стрелами, свои сабли, кинжалы и копья мы заточили и навострили. Возле небольшого числа нагруженных доверху повозок стояли старухи, надеявшиеся вскоре вновь увидеть своих дочерей.
Но сколько мы ни вглядывались в степь, войско хана Тогрула не появлялось.
Когда солнце закатилось за горизонт во второй раз, а мы как сидели, так и продолжали сидеть, Темучин тихо-тихо, чтобы никто, кроме меня, его не услышал, сказал мне:
— Это цена за обещанную нам ханом Тогрулом помощь. Он не такого знатного рода, как я, но сейчас сила за ним, и своим опозданием он хочет сказать мне, что, несмотря на свое более низкое происхождение, он стоит сейчас выше меня.
Мне вспомнились слова моего умершего отца, который говорил: дружить можно только с равными; когда один выше, а другой ниже — дружбе не бывать.
И я сказал Темучину:
— Выходит, дело обстоит так: он человек не столь высокого, как ты, происхождения, однако за ним сила. И он помогает сейчас тебе, человеку более славного рода, но потерявшему всякую власть.
— Так оно и есть, Кара-Чоно!
— Почему же он помогает тебе, Темучин?
— Потому что видит в этом пользу и для себя!
— Но ведь и ты выигрываешь. Разве он не должен опасаться, что твоей власти прибудет?
— Обязательно! Он всегда будет озабочен тем, чтобы я своей властью не превзошел его, чтобы моя власть была лишь опорой для него.
— Желание может остаться пустым желанием, Темучин!
— Оно им и останется, Кара-Чоно!
Темучин вскочил на ноги и быстро пошел вдоль реки, поглядывая на высокие деревья. Сначала я последовал за ним на расстоянии, потом зашагал рядом. Мы молча шли берегом по высокой траве, переступая через камни. Чайки плавно спускались к темному лесу, а потом закружили и опустились на огромный валун, лежавший на стрежне Керулена.
Я сказал Темучину:
— Ты обратился к хану Тогрулу с добрыми словами, и он ответил тебе словами, тоже идущими от сердца. Удивительно все-таки, что ваши слова не совпадают с вашими мыслями. Объясни мне это, друг!
Темучин остановился и посмотрел на меня. Улыбнулся. В его улыбке я уловил жалость к себе.
— Ты прав, Кара-Чоно, — начал он, сделав несколько шагов в сторону. — Однако со словами вот что происходит: когда рождаются новые мысли, устаревшие к тому времени слова умирают.
Меня вдруг охватил озноб. Светило солнце, а меня знобило.
Темучин удивился:
— Что это с тобой, Кара-Чоно?
— Ничего!
Это «ничего» так быстро сорвалось с моих губ, что я сразу пожалел об этом, не успев даже закрыть рта. Я хотел что-то объяснить ему, но не хватало мужества. Я хотел задать моему другу несколько вопросов, но зубы мои не разжимались. Страх сомкнул их. Я впервые не открыл своих мыслей Темучину.
Лишь на третий день после условленного могучее войско хана Тогрула начало стекаться в нашу долину у Бурхан-Калдуна.
Темучин и мы с Бохурчи подошли к березовой рощице, где некогда стояли шатры Борты. Расширившимися глазами наблюдали мы за тем, как широкая долина с ее холмами и теснинами заполняется бесчисленными всадниками.
Два тумена воинов!
Двадцать тысяч лошадей!
Двадцать тысяч сабель! И двадцать тысяч копий, которые колыхались высоко над головами воинов туда-сюда, как остролистая степная трава.
Я не знаю, что ощутил Темучин при виде этой тьмы воинов, но когда я заглянул в его глаза, неотрывно смотревшие вниз, в долину, я увидел в них такой огненный блеск, которого не замечал в них никогда прежде. Но он не проронил ни слова, а только обжег бок лошади нагайкой и поехал навстречу Тогрулу с улыбающимся лицом. Мы — за ним следом.
— Я приветствую моего названого отца, который пришел сюда во главе своего могучего войска!
А хан Тогрул ответил:
— Приветствую моего названого сына, которому я хочу вернуть его любимую супругу Борту.
Ни единым словом Темучин не упрекнул хана Тогрула за его трехдневное опоздание.
Кераиты разложили много-много костров, нарезали сушеное мясо длинными полосами и накручивали его на тонкие палочки, которые держали потом над кострами, разогревая. В больших котлах варили чай. Воины пели, плясали и отпускали шуточки.
Когда в долину спустились сумерки, хан Тогрул приказал загасить костры, отвести лошадей к реке и там оседлать их.
Угрожающе глухо зазвучал барабан.
Раздалось ржанье тысяч лошадей.
Защелкали кнуты, и длинные ряды высокобортных повозок покатили по темной степи. Светила луна.
Вместе с Темучином и Бохурчи мы скакали рядом с вождем кераитов.
Около полуночи мы достигли Онона, а к утру и его истоков, где соединились с силами уже поджидавшего нас Джамухи.
Перед синим шатром Джамухи, стоявшим в лесочке нежно-зеленых лиственниц, с кривыми саблями в руках нас встретили насупленные стражники, не спускавшие с нас глаз.
— Разве мой младший брат не желает принять меня? — спросил хан Тогрул.
Один из воинов нырнул в шатер. Нам пришлось подождать некоторое время, пока Джамуха не предстал наконец перед нами и не спросил с вызовом:
— Мы как будто условились встретиться здесь в назначенное время, будь то в снежную бурю или в дождь? Существует для монгола слово «да» и клятва или нет? Кто нарушает договор, тот уходит из наших родов. Мы в этом поклялись, братья!
— Я, как и ты, Джамуха, прождал твоего верного брата целых три дня, и поэтому твой упрек ко мне не относится, — возразил Темучин.
Джамуха перевел взгляд на старшего брата, и хан Тогрул сказал:
— Я согласен снести и наказание, и брань за то, что мы опоздали к месту встречи на три дня, брат Джамуха, согласен!
Мы вошли в шатер, где нас угостили жирным мясом дикого кабана и кумысом. Чем больше чашек с кумысом нам подносили, тем больше смягчался Джамуха, а может быть, его старший брат незаметно сделал ему знак не особенно-то распаляться, и в конце концов Джамуха примирительно сказал:
— Мы выступили в поход, чтобы Темучин смог отомстить за унижение, так предоставим же ему право возглавить наше объединенное войско. Пусть он ведет сражение как считает нужным!
Хан Тогрул отдал поклон и сказал, что он того же мнения, а потом спросил Темучина, что он думает об этом.
И хотя в глазах Темучина появился тот же блеск, что и в тот час, когда в долину Бурхан-Калдуна стекалось двадцать тысяч воинов, мне показалось, что это было вызвано не одной только радостью. Он, наверное, рассуждал так: Джамуха предоставляет мне, сыну Есугея, право возглавить войско, хотя его предки лишь гоняли по пастбищам стада овец, когда у моих знатных предков в то время уже были свои стада крупного рогатого скота и табуны лошадей. Человек из низкого сословия решается, значит, сказать человеку из знатного рода, что он уступает ему права командования, поскольку в данное мгновение знатный человек нуждается в его помощи.
Однако Темучин поступил так, как поступил бы на его месте и я: он принял это предложение не моргнув глазом, несмотря на скрытое в нем унижение. Да что там: он еще больше унизился перед ними, сказав то, что они особенно хотели бы услышать:
— Хорошо, я согласен! Но одержу ли я победу? Ведь я еще никогда не вел в бой четыре тумена, мне никогда еще не подчинялось столько воинов.
Хан Тогрул и Джамуха сделали то, чего я ожидал и на что Темучин втайне надеялся: они громко расхохотались. Но то, что к его словам они отнеслись с полным доверием, следовало из ответа Джамухи:
— Не тревожься! Не о чем беспокоиться, дорогой друг! Если битва с меркитами примет неожиданно плохой оборот, мы с моим старшим братом сразу же вмешаемся, и Вечное Синее Небо нам поможет.
Темучин кивнул.
И снова глаза его сверкнули. Он встал. Но это уже был другой Темучин, а не тот, который за несколько минут до этого якобы проявил малодушие в присутствии вождей кераитов. Мой друг бросил на меня горделивый взгляд, как бы желая сказать: «Вот он, случай, о котором я всегда мечтал!»
В то время, когда отдавшие дань настоявшемуся кумысу Тогрул с Джамухой обменивались поцелуями, а потом приказали слугам привести в их шатер хорошеньких девушек, чтобы развлечься с ними, Темучин, широко расправив плечи, вышел на воздух. Несколько мгновений постоял с нами в лиственничном лесочке, куда еще заглядывали косые лучи заходящего солнца. Он ни словом не коснулся разговора в шатре, немыми свидетелями которого мы были. Он сделал вид, будто этого унизительного разговора и вовсе не было, а ему просто предложили возглавить войско — только и всего.
А люди Тогрула и Джамухи быстро разнесли по всему лагерю весть, что воинов на битву поведет сын Есугея и что все должны ему подчиняться.
Темучин послал несколько небольших групп разведчиков на север, а двум большим отрядам поручил вязать плоты на реке Килхо.
— Вязать плоты средь бела дня? — поразился один из военачальников кераитов. — Мы привыкли делать это в темноте. Днем это обязательно заметят охотники на соболей и рыбаки с другого берега. И весть «Враг идет!» быстро дойдет до слуха меркитов.
— И что тогда? — спросил Темучин.
— Тогда к вечеру, когда мы с главными силами подойдем к переправе, на другом берегу будут стоять главные силы меркитов, которые начнут осыпать нас стрелами — а на плотах не очень-то развернешься!
— Ты говоришь именно о том, во что я заставлю поверить врагов-меркитов. И значит, план мой хорош: к переправе мы выведем только один тумен. В то время, как он свяжет основные силы меркитов, я с двадцатью пятью тысячами воинов внезапно выйду в тыл и разгромлю их.
— Им… в тыл? — удивился военачальник.
— Да, именно так. Я прямо сейчас поскачу во главе двадцати пяти тысяч воинов на восток. А с наступлением темноты резко сверну на север и около полуночи выйду к Килхо в таком месте, где ни один меркит нас не ждет. Ты же со своим туменом выступишь к Килхо только вечером, твой путь короче моего. Оставшиеся пять тысяч воинов я оставляю здесь для охраны лагеря. Ты меня понял?
Военачальник ответил с улыбкой:
— Твой план радует меня! Моим воинам он тоже придется по душе: перехитрить врага — всегда дело веселое!
Свое войско Темучин расставил так: один тумен по левую руку, другой — по правую. На флангах по две с половиной тысячи воинов на самых быстроногих лошадях — чтобы предохранить войско от внезапных обходных атак врага.
Этот грохочущий копытами поток всадников покатился по степи под горячим солнцем прямо на восток, и вскоре солнечный диск занавесила густая пелена пыли.
— Ветер дует в северную сторону! — крикнул мне Темучин. — Моя Борта ощутит привкус пыли на языке и поймет, что буря, поднявшая эти столбы пыли, — это я!
Он все еще любил ее, хотя разлука длилась уже куда больше, чем время, которое они провели вместе. Темучин гордо держался в седле своего белого скакуна. Его темно-вишневый кафтан распахнулся на ветру и напоминал сейчас крылья: мой друг как бы летел к своей Борте, смелый и беззаботный.
Солнце заходило, нам навстречу спускались сумерки, покрасив нас сперва в желтую, потом в серую и, наконец, в черную краску. Только теперь мы повернули на север.
Перед появлением луны на небе мы переправились через Килхо, не встретив по пути ни единого меркита.
Темучин отдал воинам приказ стать в боевые порядки.
В глубину построение вышло по девять рядов. Вот так мы и шли на запад, готовые к бою, во главе с Темучином. Мимо пролетали высокие тополя, вырастали и тут же пропадали холмы. Луна иногда светила так ясно, что в ее свете несущиеся по степи всадники походили на мятущиеся тени привидений. Пока что воины еще молчали, как молчат привидения, но устрашающий грохот тысяч и тысяч копыт раскатывался впереди нас и наверняка уже звучал в ушах меркитов.
Вот вдали показались огни!
Лагерь!
Юрты и шатры!
— Нахлестывайте лошадей! — закричал Темучин.
И по рядам полетело:
— Нахлестывайте лошадей!
— Пригнитесь к гривам! — крикнул Темучин.
И по рядам полетело:
— Пригнитесь к гривам!
Тысячеголосый рев «Ухуууу!.. Ухуууу!» разорвал ночное небо — и мы с криком набросились на врага, как ураган.
Боевые топоры сверкали в лунном свете, взлетали и со свистом опускались кривые сабли, стрелы шипели, как змеи, лошади падали под всадниками на траву, оглашая поле битвы исступленным ржаньем.
Особенно неистовствовал бой у переправы.
В то время как тумен на другом берегу приковал к себе главные силы меркитов, мы напали на них с незащищенного тыла, заставив принять двусторонний бой, отчего их войско потеряло управляемость и стройность. И сразу же упала и боеспособность меркитов. Вот почему нам удалось переправиться на тот берег без заметных потерь.
Темучин сразу понял, что битва складывается в нашу пользу и враг скоро попятится назад. Поэтому он приказал одному из туменов отойти от переправы и ударить в тыл, по самому лагерю меркитов.
Криком «Борта! Борта!» он как бы подгонял нас, а сам пригнулся к гриве скакуна и как бы слился с ним, защищаясь от случайных стрел.
Если вначале поле брани освещалось лишь тусклым светом луны, в котором и воины, и кибитки, и юрты, и блеющие овцы казались предметами и существами призрачными, то когда мы подожгли юрты и повозки меркитов и пламя быстро прогрызлось в войлок и дерево, к небу взметнулись мириады искорок, которые обрушились потом на нас подобно огненному дождю. Горячий воздух раздирал грудь, дым выдавливал слезы из глаз.
Свет луны поблек.
И хотя меркиты оставили в лагере не так уж много воинов, наши потери были весьма ощутимы: не только мужчины бились с нами, их храбрые жены тоже вышли из юрт и пускали в нас из-за повозок и кустов сотни метких стрел.
Они умирали рядом со своими храбрецами мужьями, и кровь у них была такая же красная, как огонь, и такая же красная, как кафтан Темучина, который развевался сейчас у него за спиной, как языки пламени, когда он вдруг вырывался из гущи схватки и звал свою Борту.
Когда шум битвы начал понемногу стихать и особенно отчетливо слышались крики раненых и стоны умирающих, а из степи доносились отдельные мстительные крики спасшихся бегством меркитов, Темучин нашел наконец свою Борту.
Она жила в юрте человека по имени Чилгер, одного из братьев вождя меркитов Тохты. Самому Тохте удалось избежать плена.
Чилгер, стоявший перед Темучином, стенал и раскаивался:
— Черной вороне уготована судьба питаться падалью, хотя она предпочла бы лакомиться дикой уткой или куропаткой. Вот так и мне, Чилгеру, уготована судьба человека, который сам навлек проклятье на свою черную голову. Зачем я загорелся страстным желанием обладать Бортой? Обыкновенной птице вроде луня уготована судьба жрать мышей и полевок, а ей, видишь ли, вздумалось позариться на лебедей и журавлей. Вот так и я, ничтожный Чилгер, пожелал обладать твоей святой, благородной, прекрасной женой Бортой и навлек этим кару небесную на меркитов.
Борта сидела на подушках с новорожденным младенцем на руках. Платье на ней было порвано, и сквозь прорехи виднелось юное смуглое тело, волосы ее были не убраны.
Темучин преклонил перед ней колени, поцеловал и сказал:
— Тот, что стоит здесь, — и он указал на меркита Чилгера, — и который будет присутствовать при том, как мы будем любить друг друга, сейчас дрожит от страха, зная, что я велю убить его — я, стоящий сейчас на коленях с плачущими и блестящими от радости глазами, потому что вновь обрел самое драгоценное для меня существо, которое вот он хотел навсегда у меня похитить. О моя Борта!
И они обнялись.
Я отвернулся, чтобы не смущать их счастья своим взглядом.
Когда они нежно прикоснулись друг к другу и исполнилась заветная мечта Темучина, Чилгер попытался проскочить мимо меня. Подло, как шакал, бесшумно, как волк, низко, как змея.
Но моя сабля достала его и убила. И он умер, как шакал, как волк и как змея.
Так как Темучин не был уверен, его ли родной сын лежит на подушке рядом с Бортой, он осторожности ради сказал:
— Назовем его Джучи — Гость!
И, обращаясь ко мне, добавил:
— Пошли гонцов к Тогрулу и Джамухе. Пусть передадут им: «То, чего мне недоставало и что я искал, я обрел. Мы не поскачем дальше в степь и не станем догонять бежавших с поля битвы, мы станем здесь лагерем и заночуем».
Утром Темучин повелел отыскать среди пленных тех триста меркитов, которые напали на нашу орду у Бурхан-Калдуна и похитили наших женщин и детей. Или тех из них, кто остался в живых.
Он приказал казнить их всех у реки. Там, где росли высокие тополя. После этого он приказал еще отобрать тех женщин и девушек, которых можно было взять в жены, и тех мужчин, которые годились в услужение. И у нас тоже появились рабы и рабыни, как это уже практиковалось у других богатых племен. Теперь перед юртой Темучина тоже стояли слуги, как они стояли перед шатрами Тогрула и Джамухи и как оно положено было сыну Есугея.
Когда женщины и мужчины были отобраны и предстали перед ним, Темучин обратился к толпе с такими словами:
— Мой благородный названый отец Тогрул и мой друг Джамуха, оба они поддержали меня и поставили во главе войска. Небо и земля удвоили мои силы. Могучее Небо отметило меня, а матушка-земля принесла меня сюда. Мы отомстили по-мужски, мы выпотрошили их грудь, мы разорвали их печень. Мы перевернули их постели, а тех, что остались целы, мы заберем с собой. Теперь, когда мы разогнали народ меркитов, мы вернемся домой.
И утром на другой день мы выступили из лагеря у реки Килхо по направлению к истокам Онона.
Тяжелые повозки, груженные захваченным у меркитов добром, тащили могучие чернорогие яки. Воины гнали перед собой табуны меркитских лошадей и отары овец. Мы неторопливо шествовали по пышной цветущей степи. А если необъезженному скакуну удавалось вырваться из табуна вместе со своей кобылой, мы весело пускались в погоню за ними и ловили их, заарканивали.
За повозками, запряженными яками, пешком шли мужчины и юноши, женщины и девушки. И только дети сидели на двухколесных повозках, зажатые между тюками и ящиками, и в такт тяжелой поступи яков качались туда-сюда. Было жарко, пыльно, и большинство детей старались закрыть глаза и поскорее уснуть.
Среди пленных, которые плелись за повозками и больше смотрели на колеса, чем друг на друга, я обратил внимание на девушку из последнего ряда. Она семенила босиком по успевшей уже прогреться земле и как будто не так устала, как остальные, не выглядела чрезмерно подавленной и глядела отнюдь не только себе под ноги. Нет, она даже вертела головой по сторонам: то на кого-то из пленных бросит быстрый взгляд, то без страха посмотрит прямо в лицо одному из наших стражников, то поднимет глаза и долго не сводит их с синего неба, будто успевшего шепнуть ей: «Несмотря на все твои страдания, жизнь все-таки прекрасна!» А то она неожиданно нагнулась, сорвала на ходу красную, огненную лилию, отломила длинный стебелек и воткнула цветок в свои густые черные волосы.
Чтобы разглядеть ее получше, я подъехал поближе.
Она тоже заметила меня, и я поймал на себе ее вопросительно-насмешливый взгляд. Девушка словно изучала меня, как перед этим пленников, шедших впереди, стражников и небо над головой.
Некоторое время я молча ехал рядом с ней. Втайне я испытывал удовольствие, когда она вдруг поднимала голову и смотрела на меня своими темно-карими глазами. Ее темные веки были покрыты мелкой желтоватой пылью, которая покрывала и длинные косы девушки, свисавшие на груботканое льняное платье, а потом эта желтая пыль легла даже в чашечку красной, огненной лилии.
— Остановись! — приказал ей я.
Вздрогнув от испуга, она замерла на месте.
Я налил полную чашку кумыса и, перегнувшись с лошади, предложил ей. Она протянула было за ней руку, но сразу отдернула ее, словно испугавшись, что в чашке будет яд. А потом все-таки выпила и без слов вернула мне чашку. Мне, правда, почудилось, что на губах ее скользнула несмелая улыбка. Но тут я хлестнул лошадь и догнал ушедших далеко вперед друзей. Оглянувшись на нее, я с удовольствием заметил, какая у нее легкая, уверенная поступь.
Вечером мы достигли истоков Онона.
Темучин велел поставить для себя шатер вождя меркитов Тохтоа. Он решил отныне жить в нем…
После того как мы разделили добычу и отпраздновали победу, хан Тогрул со своим войском вернулся к Черному Лесу на Туле.
А Джамуха со своими воинами остался у Онона, потому что Темучин сказал ему:
— Я с радостью вспоминаю об узах дружбы между нами, которая тянется из самого детства. Когда мне было одиннадцать лет, ты, дорогой Джамуха, подарил мне игральные кости, сделанные из оленьих рогов, а я подарил тебе взамен игральные кости, отлитые из меди. И этим мы скрепили нашу дружбу.
— Так и было, — подтвердил Джамуха. — А весной, дорогой Темучин, я вырезал себе певучие стрелы. Я выточил из рогов двухлетнего быка острия, проделал в них маленькие дырочки и прикрепил их потом к основаниям стрел. Потом я подарил их тебе, а ты в знак дружбы дал мне взамен стрелы из дорогого кипариса.
— Да, это тоже было, — кивнул Темучин. — Сегодня, дорогой Джамуха, я хочу снова скрепить нашу дружбу и завяжу сейчас на тебе этот золотой пояс, принадлежавший до битвы вождю меркитов Тохтоа. А еще я подарю тебе лошадь меркитского вождя, черногривую и густохвостую кобылицу, которая не жеребилась уже несколько лет.
— Пусть все будет так, как было заведено в детстве, — ответил Джамуха. — Ты получишь от меня в подарок золотой пояс меркитского вождя Даира и его лошадь, жеребца, похожего на крутолобого шелковистого муфлона.
Вечером я снова увидел ту самую девушку. Она шла к истоку Онона по воду.
Глава 8 ДЕВУШКА — ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК
У истока Онона мы задержались недолго и откочевали со стадами вниз по течению, где на восточном берегу нашли тучные пастбища. Они протянулись от реки до большого озера. За озером открывался лес, который покрывал и склоны невысокой пологой горы, напоминавшей верблюжий горб. При свете полной луны наша орда выделялась темным пятном на фоне мерцающего озера и серебрящейся реки. Вот почему мы назвали это место Черным Сердцем.
В нескольких днях пути на западном берегу той же реки стоял лагерем Таргутай со своими тайчиутами. Это, правда, было далеко, но все-таки ближе, чем от нашей орды в долине Бурхан-Калдуна. Слава Темучина росла, и повсюду в юртах и кибитках говорили о сыне Есугея, продолжающем дело своего отца. Конечно, и Таргутаю стало известно о победе Темучина над меркитами и о том, что Темучин возглавлял в битве войско кераитов и что теперь Джамуха со своими воинами живет в одной с ним орде. Мы стали во много раз сильнее, пусть и не такими могущественными, как тайчиуты. Однако слава о нас пошла по степи, и теперь уже Таргутай не посмеет насмехаться над нами и безнаказанно нападать на наш лагерь.
Иногда он все-таки засылал к нам своих разведчиков-тайчиутов, переодетых мирными охотниками, которые притворялись, будто просто-напросто заблудились, или делали вид, будто они и не тайчиуты вовсе, а из другого племени и оказались вблизи нашей орды чисто случайно. Но как ловко они ни притворялись, Темучин выслушивал их россказни с ухмылкой и ни одному из них не поверил. Но не возражал им, а принимал как гостей, одаривал как друзей, приглашал к застолью, пил с ними кумыс. Он даже отправлялся на охоту с тайчиутами-соглядатаями и следил за тем, чтобы им подгоняли дичь получше. Это настолько удивляло переодетых людей Таргутая, что они, опьянев от хмельного кумыса, начинали откровенничать:
— Как это получается, что вождь тайчиутов, наш лучший друг, отнимает у нас дорогие меха и лучших лошадей, а Темучин дарит нам дорогие халаты и благородных скакунов, хотя он нам и не друг?
Темучин не отвечал им. Пусть опьяняются его подарками, а не его словами. Он был хитер и знал, что подарок действует сильнее тысячи слов. После того как он так великодушно принимал соглядатаев, к нам прибивались целые группы воинов, которые прежде были более-менее дружны с Таргутаем, но теперь просили разрешения остаться в орде Темучина.
Мой друг оказывал гостеприимство и им, не делая никакой разницы между вновь прибывшими и теми, кто был с нами уже давно.
Вот так с одного восхода солнца до другого и росло число кибиток и юрт, мужчин и женщин, лошадей и овец в орде Черного Сердца, самой большой из всех, какие у нас были прежде. И хотя силы его все время прибывали, мы не слышали из уст Темучина, что близится то время, о котором он мечтает. Он не говорил ни слова о Таргутае и не проклинал те племена, которые после смерти Есугея по-предательски оставили лагерь матери Темучина — Матери Тучи. Когда мы по вечерам собирались у костров, старики рассказывали нам предания о геройских подвигах, сказания наших дедов и отцов.
В сказаниях этих говорилось и о молодом герое, который придет, объединит и сплотит все монгольские племена. И тогда наступит мир между всеми людьми, живущими в юртах, придет конец кровопролитию, жен не будут больше отрывать от мужей, а детей от матерей, по степи будут грохотать тысячи конских копыт и никогда больше не будет недостатка в молоке и мясе. Ему обещано покровительство Вечного Синего Неба, которому все они поклоняются и приносят жертвы, на нем, на молодом герое, будет благословение Неба. Так говорилось в сказаниях.
Бохурчи, самый молодой и пылкий из нас, воскликнул однажды:
— Он уже пришел! Это Темучин! Его зовут Темучин — Стальной Нож!
Однако Темучин молчал, и остальные тоже ничего не говорили, хотя многим было что сказать — не один Бохурчи думал так. Но у костра сидел еще и Джамуха, и ему вряд ли понравилось бы, что у него на глазах одного вождя превозносят, а о другом даже не упоминают.
И однажды старики велели принести большую баранью кость, красивую белую лопаточную кость только что зарезанного барана. Они хотели узнать у духов имя грядущего великого героя по обычаям седой старины. Кость положили в огонь.
Тишина.
Кость начала обугливаться.
Шаман Гекчу, умевший писать, читать, толковать сны и вопрошать духов, был единственным, способным разгадать загадку. Он-то время от времени и переворачивал кость в костре.
А мы не отводили от него глаз, сгорая от любопытства, что-то он нам скажет? Иногда случалось, что кость лопалась пополам, и тогда тайна оставалась сокрытой. Так бывало не раз и не два…
Но на сей раз все как будто шло к счастливой развязке. Кость хрустнула, и по ней побежали трещинки — тонкие и потолще, короткие и подлиннее, они избороздили всю поверхность кости.
Шаман достал кость из костра железными щипцами, помахал в воздухе, чтобы остудить, и, осторожно взяв кончиками пальцев левой руки, приблизил почти вплотную к виску. Он к чему-то прислушивался, закрыв глаза, потом опустил кость пониже и впился в нее глазами. И вдруг прошептал:
— Ч-ч-ч… Ч-ч-ч…
Мы так и прикипели глазами к его губам.
Со стороны реки послышался крик турпана.
— Чин… чин… — проговорил шаман.
Мы все плотно обступили его.
И снова прокричал турпан.
— Ч-ч-ин-гис… Да-да, гис!
— Чингис? — удивленно поднял брови один из стариков.
— Да, Чингис! — ответил шаман. — Это правда, это мне сказала кость: Чингисхан! А это значит: Самый Настоящий Властитель! Вот как будут звать нашего героя.
Каждый из нас повторил это имя про себя.
— Чингисхан, — шептали мы. И еще и еще раз: — Чингисхан!
Темучин тоже повторил это имя. И Джамуха повторил его. Он, наверное, был рад, что кость не сказала: «Темучин».
— И где же тот, кто носит это имя? Кто он? — спросил Бохурчи.
Шаман ответил ему торжественно-размеренным голосом:
— Об этом кость ничего не сказала. Может быть, герой уже сейчас среди нас, но пока не знает, что будет носить это имя.
— И как же он об этом узнает? — вопрошал шамана пылкий Бохурчи.
— Небо подаст ему знак. Может быть, в виде белого сокола, который опустится на его шатер!
— Темучин! — воскликнул Бохурчи. — Кто, если не он? Самый Настоящий Властитель — это Темучин! Его и назовут Чингисханом.
Джамуха немедленно встал и зашагал к своему шатру, не сказав нам ни слова.
А Темучин проговорил с укоризной:
— Одного ты, Бохурчи, обидел, а другому не помог! Громкие мысли — все равно что повозка об одном колесе. Нагрузить ее можно доверху, только с места не сдвинешь!
И тогда Бохурчи тоже ушел от ночного костра. Но не оскорбленный, как Джамуха, а пристыженный, потому что понял, какую ошибку допустил.
На другое утро я спозаранку поспешил к озеру. Мне захотелось порыбачить после столь долгого перерыва, после столь шумных недель меня потянуло посидеть с удочкой у воды. В моих ушах до сих пор стояли крики и вой многих тысяч участников битвы, у меня до сих пор стояли перед глазами горящие юрты, потрясенные лица матерей, горы раненых и убитых.
Там, где гора, напоминающая горб верблюда, соприкасалась с небом, зажглось солнце. Я смотрел на него не отрываясь, и у меня начали слезиться глаза. Раскаленный диск поднялся над горой, и все окрест — и лес, и озеро, и кусты, и долину Черного Сердца — залило красноватым светом.
Сиди и наслаждайся ранним летним утром, шелестом пышных трав и запахом степного ветра! Когда я раздвигал камыш, он потрескивал: птицы испуганно вскрикивали, заслышав мои шаги. Решив переменить место, я искал, где бы устроиться поудобнее.
Но этим утром клева не было. Сколько раз я ни переходил с места на место, не шла рыба на крючок, и все тут! Озеро молча уставилось на меня, как зеркало, в которое я молча смотрелся. И только мягкий ветерок накладывал складки и морщинки на это зеркало.
Я больше не обращал внимания на мою уду и оставил ее в воде, потому что глаза мои нашли нечто, обрадовавшее их: блестящих на солнце стрекоз, которые покачивались на колышущемся камыше, пестроперых выпей, хватающих насекомых на лету, и даже несколько речных скоп, круживших над озером.
Уйдя в свои мысли и прислушиваясь к окружающему меня миру, я вдруг вздрогнул, заслышав неподалеку шелест щетинницы.
Шаги приближались.
Быстрые шаги.
Птицы вспорхнули с облюбованных мест.
А дикие утки ныряли в воду.
Кто-то позади меня раздвигал руками камыш, как незадолго до этого раздвигал его руками я. Прежде чем разглядеть человека, я увидел два приближавшихся ко мне кувшина, два красивых пустых кувшина, болтавшихся на вытянутых вперед руках и закрывавших лицо. Я очень скоро узнал его: это была девушка-меркитка из толпы пленных, которой я подал с лошади полную чашку кумыса. Сегодня у нее не было огненной лилии в волосах. Когда она заметила меня, ее руки с кувшинами опустились, и камыш передо мной сомкнулся.
— Пойди сюда, — сказал я.
Она не сдвинулась с места.
Я сделал несколько шагов ей навстречу и резко раздвинул камыш, так, что мы оказались с ней лицом к лицу.
Девушка улыбнулась:
— Я выхожу! — И прошла мимо меня.
На ней по-прежнему было грубое льняное платье тоскливого серого цвета, и она все еще ходила босая.
— Ты удишь рыбу?
Я кивнул.
— И сколько ты уже поймал?
— Ни одной.
— Ни одной? Я тоже всегда ловила рыбу — там, в верховьях Килхо! И в солнечный день, и в ветреный, и в дождь, и в туман. Даже зимой, когда лед приходилось пробивать, мы ловили рыбу. И она всегда нам попадалась. Там, в верховьях Килхо!
Рассказывая об этом, она весело перепрыгивала с одного большого камня на другой, и теперь на плоских камнях на берегу повсюду виднелись черные отпечатки ее мокрых ног.
— Может, озеро чересчур глубокое? Или чересчур холодное? — спросила она.
Я пожал плечами. Мне очень понравился ее голос. Когда я задерживал на ней свой взгляд, она отворачивалась и подолгу смотрела в сторону почти недвижного сейчас озера, темного леса или горбатой горы.
— Ты не любишь разговаривать?
Вместо ответа я лишь улыбнулся ей. А она вернулась к воде и наполнила свои кувшины.
— Садись рядом со мной, — предложил я, опасаясь, что она уйдет и я опять останусь один.
— С удовольствием, — ответила она и поставила кувшины на песок.
Девушка села напротив меня на синий камень, повернувшись спиной к озеру.
— Как тебя зовут? — негромко спросил я.
— Алтын-Читчик, Золотой Цветок! — ответила она мне, упершись локтями в колени и взяв голову в ладони. Сейчас она не сводила с меня своих узких темно-карих глаз.
— Золотой Цветок, — повторил я. — Красивое имя.
— А тебя как зовут?
— Кара-Чоно, Черный Волк.
Над Верблюд-горой появились темные тучи. Зеркало озера потемнело. Теплый ветер шевелил щетинницу. В лесу хрипло закричала сойка.
Золотой Цветок побежала к своим кувшинам, говоря:
— Как я могла забыть! Меня ждут в орде с водой!
— И когда ты вернешься обратно?
— Ты хочешь?..
— А ты хочешь, Золотой Цветок?
Она кивнула и исчезла со своими кувшинами, только и сверкнули ее голые загорелые ноги. В камыше зашуршало. Я долго слышал звук быстрых шагов Золотого Цветка — пока она не пошла по луговой траве.
Я сидел у воды один. Но представлял, что нас двое. Хорошо думать, что ты не одинок. И все, что я с этого времени видел, я как будто видел вместе с Золотым Цветком: и птиц, и лес, и озеро, и гору. И еще маленьких зеленых жучков, ловко вскарабкивавшихся на синий камень, на котором совсем недавно сидела Золотой Цветок.
Я так в нее влюбился, что мне даже страшно стало, а не случится ли с ней чего худого по дороге в орду. У кого она жила в темном закутке, кому прислуживала вместе с другими слугами? Был ли ее хозяин груб с ней, измывался ли над ней только потому, что она была пленной, да еще вдобавок из племени меркитов?
Пошел дождь, теплый и ласковый; со стороны озера донеслось что-то похожее на тоненький звон.
Я снова забросил в озеро свою уду.
И рыба пошла на приманку, одна большая рыба за другой. Дождь не холодил моего разгоревшегося лица, и я подумал еще, что Золотой Цветок обрадуется, увидев, сколько рыбы я наловил.
Когда дождь перестал и капли его стекали только по длинным стеблям камыша, а солнце подсушило уже мокрые камни, я лег на прибрежный мох, вытянулся во весь рост и опустил свои голые ноги в воду. Яркий небесный свет заставил меня смежить веки. Я снова увидел бредущих за запряженными яками повозками пленных, и среди них Золотой Цветок. Босоногая, она мелко семенила по теплой земле. Она была не такой усталой и грустной, как остальные, и глаза ее не были прикованы к колесам повозки, нет, она вертела головой по сторонам: то на кого-то из пленных бросит быстрый взгляд, то без страха посмотрит прямо в лицо одному из наших стражников, то поднимет глаза и долго не сводит их с синего неба, будто успевшего шепнуть ей: «Несмотря на все твои страдания, жизнь все-таки прекрасна!» А то она неожиданно нагнулась и сорвала на ходу красную, огненную лилию, отломила длинный стебелек и воткнула цветок в свои черные волосы. Я испытывал удовольствие всякий раз, когда она вдруг поднимала голову и смотрела на меня своими темно-карими глазами. Ее темные веки были покрыты мелкой желтоватой пылью, которая покрывала и длинные косы девушки, свисавшие на груботканое льняное платье, а потом эта желтая пыль легла даже в чашечку краской, огненной лилии.
Золотой Цветок!
Я уснул и взял ее в свои сновидения.
Не могу сказать точно, отчего я проснулся и сколько времени проспал, но произошло что-то чудесное: рядом со мной лежала Золотой Цветок. Я не решался пошевелиться, я едва дышал. Нет, правда, она лежала рядом со мной во мху, глаза ее были закрыты, и сама она была так красива, что даже нелепое порванное платье ничего от этой красоты не отнимало. Меня так и подмывало поцеловать ее мягкие губы, по-девичьи нежную шею и тонкие загорелые плечи, видные сквозь прорехи в платье. Но я не осмелился, не желая разрушить то, от чего пришел в трепет и что заставило меня испытать чувство счастья. Я боялся, что мой жадный взгляд разбудит ее, сила моего желания оскорбит.
Я потихоньку встал и пошел собирать тонкие веточки и сучки для костра, на котором собирался поджарить пойманную рыбу.
Озеро опять разгладилось, и в нем снова отражались камыш и деревья. И еще порхавшие над ним птички. У меня из-под ног вспорхнула пара щеглов.
Я поспешил обратно.
Золотой Цветок сидела на песчаном берегу и чистила рыбу. Мы разожгли костер. А когда мы поели, она сказала, смеясь:
— А я совсем и не спала!
Мы рассмеялись, как дети, и она, пробежав по камням, юркнула по воде в камыши. Я пошел по ее следам неслышно, как преследовал бы газель. Когда я догнал Золотой Цветок, она посмотрела на меня с невысказанной мольбой, вся дрожа, и я поцеловал ее мягкие губы, ее по-девичьи нежную шею и тонкие загорелые плечи. Она медленно сползла по мне, и мы упали на колени. Золотой Цветок плакала от счастья. Одна лишь щетинница да высокое небо слышали, что мы друг другу обещали.
Когда из-за горы выплыла луна, я отнес Золотой Цветок в долину Черного Сердца под кров моей войлочной юрты.
Глава 9 СНЕЖНО-БЕЛАЯ КОРОВА
Наша любовь была жаркой, как лето.
Поначалу меня, правда, мучила мысль, что Золотой Цветок могла думать, что должна быть мне покорной, потому что она всего лишь рабыня, которая не имеет права ни пожелать чего-то, ни отказаться, если хочет остаться в живых. Хотя я и не допускал мысли, будто она согласилась перейти в мою юрту, лишь бы не быть в услужении у других и жить там в темном закутке. И все-таки любовь, которая заставляет человека, стоящего на низшей ступени, любить человека, стоящего на высокой ступени, казалась мне чувством унизительным. Поэтому я взял Золотой Цветок себе в жены: теперь каждый из нас будет равен другому. Наша любовь росла, крепла и расцветала, потому что проистекала из одного чувства и одной плоти…
Когда минули год и еще полгода, мы в день Красного Диска, в шестнадцатый день первого месяца весны, откочевали из долины Черного Сердца, чтобы найти новые пастбища.
Темучин скакал бок о бок с Джамухой, а мы с Бохурчи сразу за ними.
На третий день Джамуха сказал:
— Давайте станем лагерем вплотную к горам. И тогда табуны лошадей смогут пастись там, а их пастухи спать в кибитках. Да, а еще лучше нам расположиться между горами и озером. Тогда и пастухи овечьих отар смогут передохнуть и отъесться.
Темучин, ничего не ответив, придержал коня. Мы с Бохурчи остались рядом с ним, а Джамуха с колонной повозок отправился дальше. Когда мимо нас на повозке проезжала Мать Тучи, Темучин попросил ее задержаться и сказал:
— Друг Джамуха предложил мне: «Давайте станем лагерем вплотную к горам. И тогда табуны лошадей смогут пастись там, а их пастухи спать в кибитках. Да, а еще лучше нам расположиться между горами и озером. Тогда и пастухи овечьих отар смогут передохнуть и отъесться». Как мне, матушка, понять эти слова? Я ему ничего не ответил, хотел спросить сначала твоего совета.
Прежде чем Оэлон-Эке успела ответить, жена Темучина проговорила:
— Джамуха всегда считался ненадежным другом. Настал час, когда мы ему надоели. То, что друг Джамуха сказал тебе, относится прямо к нам. Мы не станем разбивать здесь лагерь, мы расстанемся с его людьми и будем идти дальше всю ночь. Так будет лучше всего.
А Мать Тучи добавила:
— Твоя Борта правду сказала, Темучин. Джамуха низкого рода: у него всегда были одни овцы да бараны, а он хочет указывать нам, где мы станем лагерем. Выходит, ему незнакомы наши законы и обычаи. Он вот что хочет своим приказом сказать: пастухи лошадей станут лагерем у горы, а пастухи овец — у озера. Значит, он хочет расстаться с нами. Потому что под пастухами лошадей он разумеет нашу орду, а под пастухами овец — свою. Будет хорошо, дорогой сын, если дальше мы пойдем без него.
— Нас опять станет меньше, — сказал Темучин. — Вождь тайчиутов Таргутай может воспользоваться этим разладом, матушка.
Оэлон-Эке усмехнулась. И Борта тоже усмехнулась. Мне подумалось, что женщины уже раньше обсуждали возможность расставания с Джамухой. А Борта сказала даже:
— Нас станет больше, Темучин, намного, намного больше. Не кто иной, как низкий Джамуха, повинен в том, что самые знатные и высокородные представители старых монгольских родов отошли от нас. Они не хотят служить никаким выходцам из низких сословий, они хотели бы служить сыну Есугея.
— Тогда мы расстанемся, — сказал Темучин.
И те, что уходили с Джамухой, свернули влево, а остальные, оставшиеся с Темучином, — направо. Той ночью на небе месяца не было, и во мне родилось такое чувство, будто он скрыл свой лик за темными тучами, чтобы не видеть, как два друга расстаются врагами.
Но обе женщины оказались правы.
Весть об этом пронеслась по степи и всем ее теснинам и лесам, горам и холмам быстрее ветра: уже на другой день утром к нам прибились первые пастухи и охотники. А в последующие дни приходили целые роды и большие семьи, знатные и вовсе нет, родственники Темучина и братья Борты, бывшие друзья и много-много незнакомых, которые последовали за теми, с кем они жили раньше и с которыми собирались жить впредь. Среди них был и некий Хорчи, который сразу по прибытии сказал Темучину:
— Все мы происходим от женщины, которую похитил святой Бодончар, мы с Джамухой из одного и того же материнского чрева, из одной с ним зародышевой воды. Нам бы всегда быть вместе с Джамухой! Но нам явилось небесное видение, которое стоит у меня перед глазами, как ты сейчас: это была снежно-белая корова, которая обошла вокруг Джамухи и боднула повозку с его сложенным шатром, а потом боднула и самого Джамуху и сломала один из своих рогов, так что у нее теперь один рог кривой. «Верни мне мой рог!» — ревела она на Джамуху и била изо всех сил копытом о землю, так, что пыль курилась. А потом появился безрогий белый бык с привязанной к спине деревянной опорой от шатра. Он пришел по широкому следу, оставленному тяжелой двухколесной повозкой Темучина, и взревел еще пуще коровы: «Небо договорилось с землей, что господином нашего царства будет Темучин! И вот она, опора этого царства, на мне!» Вот какому откровению я свидетель, вот что я видел собственными глазами. А теперь ответь, Темучин: когда ты станешь господином нашего царства, чем ты порадуешь меня за это предсказание?
Темучин ответил:
— Если Небо и впрямь отдаст мне царство монголов, я поставлю тебя начальником тумена.
На что Хорчи возразил:
— Если ты поставишь человека, который принес тебе такую важную весть, князем над десятью тысячами воинов, какая мне от этого радость? Но если ты все же поставишь меня всего лишь начальником или князем одного тумена, то дай в придачу еще тридцать жен и право выбирать их из самых красивых девушек царства.
После присоединения отдельных родов в нашу орду начали приходить целые племена со своими вождями и просили принять их.
Мы откочевали к озеру Санггур, что у горы Гурелгу, потому что в старом лагере места уже не хватало.
Когда поток вновь прибывающих начал иссякать, Темучин велел мне пересчитать число юрт и кибиток.
— Тринадцать тысяч, — доложил ему я.
И мне вспомнилась наша маленькая орда у Бурхан-Калдуна и та ночь, когда мы, объятые тоской, выехали с Темучином в степь вдвоем на одной лошади. «Мне нужно в тысячу раз больше воинов…» Теперь у него тринадцать тысяч воинов, тринадцать тысяч!
Вечером того дня благородные мужи пригласили Темучина в свой круг. Они надели самые дорогие платья, и огонь костров освещал их красные, синие, зеленые и желтые праздничные наряды из блестящего шелка, которые привозили торговцы из далекого китайского царства и выменивали на наши лучшие товары. Почти все эти благородные мужи были старше Темучина, у некоторых седые волосы спадали на загорелые щеки, а седые пряди — признак мудрости.
Я сидел вместе с Бохурчи, сияющие глаза которого, казалось, уже видели, что вот-вот произойдет, во втором ряду, за благородными мужами; мы хотя и ближайшие друзья Темучина, но происхождения низкого.
— Мы хотим сделать тебя ханом, — сказали благородные и мудрые. — Если ты, Темучин, согласишься стать нашим ханом, все мы, острие твоего копья, вонзимся в земли твоих врагов, отнимем у них самых лучших женщин и девушек и их дворцовые шатры, мы пригоним к тебе их крутозадых и быстроногих холощеных жеребцов. Когда ты, Темучин, будешь охотиться на дикого хитрого зверя, мы, весь наш круг, первыми будем подгонять тебе его. Мы сгоним к тебе все пасущиеся в степи стада. Мы приведем к тебе все табуны отъедающихся на сладкой траве лошадей. А если мы в дни битвы не подчинимся твоему приказу, вырви у нас из рук все наше добро, отними жен и наложниц и брось наши черные головы на землю! Если мы в дни мира нарушим наш союз, оторви нас от наших воинов, наших жен и детей и сошли в безлюдные земли. Мы хотим сделать тебя с сегодняшнего дня нашим ханом, и пусть имя тебе будет Чингисхан.
Темучин поднялся со своего места, покрытого белой лошадиной кожей, и ответил:
— Все вы, собравшиеся здесь, решили прийти ко мне и избрать своим ханом. Если Небо будет хранить меня и ниспошлет мне помощь, то все вы, мои первые сторонники, станете моими счастливыми соратниками.
В знак благодарности Темучин, который отныне будет носить имя Чингисхан, повелел привести в круг белого жеребца, которого разрубил мечом на две половины. После этого обряда жертвоприношения Вечному Синему Небу вперед вышли повара и сказали по обычаю нашего народа:
— Да не иссякнут утренние яства и напитки, да не будет конца и пиршеству вечернему!
В круг входили все новые люди, славили молодого хана и предлагали ему свою силу, свою ловкость и свое трудолюбие.
Один из них сказал так:
— Я буду варить суп из двухлетнего барана и утром приносить его не слишком рано, а к вечеру не слишком поздно. Я буду стеречь меченых овец и следить, чтобы повозка с едой для хана всегда была полным-полна.
Другой поклялся:
— А я позабочусь о том, чтобы осевые шкворни закрывающихся повозок никогда не вываливались, чтобы повозки, идущие по колее, никогда не ломались. Я буду следить, чтобы все юртовые повозки всегда были в целости и сохранности.
Третий предложил:
— Я буду надзирать за приставленными к юртам слугами.
— А я, — воскликнул длинноволосый юноша, — размозжу грудь любому непочтительному наглецу!
За ним из толпы в круг пробился низкорослый, крепко сбитый человек средних лет:
— Я буду собирать твое добро, как крыса. Как черная ворона, буду приносить к юрте все, что лежит снаружи несобранным. Я буду укрывать тебя от холода, подобно теплому войлочному одеялу. Я огражу твою юрту от всех ветров, подобно круговому войлочному щиту.
Все возвеличивали молодого хана, прославляя на все лады его хитрость и мужество, и кумыс лился потоками. Около полуночи Темучин выбрал из храбрецов тринадцать военачальников, и среди них Бохурчи, которого вместе с дюжиной других поставил командовать тысячей воинов.
Глаза Бохурчи засверкали, и он воскликнул:
— Мой хан и все, кто стал с ним рядом! Пойдемте к озеру Санггур. Я хочу показать вам, какой клятвой мы клянемся.
И все благородные мужчины, женщины и дети последовали за Бохурчи, все собрались у озера Санггур, любопытствуя узнать, какая клятва пришла на ум пылкому Бохурчи.
Небо было безоблачным, звездным. Бледный серп месяца поглядывал на нас с высоты. Недвижные кусты и травы стояли в каплях росы.
Собравшиеся молчали.
Бохурчи приблизился к берегу и столкнул в воду носком сапога свисавший у невысокого кустика ком рыхлой земли, который сразу развалился на несколько частей, намок и затонул. Сначала на поверхности озера в этом месте еще плясало несколько пузырьков, но их быстро унесло течением.
— Пусть так будет с каждым из нас, кто нарушит священную клятву! — проговорил Бохурчи.
Он выхватил из ножен свою саблю, и остальные двенадцать военачальников поступили так же. Тринадцать сабель блеснули в лунном свете и со звоном коснулись поднятой сабли Чингисхана.
Потом привели злого юртового пса, у которого, как и у всех юртовых псов, были отрезаны уши, чтобы волки не могли в драке в них вцепиться. Бохурчи отрубил псу голову и швырнул ее в Санггур, сказав при этом:
— Пусть эта судьба постигнет каждого из нас, кто нарушит священную клятву!
И снова со звоном соприкоснулись тяжелые сабли.
Торжественную тишину нарушил только вой нескольких волков, донесшийся из мрачных теснин у горы Гурелгу.
Чингисхан сказал:
— Наш шаман Гекчу, наш умудренный годами прорицатель, прочел однажды ночью у костра по бараньей кости имя Чингисхан. У того же костра мы узнали, что скоро явится герой, который сплотит вокруг себя распавшиеся монгольские племена. А потом к нам пришел мудрый Хорчи и рассказал о снежно-белой корове, а от безрогого приблудного быка мы узнали, что небо и земля сошлись на том, что владыкой будущего царства станет Темучин. Поэтому я соберу все живущие в войлочных юртах племена в единый монгольский народ. В степи установится порядок, после долгих войн наступит вечный мир. И люди из далекого китайского царства, торговцы, похожие на вороватых сорок, хитрых и жадных, не смогут нас больше обманывать и насмехаться над нами только потому, что мы живем в юртах и кибитках и кочуем от пастбища к пастбищу, а они — в больших городах, в каменных домах и за каменными стенами.
Люди возликовали при этих словах сына Есугея, молодого героя, который дал слово установить в степи порядок и принести ей мир.
И вдруг Чингисхан заметил среди толпы меня. Его глаза словно сказали мне: «Как я мог совсем забыть о тебе! Прости меня!» Что правда, то правда, в последнее время у нас было мало общих дел и забот. Может быть, потому, что круг его друзей стал куда шире. А может быть, еще и потому, что я дни и ночи проводил с моим Золотым Цветком. Но я не считал, будто обо мне забыли, не чувствовал себя ущемленным и уж тем более ни в чем его не упрекал; я уважал его за справедливость и ум, как мой отец уважал Есугея. Выходит, я следовал примеру моего отца. На что же мне было жаловаться?
Чингисхан приблизился ко мне, пройдя сквозь расступившуюся перед ним толпу, распростер объятия и громко проговорил:
— Кара-Чоно, прости меня, мой друг!
Все сразу умолкли.
Когда Чингисхан обнял меня, его синий шелковый халат зашелестел и затрещал.
— Прости меня, — повторил он.
— Мне нечего прощать тебе, дорогой друг, — ответил я. — Мы друзья, и я верю, что ты не сделаешь ничего такого, что было бы мне во зло или было мне не по душе, как и я никогда не сделаю ничего, что тебе не понравилось бы или причинило зло.
— Разве ты не надеялся, что я и тебя поставлю над тысячей моих воинов? Что ты станешь одним из моих военачальников?
— Тебе лучше знать, почему ты этого не сделал!
Обернувшись к толпе, Чингисхан сказал:
— Это Кара-Чоно, Черный Волк. Он сдержан, молчалив, он не сорит словами. Но когда говорит, слова его на вес золота. Он сражается как тигр, но после боя подвигами не похваляется, он стоит в первом ряду моих сподвижников, которые освещают мою жизнь солнечными лучами, но никогда не старается быть на виду, он предпочитает замешаться в толпу, где его легко не заметить или забыть. Я хочу назначить его начальником моей личной охраны. И чтобы его юрта всегда стояла рядом с моим дворцовым шатром!
Я вдруг оказался у всех на виду, хотя никогда на виду быть не хотел. В личную охрану принимали только юношей из знатных семей, а я происхождения низкого, и сейчас на меня были обращены не только приветливые, но и завистливые взгляды. Я предпочел бы сейчас быть подальше отсюда, мне захотелось опять остаться наедине с моим Золотым Цветком. И хотя чувство гордости все же воспламенило меня — как-никак я начальник личной охраны Темучина! — я постарался мою радость и гордость не показывать.
Я отдал Чингисхану низкий поклон, как требовал обычай, а когда вновь выпрямился, он уже оставил меня и стоял в окружении людей знатных и высокородных.
Некоторое время спустя случилось так, что веселье, обычно вызываемое возлияниями кумыса, обернулось вдруг шумным спором: умные речи словно затопило пустословием. Женщины верещали, мужчины орали, над головами полетели кубки, и на дорогом ковре, где восседал Чингисхан с другими благородными мужами, началась необузданная потасовка. Впоследствии я узнал, что ей предшествовало: один из поваров на пиру наполнил по ошибке кубки не по старшинству — жене менее знатного военачальника налил прежде жены более знатного.
Я, никогда не переносивший пьяных драк, поспешил к своей юрте, где Золотой Цветок уже возлежала на шкурах. Она, как всегда, улыбалась при моем возвращении домой, а я долго гладил ее длинные черные волосы: перед отходом ко сну она расплетала косы. Я изливал на нее всю мою нежность, все известные мне ласки. Сквозь решетку крыши юрты на нас падал косой лунный свет, и, лежа на спине, мы пересчитали звезды, которые заглядывали к нам. Сегодня их было девять, и мы сказали себе, что девятка — счастливое для нас число.
Шум в орде постепенно затих.
Лаяли юртовые псы, отвечая на протяжный вой волков. Где сейчас голова одного из них? Санггур что-то невнятно лепетал среди ночи. О чем думал сейчас Чингисхан? И что чувствовал Джамуха после того, как расставшийся с ним Темучин так высоко вознесся и обрел большую власть и силу? Я думал об этом, пока не заснул.
В моих объятиях спала Золотой Цветок.
Нас усыпила светлая летняя ночь, теплая и добрая. Из степи доносился запах горькой полыни.
Вскоре после того, как Темучин был избран ханом, произошло что-то такое, что никогда прежде в степи не случалось: Чингис приказал тринадцати военачальникам разделить свои тысячи на сотни, а сотни на десятки. После этого он позвал тысячников, сотников и десятников к себе и сказал им:
— Как было до сих пор? Десять тысяч воинов были десятью тысячами воинов, и только. Они беспорядочно нападали на врага и побеждали, если у врага было меньше десяти тысяч воинов. А я хочу дать вам в руки средство побеждать врага, который числом вдвое сильнее нас. Как нам иначе уничтожить тайчиутов, которых тридцать тысяч, если нас всего тринадцать? Поэтому отныне мы будем воевать в боевых порядках, в которых каждый десятый поведет в бой остальных девять. Девять воинов срастутся в одно тело, а десятник станет его головой! А для того чтобы каждый воин знал свое место в битве, я придумал игру, которая вас порадует: вы будете сражаться, не получая ранений. Это будет война без войны, но эта игра сделает из вас войско, перед которым не устоит ни один враг!
— Объясни нам эту игру! — воскликнул Бохурчи.
Другие военачальники тоже воскликнули это, им тоже не терпелось поскорее проникнуть в смысл игры.
Один из них спросил:
— Скажи, хан, поднять ли мне мою тысячу и вывести ли ее в степь?
— Нет, — ответил Темучин. — Прежде чем в игре примут участие воины, необходимо, чтобы вы проиграли ее в голове. Вот слушайте!
Я знал, куда он нас поведет: все последние дни Чингисхан проводил в одном и том же месте. Это было у озера Санггур, где под могучим кедром лежал чистый желтый песок, выплеснутый сюда волнами озера. И хотя никто не знал, чем он там занимается, многим было известно, что его слуги собирают по берегу белые, синие, красные и зеленые камни и сносят их к кедру. Он сидел под кедром в одиночестве, в раздумье поигрывая ими.
Вот туда-то он нас и повел.
Бесчисленные камешки, равномерно выложенные в ряды и кучки, отчетливо различались на фоне желтого песка.
— Здесь тринадцать рядов, тринадцать клеток, — с удивлением проговорил один из военачальников. — Это как бы наши тринадцать тысяч воинов?
— Ты зришь в корень, — подтвердил его догадку Чингисхан. — Вы видите перед собой тринадцать тысяч камешков. Эти тринадцать тысяч — наше войско.
Мы окружили хана с его камешками, и он объяснил, что с помощью камешков мы можем разом обозреть все наши тысячи, чего нам в степи не удастся.
— Здесь, на совсем небольшом участке, лежат мертвые предметы. Но с ними мы испробуем разные способы ведения боя. И когда мы ими овладеем, мы перенесем их на предметы живые.
После этого Чингисхан объяснил, как тысячи будут изготавливаться к бою. Указывая на камешки, он говорил:
— Построение каждой тысячи будет таким: сто человек по фронту и десять рядов в глубину. В первом ряду мы на обоих флангах, обозначенных у нас синими камешками, поставим всадников в железных доспехах. И в таком построении мы с одной или несколькими тысячами, в зависимости от сил противостоящего нам противника, нанесем удар по фронту врага. Число наших воинов при таком ударе должно быть намного меньше сил противника, которого необходимо заставить при этом думать, будто перед ним все наше войско. Перед нашими воинами, которые нанесут прямой удар, стоит такая задача: после короткой и задиристой схватки наш первый ряд в тяжелых доспехах расступается и пропускает вперед легких всадников — на них будут доспехи из дубленой кожи — на быстрых лошадях, и они обрушиваются на превосходящие силы врага всеми девятью рядами, смешиваются с ним, раскалывают и распыляют его силы. Прежде чем враг поймет, что превосходство в численности на его стороне, и перестроит свои ряды, на него накинутся наши стоящие до времени в засаде тысячи — причем со всех сторон! — и разобьют растерянного и утомленного уже врага.
— Мой хан, — сказал Бохурчи, — такого наша степь еще не видывала. Благодаря твоей мудрости мы устрашим всех тех, кто не желает тебе повиноваться!
Остальные двенадцать военачальников поддержали Бохурчи и встали на колени перед теми полями, которые были как бы их тысячами. Каждый из них должен был переставить их так, как велел Чингисхан. А потом он показал еще, как они будут впредь обороняться. И здесь он отошел от прежних правил, приказав ставить в будущем крепость из повозок не по центру позиции, а на краю одного из флангов, чтобы враг принял это место за центр и сюда и направил свой главный удар.
— Его основные силы ударят по пустоте, а мы обойдем их и возьмем в железные клещи!
Прежде чем отпустить их, он строгим голосом повелел военачальникам:
— Передайте вашим воинам: кто начнет мародерствовать во время боя, будет немедленно казнен, потому что своими действиями он ослабит наши силы. Всю добычу мы разделим после боя по справедливости. Это мой первый закон, и я провозглашаю его под Вечным Синим Небом, зная, что он созвучен мудрости наших предков!
На следующий день Чингисхан снова созвал военачальников к Санггуру и велел каждому показать, что он понял из вчерашнего. Сидя под кедром, он молча наблюдал за тем, как они переставляли камешки, повторяя приемы, которые он им показал накануне. Вмешивался только в тех случаях, когда один из них допускал ошибку или серьезную неточность. Если же обнаруживал в ком-то из военачальников неуверенность в себе, если тот начинал, к примеру, запинаться, путаться или подолгу задумываться, он приказывал начать все сначала. Причем этот приказ хан отдавал спокойно, по-дружески и даже с улыбкой.
Вскоре тысячи, расположенные в строю, как камешки на желтом песке, выступили в открытую степь, чтобы испытать себя в новой игре.
Я скакал рядом с Чингисханом. Для наблюдения за маневрами он выбрал вершину пологого холма. Для начала тысячи испробовали новый способ построения: сто человек по фронту, десять рядов в глубину. Потом открывали первый ряд и пропускали девять рядов легких всадников, испробовали отход в сторону и захват в клещи, переход из засады в прямую атаку. В эту военную игру они играли с удовольствием и неподдельным воодушевлением.
Чингисхан сказал мне на холме:
— Об этом я в детстве подолгу мечтал у хунгиратов, Кара-Чоно!
— Об этой игре?
— Нет, дорогой друг, не об игре, а том, что за ней воспоследует!
Над полем битвы, на котором не было ни убитых, ни раненых, веял легкий ветерок. Победители захватывали и уводили пленных, но пленные улыбались, отпускали шуточки и распевали песни, и никто из них не страдал от голода или жажды, а стражники отпускали их на волю перед возвращением в орду.
Чингисхан спросил одного из проезжавших мимо воинов:
— Как тебе нравится новая игра?
— Очень! — воскликнул тот, высоко над головой подняв свой круглый щит. — Это куда увлекательней, чем даже охота, мой хан!
— Я вижу, ты из победителей?
— Я — да, мой хан.
— И еще я вижу, что ты десятник? Ты голова десятка, ее душа и смысл?
— Да, мой хан.
— И ты показываешь им, что и когда они должны делать?
— И это так, мой хан!
— Приблизься ко мне, воин!
Юноша взлетел на коне на холм и спешился перед нами.
Чингисхан сорвал со своего наряда драгоценный камень и протянул юноше:
— Пусть при виде врага твои глаза заблестят так же, как блестит этот камень! Возьми его!
— О мой хан! Да хранит тебя Небо, и да приумножит оно твою мудрость!
Солнце спускалось за кустами терновника, бросая красные лучи на тысячи играющих в военную игру всадников, волны которых перекатывались по ровной степи, подобно волнам широкого огненного моря.
Глава 10 КОЛЮЩИЕ ТЕНИ
После назначения меня начальником личной охраны Чингисхана вышло так, что я гораздо чаще, нежели прежде, находился в его непосредственной близости. Когда в лагере появлялись торговцы, которых Чингисхан склонен был принять лично, он привлекал к беседе с ними и меня. Я присутствовал при приеме иноземных послов и чаще всего первым узнавал о его новых мыслях и планах, потому что он всякий раз спрашивал меня, что я о них думаю. В такие часы я вспоминал о моем умершем отце, ибо если бы он вернулся из вечных высей, то порадовался бы сущности Чингисхана. Его опасения как будто не оправдывались, потому что хан был справедлив, строг и добр, а его благородную цель — объединить все живущие в кибитках племена в единый народ монголов — мой отец одобрил бы всем сердцем.
К нововведениям моего друга Темучина относилось и то, что он придумал службу «быстрых гонцов», которые сообщали нам обо всех важных событиях в соседних племенах или направлялись к ним с вестями от хана. Они разлетались во все стороны света, быстрые, как стрелы, вот их и прозвали «стрелогонцами». Чингисхан обязал соседние племена предоставлять им в любой час дня и ночи свежих лошадей. А так как хан чаще всего делал им приятные подарки и щедро угощал в своем дворцовом шатре, гонцы эти всегда с удовольствием собирали для хана сведения самого разного рода, а потом с радостью передавали ему, за что они опять-таки щедро вознаграждались. И поэтому наш хан всегда первым узнавал обо всем, что случалось в степи.
В один из жарких летних дней гонец доложил, что по пути к нам находится посольство из царства Хин{6} с намерением посетить хана и узнать о его способе правления.
— Должен ли я принять этих высокомерных посланцев из чужой страны? Ответь мне, Кара-Чоно.
— А почему бы тебе не принимать их?
— Они называют нас варварами, они насмехаются над нами, потому что мы живем в кибитках и кочуем со стадами по степи.
— Так ведут себя только торговцы, Темучин.
— А послы?
— Они тоже так думают, но, будучи умными, не подадут виду. Прими их, Темучин. Это послы от императора Чан-Суна. И если великий император отправляет послов в степь, он чего-то от тебя хочет, а раз он чего-то хочет от тебя, хана степи, ты тоже можешь чего-то от него потребовать.
Чингисхан улыбнулся.
— Я приму его, Кара-Чоно. Твой совет мне по душе. И хорошо, что они придут ко мне, а не к Таргутаю или Джамухе. Передай моей супруге Борте, чтобы принарядилась, скажи моей матери, чтобы надела самый дорогой наряд, прикажи моим слугам и поварам приготовить самые лучшие яства и напитки.
На другое утро высокое посольство прибыло в наш лагерь. Шестнадцать человек, шестнадцать маленьких мужчин, быстроглазых, узколицых и скорее бледных, чем желтых. В седле они держались очень уверенно.
Я дожидался их у начала маленькой улочки, которая вела к дворцовому шатру. Вдоль всей этой улочки стояли жертвенные алтари, на которых пылал огонь. Каждый, кто желал посетить хана, должен был пройти сперва мимо жертвенных алтарей, пройти сквозь огонь, чтобы очиститься от недобрых мыслей и злых умыслов.
При их появлении Чингисхан не поднялся, а остался сидеть на белой лошадиной шкуре и лишь слегка нагнулся вперед, переводя взгляд с одного посланца на другого и внимательно наблюдая за тем, как каждый из них занимает отведенное ему место.
— Принимать столь важных и высоких послов для меня и гордость и честь, — сказал хан. — Вы будете моими гостями, а кто мой гость, тот мой друг.
Когда слуги стали наполнять сосуды для питья, Борта и мать Темучина вместе встали и подошли к большой чаше для вина, чтобы собственноручно передать их послам.
Хан провозгласил здравицу в честь великой империи Хин. Потом встал один из послов, немолодой уже человек в платье солнечно-желтого цвета, и передал подарки: ожерелье из жемчуга, золотые кольца с красными камнями, посуду из фарфора и шкатулку из слоновой кости. Он осведомился о здоровье хана, о том, множатся ли его стада, и о том, намерен ли хан зимовать у этого озера, у этих гор или намеревается найти новое место для зимнего лагеря.
Новое место? Темучин бросил на меня быстрый взгляд. Я покачал головой, давая понять, что этот вопрос не должен вызывать его гнева, потому что китайцы задали его не для того, чтобы унизить нас за кочевой образ жизни. В конце концов, император послал их с каким-то своим поручением, а не для того, чтобы нас оскорбить.
Задав свои вопросы, послы ждали, что скажет хан.
— Я слышал от купцов, будто в вашей империи есть большие дома, которые плавают по рекам? Это правда?
— Это правда, досточтимый хан, — ответил один посол, не изменившись в лице, хотя мне почему-то показалось, что этот вопрос его позабавил.
— И еще я слышал от купцов, будто в вашей империи есть пути и дороги, которые идут поперек рек, не касаясь при этом воды. Это тоже правда?
— Это тоже правда, досточтимый хан. Эти дороги мы называем мостами, они ведут с одного берега реки на другой и способны нести на своей спине любой груз.
— Они из тяжелых камней?
— Да.
— А кто приводит в движение дома на реках? Кто посылает их вверх по течению?
— Ветер, досточтимый хан.
— Ветер, — повторил хан, бросив на меня недоумевающий взгляд.
На этот раз я не смог ни покачать головой, ни кивнуть, потому что и сам не знал, правда ли то, что сказал посол, или нет. Ветер, сказали они, ветер! И поскольку я опасался, что этот ответ хана рассердит, я быстро проговорил:
— А почему бы и не ветер, мой хан? Разве не ветер раздувает своим дыханием наши костры? Почему бы ему не гнать вперед и большие дома по реке?
Темучин улыбнулся:
— Я слышал, мои дорогие гости, что в вашей империи не так много всадников, как у нас в степи, и что ваших благородных господ носят в позолоченных повозках?
— То, о чем вам рассказали наши купцы и торговцы, правда, досточтимый хан.
— Правда, что их носят?
— Да.
— Мне непонятно, почему их носят — ведь у повозок есть колеса?
— У этих повозок нет колес, хан.
— Нет колес?
— Нет, досточтимый хан, — преспокойно ответил посол.
— Что же это за повозка без колес? Вы меня не обманываете?
Я почуял, что быть беде. Темучин вскочил с места. Я сделал ему знак, чтобы он опять сел. Чтобы улыбался, только улыбался, тонко и доброжелательно.
— Я говорю правду, — едва заметно повысил голос посол и тоже встал.
Чингисхан принял мой совет и сел. Он вдруг рассмеялся, он смеялся и покачивал головой, он смеялся так громко, что казалось стенки шатра заколыхались.
А потом, развеселившись, громко сказал:
— Мне ли не знать, что ты говоришь чистую правду. Принесите дичь! — крикнул он слугам.
И те поспешили покинуть шатер вслед за поварами.
После того как послы изъявили свою вежливость, а хан удовлетворил свое любопытство и долгая трапеза подошла к концу, посол передал хану послание своего императора. Его господин, сказал он, весьма обеспокоен. По его челу пробежали морщины озабоченности и горести. Свет солнца не радует его больше с тех пор, как большое татарское племя из степи перешло северную границу могучей империи Хин, грабит страну, убивает людей, обращает пленных в рабов и похищает все, что ему приглянется.
— Я слышал об этом, — на мгновение перебил посла хан и как бы снова обратился в слух.
Мне было легко себе представить, что он сейчас почувствовал, услышав эту весть: именно это племя татар, пригласив однажды его отца Есугея на пир, по-предательски убило его.
— Они перешли нашу границу уже в четвертый раз, — продолжал китаец. — Они принесли в нашу империю войну. Но ведь вот что происходит, досточтимый хан: всякий раз, когда наш достославный император Чан-Сун посылает против этих разбойничающих татар своих храбрых воинов, они избегают сражений и уходят в степь, куда мы за ними последовать не можем. До битв дело не доходит, а так как до них не доходит дело никогда, татары никаких потерь не несут и поэтому через короткое время опять проникают на нашу землю, не опасаясь возмездия.
— И чего же император хочет от меня? — спросил Чингисхан.
Поначалу посол решил на вопрос прямо не отвечать и сказал:
— На сей раз император решил строго наказать татар и…
— …послать за ними своих воинов, которые никогда татар не настигнут, потому что степь бесконечна?
Меня удивило, что Темучин сделал то, на что послы не решились: он насмехался над ними. На меня хан внимания не обращал, он так и впился глазами в лица китайцев.
— Мне поручено лишь передать просьбу моего императора, — ответил посол.
Хан приветливо кивнул, словно извиняясь за насмешку.
— И в чем же заключается просьба уважаемого мною императора?
— Вы должны отрезать татарам путь отхода и разбить их!
Хан поднялся и торжественно проговорил:
— Передайте вашему императору: с давних времен злой татарский народ враждебен нам, это люди, убившие моих предков и моего отца. Теперь мы возьмем их в клещи и разобьем по частям. Мы разгладим морщины на челе вашего императора, мы отомстим за свои обиды!
Меня не удивило, что он столь быстро принял решение. Подвернулся удачный случай слить просьбу владыки Китая с собственными помыслами: что может быть почетнее, чем разбить могучего противника? Меня удивило только, что он назвал татар «злым народом», хотя татары состояли из множества кочевавших по степи племен. И далеко не всех из них можно было обвинить в убийстве его отца. А те, кто не были за это в ответе, тоже жили в войлочных кибитках.
Впервые лица китайцев осветили улыбки. Они благодарили и кланялись. Пожелав им счастливого возвращения на родину, хан щедро одарил послов.
Когда они еще только уходили по улочке мимо жертвенных огней, Темучин уже повелел вызвать к себе самых надежных гонцов.
И через короткое время они уже покинули лагерь, вовсю нахлестывая лошадей и издавая воинственные крики.
В условленный день хан Тогрул со своим войском и воинами из нескольких дружественных ему племен появился в нашем главном лагере у Санггура, чтобы совместно с Чингисханом выступить против татар. Тогрул, глава кераитов, сказал, войдя в круг военачальников:
— Вы очень правильно сделали, избрав моего названого сына Темучина вашим владыкой! Да и как вам, монголам, обойтись без верховного правителя? Не нарушайте же и впредь клятвы, которую вы ему дали, не нарушайте же и впредь обещания, которые вы сделали, не разбегайтесь впредь, будто вы друг другу чужие!
Лицо Чингисхана оставалось приветливым, хотя Тогрул только что дал ему понять, что он по-прежнему остается для хана равноправным другом, но не более.
Когда спустился вечер, Чингисхан поинтересовался:
— А где же чуркины во главе с Сача-беки и Тайчу?
— Может, буря заставила их лечь на землю. Прячутся сейчас за телами своих лошадей в какой-нибудь низине и ждут, когда непогода уляжется, — предположил Тогрул.
— Будем ждать их!
Они прождали целую неделю, но чуркины так и не появились.
— Разве они не дали слова, что пойдут с нами на татар?
— Они дали нам такое слово! — ответили родовитые монголы и в знак гнева схватились за сабли.
— Тогда я брошу их неверные головы в степь! — воскликнул Чингисхан. — А теперь поскачем в сторону Семи Холмов. Пошлите немедленно гонцов к китайскому военачальнику Онгингу, чтобы тот велел своим воинам прогнать татар за пределы империи, в степь, где мы и возьмем их в клещи.
Я остался в лагере — так решил Темучин. Мне было поручено следить за порядком в нем и вместе с его телохранителями защищать шатры Борты и его старой матушки Оэлон-Эке. Когда Борта вместе с Джучи и двумя родившимися после него детьми ходила к озеру, я с телохранителями следовал за ней на почтительном расстоянии. Чаще всего они останавливались под могучим кедром, где лежало так много разноцветных камешков, изображавших в свое время войско. Военачальники давно выучили правила ведения сражения на память, и камешки были им больше не нужны, так что дети преспокойно могли играть ими. Борта учила их считать. Джучи она дала для счета красные камешки, Чагутаю — синие, а Угедею — белые. Сама же Борта время от времени бросала камешек-другой в воду. Видно, ей было скучно.
Вообще говоря, я мог наблюдать за всем этим от своей юрты. Я часто сидел с Золотым Цветком у открытого полога юрты. В эти дни все было удивительно тихо и спокойно; тысячи юрт стояли пустыми, а в остальных жили женщины с детьми. Мужчин было достаточно для ухода за стадами и табунами, остались в лагере и кузнецы, ковавшие доспехи, оружие и подковы, и еще плотники, сбивавшие загоны для скота.
Дожди не шли. Солнце пило воду из озера, и вскоре у Санггура появились белые песчаные отмели.
Как-то раз ко мне прибежал запыхавшийся человек:
— Ночью меня обокрали! — воскликнул он. — Пропала моя одежда! Помоги мне, Кара-Чоно!
Чем я мог помочь ему в почти необозримом лагере?
— Ты ничего такого не заметил, что помогло бы мне выйти на след?
— Ничего!
Случаи воровства в нашей орде можно было пересчитать по пальцам за долгие-долгие годы. Это преступление каралось у нас страшными карами. Потерпевший проводил меня к своей юрте, стоявшей на самом краю лагеря, где отроги Гурелгу сходят на нет и начинается густой лес.
Женщины причитали, а детишки держались за подолы широких материнских юбок и таращили на нас глазенки. Никто из них ничего не видел и не слышал. И вдруг прибежала женщина — вся в слезах и громко всхлипывающая:
— Моего мужа убили. Он лежит мертвый на окровавленных мехах в юрте. Он голый, одежду его украли! Помогите мне!
Только успела она договорить, как появились еще три женщины и, громко плача, принялись стенать: у всех у них тоже убили мужей и похитили одежду. Я услышал, как кто-то у меня за спиной сказал, что начальник охраны, мол, из низов и поэтому не способен поддерживать порядок в лагере.
Выбрав несколько человек из числа охранников, я поскакал с ними в близлежащий лес, потому что предположил, что ночью в орду проникли чужие, которые перед рассветом опять скрылись в густом лесу. Но мы не нашли ничего — ни следов, ни самих чужеземцев. Перед заходом солнца мы вернулись в лагерь, изорвав о сучья свою одежду в клочья. Тропинки в лесу мы не обнаружили и бродили по нему спешившись и ведя лошадей в поводу.
Ночью я расставил между рядами юрт часовых, которым я велел разложить костры, чтобы вся орда была освещена. Золотой Цветок я поселил в одном из шатров Борты, у которого стояли два охранника.
Выйдя из юрты, я столкнулся со старым шаманом и прорицателем Гекчу, который прочел на бараньей лопатке имя Чингисхана. Я спросил, нет ли на небе какого знака, который объяснил бы нам причину ночных убийств и грабежей.
— А еще они избили повара Шикиура, — сообщил мне шаман. — Он только-только проснулся и подумал, что они отправят его в вечные высоты. Он сильно замерз и весь дрожал, потому что его тоже раздели догола! Это еще вчера было.
— Вчера? Почему же мне не доложили?
— Повару было стыдно: он накануне сильно напился. Еще он сказал, что видел только тени, которые били его, только тени, темные тени; он не слышал, чтобы они переговаривались, да и вряд ли тени умеют разговаривать!
— Говорить они не умеют, а издают что-то вроде пения черного дрозда — слушать приятно, понять же ничего не поймешь.
— Он был пьян, Кара-Чоно, а кому вино ударяет в голову, у того разум уходит в ноги. Ведь так у нас говорят?
— Я спросил тебя о знаках, шаман!
Мы присели на большой камень поблизости от озера — это совсем рядом с кедром, под которым Борта учила детей считать. Начал накрапывать дождь.
Женщины и мужчины повыходили из юрт и, задрав головы к небу, подставляли лица крупным теплым каплям.
— В самые молчаливые ночи знаки неба видны особенно отчетливо, — начал шаман. — Вот в такой час я сидел перед своей юртой, прислонившись к еще теплому от солнца войлоку и закрыв глаза. Вдруг в воздухе что-то прошелестело, и я поднял веки. Меня облетела черная ночная птица с красными глазами, потом она еще дважды облетела мою юрту и полетела дальше, размахивая широкими крыльями, напоминавшими на фоне восходившего месяца разорванные черные шали. А потом эта птица села на верхушку самой дальней пустой юрты.
— Откуда тебе известно, что эта юрта пустая, шаман?
— Тысячи юрт стоят сейчас пустыми, — ответил он, глядя мимо меня в какую-то точку в темной пустоте, словно вызывая из нее воспоминания.
— Конечно, тысячи юрт опустели. Но откуда ты знаешь, что именно в этой сейчас никто не живет?
— Черная птица села на острый скат крыши. А разве птица останется сидеть, когда из-под решетки идет дым?
— Ты прав! И что же было дальше?
— Она трижды прокричала какие-то звуки, которые я не знаю, как истолковать. Птица кричала: «Урки-урки-урки!»
Мы смотрели на струи дождя, казавшиеся на фоне костра красноватыми.
— «Урки-урки!» — повторил я. — Небо не желает подсказать нам, что это означает?
— Почему? Оно сегодня уже сказало мне все, бросив мне эту шапку.
Я невольно вздрогнул от испуга.
— Да ведь это чуркинская шапка? Урки… Выходит, божественная птица кричала: «Чуркин!»
— Нет, она прокричала лишь «урки!», а уж небо добавило Ч и Н!
— Племя чуркинов не пришло на назначенную встречу, шаман! Чингисхан тщетно прождал их целую неделю. Откуда же взяться в нашей орде чуркинам и их шапкам?
Шаман промолчал, и мы опять долго смотрели на красноватые нити дождя.
— Отведи меня к юрте, на которой сидела ночная птица.
— Она пуста, Кара-Чоно, я проверял!
Когда шаман ушел, я залез на кедр и сел на крепкий сук, с которого был хорошо виден почти весь лагерь. Будь у меня побольше людей, я бы приказал им обыскать все стоявшие пустыми юрты. Но так раздробить свой небольшой отряд я просто не имел права. И потом, у меня никак не укладывалось в голове, что кто-то из чуркинов подло проникал в наш лагерь, чтобы убивать и грабить. Хотя они и нарушили данное хану слово, им вовсе не обязательно было проявлять к нам враждебные чувства, для оправдания своего отсутствия в войске хана они как-нибудь нашли бы благовидную причину.
Я еще долго сидел на суку кедра, привязавшись к стволу кожаным ремнем, чтобы не свалиться вниз, если я от усталости засну.
Дождь усилился. Поднялся ветер, порывы которого раздували костер. Кедр начал покачиваться.
Моя одежда промокла насквозь.
Отсюда я хорошо видел шатры Борты. В одном из них меня ждала Золотой Цветок. Мне было неприятно, что я оставлял ее подолгу одну, одну-одинешеньку, ей даже словечком перемолвиться не с кем. Наши законы запрещали ей обращаться к супруге хана, если та не обратилась к ней первой.
Расставленные мной часовые исправно ходили по рядам юрт мимо костров.
Вдруг я увидел темную тень, шмыгнувшую в белую юрту. Она исчезла и вскоре появилась вновь, набросилась исподтишка на часового, и тот со стоном рухнул на землю. А за ним упал и другой, он сжался в клубок в светлой луже и сразу затих.
Я торопливо спустился с кедра. Спускаясь, я видел сквозь ветви все больше юрт, у которых появлялись и сразу исчезали тени.
Лагерь спал. И было в нем уже немало таких, кто как бы тоже спали, а на самом деле были уже мертвы.
Я вскочил на коня и крикнул моим людям:
— Враги! Враги!
И вот этот крик уже звучит по всей орде.
Мимо юрт проносились всадники, стрелы вонзались в войлок. Крики, стоны, проклятья.
— Это чуркины! — воскликнул кто-то.
И тут же кто-то сбил его с лошади. За его спиной запылала юрта. Овцы вырвались из одного загона и убежали в темноту.
До настоящего боя дело не дошло. Опасность убить своего же ордынца была больше, чем желание убить чуркина. Вдобавок ко всему враг старался уйти от прямых столкновений и убегал под покров ночи. Грабить — этого он хотел. Но быть узнанным — нет.
Дождь все не переставал, и утро, прохладное и сумрачное, не спешило сползти с гор в долину. Последние чуркины бежали из лагеря. Они совсем пригнулись к гривам своих лошадей, скрывая лица.
Нам предстояло оплакивать десять убитых, еще у пятидесяти украли одежду, оружие и другое добро.
Я послал в степь две маленькие группы воинов: одни должны были по пятам преследовать чуркинов, а другие скакать навстречу возвращающемуся Чингисхану, чтобы сообщить ему о происшедшем. Оба отряда поддерживали постоянную связь между собой, и поэтому никаких трудностей для обнаружения чуркинов, племени небольшого и не слишком-то воинственного, не предвиделось. Как и для их наказания.
Три утра спустя Чингисхан во главе своего победоносного войска вернулся в лагерь, гоня впереди пленных чуркинов и их вождей Сача-беки и Тайчу.
Мы собрались на главной площади орды. Здесь росли три дуба. Чингисхан подъехал на своем белом жеребце к среднему дубу и проговорил, с трудом справляясь с овладевшей им яростью:
— Сача-беки и Тайчу! Вы — вожди чуркинов. Когда мы недавно приняли решение взять в клещи татар, ваших старых врагов, которые убивали наших дедов и отцов, вы, чуркины, предали нас — мы тщетно прождали вас целую неделю. А теперь вы, чуркины, придерживаясь обычаев врагов, разграбили наш лагерь, несколько человек убили и сами стали нашими врагами. Так это или не так, Сача и Тайчу?
— Это так, великий хан, — сказал Сача.
И Тайчу тоже сказал:
— Это так, великий хан.
— А о чем мы с вами договаривались и о чем условились, Сача и Тайчу?
— Мы не сдержали слово, хан. Поступай с нами как положено.
— Быть по сему! — воскликнул хан, выхватил из ножен тяжелую кривую саблю, взмахнул — и дуб словно ветром обдало. Мощная крепкая ветвь была перерублена и повисла на тонкой кожице. — Подставляйте ваши шеи, предатели!
И оба опустили головы.
Хан дважды поднял и опустил саблю. Один из охранников отбросил черноволосые головы далеко за дубы.
— А остальных чуркинов… измерьте по ступице повозки!
Под ликующие крики своих соплеменников он медленно проделал путь до шатров своей супруги Борты.
Як подтащил на главную площадь орды повозки с высокими колесами. Пленные стояли в пять рядов за дубами, а за ними наши воины с женами и детьми. Те женщины, чьих мужей подло ограбили и убили чуркины, плакали и покрывали пленных проклятьями.
Сквозь ветви дуба пробивались лучи солнца. И лица у пленных были зеленоватыми, а на некоторых из них иногда появлялись солнечные пятнышки.
Когда первых двоих подвели к повозке, толпа умолкла, наблюдая за ними и как бы мысленно измеряя их, хотя они еще не подошли к повозке. И вдруг раздался издевательский смех: эти двое пленных оказались столь низкорослыми, что не попадали под меру смерти — до ступиц повозки они головами не доставали. По небесным законам, их оставили в живых, обратив в рабов. Позже всех таких, кому дарована Небом жизнь, раздадут по большим семьям и приставят к работе.
По площади пинками прогнали еще двух чуркинов. Более высокий из них взывал к солнцу, падал на колени и умолял о пощаде, целовал сапоги стражника. Но его голова оказалась над ступицей. И воины обезглавили его.
Толпа хранила молчание.
Я пошел к дворцовой юрте Чингисхана. Он, победитель татар, встретил меня с улыбкой.
— Я отомстил за смерть отца, моей матери не придется больше плакать по ночам!
Потом он похвалил своих военачальников, особенно Бохурчи. Темучин сказал:
— Он все равно что юртовый пес: в бою у него краснеют глаза, он вгрызается во врага, а когда видит его кровь, он еще больше распаляется — и тогда он просто страшен и неукротим!
Хан протянул мне чашку горячего чая и возбужденно продолжил:
— Я видел однажды, как он со своими людьми поднимался на холм, за которым засело несколько татар. Его жеребец за время битвы совсем выдохся, пена свисала с него клочьями. Посреди склона он остановился, упрямо опустил голову — и ни с места! В Бохурчи полетели тучи стрел, как он не погиб, знает одно Небо. И тогда он ткнул острием кинжала в левую сторону шеи своего жеребца. Кровь так и брызнула. Бохурчи прижался губами к ране и наполнил рот его горячей кровью, словно побратавшись с ним. И тот сразу обрел крылья, он так и полетел вперед, увлекая за собой остальных, — и они затоптали татар!
— Я слышал, — проговорил я несколько погодя, — что китайский главный военачальник присвоил тебе после этой победы высокое звание?
— Да, он почтил нашу победу, присвоив моему названому отцу титул Ван-хана, а меня он отныне именует Чаохури. Мы с великим императором китайской империи теперь друзья и можем за наши границы не опасаться.
Темучин слегка улыбнулся и подошел к одному из многочисленных ящиков с захваченной добычей.
— Я дарю тебе эту серебряную чашу, а это дорогое платье — твоей красавице жене, Кара-Чоно. Моя супруга хвалила твою маленькую меркитку. Во время набега чуркинов она находилась в одном из шатров Борты?
— Да, Темучин.
— Ты правильно поступил. Случись с ней что, твое горе стало бы моим горем. Моя Борта сказала, как почтительно умеет хранить молчание твоя жена.
— Как это предписано законом, мой друг.
— А еще моя нежная Борта сказала, будто твоя маленькая жена одевается и тебе, и всем людям на радость.
— Она любит меня, Темучин.
— Хороших мужей узнают по хорошим женам, — сказал хан. — Когда жена глупа и злоблива, когда не содержит хозяйство в должном порядке и не умеет любезно принять гостей, все сразу видят в этом плохие свойства мужа. А когда у нее в руках все спорится, когда она ласково принимает гостей и угощает их на славу, это прибавляет уважения мужу и укрепляет его доброе имя.
Темучин поднялся, сделав мне знак следовать за ним.
В восточном углу большой дворцовой юрты он отбросил в сторону тяжелый бархатный полог. И мы оказались в небольшом полукруглом помещении, полностью обтянутом небесно-голубым шелком. В центре стояла золотая колыбель. На белом покрывале лежали бесчисленные жемчужины, большие и маленькие, походившие на капли росы.
— Это мои татарские трофеи, — проговорил он тихо, словно новорожденный уже лежал в колыбели, и слегка тронул кончиками пальцев драгоценную чудесную вещь, которая начала покачиваться туда-сюда.
— Если Борта вскорости родит и это будет мальчик, я назову его Тули!
Я видел счастье в его глазах. Они сияли, как жемчужины на покрывале в колыбели.
Когда я возвращался в свою юрту, мне у трех дубов повстречалось много народу. Рост пленных больше не измеряли по ступице высокого колеса в повозке…
Глава 11 С ЛУКОМ И МЕЧОМ
С каждой зимой у нас прибывало седины в волосах, каждое лето сгорало в боях и войнах и приумножало наши силы.
В то время как младший сын Чингисхана — Тули, качавшийся в раннем детстве в драгоценной татарской колыбели, еще хранил вместе с матерью огонь в отцовском шатре, его старшие сыновья Джучи, Чагутай и Угедей сражались бок о бок с отцом, покоряли чужие племена и народы, повергали в прах непокорных, не желавших склонить головы перед ханом. Скольких мы уже ни взяли под свою руку, как ни разрослось наше царство, еще хватало племен и народов, не присоединившихся к нам и не желавших слияния всех живущих в войлочных юртах.
Поздней весной года Кур{7}, когда мы снова стояли лагерем у голубого Керулена, в орду примчался стрелогонец.
— К хану! Я немедленно должен предстать перед ханом! — крикнул он, спешиваясь с разгоряченного коня.
Я сопроводил его. Все лицо гонца было покрыто степной пылью.
— Что случилось? — резким голосом спросил Темучин, взглянув в глаза стрелогонца. — Ты стоишь передо мной с таким видом, будто за тобой гнались тысячи духов!
— Мой хан! — выдавил из себя гонец. — Прости, что мой язык, передававший тебе так много добрых вестей, на сей раз приносит дурную: твой бывший друг Джамуха признан нашими врагами Гур-ханом, верховным правителем степи. Он объединил вокруг себя тайчиутов во главе с Таргутаем, трех вождей с остатками войска меркитов, многочисленные татарские народы и другие племена, которые ты пощадил. Они желают тебе зла. Прости мне, хан, что мой язык донес до твоего слуха такую обидную весть.
— Созовите ко мне всех благородных. Я хочу держать с ними совет! — повелел Темучин.
Потом он отослал из шатра своих телохранителей, слуг он тоже отправил прочь, даже того, который всегда стоял за его спиной и отгонял павлиньим пером надоедливых мух.
— Пусть Борта тоже оставит нас. И пусть матушка последует за ней.
— А я, Темучин?
— Останься, Кара-Чоно! Разве ты не был всегда рядом со мной? Ты ведь знаешь, что вот-вот появится еще один стрелогонец с куда горшей вестью. Ты должен выслушать ее. Наши сердца будут болеть, потому что Джамуха когда-то был нашим другом.
— Однако отчего же ты отослал женщин? Ведь это они посоветовали тебе когда-то расстаться с Джамухой?
Чингисхан сел на свое место. Взял в руки маленькую китайскую чашку, по дну которой полз искусно нарисованный изрыгающий огонь дракон. Взвешивая чашку на ладони, Темучин с улыбкой проговорил:
— Я не желаю, чтобы меня вторично оскорбляли в присутствии моей супруги Борты и моей старой матушки Оэлон-Эке. И чтобы причиной этому стал Джамуха. Низкородный оскорбляет высокородного! Он, предки которого стерегли в прошлом стада овец да баранов, желает возвыситься надо мной, предкам которого принадлежали огромные табуны лошадей. Я проклинаю его!
Его пальцы сжали тонкий сосуд из фарфора, и чашечка сразу треснула и рассыпалась на куски.
— Джамуха! — сказал он. — Джамуха, ты был другом моего детства, мы обменивались с тобой подарками!..
Рука хана разжалась, и осколки чашки упали на пестрый ковер. Они были такими же красными, как раздавленный дракон, а из ладони хана капала кровь.
Я сразу опустился перед ним на колени, приник губами к ранкам и высосал из них кровь.
Немного погодя он негромко проговорил:
— Жаркая ненависть обуревала меня, боль стучала в моих висках. Сейчас она ушла с кровью, я успокаиваюсь, Кара-Чоно. Посмотри, появился ли уже в орде второй гонец.
Вовсю светило солнце, украшая реку, долину и лес, но моих грустных мыслей оно не смягчало. Телохранители вопросительно взглянули на меня, подводя коня. Я молча оседлал вороного и поскакал к Керулену по широкой дороге, идущей вдоль берега, — гонец должен был появиться с этой стороны. На высоком ясене передрались сороки, но я не обратил бы на это внимания, не упади прямо передо мной в седло несколько красных ягод. Я задрал голову и услышал у себя за спиной чей-то тихий призыв:
— Чоно! Мой Чоно!
О-о, я прекрасно знал этот голос! Лишь драчливые сороки были повинны в том, что я не сразу заметил поднимавшуюся от реки с кувшинами воды жену, мой Золотой Цветок. Она стояла передо мной в платье из ярко-красного бархата.
— Куда пропал блеск в твоих глазах, Чоно? Хан был недобр с тобой?
— В глазах хана тоже нет блеска, Золотой Цветок.
— А у Борты?
— И у нее тоже нет!
Я поднял Золотой Цветок на лошадь.
— Значит, в ближайшие дни мы не будем сидеть с тобой у реки? И не будем удить рыбу? И не будем мечтать вместе? И спать под одной крышей, Чоно?
— Похоже, так, Золотой Цветок. Сказать больше мне запретил хан!
— Ты все сказал, Чоно! — И в ее глазах тоже пропал блеск.
У въезда в орду, где стояли первые юрты и начиналась ровная степь, раздался крик, который полетел быстрее, чем сам всадник!
Люди кричали:
— Дорогу! Дорогу! Гонец!
— Гонец!
Люди отпрыгивали в сторону. Дорога пылила. Было слышно, как гонец настегивает лошадь и подбадривает ее громкими возгласами.
Опустив Золотой Цветок на землю, я помчался впереди стрелогонца, указывая ему путь к дворцовой юрте нашего властителя. Однако под гонцом оказался такой быстроногий скакун, что он опередил меня, и я не без труда держался сразу за ним. И именно в то мгновение, когда гонец спрыгнул с него перед улочкой жертвенных алтарей, его скакун рухнул замертво. Гонец, едва переставляя ноги, шел мимо очистительных огней к шатру. Перед самым входом я догнал его. Телохранитель поднял тяжелый синий полог, и мы оба предстали перед ханом.
— Вот он! — обратился я к Темучину, сидевшему к нам спиной. — Пусть говорит?
Чингисхан кивнул, не поворачивая головы.
Гонца всего трясло от страха. Он уставился на спину хана и на его черную косицу и никак не мог начать. Наконец выдавил из себя:
— Джамуха достиг сегодня ночью берега Аргуни и поклялся Вечному Небу…
— Твой голос дрожит, гонец! — перебил его Темучин. — Тебе нечего бояться. То, что я не поворачиваюсь, относится не к тебе, а к словам Джамухи, которые ты должен передать. Продолжай, говори, как будто я не что иное, как огромный синий валун, который не в силах расколоть никто.
— О хан, Джамуха со своими людьми поклялся самой высокой клятвой, которая только есть в нашей степи. Они принесли в жертву жеребца, быка и барана, а потом воззвали к Небу и земле и дали клятву, что с каждым, кто нарушит слово, будет то же.
— Продолжай, не медли! Что было дальше?
— Они срубили на берегу Аргуни могучие деревья и столкнули их в воду с криками…
— Почему ты умолк, гонец?
— Срубая каждое дерево, которое они сталкивали в реку, они кричали: смерть…
— Продолжай!
— Смерть Темучину!.. Мой хан, в том, что язык мой осквернен, вина Джамухи.
— Теперь ты передал мне все слова?
— Все.
— И в горле у тебя больше ничего не застряло?
— Ничего, мой хан!
Теперь Темучин повернулся и сказал гонцу:
— Не передать важную весть куда хуже, чем передать самые грязные слова, если сделать это — твой долг!
Когда гонец был отпущен, Чингисхан приказал созвать всех военачальников. Они могли съехаться в орду не раньше полуночи, и поэтому я остался у хана. Мы сидели на толстом пестром ковре. Мой друг размышлял, и я не нарушал молчания. Он не смотрел на меня — и я не смотрел на него. Но я знал, что мое присутствие ему по душе. Он не отводил глаз от орнамента на ковре, и тот, наверное, оживал перед мысленным взором Темучина. Может быть, он представлял себе, что широкая синяя полоса, бегущая по краю ковра, это Онон, а желтое поле перед ним — степь. И возможно, красные пятна на желтом поле были для него войском Джамухи, а зеленые — войском Таргутая. Черные же — наши тысячи? А может быть, все было вовсе не так и длинные продольные полосы оставались для него просто полосами, пятна — пятнами, а красивые вьющиеся цветы — обыкновенными украшениями?
Мы просидели молча довольно много времени, пока он вдруг не перевел взгляд на меня и не сказал:
— Сколь ни удивительны китайские мосты из тяжелого камня, Кара-Чоно, для войны они непригодны. Какой прок в мосту, по которому может пройти и враг? Я поведу мое войско навстречу Джамухе и перейду Онон в самом широком месте, построив мост из тысяч связанных лошадей; мы ворвемся на другой берег по спинам наших лошадей, прежде чем Джамуха поймет мой замысел. А когда мост снова исчезнет — будет уже поздно.
Я сказал Темучину, что мне его уловка с живым мостом очень нравится, но умолчал о том, что мысль о битве на левом берегу реки меня страшит. Куда нам отступать в случае сильнейшего ответного удара? Ведь за спиной у нас будет река! Это против всех правил ведения военных действий, которых мы до сих пор придерживались. Что же было на уме у Темучина? Не может быть, чтобы в его план закралась такая сокрушительная близорукость.
Хан сидел, не произнося ни слова, но он отлично понимал, насколько меня удивил его план. Похоже, он ожидал моих возражений, ему всегда нравилось, когда один из его ближайших приближенных находил в его замыслах некие изъяны, которые на самом-то деле чаще всего оказывались ловушками, которые нарочно подстраивались им, чтобы ввести врага в заблуждение. Чтобы доставить ему это удовольствие, я осторожно спросил:
— Ты хочешь дать битву на левом берегу Онона, Темучин?
— На левом, Кара-Чоно, чтобы река была у нас за спиной.
Теперь до меня дошло. «Чтобы река была за спиной!» — сказал он, как бы завлекая меня в ту же ловушку, которую уготовил для врага, — и получая тем самым подтверждение правильности своего замысла. И хотя ответ уже вертелся у меня на языке, я некоторое время еще молчал, словно воды в рот набрал. Может быть, это заставит его посвятить меня в свой план поглубже.
Стражник положил о прибытии нойонов, представителей самых знатных родов.
— Пусть подождут! — отмахнулся хан.
Сейчас его больше всего интересовало мое мнение; лишь проверив свой план на мне, он был готов изложить его своим военачальникам.
— Почему ты молчишь, Кара-Чоно?
Мы посмотрели в глаза друг другу.
— Скажи мне всю правду, Кара-Чоно. Как прежде, когда я не был еще твоим ханом.
— Если ты принял решение сражаться на левом берегу Онона, то я, дорогой Темучин, вижу в этом княжескую ошибку!
Так он сам называл «встроенные» ошибки.
— Почему это? Разве тебе известен весь мой замысел?
Он возбужденно вскочил, подбежал к бочонку с крепким кумысом и налил себе полную чашу, не сводя с меня глаз.
— Потому что ты слишком умен, чтобы допустить такой просчет.
— А Джамуха? — Темучин подошел ко мне вплотную. — Сочтет ли Джамуха это княжеской ошибкой или примет за мой просчет?
— Не могу сказать точно, потому что не знаю, что ты замыслил.
— Джамухе мой замысел тоже неизвестен.
Вошел другой стражник и тоже доложил, что нойоны дожидаются приема.
— Пусть наберутся терпения! — опять отмахнулся Темучин.
— Чтобы судить о ценности этой княжеской ошибки, Темучин, лишь одно важно: разгадают ли ее. И если да, то когда.
— Ты прав.
— И еще. Чтобы судить об этом, нужно знать весь план, который известен одному тебе.
— И тут ты прав, Кара-Чоно.
Он с улыбкой проводил меня к выходу из шатра, сам откинул синий полог и отпустил меня. Не успел я сделать и двух шагов, как он подозвал меня к себе и прошептал на ухо:
— Я утоплю их всех, просто утоплю, и все. И не где-нибудь, а в Ононе, Кара-Чоно, в Онон-реке, на левом берегу которой мы будем сражаться. Слышишь, на левом!
— Спиной к реке, я знаю, Темучин, — сказал я и рассмеялся.
— Нет, лицом к реке!
И тут мы оба расхохотались.
На сей раз хан Тогрул со своим войском появился у Керулена вовремя, чтобы соединиться с воинами своего названого сына. Вождь кераитов сказал:
— Мой младший брат Джамуха вознамерился возвыситься над всеми нами. И теперь мы уменьшим его войско, чтобы впредь его слова тоже весили меньше. Он напоминает мне змею, проглотившую крысу. Она делается толще, но не умнее.
— И вдобавок становится сонливее после такой добычи, не правда ли, мой царственный отец? — добавил Чингисхан.
Это был намек на план Темучина, в который он к тому времени успел уже меня посвятить. На левом берегу Онона вдоль реки должна была очень быстро встать большая орда, точь-в-точь повторяющая своим видом наши прежние лагеря. В этой орде будет все, что положено: тысячи юрт и кибиток, полным-полно снеди и напитков — да, вкусных и одурманивающих напитков. Золотая и серебряная утварь и посуда, в ней — остатки еды, словно кто-то здесь совсем недавно пировал, а потом бросил все как есть, чем-то страшно напуганный. Все будет в этом лагере, и только одного не будет — его обитателей. Хан отдал еще такой приказ: пусть по вечерам в лагере горит больше огней, чем сияющих звезд на небе. Поддерживать эти костры будут те воины, которых мы оставим там, чтобы они в самый подходящий момент затеяли для вида сражение с Джамухой.
Оставив в этом месте, где должен был возникнуть таинственный лагерь и где Онон был совсем узким, одну тысячу воинов, мы с главными силами и войском хана Тогрула пошли на север, где Онон разливается во всю свою ширь. Разведчики доносили, что степь пуста и что они никого не обнаружили — ни людей Джамухи, ни Таргутая поблизости нет.
Тем не менее Чингисхан отдал приказ немедленно связать лошадей ремнями и загнать в воду. По двадцать пять животных в ряд, крупом к крупу, телом к телу — так мы и погнали их в реку, а за ними еще двадцать пять, которых мы связали с первыми. Они испускали испуганное ржанье и вертели головами, стараясь держать их повыше над водой. Стояла светлая лунная ночь, в глазах лошадей жил страх и отражалось бледное небесное светило. Чем больше лошадей мы загоняли в Онон, чем длиннее становился живой мост, тем больше бурлила и пенилась вода, тем больше брызг обдавало прибрежные кусты.
Первым по спинам лошадей перебежал на другой берег наш хан. А уже за ним — тысячники, сотники и десятники. Когда все войско оказалось на другом берегу, мы вывели из реки лошадей и сняли связывавшие их ремни.
Всходило солнце.
В густой траве залегло огромное число воинов. Большинство из них спало. Уставшие после многочасовой скачки, утомленные тяготами долгой ночи, они словно пытались вернуть себе силы, вжимаясь в родную степь. Но хан не собирался дать им отдыхать долго. Он собрал вокруг себя военачальников. Всех, даже тех же десятников. Причем им он уделил особое внимание. Подойдя к одному из них, спросил:
— Какой ряд ты ведешь?
— Тринадцатый слева, мой хан!
— А кто заменит тебя, если убьют?
— Гамбу!
— Веди меня к нему!
Вместе с десятником Темучин неслышно шел по росистой траве, переступая через спящих и обходя лошадей.
— Вот Гамбу, он спит, мой хан!
— Разбуди!
— Гамбу! — заорал десятник и ткнул спящего носком сапога в бок.
Юноша вскочил на ноги, с испугом глядя на своего властителя. Ему почудилось, будто все это ему снится, но быстрый вопрос хана сразу привел его в чувство.
— Какой ряд ты поведешь, если твоего десятника убьют?
— Тринадцатый, мой хан!
— Тринадцатый? А разве не тридцать третий?
— Нет, тринадцатый, тринадцатый, мой хан!
— Выходит, он справа…
— Слева, мой хан, обязательно слева!
— Хорошо, Гамбу, тринадцатый слева! — И хан с улыбкой удалился.
Проверив таким же образом еще с полдюжины десятников и их помощников, он велел тысячникам вывести своих воинов в степь и занять те лощины и низины, которые он им указал. И вот там, выставив часовых, они могли теперь отдохнуть. День, а может быть, и два — до нового приказа!
Мы стояли на каменистой вершине холма, склоны которого скудно поросли травой. Ни деревца, ни кустов — никакой тени. Темучин запретил ставить юрту для себя одного.
— Разве у моих воинов есть крыша над головой? — сказал он и, улегшись на войлочный мат, долго не сводил глаз с неба, по которому бежали грозовые тучи. Четыре телохранителя из знатных семей сидели рядом с ним и берегли его сон.
Вдруг пошел дождь. Но хан не просыпался. Вернее, не открывал глаз и только натянул на лицо свой кожаный шлем. А когда дождь усилился, я приказал телохранителям держать над ним прочное льняное покрывало.
До самого вечера один за другим прибывали гонцы от военачальников и докладывали, что их тысячи заняли предписанные позиции. Хан Тогрул тоже прислал гонца. Наконец из разбитого у Онона мнимого лагеря мы узнали, что оставленные там воины «разожгли больше костров, чем есть звезд на небе».
Но Джамуха все не появлялся.
— Он хочет переждать дождь, — сказал Темучин.
— А Таргутай? Разве он не вырос под дождями?
— Я знаю, он всегда грабил в непогоду, как шакалы и волки. Однако сейчас, Кара-Чоно, он под началом у Джамухи и будет во всем ему подчиняться.
Когда совсем рассвело и хан с его окружением радовались первым теплым лучам солнца, почти одновременно на вершину холма вылетели три стрелогонца.
Первый сказал:
— Острие копья войска Джамухи замечено в Долине Антилоп!
Второй доложил:
— С ним весь его народ, с повозками, стадами и табунами, женщинами и детьми.
Темучин рассмеялся.
— А ты почему молчишь? — обратился он потом к третьему гонцу.
— Таргутай со своими воинами идет справа от войска Джамухи. Если смотреть отсюда, это будет вдоль ручья, мимо вон той горной гряды. Он тоже ведет с собой весь свой народ.
— В Долине Антилоп, значит, — раздумчиво повторил Чингисхан.
Эта новость вот что значила: Джамуха все еще думал, что мы стояли лагерем у Керулена. И раз он шел с женщинами, детьми, стадами и табунами, значит, решил оставить их на берегу Онона, чтобы в бою быть с развязанными руками, как у нас говорят. И так как Долина Антилоп была южнее нашей «безлюдной орды», возникала опасность, что он в нашу западню не попадется. И тогда, предположим, он разграбил бы наш лагерь, а мы его, но битвы бы мы не выиграли, а слава Джамухи как Гур-хана только возросла бы.
И вот уже помчались на юг стрелогонцы Чингисхана, чтобы передать той тысяче, что была оставлена на ложной стоянке, его приказ: немедленно выдвинуться в сторону Долины Антилоп, напасть на передовые отряды Джамухи и Таргутая и, отступая в сторону пустой орды, завлечь все-таки врага в западню.
Своим основным силам Чингисхан приказал выступить в открытую степь, причем вождь кераитов, Тогрул, должен был стоять по правую руку от самого хана.
Я все время оставался рядом с Темучином. Мы неторопливо скакали впереди той тысячи, что двигалась слева от Онона строго на юг. Над нашими головами в сторону светло-синей реки и зарослей камыша пролетали чайки. Криков этих птиц мы не слышали, потому что в наших ушах стоял гул топота тысяч и тысяч копыт. Я видел, как над водой то и дело взмывают серебристые спины рыб. Может быть, в это самое время у Керулена сидела моя Золотой Цветок и видела в воде мое отражение, как я видел в волнах Онона ее и мечтал о том, о чем мы всегда мечтали вместе.
К вечеру вода в реке посерела. Пыль лениво тащилась за нами, с лошадиных морд срывались на ветру клочья пены.
Когда разведчики доложили, что до ложного становища совсем недалеко, хан приказал остановиться и разбить лагерь. Пока что огней мы не видели и шума битвы не слышали, но гонцы доносили, что тысяча, как и приказано, отступает, увлекая противника в сторону пустого лагеря, и несет при этом тяжелые потери.
Мы выжидали, лежа в траве и прижимаясь к теплым телам лошадей. Лунный серп утонул в реке. Веявший с реки холодный ветерок шелестел в камыше. В болоте у Онона квакали лягушки.
Вдруг ночь словно онемела.
И поэтому одинокий крик птицы показался особенно пронзительным.
В щетиннице закрякала утка.
Снова полная тишина.
Я перевернулся на спину. Из ноздрей моего жеребца меня обдавали струйки теплого воздуха. Я смотрел на небо, столь же бесконечное, как и наша степь. Там, наверху, цвели звезды, а здесь, внизу, цветы.
Звезды! Сколько их сегодня насчитает на небе Моя Золотой Цветок?
— Пора, — прошептал Темучин, прижавшись ухом к земле.
Лошадиный топот приближался к нам с трех сторон. Почти одновременно к нам примчались семеро гонцов, семеро юношей на разгоряченных скакунах.
Чингисхан поднялся на ноги.
— Джамуха ворвался на стоянку и грабит ее.
— Пусть грабит, — ответил хан. — Я нарочно оставил для него дорогие вещи — пусть опьянится ими! Его воины задохнутся от жадности. Я отдал приказ моему войску во время битвы грабежами и мародерством не заниматься. И сегодня я покажу вам, какой в этом приказе смысл. — Вскочив на своего жеребца, он воскликнул: — По коням, воины! Сабли и мечи наголо! Остальные — за топоры!
— Мой хан! — один из стрелогонцев приблизился к нему. — Мы еще не обо всем тебе доложили.
— Говори!
— Той тысячи, мой хан, которая напала на главные силы Джамухи и с боем отходила в сторону лагеря-приманки, как ты и приказал, больше нет. Тысяча черных голов разбросана по степи.
— Я этого ожидал, брат, когда послал их в бой. Есть другие вести?
— Нет, мой хан.
— Тогда взгляни на небо, юноша. Вот куда ушла тысяча смельчаков! Они поднялись в вечные выси и взирают сейчас оттуда на нас вместе со звездами. Разве стали бы мы иначе говорить о всемогуществе Вечного Синего Неба? Вперед, мои воины!
Степь задрожала.
Трава ломалась под копытами лошадей.
Испуганно разлетались по сторонам ночные птицы.
С боевыми кличами на устах войско растекалось по степи, как этому его научил во время боевых игр хан. Черными волнами покатился этот могучий поток, вздымая огромное облако пыли. Всадники то исчезали в низинах, то перекатывались через холмы, сближаясь с врагом, который, утомившись после грабежа, пировал в пустой орде. Или спал.
Мы напали на них на исходе ночи, как раз начало светать. Еще до того, как битва стала битвой, ее исход был предрешен. Трупы убитых сносило вниз по Онону, утопающие испускали предсмертные вопли, а пленные молили о пощаде.
В то время как хан Тогрул преследовал бегущего Джамуху, Чингисхан гнал перед собой рассеянных им тайчиутов, преследуя их вплоть до Долины Антилоп. Она лежала перед нами, как распластанная шестиугольная шкура яка, простираясь до высоких холмов, с которых мы и спустились на конях и с гиканьем понеслись на врага. Как вдруг Темучин упал с коня.
Я бросился к нему и прикрыл хана своим телом, защищая от тайчиутских стрел, с шипением летевших над нами и попадавших либо в кусты, либо в валуны.
— Темучин! — вскричал один из тайчиутов.
И тут же пятеро других воинов откликнулись:
— Да, это был Темучин!
— Добейте его! — приказал один из тайчиутских начальников.
— Смерть Темучину!
Я поднял голову. Телохранители хана сражались спиной к каменистому склону холма, у которого лежали мы, они отбивались мечами и топорами с длинными древками. Лошади то и дело падали в пропасть, увлекая за собой и побежденных, и победителей. Хриплые гортанные крики летели к синему небу — это были возгласы храбрецов, презирающих смерть. Телохранители словно сами обратились в камень, став одним целым с камнем у них за спинами. У их ног лежал хан, которого я защищал, и только теперь заметил, что ему в шею попала стрела.
— Мой хан, мой друг! — испуганно выдавил я из себя и принялся высасывать кровь из его раны. Я высасывал смерть из его жил и сплевывал ее в траву.
У этой каменной стены мы провели еще несколько часов, в то время как в долине сражение продолжалось. Когда рана хана перестала кровоточить, он сказал:
— Внутри моих глаз опять зажегся свет. Дай мне попить, Кара-Чоно!
После этого он приподнялся и прислонился спиной к теплому валуну.
— Где Джамуха?
— Не знаю, Темучин. Вестей от хана Тогрула пока нет!
— А Таргутай где?
— И это мне неизвестно, Темучин. Но я думаю, Бохурчи преследует его по степи, как собаку, бегущую с высунутым языком. И если потребуется, будет гнать его до того места, где заходит солнце и кончается земля.
Хан улыбнулся. А я снял с его раны успевшую засохнуть траву и приложил только что сорванную.
— Тебе лучше прилечь, Темучин. Может случиться, что на твое тело нападет жар и начнет трясти тебя.
— Хочешь, чтобы враг сказал обо мне: «Вот он, валяется»?
И хан поднялся на ноги, цепляясь пальцами за трещины валуна. Потом он перевел взгляд на солнце и спросил, посветлели ли его глаза и снаружи.
— Они сияют, Темучин.
— Вот видишь, они сияют. О солнце! — торжественно проговорил он, снимая ремень и вешая его себе на шею. Потом он низко-низко поклонился, как делал всегда, воздавая хвалу красному диску.
В Долине Антилоп пленных сгоняли в огромную кучу. На них уже пали тени холмов. Один из наших врагов, отбросив лук и меч, торопливо взбирался на холм, туда, где стояли мы с Чингисханом. Его, даже безоружного, телохранители к хану не подпускали.
— Это тайчиут, — кричали телохранители. — Мы убьем его!
— Пропустите его ко мне, — приказал Темучин. — Я хочу услышать, что скажет мне его рот.
— Меня зовут Джирхо-Адай, — сказал тот. — И это я выпустил в тебя стрелу, я стрелял с холма.
Телохранители так и подскочили к нему.
— Пусть договорит, — поднял руку хан.
— Если я сейчас должен принять смерть от владыки, то от меня останется горсть праха величиной с ладонь, — начал он. — Но если меня помилуют, я буду бросаться на врагов владыки впереди него, не важно, придется ли мне для этого бросаться в глубокую воду или разбивать крепчайший камень. По приказу «Иди!» или по приказу «Увлеки врага на себя!» я помчусь вперед, даже если мне для этого придется пробиваться сквозь толщу камня или море огня.
Хан сделал телохранителям знак отпустить пленного. Он сказал:
— Воин, действовавший как враг, обычно скрывает, кого он убил или кому причинил зло, его уста об этом безмолвствуют. А этот, напротив, ни о чем не умалчивает — ни о том, кого убил, ни о том, кого ранил. Он говорит об этом открыто. Такой человек способен стать моим сподвижником. Тебя зовут Джирхо-Адай. Ты пустил в меня стрелу, я буду тебя звать Джебе, Стрела. Ты будешь сопровождать меня в походах!
После этого один из сотников подвел к хану плачущую женщину и сказал:
— Она все время кричала и требовала тебя, Чингис! Она стояла вон там, внизу, под кедром, и без конца причитала: «Темучин, помоги мне! Где Темучин?! О Темучин!»
— Как ты могла звать меня, когда я тебя не знаю? — спросил хан. — Кто ты, что позволяешь себе звать меня, будто я твой друг?
— Я дочь Сурхан-Ширы, Темучин, — слова срывались с ее губ как соленые слезы. — Твои воины схватили моего мужа, чтобы убить его. Я плакала, я кричала, я взывала к тебе, Темучин, я надеялась, что ты спасешь моего мужа.
— Пусть твоего мужа немедленно освободят! Я пошлю гонца!
— Мой муж мертв! Тебе незачем посылать гонца, Темучин. Они убили его, потому что ты не услышал моих криков.
Слезы лились из ее глаз ручьем и стекали по носу и щекам на шею. У нее, полубезумной, с растрепанными волосами и расцарапанным ногтями лицом, был такой же отталкивающий вид, как у любой бьющейся в припадке женщины.
— Я готов плакать вместе с тобой, — попытался утешить ее хан. — Однако, когда ты звала меня, я, раненный, лежал у этого валуна и глаза мои ничего не видели, а уши ничего не слышали. Как я мог прийти тебе на помощь?
А тем временем к нам нерешительно приблизился старик с низко опущенной головой. Чингисхан принял его ласково:
— Я рад наконец встретиться с тобой, дорогой Сурхан-Шира. Ты сбросил черное ярмо с моей шеи и моего друга, ты отшвырнул их той злосчастной ночью далеко на землю — ты снял с нас эти позорящие мужчин ярма. Ты сослужил мне большую службу. А вот теперь горе постигло твою дочь. Но разве я в нем повинен? Ведь сколько людей пришли ко мне за последние годы — тебя среди них не было.
Сурхан-Шира, не поднимая глаз, тихо проговорил в ответ:
— Поспеши я и приди к тебе раньше, Таргутай убил бы и развеял по степи прах моей жены, моих детей, мои стада. Вот какие мысли занимали меня, Темучин, и вот почему я только сегодня пришел, чтобы присоединиться к тебе.
Хан по-прежнему стоял, прислонившись спиной к стене. Солнце освещало еще его лицо, но он, не отрывая рук от камня, был бледен, как никогда, и лицо его страшно осунулось. Недовольный тем, что Сурхан-Шира так и не поднял на него глаз, Темучин несколько запальчиво проговорил:
— Кто обращается к другому и не глядит ему в лицо, а предпочитает разглядывать свои сапоги, тот своих слов не обдумал и смысл их неглубок. И хотя я разделяю печаль твоей дочери и твою, я не принимаю на себя вины за его гибель. Не принимаю и упреков.
— Так ты примешь меня, Темучин? — спросил седовласый старик.
— Да.
— Разве нужен тебе человек, который колеблется, потому что стар и мысли его состарились вместе с ним, который плохо видит и не сразу соображает, который плохо слышит, потому что за долгую жизнь эти уши слишком много слышали? Нужен тебе такой человек, Темучин?
Сурхан-Шира бесстрашно смотрел в сторону скалы, где стоял хан.
— Я уважаю старость, — ответил Темучин. — Но принимаю тебя не только поэтому, но и потому, что не будь тебя, сейчас не было бы и меня.
Довольный этим ответом, старик медленно спустился с холма вместе со своей заплаканной дочерью. И вот он уже исчез за кустами в толпе.
Хан потребовал коня.
Я стал отговаривать его, предлагая заночевать здесь и дождаться утра. Он потерял много крови, сильно ослабел, и долгой скачки ему не выдержать. Но он моему совету не внял, а пошел к жеребцу, которого ему подвел телохранитель. Я видел, как он заставлял себя идти прямо, и поспешил помочь ему сесть в седло. Но он от моей помощи отказался, причем вид у него при этом был недовольный. Едва сев в седло, он почти тут же упал на землю, на камни, а жеребец, оставшись без всадника, пугливо отбежал в сторону. Хан лежал на камнях и не шевелился; из шеи опять потекла кровь, потянулась струйка крови и изо рта, и я, упав рядом с ним на колени, второй раз за этот день приник ртом к его ранам, высасывая и сплевывая смерть на траву. Он совсем затих, мой хан! Он не видел ни захода солнца, ни первых появившихся на небе звезд, не слышал, как Бохурчи сказал мне, что пленил семьдесят тайчиутских вождей, и среди них Таргутая, не слышал и того, что гонцы от хана Тогрула доложили, что тому не удалось взять в плен Джамуху.
Я приказал поставить юрту.
Мы положили хана на войлочный мат, и я остался рядом с ним. Я провел с ним всю долгую ночь, бодрствуя, как бодрствовали снаружи стражники, звук шагов которых звучал так же равномерно, как и шум камнепада.
Когда в решетку юрты заглянула луна, хан начал бредить. Голова его горела, а тело было ледяным.
— Ты меня узнаешь? — спросил я моего друга.
Он не ответил. Его потемневшие глаза неподвижно уставились на лунное небо.
Всю ночь он был в бреду. Запекшимися дрожащими губами хан говорил что-то о домах, которые ветер заставляет бегать вверх-вниз по рекам, о повозках без колес, в которых носят чужеземных владык, о городах из камня, окруженных стенами из камня, и дома эти не унесешь и не увезешь с собой, как юрты и кибитки, о дворцах с золотыми колоннами и позолоченными крышами в дальних странах, о пышных садах с мандариновыми деревьями, о чужих вождях и правителях, которых он высмеивал даже в бреду, о множестве неизвестных мне богов и божеств, с которыми он собирался покончить, о золотых слитках величиной с верблюжью голову и драгоценных камнях размером побольше, чем глаз у яка, о крепостных башнях, из которых видно все далеко-далеко окрест, и еще о многом другом; это была удивительно долгая ночь, и бреду, срывавшемуся с запекшихся и дрожащих губ хана, тоже, казалось, не будет конца.
Когда свет занимавшегося утра лег на лицо хана, Темучин впервые повернул голову в мою сторону, узнал меня и едва слышно проговорил:
— Подобно тому, как на небе есть только одно солнце и одна луна, на всей земле должен быть лишь один владыка, один хан!
Эта мысль устрашила меня, и чем больше я над ней размышлял, тем больше пугали меня ее возможные последствия. В длинной цепи его ночного бреда, показавшегося мне таким темным и путаным, это было последним звеном. И хотя сейчас он уже пришел в себя и не бредил, оно как бы озарило все остальное новым светом. Чтобы как можно осторожнее проверить мою догадку, я спросил:
— Ты этой ночью был очень далеко отсюда, Темучин. Ты говорил о вещах, мне незнакомых. Я знаю о них со слов иноземных купцов, которые меняли у нас свои товары, но я их никогда не видел. Я высосал смерть из твоих ран, но путаные, чужие сны я отнять у тебя не мог!
Он взглянул на меня с удивлением:
— Я не знаю, что именно вырвалось из моего сотрясаемого жаром и холодом тела, Кара-Чоно, но я всегда мечтаю о вещах мне неизвестных, потому что всегда мечтал узнать их. И еще: мне никогда не снятся вещи, которые меня окружают, а лишь те, которые когда-нибудь будут меня окружать. Разве не в этом смысл всех снов, Кара-Чоно?
Я счел за лучшее промолчать. Полог юрты был откинут, и открывавшаяся перед моим взором Долина Антилоп походила на огромный зеленый мат, где сгрудились бесчисленные пленные, окруженные стражниками, которые по очереди подсаживались к кострам. Опять слетелись пестрые птицы и порхали над кустами, а потом взлетали ввысь и распевали свои песни над долиной — сейчас, когда шум битвы улегся, они опять распелись.
— О Джамухе ты не спрашиваешь, Темучин?
— Из-за моих снов я совсем забыл о нем! Так что с ним?
— Ему удалось уйти от хана Тогрула.
Темучин усмехнулся:
— Удалось уйти! Чем больше становится моя империя, тем меньше делаются царства моих врагов! Настанет день, когда Джамухе некуда будет уйти.
— Выходит, ты не держишь зла на Тогрула?
Темучин покачал головой, взял меховое одеяло и укутался в него, будто его знобило.
— Разве мой названый отец не помогал мне всегда в час нужды и испытаний? — И с презрительной улыбкой добавил еще: — И разве Джамуха не его брат, Кара-Чоно?
Солнечные лучи упали в широкую долину, они заглядывали в ее низины и в складки между холмами. Воины гнали скот тайчиутов на водопой.
— А с Таргутаем что? — спросил хан.
— Его вместе с семьюдесятью другими вождями взял в плен Бохурчи, мой хан!
— Бохурчи, — кивнул хан. — Тысяча таких Бохурчи, и мои сны стали бы явью!
Меня разозлило, что он опять завел речь о своих снах. Значит, это не было просто бредом? Я пощупал его лоб. Нет, сейчас он совсем не такой горячий, как ночью.
— Если желаешь увидеть отсюда этих семьдесят вождей, они сидят внизу, у березового перелеска.
— Покажи мне их, Кара-Чоно!
Поддерживая его за голову и спину, я поднял его. И теперь он смог увидеть, как в долине, почти прямо напротив нас, все они сидят у этого перелеска.
— Вот оно, Кара-Чоно! Когда-то мы с тобой были пленниками Таргутая, а теперь и он сам, и его нойоны в плену у нас. Нам удалось уйти, но им от нас ни за что не уйти! Пришли ко мне гонца! Сейчас же!
Пока не появился гонец, я почему-то думал, что Темучин вдруг испугался, а не сбегут ли случайно тайчиутские вожди. Однако стоило гонцу переступить порог юрты, как хан непреклонным голосом повелел ему:
— Скачи к Бохурчи и передай мой приказ: всех тайчиутских вождей немедленно казнить! Всех семьдесят!
А потом попросил меня снова подвести его к выходу из юрты.
— Я хочу собственными глазами видеть, как будет исполнен мой приказ.
Наш гонец быстро спускался по склону, увлекая за собой мелкий камнепад; вот он появился у кустарника, исчез за ним и выехал наконец в долину, так что мы не могли больше потерять его из виду. Он словно летел по этому огромному зеленому мату, и никто, кроме нас, не знал, какую весть он несет — тем более не догадывались об этом семьдесят тайчиутских вождей, сидевших на траве у нежно-зеленого березового перелеска. Над юртой Бохурчи развевалось родовое знамя с хвостами яков.
— Один полет стрелы — и он предстанет перед моим лучшим военачальником! — сказал хан.
Только он успел это проговорить, как гонец соскочил уже со своего каракового скакуна и вбежал в юрту, а когда вышел, следом за ним появился Бохурчи, который зычным голосом поднял на ноги своих отдыхавших у костра людей.
Над Долиной Антилоп нависла тень от огромной черной тучи. Белоствольные березы как-то вдруг посерели, серыми сделались кусты и поверхность озера. А когда вскоре солнечные лучи вновь обдали золотистыми брызгами молоденькие березки, все пленные вожди испуганно вскочили на ноги — Бохурчи со своими людьми подняли перед ними лошадей на дыбы. Когда воины взяли тайчиутов в кольцо, они заметались в смертельном страхе.
— Опусти полог, Кара-Чоно, — сказал хан, укладываясь на войлочный мат. Его лоб покрылся испариной. — Вели сварить для меня бульон из молочного ягненка.
Я выбежал наружу. Перед березняком образовалась глубокая тень. Но не от туч и не от деревьев: сейчас, в полдень, солнечный диск стоял прямо над Долиной Антилоп…
Глава 12 КРАСАВИЦА ХУЛАН
В последующие дни хан лежал на своем мягком мате, лишь изредка поворачиваясь с боку на бок, но по ночам он больше не бредил. Хотя обжигающая лихорадка оставила его, слабость не позволяла хану выходить из юрты. Кроме меня и телохранителей, никто не знал, что Темучин не в состоянии держаться на ногах. Он строго приказал держать это в тайне, опасаясь, как бы весть о его немощи не дошла до вражеских племен и не побудила их вновь напасть на нас.
Иногда он просил меня подвести его к выходу из юрты и чуть-чуть отодвинуть полог: ему хотелось своими глазами увидеть, как возвращаются в лагерь его тысячи воинов, гоня впереди себя пленных воинов врага с их женами и детьми.
Он не принимал даже нойонов-военачальников, как бы им ни хотелось поскорее доложить ему о своих победах. Стража не пропускала к хану ни его собственных сыновей, ни хана Тогрула, который, как мне с улыбкой объяснил Темучин, явился, чтобы, изливаясь в пространных речах, объяснить, каким таким образом Джамухе удалось уйти от преследования.
Превосходная пища, крепкие и бодрящие напитки, которые готовили по просьбе хана его баурчи-повара, ведавшие столом Темучина, настолько укрепили его силы, что вскоре пришел день, когда он без труда сам приблизился к выходу из юрты.
Он подозвал меня.
Мы оба опустились перед пологом на колени и осторожно выглянули наружу в его прорези. Темучин указал на кибитку из леопардовых шкур, которая стояла чуть пониже юрты хана на склоне холма и как будто дразнила нас своими яркими красками.
— Что это значит? Кому она принадлежит? Кто смеет жить в жилище более дорогом, чем мое? — Темучин злобно отбросил полог и вышел из юрты. Солнечный свет ослепил его. Он прикрыл глаза ладонью.
— Еще вчера этой кибитки здесь не было, — сказал я.
— Стража! — крикнул хан.
И когда стражник подбежал к нему, Темучин спросил:
— Кто живет в кибитке?
— Я не знаю этого, хан. Ее поставили здесь только этой ночью.
— И кто же из стражников это позволил?
— У нас не было причин не позволить. Ты приказал, чтобы никто не смел селиться или самовольно появляться на расстоянии двух полетов стрелы от твоей юрты. А кибитка из шкур леопардов стоит на расстоянии трех полетов стрелы. Мы приказа не нарушали.
Темучин снова перевел взгляд на загадочную кибитку. Никто из нее не выходил, никто вблизи не появлялся. В некотором отдалении стояли обыкновенные восточные кибитки, выходы из которых смотрели в кусты. Несколько успокоившись, Чингисхан повернулся к стражнику:
— Немедленно узнай, чья она!
Тот испарился, а мы с Темучином вернулись в юрту, где тот снова опустился на мат. Его, наверное, обеспокоило, что вблизи от его юрты происходят вещи, о которых ему ничего не известно и которые он и не разрешал, и не запрещал. Потом он сказал мне:
— Я хочу завтра видеть некоторых из моих нойонов и выслушать их.
А стражник тем временем вернулся и ждал у входа. В уголках его глаз я уловил тонкую улыбку, которую он старательно скрывал и которая совсем погасла, когда хан повелел ему говорить. И стражнику, похоже, доставило радость доложить Темучину:
— В кибитке из леопардовых шкур, мой хан, живет девушка со своими служанками. Она такая красавица, что я, по-моему, никогда не видел равной ей среди наших первых красавиц. На ее стройном теле прекраснейший наряд из белого бархата. Она, богоподобная, сидит на подушках, обтянутых синим и красным шелком. Мне она ничего не сказала, только улыбалась. Верх ее кибитки покрыт расшитым золотыми нитями тончайшим полотном, а поддерживают ее четыре черных резных столба, украшенных змеиными головами. Прости меня, хан, за то, что я сокращаю твое драгоценное время своими долгими речами, но вид этой красивой девушки меня ошеломил.
Отдав низкий поклон, стражник отступил на шаг назад.
Улыбнувшись мне, Чингисхан обратился к юноше:
— Твой красочный рассказ, стражник, раскрыл мне глаза. Мне показалось даже, будто я воочию увидел одну из тех пестрых картин, которые возят с собой китайские купцы. Лишь об одном ты не упомянул: кто эта девушка? Чья она? И кто поставил ее кибитку на склоне холма?
Снова сделав шаг вперед, юноша проговорил:
— Обо всем этом я спросил девушку, мой хан, но она лишь улыбалась в ответ.
— Спросил ли ты имя ее отца?
— Спросил, мой хан, но она мне его не открыла, а осведомилась о твоем здоровье.
— О моем здоровье?
— Да, мой хан.
Темучин приподнялся на локте и снова улыбнулся мне. Его бледное лицо сразу оживилось. Он сунул руку в карман, достал небольшой перстень и надел его на палец юноши.
— Своими словами, стражник, ты нарисовал красивую картину. Она напомнила мне о том, о чем я, отдыхая после битв в своем шатре, почти совсем забыл. Пусть этот перстень всегда напоминает тебе, какую радостную весть ты принес своему хану.
На другое утро Чингисхан принял своих храбрейших военачальников, выслушал их доклады об одержанных победах и узнал от них, что эта девушка — дочь одного из вождей меркитов, которую он прислал верховному владыке монголов в знак глубочайшего к нему почтения.
— И где же владения этого вождя, который из страха передо мной посылает мне свою дочь?
— На краю северной степи, — ответил Мухули, один из близких сподвижников хана. — Он сидит там в лесу, вздрагивая при каждом взмахе орлиных крыльев, стучит зубами от страха, когда порыв ветра сотрясает его юрту, и днем и ночью молит богов о том, чтобы его дочь тебе понравилась.
— Я слышал, она красавица, Мухули?
— Да, красавица, Темучин. Да мы уж обезглавили бы этого меркитского вождя, если бы он только осмелился прислать тебе свою дочь, у которой было бы песье лицо.
Я вдруг вспомнил о Золотом Цветке, а может быть, меня охватило беспокойство за супругу Темучина Борту, потому что я спросил вполголоса:
— А если она слишком красива, дорогой друг?
Хан с удивлением посмотрел мне в глаза, пытаясь прочесть в них смысл моих слов. Он долго не отводил от меня взгляда, а военачальники хранили молчание, хотя некоторые из них, наверное, подумали о том же, что и я.
— Вот и взглянем, так ли она красива, — негромко проговорил Темучин и пригласил меня и нескольких лучших своих друзей последовать за ним.
Мы неторопливо спускались с холма.
Меня сразу поразила красота мягких леопардовых шкур, я долго поглаживал их рукой, дивясь тому, сколь искусно они подобраны и какой прочной оказалась кибитка из них. До чего это все-таки красивое сочетание: черные пятна на желтом фоне. Как эти шкуры блестят и лоснятся на солнце!
Служанка, скромно опустив очи долу, приподняла зеленый полог кибитки. И вот она лежит, эта прекрасная меркитка, сестра моего Золотого Цветка по племени. Вжимаясь в красные и синие шелковые подушки, она встретила хана смущенной улыбкой. Улыбка показалась мне даже пугливой, но как только Темучин опустился на колени у ее ложа и шепотом спросил, как ее зовут, девушка вся зарделась от радости.
— Хулан, мой повелитель!
— Хулан!
Он поцеловал кончики ее пальцев и погладил ее тонкие руки с такой же нежностью, как только что я — шкуру леопарда.
— Хулан, — с нежностью, едва слышно произнес он. И еще раз повторил: — Хулан!
Руки девушки обвили его шею, как змеи. А его длинные широкие пальцы скользили по легкому белому бархату ее тесно облегающего платья. Она закрыла глаза: может быть, чтобы не видеть нас, стоявших за его спиной. По закону мы могли уйти не раньше, чем на то будет воля хана.
Нойоны смущенно уставились на пестрый ковер под ногами или золотисто-черный потолок кибитки, под которым вздыхала любовь.
Хан совсем забыл о нас.
Когда он снимал с малышки Хулан потрескивавшее платье и обнажилась ее матово-смуглая грудь, Мухули проговорил с досадой:
— Отпусти нас и дождись ночи, Темучин. Ты нарушаешь закон и наши обычаи.
Однако наш владыка словно и не слышал его.
Солнечные лучи косо падали на влюбленных, похищая у нас на глазах их достоинство и красоту.
Мухули снова взмолился:
— Мой хан, ты причиняешь нам обиду. Наши предки покраснели бы при виде этого и бросили бы нам упрек, что мы уподобляемся животным.
Это было сказано неожиданно твердо и жестко, и на какое-то мгновение мне показалось даже, что хан вот-вот воскликнет: «Сбросьте его с холма — долой с моих глаз!»
Но Темучин не произносил ни звука, и молчание это было вызвано восторгом: он с такой силой сжимал в объятиях Хулан, словно исполнился решимости не ослаблять их на веки вечные. И хотя такое его поведение казалось мне непристойным, я сосредоточился на том, как объяснить, почему любовь так сразу разожгла и одурманила его? У него есть Борта, которую он уважает и никому не позволит обидеть. Но она была предназначена ему в невесты еще в девятилетием возрасте. Любил ли он ее когда-нибудь? Я этого не знал. Может быть, он и сам не знал этого и лишь сейчас, когда малышка Хулан лежала в его объятиях, ощутил, каким беспредельным бывает счастье.
Когда мы вместе с ним вышли из леопардовой кибитки, Темучин молчал. Мы молча поднялись на вершину холма. Солнце было у нас за спиной. И в то время как его лицо порозовело от радостного возбуждения, наши щеки багровели от стыда и унижения.
Перед юртой хана нойоны поклонились ему и удалились, так и не произнеся ни слова. Мы с ним не смотрели друг на друга и не перебросились ни словом — мысленно он все еще был с Хулан, и глаза его горели восторгом только что прожитых часов.
Я обрадовался, когда наше молчание было прервано появлением гонца, который доложил, что в долине вот-вот появится Бохурчи с пленными татарами, на которых он наткнулся где-то в степи.
— Они остались без вождей. А Джамуха, к которому они примкнули несколько дней назад, бросил их, как собак. Они сдались в плен Бохурчи без сопротивления и желают служить тебе, хан. Мой нойон Бохурчи спрашивает: как с ними поступить?
— Татары? Смерьте их по оси высокого колеса повозки. Кто окажется ростом выше — убейте. А остальных рассейте среди моего народа. Пусть сторожат коз и овец, как наши юртовые собаки!
Гонец поспешил удалиться.
— Верни его, Кара-Чоно!
Когда я выбежал из шатра и окликнул гонца, я сказал себе: как хорошо, что он одумался. Ибо закон степи гласит: врага, сдавшегося в плен без боя и готового тебе подчиниться, не убивают! Если бы хан нарушил этот закон, это был бы первый такой случай во всей его жизни.
Гонец снова предстал перед нами. Я улыбнулся ему, словно желая сказать: на сей раз ты унесешь более добрую весть!
— Юноша, я изменяю собственный приказ, — ровным голосом проговорил хан. — Передай моему доблестному Бохурчи, что боги подарили мне сегодня самый счастливый день в моей жизни. И я не желаю запятнать его злой татарской кровью. Мерить по оси колеса будут завтра!
Стоило гонцу вновь выбежать из юрты, как я поспешил сказать:
— Меч за меч, стрела за стрелу, нож за нож — таков закон степи, Темучин. Почему же ты поднимаешь меч против тех, кто свой отбросил? Почему хочешь убить тех, кто готов жить для тебя и сражаться за тебя?
— Это татары, Кара-Чоно. Разве не они убили моего отца?
— Их отцы, Темучин.
— Татары! — вскричал хан. — Неужели не довольно того, что при упоминании их имени у меня на глаза наворачиваются слезы?
Я хотел сказать: «Нет, этого не довольно», но не осмелился и вслух проговорил только:
— Разве мы ненавидим волка только за его имя или боимся шакала, потому что имя его шакал, Темучин?
Я протянул ему узкогорлый кувшин с кумысом. Он отпил. Потом опустил руку в большую серебряную чашу с кусками вареного мяса, нащупал подходящий и бросил прямо себе в рот. С удовольствием проглотив его, огладил тыльной стороной руки бороду и сказал:
— Сколь ни глубокомысленно твое сравнение, Кара-Чоно, мое сердце ему не откроется.
Набросив на плечи шерстяную накидку, он направился к выходу из юрты.
Я спросил, дожидаться ли мне его возвращения или лечь поспать.
— Ночью, мой друг, — ответил Темучин, — над всеми нами, даже над ханами и князьями, властвуют женщины. Как же мне ответить тебе, Кара-Чоно, чтобы не соврать?
Выйдя наружу, он попал в объятия серебряных рук луны, которые повлекли его вниз по холму. Перед кибиткой Хулан потрескивал костер, бросавший отсветы на черно-желтые шкуры, похожие отсюда на выгнутую спину мертвого леопарда, лежащего в траве, мертвого или спящего — только леопарда без головы и ног.
Я присел на корточки перед входом в юрту.
У тишины есть глаза и уши. Телохранители стояли на траве, словно обратившись в камень, юрты напоминали перевернутые чаши для питья. По белесому небу ползли облака, облака-скакуны, вдруг в неверном прыжке перепрыгивавшие через луну, и облака-воины, пролетавшие мимо луны с поднятыми мечами. Над Долиной Антилоп бесшумно парила ночная птица: я не спускал с нее глаз и вместе с ней перелетал над кострами и кустарником, над озером и кибитками. И над крышей, той, из леопардовых шкур, тоже. Я раскраснелся от огня костра и от жара слов. Улетая из долины, птица взяла с собой меня, а заодно и мои мысли — крылья несли ее к Керулену над степью и лесами, пока она не достигла той каменистой высотки, с которой отец всегда видел меня возвращающимся домой.
И вот я стою перед ним в том самом синем одеянии, что я надел в день его смерти. Он обрадовался моему приходу, но опустил голову, когда услышал, зачем я здесь. Что ему было сказать? Он все сказал при жизни. И еще той ночью, прежде чем за ним пришли боги. Итак, мы молчали. Он и вообще-то был неразговорчив… Хотя мы ничего друг другу не сказали, эта ночь длилась дольше, чем десять других ночей.
Наверное, меня сморил сон. Открыв глаза, я увидел над собой лицо Темучина. Он устало улыбался. Его высокая фигура застила мне солнце.
Около полудня я поскакал вместе с ним к пленным татарам. По пути я спросил Темучина:
— Не удалось ли ночи открыть твое сердце, мой друг?
— Нет, Кара-Чоно. Потому что ночью мне явился мой отец.
— И что он тебе сказал?
— Ничего. Я увидел его в кругу хохочущих татар, которые пригласили его на пир.
Мы миновали березовый перелесок, где казнили вождей тайчиутов. Сытые стервятники вылетели навстречу нам из высокой травы и опустились на ветви самых высоких берез.
— Тебе сегодняшней ночью явился твой отец, а мне — мой, — сказал я. — Я стоял перед ним на каменистой высотке, с которой он всегда видел меня тогда, как видит и сейчас.
— И что он сказал?
— Ничего! Но я вновь услышал слова, сказанные им, когда мы с тобой и Бохурчи вернули угнанных у нас лошадей. Я тогда похвалил тебя за смелость и хитрость, а он сказал мне: «Смелостью своей он вскоре сравняется с Есугеем, и о нем заговорят повсюду под Вечным Синим Небом… Но будет ли он равен отцу мудростью своей? Или сочтет первую пришедшую на ум мысль за лучшую, не взвесив вторую и третью?» Вот что он сказал тогда, Темучин.
— Разве не мы с тобой, Кара-Чоно, выехали тогда в степь вдвоем на одной лошади?
— Да, мы с тобой. Вдвоем!
Он рассмеялся:
— А сегодня у нас десять раз по десять тысяч лошадей и еще больше воинов и кибиток. Кого нам теперь бояться?
Темучин огрел своего скакуна плетью.
— Может быть, ненависть? — воскликнул я. — Если ты убьешь тех, кто сдался тебе без боя, кто же после этого безропотно тебе подчинится?
Но он уже не слышал меня. А может быть, просто не желал слышать этих слов, потому и поскакал вперед. Я тоже подхлестнул моего жеребца, и перед пленными татарами мы появились одновременно.
Чингисхан громко крикнул:
— Мы пришли к решению подравнять вас всех с осью высокого колеса повозки!
Пленные, охваченные ужасом, повскакали на ноги. Их вожак вскричал:
— О великий хан, мы отбросили мечи, прежде чем прийти к тебе. Мы сломали наши стрелы, прежде чем сдаться в плен. Неужели ты перестал уважать закон?
Хан недовольно взмахнул рукой, подавая Бохурчи знак. Подкатили повозку с высокими колесами. Моя лошадь заплясала подо мной. Я отклонился назад, мне вообще хотелось отвернуться, чтобы мои глаза не видели этой несправедливости.
— Начинайте! — приказал хан.
И тут на высокий валун вспрыгнул вожак пленных татар, высокого роста, рыжеволосый юноша, весь в черном, выхватил из рукава кинжал и воззвал к своим:
— Братья! Беритесь за ножи! Пусть предсмертной подушкой каждого из вас станет убитый враг!
Он молнией бросился на ближайшего стражника и вонзил ему кинжал в грудь прежде, чем тот успел схватиться за меч. И точно так же поступили большинство из его братьев по племени. Какое-то мгновение хан сидел в седле совершенно ошеломленный, потом резко повернул жеребца на месте и поскакал прочь от этого места бойни — примерно на расстояние полета стрелы. Я, как мне было положено, все время находился с ним радом. И говорил со своим жеребцом, чтобы ни о чем не спрашивать хана.
Тем временем от рук подоспевших воинов Бохурчи пали последние татары. Погибшие лежали на почерневшей траве, лепестки степных цветов были в каплях крови. Даже на небе, похоже, появились пятна. У повозки лежал рыжеволосый юноша. Рот у него был открыт, и мне подумалось: это он, сперва присягнувший на верность, а потом проклявший. И сейчас под его черным одеянием молчит сердце, изрыгнувшее проклятия. Мы потеряли восемьдесят семь воинов, которых заколол шестьдесят один татарский кинжал.
К нашему холму мы возвращались молча. Хану было не до улыбок. Перед юртой Темучин сказал мне:
— Я не внял твоим словам, Кара-Чоно, но твоего молчания и твоих грустных глаз мне не забыть.
Над долиной сгрудились тучи. Солнце будто провалилось куда-то с неба. Буря заколотила кулаками по кибиткам и юртам.
— Небо гневается на меня, — сказал хан и смиренно склонил голову.
Когда полил дождь, раскаты грома усилились и засверкали молнии, хан омылся дождевой водой и вознес хвалебную молитву богам.
А потом вновь спустился с холма, шлепая сапогами по мокрой траве, и исчез в кибитке красавицы Хулан. Мне вспомнились его последние слова. Неужели я его действительно потеряю? Я досадовал на себя самого: никогда прежде его слова не заставляли меня усомниться. Да и он всегда был верен своему слову.
Утром он отобрал из своих нойонов троих и послал их к тому вождю меркитов, что подарил ему свою дочь Хулан. Он дал им с собой дорогие сосуды, кольца, золото, серебро и сказал:
— Передайте отцу моей Хулан, что я почитаю его и его племя. Пусть его радость станет моей!
— Да ведь он меркит, наш враг! — возразил один из военачальников.
— Ты хочешь обмануть его, мой хан. Это хитрость? — удивленно спросил другой. — Мы должны вежливо улыбаться ему, а на самом деле разведать, сколько у него сил? Ты это имеешь в виду?
На что Темучин ответил, что его слова чистотой не уступают золоту и не следует придавать им неподобающий смысл.
Военачальники оставили Долину Антилоп, удивленные донельзя. Улыбку, брошенную мне Темучином, они уже не заметили, да и вряд ли сумели бы разгадать. Я тоже ответил хану улыбкой.
После того как наш властитель провел много счастливых ночей под крышей кибитки из леопардовых шкур, однажды на рассвете хана разбудил стрелогонец. Он примчался с Керулена, из мест нашей основной стоянки.
— Твоя супруга Борта велела передать, что чувствует себя хорошо, что ни нойоны, ни народ ни на что не жалуются, — начал он. — Орел угнездился на высоком дереве, но, пока он чувствует себя на этом дереве в полной безопасности, маленькая птичка разрушает гнездо, яйца и птенцы будут сожраны или погибнут иначе.
Хан побледнел.
И приказал немедленно собрать тысячников, снять кибитки и юрты и погрузить их на повозки.
— Завтра же возвращаемся домой! — сказал он. А потом обратился ко мне: — Ты слышал послание Борты, Кара-Чоно. Эта весть испугала меня, потому что моя супруга хочет этим сказать, что я взял красавицу Хулан в жены. Как мне теперь предстать перед моей Бортой, если ты не полетишь к ней стрелой и не объяснишь, что она навсегда останется предназначенной мне еще в ранней юности возлюбленной супругой, моей Бортой, которую выбрал для меня мой благородный отец. Было бы унизительно, если бы наша встреча в присутствии Хулан и вождей племен, недавно присоединившихся к нам — или покоренных нами! — вышла безрадостной. Возьми Мухули, и поговорите от моего имени с Бортой. И поскорее возвращайтесь с ответом. Я буду с войском. Ответ явится для меня либо облегчением, либо ляжет на плечи невыносимо тяжелой ношей.
Вечером следующего дня мы уже стояли перед Бортой. Хотя мы были совсем без сил и губы наши растрескались от жажды, она не предложила нам напитков. Я поведал ей то, о чем просил хан.
Она не ответила.
Какое-то время мы еще стояли перед ней в явном смущении и нерешительности. Что передать Темучину о ее молчании? Эта мысль устрашила нас обоих. Прежде чем она отпустит нас, должно что-то произойти! И тут Мухули принялся расцвечивать и приукрашивать слова хана. Я диву давался, как ловко ему удавалось превращать слова хана в цветы. Он говорил очень долго, и Темучин наверняка тоже удивился бы, что его слова могут обрести такой волшебный смысл.
Борта слабо улыбнулась и проговорила:
— Выходит, она не просто его возлюбленная, как это положено пленным княжнам и дочерям нойонов?
— Нет, — ответил Мухули. — Чтобы взять под свою руку народы, живущие далеко от нас, он сделал Хулан своей женой{8}.
Чтобы взять под свою руку народы, живущие далеко? Это была неправда, и я был рад, что не я обязан был сказать это вслух.
Борта посмотрела в глаза нам обоим и проговорила:
— Передайте хану: моя воля и воля народа подчиняются власти нашего владыки. С кем хан желает подружиться или принять под свою руку — в его воле. В камышах водится много уток и лебедей, и моему повелителю лучше знать, сколько стрел выпустить, прежде чем сомлеют его пальцы. Но говорят еще, что ни одна необъезженная лошадь не хочет ходить под седлом, как ни одна первая жена не захочет, чтобы взяли вторую! Слишком много — это плохо. Но может быть, слишком мало — тоже нехорошо? Пусть мой повелитель вместе с новой женщиной привезет и новый шатер для нее.
Борта встала и подошла к Мухули.
— Ты дал себе большой труд прогнать из моего шатра смрадный дым. Но что могут красивые слова?
— Княгиня, мой хан…
Но она уже вышла из шатра. И только синий полог слегка подрагивал.
Глава 13 СВАДЕБНАЯ ВОЙНА
Зимами военные походы обычно «замерзали». Лишь изредка мы посылали в застывшую от холода степь или скованную ледяной коркой пустыню стрелогонцов. Ни купцы не появлялись, ни вражеские разведчики не показывались. Но воины своих набегов не прекращали, будто отказывались поверить, что хотя бы зимой в степи может ненадолго наступить замирение.
Во время последнего похода я встретил мальчишку, заплаканного паренька, который бродил среди пленных и искал отца или мать. Я поднял его на коня, чтобы он мог лучше видеть. Но сколько бы искаженных лиц ни обращали на нас свои взгляды, родителей своих он не нашел. Его, маленького, вцепившегося руками в гриву моего гнедого, сотрясали рыдания. Среди живых он отца и матери так и не нашел, а мертвых я решил ему не показывать. Посадив его в седло впереди себя, я повез его в нашу орду. Он ни разу не оглянулся, а когда я спросил, как его зовут, не ответил. Три дня он проплакал в моей юрте, не принимая пищи. Но это было уже давно, а сейчас, зимой, он сидел вместе с нами перед очагом и привык уже откликаться на имя, которое дала ему Золотой Цветок: Тенгери — Небо. И мы вместе с ней радовались, что мальчишка перестал горевать и научился опять улыбаться.
Однажды вечером жена сказала мне:
— Теперь мне не будет так одиноко, когда ты опять уйдешь на ханскую службу.
А я ответил ей:
— Зима у нас долгая, Золотой Цветок, и она нравится мне, потому что я могу оставаться рядом с тобой.
— Это правда, зима у нас долгая, — повторила она, — и я люблю ее за то, что ты зимами всегда рядом со мной, но неужели мне навек суждено опасаться прихода весны и лета, пугаться при виде распускающихся цветов, грустить, когда прилетают поющие птицы, и плакать, когда кузнец отбивает затупившиеся мечи и отощавшие за зиму лошади опять начинают лосниться?
Я ответил, что в этом году нам предстоит всего один поход — так решил хан.
— Думаешь, страх оставит меня, а лето обрадует только потому, что это якобы ваш последний поход?
Я постарался утешить ее, объясняя слова Темучина: когда он создаст свою империю, в степи воцарится порядок, все племена сольются в один народ, который будет жить в дружбе под крышей Вечного Синего Неба.
— Я служу моему хану, Золотой Цветок, во имя достижения этой цели, а потом всегда будет лето, лето и весна, и тебе не придется грустить при возвращении перелетных птиц и пугаться при виде распускающихся цветов.
Вот о чем мы говорили с ней однажды зимним вечером.
Тенгери спал.
Когда мы прилегли к нему, я сам размечтался о таком счастливом лете, о каком рассказал Золотому Цветку. Как оно далеко сейчас, но как близко в мечтах! Трава поднялась во весь рост, мерцает синяя поверхность реки, над головами — чайки и цапли. Мальчик сидит на берегу рядом со мной, а на ветке покачиваются пойманные нами серебристые рыбешки. На другом берегу в камыше неслышно для нас снуют антилопы. Вскрикнула сойка, и тут же ей откликнулась другая. Тишина.
Но вот зашевелился и раздвинулся камыш, чьи-то легкие шаги — и появляется Золотой Цветок с наполненными водой кувшинами…
До моего слуха донесся тоскливый волчий вой.
Я уставился на языки пламени в очаге.
Мечты о лете отлетели. Я закрыл глаза и увидел моего хана, бледного, со впавшими щеками Темучина с раной в шее, услышал его маловразумительный бред, срывавшийся с запекшихся губ, эти мечты о домах, которые ветер заставляет бегать вверх-вниз по рекам, о повозках без колес, в которых носят чужеземных владык, о городах из камня с домами, которые не увезешь с собой, как мы наши юрты и кибитки, о дворцах в дальних странах с золотыми колоннами и позолоченными крышами, о пышных садах с мандариновыми деревьями, бред о чужестранных властителях и императорах, которых он высмеивал, о незнакомых мне богах, о золотых слитках величиной с верблюжью голову и драгоценных каменьях размером побольше, чем глаз у яка, о крепостных башнях, из которых видно все далеко-далеко окрест, и еще о многом другом говорил и говорил он во сне и в бреду, а потом тихо, совсем тихо, чтобы никто его не услышал, сказал еще: «Подобно тому, как на небе есть только одно солнце и одна луна, на всей земле должен быть только один владыка, один хан!»
Может быть, я закричал, а может быть, я сам бредил, полусонный, потому что Золотой Цветок коснулась моего плеча и осторожно спросила:
— Что с тобой, Кара-Чоно?
— Похоже, в мои сны прокрался волк, — ответил ей я.
Неужели я должен был открыть ей, о чем бредил раненый хан? Я больше никогда не слышал от него таких слов.
Однажды зимним утром мы шли с Тенгери по льду реки. Лес застыл в немом оцепенении от мороза. Ни ветерка. Мальчик деловито топал ногами, сгорая от желания поохотиться со мной. Я подарил ему маленький кинжал и средних размеров лук, тетиву которого он уже научился натягивать.
— Если мы возьмем волка, — сказал я, — ты получишь его шкуру, Тенгери!
— А почему только волка? — Он остановился, сдвинул свою соболиную шапку на затылок и посмотрел на меня с укоризной. — Волка мы в любую ночь взять можем. Они подбираются к нашим юртам, отец!
— А кого же ты хотел бы взять?
— Медведя!
— Медведя?
Я старался не подавать виду, но он, наверное, заметил в моих глазах смешинку и, насупившись, зашагал дальше с таким видом, будто решил завалить медведя в одиночку. Мальчишка то и дело проваливался в снег по колено. Единственные следы на льду реки оставили мы сами.
— Для охоты на медведя нужны копье, топор и тяжелый меч, — сказал я. — А у нас только кинжалы, лук и стрелы, Тенгери!
Он не ответил.
У излучины реки мы добрались до места, где недавно особенно ярился ветер. Нам пришлось перелезать через вырванные с корнем большие деревья. Одна ель, падая, повалила другую, мертвые ели и кедры образовали настоящий завал и вздымали к синему небу свои нагие черные ветви и лапы.
— Никому еще не удавалось завалить медведя стрелой? — спросил мальчик.
— Да, это очень опасно. И случалось очень редко. Это все равно что поразить орла копьем или мечом.
— Вот как? А кинжалом? Ты знал кого-нибудь, кто убил бы медведя кинжалом?
— Да, это сделал мой отец, Тенгери.
И я рассказал ему историю, случившуюся с отцом и Есугеем.
Некоторое время он хранил молчание. Наверное, начал догадываться, какой опасной может быть встреча с медведем. Мы еще довольно долго шли с ним по рыхлому снегу, пока я не сказал:
— Скоро мы окажемся у одного источника, Тенгери, у ключа, из которого бьет чистая вода, — это между лесом и скалой. Мы назвали его Святым Источником, потому что нам подарили его боги. И тот, кто…
— У тебя нет топора, чтобы взломать лед, отец.
— А зачем он мне, Тенгери, когда чудотворная вода бьет из источника круглый год?
— Всегда?
— И зимой и летом, Тенгери.
— И он никогда-никогда не замерзает? — Он остановился и недоверчиво посмотрел на меня.
— Никогда, Тенгери. Снег и лед ему нипочем. Кто искупается в нем сто раз, станет здоровым и крепким и сможет охотиться на медведя даже в одиночку.
— Сто раз?
Я рассердился на себя за то, что назвал точное число. А все потому, что Тенгери знал счет только до ста — этому я его научил. Но не назови я его, а скажи только, что в источнике нужно искупаться много раз, он наверняка спросил бы: «А сколько раз?» Поэтому мне не оставалось ничего другого, как стоять на своем.
— Да, Тенгери, сто раз.
— А сколько раз ты сам искупался в чудесном источнике?
— Сам не знаю! Каждый раз, проходя мимо, я делаю это. А мне уже часто приходилось проходить мимо.
— И все, кто охотился на медведей, обязательно сперва купались в нем?
— Не все, но многие, Тенгери, — уклончиво ответил я. — А еще эта вода исцеляет от болезней и закрывает раны.
Оставив бурелом в стороне, мы углубились в чащу леса. Первый зверек, которого мы увидели, был юркий соболь, шмыгнувший в кусты почти у нас под ногами. Он поднял за собой целое снежное облачко, и ветки кустов еще долго подрагивали. От неожиданности Тенгери даже не успел приложить стрелу к тетиве. Однако я не стал его укорять в тайной надежде, что теперь у него пыла поубавится и он забудет и думать об охоте на медведя, удовлетворившись чем-нибудь попроще. И еще меня успокаивало то, что в такое время года медведи спят в своих берлогах, а не шатаются по лесу.
Мы достигли источника, когда солнце уже выкатилось из-за верхушек деревьев. Он бил между двумя склонившимися друг к другу и напоминавшими каменный шалаш высокими валунами. Они не были заснежены и блестели от влаги, наверное, чудотворная вода их разогрела, и по стенкам каменного шалаша снизу вверх поднимался пар.
Мы увидели даже жуков, самых настоящих пестрых жуков посреди зимы, которые ползали вверх-вниз по солнечной стороне валунов.
— Цветы! — воскликнул Тенгери. — И трава, отец, настоящая высокая трава. А вон там еще два цветка!
— Сам видишь, Тенгери, это чудесный источник. Посреди суровой зимы с ее снегами и морозами этот источник богов — островок вечного лета с травой и цветами.
Мы разделись и вошли в воду.
Тенгери кричал от радости, хлопал в ладоши, нырял, брызгался и шалил. Иногда мы отходили друг от друга всего на несколько шагов, а разглядеть лица уже почти не могли — такой густой пар стоял над водой.
— А рыба здесь водится, отец?
— Нет, Тенгери!
— А почему не водится?
— Не знаю, Тенгери.
Только мы захотели выйти из воды, как сквозь облако пара просунулась морда могучего медведя: он лениво зашлепал лапами по камням, поднял косматую башку, принюхался и испустил ужасный рев.
Мы стояли в воде, не смея пошевелиться.
Зверь обходил источник по узкой каменистой осыпи вокруг валунов, встревоженный, но нерешительный.
— Наши кинжалы, отец!
— Тихо! Ни с места!
— А наши луки, отец?
— Не тревожься, Тенгери, веди себя спокойно.
Я попытался осторожно приблизиться к тому месту, где лежало наше платье и оружие. Делая маленькие неслышные шажки, я не спускал глаз со зверя. Вот я уже совсем близко.
Вдруг медведь остановился, встал на задние лапы и сквозь облако пара уставился на меня.
Мы смотрели друг другу прямо в глаза. С каменной стены мне на шею упало несколько холодных капель. Я невольно вздрогнул — и медведь тут же шлепнул правой лапой по теплой воде! Брызги разлетелись во все стороны. Медведь встряхнулся, зарычал и отступил на шаг назад, словно эта вода чем-то ему не понравилась.
— Медведи умеют плавать, отец?
— Нет, — ответил я, а сам подумал: «Эх, знал бы ты, сынок, что медведи без труда переплывают самые глубокие и широкие реки!»
Но чем-то этот чудотворный источник, этот дар богов, который вообще-то был всего-навсего маленьким озерцом, медведя испугал; иначе эта огромная зверюга, проснувшаяся во время зимней спячки от голода, давно уже прыгнула бы в источник — и чем бы это для нас кончилось, мне не хотелось даже гадать.
Тенгери стоял в воде, вытянувшись как стрела. То, что он не закричал от страха и не заплакал, я объяснял тем, что этот медведь, как и все медведи, выглядел довольно добродушным, глуповатым и беспомощным. Как он все время озирался, как опасливо шлепал лапой по воде! Неопытный мальчик мог принять такие движения за трусоватость и опасности не ощущать.
Над нами закружил коршун. Бурое чудище подняло башку и испустило к небу злобное рычание. В то же мгновение я потянулся за луками и кинжалами, лежавшими на берегу у самой воды.
Медведь, что-то учуяв, сразу же бросился в ту же сторону.
— Отец! Отец!
Луки треснули под его лапами, стрелы он расшвырял в разные стороны. Но кинжалы мне все-таки удалось схватить. Оказавшись вновь на самой середине озерца, я уже не сомневался: медведь в воду не прыгнет, он, скорее всего, боится лезть в теплую воду чудотворного источника.
И только теперь Тенгери расплакался.
Я обнял мальчика и сказал:
— А вот теперь тебе бояться нечего. Разве ты не помнишь, что я тебе говорил: посреди суровой зимы с ее снегами и морозами этот источник богов — островок вечного лета с травой и цветами.
— Но как же медведь, отец, как же медведь?
— Он, подобно зиме, тоже бессилен против источника богов, Тенгери. Вода защитит нас.
Мальчик перестал плакать.
— А когда он уйдет, отец?
— Когда он устанет, Тенгери. Ведь это мы спугнули его, прервали его зимнюю спячку, — ответил я, сам в это нисколько не веря. Но что мне было ему сказать?
Медведь же тем временем разлегся на камнях и вполне дружелюбно поглядывал в нашу сторону сонными глазами; могло даже почудиться, что он подслушал наш с Тенгери разговор и решил подыграть нам.
— А если он останется здесь на целый день, а потом еще и на ночь, отец? Что тогда?
— Тогда и мы пробудем в воде весь день и всю ночь! Вода теплая и очень полезная, Тенгери.
Это тоже не до конца правда: кто пробудет в воде чересчур долго, начинает терять силы.
Зверь совсем закрыл глаза. Попытаться заколоть его сонного? Вдруг он впал в спячку на этих самых камнях? Но выйти из озерца совершенно незаметно для него нам не удастся.
— Я убью его, Тенгери, — сказал я. Вообще-то мне хотелось добавить: «По крайней мере попытаюсь». Но к чему мне нагонять страху на и без того перепуганного мальчика?
— Подожди еще, отец!
Мы стояли, прижавшись друг к другу, Тенгери по горло, а я по пояс в воде. Иногда я погружался в воду по плечи: на маленькое озерцо уже пала тень от валунов, и воздух заметно похолодал. Еще некоторое время спустя я взял в обе руки по кинжалу и стал осторожно приближаться к зверю, который, как мне показалось, уснул. Мне, конечно, было известно, что спящие медведи отлично воспринимают на слух все, что происходит вокруг, но пока мы в воде озерца, опасность не слишком велика. И разве мой отец не убил медведя кинжалом? К тому же не простого, а раненного стрелой Есугея, отчего он особенно разъярился. Надо только сразу, с первого же удара попасть прямо в сердце! Только об этом должны быть все мои мысли — только о сердце медведя, и больше ни о чем!
Приблизившись к медведю на расстояние шага, я занес руку с кинжалом…
И тут зверь поднял голову.
Его жуткие глаза!
Его устрашающие зубы!
Его рычание!
Какая-то тень метнулась в мою сторону.
Рука с кинжалом замерла в воздухе. Между лопатками зверя — копье! Кто-то спрыгнул с валуна и всадил в тело хищника еще одно копье. Хлынула кровь, много крови, и косматая башка упала на теплые камни, а злые глаза безжизненно уставились на темно-серое небо.
И тут мы услышали смех стоявшего неподалеку от воды незнакомца. Скорее, даже не смех, а хихиканье, потому что незнакомец оказался тщедушным человечком в старой-престарой меховой шубейке и немыслимом тряпье на голове.
— Разве ты меня не узнаешь, Кара-Чоно?
Нет, я его никак не мог узнать, такого вот, хотя его голос о чем-то мне и напомнил. Но лицо! На нем только и разглядишь что глаза, две темные маленькие точки, выглядывавшие из-под кустистых бровей. Да и они не очень-то видны — со старой меховой шапки свешивались длинные клочья.
— Но ты меня узнаешь, Кара-Чоно, и очень даже скоро!
И снова послышалось это неприятное хихиканье, а потом человечек сделал несколько шагов по направлению к нам. Он сильно припадал на одну ногу, и теперь я вспомнил, кто он: Хромой Козел!
— Ну?
— Я знаю тебя, старик! Выходит, ты жив?
— Здорово я его, а?
— Ничего не скажешь. Спасибо, старик!
Следом за мной Тенгери тоже вышел из воды и сразу спросил:
— Кто он, отец?
Я не сразу нашелся с ответом и, чтобы не обидеть старика, сказал:
— Я его знаю по прежним временам, сынок. Много лет назад он жил в нашей орде и…
— …и потом он сделал кое-что плохое, за что Темучин прогнал его в лес, — закончил за меня старик.
— А сейчас?
— Сейчас он вместе с нами вернется в орду, — сказал я.
Старик обнял меня.
И мы пошли в обратном направлении по тонкому снежному насту. Медвежью шкуру мы перевязали кожаными ремнями и тащили за собой.
Мне подумалось: в зимний лес мы вошли вдвоем, еще немного, и мы из него никогда не вернулись бы. А теперь нас трое, и все мы просто счастливы таким исходом дела.
Весенние ветры принесли нам весть о том, что у сына хана Тогрула объявился новый друг: Джамуха.
Улыбка скривила губы Темучина, когда он об этом услышал.
— Наш последний враг ищет союзников. Он сбил вокруг себя некоторые маленькие племена и остатки разбитых и хочет через голову глупца Сенгуна, которому мужество так же чуждо, как барану храбрость, прокрасться в сердце хана Тогрула, чтобы потом натравить на нас его войско.
Мне же вспомнились убитые им татарские вожди. Такие поступки вызывают ненависть. Как же легко будет Джамухе воспользоваться этой ненавистью!
Несколько дней спустя примчались другие гонцы и сообщили, что Джамуха с Сенгуном побывали у седовласого повелителя кераитов и злыми языками говорили о Темучине, уверяя Тогрула в том, что верховный правитель монголов, покоривший столько племен, намеревается вскорости обрушиться на народ кераитов и взять его под свою руку.
— Он не поверит этому, — воскликнул хан, — потому что, когда мы несколько лет назад скрепили нашу дружбу, мы решили так: если кто-нибудь начнет преследовать нас своей завистью или если какая-нибудь подлая змея захочет отравить нашу дружбу, мы не должны враждовать, мы должны обо всем договориться между собой и во всем убедиться сами. Пусть злые змеи и укусят нас, нам их укусы нипочем, мы всегда можем встретиться, у каждого из нас есть глаза и язык.
Один из нойонов, сидевший в ханском кругу, заметил:
— Джамуха Тогрулу брат. Неужели ты забыл, Темучин? А если некоторые злобные слова, которые он и Сенгун нашептывают Тогрулу, запечатлятся в сердце повелителя кераитов?
— И разве не он дал ему уйти в битве на Ононе, а потом и в Долине Антилоп? — воскликнул другой военачальник.
Чингисхан встал со своего места, а за ним, в ожидании решения своего властителя, сразу поднялись и остальные. Ступая по мягкому ковру своей дворцовой юрты, Темучин рассуждал вслух:
— Ваши заботы мне понятны, но достаточно ли ваших слов, настолько ли они убедительны, чтобы отдалить меня от моего названого отца? И нам ли, всегда воевавшим против общего врага, враждовать самим? Благодаря ему я обрел силу и возвеличился, а теперь он же желает, чтобы я унизился и все потерял? Он стар, старость же умудряет, и он не станет повергать в прах то, что освещено солнцем степи. Завтра же я пошлю к моему сиятельному отцу гонца с благой вестью: мой старший сын Джучи, который нам обоим напоминает о совместной битве против меркитов у реки Килхо, будет просить в супруги дочь хана Тогрула, а я предложу в супруги одному из его внуков мою дочь.
Я вместе с телохранителями стоял у полога дворцовой юрты и переводил взгляд с лица одного из нойонов на другого, и некоторые из них мне не понравились. Пока хан давал указания гонцу, они о чем-то перешептывались: косицы их так и болтались влево-вправо, они оживленно жестикулировали, их шелковые халаты с треском терлись один о другой и заглушали их шепот. Но вот их круг раздался, как раскрывается веер, и они снова почтительно склонились перед своим властителем, и один из них сказал от имени всех:
— Не отсылай пока гонца, Темучин!
— Что еще? Опять сомнения? — Чингисхан недоверчиво оглядел их.
— Мы посовещались и сочли необходимым известить тебя, что послание о желании твоего старшего сына Джучи взять в супруги одну из его дочерей заставит Джамуху и Сенгуна отговорить повелителя кераитов от этого под предлогом, что ты сделал за сына этот выбор только для того, чтобы после смерти твоего названого отца завладеть его наследством.
— Но это ложь! — вскричал Темучин.
— Как бы там ни было, такое послание даст и Джамухе, и Сенгуну еще один повод для злобных наветов.
Какими бы убедительными ни показались мне слова нойонов, на Чингисхана они впечатления не произвели, и он немедленно отправил гонца в путь. Последующие дни мы провели в ожидании. Сам Темучин хранил суровое молчание.
Но как-то к нам в орду заехали китайские купцы, которые привезли замечательные ковры, золотую утварь, золотые троны и позолоченные носилки. Они выставили все это на продажу перед самой юртой властителя.
Народ сразу же сгрудился вокруг диковинного товара, ощупывая его цепкими взглядами и слегка дотрагиваясь жадными пальцами.
Торговцы покрикивали:
— А ну, проваливайте, ротозеи! Разве для вас эти вещи? У вас желаний больше, чем овец! — Купцы, смеясь, отпихивали людей от драгоценных вещей. — Спите в жалких войлочных кибитках, а мечтаете пить кумыс из золотых чаш, да? — И снова издевательский смех. — Отойди подальше — это товар для хана и его приближенных!
— Вот как! — Чингисхан выступил вперед. — Считаете, значит, что я куплю хоть что-нибудь у людей, оскорбляющих моих храбрых воинов и высмеивающих их за то, что они не богаты?
— Благороднейший хан, — купец повалился перед Темучином на колени, — мы хотели только…
— Молчи, змея! — И, обращаясь к толпе, возмущенный хан вскричал: — Гоните их из орды, бейте плетками и кнутами, если они будут медлить с возвращением в свои проклятые города, в эти темные убежища крыс. Я ненавижу их, я ненавижу всех, кто живет за каменными стенами и смотрит на нас свысока и с презрением, будто мы жалкие степные мыши!
И толпа поступила так, как велел ей хан. А добро купцов хан раздал своим людям.
Примерно в это же время я как-то сопровождал его во время прогулки вдоль реки. Он спросил меня, что я думаю о Тогруле. И я ответил:
— Когда мы выступили в поход против меркитов, он заставил тебя тщетно прождать три дня, Темучин. И тогда ты сказал мне: «Это цена за обещанную нам ханом Тогрулом помощь. Он не такого знатного рода, как я, но сейчас сила за ним, и своим опозданием он хочет сказать мне, что, несмотря на свое более низкое происхождение, он стоит сейчас выше меня». На что я тебе ответил: «Выходит, дело обстоит так: он человек не столь высокого, как ты, происхождения, однако за ним сила. И он помогает сейчас тебе, человеку более славного рода, но потерявшему всякую власть».
— Так и было, Кара-Чоно!
— То же самое ты сказал мне и тогда, на что я сразу задал тебе другой вопрос: «Почему же он помогает тебе, Темучин?»
— «Потому что видит в этом пользу и для себя!» — вот мои слова.
— «Но ведь и ты выигрываешь. Разве он не должен опасаться, что твоей власти прибудет?» Это тебе, дорогой Темучин, сказал я. И что на это сказал ты?
— Не помню, Кара-Чоно.
— Ты сказал: «Он всегда будет озабочен тем, чтобы я своей властью не превзошел его, чтобы моя власть была лишь опорой для него».
Хан посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. Мы успели уже добраться до берега, спешились и шли по высокой траве и по камням. Вдоль темной кромки леса парили чайки, потом они круто поворачивали влево и опускались на небольшой каменистый островок посреди Керулена. Все было как и в то время, когда мы здесь же поджидали хана Тогрула, — тогда мы ждали его на берегу реки.
— Если я тогда так говорил, значит, я и по сей день должен так думать. И ты тоже. Разве за эти годы мы с тобой не стали одной головой, одним сердцем и одним телом?
Набежавшая туча отбросила тень на его побагровевшее лицо. Река потемнела, и хан поплотнее запахнул свою шерстяную накидку, словно его знобило.
Мы решили вернуться.
Пастухи гнали стада на водопой. В свете заходящего солнца шерсть овец казалась рыжеватой. У костра сидел старик пастух, а рядом лежал только что освежеванный им жирный баран. Старик засунул через рот внутрь барана несколько гладких камней, пролежавших какое-то время в огне, и, трижды поклонившись, пригласил властителя на скромную трапезу.
Темучин отрицательно покачал головой. И сказал мне:
— Сегодня последний день. Так я условился с гонцами. Если они не предстанут передо мной сразу после того, как солнце спрячется за бесконечный лес, я накажу их.
— Но ведь что-то могло помешать им, Темучин.
Он словно не услышал моего возражения и резко отрубил:
— Я набью их сапоги раскаленным песком и повешу им на шею.
И как раз в это время быстроногие скакуны гонцов промчались по главной дороге орды.
Я вошел в дворцовую юрту вслед за ханом.
За нами последовали благородные нойоны.
Появилась Борта.
Рядом с отцом встал Джучи.
Наступила тишина.
Пальцы властителя глухо барабанили по львиным головам из слоновой кости, украшавшим подлокотники кресла. Когда вошли гонцы, хан поднял глаза, уставившись в потолок дворцовой юрты.
— Повелитель кераитов передал для тебя четыре слова…
— Целых четыре слова? — Он резко повернулся в их сторону.
— Четыре добрых слова, хан. Вот они: «Приходи пировать на помолвке!»
Темучин бросился к гонцу и, прослезившись от радости, сказал:
— Сейчас мне стыдно, что в дни ожидания и меня охватили сомнения. Завтра же мы отправимся к нашему сиятельному отцу.
И на другой день маленький караван выступил из нашего основного лагеря. Нас было десять человек. На вьючных лошадях мы везли подарки для хана. По дороге мы заезжали в принадлежавшие нам окрестные орды, пока не попали наконец в ту, где жила Мать Тучи, снова вышедшая замуж.
— Как хорошо, Темучин, — сказала Оэлон-Эке, — что по дороге к Черному Лесу на Туле ты заглянул к нам. У нас для тебя дурные вести.
— Сначала и у нас были дурные вести, — с улыбкой ответил ей Чингисхан, — но со вчерашнего вечера нам, матушка, известно, что мой названый отец Тогрул не внял наветам Сенгуна и Джамухи, желавших посеять между нами вражду. Он пригласил нас на пир в честь помолвки — вот мы и отправились к нему с дорогими подарками и чувством радости и благодарности.
Оэлон-Эке повела нас в свой шатер. Там нас ожидал отчим Темучина — Мунглик и двое его табунщиков, молодые парни в изношенных платьях. Мать Тучи сказала:
— Ты меня не понял, Темучин. Нам известно, что тебя с твоими приближенными пригласили на пир, еще со вчерашнего вечера. Но о том, что тебя собираются на этом пиру подло убить, как и твоего отца, мы услышали только что от этих вот табунщиков.
Отчим Мунглик сказал им:
— Расскажите хану, как все было.
— А было так, — начал один из них. — Вчера мы проезжали неподалеку от шатра Тогрула. Там у ручья несколько женщин и девушек мыли миски и кувшины и трещали, как сороки. И мы услышали, что Джамуха, Сенгун и Тогрул договорились пригласить Темучина на пир, где и схватят его.
— И еще мы услышали, — подхватил другой табунщик, — как одна из женщин сказала: «Интересно, какую награду получил бы человек, который отправился бы к Темучину и передал эти слова, выпорхнувшие из-за белого войлока и для наших ушей не предназначенные?»
— И тогда вы поспешили сюда? Сразу? — пожелал удостовериться Чингисхан.
— Нет, — ответил первый. — Хоть мы и были сильно перепуганы, но спешить не стали, а решили сперва проверить эти слова и в темноте оказались вблизи от шатра хана. Мой друг отвлек стражей разговором о том, какие болезни бывают у лошадей, если их неправильно подковать, а я прислонился ухом к ханскому белому войлоку и услышал такой вот подлый сговор:
Сенгун: «Для тебя, отец, мы схватим Темучина за руки, а другие свяжут ему ноги».
Тогрул: «Как я могу отторгнуть дитя, моего названого сына? Справедливо ли будет причинять ему зло, когда он всегда был нашей опорой? Небо не даст нам на это своего благословения».
Джамуха: «Что бы ты ни задумал, дорогой Сенгун, я пойду вместе и рядом в самые дальние дали и в самые глубокие пропасти».
Сенгун: «А ты, мой отец?»
Тогрул: «Я стар, дайте мне умереть спокойно».
Сенгун: «Тогда мы сделаем это сами, без тебя».
Джамуха: «Да, сами сделаем!»
— Здесь я должен кое-что добавить, мой хан: они оба начали так орать на старого хана и оскорблять его, что стены юрты задрожали, а Тогрул стал умолять их, чтобы они говорили потише. И когда в шатре стало совсем тихо, старый хан дрожащим голосом проговорил: «Если вы считаете, что это у вас получится, действуйте! Вам лучше знать».
— И тогда вы поспешили сюда? — снова повторил свой вопрос Чингисхан.
— Нет, — ответил второй табунщик, — и тогда еще не сразу. Потому что тут из шатра вышел Сенгун и позвал трех молодых воинов. Потом они несколько раз выносили из шатра землю на больших полотнищах, уносили ее куда-то далеко и там сбрасывали…
— Волчья яма? — перебил его Чингисхан.
— Именно так! Над ней поставят для тебя трон, украшенный драгоценными каменьями, с золотой спинкой. Только ты на него сядешь, как провалишься в эту страшную черную дыру и не услышишь даже их жуткого смеха. Свет твоих глаз померкнет так же, как и блеск поддельных драгоценных каменьев.
— Я щедро награжу вас, — сказал хан. — И дам хорошую должность. Сопровождайте меня!
Отчим Мунглик предложил:
— Мы отправим к Тогрулу гонца с такой вестью: «Сейчас ранняя весна, и наши табуны сильно исхудали. Пусть сперва наберутся сил». Это будет предлогом.
Чингисхан поторапливал нас. Не исключено, что побег двух табунщиков был замечен. И тогда враг поймет, что замыслы его раскрыты, и постарается нанести удар первым, сам выбирая поле битвы.
Всю ночь хлестал сильный дождь. Мы побросали в степи все вещи, лишь бы мчаться скорее, мы даже седла бросили и кожаные мешки с водой и другими припасами. Меняя лошадей на свежих, мы прежних убивали, чтобы они не достались возможным пешим преследователям. Хан не проронил ни слова, он несся вперед, припав к гриве своего скакуна, и, когда тот замедлял бег, приставлял ему к шее острие кинжала. Отдыхая, мы привязывали себя уздечками к ногам лошадей и просыпались от того, что лошади, пощипавшие всю траву вокруг себя, отходили в сторону и оттаскивали нас по земле.
На третий день солнце снизошло к нам и выкатилось на небо. А на четвертый мы уже скакали по теневой стороне хребта Маоундур и чуть не столкнулись с большим табуном, который табунщики с дикими криками гнали вдоль горы.
— От кого вы бежите? — крикнул им хан.
— Враг идет! — громко прокричали они в ответ, не узнав Темучина. — Когда мы пригнали табуны к сочной траве, мы увидели невдалеке тучи желтого песка. Это враг! У него несметное войско, которое застит небо!
— Какое расстояние между вами и врагом? — спросил Чингисхан.
— Один день! О властитель, теперь мы тебя узнали.
Гонцы понеслись вниз, к Керулену.
Мы же повернули на восток, где Темучина ждало его войско.
Только мы начали располагать наши утомленные долгим переходом тысячи в боевые порядки, как передовые отряды кераитов взрезали их подобно копьям и сломали этот проверенный во многих битвах порядок.
Врагу удалось нанести нам упреждающий удар.
Чингисхан подбадривал своих воинов криками:
— Никогда еще мы не показывали врагу наших спин! Гоните их! Бейте их! Убивайте!
Один из его военачальников воскликнул:
— Я буду сражаться впереди всех! А тебя, о мой хан, прошу позаботиться потом о моих осиротевших детях!
И каждый вслед за ним стал возбуждать себя воинственными криками, прежде чем броситься на врага.
К полудню оба войска смешались. И как мы ни старались восстановить линию обороны, это нам не удавалось. Еще более затрудняли ведение боя бесчисленные окрестные холмы. То над одним из них взовьется наше родовое знамя, то оно опять пропадает, а с холма доносится рев труб противника.
Когда темень своим покрывалом скрыла живых и мертвых, кераиты оставили поле боя. Они ушли первыми, и мы могли даже подумать, будто одержали над ними победу.
Хан сказал:
— Кроме нас, на поле битвы никого нет, но разве победа за нами? На моих глазах влага, а какой же победитель станет плакать?
На ночь мы отступили за холмы и собрали всех живых и раненых. Когда мне пришлось доложить Темучину, что на поле остались его сын Угедей и его храбрый полководец Бохурчи, он сказал:
— В бою они всегда предпочитали сражаться плечом к плечу. Они и погибли вместе, потому что не желали расставаться.
Но ближе к рассвету мы увидели одинокого всадника. Это был Бохурчи. Перед ним лежал Угедей. Он был без сознания, изо рта и из носа стекали струйки крови. Бохурчи рассказал:
— Подо мной убили лошадь, и она рухнула. Мне пришлось спасаться бегством. Пешком! А кераиты, как раз отходившие, остановились перед Сенгуном, которому стрела пробила щеку. В этой суматохе я заметил вьючную лошадь, с которой сползали мешки, и двумя ударами ножа перерезал державшие их ремни. Я ускакал на ней. А Угедея нашел в траве все равно что мертвого.
Меня удивило, что хан не обнял своего тяжелораненого сына и не похвалил храбреца Бохурчи. Его как бы вообще не задело их возвращение. Он сидел на плоском камне, не смыкая глаз, ни капли не выпил и ни крошки не съел.
Военачальники начали уговаривать его отступать без промедления и нового сражения не давать.
Хан с раздражением ответил им:
— Неужели я сам не понимаю? Но разве не полетит по степи весть: «Чингис бежит!»
— Если мы вернемся с подкреплениями, в этом не будет ничего страшного, — сказал я. — Это куда лучше, чем всем нам здесь погибнуть. Тогда наши женщины и дети попадут в рабство на радость нашим врагам.
— Ты, Кара-Чоно, сказал то, что было у меня на языке. Но могу ли я доверять покоренным племенам? А вдруг они нас оставят, как уже сейчас, когда небо не было к нам милостиво, нас оставили некоторые?
Он тоже сказал именно то, о чем думали многие из нас. Но к утру мы все-таки отошли подальше от холмов, оторвались от кераитов и оставили только слабые заслоны и несколько разведчиков — им предстояло утром совершить на глазах кераитов отвлекающий маневр.
Однако кераиты не отпускали нас далеко, и так как мы оставили им без боя наши самые тучные пастбища, они тоже не искали сражений, а крались у нас за спиной по степи, как стая волков, которая выжидает своего часа.
Расстояние между нами не увеличивалось, но и не уменьшалось.
Когда мы стали лагерем у озера Тунге, хан вызвал к себе с десяток стрелогонцов и приказал им выучить наизусть послание для хана Тогрула: «Я разбил лагерь восточнее озера Тунге. Травы здесь высокие, и наши лошади набрали силу. Мне есть что сказать моему названому отцу, и я прошу его ответить мне: за какие провинности ты решил так напугать меня? Если тебе надо испугать кого-то, разбуди посреди ночи своих спящих сыновей. Трон, на котором я привык сидеть, стал совсем маленьким, дым, выходивший из моего шатра, развеялся. Почему ты так напугал меня? Ответь мне, отец, не разозлил ли тебя какой-то чужой нам человек, не натравил ли тебя на меня мой недруг? О чем мы с тобой договаривались? Разве мы не сказали друг другу на Красных Холмах в горах Джорхалхуна: если какая-нибудь змея захочет вызвать гнев одного из нас на другого, мы не должны этому поддаваться, мы должны сперва взять это на зуб и ощутить языком. Если у повозки сломается одна из двух осей, быкам не стащить ее с места. Разве я для тебя не вторая ось? Если у двухколесной повозки сломается одно из колес, на что она будет пригодна? Разве я для тебя не второе колесо в повозке? Отец мой, в чем ты можешь меня упрекнуть? Пришли ко мне гонца, пусть он объяснит, чем я вызвал твою немилость».
Второе послание Чингисхан отправил Сенгуну. Оно звучало так: «Я сын, рожденный в одеждах, а ты — сын, родившийся нагим. Наш отец хотел заботиться о нас как о равных. Из опасения, что мне будет отдано предпочтение, ты, Сенгун, преследовал меня своей ненавистью. Не заставляй больше страдать сердце отца, а постарайся радовать и веселить его утром и вечером, когда зайдешь в его шатер и когда из него выйдешь. Не доставляй больше горестей нашему отцу и не отдаляйся от него. Беда, если ты не откажешься от своих прежних мыслей, а будешь и впредь добиваться верховной власти при живом отце! Пошли мне весть, Сенгун, я буду ждать ее у озера Тунге».
На сей раз нам не пришлось долго ждать ответа. Гонцы принесли нам только молчание и были еще рады, что унесли ноги живыми. Когда снова рассвело, мы увидели, что кераиты воткнули в степную землю знамя войны. Оно реяло высоко над травой, а я лежал в зеленых цветах, перед которыми Золотой Цветок испытывала неподдельный ужас. Но и мне казалось, что у пришедшей весны грустные глаза, хотя я об этом не сказал Золотому Цветку ни слова.
Темучин ходил со своими военачальниками взад-вперед по поляне и что-то с ними обсуждал. Обычно прямые спины людей, вскормленных победами, были сейчас согбенными, словно они тащили на себе по степи всех убитых за последние годы войны. У озера военачальники сели на усыпанную цветами мягкую траву вблизи одинокой ели, распростершей над ними свои темные ветви, как длинные зеленые руки. Обсуждая свои планы с военачальниками, хан время от времени бросал взгляд на предвещавшее большую войну знамя. До сих пор его ни одно чужое знамя не страшило и ни одна война не пугала, но теперь он с опаской поглядывал на вражеский стяг, а потом принимался с удвоенным пылом убеждать в чем-то своих соратников.
Когда мы узнали, что отец Хулан со своим племенем оставил нас, велев передать: он, мол, предпочитает мирную жизнь в северных лесах беспокойной жизни с войском Чингисхана, Темучин закричал на меня:
— Разве не ради тебя я сжалился над ним в прошлый раз? Враждебные нам татары молчат, потому что я велел умертвить их, а предатели-меркиты бросили меня, хотя я подарил им жизнь!
Я не сразу нашелся с ответом. Помимо всего прочего, я не сразу уловил смысл его речей. Хан уставился на меня с ненавистью, его глаза выкатились из орбит, на шее подрагивал шрам.
— Молчишь? Даже не оправдываешься?
И я спокойно ответил ему:
— Я молчу потому, что твои слова вызваны необузданным гневом, но разве гнев — дитя разума? Ты сказал, что предатели-меркиты бросили тебя на произвол судьбы, хотя ты подарил им жизнь! Но не чересчур ли ты все упрощаешь? Если всех убить, никто убежать не сможет. Это правда. Но кто после этого придет к тебе, Темучин?
— Все равно, я всех их прикончу и нагоню страха на тех, кто останется со мной. — При этом он посмотрел в сторону северных лесов, где скрылись меркиты.
— Всех? Ты убьешь их всех?
— Всех!
— Степь издаст стон, Темучин! — Я отступил на шаг назад. — Убей их вождя — это он совершил предательство. Но не убивай никого из четырехсот воинов-меркитов, которые подчинились своему вождю, как того и требует закон степи.
— Я оставлю в живых двоих: мою красавицу Хулан и ее любимого брата, — ответил он и нанес мне обиду, сделав вид, будто я обращался не к нему, а к бесчувственным камням.
К вечеру наши привели к озеру Тунге оставившее нас племя меркитов. Хан приказал разложить на берегу множество костров и вбить около них в землю низкие колья. К кольям привязали пленных, которые сидели теперь так, как будто они сторожат эти костры.
Чингисхан сказал:
— Как живые вы мне служить отказались — так сослужите мне большую службу мертвыми! Костры будут согревать ваши охладевшие тела, и враг подумает, что это я с моими людьми сижу у них. А мы тем временем ускачем прочь, и преимущества в день пути будет вполне достаточно, чтобы замести следы. — Темучин зашел за спину вождю меркитов и убил его — тот даже звука не издал. — И так будет с каждым из вас — враг не должен ни о чем догадаться.
И стоявшие за кольями воины сделали как им было приказано, хотя у некоторых из них и дрогнула рука: ведь они убивали пленных, которые были повинны лишь в том, что выполнили приказ вождя.
Хан позвал меня:
— Кара-Чоно!
Но я ему не ответил — я пошел к одинокой высокой ели, чтобы глаза мои не видели происходящего. В воде озера отражались костры, и блеск их был кроваво-красным.
Хан снова позвал меня:
— Кара-Чоно!
И снова я не ответил ему. Губы мои сжались так плотно, словно не желали открыться больше никогда в жизни.
В третий раз хан меня звать не стал.
Чтобы не поднимать шума, войско разделилось на небольшие группы. Я еще некоторое время простоял у одинокой ели; и я был не один, хотя не подходил к тем, кого хан оставил подбрасывать хворост в костры, чтобы ввести врага в заблуждение. Сколько дум я ни передумал, а избавиться от самых тягостных мыслей никак не мог. Когда я оседлал своего скакуна и оглянулся на длинную цепь костров вдоль берега, где четыреста убитых сидели на корточках, словно спящие воины, мне подумалось еще: как тяжело, отец, жить так, как жил ты!
Утром я догнал хана. В лучах взошедшего солнца перед нами открылась равнина без единой травинки, без цветов и воды. И только высохшие солончаки подрагивали на ветру. По глинистой почве побежали тысячи трещинок и морщинок, из некоторых выемок подобно мертвому глазу выглядывала лужица мутной воды, присыпанной тонким слоем желтого песка.
Мы скакали рядом, но Темучин словно и не замечал меня, он не обращался больше ко мне, начальнику своих телохранителей, и не говорил: сделай, мол, то-то и то-то, а передавал свои приказы через моего помощника.
Мы ехали по этой тоскливой равнине много дней подряд, и, кроме мышей-полевок, не на кого было поохотиться. Как-то хан собрал всех своих ближайших сподвижников вокруг такой вот вонючей лужи. Но все они утолили жажду, напившись этой зловонной жижи, после чего Темучин поклялся, что каждого, кто оставит его ряды, он в этой жиже и утопит.
Я стоял в сторонке, потому что он не подозвал меня.
Наши разведчики донесли, что кераиты Тогрула отказались от преследования — они потеряли наши следы. Случилось то, чего хан и добивался, и так как два дня спустя мы оказались у самого озера Балдчуна, очень скоро забылись и тяготы многодневного похода.
Когда мы приблизились к озеру, ощущение было такое, будто само голубое небо опустилось на землю, чтобы спасти нас.
И вдруг появился брат Чингисхана, Хазар, которого мы ждали со всем его войском, рассчитывая на помощь. Но с ним было совсем мало воинов: кераиты неожиданно напали на него и нанесли сокрушительный удар. У него отняли женщин и детей, и по безжизненной равнине он тоже добирался много дней, испытывая неимоверные страдания.
— Мы питались одной звериной шкурой и жилами, — этими словами Хазар завершил свой рассказ.
И как эти поражения ни сжимали тоской наши сердца, Темучин первым поднял голову и проговорил с усмешкой:
— Хазар, мы пошлем от твоего имени послание Тогрулу, которое его порадует.
— Ты смеешься, брат, ведь он держит в плену моих жен и детей!
— Меня, брат, развеселила одна мысль, которую мне только что подарили боги. Позови двух верных тебе людей, им я и скажу, что передать моему названому отцу.
Хазар жестом руки подозвал двух воинов, одного из которых звали Хали-Удар, а другого Чахур-хан. Платья на них были разорваны в клочья, щеки запали. Они не сводили воспаленных глаз с хана, сказавшего им:
— Скачите к Тогрулу, которого я некогда назвал своим отцом, и передайте ему такие слова, якобы сказанные вам Хазаром: «Я повсюду искал моего старшего брата Темучина, но потерял его из виду и никак не мог с ним встретиться. Я долго шел по его следу, но все зря. Я звал Темучина, но он моего призыва не услышал. Я сплю, и над головой у меня звезды, а вместо подушки — родная земля. Мои жены и дети в твоих руках. Если ты поручишься передо мной за их жизнь и вернешь мне надежду, я готов встать под твою руку». Вот что вы, Хали-Удар и Чахур-хан, должны передать ему от имени моего брата Хазара. Ни меня, ни моих людей вы якобы и в глаза не видели. Это для того, чтобы Тогрул поверил, будто мертвая равнина послала меня и всех моих воинов в вечные высоты, откуда возврата нет.
И оба гонца немедленно ускакали.
Все присутствовавшие при этом воздали хану должное за его хитрость, и я, хоть и не подавал виду, был с ним согласен.
Глава 14 ХА-ХАН
У озера Балдчуна наши лошади отдохнули, да и нам не приходилось больше пить вонючую жижу и есть полевок: в камыше было полным-полно уток, гусей и лебедей.
Прежде чем гонцы вернулись, к нам присоединилось несколько племен, бросивших Тогрула, потому что он, опьяненный одержанной победой, ограбил их или не поделился добычей. Джамухи тоже не было больше в лагере кераитов. Разведчики донесли, что между ним и Тогрулом вышла ссора — каждый из них хотел возвыситься над другим. Несмотря на этот разрыв, войско кераитов было еще намного сильнее нашего, и нам по-прежнему приходилось избегать открытого сражения.
Но вот и гонцы вернулись. Хали-Удара и Чахур-хана мы узнали издали, но между ними скакал незнакомый нам всадник. Когда они приблизились настолько, что перед их глазами открылся наш лагерь, незнакомец повернул лошадь и поскакал прочь. Чахур-хан пустил стрелу в его вороную и попал в правую бабку — лошадь так и села! Люди Хазара привели схваченного ими незнакомца к хану.
Хали-Удар улыбнулся:
— Его зовут Итурген, и старый Тогрул послал его к тебе, Хазар, с вестью, что принимает тебя под свою руку!
— Темучин! — испуганно воскликнул Итурген. — Ты жив?
Чингисхан кивком головы дал Хазару понять, что пленник в полной его власти, и Хазар обезглавил кераита, не обменявшись с ним ни словом.
А потом Хали-Удар и Чахур-хан рассказали, что Тогрул велел поставить в знак победы над Темучином шатер из золотой парчи и, предвкушая покорение остальных враждебных племен, решил задать большой пир победителей.
— Он ни о чем не догадывается и считает, что все вы давно пребываете у богов.
— Вот и хорошо, — кивнул Чингисхан. — У озера Тунге мой названый отец ответил на мое послание знаменем войны. И значит, он меня отринул. А раз он меня отринул, я применю военную хитрость. Я окружу его войско и возьму в плен прямо во время пира, когда он будет восседать на своем троне, чуть не лопаясь от важности. Глупца Сенгуна мы убьем без лишних слов, где бы его ни встретили, — он виноват больше всех остальных. Старика же Тогрула приведите ко мне, чтобы я мог немного поговорить с ним. Мне не терпится увидеть, как он будет трястись от страха.
Послышались приказы.
Воины седлали лошадей.
На вьючных лошадей грузили свернутые кибитки и юрты.
Поднялись столбы пыли.
Согласно принятому у нас порядку, я ехал справа от моего властителя, мой помощник слева, а остальные окружали нас веером — либо широко раскрытым, либо собранным, в зависимости от местности. Чтобы поберечь лошадей, мы поначалу ехали очень медленно, чуть ли не шагом, так что хвосты яков на древках наших флагов висели неподвижно. Темучин переговаривался с моим помощником, а ко мне не только не обращался, но не удостоивал даже взглядом. Но я от этого никаких страданий не испытывал, а хранил молчание, как и он. Ведь это не я преступил законы степи…
Когда мы снова достигли нашего лагеря у озера Тунге, на нас из травы глядели только четыреста низких кольев, возвышающихся над цветами подобно поднятым при клятве пальцам. А сами цветы в этот жаркий полдень тоскливо свесили свои головки. На длинных зеленых лапах одинокой ели расселись стервятники.
На другой вечер мы были уже вблизи лагеря кераитов и окружали его, как приказал хан. И вот началась битва. Длилась она два дня и две ночи. По ночам, казалось, горело все небо, а днем солнце закрывалось стеной дыма, который гнал со стороны степи свежий ветер.
Все шло так, как задумал наш властитель.
Когда на третий день враг наконец сдался и Чингисхан со своими телохранителями пробился к золотому шатру вождя кераитов, он воскликнул:
— Где тот, кто некогда был моим названым отцом? Он что, спрятался под войлочным одеялом и дрожит от страха? У меня есть для него послание от богов!
Никто ему не ответил.
И снова воскликнул Темучин:
— А его сын, он-то куда запропастился? Я хочу вырвать его язык, чтобы он никогда не сеял больше вражды и ненависти между братьями!
Из толпы пленных выступил широкоплечий кераит, который обратился к Чингисхану с такими словами:
— Меня зовут Хадах-баатур. Два дня и две ночи я с моими людьми сражался против твоих и думал: «Как я могу схватить и предать смерти человека, которого столько лет по праву считал своим господином?» Поэтому я не схватил и не выдал его тебе, Чингисхан, а затягивал битву до последнего, чтобы дать ему возможность спасти свою жизнь и бежать как можно дальше отсюда. Его сын бежал вместе с ним. Если я за это должен сейчас умереть, я готов принять смерть. Но если Чингисхан помилует меня, я буду служить ему верой и правдой!
Темучин, на которого эти слова произвели впечатление, ответил:
— Кто не предает своего законного властителя, а сражается за спасение его жизни до последнего — настоящий мужчина и воин! Такой человек достоин того, чтобы я принял его на службу!
После того как хан щедро наградил своих приближенных и раздал воинам пленных женщин и детей, одежду, оружие, золотые кубки, чаши и кувшины, мы еще долго оставались в тени горы Абшида-Кодегер. Темучин начал перестраивать свое войско и издал указ, по которому следовало подвергнуть казни всех тех, кто в дни поражений отказали ему в повиновении или ушли из лагеря, а теперь, после великой победы, готовы снова служить ему.
Первыми двумя, кого казнили, были два военачальника-нойона, которые тогда, на безжизненной равнине, где мы пили вонючую жижу, отказались принести ему клятву в верности, потому что не надеялись больше на конечную победу. После этого воины столкнули в пропасть нескольких связанных сотников. Хан приказал, чтобы их подвергли «смерти с кричащим ртом», а не «беззвучной», когда осужденным набивали рот землей и травой. Мы днем и ночью слышали душераздирающие крики. Да мы и должны были их слышать, ведь наш хан сказал:
— Пусть эти крики пронзят вас до мозга костей! И пусть они устрашат тех, кто считает, будто есть еще кто-то помимо меня, кому они могли бы служить! Это так же невозможно, как невозможно воткнуть два меча в одни ножны!
Я сидел перед юртой Чингисхана, как юртовый пес, которого прогнал хозяин. Даже мой помощник избегал меня с тех пор, как непокорных сбросили в пропасть. По ночам меня терзал страх. В мечтах я бежал к Золотому Цветку и Тенгери, а потом вместе с ними бежал на север, в тихие бескрайние леса, к чистым блестящим озерцам, где нам с Золотым Цветком не пришлось бы бояться весны и лета, где мы могли бы радоваться возвращению певчих птиц.
Но вот снова взошло солнце, и воины повели к пропасти новых осужденных. Они же столкнули в пропасть и мои мечты, ибо светлый день сказал мне: ты хочешь бежать? Может быть, тебе и удастся пробраться на север. Но одному тебе бежать никак нельзя, потому что в главном лагере, у Керулена, тебя ждет Золотой Цветок. Значит, сначала ты должен добраться до нее и лишь после этого бежать на север. А вот это уже невозможно: дорогу к лагерю перекрыли воины Темучина…
Однажды утром хан сказал:
— Пришлите ко мне того, кто сидит справа от входа в юрту.
Вот как? Я послушно встал. Я даже не успел испугаться. А если и успел, то проглотил страх. Пусть он шевелится где-то в моих зрачках, но на лице у меня его быть не должно.
— Ты хотел меня видеть?
Темучин сидел на золотом троне перед обтянутой синим шелком стеной юрты.
— Да, — ответил он и щелкнул пальцами, после чего слуги и телохранители сразу покинули ее. — Я велел позвать тебя!
На фоне синей стены его наряд золотистого цвета напоминал скомканное солнце.
— Почему ты пришел? — тихо спросил он.
— Потому что… — у меня перехватило дыхание. Лишь сейчас я догадался, почему он добавил: «Я велел позвать тебя!»
— Потому что?.. — Темучин откинул голову, прислонившись к синему шелку.
— А почему бы мне и не прийти, мой хан? — уклонился я от ответа.
Он как будто задумался. Только в эти мгновения я осознал, что телохранители не отняли у меня пояса, шапки и меча. Это придало мне немного уверенности, хотя я и знал, что у хана есть привычка не отнимать эти знаки достоинства даже у тех, кого он заранее осудил.
— Ты спросил: «А почему бы мне и не прийти, мой хан?» — начал он опять. — Но разве ты всегда приходил, когда я звал тебя?
— Нет!
— А разве не следует приходить всегда, когда тебя зовет твой хан?
Я замер. Что это? Западня?
— Вообще-то в твоем вопросе есть и ответ на него. Что мне остается? Если я скажу «да», я, может быть, спасу свою жизнь, а скажу «нет» — ты, скорее всего, велишь сбросить меня в пропасть.
Чингисхан поднялся.
— Ты и без того уже отвечал мне отказом. Я дважды звал тебя у озера Тунге, и дважды ты делал вид, будто не слышишь, хотя я отлично видел тебя — ты стоял совсем недалеко, под елью.
— А ты слышал меня, когда я говорил с тобой о меркитах? Я словно к камню обращался, к большому холодному камню.
Он снова вскочил на ноги и забегал вдоль синей стены, резко остановился вдруг и, повернувшись ко мне, выкрикнул:
— Неужели я обязан услышать тебя, если мне, хану, твои слова не по нраву? Разве я и не твой властитель тоже?
Вошел гонец и доложил, что Тогрул и его сын Сенгун попались в руки к племени, которое они несколько лет назад ограбили.
— Их казнили. Вождь велел взять голову Тогрула в серебряную оправу и насадить на заднюю спинку своего трона — лицом к востоку!
Когда гонец удалился, Чингисхан торжественным голосом проговорил:
— Итак, империя степи открыта предо мной настежь. Все живущие в войлочных юртах войдут в мой народ! Тебе же, бывшему дольше других рядом со мной, я скажу вот что: не услышавшие моего призыва всего один раз закончили свою жизнь в пропасти, но у тебя, не услышавшего мой призыв дважды, я жизнь не отниму, потому что в твоем присутствии мне принесли самую радостную весть в моей жизни. От службы, которую я некогда тебе доверил, я тебя отстраняю — я не потерплю, чтобы перед моей дверью стоял человек, который закрывает уши, когда я зову его! Отправляйся к одному из десятников и стань под его руку.
Я поклонился ему, как поклонился бы чужому человеку.
Выйдя на ясный солнечный свет, я подумал: да, дружить могут только равные, а не так, чтобы один стоял выше, а другой ниже. Это сказал мне однажды мой отец. А в другой раз он еще заметил, что крепость дружеских чувств зависит еще и от того, как друзья один другого слушают и как друг другу отвечают: только так может быть обретена истина, только это поможет им всегда уважать друг друга. Можно ли быть друзьями, когда один убивает возражения другого, потому что у него, хана, в руках карающий меч и золотая узда повиновения?
Вот о чем я думал, проходя по рядам белых кибиток лагеря, и вот к какому выводу пришел: в юные годы ты обрел друга, но мудростью отца не обладал. А теперь, в зрелые годы, ты потерял одно, чтобы обрести другое.
Все это случилось в тот день, когда пришла весть о смерти Тогрула и Сенгуна.
Но один все-таки остался в живых: Джамуха. Поскольку я не находился больше в окружении хана, мне ничего не было известно ни о его мыслях, ни о намерениях, прежде чем они становились известны всем воинам. Меня удивляло только, почему после того, как мы разгромили кераитов, мы по-прежнему оставались у горы Абшида-Кодегер, а не возвращались к голубому Керулену.
И вдруг войско выступило в поход. Джамуха заключил союз с вождем найманов Байбукой-Тянгом. Тысяча, к которой я принадлежал, прикрывала наши тылы и осталась в ущелье у Ханской горы. После победы мы приняли пленных, среди которых оказался и один из найманских военачальников, у которого все лицо дергалось от страха и который рассказал, как его вождь Тянг во время сражения потерял власть над собой и крикнул Джамухе:
— Кто эти люди, которые преследуют наших, как волки овец?
И Джамуха якобы ответил:
— Это четыре пса Темучина, которых он вскормил человеческим мясом; он посадил их на железные цепи; у них медные лбы, вместо зубов одни клыки, жала вместо языков и сердца из железа. Вместо плеток у них в руках кривые сабли. Они пьют росу, скачут, оседлав ветер, и во время боя пожирают человечину. Теперь их спустили с цепи, и из пасти у них брызжет пена — так они рады. Эти четыре пса: Джебе, Бохурчи, Джелме и Субудай.
Тогда Байбука-Тянг спросил:
— А кто позади них, тот, кто летит над степью, как голодный ястреб?
— Это сам Темучин и есть, — ответил Джамуха, — с головы до ног закованный в железные доспехи. Это он летит на нас, как голодный ястреб. Видишь, как он низвергается на нас? Ты, Тянг, сказал, что, когда придут монголы, от них, как от разделанных баранов, ничего, кроме рогов и копыт, не останется. Что ты скажешь теперь?
Вот что поведал нам найманский военачальник о битве. А когда закончил, попросил кинжал и проговорил, опустившись на колени:
— Мой вождь Байбука-Тянг пал на поле брани. Как же мне жить после этого?
Он пронзил себе кинжалом грудь и умер, так и не раскрыв больше своих посиневших губ.
Что касается Джамухи, то ему хан даровал милость умереть бескровной смертью: его удавили.
Вот так и родилась империя степи.
И мы повернули наконец к Керулену. Я радовался предстоящей встрече с Золотым Цветком и Тенгери. Но здесь мы остались ненадолго. Прежде чем река замерзла и в долине поднялись снежные бури, наша орда откочевала вверх по Онону. На берегу этой реки и должен был возникнуть наш главный лагерь, вокруг которого простирались бесконечные пастбища, которым теперь никакие враги не угрожали.
В эту зиму мы с Золотым Цветком и Тенгери часто сиживали у костра, как в былые времена. И как тогда, ветер заносил в щели войлочных юрт снег. Но я не говорил, как прежде, Золотому Цветку, что зима прекрасна, потому что я могу быть с ней. Я сказал:
— Отныне тебе незачем будет больше грустить, Золотой Цветок, когда вернутся певчие птицы, и незачем будет плакать, когда распустятся первые цветы.
Она целовала меня, и в глазах ее светилась весенняя радость.
Но летом этого же года Тигра{9} Чингисхан созвал большой курултай всех живущих в войлочных юртах народов и пригласил на него всех знаменитых вождей и нойонов с их женами.
Посреди огромной орды у Онона возвышался самый большой из всех шатров, что мне доводилось видеть, белый, как лебедь, как и развевающееся над ним наше родовое знамя с соколом и вороном. Шлемовидную крышу шатра поддерживали девять позолоченных столбов. Сама крыша была покрыта красным бархатом. Широкий вход в шатер с козырьком над ним смотрел на юг подобно огромному черному зрачку. А на кольях с рогами яков на них, ограничивавших дорогу к шатру, развевались срезанные черные конские гривы.
Пока что шатер был пуст, только мастеровые трудились над водружением трона, украшали его драгоценными каменьями и оплетали его подлокотники и спинку золотыми обручами-змейками.
Я же вместе с тысячами других мужчин доил за пределами орды тысячи кобылиц, а Золотой Цветок вместе с тысячами женщин доила тысячи коров. Из одного нарождался потом пенистый кумыс, а из другого — огненная арака.
В день выборов нойоны положили перед дворцовой юртой черный войлочный ковер, на который и сел хан.
Потом призвали Гекчу, того самого старого шамана, который когда-то прочел на бараньей кости имя Чингис. Он предстал перед властителем и народом с распростертыми руками. Мы смотрели на него с почтением и благоговением, ибо он был святым, который по ночам, когда все мы спали, поднимался на невидимом скакуне на небо, где беседовал с духами и божествами; он подолгу не принимал пищи, чтобы умилостивить богов, безропотно выносил самые страшные холода и мог преспокойно сидеть нагим в снегу. И этот Гекчу сказал нам:
— Вечное Синее Небо велело мне передать народу монголов: «Да возвысится Темучин, прозванный Чингисханом, до Ха-хана{10}».
— Мы желаем, мы просим и повелеваем, чтобы ты стал нашим всеобщим господином и Властителем! — воскликнули благородные вожди и нойоны. — Ты наш Чингис-Ха-хан!
Толпа неистовствовала.
Благородные подняли ковер за четыре конца и понесли Властителя к его трону. Рядом с ним восседала Борта, а у его ног сидели сыновья и дочери, Мать Тучи и отчим Мунглик. Несколько в стороне от трона сидели младшие жены Ха-хана, и среди них прекрасная Хулан с мальчиком на руках.
Лица присутствующих сияли, как и их дорогие наряды, в лучах солнца.
Темучин поднялся и сказал:
— Наша новая империя расширила свои пределы, воины! Она простирается от Шинганского плоскогорья на востоке до Алтайских гор на западе и от озера Байкал на севере до самой пустыни Гоби на юге. Слову моему повинуются тридцать один народ, это два миллиона человек. И есть среди них один народ, который насчитывает четыреста тысяч человек. Это подобный чистейшему горному хрусталю народ монголов, храбрый и неодолимый. Он был со мной вопреки всем угрозам и страданиям, он был со мной и в радости, и в горе. Он — самое лучшее из всего, что рождено на земле. Он, верный мне, позволил мне добиться великой цели, и я хочу, чтобы отныне он звался «Небесно-синие монголы».
Ликованию не было предела.
Хан подошел к одному из множества больших котлов с вареной кониной. Нанизал на конец кинжала лучший кусок и поднес его Бохурчи, который вместе с остальными военачальниками стоял в улочке жертвенных огней. Это повторилось еще несколько раз: так хан, по древнему обычаю, награждал своих храбрейших воинов.
Потом призвав всех к спокойствию, властитель сказал:
— Если вы желаете, чтобы я был вашим господином, готовы ли вы все, исполнены ли вы все решимости выполнить то, что я прикажу, прийти, когда я позову, скакать, куда я вас пошлю, и убить каждого, на кого я вам укажу?
— Мы готовы, Ха-хан! — воскликнули вожди, нойоны и военачальники, ибо вопрос был обращен к ним одним.
— Да воцарятся порядок и мир!
Он поднял свой золотой кубок над головой, все благородные последовали его примеру, а народ поднял свои чаши, и радость озарила лето, мужчин, женщин и детей. Зазвучала музыка — били в барабаны, дули в трубы и рога, зазвенели сотни и сотни больших и маленьких колокольцев.
Мужчины танцевали перед ханом, а женщины перед Бортой.
Седовласый старый табунщик пробился к трону и попросил хана разрешить ему спеть песню.
— Тихо! — потребовал Темучин, и шум сразу улегся.
Старик запел песню. Он пел хриплым низким голосом песню о своей единственной овечке. Однажды эта овечка, его единственная, убежала от него в густой-прегустой лес, в самую чащобу. И ему пришлось переплыть пять озер и перейти через восемь холмов в поисках овечки. Он нашел ее. Она лежала в кустарнике, в глубине его. Но колючки у кустов были все равно что железные наконечники стрел. Когда он все же протиснулся в кустарник, схватил ее и потянул на себя, одна из колючек вонзилась ему в глаз и погасила свет этого глаза. «Но овечку свою, — завершил песню старый табунщик, — единственную мою овечку я все-таки спас!»
Чингисхан бросил одноглазому золотой пояс. Согбенный, тот поспешил замешаться в толпе. Я долго смотрел ему вслед. Прежде чем скрыться в своей юрте, тот несколько раз оглянулся, словно опасаясь, что его догонят и отнимут подарок.
А празднество опять разгоралось. Барабаны, трубы и рога вперемежку с сотнями и сотнями колокольцев.
Властитель воскликнул: «Ха-ха!»
И все выпили.
Властитель воскликнул: «Кху-кху!»
И все вскинули мечи к небу. Солнце смеялось.
И хан смеялся. И Борта. И сыновья.
Народ танцевал.
«Ха-ха!»
«Кху-кху!»
Иногда Темучин узнавал и отличал кого-нибудь из своих воинов. Тогда он подзывал его к себе:
— Послушай, это не ты отдал мне свою лошадь у Килхо, когда моя подо мной пала?
— Да, мой Ха-хан!
И тут же героя брали в круг и хлопали ему в ладоши.
На третий день празднеств голос хана снова перекрыл общий шум на широкой площади перед его дворцовым шатром:
— Я хочу огласить вам закон, ибо не было до сих пор порядка в степи. Дети не следовали заветам отцов, младшие братья не подчинялись старшим, мужья не доверяли женам, а жены не подчинялись слову мужа, подданные не воздавали подобающих почестей стоящим выше их, а вышестоящие не выполняли своих обязанностей перед подданными, богатые не поддерживали властителей, и никто не довольствовался тем, что имел. В родах начались смуты, люди перестали понимать друг друга, появилось множество недовольных, лжецов и клятвопреступников, воров, подстрекателей и грабителей. Когда Чингисхан возвысился и все пришли под его руку, он решил властвовать, руководствуясь жестким законом, чтобы в степи установились наконец спокойствие и благоденствие!
После этих слов он подозвал к себе юношу, которого мне никогда прежде не приходилось видеть. Властитель обратился к нему так:
— Ты — мудрый Тататунго и, как ты показал мне, умеешь прорезать на дощечке палочкой те слова, что я произнес. С сегодняшнего дня ты всегда будешь подле меня и будешь записывать все, что я скажу, потому что я хочу составить яссу{11}, которая будет для всех, кто придет после меня, непререкаемым законом. Если потомки, которые народятся через пятьсот, тысячу и даже через десять тысяч лет после нас, будут сохранять в неприкосновенности и соблюдать законы и обычаи Чингисхана, Небо всегда будет благосклонно к ним и ниспошлет им свою помощь. Они будут долго жить, наслаждаясь земными радостями. Если же они не станут строго придерживаться яссы, империя сотрясется и рухнет. Они снова станут взывать к Чингисхану, но он к ним не придет.
Праздновали все лето.
Когда оно прошло, Ха-хан собрал вокруг себя своих ночных телохранителей и сказал им:
— Я обращаюсь к вам, мои старые верные стражи. К тем, кто в безлунные и беззвездные ночи охранял мою юрту, чтобы я мог спокойно и мирно смежить веки, к тем, кто возвел меня на трон, к тем ловким, сильным и смелым, кто был готов идти за меня на смерть, едва заслышав легкий шорох вдали, даже если это были не шаги подкрадывающегося врага, а шелест листьев березы. Отныне вас будут называть «Старыми ночными стражами». Сейчас, когда мне предопределено Небом владычествовать над всеми народами, я приказываю вам отобрать из всех тысяч и сотен еще десять тысяч человек для моей личной охраны. Эти воины, которые всегда будут при мне, должны быть высокого роста, сильными и бесстрашными. И вдобавок из родов вождей, нойонов и военачальников. А из этих десяти тысяч отберите тысячу для постоянной охраны моей дворцовой юрты.
Главный шаман Гекчу прошептал что-то хану на ухо. Это было против правил, хотя для многих не осталось незамеченным, что наш святой в последнее время то и дело появляется во дворцовой юрте. Люди в орде уже начали перешептываться: он-де начал оказывать влияние на хана, что ему вовсе не положено.
Только я захотел удалиться, как кто-то громко воскликнул:
— Разве есть такой обычай, чтобы шаман, даже если его зовут Гекчу, давал советы хану, прежде чем выскажутся его приближенные?
Шаман, весь сморщившись, неприязненно спросил:
— А если того желает Небо?
— Все наши обычаи в воле Неба! — ответил ему неизвестный мне человек, которого толпа как бы выдавила из себя и выдвинула вперед, чтобы властитель мог хорошо его слышать.
Однако Ха-хан промолчал.
Тогда Гекчу снова обратился к Чингисхану:
— Пока жив Хазар, твоя власть под угрозой, ибо Небо сказало: «Сначала над народами будет владычествовать Чингис, а потом властителем станет его брат Хазар».
— Что это за речи? — послышалось из толпы.
А властитель по-прежнему хранил молчание. Я хорошо видел его и заметил, как налился кровью шрам на его шее и как он задергался, хотя хан старался с невозмутимым видом смотреть поверх голов стоящих перед ним людей. Посланец Неба ухмыльнулся. Он знал хана не хуже меня и догадывался, наверное, что не хватает всего нескольких слов, чтобы навязать Темучину какое-то решение.
И шаман проговорил:
— Видел ли ты, великий хан, как твой брат Хазар держал за руку твою любимую младшую жену красавицу Хулан и…
— Стража! — взревел Темучин.
Толпа в испуге отступила.
Этот крик низвергся на них как раскаленная лава с горы. А потом люди все-таки подняли головы, любопытствуя узнать, какой приказ отдаст хан.
— Снимите с Хазара шапку и пояс и приведите на допрос связанным!
Посланец Неба прижмурил глаза и с нескрываемым торжеством бросил взгляд на мужчину, усомнившегося в его всесилии.
Когда стражи и телохранители притащили Хазара, к дворцовому шатру на белом верблюде подъехала Мать Тучи и, увидев лежавшего на земле Хазара, разрезала на нем ремни и веревки, выхватила из рук стража его шапку и пояс и вернула сыну. Потом старуха села, поджав под себя ноги, расстегнула халат и обнажила свои ссохшиеся груди. И сказала Оэлон-Эке:
— Видите их? Это те самые груди, из которых вы сосали молоко! Что такого сделал Хазар? Темучин обычно высасывал одну мою грудь, Хазар же — обе и приносил мне облегчение. Вот почему моему мудрому Темучину дарованы силы духовные, а Хазару даровано умение натягивать тетиву и сила богатыря. Сколько раз он своей меткой стрелой разил в боях тех, кто поднимался против тебя, сколько раз его стрела опрокидывала наземь разведчиков врага, пытавшихся скрыться? Сколько племен благодаря ему стоят теперь за твоей спиной? И сейчас, когда враги повержены вами, Хазар тебе больше неугоден? Видеть больше его не можешь, да?
— Мать! — сказал Темучин, желая умерить ее гнев. — Наш шаман…
— Умолкни! Шаман нашептывает! Разве боги приказывали говорить тихо, когда говорят правду?
Гекчу отступил на шаг назад.
Хан уставился на него.
А Мать Тучи не унималась:
— Какие у нас порядки, Темучин, если даже твои родные братья должны дрожать за свою жизнь? Что ты за Ха-хан, если прислушиваешься к наветам шамана? Если он уже сейчас не благоговеет перед тобой и тебя не страшится, что же будет после твоей смерти? Кому будет охота повиноваться твоим сыновьям? Для кого ты создал свою империю: для своих родов или для него?
Властитель приказал толпе отойти подальше от дворцовой юрты. Не хотел, наверное, чтобы мы и дальше были свидетелями этого нелицеприятного разговора. Но телохранители и стражи не слишком-то на нас нажимали: им самим хотелось не упустить ни слова из этой перепалки перед дворцовой юртой.
На какие-то мгновения я, находясь в толпе, потерял юрту Темучина из виду и что там вдруг произошло, не понял.
Кто-то воскликнул:
— О хан, с того времени, как могучая земля была величиной с пастбище для нашего скота, а море и реки были не больше озера с ручьями, я всегда был твоим спутником!
А властитель закричал — на кого, я не знал:
— Ты лжешь! Ты пришел, когда ты убоялся не прийти! Я же принял тебя, не сказал тебе ни единого злого слова и посадил на почетное место. Я дал твоим сыновьям высокие должности и оказал им почести. А ты не научил их скромности и способности к повиновению! Гекчу возжелал возвыситься над моими сыновьями и братьями! Он решил стать мне ровней и даже превзойти меня! А ведь когда мы пили вонючую жижу, ты поклялся мне в верности! Теперь ты хочешь свою верность проглотить? Как это понимать? Тот, кто данное утром слово вечером берет обратно, а от слов, сказанных вечером, отказывается на другое утро, тот услышит, что должен навек устыдиться!
Толпу заколыхало туда-сюда, я упал, и вместе со мной попадали многие другие, а когда я опять крепко стоял на ногах, телохранители уже повалили посланца Неба на землю и переломали ему хребет.
— Он лежит и не шевелится, — сказал кто-то.
Потом мертвого шамана отнесли к пустой юрте, швырнули внутрь и плотно затянули ремнем полог.
На другое утро Ха-хан обратился к нам с такими словами:
— Наш главный шаман Гекчу, бывший посланец Вечного Синего Неба, избивал моих братьев кулаками и надавал им пинков, он без всякой причины сеял смуту между моими братьями и во всем нашем роду. Небо не пожелало больше видеть его и отняло у него и жизнь и тело.
Темучин развязал ремешок полога юрты, и мы по очереди заглянули внутрь — трупа шамана в ней не было.
Выходит, неведомая сила унесла святого через округлую крышу юрты в небесную высь. Так мы говорили. Так говорили все заглянувшие в пустую юрту. Но эта пустая юрта всех нас обеспокоила. Мы видели примятую траву, на которой лежал Гекчу, и поднимали глаза к высокому небу, с которого он, наверное, взирал сейчас на нас.
Юрта молчала, как молчат все пустые юрты.
Ветер играл холодным пеплом.
Народ вопросительно смотрел на своего властителя. Как бы люди ни осуждали поведения Гекчу, они не представляли себе жизни без верховного шамана.
Один из стариков спросил Ха-хана:
— Если один умер, не пора ли прийти другому?
Какая-то женщина запричитала:
— К кому нам прийти за советом, когда нагрянет нужда? Кто передаст наши просьбы богам?
С такими и примерно такими вопросами к Чингису взывали многие. Он всех их терпеливо выслушал.
Вечером того же дня властитель созвал народ к дворцовой юрте.
— Я выслушал ваши речи, — молвил он. — И так как они созвучны и моим чаяниям, мы назначаем верховным шаманом мудрого Уссуна. Отныне он всегда будет ходить в белом наряде, восседать на белой лошади и занимать почетное место в моем шатре. Боги снова с нами, а мы — с ними!
Толпа, глубоко тронутая, склонилась в низком поклоне.
Глава 15 КОШКИ И ЛАСТОЧКИ
То был год счастья, год солнца, луны и любви. Мы пили тишину, столь непривычно окружавшую нас. И чем дольше она стояла, тем меньше мы опасались, что она вдруг может рухнуть.
Зимой я опять сидел с Золотым Цветком и Тенгери у очага в юрте. И в который уж раз ветер забивал снег в щели между войлочными полосами. Мы говорили о весне, о лете, об осени, о прекрасных днях, когда пойдем удить рыбу или охотиться на зверя, когда Тенгери научится ездить верхом без седла, стрелять из лука и стричь овец. Я брал его с собой, даже когда охотился на куропаток. Я с удовольствием наблюдал за тем, как уверенно он сидит на лошади и как ловко держит на затянутом в перчатку кулаке сокола.
Мы мечтали о том, каким будет год наступающий. Можно предаваться мечтам, когда мечтаешь о добром, в мечтах можно пожелать себе всего, от чего никому не будет убытка. И значит, мы мечтали о том, чтобы приходящий год был не хуже уходящего, мы мечтали, чтобы нам прибыло того, от чего никому не убудет. Да, наши души, помыслы наши были чисты, и мы с благоговением взывали к богам, а по ночам ставили перед юртой миски с угощением, делая жертвоприношения, чтобы исполнились наши мечты.
…Отлетела весна, тихая и нежная.
Ха-хан послал всего лишь несколько небольших отрядов из молодых воинов, чтобы подавить волнения в некоторых покоренных нами племенах. Это были не походы, а только карательные набеги на возмутителей спокойствия, вздумавших выйти из империи степи и поселиться там, где никакой Чингис над ними властвовать не будет. До нашей орды слухи об этих боях почти не доходили, мы жили в мире, уважая законы Ха-хана, новые законы, вырезанные Тататунго на железных табличках.
Когда я однажды утром скакал с Тенгери вниз по Онону в поисках хорошего места для рыбной ловли, мальчик подсказал мне, что за нами следуют два всадника. Я ответил:
— Берег у реки длинный, а рыбы в ней больше, чем звезд на небе, сын мой.
Да, я называл Тенгери своим сыном, а он меня — своим отцом. Я никогда не напоминал ему о том, что подобрал его однажды на поле боя, как сломанный цветок, лежавший между мертвыми, и взял его с собой.
Перед нами поднимался холм, и когда мы подъехали ближе, то спешились, стреножили лошадей и дали им попастись.
Над нами поднялось несколько уток.
Подул ветер.
Мы забросили удочки в реку.
Тенгери повезло. Он с радостной улыбкой вытащил на берег большого сазана. И снова в воздух полетели брызги ила — это ему попалась уже очень крупная рыба, но, прежде чем я подоспел ему на помощь, он успел убить ее.
Вдруг Тенгери шепотом предупредил меня:
— Всадники, отец!
Я оглянулся, скорее, из любопытства, чем из страха. Они были на самой вершине холма, сидели в седлах как влитые и посматривали то вниз, на нас, то задирали головы к небу, то вглядывались в даль, в сторону излучины реки, а потом снова переводили взгляд на нас. Там, где они стояли, трава достигала стремян лошадей. Вот они соскочили с них и уселись в траву, так что виднелись только их войлочные шапки. Когда ветер пригибал траву, темно-смуглые лица зыркали в нашу сторону.
— Кто они? — спросил Тенгери.
Я пожал плечами.
— Они из нашей орды?
На это я тоже не смог ответить. Наш основной лагерь настолько разросся, что я теперь знал далеко не каждого.
— Но ведь оттуда, сверху, рыбы не поймаешь, правда, отец? — спросил мальчик.
— Нет, с холма рыбы не поймаешь. Помолчи! — сказал я и сразу осекся.
Я ответил так раздраженно только потому, что и сам ломал себе голову над тем, что им понадобилось здесь, если им не до рыбной ловли. Я больше в их сторону не смотрел, только на удочки. Но рыба не шла. Ни у меня, ни у Тенгери. Сколько бы я ни глядел на воду, я видел перед собой лишь всадников на холме. Мой сын, похоже, видел то же самое. Много ли поймаешь рыбы, когда мысли твои совсем не о ней?
— Давай, отец, спустимся немного вниз по реке! — предложил Тенгери.
Я ответил ему:
— Ладно, сходи за лошадьми.
Оба мы подумали: если они поедут в ту же сторону, мы будем знать, что они здесь из-за нас.
Река плавно катилась вниз, а белые облака плыли нам навстречу.
— Не оглядывайся, Тенгери!
— Я понимаю, отец!
Может быть, мальчику даже нравилось, что нас кто-то преследует. Мальчишкам такое часто по душе. Они похожи на волчат, которые бесятся перед своим логовом и радуются вовсю, потому что всегда побеждают, сколько бы другие их ни кусали — ведь это игра.
Мы проехали сквозь неширокую полоску кустарника почти у самой реки, и тут я сказал Тенгери:
— А теперь можешь оглянуться, мой сын!
— Они все еще на холме, отец!
— Да что ты?
— Нет, правда.
Я улыбнулся: все недобрые предчувствия как-то разом оставили меня. Мы поскакали вперед мимо невысоких топольков, ветви которых чиркали меня то по лицу, то по ушам.
За полосой кустарника, у самой излучины, мы спешились. Отсюда уже холма не видно, и мы не знали, сидят они еще там или нет.
На этом месте Тенгери с уловом не повезло. Он вытащил всего с полдюжины маленьких рыбешек, которые годились разве что на наживку. Он наверняка не переставал думать о незнакомцах и досадовал, что они нас больше не преследуют.
Около полудня мы разожгли костерок, чтобы поджарить рыбу. Кожаный мешок с кумысом положили в воду — пусть охладится. Поели-попили.
— Я хотел бы знать, отец, — начал Тенгери, — почему они проводили нас до холма, а потом бросили?
Иногда дети додумываются до такого, что взрослому и в голову не придет.
— Может быть, они вовсе за нами не следили, а просто ехали в ту же сторону. Понравилось им на холме, они там и остались. Вдруг это чистая случайность, а, Тенгери?
Над рекой парила одинокая чайка, которая вдруг круто взмыла ввысь, будто захотела укусить облачко.
— Они опять здесь, отец! — прошептал Тенгери.
Оба всадника остановились у топольков. На их лицах подрагивали тени от веточек, а сами они даже не старались остаться незамеченными. Каждый из них прислонился к тоненькому стволу, и так как ветер клонил деревца в сторону, то и они то и дело отклонялись в сторону. Туда — обратно, туда — обратно.
— Вытаскивай удочки! — велел я Тенгери и столкнул сапогом тлеющие головешки в воду. Черный пепел от кострища закружило в водовороте.
На другом берегу табунщики гнали вверх по течению тысячи лошадей. Слышался злой лай собак, окружавших табуны, но из-за пыли их совсем не было видно. Над гривами некоторых лошадей проносились петли, которые накрепко захлестывали их.
— Почему они сгоняют лошадей в орду, отец?
— Так, наверное, приказал хан, Тенгери, — с грустью сказал я.
Оба всадника по-прежнему были у тоненьких топольков. Меня всего объяло ужасом, леденящим, как зимний лунный луч, я даже ощутил озноб. Я начал догадываться, почему эти двое следуют за нами по пятам. И тут кусты раздвинулись, и мы увидели Золотой Цветок верхом на статной каурой лошади.
— Властитель собирает войско, — сказала она, спрыгнув на траву. — Давай бежим, Чоно, давай спрячемся в лесах. Медлить нельзя, Чоно!
— Слишком поздно, Золотой Цветок, вон там, в рощице у двух топольков, есть четыре уха и четыре глаза.
А Тенгери тихонько проговорил:
— Они с самого утра не отпускают нас, мама!
Наступившую тишину разорвал резкий крик трубы. Это был условный призыв Ха-хана: всем пастухам, табунщикам, охотникам и воинам немедленно вернуться в орду!
И мы опять поскакали вверх по реке, а оба всадника отставали от нас меньше чем на один полет стрелы. Мы молчали, хотя нам много нужно было сказать друг другу. Утром, при первом появлении всадников, я подумал, что это они по мою душу: хан больше не доверял мне, он, наверное, заподозрил, будто и я собрался переселиться туда, где никакой Чингисхан не властвует, и опасался, как бы за мной не последовали другие, потому что любовь и уважение к нему начали увядать из-за страха. Но мне не приходило на ум, что их появление может быть связано с новым походом. В такие дни властитель рассылал во все стороны своих стражей и телохранителей, чтобы повсюду, где пастухи пасли овец, а табунщики — лошадей, где охотники охотились, а рыболовы ловили рыбу, вовремя предупредить о необходимости вернуться: ведь из-за расстояния они могли не расслышать призывного звука трубы.
Перед дворцовой юртой стоял глашатай Ха-хана и повторял подходившему народу, что боги сказали властителю:
— Подобно тому, как на небе есть одно солнце и одна луна, на земле должен быть только один хан, один властитель!
И еще глашатай добавлял:
— Поэтому Чингис велел оповестить вас о том, что отправляется в поход, чтобы покорить первое государство за пределами империи степи. Это страна тангутов, и зовется она Хси-Хсия{12}.
После чего глашатай начал доставать из большого деревянного ящика замечательные ткани, золотые и серебряные сосуды, утварь из слоновой кости и красного дерева и зычным голосом уверял людей, что в Хси-Хсии такого товара полным-полно, надо только прийти и взять, что понравится.
Той ночью сон ко мне не шел.
Золотой Цветок тоже лежала без сна. Она спросила меня, велика ли земля и сколько на ней властителей.
Я ответил, что земля заключена между двумя морями, из одного солнце утром всходит, а в другое вечером заходит.
— На востоке и юго-востоке за Великой стеной лежит могучая империя Хин, на западе возвышается Крыша Мира, Золотой Цветок, и там простирается империя Кара-Хитан{13}. Горы там такие высокие, что вершинами касаются неба. А вот на юге распростерлась Хси-Хсия.
— По-моему, купцы рассказывали, будто стран на свете больше, чем пальцев на руках.
— Да-да, купцы… Только я не знаю, Золотой Цветок, правда ли это. Купцы ведь тоже могут соврать.
— И не только купцы, Чоно!
Я предупредил ее, что надо говорить потише, и поведал ей о том, о чем так долго умалчивал. Я рассказал, о чем мечтал хан, когда лежал раненый и его била лихорадка, о мечтах, которые уводили его так далеко и уже перестали быть мечтами.
— Теперь уже слишком поздно бежать, — прошептала Золотой Цветок.
— Да, теперь поздно!
Я целовал ее мягкие волосы, горячие губы, по-девичьи нежную шею. Сквозь верхнее отверстие в юрте летняя луна отбрасывала черные тени на наши тела, а мы были белыми, лунно-белыми — как мертвецы.
Мы долго лежали так, очень долго.
Когда лунный свет угас, первые тысячи выступили в поход. Наша юрта вся дрожала, запахло сухой пылью. И тут закапал дождичек.
Падающие на наши обнаженные тела капли дождя приятно холодили кожу, горячую лунно-белую кожу. Только много времени спустя я закрыл отверстие в крыше.
Над Ононом загрохотал гром, огонь в очагах войлочных юрт трепетал, как маленькие молнии. Деревья шумели листвой, тонкие ветки ломались, овцы жалобно блеяли.
А утром опять светило солнце.
Дорогой ты мой Золотой Цветок, подумал я.
Бесконечной чередой проходили мимо главного лагеря повозки на высоких колесах, и, когда мы выступили, Золотой Цветок проводила меня до самой границы орды, а Тенгери ехал по правую руку. Потом меня, подобно тысячам других, поглотила желтая туча, которая, как и во время любого другого похода, прокатывалась с нами по степи. День — ночь, день — ночь, снова и снова. Отдых нам выпадал редко. А когда мы останавливались, сотники объясняли воинам, что Хси-Хсия — это каменные города, а по рекам там ходят дома, которые гонит ветер. Там дворцы стоят на золотых столбах и крыши у дворцов тоже позолоченные, вокруг дворцов в садах растут редкостные деревья, плоды которых вкуснее самых вкусных. И еще над городами возвышаются башни, которые выше самых высоких деревьев. Они напоминают каменные трубы с позолоченными куполами, из них видно все далеко-далеко окрест.
Глаза большинства воинов блестели, мне же вспоминались мечты хана, ведь он, как я теперь понял, внушил их своим военачальникам, нойонам, тысячникам и сотникам. В моих глазах блеска не было, а в сердце поселилась горечь.
Прежде чем мы достигли границы и перешли через горы, некоторые воины, особенно из недавно покоренных племен, бежали, оставили главное войско. Подобно отцу Хулан и его людям, им хотелось вольной жизни в степи или в лесах, а вовсе не вечных тягот военной службы с Чингисханом. Им удавалось спрятаться в извилистых ущельях и теснинах — но ненадолго! Уйти насовсем у них не получалось, как не вышло это и у отца Хулан у озера Тунге. Вообще-то говоря, не ушел ни один. Десятники головой отвечали за своих девять человек. В моей тысяче я насчитал семьдесят два беглеца, которых вернули силой. Сколько их было в других тысячах, я не знал. Наших бежавших десятники привязали к хвостам их же лошадей. Сначала мы ехали небыстро, и крики несчастных долго тянулись за нами по степи. Осыпаемые издевательскими насмешками, эти несчастные умоляли убить их поскорее. Чего проще? Стоило нам прибавить шагу, поскакать — и конец им. Но десятникам их крики были по сердцу, как хану были по сердцу крики сбрасываемых в пропасть: пока в ушах остальных будут звучать крики и вопли, никому и в голову не придет бежать. Когда привязанный к хвосту терял сознание, воин, сидевший в седле на его лошади, начинал ее нахлестывать. И вскоре по песку и камням волочилась только оборванная веревка…
У подножия горы Ха-хан остановил передовые отряды своего войска и поднялся на высокий валун. Чингис сказал:
— Вы, мои верные военачальники, острия моих копий в боях и битвах! Вы, драгоценные украшения моих доспехов! Вы, соль земли! Вы, нерушимые, как скалы! И ты, мое войско, выросшее как могучий и непроходимый лес! Слушайте мои слова! Живите в согласии, как пальцы одной руки, будьте во время набегов подобны соколам, бросающимся на дичь, во время отдыха и игр шумите и звените, как комары, а в битвах рвите врага на части, как орел свою добычу.
Великий герой Субудай ответил:
— На что мы способны, а на что нет, покажет мудрое время, а выполним ли мы до конца наш долг или нет, известно небесному покровителю нашего властителя!
И снова возвысил голос Ха-хан:
— Там, за горой и за долиной, открывается огромная страна Хси-Хсия. Мы уничтожим и разграбим ее, потому что я ненавижу города с их богатыми купцами. Я первый Ха-хан, который перейдет с вами границу нашей степи, разрубит мечом и проколет копьем чужую страну, которую мы хотим подчинить себе. Они презирали нас, они смотрели на нас свысока, потому что жили в прочных домах, а мы с нашими табунами и стадами кочевали от одного пастбища к другому. Они назначали цены за наши меха, за наших животных, за нашу соль. Сейчас они завизжат: «Почему вы не уважаете наши границы?» Мы же ответим им, что орел тоже никаких границ не признает, а мы — орлы! Помните: на всей земле должен быть лишь один властитель, и я хочу стать им — Потрясателем Вселенной. Все будут трепетать, едва заслышат мое имя, куда бы я вас ни повел. И однажды мы придем к берегу последнего моря и скажем: «Все, что у нас за спиной, принадлежит нам, все земли от восходящего до заходящего солнца!» Вперед!
Призывно прозвучали трубы.
Загрохотали барабаны.
Через несколько дней все наше войско перевалило через гору и растеклось по долине.
Ну и со странным же противником нам довелось столкнуться! Всадников у него почти совсем не было, основное его войско шло против нас в пешем строю. Ничего подобного нам прежде видеть не приходилось. Вражеские воины стояли перед нами как густая трава, а потом двинулись вперед с копьями, мечами, луками и боевыми топорами. А у нас на каждого воина приходилось по четыре запасные лошади.
Наши тысячи с хохотом набросились на защитников Хси-Хсии. Они накидывали на них арканы, затягивали и душили их. Тангуты разбегались в разные стороны и гибли сотнями и тысячами под копытами наших коней. Мы брали один город за другим и почти не несли потерь. Сколько бы мы ни дивились виду противника, воюющего в пешем строю, мы еще больше удивились, когда через много дней после вторжения в страну, дойдя почти до ее середины, мы натолкнулись на крепость, уходящую в небо, желтого цвета, с высокими толстыми стенами вокруг нее. Башенки цвета золота переливались на солнце, крыши домов были такого же цвета, на широких стенах стояли метательные орудия, вокруг которых бегали люди в пестрых халатах. Черные железные ворота мрачно смотрели на нас.
Военачальники настаивали на том, чтобы сразу взять город приступом, за его стенами наверняка найдется все то, что обещал Ха-хан.
Однако Чингисхан хранил, по своему обыкновению, молчание.
Не испытывая никаких чувств, я лежал в траве, а рядом пасся мой вороной конь, поглядывая в сторону стройных высоких башен и красивых покатых крыш, над которыми порхали птицы. Из труб над домами поднимался дым, иногда из странных проемов домов высовывалась чья-то голова, словно кто-то желал проверить, тут мы еще или уже ушли.
Несколько тысяч пошли на приступ.
У городских стен воины напоминали мышей, копошащихся у юрты. Защитники города лили на головы наших какую-то горячую жидкость, после чего люди валились наземь и потом пресмыкались в пыли, как червяки. А лошади, когда на них попадала эта жидкость, — что с ними, бедными, делалось!..
На третий день наши пошли на приступ с плетеными лестницами. Набросив их на стену, они прямо с лошадей прыгали на них и быстро карабкались вверх. Но добраться до самого верха им не удавалось: тангуты подцепляли эти лестницы железными крюками, и наши воины падали в узкий ров с острыми камнями у стены.
Когда все эти попытки взять город с ходу кончились ничем, Ха-хан приказал взять его измором.
— Мое войско, — сказал Чингис, — сожмет город железным кольцом — и мы задушим тангутов!
Я не вел счета дням, проведенным под стенами города в бездействии, но сотники то и дело повторяли нам:
— Каждый час, проведенный нами в полном спокойствии, на час приближает нас к победе, а врага — к смерти!
Они часто повторяли это, и повторяли потому, что многие из наших недовольно ворчали, мы привыкли к жарким схваткам и быстрым победам, слепившим наши глаза своим блеском, а не к длительной осаде.
Белый шатер Чингисхана стоял под могучим старым дубом.
Воины шепотом передавали друг другу, что он уже четыре дня из него не выходил. Я был одним из немногих, кто догадывался, что это означает, и мне не терпелось узнать, какой подвох для врага он сейчас готовит.
Мы узнали об этом уже на другое утро.
Властитель велел гонцам передать послание защитникам города и его жителям, что готов немедленно снять осаду, если от него откупятся данью в десять тысяч ласточек и тысячу кошек. Наши гонцы рассказали, как тангуты подняли их на смех: такие дикие требования могут, дескать, выдумать только степные кочевники, у которых нет постоянных домов и которые питаются сырым мясом. Эти люди из крепости Хси-Хсии говорили:
— В ваших ордах кошек, наверное, и в глаза не видели? А ласточки? Разве ласточки гнездятся на юртах?
К полудню тангуты вынесли из ворот и положили под стену мешки с тысячью кошек и десятью тысячами ласточек: что это за дань, если за такую малость осаду города снимут?
Но они не знали нашего Ха-хана.
Он велел привязать к хвостам кошек и ласточек по клоку хлопка и запалить его. Кошки, обезумев от страха и боли, бросились в город, находя все известные им дырки и лазы под крепостной стеной, а ласточки стремглав полетели в свои гнезда под крышами домов — их тоже гнали страх и привычка. Вот они и принесли огонь под золотисто-зеленые покатые крыши, принесли его в позолоченные купола высоких башен, и из отверстий и проемов в домах, из которых совсем недавно выглядывали чьи-то головы, заполыхал огонь — языки огня повсюду, повсюду!
И мы бросились на город.
Тяжелые кованые ворота крепости все-таки рухнули. В голубое солнечное небо взлетали и взрывались огненные шары, которые рассыпались жаркими красными искрами. Люди в горящей одежде метались по узеньким улочкам, вздымая руки к небу, они взывали к своим богам, падали на колени, стенали и плакали, а над их головами свистели арканы наших воинов, тащивших потом живые факелы за собой на полном скаку. Рушились стены дворцов, показывая нам тлеющие позолоченные колонны, по которым полз дым.
Кто поднимал оружие, погибал.
Кто его не поднимал, того забивали до смерти.
У кого оружия не было, умирал в петле аркана.
В живых оставляли только ремесленников и красивых женщин. Так повелел наш хан, Потрясатель Вселенной, который со своей свитой проезжал по улицам и переулкам мимо пожарищ и мертвецов, и копыта их лошадей попирали пепел и бренные останки. Он улыбался, ободрял и хвалил своих воинов. Да, улыбка не сходила с его лица, он то и дело кричал воинам:
— Берите, что вам нравится, хватайте все, что увидите, — все ваше! После нас здесь будут жить только совы да летучие мыши!
Я сидел на ступеньках догоравшего дворца, но я был похож не на победителя, а на человека, у которого вот-вот брызнут из глаз слезы и он взвоет. Но ни того, ни другого не случилось: слезы мои иссякли, а рот пересох и онемел. А Ха-хан смеялся не переставая. Чингис смеялся и тогда, когда из-под обломков скромного дома вытащили старика и, как он ни упирался, подвели поближе к хану.
— Он прятался тут и не захотел тебя видеть! — объяснили воины.
— Это от страха, — сказал хан, взирая с высокого белого скакуна на всклокоченного старика. — Мне нравится, когда враг дрожит от страха. Ты ремесленник?
Старик ему не ответил. У него было лицо цвета вспаханной земли, и видом своим он походил на мудреца. Глаза он прижмурил, словно не выносил яркого света дня.
— Или ты из тех, кто умеет делать картины? — спросил Чингис.
Тот молчал. Он стоял неподвижный, как каменное изваяние, только его длинную бороду трепал ветер.
— Или, может быть, ученый человек?
Старик медленно поднял голову, раскрыл глаза пошире и спокойно проговорил:
— Я не ремесленник, не ученый человек и картин делать не умею. А если бы был одним из них, ни за что на свете не согласился бы жить с вами!
Стражи схватились за мечи. Однако хан поднял руку и сказал:
— Пусть себе болтает.
А старик, не обращая внимания ни на хана, ни на стражей, ровным голосом продолжил:
— Вы надругались над моей женой, вы убили пятерых моих братьев, задушили двух моих сестер и зарезали троих моих сыновей. Поэтому я…
— Ладно уж, старик, — перебил его Чингис, — когда охотник загонит всех оленей и серн, почему бы ему не дать уйти одному-единственному зайцу?
— …поэтому я, — снова взялся за свое старик, не обращая внимания на слова хана, — из рук которого ушла сила, хочу тебе, навлекшему на наш город кару небожителей, нами вовсе не заслуженную, плюнуть в лицо!
И он плюнул несколько раз, пока не упал замертво под ударами стражей.
Охваченный яростью Чингис несколько раз проехал по его телу на своем белом скакуне, копыта которого растоптали кусочек неба в прах — на старике был такой же синий халат, как на моем отце. Или на мне.
И вот я сижу на каменных ступенях, служивших некогда входом во дворец. От стыда я спрятал лицо в ладонях и снова услышал слова отца, сказанные мне ночью перед его смертью: «Я поручил тебе передать Темучину кинжал в знак благодарности, но я не советую тебе вручить свою жизнь сыну вождя, если ты не знаешь, каким он станет, когда однажды обретет власть над многими и его орда разрастется». О-о, отец, видишь ли ты меня? И клятва моя и мое сердце разорваны…
Вечером солнце спряталось в развалинах. Небо исходило кровью. Воины распевали песни, пили тяжелые вина жителей Хси-Хсии, а потом валялись пьяные на украденных из домов коврах. А самые крепкие из них еще долго сжимали в руках золотые и серебряные кубки и отплясывали на позолоченных листах, которые они сорвали с крыш домов и башен или со стен дворцов и которые разложили теперь на улицах. Ха-хан им в этом не препятствовал, хотя в его яссе было записано: «…напиваться не чаще трех раз в месяц. Лучше — два раза. Один раз — достойно похвалы. А тому, кто не сделает этого ни разу… но где найдешь такого человека!» Они праздновали свою победу много дней и ночей подряд на улицах, покрытых пеплом и бренными останками рухнувших домов и людей, душа которых давно отлетела, шатались, как дикие звери, по брошенным человеческим норам или залезали в обгоревшие башни, словно желая с помощью мечей и копий подчинить себе еще и небо.
В одну из таких пьяных ночей я и бежал.
Меня позвал в дорогу мой отец.
Я скакал на сильной пегой лошади и держал в поводу запасную с целым ворохом колокольцев, как это было положено стрелогонцам.
Глава 16 ТРИ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ КЕДРА
Мы немедленно отправились в путь и даже не оглянулись, выехав за пределы орды. Юрту нашу мы оставили на месте.
Сначала мы ехали шагом, чтобы не разбудить чересчур чуткие уши.
Той ночью на меня нахлынули воспоминания о прошедших годах. Они стояли под луной как огромные черные камни. И на первом из них я мог бы вырезать, если бы знал грамоту, как Тататунго: «Страх перед восходом солнца». А на втором: «Что тот кинжал, что этот». На третьем: «Вдвоем на одной лошади». На четвертом: «Хромой Козел». На пятом: «Четыре незнакомых всадника». На шестом: «Черная соболиная шуба». На седьмом: «Месть». На восьмом: «Девушка по имени Золотой Цветок». На девятом: «Снежно-белая корова». На десятом: «Колющие тени». На одиннадцатом: «С луком и саблей». На двенадцатом: «Красавица Хулан». На тринадцатом: «Свадебная война». На четырнадцатом: «Ха-хан». И на пятнадцатом: «Тысяча кошек — десять тысяч ласточек».
Но вот я подъехал к очередному камню, на котором ничего пока не смог бы написать. Я с удовольствием вырезал бы на нем солнце, луну, языки огня, дерево и реку — я мечтал о счастье и покое, которые так любил мой отец, всякий раз возвращающийся к голубому Керулену после походов. Молчание леса и ровный плеск воды учили его мудрости и почтительности.
Утром воспоминания и камни ушли из моих мыслей, мы скакали все быстрее и быстрее, нахлестывая лошадей, и просто пролетали над безлюдной степью с ее высохшими оврагами и облысевшими склонами холмов.
В траве белели обглоданные кости.
Почти из-под самых копыт испуганно взлетали в небо вороны. Никаких пастухов, никаких охотников. Нас никто не преследует. Ночью мы скакали помедленнее. Тенгери спал, скорчившись в седле. Золотой Цветок не спрашивала, далеко ли до северных лесов. И хорошо, что не спрашивала, потому что я и сам этого не знал.
Когда солнце поднялось из росистой травы, мы, усталые, спешились и легли отдохнуть. Мне снились леса и реки, и вдруг степь вокруг меня задрожала, сперва мягко, а потом все сильнее и, наконец, так сильно, что вытряхнула меня из сна, и я, к своему удивлению, увидел трех пастухов, откочевывавших со своими овцами к югу. Они наверняка заметили нас, хотя сейчас и не смотрели в нашу сторону. Земли становились более плодородными. Мы избегали зеленых долин, не желая оказаться вблизи какой-нибудь орды.
На пятую ночь небо затянули тучи. Ни одна звезда не указывала пути на север. Эта темень становилась зловещей. Мы сидели на земле, тесно прижимаясь друг к другу. Сон не шел, и ни зги не видно — куда поскачешь? Где-то вдали подвывали волки, и Тенгери сидел с луком и стрелами в руках.
— Вон там, отец, что-то в траве шевелится, — прошептал он.
А я ответил:
— Это ветер, Тенгери, это ветер ласкает траву!
Он разочарованно опустил лук на колени. Он предпочел бы, чтобы грозно сверкнули волчьи глаза. О страхе, холодившем наши с Золотым Цветком жилы, мы ему ничего не сказали. Мы разговаривали с ним, хотя предпочли бы помолчать, и шутили, хотя нам было вовсе не до смеха.
— Мы построим себе новую юрту? — спросил мальчик.
И Золотой Цветок ответила:
— Гораздо более красивую, Тенгери, и гораздо более просторную.
— У реки?
— У реки, мой сын, — сказал я. — На невысоком холме, где растут березки, цветут цветы и где неподалеку есть кедры.
Он положил лук и стрелы в траву, словно забыв о волках.
— Ты любишь кедры, отец?
— Да, Тенгери.
— А почему?
— Потому что они всегда зеленые, гордые и красивые, и потом, мой сын, кедры не умирают, они растут из прошлого в будущее, они живут среди нас, как могучие великаны, они — свидетели времен. И когда ветер набрасывается на них, они начинают рассказывать, как умудренные жизнью седовласые старцы. Кто научится понимать их, тоже наберется мудрости, сын мой.
— Там, куда мы скачем, отец, кедры есть?
— Их там тьма-тьмущая, Тенгери.
— Теперь я тоже полюбил их, отец.
— Кто любит правду, полюбит и кедры, сынок, — сказал я еще.
Начался дождь, тихий и ласковый. Лошади всхрапывали и били копытами. Я натянул спящему Тенгери маленькую соболиную шапку на лицо. Иногда луна пробивала дырку в тучах и вонзала в степь острый луч. А потом снова становилось темно, и я с трудом различал даже лицо сидевшей рядом жены. Теперь мы сидели, не прижимаясь друг к другу, и часто поднимались на ноги, чтобы не уснуть.
Беспокойство мое росло.
— Этой ночью, Золотой Цветок, мы теряем то, что обрели в нашу первую ночь.
— А разве преследователи тоже не пережидают темень, Чоно?
— Нет, — ответил я. — Степь велика, и туч не хватит, чтобы затянуть все небо!
Брезжил рассвет.
Мы снова нахлестывали лошадей.
У моего белогубого пегого изо рта вылетали брызги крови. Я давно отпустил поводья и вцепился в его гриву.
— Тенгери! Поддай жару своему! — крикнул я.
— Он летит, отец! — смеялся в ответ мальчик.
Озеро. Брызги воды из-под копыт наших лошадей.
Стая сытых ястребов разлетелась в разные стороны.
— Лес! Лес! Лес! — закричал я.
— У неба! — откликнулся Тенгери.
— Да, у неба! — подтвердила Золотой Цветок.
И правда, небо зацепилось за лес, и мы с тоской и надеждой смотрели в ту сторону. Горизонт был залит синевой. Лес, казавшийся бесконечным, гудел и раскачивался. Деревья вырастали из узкой серебристой полоски, протянувшейся между лесом и степью. И мне вспомнились слова одного старика: небо, дескать, только отражает то, что несет на себе земля.
Мы мчались вперед под восходящим солнцем, все время имея лес перед глазами — и этот день, и всю ночь за ним, а к полудню следующего дня мы были все так же далеко от него, как и вчера. Нет, он почти совсем не вырос.
— Три кедра, отец!
Мы остановились.
Деревья стояли у широкого озера, и Тенгери сказал:
— Половим рыбу?
Лицо мальчика было покрыто желтоватой пылью. Вид у него был нездоровый, усталый и голодный, а глаза воспалены.
— Лови рыбу, Тенгери!
Золотой Цветок устало улыбнулась. Мы сильно проголодались, а лошади до того выдохлись, что мне было больно на них смотреть. Мы разложили костер у самой воды. Через некоторое время Тенгери поймал одну рыбу и сразу еще одну.
— Здесь мы не останемся! — сказал мальчик. — Кедры здесь есть, но рыбы совсем немного!
Мы присели к огню и поджарили рыбу.
Заходящее солнце коснулось высокой травы и окрасило вечнозеленые кедры в красный цвет.
В спускающихся сумерках Золотой Цветок заснула. Мальчик спал, положив ей голову на грудь, и во сне их бледные лица походили на лица мертвецов.
Головешки в костре догорали.
Озеро что-то бормотало во сне.
Цветы закрыли свои головки.
Я поднялся на невысокий холмик и увидел, как из почти совсем зашедшего солнца выехало десять всадников — с копьями, мечами и боевыми топорами. Они быстро приближались к нам. Я еще раз бросил взгляд на три кедра и мысленно произнес, как клятву: «Кедрам не дано умереть, они растут из прошлого в будущее, они живут среди нас, как могучие великаны, они свидетели времен. И когда ветер набрасывается на них, они начинают рассказывать, как умудренные жизнью седовласые старцы. И да умножится мудрость тех, кто будет внимать им. Слышишь, Тенгери?»
И я пошел обратно, к потухшему уже костру, и сел рядом с Золотым Цветком и Тенгери.
Они все еще спали.
А когда всадники спрыгнули с лошадей, я тоже закрыл глаза.
Тенгери, сын Черного Волка
Глава 1 ЖЕРЕБЕЦ БЕЛОЙ МАСТИ
Десять тысяч черных как ночь телохранителей стерегли сон великого хана. Это были воины молчаливые и несгибаемые, верные хану до последнего вздоха. В центре лагеря возвышалась внушительная дворцовая юрта, к которой жались юрты куда поменьше — младших жен хана и его слуг.
У одной из последних августовских ночей оказались ледяные руки, и из сотен тысяч круглых отверстий в крышах юрт в небо тянулись тонкие дымки.
Стояла тишина.
Ни ветерка.
Ни одна птица не вскрикнула.
Только луна светила, круглая и ясная, и золотое острие на дворцовой юрте сияло, как звезда.
Первыми проявили беспокойство лошади, за ними заблеяли овцы, и уже после этого проснулись пастухи. Тенгери посмотрел в сторону главного лагеря, который мерцал вдали подобно колышущемуся морю. Он вскочил на своего жеребца, пригнулся к его шее, втянул в себя холодный воздух и закричал:
— Идет буря! Буря! Буря!
Другие пастухи тоже закричали:
— Буря! Буря!
Стада смешались, их сбивало то в одну сторону, то в другую.
Надо было отогнать их к главному лагерю. Но прежде чем они туда попали, непогода застигла их, и ветер страшной силы бросал животных и людей на траву и на камни. Пошел крупный град. На краю орды от ударов молнии загорелось несколько юрт, и снопы искр от горящего войлока вздымались к небу, как из пасти огнедышащего дракона.
Тенгери лежал за своей упавшей лошадью, обмотав кулак поводом. На какие-то мгновения его заняла мысль: «Великий хан выходит победителем из всех битв, великий хан повергает всех врагов, но и великий хан бессилен, когда боги посылают на нас злую бурю. Известно ли ему хотя бы, за что нас наказывает Вечное Синее Небо?»
Град поутих. Когда и ветер немного ослабел, Тенгери поднял жеребца и вскочил в седло. Надо постараться собрать табун. Но лошади то и дело разбегались, особенно жеребцы. Они скакали галопом до горящих юрт, а там, словно обезумев, бросались в темень и уходили дальше в степь. «Только бы не потерять из виду жеребца хана, — подумал Тенгери, — это самое благородное животное во всем табуне, самое пылкое, самое дорогое». Он не спускал глаз с белого жеребца, который преспокойно бежал по степи вместе со своими кобылицами. Но вот буря опять усилилась и снова бросила Тенгери в траву, но страх заставил его подняться. И что же — белого нигде нет! Убежал!
— Белый жеребец убежал! — во всю мочь заорал Тенгери. — Белый убежал!
«О буря, сжалься над нами!» — взывал он к небу, но буря никакой жалости не знала и тут же проглатывала все крики, срывавшиеся с губ молодого табунщика. Нахлестывая свою лошадь, он пробивался через табун. «Хан велит прикончить меня, — подумалось ему, — ведь он что сказал: за гибель любого из моих драгоценнейших скакунов мне ответят головой три табунщика!»
Тенгери добрался до берега Онона, а там, виляя из стороны в сторону, гонимый страхом потерять жизнь, если не удастся поймать сбежавшего жеребца, погнал свою лошадь вверх по течению. Один раз ему даже почудилось, будто он увидел белого. Но это был всего лишь большой валун, на который упал луч луны. Чем дольше он сражался с бурей, ночью и дождем, не находя того, что искал, тем более отчетливые картины вставали перед его мысленным взором, а мозг буравили одни и те же неотвязные мысли…
…Хан призвал его к себе. Это было утром. Светило солнце, оно было даже более ласковым, чем обычно, и таким радостным, что он даже начал упрекать себя: как это он раньше почти совсем не обращал на него внимания? Но это, наверное, потому, что он это солнце видит скорее всего в последний раз — ведь его позвал хан!
Властитель сидел перед своей юртой на шелковом мате с брезгливым выражением на лице. Его окружали телохранители с волчьими глазами и блестящими мечами. И хотя Тенгери стоял перед сидящим Чингисханом и был высокого роста, он казался себе чем-то вроде мышки-полевки, пугливо обегающей юрту.
Хан сказал:
— Где одна из моих драгоценнейших лошадей, жеребец белой масти?
Его, Тенгери, губы не желали разжиматься: ему было стыдно сказать хану то, о чем тому уже было известно.
— Так где моя любимая лошадь?
— О хан, она убежала вместе с кобылицами. Буря свалила меня в траву, град закрыл мои глаза, мне показалось, что само небо обрушилось на меня, а боги навсегда прокляли нас.
— Я сижу здесь на солнце, значит, боги со мной. А ты один из тех слабосильных трусов, что даже слабее солончака у реки, который, правда, гнется под ветром, но не ломается. — Чингис сделал знак телохранителям и проговорил: — Больные овцы в стаде заразят и сильных. Поступите с ним поэтому как с больной овцой — удавите его!
И всякий раз, когда Тенгери явственно слышал эти слова хана, ему казалось, что солнце низвергается с неба черным шаром.
Но когда это солнце, большое и красивое, поднялось над рекой, он словно очнулся. Как это он не заметил, что и буря миновала, и ночь прошла? Он направил лошадь к берегу реки, где, сам не веря своим глазам, увидел белого и его кобылиц: тот стоял как раз напротив взошедшего красного диска и мирно пил воду из реки.
Тенгери не замедлил одним махом перескочить со своей лошади на спину благородного ханского жеребца. Он смеялся и плакал, растирая капли дождя, вызванного страхом, по всему лицу. Стащив с головы соболиную шапку, он с радостным криком забросил ее высоко в небо. Она упала в реку, и волны потащили ее прочь, а у него было такое чувство, будто он отшвырнул от себя смерть: по обычаю, телохранители, прежде чем удавить его, отняли бы шапку и пояс.
Он медленно ехал на белом жеребце вдоль реки, сейчас опять вверх по течению, под расхристанными бурей ильмами. Его гнедой жеребец и кобылицы белого послушно семенили за ним. Утреннее солнце окрасило воды Онона в кроваво-красный цвет. Закричали проснувшиеся чайки, по мокрой траве степенно вышагивали горделивые журавли.
Это было самое прекрасное утро в его жизни!
Тенгери улыбался, поглаживая шею белого, и приговаривал:
— Пока я тебя вижу, я жив!
А в главном лагере его уже поджидали. Табунщик Ошаб сказал ему:
— Мы все молились за тебя, Тенгери! Там, где животное стоит дороже пастуха или табунщика, табунщики никогда не состарятся!
А Герел, жена Ошаба, добавила:
— Чингисхану лучше знать, почему он доверил белого жеребца тебе, — он хитрый!
«Видят боги, — подумал Тенгери, — он и впрямь знает это, наш хан, как знаю и я».
— Не стоит тебе, Герел, напоминать об этом нашему другу, — укоризненно сказал жене Ошаб, протягивая Тенгери кусок баранины и чашку молока. — Когда раны открываются, они потом не заживают.
Тенгери тихонько спросил:
— Может быть, в тот раз хан действительно поступил не по справедливости?
— О-о, — Ошаб предостерегающе поднял руки и пугливо огляделся.
Несколько в стороне кузнец ковал железные наконечники стрел; золотистые брызги разлетались по сторонам, а мехи пыхтели, как чудовищный зверь. Убедившись, что кузнец их не услышит, Ошаб сказал:
— О-о, Тенгери, за один этот вопрос тебя могли бы убить дважды. Наш хан всегда говорит о себе, что ничего не делает, не испросив совета у богов. Выходит, он их советам и следует. Разве хан, идущий против воли богов, не навлечет на себя их гнев? И разве могут боги требовать от хана, чтобы он допустил несправедливость? — Ошаб опустил руки, улыбнулся и добавил: — Нет, нет, Тенгери, боги с нашим ханом и нашим народом. Только с их помощью хан побеждает во всех битвах и сумел основать великую империю всех живущих в войлочных юртах племен.
— Забудь о своей боли, — сказала Герел, подливая молока в чашку.
И они замолчали, Ошаб и Герел, потому что знали: боль не молоко, ее не проглотишь. А Тенгери молчал, вспоминая свои мальчишечьи годы. Его отец, которого звали Кара-Чоно, Черный Волк, воевал тогда в войске хана против великой империи Хси-Хсии, где люди жили в городах из камня, где были дворцы с золотыми колоннами и дома с позолоченными крышами. Но однажды ночью отец вернулся домой, хотя война еще не закончилась. Он тайком прокрался в юрту, где Тенгери спал со своей матерью, Золотым Цветком. Они быстро собрали все самое необходимое, бросили юрту и бежали на лошадях на север. Скакали дни и ночи, в дождь и в вёдро. Как-то остановились отдохнуть у озера, возле которого росли три кедра.
— Вам надо знать, — тихо сказал Тенгери Ошабу и Герел, — что мой отец очень любил кедры. Он так говорил о них: «Кедры не умирают, они растут из прошлого в будущее, они живут среди нас, как молчаливые великаны, они — свидетели времен. А когда на них набрасывается ветер, они начинают рассказывать, как умудренные жизнью седовласые старцы. Кто слушает их, тот набирается у них мудрости, мой сын». Да, так говорил мой отец.
Ошаб и Герел смущенно кивали. Женщина медленно помешивала бараньей костью кипящую в чане баранину, и помешивала куда дольше, чем требовалось. А ее муж разглядывал свои сапоги, хотя отлично знал, что они совсем новые. Им был хорошо известен печальный конец этой истории: десять всадников хана догнали их у озера и убили Кара-Чоно и Золотой Цветок, а Тенгери забрали с собой в главный лагерь.
— И никто не может мне объяснить, почему в ту ночь мать с отцом бежали!
— Я никак не мог быть одним из тех, кому было что-то об этом известно, — сказал Ошаб, подбрасывая хворост в костер. — И вообще: кто станет делиться с ближним своим желанием бросить войско? Да еще станет вдобавок объяснять, почему это делает? Хан строг, у хана десятки тысяч глаз и десятки тысяч ушей, которые слушают и видят для него. Говорят, за такую службу он неплохо платит.
Лошади, а среди них и белый жеребец, паслись недалеко от юрты. Доверенные люди властителя объезжали отары и табуны и пересчитывали скот. У любимой лошади хана они задержались надолго; заглядывали белому в пасть, заставили его немного пробежаться.
— Твой отец когда-то был даже главным среди телохранителей, — сказала Герел.
— А ну помолчи! — прикрикнул на нее Ошаб. — У вас, женщин, слова во рту не держатся. Знавал я одну, которая умерла из-за одного-единственного слова, да, из-за одного-единственного! Она вместо «да» сказала хану «нет».
Герел снова схватилась за баранью кость и принялась изо всех сил помешивать мясо в чане. А Ошаб встал и пошел к лошадям.
Тенгери знал, что его отец Кара-Чоно некогда был начальником ханских телохранителей, как знал и о том, что потом этой должности лишился. И только о причинах этой перемены в жизни отца ему ничего не было известно. «Это белый жеребец виноват, что я опять думаю об этом», — мысленно сказал себе Тенгери и бросил быстрый взгляд в сторону любимца хана. Одинокий всадник приблизился к Ошабу и о чем-то его спросил. Тот указал в сторону Тенгери.
— Он по мою душу, — сказал Тенгери. — Судя по нарядной одежде, это гонец хана.
Герел испуганно вскочила на ноги.
— К тебе? А вдруг ко мне? Боже мой, я такое сказала… Если кузнец все-таки слышал…
— Да что ты, Герел, видишь, как гонец улыбается!
— Улыбается, улыбается, — возбудилась женщина. — Разве у каждого его намерения на лице написаны?
Всадник остановил лошадь в нескольких шагах от них и вежливо спросил:
— Ты Тенгери?
— Да, господин!
— Приемный сын Кара-Чоно?
— Да, господин!
Лошадь гонца нетерпеливо пританцовывала.
— Великий хан призывает тебя к себе!
Гонец огрел своего вороного плеткой, тот отпрыгнул в сторону и исчез вместе со всадником между юртами.
Тенгери вдруг заметил, что стоит перед юртой в полном одиночестве: Герел ушла от греха подальше, а Ошаб чем-то занимался у загона для скота и не оглядывался. «Какими крохотными все они становятся, когда на них падает тень хана, — подумалось Тенгери. — Когда я прошлой ночью пустился в погоню за жеребцом белой масти, я в своих мыслях тоже был ростом с мизинец или как мышь-полевка, прошмыгнувшая мимо большой юрты».
Он сидел в седле со спокойной душой и даже улыбался. «Да, Тенгери, ты должен улыбаться и оставаться такого роста, как есть; вот именно — улыбаться, потому что у тебя чистое сердце и на уме нет ничего дурного; ты сильный, ты не из тех, кто, единожды упав, уже не поднимается».
— Эй, кузнец! Посильнее лупи по раскаленным наконечникам. У хана больше врагов, чем стрел!
— Гонец передал тебе добрую весть от хана?
— А ты откуда знаешь?
— Ну, хотя бы по тем шуткам, что ты со мной шутишь!
— Шутки? Стрелой больше и копьем больше, это лучше, чем стрелой или копьем меньше.
— Еще бы, еще бы! — воскликнул вдруг кузнец и начал подгонять своих помощников, которые изо всех сил заколотили молотами по раскаленному железу, а мехи запыхтели коротко, как пыхтит набегавшаяся по жаре собака.
Довольный тем, что сумел озадачить и раззадорить кузнеца, Тенгери поднимался верхом по дороге, ведущей в главный лагерь. Ехал он степенно, с улыбкой на устах и ничем не походил на человека, который встревожен неожиданным вызовом к хану. По дороге ему встретился караван тяжело навьюченных верблюдов, женщины с кувшинами и повозки с бочками питьевой воды. А тянули эти повозки могучие яки. В тени некоторых юрт валялись в пыли овцы, козы и собаки. На краю дороги сидел, прислонившись спиной к теплому камню, слепой старик, походивший на мертвеца. За его спиной дети играли сухими бараньими костями.
— Где ты потерял свои глаза, старик? — спросил Тенгери.
Тот приподнял голову.
— В битве против меркитов у Килхо.
— Плохо ничего не видеть, — сказал Тенгери, перестав улыбаться.
— Плохо? Хорошо! Очень даже хорошо. Теперь я не вижу того, что мне приходилось видеть до тех пор. Одно плохо: чересчур долго боги заставляют меня ждать, когда я поднимусь к ним.
— А хан тоже забыл о тебе?
Слепой испуганно вздрогнул, а потом выдавил из себя:
— Кто ты такой, что позволяешь себе задавать такие вопросы?
— Я приемный сын Кара-Чоно, старик!
— Ты сказал… Кара-Чоно?
Слепой повалился на бок и пополз в пыли в сторону игравших детей.
— Ты что же, сын предателя, хочешь, чтобы из-за тебя слуги хана переломали мне хребет? Щебечешь тут беззаботно, как птица, но летать-то ты не умеешь. Нет-нет, ничего ты от меня не услышишь. Пусть меня к себе возьмут боги, а не дьявол…
Дети подняли старика и отвели к его юрте.
«Он едва жив, — подумал Тенгери, — но свой страх он потащит за собой в могилу. А моего отца он все-таки знал. Не будь он столь труслив, он рассказал бы мне о нем».
Тем временем Тенгери достиг ворот, за которыми открывалась улица, ведущая в самую сердцевину лагеря. Отсюда его сопровождали два стража, молчаливые и дородные, которые потом, в нескольких десятках шагов от дворцовой юрты, передали его двум другим, но столь же дородным и молчаливым стражам. Но и те проводили его не к самому хану, а довели лишь до маленькой юрты, где его принял слуга хана в дорогом синем халате.
— Подойди ко мне! — велел ему слуга.
А другой принял у него лошадь.
Слуга спросил:
— Не спрятал ли ты в своем платье кинжал, иглу или что-то подобное?
— Нет.
— Тогда войди и сними с себя одежду, чтобы мы могли проверить твои слова.
— Вы не доверяете мне?
— Я делаю то, что мне приказано ханом.
— Хан подозревает меня, потому что я приемный сын…
— Хан никого не подозревает. Это вопрос безопасности!
— Он всех подозревает?
— Многих!
— Выходит, он не доверяет большинству?
Слуга укоризненно взглянул на Тенгери и спокойно проговорил:
— Если перед тобой лежит тысяча яиц и ты подозреваешь, что три из них протухли, сколько ты разобьешь, чтобы найти эти три?
«Конечно, все», — подумал Тенгери, но лишь улыбнулся и покорно снял с себя одежду.
— Благодарю тебя за молчание, — сказал слуга, — молча можно сказать больше, чем словами!
Он ловко ощупал все швы на одежде Тенгери, все складки, все карманы.
— Если я чего не нашел, это дано найти только богам! Можешь одеваться!
«Скользкий он, как рыба», — подумал Тенгери и, одевшись, вышел из юрты.
— Пойдем! — сказал ему другой слуга и повел к дворцовой юрте хана.
Поначалу все и впрямь выглядело так, как представлял себе Тенгери прошлой ночью: Чингис сидел перед своей юртой на шелковом мате, однако стражи в черном с волчьими глазами не окружали его, а держались несколько в стороне. Рядом была только его супруга Борта, которая как раз протянула ему обеими руками большую золотую чашу с кумысом. Он пил жадно, задыхаясь, и на лбу его блестели капельки пота. Когда он, откашлявшись, отставил чашу в сторону, то утер рукавом светло-голубого халата пену с бороды и губ и бросил взгляд на Тенгери:
— A-а, вот и тот, о ком я чуть не забыл! — Чингис протянул золотую чашу Борте.
— Вы посылали за мной, мой хан?
— И ты сразу же явился!
— А как же иначе, если мой хан призвал меня?
— Вот то-то! Тех, кого мне приходилось звать дважды, сегодня в живых нет. Лишь однажды я отступил от этого закона. И за то, что я сжалился над этим человеком, боги покарали меня, совратив впоследствии этого человека бежать из моего войска. А ведь он был моим лучшим другом: в юности, когда у меня всего-то и было что девять лошадей, шесть баранов да тоскующая мать, мы обменялись с ним кинжалами и поклялись, что каждый из нас убьет другого, если тот ему изменит.
— Вы говорите о моем отце, мой хан?
Чингис встал и подошел поближе к Тенгери.
— Тебя оставили в живых только потому, что по крови ты своему отцу сыном не приходишься. Этот человек подобрал тебя совсем маленьким после битвы в верховьях Онона, он нашел тебя среди раненых и убитых и отвез в свою юрту. Будь он тебе родным отцом, ты умер бы вместе с ним и женщиной, которую ты называл своей матерью, — таков закон, данный нам Вечным Синим Небом.
Хан прошептал несколько слов Борте, и она покинула их, скрывшись за пологом дворцовой юрты.
Из круга военачальников, сидевших в нескольких шагах от властителя и попивавших вино, к хану обратился Джучи:
— Отец мой, отчего вы вспомнили о человеке, от которого в степи осталось не больше черного пятна, которое давно уже смыли дожди?
Хан снова опустился на шелковый мат.
Тенгери открыл было рот, он хотел сказать что-то, но не знал, какие слова выбрать, чтобы не оскорбить слуг хана.
— Говори, — потребовал властитель, — я люблю откровенные речи. Лишь то, чего я не слышу и не вижу, может представлять для меня опасность.
— Мои названые отец и мать были добры ко мне, они вдоволь кормили меня, мой хан, — громко проговорил Тенгери.
Властитель вкрадчиво ответил:
— А разве желтый шакал не приносит пищи своим детенышам? Он охраняет их и заботится о них до тех пор, пока они не входят в силу и не готовы охотиться вместе с ним.
Тенгери возразил ему, почти не задумываясь:
— Но вскармливает ли желтый шакал и детенышей чужой крови, мой хан?
— О-о! — воскликнул Джучи. — Да он малый не промах, отец мой! Что толку говорить с ним о том куске грязи? Скажите ему лучше прямо, зачем послали за ним! — Он поднялся и подошел к Тенгери с полной чашей вина. — Выпей! Мне нравится, когда в ответ на свои умные слова отец слышит еще более умные!
По обычаю, Тенгери отдал низкий поклон и сказал:
— Я пью за вашу справедливость!
— Я позвал тебя, чтобы сказать вот о чем: несколько лет назад я приказал, чтобы за жеребцом белой масти, моей любимой лошадью, которую я отправил в табун, ходил ты. Я хотел получить ответ на важный для меня вопрос: что это за человек, который ел когда-то из рук предателя? Разве я не должен был опасаться, что с пищей, которую он принимал из рук предателя, он впитал и яд его мыслей? Теперь я знаю: ты стерег моего белого жеребца, как охранял бы меня, и, значит, ты остался мне верен. Тысячу ночей ты мерз вместе с ним и вместе с ним изнывал от жары, ты отваживал от него коварных волков, как мои воины меня от моих врагов. И когда прошлой ночью на нас набросилась свирепая буря и сбросила тебя вместе с другими на землю, ты, Тенгери, искал моего вырвавшегося из табуна скакуна до тех пор, пока не нашел и не поймал его. Значит, ты человек храбрый и выносливый.
Хан подозвал Джучи и велел наполнить вином еще одну чашу. «Он называет меня храбрым, — подумал Тенгери, — а ведь храбрость эта пришла от страха. Того самого, что заставил кузнеца быстрее колотить по раскаленному железу, а слепого ползти в пыли».
Джучи с широкой улыбкой протянул ему чашу. И вот еще что сказал ему властитель:
— Я ставлю во главе своих войск людей мудрых, храбрецов я делаю воинами, хитрецам доверяю стеречь свое добро, а люди недалекие становятся у меня пастухами. А ты, Тенгери, вел себя несколько лет как храбрец, ты уже не мальчик, а юноша, и я назначаю тебя одним из моих воинов. Станешь в десяток!
— Благодарю вас, мой хан!
Чингис сделал знак слуге, который кивнул другому, и тот подвел к ним высокую лошадь благородных кровей.
— Ты свободен! — сказал Джучи.
Тенгери, поколебавшись несколько мгновений, возбужденно проговорил:
— Это не моя лошадь, нет, не моя, тут какая-то ошибка!
— Это подарок хана! — объяснил ему Джучи. — Что, ты удивлен, да? Но разве ты не заслужил его за годы верной службы?
Тенгери оглянулся, но властитель уже удалился, и на то место, где он сидел на шелковом мате, упала тень.
— Когда я шел сюда, — сказал Тенгери, — мне встретился один слепец, который сидел, прислонившись к теплому камню. У него был вид мертвеца. Он рассказал мне, что потерял зрение после битвы у Килхо. Я думаю, по сравнению с его заслугами мои слишком ничтожны, чтобы я получил такую высокую награду. Наверное, это его стоило бы вознаградить хану!
— Это было бы несправедливо по отношению к мертвым, — ответил Джучи. — Тысячи воинов отдали свою жизнь за хана. Как ему вознаградить их? Подумай сам: станет табунщик ходить за лошадью о трех ногах, на которой никогда больше не поедешь верхом? Станет он ее кормить только потому, что когда-то ездил на ней, а не задаст лучше побольше корма тем, что носят его сейчас?
Последние слова Джучи проговорил уже уходя и не оглянулся даже тогда, когда Тенгери оседлал свою новую лошадь и поехал на ней через площадь. Перед маленькой юртой, в которой незадолго до этого ему пришлось разоблачиться, снова стоял слуга в голубом халате.
— Я вижу, наш добросердечный хан вознаградил тебя?
— Да, за мои заслуги, — ответил Тенгери с улыбкой.
Слуга, обиженный словом «заслуги» в устах Тенгери, ответил:
— Он и меня наконец-то отблагодарил за мои заслуги. К празднику Полнолуния он прислал мне жирную козу, чтобы я смог хорошо отпраздновать!
— Козу? Странное дело, — проговорил Тенгери. — Меня он одарил дорогой лошадью за то, что я стерег его белого жеребца. А вам за то, что вы день за днем ощупываете чужие платья и охраняете тем самым его драгоценнейшую жизнь, посылает всего лишь жирную козу.
— Все, что хан ни сделает, справедливо! — возразил ему слуга.
— Я в этом никогда не сомневался, — с едкой улыбкой проговорил Тенгери и направился к воротам. По главной дороге он пустил лошадь галопом, а его гнедой бежал в нескольких шагах сзади. Когда он оказался у камня, где недавно сидел слепой, он спешился и пошел к его юрте.
— Эй, ты спишь? Или заполз сюда из страха от моих слов?
— Ты опять здесь? Вернулся?
— Да! К хану я ехал на одной лошади, а возвращаюсь с двумя!
— Ты лжешь! И твоя болтовня принесет мне несчастье! — испуганно прошептал слепой.
— Наоборот, отец, я привел к тебе моего гнедого, обменяйте его на несколько баранов, и у вас целый год не будет никаких забот.
Слепой вылез из юрты и сказал:
— Выходит, хан меня все-таки не забыл! Он посылает мне лошадь! А ты, значит, говорил с ним обо мне? Это правда, брат?
— Нет, это не хан, а я дарю тебе мою лошадь! Хан дал мне другую, замечательную. О вас я с властителем не говорил… Но его сыну Джучи рассказал, какая беда с тобой стряслась.
— А Джучи на это что?
— Вот что: «Станет табунщик ходить за лошадью о трех ногах, на которой никогда больше не поедешь верхом? Станет он ее кормить только потому, что когда-то ездил на ней, а не задаст побольше корма тем, что носят его сейчас?»
Слепец отполз немного назад, поближе к своей юрте, и подумал: «Мой отец, служивший еще Есугею, часто вспоминал, как в былые времена уважали старость, как следовали законам и обычаям. А сын Есугея Чингис забыл законы предков и написал свои».
— Ты ничего мне не скажешь? — спросил Тенгери. — Знал ты моего отца?
— За лошадь тебе спасибо! Но если желаешь получить что-то взамен, забери ее!
Солнце тем временем зашло. Над Ононом повисла тонкая полоска тумана, а над ней высились громады могучих деревьев. У кибиток сбились в кучи овцы и козы, вокруг которых бегали крупные черные псы.
Ошаб с Герел сидели у костра. Увидев подъехавшего на высокой лошади Тенгери, Герел воскликнула:
— Нам, значит, нечего больше бояться?
— Это ты насчет подарка?
— Ну и дорогая же эта лошадь! — восхищался Ошаб, заглядывая ей в рот и похлопывая по крупу и по бабкам. А потом ласково погладил упруго выгнутый хвост. — Заходи в юрту, поешь с нами!
— Да, а потом появится еще один гонец — и вы опять разбежитесь! — пошутил Тенгери.
— Он правда появится? — Герел встала перед юртой, словно раздумала впускать его внутрь.
— Откуда мне знать? Может, это был не последний гонец. Кто делает подарки, иногда требует за это других услуг.
Наклонив головы, они прошли в войлочную юрту.
Там они с любопытством выслушали рассказ Тенгери о поездке к хану. Он не упустил ни одной подробности, в том числе и встречи со слепым, и разговора со слугой.
— Тебя правда угощали настоящим ханским вином? — спросила Герел.
— Да, у военачальников, стоявших рядом с Джучи, его было сколько угодно.
Когда Ошаб заметил, что, по слухам, это вино на вкус получше кобыльего молока и веселит быстрее, Тенгери поправил его:
— С виду оно похоже на воду Онона, но не такое вкусное.
Герел и Ошаб рассмеялись, а Герел потом сказала:
— Не говори чепухи! Это все потому, что мы к вину не привыкли. Все равно как к тем сладостям, что нам привозят китайские купцы. Когда я первый раз положила в рот сладкий кусочек, я его чуть сразу же не выплюнула, таким противным он мне показался. А теперь? Запросто могу съесть целый мешочек!
Вдруг в юрту просунулась голова кузнеца:
— Я видел, юноша, как ты вернулся на лошади благороднейших кровей…
— Присаживайся к нам, кузнец!
— С радостью, с радостью, Ошаб. Юноша рассказывает о своей поездке к властителю?
Тенгери кивнул и подумал: «Это страх привел его ко мне».
— Ты сегодня выковал больше наконечников, чем вчера?
— Намного, намного больше, — ответил кузнец и задышал так же часто, как его мехи. — Властитель случайно не спрашивал обо мне?
— Да, — солгал Тенгери. — Он так, между делом, полюбопытствовал, как ты живешь, и я сказал, что ты очень много работаешь, стараешься.
— Большое спасибо. Пусть боги будут благосклонны к тебе.
— Ты, никак, уже собрался уходить? — спросила Герел.
— Жена ждет меня, пойду поскорее обрадую ее. — И он на четвереньках выполз из юрты.
Сквозь приоткрытый полог на оставшихся упал косой луч луны, отчего они сделались мертвенно-бледными.
«Отнять страх у человека так же легко, как и внушить его», — подумал Тенгери. Некоторое время спустя он тоже вышел из юрты. Вечер был холодный, и на траву уже пала роса. Кутаясь в меховые шубы, пастухи сидели у костров рядом с отарами. Впервые за долгие годы Тенгери спал этой ночью не в степи.
Из тени навстречу ему вышел человек в островерхой войлочной шапке и сказал:
— Не пугайся! Я знал, что ты будешь проходить здесь, и ждал тебя!
— A-а, это ты, кузнец!
— Да! Мне было совестно переспрашивать тебя там, в юрте. Не то они подумали бы, чего доброго, будто я тебе не доверяю. Ты правда рассказал хану, какой я усердный работник?
— Правда!
— Я-то подумал… человек ты молодой, почему бы тебе и не подшутить над стариком?
— Нет, все так и было.
— Ну, тогда хорошо!
Старик снова исчез, а Тенгери подумал: «Моя ложь ему не во вред, ничего, кроме спокойствия и счастья, она ему не принесет. Ему никогда не узнать, что я обманул его. Кузнецов в главном лагере прорва, не упомнит же хан каждого из них!»
Глава 2 СЫН НЕБА
Часах в десяти езды верхом от главного лагеря, на восточном берегу Онона, возвышается почти отвесная каменная стена. Здесь, у реки, крутая излучина, а дальше она спокойно катит свои воды по степи. Там, где она ближе всего к синему небу, у неприступных вершин кружат орлы, которые потом камнем падают вниз, в ущелья.
Чингисхану вспомнилась эта каменная стена, когда гонцы доложили ему, что на пути в главный лагерь находится важное посольство из империи Хин. Он велел плотникам сбивать длинные штурмовые лестницы и, когда ему доложили, что они готовы, распорядился день за днем посылать к реке новые тысячи воинов. Утром они уходили в ту сторону, поздним вечером возвращались.
Вскоре Тенгери, возвысившийся из простых пастухов в воина, тоже оказался у Онона. Он не радовался этому и не досадовал, ему просто было любопытно, как-то теперь повернется его жизнь.
Кое-кто поддразнивал его из-за дорогой лошади:
— Он такой же воин, как мы, а одна его лошадь стоит дороже всех наших девяти, вместе взятых.
Однако десятник по имени Бат, строго следивший за тем, чтобы в десятке никаких распрей не возникало, примирительно говорил:
— Он служил хану и получил от него награду, и служил настолько хорошо, что вознагражден был щедро. Кто вам мешает последовать его примеру? — Подойдя поближе к Тенгери, он озадаченно спросил его: — Да, между прочим, а зовут-то тебя как?
— Тенгери!
— Тенгери! — повторил Бат. — Что-то мне твое лицо знакомо. Погоди, сейчас старина Бат вспомнит! — пробормотал он. — А лошадь тебе действительно подарил сам хан?
— Ну, конечно, Бат!
— Ладно, ладно уж! Если лошадь тебе подарил сам хан, ты не тот, о ком я подумал, потому что ему лошади никто не подарил бы.
— У меня редкое имя, Бат!
— Почему я его и запомнил.
— Запомнил? И что же?
— Да нет, ничего. — И десятник посмотрел почему-то в сторону. — Мало ли что вспоминается ни с того ни с сего…
Западный берег реки порос сорняками. Здесь они спешились и перешли вброд широкую, но спокойную в этом месте реку, приставили к крутой каменной стене штурмовые лестницы и начали взбираться наверх. Перевалившись через стену, они оказались на овальном плато, покрытом щебенкой, и с воинственными криками бросились на приступ вершин, хотя никакого врага там не было, только вспугнутые орлы вылетали, распластав крылья и вытянув вперед головы, и кружили над воинами хана, а потом падали вниз и нападали на них и отлетали прочь, чтобы напасть на других. Стрелами снять этих птиц на лету было очень трудно, но больше всех доставалось тем, кого орлы атаковали на штурмовой лестнице. С криками падали они в реку, и воды Онона влекли их за собой, этих безглазых мертвецов. Все это было лишь игрой для хана, но мертвецы-то были мертвы по-настоящему, и орлы были настоящие, и река катила свои воды мимо каменной стены, как катила ее веками.
Бат смеялся. Десятник стоял по другую сторону вершины, приговаривая:
— Летающие китайцы! Ну и игру придумал хан!
— Китайцы? — переспросил Тенгери.
Бат встал на большой камень и сказал своим девяти воинам:
— Между империей монголов и империей Хин возвышается высокая стена{14}, которую китайцы соорудили для своей защиты. Если дело дойдет до войны с ними, нам придется идти на приступ этой стены. Чтобы подготовить нас к этому, хан учит нас здесь, как это делается. Ну, а наших врагов здесь изображают летающие китайцы, то есть орлы. Поймите, в будущем только одно будет важно: биться с врагом на стене и за ней смогут те, кто преодолеет последнюю ступеньку лестницы!
Спрыгнув с камня, Бат приказал своим воинам вернуться на противоположный берег Онона. Когда они вместе с девяносто девятью другими десятками вернулись на исходную позицию, то под призывные звуки труб и грохот барабанов услышали приказ тысячника: снова идти на приступ! И опять они перешли Онон вброд, опять приставили штурмовые лестницы, снова дрались со злыми орлами и на сей раз достигли вершины куда скорее.
— Посмотрите вот на него! — воскликнул Бат, указывая на Тенгери. — Он самый молодой среди нас, в нашу десятку пришел последним, а на последней ступеньке оказался первым! Выходит, он самый быстрый и ловкий среди нас!
Тенгери, смущенный этой похвалой, ответил:
— Это страх придал мне крылья.
— Страх? — Бат бросил на него недоверчивый взгляд. — Когда на тебя бросается волк, ты разве из страха убиваешь его? Или из страха спасаешься бегством, потому что считаешь себя более быстроногим, чем волк?
— Я был пастухом, дорогой Бат! Слышали вы когда-нибудь о табунщике, который спасался бы от волков бегством? Только на штурмовой лестнице все не так: мне почему-то вспомнился один знакомый мне слепец и те наши воины, что лежат сейчас без глаз на дне реки, — вот я и оказался наверху быстрее всех!
Бат рассмеялся:
— Хорошо, очень хорошо, Тенгери. Такой страх полезен, он порадовал бы нашего хана. Но есть другой страх, тот самый, который не подпустил бы тебя к лестнице, — и это страх смертоносный!
— Нет, Бат, я не трус, и я буду служить хану, несмотря ни на какой страх!
После того как они еще несколько раз возвращались на западный берег и потом снова шли на штурм каменных круч, солнце закатилось за степь, а из-за рощицы молодых лиственниц вышла полная луна. На горных вершинах зажглись сотни костров, вокруг которых сидели десятники со своими воинами. Они ели и пили, шутили и распевали песни.
В десятке Тенгери самым старшим по возрасту был Бат. Он участвовал во всех войнах и участие в каждой битве мог доказать отдельным шрамом. Вот и сейчас, сидя у костра, он разделся до пояса, показывая их. Остальные девятеро с удивлением разглядывали эти свидетельства мужества — кто с сочувствием, а кто и с завистью, ведь никому из них сражаться с настоящим противником пока не приходилось. Рассказ о каждом из сражений Бат всякий раз заканчивал такими словами:
— Да-да, сейчас под моим седлом уже девятнадцатая лошадь, предыдущие восемнадцать ускакали вместе с убитыми воинами на небо, и по ночам они скачут там, сопровождая наши мысли. — После чего он вытягивал перед собой руки и спрашивал: — Замечаете что-нибудь?
Но никто ничего не замечал, и все покачивали головами, чтобы подтвердить это. Кое-кто даже ощупывал их, к явному удовольствию Бата — потому что и они ничего, совершенно ничего примечательного не находили. И Бат улыбался:
— А ничего и не увидишь! Однажды я попал в плен к меркитам. Они залепили мне пальцы овечьим дерьмом, связали меня и поставили к столбу под солнцем. Но, — он снова вытянул руки и выпятил грудь, — но прежде, чем черви успели обглодать мои пальцы, люди хана освободили меня. И поэтому, воины, у меня руки как руки — ничего не заметишь!
— Ты никогда не испытывал страха, Бат? — спросил Тенгери.
— Нет, никогда! Никогда! — вскричал Бат.
— Никогда?
— Никогда! — Бат вскочил. — Сомневаешься в моих словах? Хочешь сказать, что я вру? — И он выхватил кинжал из ножен. — До тебя никто не позволил себе усомниться в правдивости моих слов!
— Я спросил только, не испытывал ли ты страха, и даже переспросил об этом же, Бат, но я не говорил, что вы лжете! Меня, правда, удивляет, почему вы так раскричались, если все это правда.
— От твоего вопроса кровь бросилась мне в голову. — Он снова присел к костру и оглядел по очереди всех остальных, но не нашел на их лицах и тени сомнений, охвативших Тенгери. Если что и было, то полное равнодушие и некоторое удивление по поводу этой перепалки.
«И все же он лжет, — подумал Тенгери, — голос выдает его. Я, пожалуй, лучше промолчу. В подобных случаях молчание и обвинение — все равно что родные сестры». Тенгери подбросил в костер хворост, засохший овечий помет и поворошил. Все сидевшие у костра молчали, и было слышно только гудение огня да смех и песни, доносившиеся от других костров. Некоторые воины уже заснули.
Гнетущая тишина заставила Бата заговорить, и он сказал предостерегающе:
— Ты сегодня уже заводил речь о страхе, а теперь опять? Не слишком ли много ты болтаешь о страхе, вместо того чтобы превозносить геройство?
— От испытанного мной страха никому не становилось хуже, Бат. Может, ты считаешь, что хан подарил мне лошадь за трусость?
Напоминание о ханском подарке заставило Бата быть более осторожным в своих высказываниях. Наконец он негромко проговорил:
— Ладно, забудем, Тенгери. Ну, погорячился я. Это как с пугливой овцой бывает: испугается, бросится бежать, а потом остановится и никак не может сообразить, что это ее так испугало!
Бат свернулся в клубок у костра и накрыл лицо островерхой шапкой.
На вершины опустилась ночная прохлада. Луна проплывала высоко-высоко в небе, и степь в ее тусклом свете побледнела. Тенгери ничего, кроме плеска воды, не слышал и подумал, что вода в Ононе сейчас такая же холодная, как и лежащие на дне реки мертвецы. Они не были достаточно ловки на штурмовой лестнице и не учли ни быстроты и силы орлов, ни хитрости хана. А Бат все-таки солгал. Тенгери провел ночь без сна, уставившись в небо, и улыбался только что пришедшим в голову мыслям.
Некоторое время спустя Бат закричал во сне:
— Китайцы! Здесь китайцы!
— Это вам снится, десятник, — сказал лежавший рядом воин, а Тенгери притворился спящим.
— Я горю! Китайцы!
Бат заплясал и запрыгал на щебенке, сбивая огоньки со своей одежды.
— Он и впрямь горит! — Воины вскочили на ноги, и теперь уже Тенгери воскликнул:
— Может, китайцы и в самом деле где-то рядом? Я слышал, они бросают во врагов огонь!
— Китайцы здесь! — кричал Бат. — Разбудите остальных! Это китайцы!
Он переполошил всю тысячу, воины обыскали все трещины и расщелины, но ничего, кроме камней да травы, не нашли. Никаких китайцев не было и в помине. Воины, обмениваясь шуточками, вернулись к своим кострам. Многие из них посмеивались над Батом, говоря:
— Он взял страх в свой сон, только и всего.
— Как же! Горела на мне одежда или нет? Видели вы когда-нибудь, чтобы одежда загоралась от страха, а?
Остальные начали ему в один голос объяснять, что это может быть только от ветра, который забросал его одежду искрами из костра.
— И все-таки мне приходилось слышать, будто китайцы умеют напускать на врага огонь, — сказал Тенгери, пряча улыбку. — Но раз никаких китайцев здесь нет, значит, это был ветер. А присниться мало ли что может?
Лицо Бата подобрело, и его воины разошлись к своим кострам. Время от времени слышался их веселый смех, и Бат при этом всякий раз вздрагивал, смущенно поглядывая в сторону Тенгери.
— Пусть они посмеются, — успокоил его Тенгери. — Им смешно, что ты так испугался во сне. Ну и что?
— Я? Испугался? — взвился Бат.
— Неужели ты, десятник, хочешь сказать, — очень тихо проговорил Тенгери, — будто любой из нас способен прогнать во сне страх?
— Конечно, нет! Тут ты прав. С этим ничего не поделаешь. Да, ничего!
— Вот видишь!
Тенгери прилег, десятник тоже. Но думали они о разном. В то время как Бат думал: «По-моему, этот Тенгери перехитрил меня. Он столько раз выворачивал слова наизнанку, пока они не сказали того, что он хотел сказать с самого начала», а Тенгери подумал: «Этому Бату никогда не узнать, что это я кинжалом швырнул на него жаринки из костра».
На другое утро проезжавший мимо гонец сообщил, что китайское посольство скоро достигнет главного лагеря и что хан приказал немедленно скрыть штурмовые лестницы, чтобы люди из империи Хин ничего не заподозрили.
А Чингисхан со своей свитой оставил тем временем свой город юрт и кибиток и направился в западную степь, где на скудной каменистой почве ничего, кроме редкой травы, не росло. Не здесь бы принимать высокое посольство, но хан со своей обычной улыбкой проговорил:
— Я хочу испугать их, я хочу их унизить, прежде чем мы обменяемся хоть одним словом.
— А не стоит ли поставить для них по крайней мере юрту, отец? — спросил Джучи.
— Да, юрту, но обыкновенную, тесную, пропахшую дымом и продутую ветрами черную войлочную юрту. Разве китайцы не считают нас варварами? Разве не смотрят они на нас сверху вниз только потому, что мы кочевники и живем в юртах? Поэтому я и приму их не в моей золотой дворцовой юрте, а в этом всеми забытом месте, посреди куч конского и овечьего навоза.
Военачальники согласно закивали головами, а Джучи спросил:
— Какой шелковый мат постелить тебе, отец, красный или синий?
— Шелковый мат? Как они называют меня в своей империи Хин? Вождем варваров. Но разве вожди варваров восседают на шелковых матах? Разложите для меня обыкновенную шкуру яка, чтобы я сидел на ней, как обыкновенный пастух на промерзшей земле. А для китайцев положите старые козлиные шкуры, из которых лезет волос, чтобы император и после их возвращения в Йенпин{15} видел, на чем они у меня сидели.
Посольство из империи Хин с юго-востока приближалось к тому месту, которое выбрал для их приема Чингисхан. Они ехали верхом на верблюдах и лошадях, и за долгий и многотрудный путь по пустыне и степи весь лоск с них спал. Вот такие, донельзя усталые, они и предстали перед ханом, а хан торжествующе улыбался, глядя на их покрытые пылью лица, воспаленные глаза и спекшиеся губы.
Темучин сделал знак своему сыну Джучи, тот повернулся к послам и сказал:
— Вам позволено говорить!
Главный посол, мужчина в красном халате, прошитом золотыми нитями, сохраняя достоинство и значительный вид, выступил вперед, словно желая доказать, что даже самые сложные обстоятельства не в силах поколебать его воли. Он размеренно и спокойно проговорил:
— Север нашей великой империи Хин получил нового императора. И он, Сын Неба, требует от вас, вождя многих племен степи…
— Вождя? — громко, с нескрываемой угрозой переспросил Чингис.
— Да, он назвал вас вождем! — воскликнул один из составлявших свиту хана монгольских военачальников.
— Мой отец — Ха-хан, — сказал Джучи. — Властитель всех живущих в степи племен, которые он объединил в один народ, народ монголов!
Но так как китайский посол, подчиняясь законам посольской церемонии, по-прежнему хранил молчание, хан спросил со значением:
— Так чего же требует от меня ваш вождь?
Посол, конечно, не пропустил мимо ушей это унизительное обращение, но не подал виду, а проговорил совершенно ровным голосом:
— Этот Сын Неба требует от вас, чтобы вы — как мне поручено передать вам от его имени, — вождь многочисленных живущих в степи племен, обратили ваш лик к югу и на коленях возвеличили его, Сына Неба!
В окружении хана послышался ропот.
— На коленях! — сказал кто-то и засмеялся.
— Сын Неба! — проворчал другой и схватился за меч.
Однако хан призвал всех к тишине.
— Садись, прошу тебя, — довольно дружелюбно обратился он к послу.
И в то время как императорское посольство опустилось на жалкие козлиные шкуры, сохраняя при этом такое выражение лица, будто ничего другого они не ожидали, хан остался стоять и полюбопытствовал:
— А кто, хотел бы я знать, сейчас император в империи Хин?
Властитель задал этот вопрос, хотя его разведчики уже несколько дней назад сообщили ему как о переменах на троне, так и имя нового императора.
— Император Вай Вань, — ответил главный посол. — Император Вай Вань — это бывший князь Юн Хи!
— Вот как! — Хан сделал шаг вперед, снял шапку и обратился лицом к югу.
Китайское посольство, немало подивившись этой удивительной перемене в настроении хана, почтительно поднялось и встало, как того требовал церемониал, за его спиной.
— Князь Юн Хи? — переспросил Чингис.
— Да, — ответил главный посол. — Теперь он Сын Неба.
— Как может слабоумный стать императором? И еще: как он смеет называть себя Сыном Неба, когда он даже не человек!
Чингис трижды плюнул в южную сторону, потребовал коня и, оседлав своего жеребца белой масти, воскликнул:
— Передай этому Вай Вану, который утверждает, будто он Сын Неба, что я намерен спросить у Неба и наших богов, я ли должен возвеличивать его на коленях или он должен на коленях возвеличивать меня!
— За то, что мне довелось здесь увидеть, и за весть, которую вы велите передать моему императору, — печально проговорил посол, — император накажет меня и бросит в темницу.
Жалобный тон посла повеселил хана, который сказал:
— А чего же ожидать от слабоумного? Я бы за такую весть вознаградил тебя, потому что это правда, и мне, властителю, предстояло бы сделать из услышанного важные выводы. Или ваш Сын Неба считает, — тут Чингис перегнулся к послу с лошади и прошептал: — Неужели он считает, что у неба есть границы?
Другой китаец, безмолвно простоявший рядом с послом во время всего приема, воскликнул:
— Он хочет войны!
Оттолкнув посла в сторону и став на его место, он бросил ему в лицо обидные слова:
— Что вы стенаете и дрожите перед теми, кто оскорбляет нашего императора? Смойте кровью это оскорбление, чтобы Сын Неба опять мог улыбаться.
Едва заметным кивком головы он приказал одному из военачальников, входивших в посольство, убить посла. И острый кинжал вонзился прямо в его сердце.
— Вот вы мне больше нравитесь! — сказал Чингисхан, огрел белого жеребца плеткой и, сопровождаемый своей свитой, поскакал к главному лагерю. В дороге его застал сильный холодный дождь. Властитель оглянулся, проводил взглядом уходивший на юго-восток караван китайцев и заметил:
— Вы только на них посмотрите. Они уползают под дождем, как змея. Когда они потребовали от меня, чтобы я стал на колени, я трижды плюнул и попал в голову этой змеи — и теперь ее голова лежит в степной траве, отравленная собственным ядом. Теперь, ослабев, эта змея возвращается в свое убежище, чтобы напитаться от Сына Неба свежим ядом.
— Но сначала ей придется проползти через жаркую пустыню, отец, — сказал Джучи.
Один из военачальников воскликнул:
— Да, им придется проползти через всю Гоби, великий хан. Жара лишит их сил. Они умрут от жажды, ведь от нас они воды не получили!
— Или боги превратят их в жалкие солончаки, — добавил верховный шаман. Он распростер руки и не отводил глаз от грязно-серого неба. Дождевая вода стекала струйками по его смуглому морщинистому лицу, и казалось, будто шаман плачет.
А караван уходил все дальше и дальше и вскоре исчез за горизонтом. Остался один только посол в красном платье, прошитом золотыми нитями; скорчившись, он лежал на траве. Ярко-красное пятно походило на огонек посреди степи, который не в силах погасить никакой дождь.
Вопреки всем предположениям и недобрым пожеланиям китайское посольство все-таки вернулось в Йенпин и передало Сыну Неба о случившемся, хотя они отлично знали, что бывает с теми, кто приносит дурные вести.
— И вы еще живы? — воскликнул император, вскакивая на ноги.
Он подбежал к высокой ширме, где на шелке были изображены роскошные цветы и кусты, и замахнулся на нее, словно желая вырвать нарисованные цветы. Ширма задрожала, задрожал светло-золотистый наряд императора, задрожал вытканный на нем дракон. Этот дракон бегал с императором туда-сюда по залу дворца, он нагибался, когда нагибался император, угрожающе выпрямлялся, когда император принимал грозный вид, и делал молниеносный бросок вперед, когда император резко поворачивался.
— И вы еще живы? — громко повторил он свой вопрос и повернул голову в сторону своих посланцев, которые сейчас не знали, в чьи глаза им лучше смотреть: в глаза императора или в глаза дракона.
— Чтобы спасти нашу честь, мы главного посла убили, — попытался оправдаться один из них.
Император горько усмехнулся, взял с лакированного столика кипарисовую коробочку с засахаренными орешками и бросил несколько штук в рот. Жуя, он спросил:
— Разве недобрая весть стала от этого доброй? На что годятся послы, которые умными и льстивыми речами не могут заставить вождя варварских племен преклонить передо мной колени!
— Он называет себя Ха-ханом!
— Он себя называет! Он волк, степной волк, который, может быть, и способен зарезать целое стадо овец, но разве он становится от этого гордым львом?
Сын Неба позвонил в серебряный колокольчик.
Появились дворцовые стражи.
— Всех их заточить в подземелье!
Он снова взял со столика кипарисовую коробочку и отправил в рот несколько засахаренных орешков. Снова тронул серебряный колокольчик — и на пороге появился один из его мандаринов{16}. Смиренно согнувшись, он сделал несколько шагов по мягчайшему ковру, приблизился к своему господину.
— Пригласите к вечеру членов Большого Совета на пир!
Когда солнце спряталось за цветущими кустами, а последние ласточки расцарапали своими лапками отливающее пурпуром зеркало озера в дворцовом парке, самые высокопоставленные люди страны, полководцы и мандарины, уже прогуливались по напоенным запахом пионов террасам. Перед дворцом на невысоком круглом возвышении стоял молодой поэт, слагавший гимн в честь этого празднества.
Умолкли птичьи голоса в ветвях. Последнее облачко сдуло с неба. Мы с тобой не наскучим друг другу в веках, И неразлучны вечные мудрые горы и я.Сын Неба восседал перед бассейном, покрытым цветами лотоса, и с нескрываемым любопытством наблюдал за тем, как закрываются нежно-розовые чашечки цветов, как в мягком вечернем свете темнеют эти бархатистые листочки. Когда все члены Большого Совета заняли свои места, император несколько раз ударил в ладони.
Раздвинулся шелковый занавес, зазвучала музыка, и к гостям императора на выложенный золотыми узорами, сверкающий пол зала выпорхнула девушка, красивая, как молодая луна, с телом гибким, как у молодого кипариса.
— Она танцует не хуже нашей легендарной танцовщицы Пан! — воскликнул Сын Неба. — Разве от легчайшего прикосновения ее ног не раскрываются вновь заснувшие было цветы лотоса? Разве всем вам это не кажется?
Полководцы и мандарины не сводили глаз с золотистого сверкающего пола с узорами, точь-в-точь похожими на цветки молодого лотоса, и почтительно кивали, низко-низко склоняя свои седые головы, но когда император вторично ударил в ладони, они задрали головы к потолку: девушка быстро сбросила с себя затканную жемчугом платье-сетку и с улыбкой полетела к императору через золото, лотосы и драгоценные камни.
После пира и долгого представления знаменитых танцовщиков Сын Неба потребовал от членов Большого Совета, чтобы они подумали, как ему отомстить вождю варварских племен, который вместо того, чтобы почтительно преклонить колени, оскорбил его.
Первым поднялся полководец, которому подчинялись все войска Великой стены. Он потребовал войны и отмщения.
Другой полководец предложил набраться терпения и следить за тем, что предпримут варвары. Кроме того, он потребовал соорудить новую крепость у ближайших ворот Великой стены.
За ним встал главный мандарин. Он сказал:
— Не разумнее ли будет пригласить к нашему двору вождя варваров, именующего себя Чингисханом и объявившего, что он — верховный властитель всех живущих в войлочных юртах и кибитках племен? Пусть падет перед нашим императором на колени и молит его о пощаде!
Сын Неба сидел перед бассейном с лотосами с совершенно непроницаемым лицом: он либо прислушивался к советам, либо совсем не слышал их, когда они ему не нравились. А когда члены Большого Совета начинали спорить и некоторые речи становились скорее крикливыми, чем мудрыми, император отворачивался и подходил к высокому окну, рисовая бумага в котором подрагивала от этих криков. Потом оглядывался на своего слугу. Слуга подбегал к нему и торопливо открывал окно. За террасами с пионами открывалась зеркальная гладь продолговатого озера. У входа во дворец стояли стражи, неподвижные, словно каменные изваяния. Видно было, как из-за гор надвигаются тучи. Император резко повернулся, сделал несколько шагов по направлению к бассейну и сказал, желая положить конец неуместной болтовне:
— Пусть скажет наш ученый Юнг Лу, на мудрость которого мы полагаемся!
Юнг Лу, седовласый старец, бросил взгляд в сторону трона, а потом на окно.
— Слова, которые я хотел бы сказать вам, — начал он, — столь же хорошо вам известны, как и корни произрастающих на террасе пионов. Древние корни все еще дают жизнь цветам, отчего же должны устаревать слова, знакомые нам издревле? Так выслушайте же, что нам известно со времен династии Хань.
Когда император хочет быть уверенным в верности других стран, он должен убедить их властителей, что обладает тремя высшими княжескими добродетелями и пятью приманками.
Вот они, эти три высшие княжеские добродетели: умение лицемерно уверять в своем расположении, умение услаждать слух медоточивыми речами и умение обращаться с нижестоящими как с равными.
А вот пять приманок: одарять самыми дорогими носилками и одеждой, чтобы совратить глаз, устраивать щедрые пиршества и застолья, чтобы совратить желудок, показывать музицирующих и танцующих девушек, чтобы совратить слух, дарить богатые дома и красивых женщин, чтобы совратить к роскоши, и самому императору присутствовать за столом чужеземного властителя, чтобы совратить его гордыню.
С императорского трона послышался громкий смех.
— Ты стареешь, Юнг Лу. Мы говорим сейчас о вожде варварских племен, а вовсе не о благородном властителе дальней страны. Есть ли у варвара, кочующего от одного пастбища до другого, стол, за которым бы я мог сидеть рядом с ним? Хотите, чтобы я сидел, как и он, на козьих шкурах? Хотите, чтобы я говорил с тем, кто вырос с волками и перенял их качества? Я, воспитанный ученейшими людьми и перенявший их мораль и мудрость? О Юнг Лу, ты стареешь! Собирай цветы, но слова свои держи при себе. Заблуждения мудрецов — самые опасные!
Ученый Юнг Лу сел на свое место словно в воду опущенный, осмеиваемый теми из полководцев императора, которые призывали его к войне.
— Слушайте и повинуйтесь! — воскликнул Сын Неба, и все члены Большого Совета мгновенно умолкли и встали в ожидании решения императора. — Наш полководец, поставленный во главе войск Великой стены, советует мне объявить войну варварам, чтобы наказать их и отомстить за оскорбление. Итак, мы пойдем войной на вождя варваров, который живет, как волк, мечется по степи, как волк, рвет зубами сырое мясо, как волк, и следует только своей дикости. Этот варвар не различает чистое и нечистое и, значит, принадлежит к существам низшего порядка.
Император снова хлопнул в ладони, и снова из-за занавеса появилась юная танцовщица, но на сей раз не для того, чтобы танцевать, а чтобы ответить на один-единственный вопрос императора.
— Скажи мне, красавица, — потребовал Сын Неба, — идти ли мне войной на вождя варваров и наказать его или мне говорить с ним как с человеком княжеского рода?
— Война! Война! Война! — прошептала девушка, прикрываясь веером небесно-голубого цвета.
— Слышишь, Юнг Лу, война! Заметь себе, ученый: лишь с падением дерева пропадает отбрасываемая им тень!
Император подозвал к себе девушку и указал ей на место у края бассейна. Лотосы к этому времени совсем закрылись. Члены Большого Совета потянулись из дворца.
Они спустились по ступеням мимо террасы, оставляя позади пьянящий запах пионов. Светила луна. Теплый ветер шевелил нежные стебельки и нити пестрых лампионов. Они ступали по скрипучему песку, идя вдоль озера. Никто не произносил ни слова, никто не пел, все смотрели прямо перед собой; никому из них и в голову не пришло бы нарушить единожды заведенный порядок. Или оглянуться! Все они, самые высокопоставленные люди в империи, полководцы и мандарины, молча шли гуськом, и в темноте их трудно было отличить друг от друга: пятьдесят две головы, а на них пятьдесят две плоские шапки с тупым верхом, пятьдесят две короткие косицы, пятьдесят два темных как ночь халата и сто четыре башмака из козьей кожи на пробковой подошве.
И все же, когда солнце снова выглянуло из-за гор и, как всегда, оживило и раскрасило в теплые тона дворцовые террасы, оно среди цветущих пионов разглядело и одного мертвеца — старого ученого Юнг Лу. Его лучи упали на несколько лежавших рядом с телом жемчужин, выпавших из женского налобного украшения. А обладательница этого украшения лежала в этот ранний утренний час в Лоне Исполненных Желаний, в императорской спальне. И хотя жемчужины пропали, танцовщица по этому поводу и не думала горевать. Сын Неба, любивший цитировать легендарную Пан, негромко проговорил:
И дома, и в пути ты спутник и соратник мой, Лишь ты пошевелишься, возникает долгожданный холод, И все ж я чувствую, когда осеннею порою Вся роскошь лета понемногу увядает. Ты ляжешь, будучи ненужным, в темный ящик, Как отлетевших дней ненужное напоминанье.После чего он дал ей большой кусок красного шелка и новое украшение на лоб, вдвое дороже прежнего. Вдобавок оно было украшено крохотными перышками с груди зимородка и прозрачными крылышками пестрых бабочек.
— Позвольте мне один вопрос, — попросила девушка.
— О, с удовольствием, красавица! В присутствии Большого Совета вопрос тебе задал я — и ты ответила, как умница! Теперь же, когда они ушли, спрашивай меня!
— Кого вы подразумеваете в вашем стихотворении?
— Кого? И ты еще спрашиваешь? — Император рассмеялся, его просто трясло от смеха.
— Может быть, меня? — прошептала девушка, которая вдруг вся поникла, и, чтобы император не заметил этого, она снова прикрыла лицо веером небесно-голубого цвета.
— С чего ты взяла? Ты вслушайся: «И дома, и в пути ты спутник и соратник мой…»
— Да, ну и что? Пусть не соратник, но спутник все-таки?..
— «Лишь ты пошевелишься, возникает долгожданный холод». Разве от тебя, красавица, исходит холод? А дальше: «И все ж я чувствую, когда осеннею порою вся роскошь лета понемногу увядает…»
— Это непонятно, но дальше, дальше!
— «Ты ляжешь, будучи ненужным, в темный ящик»! Желаешь, красавица, лечь за ненужностью в темный ящик? — И он снова расхохотался.
— Вы надо мной издеваетесь!
— Да нет же! Ты лучше поразмысли над тем, что я имею в виду.
«Она столь же прекрасна, сколь и глупа», — подумалось ему, и эта мысль неожиданно доставила императору большое удовольствие.
— Я не знаю, о чем эти стихи, — проговорила девушка и, устыдившись своих слов, отступила на шаг назад.
— С тебя довольно и того, что ты красива. — Император отворил окно, чтобы вдохнуть полной грудью утренний воздух, и прошептал с загадочным видом: — Умным часто приходится умирать до срока, не правда ли, моя красавица?
Головка девушки совершенно скрылась за веером.
— А теперь уходи, — грубовато приказал он. — Кстати: в стихотворении говорится о шелке.
Глава 3 ДЗУ-ХУ, ГОРОД У ГОРЫ
Несколько ночей спустя в главном лагере у Онона десятники бегали от юрты к юрте с зажженными факелами. И среди них Бат, который участие в каждой битве мог доказать отдельным шрамом. Хотя юрта Тенгери стояла на самом краю лагеря, он первым делом поспешил туда — ему не терпелось гаркнуть ему в самое ухо:
— Вставай, китайцы идут, слышишь, китайцы, китайцы!
Тенгери сперва испугался, но, услышав крик Бата: «Китайцы идут!» — ответил, потягиваясь:
— Думаешь, Бат, мне снятся такие же сны, как и тебе у вершины горы? Нет, брат, мне снятся лошади или, допустим, овцы и козы. Но китайцы — никогда!
— Это правда, Тенгери!
— Да нет, ты шутишь, хочешь расквитаться со мной за тот случай! Дай мне поспать, настоящие китайцы сейчас тоже спят!
Десятнику Бату не оставалось ничего другого, кроме как грубо схватить Тенгери, рывком поставить его на ноги и заорать:
— Хан зовет! Ты слышишь, хан!
— Бат! Ты что рукам волю даешь? Это уж слишком! Шутки шутками, но…
— Какие шутки! Выходи, это приказ! — крикнул десятник и вытолкал Тенгери из юрты. — Ну, не будь ты юношей, который только и знал, что пасти овец…
— Лошадей, Бат, лошадей!
— Ладно, пусть ты стерег лошадей, но в войске тебя не было и с врагом ты не сражался. Не случись со мной той истории на каменной стене, я бы… я бы именем великого хана убил тебя на месте! Вот, а теперь протри глаза: шучу я с тобой или тысячи уже покидают лагерь? Ну?
— Клянусь богами, они потянулись к Лисьему перевалу! Их всех можно пересчитать, так ясно светит луна. Бат! Прости меня за то, что я тебе не сразу повиновался.
— «Прости, прости»… Что ты там лепечешь? Какое может быть прощение среди воинов? — И с досадой добавил: — Наша тысяча и так уходит из лагеря последней.
— Последней?
— Да, последней. Прежде мы всегда были среди первых, среди тех, кто по приказу «Затевайте драку!» первыми бросались на врага.
— А сегодня ты среди последних, потому что… — Тенгери помедлил немного и закончил: — Потому что ты состарился, вот почему.
— Состарился? — вскричал Бат, который и мысли такой не допускал. — А почему ты не спрашиваешь, почему мы в самом деле уходим последними? А? Почему?
Тенгери подумал: «Ладно, не буду перегибать палку», и для виду поинтересовался:
— Правда, почему, Бат?
— Потому что она состоит из дураков и молокососов вроде тебя, которые пасли овец, коз и лошадей, а врага и в глаза не видели.
Только чтобы еще позлить Бата, Тенгери спросил:
— Разве волк не враг? Я их много поубивал, десятник.
— Слушайте, слушайте! Он их много поубивал! Есть у волка лук и стрелы? Размахивает он острым мечом? Раскроит он тебе череп боевым топором? А набросит на тебя волк аркан, чтобы стащить с лошади? A-а, — вздохнул Бат, — знал бы ты, какой это позор — быть среди последних.
— Ты жалуешься? — прошептал Тенгери.
— Позор, позор, — повторил Бат и снова вздохнул.
— Тогда пожалуйся хану, десятник, пойди к нему и пожалуйся.
— Ага, выходит, ты не знаешь старинной мудрости: «Кто пойдет к хану с жалобой, назад не вернется!» Да что мы тут разговорились. — Бат потянулся и неожиданно резко проговорил: — Конечно, правильно, что наша тысяча выступает последней. Возьмем волков, да, твоих волков: разве они пошлют вперед своих волчат, чтобы те по неопытности попали в западню? Нет, старый волк пойдет первым, а волчат поведет за собой, чтобы те, крадучись сзади, учились у стариков, как это делается. Выходит, правильно, что наша тысяча, в которой так много молодых волчат, идет позади.
— Но иногда, — сказал Тенгери, — волчата носятся впереди стаи и резвятся, ни о чем не тревожась…
— И если дойдет до настоящего дела, их первыми и разорвут. Ха-ха! Хан прав, тысячу раз прав! — Бат сделал несколько быстрых шагов в сторону, как бы желая разбудить следующего своего воина, но вернулся и прошептал: — Возьми хотя бы время, когда мы выступаем, — только на восходе солнца. Мне просто… просто захотелось разбудить тебя первым, Тенгери.
— Но где же твои китайцы, Бат?
— A-а, ты опять за свое? Увидишь их, не сомневайся: они уже по эту сторону Великой стены, и их полководец, которого они носят на бамбуковых носилках по степи, разрешил им несколько дней пограбить. Увидишь их, не сомневайся: правда, живых китайцев останется к тому времени меньше, чем мертвых. Тех, кто идет последними, бросают в бой, только чтобы добить уже поверженного врага.
Теперь Бат действительно ушел.
Тысяча за тысячей скрывались за Лисьим перевалом. Луна, казалось, зацепилась за острую вершину горы, и тучи пыли застилали ее бледный диск.
В главном лагере царили покой и умиротворенность. Никто никого не подгонял, никто ничему не удивлялся, каждый делал что ему положено. Воины скакали к месту сбора, словно речь шла об охоте или рыбной ловле. Чингисхан спокойно сидел в своей дворцовой юрте в окружении женщин и девушек, которые подносили ему молочное вино и услаждали его танцами и шутками. Предстоящей битве он не придавал почти никакого значения и даже не стал сам во главе войска: если он в присутствии китайских послов обозвал князя Юн Хи, Сына Неба, слабоумным и трижды плюнул в южную сторону, то не только из желания оскорбить его, но и потому, что и впрямь считал его никудышным императором.
— Он хочет покарать меня, но он меня не знает, — сказал хан вечером своим военачальникам. — Возможно ли победить врага, не зная его? Ненависть сама по себе не убивает! Любой беркут умнее Сына Неба: беркут нападет на волка, но поостережется тигра — у тигра хватит сил сбросить с себя самого крупного беркута!
Когда Тенгери со своей тысячей оставил Лисий перевал позади, солнце стояло уже высоко в небе и жаркий ветер лизал траву и камень. Впереди лежала мерцающая степь — плоская, широкая, золотая. Ее прорезало длинное узкое озеро, берега которого поросли камышом. Вода в нем была чистая, прозрачная. На небе ни облачка, только солнце. Жарко, пыльно. Вот они достигли долины, и оглянувшись, перевал мог показаться людям черной пастью. Тихо, ни ветерка. Из-за повозок они ехали медленно, и всех их, людей и лошадей, облепили мухи. А вот ночью было прохладно, приятно. Иногда им навстречу устремлялись стрелогонцы из других тысяч, которые торопились с донесениями к хану. Тенгери с удивлением смотрел им вслед. Его злило, что они им ни слова не крикнули: началась битва или нет, а если началась, то как идет и руководит ли китайский полководец битвой с бамбуковых носилок или все-таки сошел с них. Так нет же — стрелогонцы мчались мимо молча, и лишь их серебряные колокольцы требовали: «Пропустить! Пропустить!»
Тенгери втайне хотелось, чтобы их войско где-то попятилось — тогда, может быть, их тысячу скорее бросили бы в бой. Это было вызвано чистым любопытством, которое порой охватывало его, когда старики рассказывали о минувших горячих битвах или опасной охоте. Они умело выбирали слова, расцвечивая свой рассказ страхом, огнем и тьмой: там, где их поджидала опасность, они переходили на шепот, а где до победы оставалось лишь переступить через смерть — на крик. Но все же слова оставались словами, как ни нанизывай и ни создавай из них героического повествования, даже если они до того околдовывали слушавших, что тем начинало чудиться, будто и они сражаются и побеждают или гибнут. Но под конец всегда оказывалось, что ты-то сидишь на своем месте, на камне или на траве, и лишь внимаешь рассказу, а не сражаешься. Поэтому Тенгери и хотелось, чтобы монголы где-нибудь попятились и их тысяча поскорее вступила бы в бой.
Но им пришлось провести еще не один день, не одну ночь в седле, пока они встретились с врагом, не идущим, а бредущим им навстречу, потому что это были пленные, рядом с которыми гордо восседали на конях монгольские воины. Правда, пленных этих было не много: небольшой передовой отряд китайцев удалось окружить в ущелье и взять ночью так, что те не успели спустить с тетивы ни одной стрелы. Что известно всаднику о муках, которые испытывает пеший пленный? Обессилевшие китайцы с мольбой бросали взгляды на своих стражей, но победителям не было дела до их страданий, они подгоняли и подгоняли пленных и хохотали во все горло, когда те в отчаянии падали на колени в пыль и взывали к Будде.
Тысяча, к которой принадлежал Тенгери, как раз отдыхала, и воины разлеглись на траве. Стражи придержали своих лошадей и приказали пленным сесть. Пока воины переговаривались со стражами, ели и пили, обмениваясь новостями и трофеями, пленные всем своим видом показывали, что умирают от жажды. Однако стражи делали вид, будто не замечают этого, а некоторые из них даже угрожающе замахивались плетками.
— Они хотят пить, — сказал Бат, и лицо у него было такое, будто их жажда его радовала.
«Как же так?» — думал Тенгери. Ему казалось странным, почему побежденному противнику можно отказать в глотке воды. И слова десятника, фактически отказывавшие в глотке живительной влаги пленным, вызвали резкий протест в его душе.
И он, не произнеся ни слова, встал и сделал сидевшим неподалеку от него пленным знак следовать за ним. Сразу поднялись восемь китайцев, скорее удивившихся, чем обрадовавшихся.
— Эй, что ты собираешься делать с ними? — спросил его бородатый страж.
— Они хотят пить, брат, я отведу их к ручью, пусть напьются.
— Вот как? Отведешь к ручью? — Он натянул свою шапку на лоб и оскалил зубы. — Это пленные, а не овцы, слышишь? Выдумал тоже, на водопой поведет! А если они разбегутся?
— Тогда я их поубиваю! Мои стрелы их догонят!
— Всех восьмерых, да? А вдруг они побегут в разные стороны? Об этом ты не подумал, юноша, признайся!
Об их бегстве Тенгери действительно не подумал.
— Глупец! Послушай: возьми четверых, а потом еще раз четверых. И если хоть один от тебя уйдет, ты сам восемь раз умрешь!
Воины и стражи рассмеялись.
Тенгери быстро зашагал с первой четверкой к ручью, успев еще услышать, как Бат сказал стражнику:
— Он все равно что дитя малое: плачет, когда мы смеемся, болтает, когда все мы молчим, поет, когда мы изрыгаем проклятья; до сих пор ему приходилось стеречь лошадей и овец, но людей — никогда.
Ручей был узким, и все дно его кто-то словно аккуратно выложил крупными продолговатыми камнями.
— Смотрите не разбегитесь! — прикрикнул Тенгери на пленных.
Они пугливо закивали, хотя скорее всего слов его не поняли.
— Если вы убежите, мне не сносить головы. А что стоит человек без головы?
Они снова закивали.
— Давайте пейте!
И опять они закивали, но пить пока не осмеливались.
— Да пейте же! — Тенгери опустился на колени на лежавший у ручья плоский камень и приник к воде, как баран.
Теперь китайцы его поняли и тоже попадали на колени, а один даже свалился в ручей, обдав всех брызгами.
— Эй, ты что? Уплыть вздумал, а? Вылезай, говорю тебе, да поживее!
Китаец поднял руки, жалобно залепетал что-то и покорно выполз на берег.
Напившись досыта, они наполнили водой свои долбленые тыквы-кувшины.
— Готовы? Пошли теперь обратно! — сказал Тенгери.
У китайцев был теперь другой вид. Их лица разгладились, глаза ожили, в них появилось даже какое-то тепло. Вдруг все они полезли в карманы и вытащили из них какие-то вещицы, которые Тенгери прежде видеть не доводилось. Это были листки, испещренные странными значками. Не зная им цены, он все же сунул их себе за пазуху и повел китайцев дальше, встретив по дороге Тумора, другого воина из своего десятка, тоже с четырьмя китайцами. Тенгери эта встреча обрадовала. Особенно то, что тот тоже решился отвести пленных к ручью.
— Что это такое, не знаешь? — Тенгери показал ему таинственные листки.
Тумор покачал головой. Ветер разворошил его черную гриву; он открыл было рот, словно желая сказать что-то, но не знал, что именно. Он покачал головой — вот и все.
— Они подарили мне это с таким видом, будто это золото или серебро, но ведь это не серебро и не золото, Тумор, да и красоты в них никакой нет, в этих листках.
— Да, красоты в них нет. Выброси их, Тенгери. Если они нагнутся за листками, значит, это все же ценная вещь — и ты их у китайцев опять отнимешь. Оставят на земле — ты ничего не потерял!
— К чему бы им дарить мне вещи, никакой цены не имеющие, Тумор?
— Спроси Бата! — И Тумор пошел своей дорогой, а Тенгери счел, что его совет недурен.
Десятник ответил ему:
— Да, этим добром у них набиты все карманы. Тут вот какое дело: за один листок ты получишь в империи Хин, ну, предположим, полбарана, за два — целого и так далее. За десять листков — верблюда, а за…
— Не может этого быть! Верблюда меняют не меньше чем на шесть баранов.
— Не в империи Хин. Там хватит и десяти таких листков. Они все равно что золото!
— Как ты сказал? Все равно что золото? Да разве они на золото похожи?
— Это деньги, Тенгери, а деньги все равно что золото. Эти бумажные листки они называют деньгами. Только не слишком-то радуйся, можешь их спокойно выбросить, у нас ты за них не получишь даже полуобглоданную кость. А в империи Хин они тебе не понадобятся. Там мы возьмем себе, что пожелаем, без этих листков, понимаешь?
— А кто их делает?
— Ремесленники китайского императора, Тенгери.
— Вот как? Тогда императору достаточно приказать наделать побольше такого добра, и он получит, что пожелает!
— Император получит все что угодно и без этих листков! — ухмыльнулся Бат.
Той ночью Тенгери долго не мог заснуть, странные листки все еще лежали у него за пазухой, и когда он прикасался к ним, они потрескивали. Мысли об их ценности не шли у него из головы. «У меня десять таких листков. Выходит, я могу заиметь — если, конечно, поверить Бату — пять баранов или одного верблюда. Я, правда, не вижу ни моего верблюда, ни пяти баранов — пока не вижу; но мне достаточно будет обменять в империи Хин эти маленькие замечательные листки, эти деньги, и я получу в обмен на них животных». Нет, сон никак не шел. Какое это удивительное чувство — ощущать себя хозяином верблюда, которого ты еще даже не видел, потому что он сидит у тебя за пазухой. А когда он потом все-таки заснул, ему приснились китайские ремесленники, изготавливавшие эти бумажные деньги и раздававшие их на улицах Йенпина людям. Во сне же Тенгери услышал и голос одного седобородого монгола, который сказал: «О да, юноша, империя Хин — это страна сказок и чудес».
Ранним утром тысяча Тенгери снова выступила в поход и поскакала навстречу солнцу. Красное, как огненная лилия, поднималось оно из травы и так медленно карабкалось по высоким острым стеблям, словно оно всю ночь провело в степи и еще не выспалось. Всадники тоже не выспались и ехали с опущенными, как и у их лошадей, головами. Слышались только тарахтение и скрип колес повозок да жалобные крики чибисов, сопровождавших тысячу почти от самого лагеря.
Когда они начали уже отбрасывать тени и ночная прохлада улетучилась из их тел, Тенгери поведал ехавшему рядом Тумору о своих снах.
А впереди них ехал десятник, и, когда Тенгери в своем рассказе дошел до того места из сна, где китайские ремесленники раздают на улицах бумажные деньги, которые изготавливают при императорском дворе, Бат обернулся к ним и, рассмеявшись, сказал:
— Ну и дурацкие же сны тебе снятся, Тенгери! Неужели ты думаешь, что император китайцев, сын желтой пятнистой волчицы, заставляет делать дорогие бумажные деньги, чтобы ни за что ни про что раздавать их простым людям на улицах? Будь оно так, разве не купил бы себе каждый китаец столько верблюдов, баранов, овец, буйволов, ослов, повозок, шелка, риса, золота, серебра, жемчуга, сапог и фарфора, сколько пожелает? Ничего этого в империи Хин нет. Ты должен сделать что-нибудь нужное, полезное, ценное — и тогда ты получишь дорогие листки. Допустим, ты мастеришь повозку. Тот, кому она нужна, дает тебе за нее эти бумажные деньги. С этими листками ты пойдешь, например, к соседу, который ткет шелк, и купишь себе его. Если ты смастерил много повозок, сможешь купить много шелка, а если он наткал много шелка, он купит себе много риса и чая. Но запомни раз и навсегда, — он повысил голос и откинулся в седле настолько, что ехал сейчас как бы между Тенгери и Тумором, — больше всего дорогих листков остается в руках жадных купцов. Они вороваты, как сороки, и тащат к себе все, что блестит, сверкает и переливается. Да, все в свое гнездо! Скупят у ткачей шелка, ну, предположим, целых сто штук за, за… — старый десятник в задумчивости погладил свою седую бороду, — ну, примерно за тысячу листков…
— Тысячу таких листков, как у меня?
— Да, Тенгери, за тысячу! Или, может быть, за десять тысяч…
— Десять тысяч?
— Десять тысяч!
— Ты преувеличиваешь, Бат!
— Нет! Ну, ладно, положим, за тысячу. Купят за тысячу листков сто штук и потом — слушайте меня внимательно! — поедут по деревням и маленьким городкам. И будут отрезать от штуки столько, сколько людям нужно, будут продавать по кускам и кусочкам, а когда распродадут все, у них в кармане будет не тысяча, а пять тысяч листков.
— Если бы я умел ткать шелк, я сам бы его и продавал, — сказал Тумор.
— Болван! Ну ездил бы ты по деревням, а кто бы за тебя ткал? Кому, как не купцам, знать, что из этого толку не будет! И еще они знают, что ткачи спят и видят, чтобы к ним кто-нибудь пришел и забрал весь товар сразу. Но все равно: купцы и торговцы — недостойные люди, и наш хан их ненавидит, потому что они обманывают людей. Нужно нам, допустим, железо, чтобы наши кузнецы выковали много мечей, топоров и наконечников для стрел, тут как раз эти купцы и торговцы и назначают цену — сколько дубленых шкур и мехов им за это подавай. А эти дубленые шкуры и дорогие меха они продают в империи Хин по такой цене, что могут купить вдвое больше железа, чем обменяли у нас. Да-да, торговцы и бумажные деньги — это несчастье для городского народа. Так говорит наш хан. — И Бат снова поехал вперед.
— Десять тысяч листков, — еще раз повторил Тенгери. — Десять тысяч! Ровно столько, сколько воинов в личной охране хана.
На другое утро зарядил дождь, но потом опять выглянуло солнце, и Тенгери подумал, что этот день будет похож на вчерашний и все предыдущие: никакого боя, никакого врага, никаких побед. Ему вспомнились слова Бата: «Знал бы ты, какой это позор — быть среди последних». Но вот по рядам воинов, словно огонь по сухой траве, пробежало одно-единственное слово: «Гонцы!» И действительно, далеко впереди, в степи, поднялись желтые облачка пыли. Эти облачка поднимались над травой, росли и раздувались, пока из этого желтого плена не вырвались две черные точки — и сразу исчезли в низине. Стоило им появиться снова, как стал слышен и звон колокольцев. Тысяча остановилась, один из гонцов соскочил с лошади, а второй полетел дальше — в главный лагерь, к Чингисхану.
— Враг обрушился на наш обескровленный левый фланг у городка Дзу-Ху, мы несем тяжелые потери, — доложил стрелогонец тысячнику. — Если ему удастся разбить нас в этом месте, он обойдет нас, бросится на восток и ударит по нашим главным силам с тыла — они сейчас сражаются под Великой стеной. Вперед, в бой, погибнем или победим вместе! Все за хана!
— Смерть врагу! — вскричали воины.
Тысяча воинов нахлестывала тысячу лошадей.
— Тумор! — крикнул Тенгери, подгоняя вороного, которого ему подарил властитель; пригнувшись к гриве коня, он мчался вместе с девятьюстами девяносто девятью всадниками по степи подобно буре.
Заметив скачущего рядом Бата, Тенгери заорал:
— Мы будем биться, десятник, будем биться насмерть, хоть мы и последняя тысяча.
— Лишь бы не опоздать!
Опоздать? Тенгери приставил к шее вороного острие маленького кинжала и слегка надавил — руку обдала струйка теплой крови.
— Брось это! — крикнул ему Бат. — Такого приказа пока не было. Или ты хочешь прискакать к Дзу-Ху в одиночку?
— А почему он не отдает такого приказа?
— Откуда я знаю? Я не тысячник, я подчиняюсь ему, как ты должен подчиняться мне!
Тенгери отдернул руку с кинжалом от шеи жеребца.
— Мы обязательно придем слишком поздно, если лошади не будут мчаться во весь опор, будто за ними гонится сама смерть. Приставь им кинжал к горлу — и они полетят, Бат!..
— Я вижу Дзу-Ху! Дзу-Ху в огне!
— Вижу, вижу, Бат! — заорал в ответ Тенгери.
На горизонте появилась широкая желтая полоса, освещенная солнцем и бугристая, будто там паслись неисчислимые стада верблюдов. Тенгери ткнул вороного плеткой в морду и крикнул:
— Дзу-Ху, вороной! Беги!
От боли лошадь яростно заржала.
Спереди донесся приказ:
— Перестроиться! Принять боевые порядки!
Тысяча выгнулась, как раскрывшийся веер.
Сверкнули боевые топоры.
Грохот копыт угрожающе накатывался на город. Были уже видны деревянные дома и глинобитные хижины. Они стояли на склоне холма, напоминая что-то вроде ступеней широкой лестницы. И еще было похоже, будто одни из них стоят на крышах других и поддерживают пагоду, увенчавшую вершину холма подобно устремленной в небо стреле. Туда же, в небо, тянулась черная пелена, из которой под порывами ветра вырывались языки огня.
Тем временем тысяча приблизилась к городским воротам. Точнее сказать — к тому, что от них осталось, потому что сами они валялись в пыли, распавшиеся на мелкие части, словно по ним ударил мощный железный кулак. Насмерть перепуганные женщины и дети рыдали, стоя на коленях перед трупами, или отгоняли от них бездомных псов, готовых эти трупы рвать на части. Никаких мужчин-китайцев, кроме мертвых, здесь не осталось. Городской старейшина, слишком древний, чтобы выжать из себя хоть слезинку, выступил вперед и обратился к тысячнику с такими словами:
— Мы из племени онгутов и принадлежим Сыну Неба, служим и повинуемся ему. Когда его солдаты пришли сюда, чтобы выступить в поход против вас, они разорили Дзу-Ху, они разграбили город, похитили все, что могли унести, и надругались над нашими женщинами, будто попали в страну врага. Мы спрашивали их: «Разве мы не исправно платим налоги императору в Йенпине?» И еще мы спрашивали: «Разве не на наши деньги он содержит и вас? Справедливо ли после этого, что вы нас грабите, что вы обесчестили наших женщин, хотя как раз вы и должны защищать нас от врага?» Только хохот был нам ответом, они продолжали делать свое черное дело.
— Где же ваши мужчины? — спросил тысячник. — Я вижу одних женщин, детей и стариков.
— Да, где они? Когда ваши приблизились к Дзу-Ху, перед городскими воротами завязался бой, и вашим пришлось совсем худо: их было не слишком много и вдобавок они не догадывались, что в самом городе стоит китайское войско, превосходящее их численностью не меньше чем в три раза.
— Дальше, дальше! — потребовал тысячник.
Старейшина повернулся в сторону пагоды, которая по-прежнему горела и дымилась.
— Мудрый Будда сделал нам знак — и все наши мужчины повернули оружие против китайцев, ударив им в спину. Точно так же, как они предательски ударили в спину нам.
— Кто такой Будда?
— Наше высшее существо, светлейший! Ом мани падми гум!{17}
— Что ты сказал?
— Я молюсь, господин!
— Мы поклоняемся солнцу, луне, огню и воде, старик. Но все равно: вы можете молиться и поклоняться кому хотите. Ваши мужчины поступили справедливо и…
— …прогнали китайских солдат, господин. Наши храбрые мужчины сражаются сейчас на стороне ваших воинов и гонят китайцев по ту сторону горы в леса, где их уничтожат всех до одного.
— Да поможет нам Манги-хан, старейшина!
— Манги-хан?
— Это наш бог лесов. Когда он еще пребывал среди нас, он был великим и мудрым шаманом, он был могучим и всесильным, он умел взрезать себе ножом живот и выкладывать все внутренности на блюдо. Но однажды с ним в непроходимых лесах случилось несчастье. Он заблудился и, несмотря на все свое могущество, выйти к людям не сумел и умер. С тех пор его дух покровительствует лесу и степи.
— О-о, — удивился городской старейшина. — Вы, значит, поклоняетесь многим богам?
— В небе есть один бог, но богоподобных духов много!
— А солнцу вы тоже поклоняетесь?
— Да, солнце — отец луны, потому что она получает от солнца свой свет.
Городской старейшина поник головой, подумав: «Выходит, они все-таки варвары и есть. Солнце, луна, огонь, вода. Да, они варвары».
— В вашу империю еще не приходили посланники нашей веры? — тихо спросил он.
— Ты говоришь о людях в желтых халатах?
Старейшина кивнул.
— Почему же, они иногда появлялись вместе с китайскими купцами. Но мы этих купцов ненавидим, поэтому возненавидели и тех, кто приходит с ними. И раз мы не верим купцам, мы не верим и тем, кто ютится в одном с ними шатре!
Городской старейшина расстегнул несколько пуговиц на своем халате и запустил под него свою иссохшую руку, а когда вынул ее, в ней был длинный шнурок со множеством шариков. Он протянул эту связку сидевшему на высоком коне тысячнику и почтительно проговорил:
— Хотя лучи солнца и очень горячи, воин, огня они без зажигательного стекла не дадут; точно так же волны благословенного учения Будды не могут разлиться помимо лам и монахов. Поэтому мы почитаем достойнейших лам и монахов, проникших в самые глубины учения и обладающих совершенными знаниями. Они походят на бескрайнее море, которое дарит нам самые нужные и дорогие вещи — но богатства его остаются неисчерпаемыми.
— Что это такое?
— Это четки, воин. Каждый деревянный шарик на них равнозначен одной молитве. Ом мани падми гум! Молитесь!
Тысячник уставился на круглые шарики, пропустил их через пальцы, пересчитал, улыбнулся, но вдруг хлестнул лошадь и умчался прочь. Проезжая мимо горевшего дома, он бросил четки в огонь, погнал коня сквозь дым и языки пламени и, вздымая руки к небу, воскликнул:
— Очисти меня, огонь, очисти меня, сожги во мне злые слова чужой веры, которую мне только что попытались внушить!
В узких тенистых улицах было прохладно. Только кое-где догорали еще дверные проемы и упавшие балки, иногда попадался одинокий тополь без листьев. От огня он почернел и словно осиротел. У повалившихся глинобитных хижин лежали мертвые китайцы, монголы и онгуты с открытыми ртами. Можно было подумать, что они удивляются: почему это они не могут больше ни видеть, ни ходить? Повсюду в поисках родных и близких бродили плачущие женщины и дети.
Тенгери, Бат и Тумор спрыгнули с лошадей и пешком поднялись вверх по холму. Здесь осталось еще много целых домов, а по обе стороны улочек сидели уличные торговцы, предлагавшие шелка и чай, а некоторые протягивали монгольским воинам лежавшие на продолговатых дощечках кусочки марципанов с земляными орешками.
— В таком доме я жить не хотел бы, — как бы размышляя вслух, сказал Тенгери. — Стены и крыши из глины, камней или дерева! Вечно будешь дрожать от страха, как бы крыша не обвалилась и не прибила тебя и всю твою семью.
— Эх ты, — хмыкнул Бат. — Видел бы ты дома в Хси-Хсии, с которой мы воевали несколько лет назад. У тех такие высокие дома, что когда мы выбрасывали китайцев из верхних окон, они разбивались в лепешку.
— Когда лежишь ночью в таком доме, ничего не увидишь — ни неба, ни звезд над головой, как у нас в юртах, — продолжал удивляться Тенгери.
— Зато увидишь глину, дерево и камни, — поддел его Бат.
«Эти молодые ничего толком не знают, только вопросы с умным видом задают», — подумал Бат. Любопытство Тенгери претило ему. Он видел Хси-Хсию с его позолоченными крышами и мраморными ступенями роскошных дворцов, он часто вспоминал ее никудышных воинов, которые сражались в пешем строю и еще надеялись победить, как будто пеший воин хоть когда-нибудь брал верх над всадником. Они умирали под нескончаемый хохот монголов, их топтали десятки тысяч подкованных лошадей. А всему виной жизнь в каменных домах.
— В городах живут одни дураки с жирными, как курдюки, телами, — сказал наконец Бат. — Заползет такой в свои стены, где и буря ему нипочем, и дождь не намочит, и спит себе на мягких циновках. Целыми днями сидит на одном месте и хиреет. Многие из них ткут шелк, ковры и собирают чай. Но разве от этого наберешься храбрости? Их даже ни один волк не вспугнет — волки эти города стороной обходят. А те, что куют мечи, кинжалы и топоры, обращаться с ними не умеют. Все они спят и видят, как станут торговцами. Хан тоже говорит: городской народ глуп и изнежен. И еще хан сказал, что он ни за что на свете не стал бы жить в каменном доме.
— А ведь этот городской люд взял да вместе с нашими прогнал отсюда китайцев, — заметил Тенгери, словно усомнившись в словах Бата.
Десятник ответил, что это, может, и правда, только своими глазами он, мол, этого не видел.
— Это они от обиды так расхрабрились, — сказал он и быстро добавил: — Если хотите знать, китайские полководцы еще глупее, чем любой из этих городских людей, так что разбить китайцев вместе с нами им было не так уж трудно! Знаете вы историю про китайского полководца Ли?
Нет, ни Тенгери, ни Тумор ничего о китайских полководцах и слыхом не слыхали и начали подзадоривать бывалого воина Бата: расскажи да расскажи!
И Бат начал:
— Так вот, насчет полководца Ли! Он был из тех полководцев, о которых говорят, что бог им ни одной победы не подарит, хотя и в его войске было немало храбрых воинов-китайцев. Когда дело опять дошло до битвы у Великой стены — а было это лет сто назад! — его войско снова побежало. Представляете, тысячи людей с оружием бегут кто куда! И тут вдруг появился или, как говорится, прямо с неба упал настоящий великан с мечом и топором в руках и давай бить врагов полководца Ли, да так, что теперь те бросились наутек. Так была спасена его честь. Ну и радовался же он! Правда, решил наградить героя и сам пошел его искать. Ну, нашел. А великан возьми и ответь ему:
— Не надо благодарить меня, полководец Ли! Примите мое деяние как ничтожное выражение моей безграничной благодарности вам!
— Благодарности? За что? Я вас совсем не знаю, добрый человек! — удивился китайский полководец.
— За что? А за то, что вы ни разу не причинили мне боли. Дело в том, что ваша стрела в меня ни разу не попала.
— Моя стрела? Да разве я стрелял в вас?
— Великое множество раз! Я бог и дух мишени, полководец!
Тенгери с Тумором посмеялись над этой историей, и Бат с ними заодно, эта история веселила их до того момента, пока они по дороге к вершине горы не наткнулись на семерых убитых. На семерых онгутов и монголов, не китайцев, а монголов и онгутов, со стрелами в спинах, стрелами с перьями на концах. Убитые лежали лицом вниз, и стрелы торчали у них в спинах. Было похоже на то, что эти воины следили за кем-то, спрятавшись в кустах, а на них напали исподтишка и просто пробуравили стрелами спины, как копьями. Бат ускорил шаг. Не то чтобы эти мертвые пробудили в нем жалость — слишком много убитых Бату приходилось видеть! — но эти его смутили и умертвили смех, который вызвал его рассказ о полководце Ли.
Достигнув площади перед пагодой, они оглянулись на деревянные домики и глинобитные хижины, на тенистые улочки, по которым в поисках попрятавшихся китайцев сновали воины их тысячи.
Пагода внутри вся выгорела. Спасшиеся от огня голуби нерешительно возвращались на обжитые места под ее слегка покатым куполом. На широкой площади между лиственницами и пышными кустами стояло множество изваяний богов из бронзы, дерева и камня. Попадались и сделанные из картона. Во время пожара их вынесли из пагоды, и здесь, на открытом пространстве, они казались неуместными и беспомощными. Будда улыбался своей тысячелетней улыбкой, но лицо у него покрылось копотью. Бодисатва прижался сплетенными руками к дереву и грозился вот-вот упасть — стоит только подуть сильному ветру. Множество других божеств лежали на песке перед пагодой. Изображения их имели выражение строгое и непреклонное, но теперь они никакого сопротивления не оказывали и повиновались бы даже легкому дуновению ветра. Среди них был даже наводивший на всех неописуемый страх бог Чедорж — о семи головах и восемнадцати руках. Он нес на себе белого слона, лошадь, осла, быка, верблюда, оленя и еще кошку и наполненный кровью человеческий череп, над которым как бы завис кривой жертвенный нож. И вот теперь он валялся на пыльной площади и был, наверное, даже рад, что его вынесли из огня. Между всеми этими изваяниями и изображениями, быстро семеня ногами, неслышно ступали ламы и монахи, помечая, что осталось в целости и сохранности, а что повреждено. Один из монахов приблизился к Бату, Тенгери и Тумору и проговорил, потупив взор:
— Вся жизнь — страдание. Страдания эти возникают из-за жажды к наслаждениям. Значит, преодолеть страдания можно, только отказавшись от вожделений. Поэтому к избавлению от страданий ведет золотая тропа восьми колен.
— Ты что-нибудь понял, Бат? — спросил донельзя удивленный Тенгери, не сводя глаз с бритоголового монаха.
Бат пренебрежительно махнул рукой и сказал, что в такой ученой болтовне никакого смысла не видит. И вообще весь этот шум, который они поднимают из-за семи мудрецов и девяти ученых, никому не нужен — бамбук сам по себе растет.
— Я открою вам четыре истины желтого учения, — предложил монах.
— Ну вот, началось! — И Бат повернулся к нему спиной.
— Останьтесь! — повелительным тоном проговорил монах. — К ядовитой пятнистой змее не прикасайся — будь осторожен! А прикоснешься к пятнистой ядовитой змее — бойся ее яда! То же самое относится и к священнослужителям, воины: не восстанавливайте против себя достойных глубочайшего уважения священнослужителей — будьте осторожны! А если восстановите их против себя — бойтесь их могущества!
Монах подступил вплотную к воинам-монголам и протянул им высокий желтый колпак.
— Он просит подаяния, — объяснил Бат. — Собирает на сгоревшую пагоду.
— И что мы ему дадим? — спросил Тенгери.
— Дадим? Ничего мы ему не дадим, юноша. У него свой бог, у нас — наши. С чего вдруг мы будем делать подарки его богу? Может быть, для того, чтобы он стал сильнее нашего? Пошли отсюда!
В это мгновение монах проткнул себе щеку длинной серебряной иглой, и так как он при этом широко открыл рот, они заметили, как игла скользнула вдоль зубов, пронзила с внутренней стороны другую щеку и вышла наружу. После чего он еще вогнал эту иглу в кору дерева, как бы прибив себя к нему головой. Он проливал слезы, этот монах, он всхлипывал, но руку с желтым колпаком по-прежнему протягивал в сторону воинов.
— Он себя убивает? — спросил Тенгери.
— Да где там убивает, это он так молится, я тебе уже говорил. — И Бат рассмеялся.
— Молится? С проткнутым иглой лицом и кровью, что стекает по щекам?
— Он вымогает у нас сочувствие! Он как бы говорит нам: пока не подарите мне чего-нибудь, я буду страдать. А если дашь, я вытащу иглу и улыбнусь.
А монах тем временем стоял, тесно прижавшись к лиственнице, и смотрел слезящимися глазами на Тенгери, на него одного, а не на Бата или Тумора.
О Бате он вот что думал: «Ты дикий варвар, ты состарился на войнах и разговаривать умеешь только мечом, страдания других людей для тебя отрада что днем, что ночью, чужая кровь опьяняет тебя не хуже вина». О Туморе он думал так: «Ты, правда, еще молод и поэтому не столь необуздан, но твое простоватое лицо подсказывает мне, что ты способен только исполнять приказы старого варвара или следовать его советам». Тенгери вызывал в нем другие мысли: «Ты, юноша, дивишься всему, что тебя окружает, ты хочешь все увидеть и услышать, при всем присутствовать. В тебе вот что хорошо: по выражению твоих глаз сразу можно сказать, как и что ты увидел, услышал или воспринял. И значит, в тебе достанет сил сделать то, чего ты хочешь».
— Знать, что справедливо, и не сделать этого — трусость, — сказал монах, обращаясь к Тенгери, и, поскольку он шевелил губами, крови на его щеках прибавилось.
— Что он там пролаял? — обозлился Бат. — Вот оттащу его сейчас от дерева, и игла разорвет ему все лицо! Увидите, как он запляшет от боли — как будто мы швырнули его в чан с кипятком!
— Нет! — вскричал Тенгери.
— Почему это «нет»? И чего ты разорался? Запляшет, запляшет, помяни мои слова!
Бат, успевший уже отойти на несколько шагов, вернулся обратно и забавы ради толкнул ногой большого Бодисатву, который прислонился сплетенными руками к дереву, — глиняная статуя упала, и голова ее разбилась об узловатые корни лиственницы.
— Видишь, даже их боги никуда не годятся. Чуть заденешь, они уже падают. Вот этот, из обожженной глины, валяется в пыли с раскроенным черепом. Тоже мне, бог! Бог из глины? Разве боги из дерьма и камней или дерева и железа? С каких таких пор люди стали сами делать и ставить богов, как мы ставим юрты? — Бат достал из колчана стрелу и злобно прошептал: — Вот я его пощекочу! Приставлю ему стрелу к горлу, нажму слегка, а потом еще и еще немножко, и вот увидите, как этот нищий монах запрыгает на месте, а игла порвет ему все лицо! — И он подошел вплотную к монаху. — Эй ты, слышишь, вытаскивай свою иглу, да поживее!
— Ом мани падми гум, — принялся молиться монах, не сводя глаз с Тенгери. — Ом мани падми гум!
— А он вроде и не испугался, — удивился Тумор.
— Испугался?
Между прижавшимся щекой к лиственнице монахом и Батом встал другой и сложил руки на груди.
— Откуда у него взяться страху, если боги дают ему такие силы, о которых вы не ведаете? Он будет страдать до тех пор, пока вы ему чего-нибудь не подадите. Все ваши грязные и обидные оскорбления не в силах заставить его отказаться от страданий. Разве он для себя просит подаяния? О-о, он беден, но о богатстве и не помышляет. Он просит на восстановление пагоды, в которой Будда вернется на свое прежнее место. Что в этом плохого?
— Болван! Если уж ваши боги из глины, то я желаю увидеть, из чего череп у такого вот монаха! Ты меня понял? — Бат оттолкнул монаха и со стрелой в руке двинулся на стоявшего у лиственницы.
— Брось это, десятник! — выкрикнул Тенгери.
— Ему чего-то от нас надо, вот он свое и получит!
— Бат!
Но Бат его не услышал, как не услышал, когда Тенгери в третий раз позвал его:
— Бат, брось это! Он нам не сделал ничего плохого, за что же карать его?
Тенгери вырвал из руки у десятника стрелу и сломал ее. Бат словно окаменел на месте и глядел невидящими глазами на Тенгери, который протянул монаху два листка, полученных им от пленных китайцев. Лама сразу же вытащил из щек серебряную иглу, улыбнулся и исчез.
Побледневшее было лицо Бата налилось кровью. Задергался темно-красный шрам над правым глазом, пальцы скрючились в кулак, дыхание сделалось прерывистым.
— Выходит, самый молодой у нас — самый горластый? — тихо проговорил он. — Я участвовал во всех войнах…
— И каждая оставила на вас по шраму, — закончил за него Тенгери. — А еще под вами убили восемнадцать лошадей!
— Замолчи! — рявкнул на него Бат. — Смеешься надо мной? Ничего, я вобью тебе эти слова в глотку!
— Что ты, десятник? Только что ты стоял тут, как один из их божков, ни живой ни мертвый, а теперь, когда все прошло, начинаешь…
— Прошло? Послушай, юноша: до тебя еще никто не осмеливался вырвать у меня стрелу из руки. Доставай свой кинжал!
— Но, десятник…
— Доставай кинжал, говорю тебе!
— Хану нужен каждый из нас, Бат. Ему будет недоставать тебя! — И Тенгери выхватил кинжал из кожаных ножен и выставил его в вытянутой руке против Бата, все еще не веря, что дело действительно дойдет до драки.
— Я боюсь, Бат, что…
— Боишься? Так я и думал!
— Я боюсь за тебя, десятник! Ты уже состарился и ходишь на негнущихся ногах, как журавль.
— На негнущихся? Ну, погоди у меня! На негнущихся, а? — Из его глотки вырвался хохот, похожий скорее на устрашающий рык.
Он пригнулся, как для прыжка. Тенгери увидел оскал его белых, как крупный жемчуг, зубов и налившиеся кровью глаза под кустистыми бровями. Бат высунул язык и облизал губы.
— Вот теперь ты похож на настоящего волка! И такой же трусливый, как волк, да?
— Пусть Тумор подает знак! — потребовал десятник, не сводя глаз с Тенгери.
«Он и в самом деле хочет драться», — подумал Тенгери и испугался. До этого мгновения он прикрывал собственный страх издевкой и прятал его за улыбкой.
И поскольку Тумор все не подавал знака, Тенгери успел подумать: «Я чувствую сейчас то же, что и тогда, когда убежал жеребец белой масти. Когда меня потом позвали к хану, я сказал себе: «Ты должен улыбаться, Тенгери, улыбаться, и больше ничего, и оставаться такого роста, как есть. Потому что сердце у тебя чистое и ничего плохого у тебя на уме нет. Ты сильный и вовсе не из тех, что остаются лежать, даже если их и собьют с ног».
— Я готов, Бат! — сказал он.
— Тумор!
— Что-то я его не вижу!
— Так сходи посмотри, где он.
— Как же! Стоит мне отвести от тебя глаза, как ты, Бат, ударишь меня кинжалом!
— Это было бы против правил! Нет, ты сходи за ним!
— Ну уж нет, Бат. Правила правилами, а когда нет третьего, кто следит, чтобы они соблюдались, плохо дело. Убьешь меня исподтишка, а свидетелей-то нет! Почему бы тебе самому не поискать Тумора?
— Мне? — Бат рассмеялся и сказал: — Давай вот как сделаем: каждый отойдет на пятнадцать шагов, а потом мы оба пойдем за Тумором.
— Хорошо, Бат.
— Ну, пошли!
Считая вслух шаги, они попятились назад и все больше расходились. Но, как уже упоминалось, на площади стояло много богов из глины, дерева, фигуры большие и поменьше. Тенгери увидел, как десятник приблизился к одной такой статуе. «Он сейчас столкнется с ней и упадет», — злорадно ухмыльнулся Тенгери, которому и в голову не пришла мысль предостеречь Бата. Десятник же видел, что это может случиться с Тенгери, потому что и на его пути стояли различные изваяния; Бат заранее предвкушал, как Тенгери споткнется и упадет на спину. Оба они и не догадывались, что то, что случится с одним, может случиться и с другим. Так оно и вышло, они споткнулись и упали почти одновременно. И поскольку Бат и Тенгери опасались попасть в подстроенную другим ловушку, они тут же вскочили на ноги, словно подброшенные неведомой силой, но сразу заметили, что помимо изваяний богов, лиственниц и кустов, неба и песка, на площади никого нет! Они рассмеялись — они рассмеялись над самими собой и тут же сунули кинжалы обратно в ножны.
У подножия горы раскинулся город Дзу-Ху, облитый лучами заходящего солнца. Над улицами поднималась желтая пыль, летевшая из-под копыт лошадей монгольских воинов. Она лениво достигала крыш уцелевших домов и опадала на руины; иногда ее подхватывали порывы ветра и уносили прочь, и пыль вдруг пропадала, как пропала неведомо куда ярость Бата.
— Так где же все-таки Тумор? — спросил десятник. — Куда это он запропастился?
— Разве это не к лучшему, Бат?
— К лучшему?
— А ты представь, что случилось бы, если бы он дал этот знак?
Десятник пробормотал что-то неразборчивое.
— Ах вот оно что! — Он вдруг остановился как вкопанный. — Это ты, шакал, отослал его, чтобы он его не дал?..
— А даже если бы и так, Бат?
Десятник ненадолго задумался и совсем тихо проговорил:
— Все равно. Знаешь, как оно у меня: стоит мне распалиться, как я…
— Знаю, Бат. Только… только я Тумора не отсылал. Правда.
— Вот как? — Это Бату опять не понравилось: зачем он сказал при Тенгери, что тот поступил правильно, велев Тумору уйти.
Они вернулись к лошадям и неторопливо спустились на них вниз, к самому подножию горы. Торговцы все еще сидели по обеим сторонам городских улиц, разморенные жарой. За кустами, где они нашли семь трупов монголов и онгутов, а потом громко смеялись над рассказом Бата о китайском полководце Ли, они нашли только клочья одежды убитых. Ветер нанизал их на колючие ветки кустов, и теперь они развевались на ветру, как флаги. Кровь на них уже засохла и покрылась пылью, поблизости валялось несколько наконечников от стрел. Над кустами кружил ястреб-стервятник: он тяжело бил крыльями, сбивая с ветвей пыль и распугивая сытых псов, собравшихся поспать в тени кустов.
Старый воин проговорил:
— Да-да, это у них, ястребов, быстро выходит…
Там, где тысячник говорил с городским старейшиной, горели сейчас костры, над которыми были подвешены большие котлы и варилась конина, а вокруг костров толпились проголодавшиеся воины. У каждого в руке было по ножу, и, когда подходила его очередь, он срезал себе с торчащих из котла костей здоровенный кусок мяса, а потом подсаживался к остальным, расположившимся на упавших балках или под стенами брошенных хозяевами домов. Почти перед каждым из них стояли, сглатывая слюну, дети онгутов, которым время от времени все-таки доставался от монголов кусочек.
Ночь большинство воинов провело в руинах, прямо под высоким звездным небом. Поначалу жители считали, что им придется уступить монголам место в домах. Но это их удивило бы все-таки меньше, чем то, что они спят под крышами, а монголы под открытым небом. И онгуты решили, что зря их так монголами запугивали. Они начали подтаскивать им вино, доброе вино в крепких бочонках, которое они попрятали и от китайцев, и от монголов, — вино из молока. Но когда по Дзу-Ху побежала весть о том, что сам тысячник с проклятиями оставил предложенный ему дом городского старейшины, дом с девятискатной крышей, красотой своей не уступающий пагоде, жители города узнали и причину такого поступка: воины из степи опасались тяжелых балок над головами, они не могли под ними заснуть и говорили: «Если буря повалит юрту, она погребет нас под мягким войлоком, и мы снова поставим юрту. Если же ветер обрушит на нас тяжелую крышу, он погребет нас под ней навсегда».
Правда, вина обратно не отнимешь, хотя многие горожане и предпочли бы сделать это. Поэтому им приходилось сидеть и распивать в руинах вино с чужими воинами и смеяться — а ведь впору было завыть. Но вино было хорошим, что правда, то правда, и оно скоро прогнало грустные мысли и разбудило смех. Это было в то время, когда над тополями и лиственницами взошла луна, большая и желтая, как дыня. Но, поднявшись высоко над верхушками деревьев, она уменьшилась в размерах и побледнела, отбрасывая на лица людей призрачный свет. Впечатляющая это была картина: монголы вместе с онгутами отплясывали дикий танец в руинах Дзу-Ху, города у горы. Это в них бесилось доброе вино, это вино заставляло их подпрыгивать, подскакивать и кружиться посреди рухнувших стен, и ночь смотрела с высоты на пляшущих, понимая, что вряд ли увидит такое когда-нибудь еще.
Воины запели песню. Это была злая песня, уходившая ввысь вместе с искрами от костров. Сначала пели одни воины-монголы, потом они потребовали, чтобы горожане им подпевали. И те подчинились, а ковши с вином ходили и ходили по кругу, от уст к устам. А потом оказалось, что поют одни онгуты, одни жители города Дзу-Ху. Потому что вино оказалось не только добрым, но и подлым, и воины-чужестранцы смеялись, слыша свою песню из орущих ртов онгутов, ведь пелось в этой песне о том, какие эти горожане дураки — живут в прочных домах под тяжелыми крышами, которые могут свалиться им на головы. Еще больший смех у них вызвало то место, где онгуты орали во весь голос, что степная трава получше всякой постели, а великое бездонное небо прочнее любой крыши.
Но и самый большой бочонок когда-нибудь да опустошится, и самые громкие песни когда-нибудь да отзвучат. Сил заметно поубавилось, усталость валила с ног, и безобразные пляски на пепелище понемногу прекратились. Они повалились спать вперемешку, монголы и онгуты. Лишь немногие из них, продолжая распевать песни, шатаясь, разбрелись по домам и принялись допивать вино, оставшееся в подвалах. А оставшиеся на ногах воины кричали друг другу: «Эти онгуты расхваливали нашу степную траву и воздавали хвалу Небу — зачем же им тогда постели и крыша?»
После этого чужеземные солдаты начали бросать горящие факелы в уцелевшие дома, восклицая:
— Священный огонь, очисти жителей этого города, как ты очистил нас, сожги все, что не было известно нашим предкам, — стены, балки, крыши и желание иметь новые дома!
После этой ночи нет больше никакого Дзу-Ху.
И только трава проросла на этом месте вновь.
Глава 4 ЧИНГИСХАН ГОВОРИТ С БОГАМИ
Убегая от восходящего солнца, девять девяток гонцов скакали по степи. Но каждый в одиночку: расстояние до правого и левого соседа было на самом пределе видимости. Это были вестники победы, все в синих халатах и в шапках с соболиным мехом. Под седлом у каждого из них был породистый жеребец, на ремешках сладко звенели золотистого цвета колокольцы.
— Возвращайтесь домой, — прокричал тот из гонцов, что проскакал по догоревшим развалинам Дзу-Ху. — Китайское войско разбито, вся страна до самой Великой стены принадлежит отныне нашему хану и превратится в пастбища для его табунов и стад.
И тысяча незамедлительно отправилась в обратный путь.
Разгромленный Дзу-Ху и его всё потерявшие жители остались далеко за спиной. С такого расстояния онгуты походили на черных ночных сов, рассевшихся на городских стенах — точнее говоря, на том, что от них осталось, — да на обуглившихся балках перекрытий домов. Но воинам до этого никакого дела не было. Большинство из них даже считало, что они поступили как надо, оставив горожан без крова: пусть поживут под открытым небом, в юртах или кибитках, как и они сами. Это прибавит онгутам мужества, и когда-нибудь к ним вернется храбрость и выдержка их далеких предков.
— Так нам и не пришлось повоевать, — раздумчиво проговорил Тенгери. — И значит, в следующий раз мы опять будем последней тысячей.
— Разве я не сказал сразу, что это позор? — ответил ему Бат. — На войне мы побывали, а врага не видели. Это все равно что просидеть целый день у озера и так и не поймать ни одной рыбки. Что такое рыболов без рыбы? А не воевавший воин?
В главном лагере у Онона Чингисхан готовился достойно встретить победителей. Выдоили тысячи кобылиц, и вдоль широкой дороги орды кумыс пенился в фарфоровых бочках. Но и рисовое вино ждало воинов, а вареной и жареной конины было столько, что на всех хватило бы и еще осталось.
Последняя тысяча вернулась первой, но ее никто не встречал и никто на нее внимания не обратил. Даже матери не вышли из юрт встречать своих сыновей, не говоря уже о невестах, ведь юноши вернулись без добычи, без драгоценных камней, без слоновой кости, без шелка, даже соли с собой не привезли.
Ошаб сказал Тенгери:
— A-а, это ты. Вернулся, значит?
Герел тоже не подняла на него глаз, говоря:
— Как-то ночью ты мне приснился, Тенгери.
— Я?
— Да, ты! Ты вернулся с войны с подарком для нас. — И совсем тихо добавила: — Ведь ты был гостем в нашей юрте, Тенгери!
— Умолкни! — прикрикнул на нее Ошаб. — Для того ли мы оказывали ему гостеприимство, чтобы нажиться на этом?
— Но ведь это мне только приснилось. Да и вообще: что он мог привезти нам, если он был в последней тысяче?
— Присаживайся, — предложил Ошаб. — И не обращай внимания на ее болтовню. Видишь, как правы были наши старики: «Люби жену, как свою душу, но выколачивай, как свой ковер!»
Тенгери рассмеялся и присел на шкуру.
— А все-таки я к тебе с подарком вернулся, Герел.
— С драгоценным камнем?
Тенгери покачал головой и хитро улыбнулся.
Герел упала на колени, и глаза ее заблестели, когда она проговорила:
— А может быть, алмаз? Скажи, что ты привез мне алмаз!
— Нет, не алмаз, Герел.
— Ага, нет, значит. Тогда что, шелк?
— И не шелк, Герел.
Она на коленях приблизилась к Тенгери.
— Видишь, Ошаб, как он насмехается над моими желаниями? Как он меня заманивает ловко, правда?
— Очень даже ловко, — кивнул Ошаб и, повернувшись к Тенгери, добавил: — Можешь сейчас бежать хоть до самого Онона, она поползет за тобой, как змея, и будет еще попискивать, как сурок.
— Это золото? Да, он привез мне целую пригоршню золотых украшений! Так ведь, Тенгери? Скажи, не томи. — Сейчас Герел стояла на коленях совсем рядом с ним. — Ну, признайся, что ты отнял у богатого китайского купца все его добро. Ничего, он этого заслуживает.
— Нет.
— Нет? Тогда что же ты мне привез? Ошаб, он надо мной насмехается! — Лицо ее приобрело неприятное выражение, она то и дело переводила взгляд с мужа на Тенгери. — Ни золота, ни драгоценных камней, ни алмаза, ни шелка?
— Вот видишь, Тенгери, все они, женщины, такие, — с улыбкой прошептал Ошаб. — Если воин вернулся из похода и не принес ничего, кроме собственной жизни, — значит, он воевал зря!
— А сам хан? — вдруг возмутилась Герел. — Разве он ведет войны просто так, чтобы не получить ничего?
— Она свихнулась! — воскликнул Ошаб, вскочил и схватил ее за волосы, отчего порвалась красная коралловая сетка на голове и маленькие красные шарики упали и покатились по белому меху, как капельки крови. — Взбесилась! Может, ты привез с собой хоть немного китайской травы, чтобы заткнуть ей рот?
— Травы? Разве хан привозит своим сотням жен китайскую траву? — вскричала Герел, которую Ошаб все еще тянул за волосы, и, поднявшись, затопала ногами по меху и кораллам.
— И все-таки я кое-что привез тебе, — сказал с ухмылкой Тенгери.
Ошаб сразу отпустил жену, та опять упала на колени и тихо-тихо проговорила:
— У него все-таки есть для меня подарок! И что же это, дорогой Тенгери?
— Два барана или один верблюд!
— Или? Почему «или»? Ах, ты просто не знаешь еще, что подаришь? Два барана или верблюд! Слышал, Ошаб? — Она с сомнением взглянула на Тенгери.
— Выбирай сама, Герел, что тебе нужнее — бараны или верблюд?
— Вот как! — Она в растерянности уставилась на мужа, который и сам сильно удивился и не сводил глаз с Тенгери. — И где же твои бараны и верблюд?
— У меня за пазухой, — сказал Тенгери, от души радуясь, что может вот так, запросто, взять и достать из-за пазухи таких больших животных. Он рассмеялся как ребенок, а Герел как раз этот его смех и разозлил.
— В кармане?! — прикрикнула на него маленькая женщина.
Ошаб тоже обиделся.
— Ты шути, шути, да знай меру, Тенгери. Даже у самой маленькой птички есть сердце и печень!
— Прогони его из нашей юрты, Ошаб!
Но Тенгери уже достал эти странные китайские листки и сказал:
— Это не золото, но когда ты таких накопишь много, можешь за них купить золото. Точно так же, как за эти несколько штук ты сможешь купить себе двух баранов или верблюда. Конечно, только у китайских купцов.
— Ты правду говоришь, Тенгери? — удивилась Герел.
Тенгери кивнул.
Ошаб же заметил, что он о таких листках слышал, но не слишком-то всем этим россказням поверил — мало ли какие слухи, похожие на сказки, залетают сюда из империи Хин. Они с Герел долго-долго разглядывали странные узоры на китайских бумажных деньгах.
Ошаб развел руками:
— Я слышал еще, что в то время как мудрый и ученый писец нашего хана Тататунго вырезает слова нашего властителя на железных табличках, сто китайских писцов переносят их черной краской на тонкую бумагу. Раньше я этому не верил, а теперь — верю!
Тенгери добавил:
— И не только это! Они вырезают также значки на мягком дереве, покрывают его красной или черной краской, накладывают сверху бумагу, а потом, когда снимают ее, ты видишь на ней эти самые значки.
— Ты сам видел? — спросила Герел.
— Нет, но воины рассказывали.
Они вертели маленькие листки так и сяк и смеялись, как маленькие дети.
— Два барана или верблюд, — повторяла Герел. — Видишь, он привез мне подарок, он не забыл, Ошаб!
— Да, а ты на него орала! Даже из юрты хотела прогнать! Где ты еще найдешь такого доброго соседа?
Стоя на коленях, женщина, пристыженная этими словами мужа, торопливо собирала кораллы. А потом все же набралась смелости и спросила Ошаба:
— Неужели ты, Ошаб, ничуть не удивился, когда Тенгери сказал, что верблюд и бараны спрятаны у него за пазухой?
— Ну да, конечно, но…
— Извините меня, — перебил их Тенгери, — но мне просто захотелось ответить на ваш вопрос шуткой. Но я вам не солгал!..
— Нет, ты не солгал, — подхватила Герел. — И я благодарна тебе за подарок, Тенгери. Понимаешь, в первый раз исполнились мои мечты.
С правой стороны от входа висел кожаный мешок, и маленькая женщина нацедила из него полную миску кумыса и протянула Тенгери. Эту миску, вырезанную из березового дерева, они передавали друг другу и с удовольствием отпивали мелкими глотками холодный пенящийся напиток. Сквозь открытую круглую крышу юрты на них падал лунный свет.
Все трое долго молчали.
Мимо протарахтела повозка водовоза. Где-то вдали ржали лошади. Слышался лай собак.
Герел снова наполнила березовую миску, и она опять пошла по кругу. Но разговора почему-то не получалось. Каждый думал о своем, и всем хотелось подольше посидеть в тишине. Может быть, все трое мысленно перебирали слова, брошенные в странном споре, и они мысленно вторично простили друг друга: тишина — это мать добрых мыслей. Маленькая женщина, сидевшая на меховой подстилке, прислонилась спиной к опорному столбу юрты и не сводила глаз со звездного неба. В свете луны ее лицо походило на выбеленный ветрами череп, лежащий в степной траве. Но вот она завела тихую и нежную песню:
Когда задует ветер, он клонит траву, В которую меня положила моя мать, Когда я родилась. Когда я умру, меня опять нагой Положат в траву, Которую клонит ветер. А между этим будут бури, холода, жара и страх! Мы будем есть и пить, рожать детей, Несмело улыбаться. Но радость часто пробегала мимо моей юрты, Ей было лучше под Золотой Крышей{18}. Дерево умрет, если его не напоить водой, Человек без радости становится злым.Она умолкла, но еще долго никто не произносил ни слова. Тенгери думал: «Нет, она не злая». Больше всего ему хотелось встать, подойти к ней, погладить уставшую женщину по голове, сказать ей что-нибудь ласковое. Но ему ничего подходящего не приходило в голову — или приходило столько мыслей сразу, что он не знал, на чем остановиться. Поэтому он и промолчал. И случайно заметил на белой подстилке маленький красный коралл. Тенгери поднял его и дал Герел со словами:
— Ты его не увидела! Мне очень жаль, что я не отдал тебе этих листков сразу.
Он поцеловал женщину в светлый лоб и спросил, где ее дети. И еще он спросил, почему она никогда о них не рассказывает.
— Когда они были юношами, они сражались за хана и вместе с ним создавали нашу империю. Каждая победа требовала своих мертвых, с каждой рекой, которую мы переходили, связаны грустные воспоминания. Одного сына свалила стрела у Керулена, другого — боевой топор у Балча, третий погиб в камышах Селенги, четвертый утонул во время битвы у бурной Тулы. Трех наших дочерей похитили меркиты. Когда задует северный ветер, я слышу их плач.
Ошаб спал.
Ночь была долгой, и Герел снова завела свою песню:
Когда задует ветер, Он клонит траву…Она пела до того тихо, что ее песня оставалась в юрте. Можно было подумать, что войлочные стены хранят Герел от того, чтобы ее боль бежала наружу и достигла ушей черных как ночь стражей, которые вышагивали по главной дороге орды и от которых не ускользал ни один опасный звук и ничье недостойное слово.
Чингисхан призвал к себе военачальников-победителей. Одного звали Джебе, а другого Мухули, и теперь они оба предстали перед своим властителем. Хан принял их с улыбкой на лице, более того, он даже вышел им навстречу, спустившись со ступеней своего золотого трона и пройдя мимо череды своих младших жен.
— Этот Сын Неба, этот взбесившийся шакал вздумал наказать нас. Нас, нас, нас! — кричал он и смеялся во все горло, обнимая Мухули и Джебе. — Вы двое, вы, два сияющих солнца среди моих военачальников, взяли малую часть моего войска и оборвали уши этим желтым собакам, вы растоптали их, как ядовитых змей!
Ревели трубы, громыхали барабаны, гудели бычьи жилы, натянутые на овальные дощечки, и все это громыхание и гудение перекрывалось жалобным пением пастушьих дудок и звоном множества колокольцев. Девушки пели песни о великом хане и его неукротимых воинах, которые проносятся по степи как могучий ураган.
Чингисхан подвел Джебе и Мухули к своему трону и предложил им сесть по левую и правую руку от себя. Слуги подносили чаши и кубки с кумысом, сладким вином и огненной рисовой водкой. И чаши, и кубки были из чистого золота — и у хана, и у его супруги Борты, и у его младших жен, и у военачальников, и у нойонов, и у вождей больших и малых племен. В серебряных мисках принесли молодую баранину. Призвав всех к тишине, властитель спросил:
— Каковы же воины у этого небесного дурака?
— Храбрые, — ответил Мухули.
— Ты сказал… храбрые?
— Да, они действительно храбрые, — подтвердил Мухули.
Хан, несколько озадаченный, откинулся на спинку трона и несколько мгновений молча смотрел на обтянутый голубым шелком потолок дворцовой юрты.
— А их полководцы?
— A-а, эти появляются на поле боя в бамбуковых носилках, — ответил Джебе. — Единственное, что в них вызвало наше восхищение, это их горделивый вид, мой хан.
— Да? И чем же они так гордятся?
— Может быть, тем, — ответил, улыбнувшись, Мухули, — что их носят, а воины сражаются в пешем строю.
— Что-то не верится, — протянул Чингис. — Разве они не умеют читать и писать? Говорят, что это так.
— Умеют, мой хан, ну и что? — пожал плечами Мухули.
— И говорят, они слагают стихи?
— Допустим, — кивнул Джебе.
— И рисовать картины?
Оба военачальника снова опустили головы.
— Вот видите, — подытожил Чингисхан, — к чему это приводит, когда кто-то умеет то, чего не умеют другие? Человека обуревает гордыня! Они научились читать, писать, слагать стихи, рисовать. А их воины не умеют ни читать, ни писать, ни слагать стихи, ни рисовать картины. И выходит, что их полководцы гордятся чем-то таким, в чем воины ничего не смыслят. Они и не полководцы вовсе, а художники, поэты и писцы. Их воины — просто воины, и больше никто. Поэтому они и храбрецы. Разве не так?
— Все так и есть, хан! — ответили военачальники.
Властитель снова принял привычную позу, гордо выпрямившись на троне, и, отыскав глазами своего писца, позвал его:
— Тататунго!
— Да, мой хан?
— Скажи, хороший ли ты воин? И требую ли я этого от тебя? Отвечай.
— Нет, мой хан, я лишь записываю золотые слова моего властителя.
— Да кто на это способен: быть одновременно полководцем и художником, воином и поэтом? Я уважаю ученых и музыкантов, все равно, кому они служат — мне или моему сопернику. Но на войне побеждают воины! Разве орел умеет плавать? А волк летать?
И снова за дело взялись музыканты, снова загудели трубы и загремели барабаны, снова завыли натянутые на доски бычьи жилы.
А девушки запели:
Среди умных — умнейший, Среди сильных — сильнейший, Среди справедливых — справедливейший, Среди храбрых — храбрейший, Среди яростных — самый яростный! Он, наш хан, Он, наш властитель, Чингисхан — Самый могущественный под синим небом, Самый смелый Среди всех монголов!Далеко за полночь победители-тысячники внесли в дворцовую юрту тяжелые ящики. Сверху на каждом было по дорогому платью китайского полководца, разорванному в клочья и в крови.
Девять раз хан повторил:
— Сожгите его!
И девять раз тысячники бросали в огонь платья девяти убитых китайских полководцев. А в самих ящиках была их добыча: золото, серебро, шелк, слоновая кость, жемчуг и другие драгоценности.
Мухули и Джебе подарили Чингису по изумительной сабле, ножны которых были усеяны переливающимися на свету каменьями и драконами из слоновой кости. Женщин они осчастливили золотыми заколками с длинными коралловыми подвесками.
— А где наряд десятого полководца? — полюбопытствовал хан.
— В нем еще торчит кое-кто! — расхохотался Джебе.
— Он бежал с поля боя?
— Ну нет, его носилки догнал бы воин на самой хилой лошади. Мы просто привезли его показать. Другие приняли смерть с гордым видом, а этот пожелал предстать перед тобой. Он хочет служить тебе. И еще — подарить женщину, — объяснил Джебе. — Этот полководец ждет неподалеку от шатра. Кликнуть, чтобы его привели?
Чингисхан ненадолго задумался, пошептался со своей супругой Бортой, потом подозвал к себе одного из военачальников и обменялся с ним несколькими фразами.
— Пусть введут, — сказал хан.
— А женщину? — спросил Джебе.
— Пока что я желаю видеть только китайского полководца.
Стражи выбежали наружу.
— Тататунго! — негромко позвал хан.
— Да, мой хан?
— Принеси мне один из твоих рисовых листов, на которых нарисована вся империя Хин с ее горами, долинами, реками, морями и пустынями.
— Спешу, мой хан! — И через минуту-другую писец развернул перед властителем широкий и длинный лист плотной бумаги.
— Сколько у тебя таких, Тататунго?
— У меня их много, мой хан!
— Так! Много, значит!
Чингисхан встал с трона, спустился по ступеням, и вдруг в дворцовой юрте воцарилась непривычная тишина. Все уставились на свернутую в трубку бумагу, не зная, что произойдет в следующее мгновение. Стоя перед огнем, хан произнес:
— Я только что принял решение поступить с Сыном Неба точно так же, как он собирался поступить со мной. Я уничтожу его империю и его самого — такова воля богов. В ближайшие дни я обращусь с молитвами к солнцу, луне и небу, я буду говорить с богами.
Чингисхан бросил трубку с картой империи Хин в огонь.
В который уже раз тишину разорвали трубные звуки и грохот барабанов.
— Китайский полководец! — доложил один из стражей.
Властитель с улыбкой кивнул.
— Как тебя зовут?
— Лу!
— Как? Ты знаешь язык монголов?
— Моя мать была онгуткой, а отец — китаец.
— Ты умеешь читать и писать?
— Да.
— А рисовать?
— Нет.
— Сочинять стихи?
— Нет.
— Если ты хочешь служить мне, тебе незачем ни читать, ни писать, ни рисовать, ни сочинять стихи, а только…
— …только сражаться! — закончил за него полководец Лу.
— И этого не требуется!
Маленький китаец явно забавлял властителя.
Некоторые из его военачальников покатились от хохота, хотя и они не догадывались, как хан собирается поступить с этим человеком. Но этот разговор доставлял им удовольствие, они чувствовали, что хан задумал какую-то хитрость, и заранее предвкушали наслаждение от удара, который нанесет Чингисхан.
— Тогда что же требуется? — неуверенно проговорил полководец, уже догадываясь, что вождь монголов завлекает его в западню.
— Остаться китайцем! — ответил ему хан.
Тот молчал, донельзя удивленный.
— Остаться китайцем, — повторил Чингис. — Китайцем, перешедшим на службу ко мне. Я вижу, ты удивлен, полководец Лу?
— О нет, меня только смущает неизвестность… неясность…
— Не ты ли сам выразил желание служить мне? — перебил его хан.
— Да, и я буду честно служить вам!
— А верхом на лошади ты скакать умеешь?
— Нет!
Все громко захохотали. Ни военачальники, ни нойоны, ни даже женщины и девушки не могли себе представить полководца, не умевшего ездить верхом на лошади.
Сделав знак, чтобы все замолчали, хан сказал:
— Извини, я не хотел тебя обидеть, однако я забыл, что китайских полководцев выносят на поле битвы в повозках без колес. Но ты научишься ездить верхом?
— Если вы прикажете, да!
— Я приказываю тебе!
— А что я буду делать?
— Это пока известно мне одному. Ты поймешь все позднее, когда придет время. А пока что ты получишь от меня юрту и двух слуг. Будешь жить в моей орде как один из моих военачальников. Знай: кто живет с нами, подчиняется всем нашим законам. Если ты попытаешься удрать, тебя поймают. И мои слуги размозжат тебе голову тяжелым камнем, как поступают с пойманным волчьим выводком. Хочешь о чем-нибудь спросить, полководец?
— Нет.
— Тогда иди! — миролюбиво проговорил Чингисхан и выпил полный кубок вина.
Он всегда пил много, но никто его пьяным не видел. И вдруг, словно вспомнив о чем-то, он поднял глаза к круглому проему в крыше дворцовой юрты и воскликнул:
— Солнце!
Все вслед на ним задрали головы, обратив свои глаза навстречу сияющему светилу.
Чингисхан снова встал и пошел к выходу из юрты. Военачальники, нойоны и женщины последовали за ним. Стражи, поддерживавшие тяжелый голубой полог, следили за теми, кто нетвердо держался на ногах. Их из дворцовой юрты не выпускали.
Когда хан достиг широкой площади в центре орды и опустился на колени, рядом с ним упала на колени вся свита и многие простые воины, при его появлении выбежавшие из юрт. Следуя старинному обычаю, все мужчины сняли пояса и шапки.
Чингисхан обратился с молитвой к солнцу.
Справа от него молился Джебе, слева Мухули и самые славные его военачальники.
Тихо, чтобы даже стоявшие рядом не могли этого услышать, хан сказал:
— Солнце, с твоей помощью я сожгу империю Хин! — Он поднялся и рассмеялся, словно солнце уже дало ему свое согласие. — Солнце принадлежит нам! — вскричал властитель, указывая вытянутой рукой в сторону Лисьего перевала, из-за мрачных теснин которого оно выкатилось на небо.
— Оно наше! — взвыла в ответ толпа. — Наше! Наше! Наше!
— Только наше! — воскликнул хан.
И снова толпа взвыла:
— Только наше! Наше!
— Народу монголов! — продолжал Чингис.
— Народу монголов! — откликнулись все остальные, вздымая к небу свои мечи.
И снова загудели бычьи жилы, натянутые на дощечках, зазвенели колокольцы, затрубили трубы и загремели барабаны, а девушки запели песню о великом хане:
Среди умных — умнейший, Среди сильных — сильнейший…Когда они допели свою песню, хан спросил, кто знает сказку, которую ему еще не приходилось слышать.
— Если такой найдется, он получит в награду пять овец!
Вызвались многие.
— Выходите вперед и говорите, о чем сказка!
— О хитром старике, мой хан, — сказал первый.
— Я был еще мальчиком и жил в племени хунгиратов, когда услышал ее впервые, — ответил Чингис.
— О заблудившемся верблюжонке, мой хан, — сказал второй.
— Эту я тоже знаю.
— О старике и тигре! — сказал третий.
Называли еще много сказок, но все они были хану известны. Тут вперед выступил Тенгери и спросил:
— А известна вам, мой хан, сказка, как родилась лошадиноголовая скрипка?
— Нет! — обрадовался хан. — Эту я не знаю! Наконец-то! Садись на лошадь, чтобы тебя все видели! Считай, что пять овец твои.
И Тенгери начал:
«Давным-давно жил пастушонок по имени Сухэ. Он был сиротой, воспитывала его бабушка. У них было несколько овец. Сухэ гонял овец на пастбище и помогал бабушке готовить пищу и убирать в юрте. У него был красивый голос, и он любил петь. Когда ему сравнялось семнадцать лет, им заслушивались все пастухи и табунщики.
Однажды, когда солнце уже зашло и быстро спустилась ночь, Сухэ все еще не вернулся домой. Бабушка начала тревожиться, а потом забеспокоились и все соседи. Наконец Сухэ появился. На руках он нес что-то белое и пушистое. Это был новорожденный жеребенок. Увидев удивленные лица соседей, Сухэ сказал с улыбкой: «На обратном пути я наткнулся на это маленькое существо, лежавшее посреди дороги. А кобылицы нигде поблизости не было. Я испугался, что вот-вот появятся волки и разорвут жеребенка — да и меня заодно! — и поэтому принес его в нашу юрту».
— Нет, этой сказки я никогда раньше не слышал, — сказал хан. — Продолжай!
Тенгери перевел дух и продолжил:
«Шло время. Маленький жеребенок вырос и благодаря заботам Сухэ стал сильным и видным жеребцом. Он был белым как снег, здоровым и красивым. Он нравился всем, кто его видел, а Сухэ — особенно!
Однажды ночью Сухэ проснулся от громкого ржания. Он вскочил со своей подстилки и выбежал из юрты. Сейчас до него донеслось вдобавок и возбужденное блеяние овец в загоне. Когда Сухэ добежал до загона, то увидел, что белый жеребец защищает стадо от крупного серого волка. Стоило Сухэ подбежать, как волк трусливо скрылся во тьме. Вспрыгнув на белого, Сухэ пустился за ним в погоню. Вскоре догнал, набросил на него аркан и задушил. С каким же гордым видом тащил он мертвого серого волка к своей юрте! Его белый весь взмок под ним. А Сухэ прямо исходил любовью к нему за то, что тот защитил овец. Он поглаживал его потный круп, трепал по холке, шептал на ухо ласковые слова. С тех пор Сухэ и его белый стали близкими друзьями, и, когда приходилось надолго разлучаться, оба не могли дождаться встречи».
Тенгери умолк, словно желая перевести дух или вспомнить, что же все-таки было дальше, и щурился на солнце, хотя явственно ощущал, что хан не сводит с него испытующего взгляда. Тенгери знал почему: хан пытается вспомнить, где он мог раньше его видеть.
— Продолжай! — потребовал Чингисхан таким тоном, будто усомнился в том, что Тенгери знает продолжение сказки.
Но тому и в голову не приходило оборвать ее на половине.
«Как-то весной до них долетела весть, что наследник хана его племени устраивает скачки. И победитель этих скачек получит в жены одну из его трех дочерей. Сухэ тоже услышал об этом. Друзья стали уговаривать его участвовать в этих скачках. И вот Сухэ со своим белым отправился в назначенное наследником старого хана место. Все соседи пожелали ему удачи, а некоторые даже отправились на скачки вместе с ним.
И вот начались скачки. В них участвовало множество сильных и смелых мужчин. Они нахлестывали своих лошадей и мчались во весь опор, но у столба все-таки первым оказался Сухэ на своем белом».
В этом месте сказку Тенгери прервали рукоплескания: большинству пришлось по душе, что на скачках победил Сухэ на своем белом. Все смотрели на Тенгери, будто он и есть этот Сухэ, а лошадь, на которой он сидел, — белый жеребец. Даже хан захлопал в ладоши и сказал:
— Хорошая сказка! Но ведь это еще не конец?
— О-о, конечно, нет, мой хан!
— Так что же ты замолчал? — подбодрил его хан.
«Позовите ко мне всадника на белом коне!» — приказал своим слугам наследник старого хана».
— Ах да, — перебил Тенгери властитель. — Он же обещал выдать за него свою дочь!
— Да-да, выдать за Сухэ дочь! Он обещал! — радостно подхватила толпа.
Тенгери поднял руки и, когда снова наступила тишина, проговорил:
«Но когда наследник увидел, что победитель всего-навсего молодой пастух, он сказал…»
— Ну, не томи, что он сказал? — послышались крики со всех сторон.
«…Он словно забыл о своем обещании. И, хитро улыбаясь, приказал своим стражам: «Дайте ему за его лошадь три больших слитка золота, и пусть он уходит!»
— Хууу-хууу-хууу! — завыли все собравшиеся на площади.
«Сухэ охватила ярость, — продолжил свой рассказ Тенгери. — «С чего вы взяли, — спросил Сухэ, — что я соглашусь расстаться с моим любимым белым жеребцом? Я не собираюсь его продавать! Я прибыл сюда, чтобы участвовать в скачках, а не торговать лошадьми». Наследник не на шутку рассердился и приказал своим слугам задать Сухэ крепкую взбучку. И слуги набросились на юношу со всех сторон и били его до беспамятства, а потом швырнули его на обочину главной дороги в той орде. Наследник же забрал белого себе».
Тенгери глубоко вздохнул, наслаждаясь наступившей на площади тишиной. Люди не сводили глаз с его губ: они жаждали узнать, чем же все это закончилось. Однако Тенгери не спешил удовлетворить их любопытство. Он снова поймал на себе взгляд хана.
«Интересно, догадался он теперь, кто я?»
— Разве ты не собирался рассказать, как родилась лошадиноголовая скрипка? — напомнил властитель.
— Я уже подошел к этому, мой хан. «Друзья довезли Сухэ домой. Бабушка выходила его, и вскоре он был уже совсем здоров. И вот однажды ночью, когда Сухэ как раз собирался лечь спать, он услышал, что в полог юрты кто-то стучит. «Кто там?» — крикнул он. Никто ему не ответил, но стук не прекращался…»
— Это пришел его белый жеребец! — догадались в толпе.
— Да, это и впрямь был он. «Когда Сухэ выбежал из юрты, он увидел своего белого. Тот был весь в поту и пене, а в теле его торчало семь или восемь стрел. Сжав зубы, чтобы не закричать, Сухэ вытащил стрелы из ран белого, но зато теперь из них полилась кровь. На другое утро белый жеребец пал. Но как же это могло случиться?»
Толпа словно застыла на площади перед ханом и Тенгери. Даже птицы прекратили свое неумолчное щебетанье. Солнце, тишина — и все.
— А дело было так. «Наследник был несказанно рад, что ему досталась такая замечательная лошадь, и он задал большой пир для всех своих друзей и приближенных. И для их семей. Ему не терпелось похвастаться перед ними прекрасным животным, и он велел его вывести. Но когда ему захотелось оседлать его, тот сбросил наследника».
Площадь огласилась смехом.
«Поймайте его, поймайте! — едва поднявшись, вскричал наследник. — А если не сумеете, убейте!» И в сторону убегавшей лошади полетела туча стрел. Однако жеребцу удалось все-таки добраться до своей орды, чтобы умереть у юрты настоящего хозяина. Сухэ плакал. Много дней и ночей он не находил себе места. Как-то бессонной ночью, когда он ворочался с боку на бок, ему почудилось, будто его белый стоит перед ним, как живой. Он подошел к хозяину совсем близко, протяни руку — и погладишь. «Не можешь ли ты, мой молодой хозяин, придумать что-нибудь, чтобы я всегда был рядом с тобой, чтобы мы были вместе? — Сухэ качнул головой. — Сделай из моих костей скрипку!» — сказал ему жеребец.
На другое утро Сухэ отрезал от скелета любимого жеребца его голову и закрепил ее на древке — там, где собраны струны. А волос из хвоста жеребца он натянул на лукообразный смычок. И всякий раз, когда он играл на своей лошадиноголовой скрипке, ему вспоминалось, как он был счастлив, сливаясь со своим жеребцом в полете над степью. Но не забывал он и несправедливого наследника старого хана. Со временем скрипка стала как бы голосом людей племени Сухэ; люди любили собираться по вечерам и слушать, как он играет на скрипке и поет. Вот так и родилась лошадиноголовая скрипка».
Людям на площади очень понравилась эта сказка, и Тенгери спрашивали со всех сторон:
— Скажи, кто ты и где научился сказывать такие красивые сказки?
Тенгери, сильно смущенный, отвечал им со светлой улыбкой:
— Я один из вас. Как же иначе?
— А твои родители кто?
— Мои родители умерли.
— Он сирота, как Сухэ! — говорили люди. — Уж не было ли того же, что в сказке, с тобой?
— Нет, ее мне рассказал мой приемный отец! — ответил Тенгери, слезая с лошади.
— А кто был твоим приемным отцом? — продолжали любопытствовать люди.
— Его звали Кара-Чоно, Черный Волк!
Десятник Бат пригнулся, словно его кто-то неожиданно ударил под дых. Однако Тенгери этого не заметил. Он видел только толпу, которая замерла, как будто ее всю целиком огрели бичом. Многие отвернулись от него и пошли восвояси, а те, что остались, не знали, что и подумать, и поглядывали на хана. А тот преспокойно сидел себе на мате, сложив руки на груди, и улыбался. Немного погодя он сказал Тенгери:
— Ты крепкий и очень смелый, но ты не умен — твоя стрела попала в скалу! — Чингисхан повернулся к слугам и оскалил зубы в недоброй улыбке: — Нацедите ему чашку кумыса. Он слишком долго говорил, и теперь у него пересохло во рту. Как он теперь объяснит мне, что заставило его назвать при всех имя человека, от которого не осталось ничего, кроме позора предательства?
Тенгери жадно выпил кумыс. Чингисхан увидел, как дрожат при этом его руки, и сказал окружавшим его, что у кого дрожат руки, дрожит и сердце.
— Может быть, теперь мужество оставило тебя, уступив место страху?
— Нет, мой хан, я сказал правду, и, значит, мне нечего бояться. Все знают, какой вы справедливый!
Чингисхан рассмеялся.
— Правду! Я всегда знаю две правды: ту, что говорят в моей дворцовой юрте, и ту, которую говорят за ее пределами. Обе полезны, а живет лишь та, что приносит пользу! Так вот, когда тебя спросили, кто был твоим приемным отцом, ты назвал имя, опозорившее меня и наш гордый народ монголов! Разве ты солгал бы, ответив лишь: «Он мертв»?
Тенгери покачал головой.
— Вот видишь! — воскликнул хан. — И никто от тебя не требовал, чтобы ты назвал его имя. Наши законы и обычаи запрещают спрашивать имя мертвого. — Стоявшие вокруг него военачальники закивали головами, а стражи стояли, словно каменные изваяния, но были готовы в любую секунду броситься на того, на кого укажет хан. — Ты, Тенгери, получишь пять овец, как я и обещал. Чтобы никто не подумал, что я такой же дурак, как и наследник старого хана из твоей сказки, который не держит перед людьми своего слова.
Когда Тенгери уходил по главной дороге орды, им владели смешанные чувства. «Как это может быть две правды?» — думал он. А Ошаба и Герел куда больше удивил щедрый подарок хана — овцы были крупные и здоровые, как на подбор. Они сразу поместили их в свой загон — у Тенгери загона не было. Любуясь овцами, Ошаб говорил:
— Ну и пусть у него будут две правды. Я в этом ничего странного не вижу, разве мы не говорим в нашей юрте того, о чем в других местах помалкиваем?
— Да, — ответил Тенгери. — Но это потому, что мы боимся его стражей, а иногда и его самого. А ему-то кого бояться, Ошаб?
— Своих врагов!
— Брось, Ошаб, наш хан никаких врагов не боится. Из ста битв он в девяносто девяти победил. Нет, страх нашему хану неведом, Ошаб.
— А мне все-таки кажется, — заметил тот, — что этой второй правдой он защищается от своих врагов!
Тенгери задумался. Солнце стояло сейчас прямо над юртой и отбрасывало тень от решетки на крыше на белый мех подстилки.
— Я постараюсь обойтись одной правдой, — сказал он. — Если хан справедлив, мне нечего опасаться.
— А если нет? — понизив голос, проговорил Ошаб.
— Тогда он не будет моим ханом, Ошаб!
— Сказать-то это легко, все равно что вороне каркнуть. Светлая луна долго круглой не бывает, Тенгери, а светлые облака быстро уносятся. Не ты ли только что сказал, что боишься его стражей, а иногда и его самого?
Тенгери кивнул.
— Потому что я трус. Но разве трус может называть себя мужчиной? Ответь, Ошаб, прав я или нет?
Ошаб подвинулся на козлиной шкуре поближе к Тенгери, притянул его за шею к себе и прошептал на ухо:
— Я одно знаю: кто говорит правду, до седых волос не доживет.
Герел, до сих пор молчавшая, но не упустившая ни слова из сказанного, мечтательно проговорила:
— А у него такие красивые волосы, такие черные и жесткие, как у волка зимой!
— Не болтай! — прикрикнул на нее Ошаб. — Э-эх, женщины! Ты только посмотри на нее: старая, а туда же — ноздри задрожали, будто она тебя проглотить захотела…
— Это все же лучше, чем если его проглотит хан!
— Эй, Тенгери, — толкнул его локтем в бок Ошаб. — Видал, ты ей по вкусу!
— Я жить хочу! — выкрикнула вдруг Герел. — И он пусть живет! Что в этом плохого?
Тенгери встал и проговорил громко, словно не расслышав последних слов Герел:
— Даже самые высокие башни стоят на земле!
Выйдя из юрты, он нос к носу столкнулся с гонцом от тысячника. И тот спросил, не его ли зовут Тенгери.
— Да, — ответил он, побледнел и подумал с испугом: «Боги великие, отчего я всегда пугаюсь, когда меня спрашивают, кто я такой. Только что я в юрте произнес красивые слова. А когда Ошаб спросил меня: «А если нет?», я ответил ему не задумываясь: «Тогда он не будет моим ханом». Что правда, то правда — сказать это легко, все равно что вороне каркнуть!»
— Вид у тебя нехороший, — дружелюбно проговорил гонец. — А у меня для тебя хорошая новость. Новость, которую хан велел передать твоему тысячнику, а тысячник — тебе.
У Тенгери было слишком мало времени для того, чтобы задуматься о том, правду ли говорит гонец.
— Хан назначил тебя десятником! — сказал гонец и добавил еще: — Ну как? Может, улыбнешься и поблагодаришь?
— Извини, но я никак не могу в это поверить. Ведь я еще ни разу не был в бою и не выпустил во врага ни одной стрелы, — сказал Тенгери.
— Но ведь тебя зовут Тенгери? — переспросил гонец, который и сам удивился.
— Да.
— И это ты был сегодня на площади и рассказывал перед ханом сказку?
— Да.
— Тогда все совпадает. С сегодняшнего дня ты десятник!
— Я так потрясен, что…
— Разве наш золотой властитель не потрясает всех и каждого? И разве его мудрость не заключается еще и в том, что он всегда делает то, чего никто от него не ожидает? И не потому ли он такой мудрый, что никогда не делает того, что все от него ожидают?
Тенгери смотрел вслед удалявшемуся всаднику в немалом смущении. Он думал о Бате, участвовавшем во всех войнах и битвах, каждая из которых оставила на нем свой шрам, о Бате, у которого под седлом была сейчас девятнадцатая лошадь, потому что восемнадцать прежних ускакали с мертвыми воинами хана к богам. Что скажет Бат?
Ошаб проговорил у него за спиной:
— Такое случается редко. Необычное дело.
Он быстро заковылял к загону, где паслись и пять овец Тенгери, а потом вернулся, повторяя:
— Необычное это дело, необычное!
Когда в Йенпине к исходу лета отцвели пионы и лотосы, полководец войска Великой стены в девятый раз испросил приема у Сына Неба. Император сидел на красном шелковом мате в Покоях Благовоний в окружении тысячи цветущих гиацинтов, горделиво покачивавшихся в высоких фарфоровых кувшинах от легкого дуновения ветерка, залетавшего в высокие окна. Было раннее утро. Художник Хао Фу долго смотрел на поднимающийся над озерной гладью туман, а потом сделал несколько мазков кисточкой с тушью, едва касаясь ею золотистого шелка. Он повторил это еще два-три раза — и туманная гладь озера перенеслась на шелк.
— А сумеешь ты отразить на картине осенний хлад? — спросил император Вай Вань.
Хао Фу огляделся вокруг и, склонив голову, скромно ответил:
— Я даже назвал бы эту картину «Хлад проникает сквозь мое платье».
Над озером и туманом плавно скользил журавль, розовый в лучах осеннего солнца.
— Неужели, когда говоришь о холоде, и сам начинаешь мерзнуть? — Сын Неба поежился и собрал под шеей отвороты халата. — Я желаю увидеть хлад на твоей картине!
— О-о, государь мой, — художник осмелился поднять на него глаза. — Вы замерзнете, пока будете ее рассматривать!
Вошел слуга и с поклонами поднес императору и художнику по чашечке бульона с корешками лотоса.
В дверях по-прежнему стоял мандарин, доложивший императору о визите полководца Великой стены.
— Ты еще здесь? — недобро проговорил Вай Вань.
— Я позволил себе… Ибо полководец Великой стены, которого вы не хотите принимать, отказывается уходить…
— Отказывается?
Вай Вань медленно встал, и даже художник Хао Фу испуганно отпрянул от своей картины, глядя на чиновника.
— Полководец утверждает, будто ваша жизнь в опасности, а народу грозит горе.
Император приказал своему приближенному узнать у полководца Великой стены, желает ли он в девятый раз сообщить своему государю то, что говорил восемь раз подряд.
Высокопоставленный мандарин удалился.
Хао Фу продолжал рисовать.
Император ждал.
А случилось вот что: за прошедшие недели полководец Великой стены восемь раз побывал у своего императора и докладывал о том, что от верных людей ему известно о намерениях вождя варваров пойти на империю Хин войной. Чингисхан хочет отомстить за поход, хоть и закончившийся для китайских войск неудачей, на Дзу-Ху. Вай Вань же утверждал в присутствии своих мандаринов и знатных людей империи, что живет в мире с северными варварами и что он запретил всем китайцам хоть единым словом упоминать о неудачном походе на Дзу-Ху. Иначе что же подумает народ об императоре, воины которого потерпели позорное поражение в первой же войне?
Мандарин вновь появился на пороге и объявил:
— Полководец Великой стены!
— Я слышал, — проговорил Сын Неба, — что ты отказываешься покинуть нас? Надеюсь, у тебя нет намерения поселиться в нашем дворце навсегда? Итак, что случилось? Они по-прежнему вострят стрелы, эти варвары?
— Да. И еще строят повозки. И шьют узду и недоуздки. И плетут штурмовые лестницы. И взбираются по ним у Онона на горы!
Император рассмеялся.
— Они куют мечи, отбивают кинжалы, топоры и наконечники копий.
— Это ты повторяешь уже в девятый раз, полководец, — тихо ответил ему император, — а я восемь раз уже объяснял тебе, что живу с ними в мире. Есть ли у тебя для меня еще какое-нибудь известие?
— Да, — ответил полководец, и лицо его сделалось грустным. — Дело решено: Чингисхан идет на нас!
— Докажи, докажи свои слова!
— Он три дня и три ночи провел в одиночестве в своем дворцовом шатре, выгнал всех слуг, не ел и не пил, только возносил молитвы…
— …к солнцу! — с усмешкой перебил его Сын Неба.
— К солнцу, — подтвердил полководец, — и…
— …к луне!
— Да, к луне, и вообще он говорил со всеми богами и вопрошал их, идти ли ему войной на империю Хин. И пока он говорил с богами, со злыми и добрыми духами один на один, народ собрался перед его юртой и тоже возносил молитвы к Небу. Через три дня хан вышел к своему народу и объявил, что Вечное Синее Небо предсказало ему победу над вами!
— И ты говоришь мне это без тени улыбки, полководец?
— Наши купцы вовсе не улыбались, когда сообщили мне об этом, государь!
У полководца было такое выражение лица, будто Чингисхан со своим войском уже стоит у ворот города.
А император ответил ему, что купцам, как людям, которые хорошо умеют считать, полагалось бы знать, что в империи Хин живет в двести раз больше людей, чем их есть у вождя варваров, кочующих за пустыней Гоби.
— Неужели я дам себя запугать этому дикарю, поклоняющемуся солнцу, луне, огню и воде? Умеет он читать и писать? Нет! Способен он соорудить в голой степи город? Нет! Обучали его ученые мужи? Нет! Наши предки еще тысячу лет назад были умнее, чем он сегодня. Это животное, которое спит в траве вместе с мышами и крысами и ест голыми руками… — император вдруг умолк, прервав фразу на полуслове, подошел к художнику Хао Фу и встал перед картиной. — Замечательно, мастер! Меня и впрямь зазнобило, хотя туман за окном уже рассеялся и в окно заглядывает солнце. А как дрожит на волнах это маленькое суденышко с драконом на носу, художник! — Вай Вань взглянул в окно, как бы желая сравнить картину с действительностью. — Разве запечатлеть мгновение — не редкостное удовольствие, Хао Фу? Когда ты рисовал свою картину, на крыше павильона сидел ворон. Сейчас он улетел, а на твоей картине он еще есть!
— Да, — ответил художник. — Наши предки всегда вот что говорили о воронах: каркайте, каркайте сколько угодно, только не говорите ничего дурного о добрых людях. У меня почти нет картин, на которых я не изобразил бы ворона, государь.
Император благожелательно кивнул ему, приблизился к окну и колокольчиком вызвал одного из слуг. Немного погодя этот слуга вернулся вместе с пышнотелым мандарином, который нес в руках золотую чашу, — Сын Неба пожелал подарить ее художнику.
— Я слышал, — объяснил император, — что прежде, чем написать картину, нужно переселить в кончик кисти сердце, мысль и руку. Я вижу, Хао Фу, что в кончике твоей кисти все они и живут — сердце, мысль и рука. Ты заставил меня поежиться от холода и в то же время согрел мое сердце — вот как велико твое искусство. Вот он, — император Вай Вань указал на полководца, — вознамерился испугать меня, потому что испугался сам. Он боится человека, который называет себя Чингисханом и важничает как серебристый журавль.
Император отвернулся от художника Хао Фу и обратился к полководцу:
— Слушай же: этот татарский вождь глуп, но глуп не настолько, чтобы вообразить, будто он со своей ордой способен победить огромную империю; он не может не знать, что мышь тигров не ловит! Он не придет! Слышишь: он не придет! Он хочет нагнать на нас страху, хочет, чтобы испуг овладел всеми нами подобно дурной болезни! Этот степной волк затаился и ждет, что раздоры ослабят нас. Да, тогда он и нанесет удар! Поэтому мы должны посадить в темницу страх, который он гонит впереди себя, как злой волшебник. Да, мы посадим страх на цепь! Слушайте и повинуйтесь!
Сын Неба остановился посреди Покоев Благовония. К нему бесшумно приблизился слуга, набросивший на плечи императора золотистого цвета халат с вышитыми на нем огненно-рыжими драконами. Вай Вань поднял правую руку и проговорил:
— Повелеваю бросить полководца Великой стены и всех прибывших с ним в темницу. Туда же бросьте и тех купцов, что принесли в мою страну слова и угрозы вождя варваров. В темнице же найдут себе место все те, кто повторял эти злобные речи и разносил их, как чуму. Полководец Великой стены получит вдобавок двадцать пять ударов палкой за то, что посоветовал нам идти на Дзу-Ху, а сам вместо двадцати тысяч воинов выступил всего с десятью, чем обрек нас на поражение и подвигнул вождя варваров на еще большую наглость и грубость.
Когда Сын Неба вновь остался наедине с облагодетельствованным им художником, он вернулся к его картине и принялся опять расхваливать ее на все лады. А потом сказал:
— Приглашаю тебя позавтракать со мной, Хао Фу.
Художник отдал глубокий поклон, и вскоре они уже сидели за маленьким золотым столиком, уставленным всевозможными лакомствами: ломтиками груш, засахаренными орешками, выдержанными в уксусе раковинами и кислыми муравьиными яйцами. Служанки подносили паровую рыбу и горячий чай, сладкий рис, цукаты и курагу. За спинами обедавших стояли девушки с павлиньими опахалами.
— Нарисуй мне картину с этим вождем варваров, — с улыбкой проговорил император, мелкими глотками отпивая чай и поглядывая на Хао Фу поверх тонкой фарфоровой чашечки.
— Я никогда его не видел, государь. Извините меня за этот довод, но мне действительно никогда прежде не доводилось видеть его! — удивился художник.
— Мне тоже, — кивнул император и рассмеялся, потому что собственная шутка ему очень понравилась, и с его губ на белоснежную шелковую скатерку упало несколько муравьиных яиц. — Но все равно — ты нарисуешь его!
Хао Фу в смущении переворачивал палочками переливающиеся раковины и думал о полководцах, брошенных в темницу, в особенности об одном, который получил вдобавок двадцать пять ударов по пяткам.
— Тебе нечего опасаться, — сказал император, — ты нарисуешь эту картину, хотя и никогда его не видел. Я словами опишу тебе, каким его вижу. А ты нарисуешь его таким, чтобы при виде твоей картины меня всякий раз охватывал смех. Нарисуй его не то зверем, не то человеком, нарисуй его чудовищем, но смехотворным! Способен ты на это, Хао Фу? Отвечай!
— Я попытаюсь, государь! — Художник отложил палочки в сторону, хотя почти ничего не съел, а проголодаться успел.
Но сейчас он не испытывал голода, он не видел перед собой ничего, кроме смехотворного чудовища. Но втайне ему не давал покоя вопрос: а что будет, если император не рассмеется?
— Приходи ко мне завтра утром в тот же час!
Художник удалился. Несмотря на то что он уносил из дворца подаренную ему золотую чашу, на душе у Хао Фу было невесело. Мимо него по широкому двору воины прогнали дюжину купцов. Их платья были разорваны в клочья. А дворцовые стражи продолжали избивать и оплевывать их, презрительно обзывая «татарскими собаками». Один из них упал без сил на булыжник, которым было выложено все пространство огромного двора. Его лицо было залито кровью. Когда страж выхватил меч и замахнулся на несчастного, художник Хао Фу поспешил ретироваться через высокие темные ворота. Скорее, скорее в открытый город!
Ужасный крик все-таки долетел до его ушей.
На другое утро он в присутствии императора Вай Ваня писал заказанную картину: чудовище, которое обязательно должно вызвать смех.
Император остался очень доволен, он долго смеялся. А художника Хао Фу он приказал незаметно убить и распространить о нем слух, будто, создав свое лучшее произведение, он сам вошел в картину и исчез навсегда.
Глава 5 ПОХОД НАЧИНАЕТСЯ
До начала зимы Чингисхан перенес свой главный лагерь с берега Онона на берег Керулена, то есть на юг. Здесь его малая родина — святая гора Бурхан-Калдун, ущелья и теснины которой не раз спасали его от врагов. То было в его юности, когда его еще звали Темучином. Тогда он всего-то и имел что горюющую мать, девять лошадей да шесть баранов, хотя и принадлежал к одному из знатнейших родов — под началом у его отца Есугея были тысячи монголов, которые разбили много татарских племен. Но некоторое время спустя после этой победы татары отомстили его отцу. Они пригласили его на пир и отравили. Сын Есугея — Темучин был слишком мал, чтобы объединенные отцом племена подчинились ему. Каждый из племенных вождей видел себя верховным властителем, и Темучина один за другим оставили все.
Вот о чем вспоминал Чингисхан сейчас, стоя в окружении военачальников, друзей и телохранителей у застывшей во льду реки. Недавно ему исполнился пятьдесят один год. Когда-то на холме под лиственницами, с которых мороз сбросил сейчас весь их наряд, стояла бедная юрта его матери. Теперь там возвышалась огромная дворцовая юрта, войлок которой превосходил своей белизной нетронутый снежный покров. И жил в этой юрте тот, кого некогда звали Темучином, который победил и подчинил себе все кочевавшие по степи племена, а потом объединил их в один народ, которому дал имя — монголы. Он стал ханом монголов, а они назвали его Чингисханом, что значит — Истинный Властитель.
И вот стоит он у замерзшей реки в длинной, до пят, черной соболиной шубе и волчьей шапке, хвосты которой мотает из стороны в сторону холодный ветер. Влажное дыхание откладывается острыми льдинками на его рыжеватой бороде. Хан молчал. Время от времени он делает шаг в сторону по глубокому снегу или два-три шага, и вся его свита делает то же. Иногда он устремляет свой взор к Бурхан-Калдуну. Но видит только самую высокую вершину горы: она венчает ее, словно островерхая белая юрта.
— Ты все еще сомневаешься? — негромко спросил Мухули.
Хан стоял совсем рядом с ним, высокий и грозный.
— Почему ты сказал «все еще», дорогой Мухули?
Стоящие рядом с Джебе сыновья хана, Джучи и Тули, посмотрели на Мухули так, будто втайне обрадовались, что этот вопрос задали не они.
— Прости, — проговорил военачальник. — Мне почудилось, будто я прочел это на твоем лице.
Чингис улыбнулся:
— И давно?
— В те самые дни, когда ты принял решение.
— Мухули, Мухули! Неужели ты так плохо знаешь своего хана, что все еще не понял: на его лице всегда написано прямо противоположное тому, о чем думает его голова?
— Конечно, знаю, мой хан, но именно поэтому…
— Коня! — потребовал хан. Но прежде чем властитель сел в седло белого жеребца, он снова обратился к Мухули: — Меня никак не отпускает мысль, все ли мы подготовили как следует? Ни о чем не забыли?
— Отец! — воскликнул пылкий Джучи. — Ты предусмотрел все! Главный удар мы нанесем там, где двойная стена прогибается вперед и снова превращается в обыкновенную Великую стену. Там мы будем ближе всего к Йенпину с его вонючими драконами!
Чингисхан с досады даже рукой рубанул, словно желая разрубить речь Джучи. Оседлав жеребца, хан успокоился и сказал, что разработанный им план, конечно, хорош: китайские полководцы никогда не догадаются, что «вождь варваров с севера», как они его называют, решится пересечь всю пустыню Гоби, чтобы нанести удар по «шву» в стене.
— В том-то и дело: из них никто бы на это не осмелился! Никто! А я — да! Я с моими всадниками пройду по морю вечных песков и желтого ветра! Но сейчас не об этом речь. Наш план хорошо продуман, но не упустили ли мы за главным каких-нибудь мелочей? Кедр — это не только голый ствол, разве кто-нибудь назовет голый ствол кедром? Нет, кедр состоит из корней, ствола, крепких и слабых ветвей и бесчисленных иголок. Когда корни подгнивают, буря свалит дерево. А если отмирают отдельные ветви — кто назовет дерево здоровым? Что нужно человеку, который ловит рыбу? Уда, крючок, наживка. Тогда он поймает рыбу. А вытащит он ее из реки, если не загнул как следует маленький крючок или если он не крепкий? Вот почему я день и ночь думаю о том, не забыли ли мы о мелочах, без которых не сделать главного, большого дела? Так ли дотошны были мы в малом, как в большом? Все поэтому, Мухули, все поэтому. Хорошо ли будет, если мы увидим Сына Неба смеющимся, но не получим его головы?
Чингисхан огрел жеребца плеткой, и снег брызнул из-под его копыт. Телохранители с превеликим трудом поспевали за своим ханом. Несмотря на образные сравнения, которые употребил властитель, чтобы рассеять сомнения Мухули, одна истина стала понятной всем, кто был рядом с ханом на заснеженном берегу Керулена: до самого наступления зимы Чингисхан вынашивал в лагере у Онона самое важное решение в своей жизни — идти или не идти войной на могучую империю Хин? Долгими ночами он не единожды сокрушался, что поспешил объявить о своем намерении. А потом началась подготовка к походу, и он вопрошал Небо и взывал к богам, которые через три дня его молитв объявили ему, что монголам будет дарована победа. Он хорошо обдумал, где и как нанесет врагу коварные удары. Но все предвидеть невозможно, и несколько дней назад это подтвердилось вновь: вернулись его лазутчики, которых он послал в Йенпин, и доложили, что в империи Хин живет пятьдесят миллионов человек. Неужели он так просчитался? Пятьдесят миллионов? Прежде он лишь недоверчиво ухмылялся, когда ему доносили, как много подданных у Сына Неба. Пятьдесят миллионов? Представить невозможно! Ему случалось с пятьюдесятью тысячами воинов победить стотысячное войско врага, сто тысяч его воинов наголову разбивали двухсоттысячное войско противника, но как ему с двумястами тысячами всадников победить пятидесятимиллионный народ? Да, на берегу реки он стоял, охваченный сомнениями. Мухули был прав, хотя сам он, хан, этого не признал и никогда не признает. Однако на другое утро, когда Чингисхан в сопровождении своей свиты поскакал к Бурхан-Калдуну, он у подножия горы придержал коня и сказал, чтобы все оставались на месте, все, в том числе и самые славные из его полководцев, которых он называл «солнцеликими». И Мухули понял: он все еще во власти сомнений! Лишь шести телохранителям было позволено сопровождать его, трое поскакали вперед, а трое других держались сзади. Мухули вместе с остальными наблюдал издали, как он поднимался вверх по заснеженной тропе. Чуть впереди него, забавно задирая ноги, подскакивали дикие горные козлы — и вот они уже скрылись в каменистой теснине. Когда хан развязал свой пояс, чтобы возблагодарить богов, и повесил его на шею, ветер распахнул его длинную соболиную шубу и раздул ее. Властитель сразу как бы вырос в размерах, и издалека его можно было принять за большого медведя, карабкающегося вверх по склону. Не оглядываясь, Чингисхан и трое телохранителей скрылись в тумане. Над вершиной тянулись дымчатые облака. Молчаливые белые деревья клонились в сторону замерзшей реки.
Тули сказал:
— Эта гора богов всегда была его лучшим другом и советчиком; она его никогда не предавала, и все ее советы всегда были хорошими. Могло ли быть иначе, если ты ближе всего к небу, когда достигнешь ее вершины? Где найдешь тишину тише, а одиночество более одинокое, чем на вершине Бурхан-Калдуна, по соседству с богами?
Они сгрудились у костра, который разложили и подпитывали березовыми сучьями слуги и воины, и лакомились гусиной печенкой, нанизывая ее на прутья и поджаривая над огнем.
Около полудня сквозь облака пробились лучи солнца, а вскоре ветер унес эти облака прочь. Туман тоже рассеялся. Бурхан-Калдун гордо задирал свою старую каменную голову к небу. Обрадованные теплыми лучами, у реки копошились в снегу красноногие куропатки, пытаясь выцарапать из-под снега вялые травинки.
— Снег стаивает! — воскликнул Мухули, указывая на валун, с которого капала вода.
Но вот вновь показался Чингисхан с телохранителями. Они сразу узнали его — в одной руке у него была волчья шапка, в другой пояс. Он помахал им. По тому, как внушительно он выступал, какими размеренными были все его движения, они поняли, что окончательное решение принято. Мухули удовлетворенно улыбнулся. Свита неспешно направилась навстречу своему властителю.
— Мне все удалось, — сказал им хан. — Все!
Он утер пот со лба, обнял Тули и Джучи, бросил несколько признательных слов Мухули и оседлал своего белого жеребца.
— Снег тает, братья! Не позднее чем через три дня начнется ледоход на Керулене, и пустыня Гоби напьется воды. Боги с нами!
— Значит, мы зададим жару пятнистой желтой собаке в Йенпине? — воскликнул Джучи.
— Да, мой сын!
Тули, Джучи и другие военачальники вырвали свои мечи из ножен, взметнули их в небо и вскричали:
— Пусть страх и ужас бегут впереди нас! Мы победим!
— Джебе, — приказал хан, — вели привести маленького китайского полководца. Я хочу дать ему золотой ключ, которым он откроет ворота Великой стены.
— Слушаю и повинуюсь, мой хан!
— Мухули, — приказал хан, — передай всем тысячникам, что я желаю их видеть.
— Слушаю и повинуюсь, мой хан! — И Мухули умчался на своем гнедом жеребце вслед за Джебе.
После этого властитель со своей свитой вернулись в главный лагерь. Повсюду перед юртами стояли воины, женщины и старики. Они знали, что хан побывал на горе, на святой для всех них горе, чтобы в последний раз поговорить с богами.
Он крикнул им:
— Будьте наготове!
И люди ответили ему, все как один:
— Все во имя нашего хана!
Они не сомневались больше в том, что им предстоит. А о великой империи Хин им было известно только то, что земля эта сказочно богатая и что оттуда можно вернуться с такой добычей, о которой в прежних войнах и мечтать не приходилось.
* * *
Той же ночью китайский полководец вместе с девятнадцатью другими китайцами, переметнувшимися к Чингисхану, поскакали во главе одной тысячи монгольских воинов по направлению к пустыне Гоби. День спустя за ними последовал основной клин войска: сто тысяч всадников, сто тысяч запасных лошадей, тысячи вьючных верблюдов, тысячи повозок, тысячи женщин. В хвосте этого огромного червяка тянулись и большие стада овец: надо же воинам чем-то кормиться, пока они достигнут границы. А еще день спустя выступили и оба крыла войска — с каждой стороны по пятьдесят тысяч всадников, еще сто тысяч запасных лошадей, повозки и все, что положено.
Чингисхан возглавил основной клин. Его высокая дворцовая юрта стояла на огромной двухколесной повозке, которую тянули двадцать пять могучих яков. Властитель отдал приказ брать в плен, допрашивать и убивать любого встречного, будь он разведчиком из империи Хин или простым охотником. Если кому-нибудь удастся улизнуть, доносить ему лично, чтобы он успел внести изменения в свой план.
На сей раз Тенгери был не среди последних, а в самой первой тысяче, в той самой, к которой присоединился со своими людьми китайский полководец Лу. Это ему хан дал золотой ключ от ворот Великой стены. Тенгери, десятник, как и Бат, радовался от всей души, что он в первой тысяче.
— А если эта желтая душа, этот Лу, скажет не то, что велел ему хан? Мы ведь их щебетанья не понимаем. Пищат что-то, как снежные зяблики! А, Бат?
— Да что ты! — махнул рукой тот. — Он пропоет песню нашего хана, не сомневайся. Ему известно, что в случае чего он получит в спину двадцать ножей.
— Но если все-таки получится не так, как задумал хан? — проговорил Тумор, тоже подозревавший китайцев в возможной измене. — У нас даже нет при себе луков и стрел, чтобы рассчитаться с ними, Бат! Все пока что в обозе…
— Что ты несешь? Хан всегда рассчитывает все до мелочей. Запомни это раз и навсегда. Я участвовал во всех войнах, и каждая из них оставила на мне по шраму…
— А еще у тебя под седлом девятнадцатая лошадь, — поддел его Тенгери.
— Да, девятнадцатая!
— Или последняя! — Тенгери громко рассмеялся.
— Последняя? Почему это?
— Ну, если Лу споет не ту песенку…
— Во всех войнах, в которых я участвовал, все было так, как хотел хан! — вспылил Бат.
— Я рад, что ты опять заговорил со мной, десятник, — сказал Тенгери.
— Я всегда с тобой разговаривал, — проворчал Бат.
— Всегда? Разве все последние месяцы ты не избегал меня?
Бат промолчал.
— Может, ты потому ко мне переменился, что теперь я тебе ровня? Так, да?
— Да нет же! — И немного погодя добавил: — Знаешь, Тенгери, жизнь — странная штука.
— Не понимаю, о чем ты, Бат!
— Ладно, бросим это!
Они ехали сейчас медленно, чтобы не загонять лошадей. Снег растаял, и, когда они наконец достигли песчаного моря Гоби, они, как и предсказывал хан, нашли там множество лужиц с талой водой.
Еще через несколько дней они увидели далеко-далеко впереди стадо диких верблюдов, которых Тенгери поначалу принял за разведчиков врага. Бат, конечно, высмеял его, говоря:
— Положим, у китайцев тоже бывают бороды, как и у диких верблюдов. Но чтобы горбы — никогда!
Иногда Тенгери смущали кусты в солончаках, особенно по ночам, когда они торчали из песка как черные головы и на ветру слегка покачивались.
— Вон там лежат двое! — говорили Тенгери или Тумор, а Бат смеялся до слез.
— Хорош десятник! Да, хорош десятник, который принимает верблюдов и кусты за лазутчиков!
И правда, если вдуматься, странная это была тысяча, опережавшая основное войско на день пути.
Как и говорил Тумор, у них не было при себе даже луков и стрел, не говоря уже о боевых топорах, мечах или арканах. Только ножи да кинжалы в рукавах — вот и все. Они скакали на вороных жеребцах, черных как ночь, черными были их простеганные халаты, черными были их лица и руки, которые они натерли сажей.
Когда до Великой стены оставалось два дневных перехода, навстречу им из песка поднялась мягких очертаний горная гряда, желтая и без всякой растительности. Солончакового кустарника — и того здесь не было. Глыба на глыбе, валун на валуне, голые камни, только и всего. Кое-где над ущельями в ожидании диких овец, собирающихся на водопой, подобно немым стражам, сидели, сложив крылья, горные орлы. Передовой отряд тысячи добрался уже до середины перевала, когда воины вдруг вскинули руки вверх и закричали:
— Китайцы! Вот они! Это лазутчики!
В то время как вся тысяча спешилась в тенистом ущелье, этот отряд скакал уже вниз с горы прямо на пустынную песчаную равнину. В этот полуденный час было тепло, на небе ни облачка… Даже когда в ущелье стемнело, тысячник не разрешил разложить костры, что и вообще-то оказалось бы делом непростым: помимо овечьего помета тут и сжечь нечего! Вечером и ночью было так холодно, что Тенгери замерз.
Воины сидели, тесно прижавшись друг к другу, окруженные лошадьми, и мечтали о голубом Керулене и пышных пастбищах. А еще о богатой добыче, с которой они вернутся из страны чудес Хин — это им обещали сотники.
После полуночи вернулись воины передового отряда с двумя плененными лазутчиками. Но трое китайцев все-таки ушли от них. Это была настолько недобрая весть, что ее полагалось как можно скорее передать хану. С этого момента — согласно приказу властителя — тысяче следовало залечь и затаиться, а главным силам, равно как и крыльям, остановиться. С исчезновением трех лазутчиков рассчитывать на то, что сработает эффект неожиданного удара, больше не приходилось.
От пленных было мало проку. Один из них умер сразу после того, как его развязали. Во время схватки он неудачно свалился с коня и попал под копыта. А другой молчал. Улыбался и молчал. Вот это больше всего и злило воинов — его молчание. Полководец Лу вел допрос вяло. По сути дела, никакого допроса не получилось: Лу задавал и задавал вопросы, а китаец отмалчивался.
— Он даже не пожелал нам ни доброй ночи, ни доброго утра. Это что у китайцев за обычаи такие? — отнюдь не беззлобно ехидничали воины.
— Да насыпьте вы ему в рот мелкого песка! Пусть покашляет!
Кто-то предложил еще:
— Поставьте ему на голое брюхо горшок, а под него запустите песчаную крысу — сразу язык развяжет!
— Я тоже не стал бы ничего говорить, — сказал Тенгери. — Зачем ему это, если он знает, что его все равно убьют?
Воины заворчали, а полководец Лу спросил вслух, ни к кому в отдельности не обращаясь:
— Разве он не прав?
И вскоре китайца бросили в пропасть. Он умер, не проронив ни звука.
Бат, до сих пор молчавший, негромко спросил Тенгери:
— Не было ли в твоих словах упрека хану, Тенгери?
— Упрека хану?..
— Да! Ведь ты вот что хотел сказать: не прикажи хан убивать всех разведчиков, они бы не молчали. Выходит, ты считаешь приказ хана неверным и осуждаешь нашего властителя!
— Почему ты все привязываешь к хану, Бат? Если кому так и так суждено погибнуть, зачем он будет тратить себя? А если ты за измену пообещаешь ему жизнь, а он, может, любит жизнь больше, чем этого желто-пятнистого пса, Сына Неба, он и заговорит! Что правда, то правда, и тут нечего на хана пенять, понял?
— Язык у тебя без костей, — ответил Бат, бросив на Тенгери недоверчивый взгляд.
Весь день и всю следующую ночь они провели в ожидании, ничего не предпринимая. И лишь утром примчались стрелогонцы с приказом от хана: покарать смертью тех воинов передового отряда, которые упустили трех лазутчиков. Их сбросили в ту же пропасть, что и китайцев, и умерли они, испуская жуткие предсмертные крики. Далее хан приказал, чтобы полководец Лу вместе с этой тысячей отклонился резко на запад. Цель: выполнить свою задачу у противоположного шва, то есть там, где обычная Великая стена как бы раздваивается. За ними последуют основные силы и правое крыло, в то время как левое крыло будет действовать согласно старому плану и затеет отвлекающую битву там, где и ждут монголов после того, как лазутчики сообщат об их приближении.
Вот так и случилось, что левое крыло с пятьюдесятью тысячами запасных лошадей, повозками, вьючными верблюдами и овечьими отарами ровно через два дня подошло к восточному «шву» в Великой стене и начало прорываться к ее воротам. Однако китайцы были готовы к штурму, они стянули сюда большие силы; оборонялись они беззаветно, раз за разом сбрасывали монголов со штурмовых лестниц, обливали их кипящим маслом, сваливали на них тяжелые камни, выпускали тучи стрел. Только одного не удалось воинам Сына Неба: догадаться, что этот приступ — отвлекающий маневр, что монголы просто-напросто связывают их силы и заставляют требовать все новых подкреплений. Эта битва, этот штурм затянулся ровно на восемь дней и ночей — ровно на столько, сколько времени потребовалось главному войску и правому крылу монголов для обходного маневра к западному «шву».
Спустилась ночь, безлунная ночь, когда полководец Лу с приданной ему тысячей всадников достиг того места, с которого были отлично видны обе башни над воротами Великой стены. Над прорезями в башнях горели факелы. Стояла полная тишина, только ветер посвистывал песчинками над стеной, угрожая иногда загасить факелы.
Все, кроме Лу и его девятнадцати китайцев, спешились и, пригнувшись, бежали в сторону стены, ведя лошадей за собой в поводу.
По стене, такой высокой, что десяти воинам пришлось бы стать друг другу на плечи, чтобы оказаться наверху, расхаживал часовой и распевал боевую песенку:
Монгол — это волк, А волк — монгол. Постель его — камень и степь. Мы волка убьем, Как монгола убьем, Не то монгол нападет на нас, Как на нас нападает волк.Хорошо еще, что монгольские воины не понимали, о чем он поет, а то они, не дожидаясь знака Лу, бросились бы штурмовать ворота, чтобы отомстить обидчику! И тогда пиши пропало…
Слова песни понял только Лу и его девятнадцать воинов, и Лу крикнул снизу часовому:
— Ты все распеваешь? Это дело! Но если ты сейчас же не откроешь ворота, монгольский волк налетит на нас и разорвет.
— Кто вы такие?
— Полководец Лу с девятнадцатью воинами. По поручению Сына Неба мы купили для него тысячу чистокровных скакунов.
— А почему вы не возвращаетесь через те ворота, в какие выехали?
— Потому что, баранья ты башка, перед ними уже стоит варвар и бьется с нашими воинами мечами и боевыми топорами. И если ты собираешься еще долго молоть языком, Сын Неба повесит тебя просушиться на солнце. Или ты думаешь, ему понравится, что у него по твоей вине похитят тысячу таких скакунов?
Наверху, на стене, собралось уже несколько часовых, которые громко переговаривались — спорили, наверное.
— Подождите! — крикнул им один из часовых с башни.
— Сколько ждать?
— Есть у вас бумага от императора?
— Да!
— С печатью?
— Да!
— Какого цвета печать?
— Красная. С изображением дракона.
— Все понятно! — крикнул часовой с башни.
Остальные сразу разошлись, а факелы над прорезями в башнях вдруг погасли — не сами по себе, конечно.
Воины-монголы по-прежнему стояли возле своих вороных, с черными от сажи лицами и руками.
Полководец Лу щелкнул короткой плеткой.
Это был условный знак. Воины, вслушиваясь в ночь, достали кинжалы и ножи из рукавов халатов. Приготовились.
Ничего. Лишь легкий посвист ветра да всхрапывание животных. Все замерли, обратившись в слух.
Но вот за воротами заскрежетал сдвигаемый засов. Но открылись не главные ворота, а маленькая узкая створка, прорезанная в них, в которую и один человек проходил не без труда. Согнувшись в три погибели, из нее вышел часовой с факелом в руке. За ним последовал старший по башне и еще один часовой — тоже с факелами. Старший по башне потребовал у Лу бумагу с печатью и красным драконом на ней.
— Вот она! — сказал Лу, протягивая ему бумагу, подделанную столь искусно, что отличить ее от настоящей вряд ли кто сумел бы.
— Гм, гм, — старший по башне вертел бумагу и так и эдак.
— Ты удовлетворен? — спросил Лу.
А тот, внимательно приглядываясь к лицу Лу, поинтересовался:
— С каких это пор император посылает полководцев закупать лошадей?
— Это лошади для его телохранителей.
— Все равно, — мрачно проговорил старший по башне, лишь бы выразить свое недоумение. Недоверчивым ему даже положено было быть. — А о том, что монгол стоит у восточных ворот, нам известно.
— Да, но о том, что он вот-вот будет и здесь, — нет!
— Если его главные силы у восточных ворот, он никак не может быть и здесь тоже, — возразил старший по башне.
— Ты очень скоро увидишь его, — сказал Лу и был не так уж и не прав.
Старший по башне вышел из круга, который образовали Лу и воины-китайцы, предавшие своего императора. А впереди него шли часовые с факелами.
— Ты, никак, вздумал пересчитать скакунов? — поддел его Лу, шедший рядом.
— Почему бы и нет? — ответил тот.
Когда он приблизился к первым лошадям и подозвал поближе часовых с факелами, Лу выхватил из правого рукава кинжал: через какое-то мгновение этот недоверчивый человек обнаружит, что у лошадей не четыре ноги, а шесть. Прежде чем это произошло и прежде чем исполнительный служака дал сигнал тревоги, Лу вонзил в его спину кинжал и пронзил его сердце. Рядом со своим начальником, не испустив даже предсмертного стона, упали и оба часовых, которых прикончили люди Лу.
Маленькая дверца оставалась открытой. Сквозь нее проскользнули первые из черных как ночь монголов. Прошло совсем немного времени, и распахнулись главные ворота. Под стеной прогремело тысячеголосое: «Ухууу-ху-ху-у-у!», и всадники как ветер промчались в ворота.
— Зажигайте огни! — приказал Лу.
Вскоре из прорезей в башнях вырвались языки пламени. Десятки воинов размахивали на стене факелами. Сами ворота тоже горели. Все это было условным знаком для войска правого крыла, затаившегося до времени в пустыне.
А монгольские воины уже успели соскочить с лошадей и бросились ко всем внутренним стенным проходам, вооружаясь мечами убитых китайцев и сея смерть вокруг. Ошеломленные их внезапным появлением посреди ночи, защитники укреплений стены сопротивлялись изо всех сил, но беспорядочно, а поэтому и обреченно. Монголы сбрасывали со стены живых и мертвых. Раненые умоляли о пощаде, но монголы жалости не знали.
Тенгери со своим десятком проник в одну из башен, в нижних помещениях которой уже бушевал огонь, но на верхней площадке китайцы еще держали оборону, сбрасывая на головы нападавших тяжелые каменные блоки.
— Тащите сюда солому! — приказал Тенгери.
Солома была мокрой, и тяжелый удушливый дым потянулся вверх. Один из китайцев прокричал что-то, чего они не поняли. Вдруг прямо над их головами открылся люк и показалась голова китайского воина. Он без конца кашлял, и глаза его слезились. Он повторял и повторял всего несколько слов, смысл которых Тенгери отгадал без труда. Тот умолял их разрешить ему спуститься.
Тенгери сделал знак, чтобы он спрыгнул вниз.
Тот мгновенно повиновался. Продолжая надсадно кашлять, он стоял перед монголами с залитым кровью и слезами лицом, в изорванном халате с подпалинами.
— Давайте я с ним разделаюсь! — вызвался Аслан, воин из десятка Тенгери.
Он поднял тяжелый меч, китаец пригнулся, закрыв лицо и глаза руками, но тут Тенгери заорал:
— Эй, Аслан, это не дело! Он бросил свой меч, а ты хочешь его за это убить? Поймать беззубого волка — не геройство, победить орла со сломанным крылом — не победа!
Китаец мало-помалу приходил в себя. Увидев, что Аслан опустил меч, он упал перед Тенгери на колени, чтобы поцеловать ему ноги.
— Я тебе не лама! — прикрикнул на него Тенгери, отступая на шаг назад.
В люке показались еще четыре китайца.
Тенгери велел им тоже спускаться.
Они безмолвно повиновались.
— Видишь, — сказал Тенгери Аслану, — теперь все пятеро у нас в плену. Разве эти спрыгнули бы сюда, если бы мы убили первого? Как же! В лучшем случае сбросили бы на нас еще пару своих каменных блоков. А в худшем… мы бы своих недосчитались! Тоже мне, герой называется! — повысил он вдруг голос. — Имя у тебя подходящее — Аслан{19}, а ведешь себя как подлый шакал!
Тем временем подоспели и первые сильные отряды главных сил и правого крыла. Они с победными криками промчались через главные ворота, направляясь в глубь провинции Шаньси, чтобы взять там под охрану колодцы, сбить скот в большие стада и разведать, где они натолкнутся на очаги серьезного сопротивления. Это было ранним утром, сумерки еще не растаяли. Тысяча полководца Лу расправлялась с последними защитниками этого участка Великой стены, укрывавшимися за ней в глинобитных хижинах и пытавшимися остановить разъяренных и теперь уже вооруженных монголов одними стрелами. Правда, при свете дня их выстрелы оказались более меткими, чем можно было ожидать.
Вдобавок некоторые монголы, посчитав дело сделанным, уже предались грабежам, забыв о неумолимом приказе хана. Ворвавшись в дом начальника этого участка стены, первым делом набросились на горячительные напитки. Одни с дикими криками и воплями скатывались по широкой деревянной лестнице в обнимку со штуками шелка или прижимали к груди серебряные сосуды, другие выбрасывали из окон дорогую мебель с инкрустацией из слоновой кости, а на улице поднимали ее, уже поломанную, из пыли и тащили к своим лошадям по частям. Им, конечно, не сама мебель была нужна — что с ней делать-то? — а только слоновая кость. Эти напившиеся грабители представляли собой отличную мишень для китайцев. И на лестнице, и перед домом, и вдоль стены лежали убитые — с добычей в руках и стрелами в спине или в шее. Прихватив из дома все, что только было можно, и убив его хозяйку, монголы подожгли дом. Несколько слуг, горевших как факелы, выпрыгнули из окон прямо в маленький пруд, почти всегда в красивых цветах. Но не сейчас. Лотос в это время года еще не цветет…
Позднее, когда сопротивление оборонявшихся было окончательно сломлено и крыши маленьких глинобитных хижин, крытых рисовой соломой, были в огне, десятники начали палками гнать пьяных грабителей и мародеров к тысячнику, чтобы тот свершил над ними свой суд: по закону Чингисхана, запрещалось предаваться грабежу во время битвы, потому что это могло помешать достижению победы.
Тысячник сидел на высоком коне, гордый одержанной победой и непреклонный. Он вынул из ножен тяжелый меч, который сейчас, когда солнце уже взошло, блестел опасно и хищно, и сказал:
— Хан приказал, а вы не повиновались! Хан требует повиновения ото всех, а тех, кто ему не повинуется, он уничтожает. Поступи он иначе, неповиновение расползлось бы по нашему войску подобно дурной болезни. От дурной болезни может погибнуть самое сильное войско. А кем был бы наш властитель без воинов?
Конь тысячника затанцевал под ним и, сделав несколько мелких шагов в сторону, остановился рядом с первым осужденным.
— Твое имя?
— Монго!
— Ты был Монго!
— Я был Монго.
— Наклони голову, ты, бывший Монго!
Тот поступил как было велено, и тысячник одним махом снес ему голову.
— Твое имя?
— Сум!
— Ты был Сумом!
— Я был Сумом.
— Наклони голову, ты, бывший Сум!
Тот поступил как было велено, и тысячник одним махом снес голову и ему.
Еще одиннадцать раз он спрашивал об имени и еще одиннадцать раз произносил слова «ты был» и «наклони голову». Когда с этим было покончено, он бросил свой окровавленный меч слуге, чтобы тот очистил его от следов скверны неповиновения. А сам крикнул своим воинам клич:
— Мы победили в битве! А теперь грабьте, грабьте, грабьте!
Около полудня к западному «шву» подошли все основные силы и все правое крыло. Хан, уже получивший известие о победе под Великой стеной, скакал вместе со своими сыновьями и любимыми военачальниками во главе войска. В знак великой радости он надел праздничный наряд, крытый синим шелком и отороченный у ворота и на рукавах тигровым мехом. На высокой меховой шапке сверкал драгоценный красный камень, а грива его чистокровного скакуна была украшена перьями павлинов и цапель. Он торжествующе улыбался, проезжая мимо своих воинов, и остановился на том самом месте, где совсем недавно стояли накрепко закрытые ворота, а теперь валялось множество трупов убитых китайцев и монголов — с искаженными лицами, проломленными черепами или отрубленными конечностями. Вид этих обезображенных тел, будь то собственные воины или вражеские, его ничуть не трогал: одни не могли ему больше пригодиться, а другие не могли больше причинить вреда. Это был прах под копытами его жеребца…
— Где Лу? — спросил он.
Маленький полководец-китаец предстал перед ним.
— Приблизься, Лу!
Все смотрели сейчас на Лу, и скольким хотелось бы оказаться на месте того, на кого обратил свое благосклонное внимание великий хан.
— У голубого Керулена я вручил тебе золотой ключ от этой Великой стены, Лу. Некоторые из моих приближенных сомневались в тебе, советовали тебе не доверять. А я тебе поверил вопреки всему — и теперь вознагражден за это. С этого дня ты будешь одним из окружающих меня солнцеликих. Я благодарю тебя. В награду ты получишь девять самых красивых женщин из империи Хин. Ты будешь жить в дорогом шатре, слуги выполнят любое твое пожелание.
— Это слишком, слишком щедро, мой хан… — выдавил из себя не на шутку перепуганный Лу.
— Слишком щедро? — Чингис рассмеялся, и его сыновья и военачальники рассмеялись тоже. — Ты говоришь, слишком? Ты распахнул ворота! Передо мной целая империя! Могу ли я подарить тебе слишком много, когда мне принадлежит все?
Лу отдал глубокий поклон и даже встал на колени и коснулся лбом пыли, повинуясь древнему обычаю своего народа.
— Встань! — приказал ему хан. — Я не Сын Неба, а твой друг!
Когда донельзя удивленный Лу снова встал, хан спросил его о тех девятнадцати китайцах, которые вместе с ним были приданы передовой тысяче. Как они сражались?
— Я хочу распределить их по остальным тысячам. А сражаться им больше не придется. Пусть будут в них переводчиками. Я велю выдать им всем награду.
— В живых осталось всего пятеро! — ответил Лу. — Четырнадцать погибли, мой хан!
— О-о! — Хан поднял глаза к безоблачному небу. — Значит, их призвали к себе боги! Неужели они не радуются сейчас, слыша о себе столько похвальных слов? В полнолуние я вспомню о них и обнажу в их память голову.
И хан поскакал дальше, и его великолепный белый жеребец пробежал мимо тринадцати отрубленных голов, которые еще совсем-совсем недавно мечтали только о добыче, забыв о времени.
К вечеру военачальники главных сил и правого крыла разделили свое войско на колонны по десять тысяч, расширив тем самым поле наступления и облегчив снабжение войска запасами продовольствия, захваченного у противника, и стадами его скота. Шесть главных клиньев поведут сыновья Чингисхана — Джучи, Чагутай, Угедей, Тули и его «солнцеликие» Джебе и Мухули. Совсем недалеко от Великой стены конница Чингисхана повернула на восток, в сторону столицы империи Хин.
Глава 6 ПЕРЕД ВРАТАМИ ЙЕНПИНА
Вот она и открылась перед ними, страна желтых гор и холмов, желтых рек и озер. Проросшая трава тоже была желтоватой, и даже листья вечнозеленых дубов покрывала мельчайшая желтая пыль. Очень многие жили здесь в пещерах, вырытых в пологих склонах, а меньшинство — в хижинах, таких низких, что их крытые рисовой соломой крыши почти доставали до земли. И лишь пагоды стояли высокие и гордые в окружении кипарисов и цепочек каштанов. С их крыш сияли золотые знаки желтого учения.
На первых порах монгольские воины грабили пагоды и убивали монахов, если те пытались не допустить их в храмы. Поэтому Чингисхан издал закон, в котором говорилось: «Наши боги живут повсюду на земле, и не нужно приходить в особое место, чтобы поклоняться им. Поэтому вы вольны любить кого хотите, но убивать имеете право только по моему приказу. В моей империи каждый может возносить молитвы тому богу, какому пожелает, он лишь обязан подчиняться составленным мною законам».
Властитель строго следил за выполнением этого приказа, и вскоре случилось то, на что хан и рассчитывал: многие ламы встречали его воинов радушно. Скорее всего, они надеялись спасти монголов от их шаманомании и обратить в буддизм. Однако одно было достигнуто в любом случае — многие священнослужители и верующие не воспринимали монголов как заклятых врагов. Случалось, что воины хана проезжали через тихие и мирные деревни, в которых китайцы праздновали свой праздник весны, словно никакой войны и в помине не было. Под хохот монголов они, следуя старинному обычаю, прогоняли по узким деревенским улочкам своих буйволов и поколачивали бедных животных дубинками, как бы изгоняя из них зиму с ее холодами и бескормицей и напоминая буйволам о том, что они тягловые животные и должны ходить под ярмом. А там, где войску хана оказывали сопротивление, монголы сжигали дотла деревни и города, грабили и убивали.
Когда монгольские конные отряды приблизились к последней горной гряде, которая словно каменным замком запирала долину Йенпина, разведчики и стрелогонцы доложили великому хану, что на подходе отборные войска императора.
Чингисхан сразу поднялся на высокий холм, чтобы иметь обзор всей равнины до самых гор. Ни деревенек нет, ни города, ни лесов, только узкая мелководная речка извивалась подобно желтой змее вдоль глинистых берегов да несколько лиственниц с обнаженными торчащими ветвями зябли под серым весенним небом.
Хан посылал в войска одного гонца за другим, и они мчались на своих быстроногих конях к его военачальникам.
Чингисхан снял свой праздничный синий наряд и надел кольчугу. Вместо меховой шапки у него на голове был кожаный шлем, да и его скакуна слуги накрыли кожаной попоной, чтобы уберечь от случайных легких ранений во время битвы.
Пока что равнина между двумя войсками была безлюдна. Стайки птиц перелетали с лиственницы на лиственницу. Вверх по течению реки побежали юркие антилопы. Было совсем безветренно, и белые бутоны кустов магнолий, которыми поросли склоны холма, не дрожали, а тяжелые хвосты яков на девятихвостом знамени хана свисали вдоль древка.
А когда взошло солнце, из-за горной гряды появились всадники-китайцы. Издалека могло показаться, будто перевалы они преодолевают не без робости. Десять тысяч всадников съезжали по склонам, на которых еще лежала тень. За ними наступало пешее войско. И воинов в нем было никак не меньше полумиллиона. Оно подходило сюда с востока в течение целых десяти дней — по бездорожью, но очень быстро. Все они были вооружены копьями, и казалось, будто на войско хана надвигается бесконечный бамбуковый лес.
Чингисхан оседлал своего коня, взглянул на солнце, поднял руку с мечом и воскликнул:
— Секите траву, воины!
Окруженный десятью тысячами телохранителей, Чингисхан возглавил тридцатитысячный отряд, скрывавшийся до времени за холмами, и, нахлестывая своего жеребца, погнал его в сторону дальних гор, к своему правому крылу. А потом вдруг повернул влево и вогнал смертоносный клин в китайское войско, отделив десять тысяч всадников от пешего войска. Достигнув этого, он ударил китайской коннице в тыл и начал теснить ее в сторону своих исходных позиций, где, согласно его приказу, затаились ударные силы монголов. Теперь они вылетели из-за холмов навстречу своему властителю. Оказавшись как бы между молотом и наковальней, конница китайцев не сумела сохранить боевые порядки. Некоторые отряды попытались повернуть вспять, другие — прорваться сквозь якобы неплотные ряды монголов, третьи уходили влево или вправо. Они явно запаниковали. И на этот вот огромный клубок смешавшихся китайцев, поднявших к небу высоченный гриб пыли, и накинулись с двух сторон орущие во все горло монголы. Над головами китайцев засвистели мечи и боевые топоры, шипели, как пчелы, летящие арканы, и хрипели в предсмертной агонии те, на кого их набросили. Кто падал наземь еще живым, попадал под копыта лошадей, своих или чужих. Когда лавина монголов трижды прокатилась по китайской коннице, в живых из китайцев не осталось почти никого, только лошади их метались меж бездыханных тел. Повсюду валялись желтые бамбуковые копья, хотя многие из них и пронзили тела воинов хана. Тут и там можно было увидеть обезумевших от страха лошадей, тащивших по земле своих хозяев, не успевших или не сумевших вытащить ногу из стремени. Потери монголов оказались меньше тех, что можно было ожидать: хитрый маневр ошеломил китайцев. Можно сказать, что эту часть битвы они проиграли заранее.
Чингис вернулся на холм, поросший кустами магнолий, и спешился. Белые бутоны цветов успели распуститься, солнце пригревало, было довольно тепло. Хан сел в тени безлистых кустов, весь раскрасневшийся после жаркой сечи. Жадно выпил чашу холодного молока.
Сейчас стайки птиц не перелетали уже с одной лиственницы на другую, да и антилопы давным-давно скрылись.
— У них нет мудрых полководцев, — сказал Чингис, указывая в сторону гор, куда отходило неисчислимое пешее войско китайского императора, достигшее уже было долины.
Своей коннице, отрезанной от пехоты еще до начала схватки, они никакой помощи оказать не сумели, и, чтобы конница монголов не навалилась сейчас на пехоту в чистом поле, чтобы монголы их не растоптали, китайские полководцы отдали приказ войскам отходить в горы, за перевалы, и там подготовиться к отражению ударов врага.
Хан, за спиной которого стояли телохранители и гонцы, вел битву, оставаясь на вершине холма. Он велел всем военачальникам еще раз напомнить воинам, что за горами их ждет Йенпин и что, когда они окажутся по другую их сторону, дорога в столицу империи будет перед ними открыта. Он указал и на ту вершину, на которой будет водружено в знак победы девятихвостое знамя его племени. Но пока его конница еще скакала по долине, хан наблюдал, как пленные китайцы собирают на бывшем поле боя мечи, топоры, другое оружие и складывают его в большие кучи. Лошадей, оставшихся невредимыми, отлавливали, а раненых добивали. И только до убитых воинов никому не было дела, а взгляд хана на них даже не останавливался. Лишь бородатые ястребы-ягнятники, сидевшие на камнях у реки, не спускали с них глаз.
Тем временем подошли караваны вьючных верблюдов и колонны двухколесных повозок. На них были сложены штурмовые лестницы, мешки с песком, луки, стрелы и мечи. С ними появились плотники, кузнецы и другие мастеровые, а также люди хана, которых он поставил вести учет захваченного добра и оружия, а также ведать отправкой всего этого в свои земли. Потом им вменялось в обязанность управление территориями, еще совсем недавно принадлежавшими императору. Вскоре по всему холму встали шатры и юрты. В том числе и для младших жен хана. Он их называл цветами своей радости. Лежа на мягких шелковых матах, они грелись на солнышке под цветущими магнолиями. Когда войско достигло горной гряды по всему фронту, хан сел верхом на коня, чтобы проверить, исполняются ли его приказы во всех деталях. Сначала монголы попытались овладеть горными перевалами и тропами с ходу. Но их встретили такими тучами стрел и искусственными камнепадами, что они вынуждены были спрыгнуть с лошадей и против обыкновения вести бой в пешем строю.
— Настал час противостояния между небом и землей, — сказал хан. — Когда я не увижу больше моих воинов по эту сторону гор, песьеголовый Сын Неба от страха повалится на колени!
Солнце поднялось уже высоко, и хан приставил ладонь к рыжим бровям, чтобы не упустить ни мгновения из перемещений своих воинов. Ему показалось, что они почти не продвигаются вперед. Однако из-за большого расстояния до мест событий это впечатление могло оказаться обманчивым, тем более что левое крыло все-таки довольно быстро двигалось наверх, не встречая, похоже, сколько-нибудь серьезного сопротивления.
— Гонца ко мне! — крикнул хан, приподнявшись в стременах.
Он с некоторым сомнением смотрел на левое крыло войска, заставляя гонца ждать. Хан не решил еще точно, какой приказ отдаст.
— Им не сопротивляются, перед ними отступают! — негромко повторял он.
А потом послал трех гонцов с таким приказом: крайнему выступу левого крыла незамедлительно отойти назад, чтобы не попасть в клещи открытого правого крыла врага. Это было его предположением, потому что противника на этом участке он все еще не видел. Но если бы он стал дожидаться, когда китайцы там появятся, посылать гонцов было бы уже слишком поздно.
Бросив быстрый взгляд на мчавшихся во весь опор стрелогонцов, он снова стал наблюдать за развитием событий на левом крыле. Но нет — противника нет и опасности флангового удара тоже нет. Гонцы перебирались тем временем через реку. Капли воды, летевшие из-под копыт лошадей, блестели на солнце.
— Может быть, я все-таки зря послал их? — пробормотал хан себе под нос. — Их правое крыло стоит прямо против моего левого, и это китайцам надо сейчас опасаться окружения. Это мои воины могут взять их в клещи, мой!
Какое-то время он невидящими глазами смотрел на белые магнолии, а когда вновь обратил свой взор к горам, увидел, что китайцы надвигаются на его воинов слева, окружая их.
— Значит, все-таки… — вздохнул хан. — Слишком поздно!
Гонцы повернули вспять.
Хан слез с жеребца и сел на прежнее место. По его оценке, китайцев, противостоящих его левому крылу, было вчетверо больше, чем монголов, и он, мысленно списав этот пятитысячный отряд со счетов, стал следить за общим ходом сражения.
В этом отряде, образовавшем выступ левого крыла, находился Тенгери со своим десятком, Бат, Тумор и чрезмерно пылкий Аслан. Ни десятники, ни даже сотники не осознавали пока того, что уже стало ясно хану. Тем более они не догадывались о том, что властитель как бы уже похоронил их всех. Они были в полной уверенности, что правое крыло китайцев справа от них. Ведь именно там они его и видели, а слева не было вроде бы ни души. Чтобы не попасть в клещи, они при подъеме в гору старались избегать соприкосновения с противником — вот почему и сформировался этот выступ на левой оконечности крыла.
А сейчас они карабкались вверх по темному и тесному ущелью: по десять воинов в охранении спереди и сзади, а всего восемьсот человек. Лошадей пришлось оставить. В ущелье день словно и не наступил. Да здесь и вообще-то вряд ли бывало светло, небо над головами казалось отсюда тоненькой голубой полоской, и полоска эта обрывалась всякий раз, когда каменные глыбы, свешивавшиеся сверху подобно складкам на животе Будды, почти совсем накрывали ущелье. В ущелье было холодно и сыро, и когда кто-то произносил несколько слов, каменные стены отзывались гулким эхом. Так они карабкались уже много часов подряд, все выше и выше, и каждый из них думал о том, какие лица будут у ошеломленных китайцев, когда почти у самой вершины горы у них за спиной неожиданно объявятся эти «варвары с севера». Однако чем дольше это восхождение длилось, тем больше становилось тех, кто начинал роптать. Они проклинали китайские горы, которые приходилось преодолевать на своих двоих, и мысленно спрашивали себя, что же это за бой такой будет, если даже лошадями не воспользуешься?
Даже всегда готовый к повиновению Бат не мог припомнить ни одного похода, в котором он бился бы в пешем строю.
— Монгол без коня, — сказал он, — все равно что орел без крыльев!
— У меня ноги болят, — простонал Тумор, останавливаясь.
— Вот видите! — проговорил Бат, прислоняясь к каменной стене. — У него разболелись ноги. Вы когда-нибудь слышали, чтобы монгол жаловался на боль в ногах? А сегодня и у меня они разболелись! А все почему? Потому что мы не на лошадях!
— Прыгаем тут по камням, как дикие козы, — пробурчал в свою очередь Тенгери. — Разве не сам хан сказал: «Я родился в седле, в седле я и умру»?
Вдруг в ущелье с грохотом покатились большие камни, которые разбивались на мелкие осколки. К узенькому небу — а небо было высоким и тонким, как голубая ленточка, — полетели крики, стоны, проклятья, отрывистые приказы. Но никто глаз к нему не поднимал, все старались вжаться в спасительную расщелину или спрятаться за большим валуном. Около ста человек издали крики в последний раз в жизни, и когда ущелье тысячекратно повторило эти крики, сами воины были уже мертвы.
— Ах, какие болваны! — мычал Бат, втискиваясь в неширокую расщелину всем телом с такой силой, будто надеялся ее раздвинуть. — Ну и болваны же! Они приняли нас за отступающих китайцев. Ведь это же наши! Болваны, какие болваны!
Тенгери вытер кровь с лица. Он подумал сначала, что это его кровь, и ощупал голову, но никакой раны не обнаружил; сколько ни искал, ран на теле тоже не оказалось. И тут он увидел Тумора, который лежал посреди лужи, в которой еще не растаял снег. Снег окрасился в красный цвет. Теперь Тенгери понял, чья на нем кровь!
После того как они нашли для себя укрытие, камни сверху сбрасывать перестали.
Тенгери не терпелось снова увидеть голубую полоску над головой. А она тем временем из голубой превратилась в золотистую. И из этой желтизны вниз свешивались неразличимые отсюда головы, казавшиеся до смешного маленькими. Однако никакого страха эти люди не испытывали. И действительно, им-то никакая опасность не угрожала. Они могли следить за происходящим внизу сколь угодно долго и в случае чего помешать любому движению врага.
— Китайцы! — сказал Тенгери Бату и сразу же повторил еще раз: — Да, это китайцы!
— Чушь! Откуда им здесь взяться? — Бат, стиснутый расщелиной, никак не мог пошевелить головой и неба над собой не видел. Если бы смог, то сразу же понял бы, насколько он не прав, и его слабая надежда рассеялась бы как дым. — Эй, вы там, мы — монголы! — крикнул Бат.
Но сверху ему никто не ответил, только в ущелье кто-то сказал:
— Это им и без тебя известно!
— А теперь я даже их шапки вижу! — крикнул ему Тенгери.
— Какие они у них, кожаные?
— Соломенные!
— Не может быть! Отсюда, снизу, разве что толком разглядишь? Нет, не может быть, откуда им здесь взяться, китайцам-то?
Сверху, прямо под ноги Тенгери, свалился камень.
— Тебя не задело? — спросил воин, стоявший напротив Тенгери.
Тенгери промолчал, ощупывая, как и незадолго до этого, голову.
— У тебя кровь идет!
— Да, голову задело. Повезло мне, что осколочек такой маленький оказался.
Теперь он уже не смотрел на небо, опасаясь высунуться из расщелины.
Спустились сумерки, и как раз в это время в ущелье, мягко кружась, опустилась свалившаяся с чьей-то головы соломенная шапка. Можно было подумать, что китайцы, услышав слова Бата, решили избавить его от последней тени сомнений. Шапка, напоминавшая маленькую желтую луну, зацепилась и повисла на кустике полыни, который выбивался из щели совсем рядом с Батом.
— Китайская шапка! — прошептал Бат, не в силах произнести больше ни слова.
Вскоре стало так темно, что было все равно, куда смотреть. Ни тоненькой полоски неба не видно, ни единой звезды, ни луны, только соломенная шапка прошелестела, свалившись с кустика.
Некоторое время спустя в ущелье послышался свистящий шепот: это до них добрались трое гонцов, чтобы узнать от тысячника, в каком положении они находятся. Когда один из гонцов споткнулся, у него из-под ног покатились мелкие камешки, а сверху на этот звук сразу же сбросили несколько больших камней. Когда они разбились, в темноте брызнули искры. Но на сей раз никого не задело, и всем гонцам удалось уйти из ущелья целыми и невредимыми.
Несмотря на то что большинство воинов стояло, согнувшись в три погибели, некоторые из них заснули. А Бат постанывал, проклиная на все лады узкую каменную нору, но о том, чтобы выйти из нее и найти убежище поудобнее, у него и мысли не было.
— Ты, никак, заснул? — тихонько спросил он Тенгери.
— Нет.
— Тогда расскажи мне что-нибудь, чтобы я не думал все время о том, как у меня ломит кости.
Тенгери не ответил. Его не оставляли воспоминания об Ононе, о голубом Керулене и его пышных зеленых пастбищах, о тучных верблюдах и холодном кумысе. Он мысленно видел сидящих на мягкой меховой подстилке в своей юрте Герел и Ошаба, на которых сквозь открытое круглое отверстие в крыше поглядывали звезды. «Наверное, Ошаб сейчас тоже думает обо мне и желает, чтобы я и в битвах был таким же храбрым, как в родной степи, где я сторожил табун и белого жеребца, оберегая их от волков и непогоды. Герел же наверняка мечтает о золоте, серебре, шелке и слоновой кости и надеется, что я много чего привезу ей из волшебной страны Хин».
— Выходит, ты все-таки спишь, — сердито пробурчал Бат.
— Нет, не сплю. Даже если бы захотел, никак не смог бы, потому что мне все время капает за шиворот вода.
— Тогда стань боком и поговори со мной. Или открой рот и напейся, — предложил Бат.
— У меня нет жажды, Бат.
— Вот как! Вода у него есть, а жажды нет. А у меня во рту все пересохло, а воды нет. Да, это и впрямь страна чудес, эта империя Хин.
Время от времени сверху продолжали сбрасывать камни: либо китайцы услышали, как переговариваются монголы, либо заподозрили, что узники ущелья вот-вот сделают попытку вырваться из плена.
Потом надолго наступила полная тишина.
В ущелье сквозило. Где-то что-то скрипнуло, начало царапаться, зашелестело.
— Что это было? — прошептал Бат.
— А ты что, боишься? — вопросом на вопрос ответил Тенгери.
— Боюсь? Опять хочешь напомнить о моем сне на каменной стене у Онона? Нет, Тенгери, страх мне неведом. Но как же я хочу есть и пить!
Тенгери рассмеялся и посоветовал ему набраться терпения по крайней мере до полудня завтрашнего дня. А если их и тогда не вызволят, Бат, мол, уменьшится в размерах, и тогда стоять ему в этой норе будет удобнее.
И снова до их ушей долетел свистящий шепоток. Это вернулся один из гонцов и принес весть, что найти военачальника левого крыла, а это был Джучи, он не сумел, потому что войска хана давно перешли через горную гряду, а китайцы бегут без оглядки и на вершинах полыхают победные костры.
— Видите, как оно вышло, — подытожил Бат. — Они прокатились мимо нас, а правое крыло китайцев нависло над нами и заваливает камнями.
— Они о нас забыли, — добавил Тенгери.
— Забыли, — повторил за ним Бат и спросил гонца, где двое других.
— Их поглотила ночь.
— Вот как, ночь, значит? А не было у этой ночи длинных ножей и соломенных шапок на головах?
Однако гонец уже исчез, а немного погодя появился их тысячник с приказом идти под покровом ночи на прорыв. Они скользили на коленях, карабкаясь по скалам и валунам, и никто из них не видел того, что творилось впереди: чтобы избежать больших потерь, они вытянулись в широкую цепь. Не раз и не два случалось так, что кто-то задевал ножнами меча по каменной стене, и китайцы сразу обрушивали на их головы град камней. Несколько раз они швыряли вниз связки горящего чертополоха, но те быстро гасли, лишь ненадолго распространяя запах препротивного дыма.
Было, наверное, далеко за полночь, когда тишину разорвал сдавленный крик — и снова все стихло. Воины прижимались к камням и, затаив дыхание, обращались в слух. Никто не знал даже имени правого или левого соседа. Но тяжелые глыбы в ущелье как будто больше не сбрасывали…
Так, замерев на месте, они пролежали довольно долго.
Ни звука вокруг.
Ни скрипа, ни шелеста.
«Может быть, китайцы сейчас спускаются к нам?» — подумал Тенгери.
Он лежал между двумя валунами с кинжалом в руке и вслушивался в немую тишину. И вдруг мимо него со звоном прокатился мелкий камешек. Кто-то перед самым его носом растоптал кустик полыни. Тенгери по-кошачьи бросился на него сзади и подмял под себя.
— Это я!
— Аслан?
— Да, это я, Аслан! Мне нужно к тысячнику. Хорошенькое дело! Если каждый, мимо кого я прохожу, будет сбивать меня с ног и тащить в свою нору, мне до тысячника живым не добраться! Слушай: китайцы подкрались к нашему охранению и зарезали их, как ягнят. Так вот, нам нужно по условному знаку навалиться на них с двух сторон и передушить.
— А какой это будет знак, Аслан?
— Свист сурка.
— Хорошо!
— Я пошел дальше.
«Значит, в ущелье спускаются китайцы. Надеюсь, оставшиеся наверху камней на своих бросать не будут», — подумал Тенгери.
Прошло совсем немного времени, пока Тенгери не увидел в двух шагах от себя первого крадущегося китайца. Он узнал его по желтым лыковым башмакам, которые светились, как волчьи лапы. От неожиданности он даже не сразу стал считать, сколько китайцев проскользнет мимо него, и начал вести им счет, когда их прошло уже довольно много.
«Сто шесть, сто семь, сто восемь… — беззвучно шептал он. — Наверняка вот-вот один из китайцев нарвется на монгола, и, если все пойдет как задумано, тут-то сурок и свистнет».
Тенгери никакого страха не испытывал: китайцам не уйти отсюда живыми. Стоит прозвучать этому тоненькому свисту, и каждого из них схватят сзади за ноги. Конечно, не все китайские воины будут в этот миг стоять перед одной из расщелин или у валуна, но нападение врасплох срабатывает всегда.
И вот он, свист сурка в тишине. Тенгери схватил стоявшего рядом китайца за ноги и рванул на себя. Китаец упал. Тенгери боролся с ним, как дикий зверь, и когда схватил его за глотку, то вдруг почувствовал, что китаец уже мертв: ударился, наверное, мгновение-другое назад головой о камень. Тут и там слышался еще шум борьбы, и эхо усиливало его.
А когда настало утро, они снова увидели над собой такие же смехотворно маленькие, как и накануне, силуэты. Но эти были не в соломенных шапках и никаких камней им на головы не сбрасывали. Это были воины левого крыла, которые в начале похода провели большой отвлекающий маневр у восточного «шва» Великой стены, а теперь, после сложного перехода и изматывающих боев у крепостей провинции Шаньси, добрались до этой горной гряды, где и уничтожили остатки правого крыла китайцев.
Из тысячи, в которой находился Тенгери, в живых осталось четыреста пятьдесят два воина. Они были приданы одному из отрядов левого крыла, где от тридцати тысяч воинов осталось около половины.
Теперь они стояли и лежали на вершинах гор, где битва отгремела еще вчера вечером. Отсюда было отлично видно, как три главных конных клина войска великого хана несутся по равнине по направлению к Йенпину. А за ними тянулись караваны навьюченных верблюдов и вереницы повозок.
В утреннем мареве уже можно было различить размытые контуры огромного города. Он повис в тумане, словно остров в море. Туман был белесым, а город — желтым. Кое-где вспыхивали нежно-зеленые пятна — то были крыши дворцов и больших летних беседок. Сам Йенпин был окружен несколькими рядами защитных стен с башнями и валами: город как бы не желал никого ни впускать, ни выпускать.
Бат сказал Тенгери, что во время похода на Хси-Хсию он тоже видел большой город, но с этим Йенпином — никакого сравнения! И хотя он часто думал о столице Сына Неба как о самом большом городе в мире, но таких размеров он даже представить себе не мог.
Тенгери вообще впервые увидел большой город, потому что Дзу-Ху рядом с Йенпином показался бы одной из многих китайских деревень, которые им повстречались на пути.
— Сколько в нем жителей, Бат?
Десятник задумался. Он этого, конечно, не знал, но в присутствии Тенгери всегда старался подчеркнуть, какой у него богатый опыт. Поэтому он уверенно ответил:
— Примерно в восемь или десять раз больше, чем воинов у нашего хана!
— Тогда нам им не овладеть!
— Мы им овладеем, Тенгери! — резко оборвал его Бат.
Теперь, когда им подвели запасных лошадей, в нем проснулся бывалый воин.
— Где наш хан, там победа!
И, оседлав своего гнедого, он привычно щелкнул плеткой.
Жеребец Тенгери, которого ему подарил сам хан, потерялся, и он оседлал каурого, у которого над правым глазом было белое пятно с черным кружочком посередине. Бат рассмеялся и пошутил:
— Да он у тебя косит!
К вечеру третьего дня хан с тремя клиньями конницы достиг стен столицы китайского императора и окружил ее. При этом он из осторожности не приближался к его укреплениям ближе чем на два полета стрелы.
О том, чтобы немедленно взять Йенпин приступом, не было и речи.
Вместе со своими военачальниками хан несколько раз объехал вокруг городских стен, видел выглядывавших из-за них воинов Сына Неба и позолоченные верхушки башен и пагод. Мягкий вечерний свет окрашивал город в нежно-розовые тона. Когда Чингисхан закончил объезд города, совсем стемнело и на высоких городских стенах зажгли факелы, а по другую сторону ворот разложили, наверное, большие костры. Молча, в тягостном раздумье возвращался Покоритель Стены в свой походный шатер, который внешне ничем от остальных не отличался, чтобы враг не смог догадаться, под какой крышей сомкнет веки Чингисхан. Серый шатер стоял на невысоком возвышении посреди множества юрт, шатров и кибиток, и, прежде чем войти в него, Чингисхан еще раз оглянулся в сторону города.
Издалека тысячи горящих факелов походили на горящие глаза или на бесчисленные красные рубины ожерелья, обнимавшего город.
— Пусть придет Мухули, — сказал хан.
Когда тот появился в шатре, он обратился к нему с такими словами:
— Я со своим войском отхожу и город брать не буду!
— Но, мой хан…
— Город слишком велик! Даже если я и возьму его, удержать его невозможно!
— При строжайшем порядке мы сможем удержать его, мой хан, — возразил Мухули.
Чингисхан покачал головой и заметил, что даже если сжечь большую часть Йенпина, останется достаточное количество укромных мест и подземных укреплений, откуда китайцы будут делать вылазки и оказывать сопротивление неизвестно сколько времени.
— Все равно стоит попытаться! — настаивал военачальник.
Чингис встал:
— Попытаться? Я никогда не делал попыток, Мухули! Я всегда делал только то, в чем был уверен, когда видел впереди победу! И потом: а если попытка окажется неудачной?
— Тогда пойдем на другие провинции!
— Что мешает мне сделать это прямо сейчас? Мы так и поступим: я превращу их империю в пустыню, я разорю, сожгу, разграблю и уничтожу ее. Покончив с одной провинцией, я наброшусь на другую, а Джебе со своими тридцатью тысячами воинов бросится на восток, на край света, к морю, из которого утром встает солнце. Если же я нападу на этот город и не возьму его, это будет не просто неудачей, это умалит мое величие, передо мной перестанут преклоняться. Они привыкли к моим постоянным победам, и враги и друзья. Но стоит мне хоть один-единственный раз оступиться, потерпеть поражение — что они скажут? Можем ли мы сегодня знать, кто меня после этого оставит и кто против меня поднимется?
— Когда мы выступаем? — спросил военачальник.
— Завтра днем! Не падай духом, мой друг! К этому городу, к этому гнезду желтого отродья мы еще вернемся! А тем временем узнаем, как брать такие большие города!
Хан жестом подозвал к себе слугу, который подал ему маленькую шкатулку из слоновой кости. Чингис открыл ее и с улыбкой протянул Мухули:
— Она принадлежит тебе, друг мой.
Военачальник достал из нее большую, тяжелую золотую монету с профилем хана и надписью: «С тобой все силы Вечного Синего Неба!»
— Нравится она тебе, Мухули?
Военачальник кивнул.
— И ты узнал меня на ней?
— Это ты, мой хан! Нет, правда, это твое и только твое лицо, твоя голова! Кто же способен сотворить такую красоту?
— Мои ремесленники и художники, Мухули, — и, несколько понизив голос, добавил: — Но не монголы, а уйгуры, китайцы и люди из Хси-Хсии, перешедшие ко мне на службу. Впредь тебе достаточно показать эту монету моим стражам и телохранителям, и тебя допустят ко мне в любое время дня и ночи — даже если я в это время трапезничаю, сплю, размышляю и забавляюсь с женщинами. Кроме тебя такими монетами с моим профилем обладают только пятеро.
Мухули отдал глубокий поклон и поблагодарил властителя, однако, прежде чем покинуть шатер, он еще раз обернулся и предостерегающе сказал:
— Не воспримут ли китайцы твое отступление от города как знак твоей слабости, мой хан?
— Нет, Мухули!.. После того, как я повсюду побеждал и бил их? Нет-нет, мой друг, наоборот: это их смутит и озадачит!
Той же ночью Сын Неба собрал в Покоях Доброй Мысли своего дворца в Йенпине Большой Совет, на который пригласил полководцев, мандаринов и других важных сановников. Вопрос обсуждали один: что предпринять? За спиной Сына Неба, на высокой стене, обитой блестящим белым шелком, висела картина художника Хао Фу, изображавшая Чингисхана чудовищем, не то зверем, не то человеком, но чудовищем смехотворным. И хотя в прошлом эта картина немало повеселила императора, сейчас, когда «варвар с севера» со своим войском обложил город, ему было не до смеха, так же как ему было не до смеха в тот день, когда он получил весть, что его войско в горах разбито.
— Мы должны предложить голодному монгольскому волку подарки, — сказал один из полководцев. — Драгоценные камни, слоновую кость, золото и сто красивейших женщин. Ему только этого и надо, ибо кочевники превыше всего ценят все блестящее и сверкающее. Может быть, тогда он отступит?
— Мудро ли это, полководец? — спросил император, и по тону его все поняли, что он не спрашивает, а отвергает его совет.
И тут же многие члены покорно подхватили: нет, это ни в коем случае не мудро!
Кое-кто ограничился тем, что просто-напросто несколько раз повторил вслух вопрос императора, а остальные важные сановники молчали, молчали, осторожничая и выжидая: это были самые верные, но не самые умные люди из тех, что собрал вокруг себя Сын Неба. Самых смелых, самых честных и откровенных, и среди них полководца Великой стены, император давно бросил в темницу.
— Подарки! Подарки! — повторял он. — Разве если мы принесем ему дары, он не сочтет, что мы объяты страхом? Он грабит, он бесчинствует в нашей империи! И за это мы должны еще возблагодарить его?
— Но если мы этим спасем нашу столицу? — осмелился стоять на своем первый полководец.
— Ну что ты за полководец? Твердишь о дарах и спасении, вместо того чтобы ответить на вопрос: как ты собираешься сражаться с ним и победить орды варвара? Я хотел услышать, к какой хитрости ты прибегнешь, чтобы заманить его в западню!
Однако полководец не унимался:
— Но разве дары не хитрость своего рода?
Члены Большого Совета внутренне содрогнулись. Упрямство полководца превратило их лица в застывшие маски.
Император же поднялся с трона и проговорил:
— Ты глупец, а не полководец! Ты хочешь сделать этой вонючей степной крысе подарки, чтобы разжечь ее аппетит. Разве не известно, что, если подарить кому-то коня, он назавтра придет и потребует в придачу повозку?
— Когда мы придем к нему с дарами, — присовокупил один из мандаринов, — он скажет: этого слишком мало. И придется прийти с новыми. А он снова скажет: и этого слишком мало. Ибо этот дикий кочевник — необузданный хищник, как и всякий волк. И что нам тогда останется? Одарить его сверх всякой меры!
— Так оно и есть! — подтвердил Сын Неба.
Ободренный поддержкой императора, мандарин повысил голос:
— Мы можем дать ему сколько угодно, а он постоянно будет твердить: «Но ведь у вас есть еще!» — и нападет на нас все равно!
Когда за окнами забрезжило утро, было принято решение оборонять Йенпин от варваров. Тем более что за последние сто лет никакому врагу не удавалось не то что овладеть городом, но даже и близко подойти к его стенам.
Прежде чем отпустить их, император сказал, что, по старинному обычаю, в тяжелые времена следует открывать темницы и выпускать наказанных, чтобы они, вновь обретя свободу, воспользовались бы ею во благо и помогли императору защитить страну. При этом он прежде всего думал о полководце Великой стены и его соратниках, в которых сейчас нуждался. Однако Сын Неба ни словом не обмолвился о том, что они долгое время провели в темнице без всякой с их стороны вины, ибо их предсказание и предупреждение: «Чингисхан идет!» — подтвердилось полностью.
— Я их помиловал! — вкрадчиво проговорил он и добавил: — И возвращаю им их чины и должности!
Едва он проговорил это, как в Покои Доброй Мысли ввели запыхавшегося гонца, который принес весть, что «северные варвары» сняли осаду города и отходят на место большого сбора. Можно предположить, что они уйдут совсем.
— Уйдут? — император вскочил и нервно рассмеялся. — Уйдут? Слыханное ли дело: голодный волк бежит от добычи вместо того, чтобы утолить свой голод? Уйдут? Это западня!
— Это западня! — повторили вслед за ним некоторые члены Большого Совета, а другие согласно закивали; все поднялись со своих мест и не сводили глаз с Сына Неба. Император первым делом отменил только что объявленное помилование. То ли он заподозрил кого-то в измене, то ли его подтолкнула к этому неуверенность. А затем приказал одному из полководцев отправиться к вождю «варваров» и попытаться разгадать его замысел.
— Тебе не составит труда с помощью льстивых слов склонить этого кочевника к откровенности.
Полководец поспешил оставить дворец и на лошади из императорской конюшни поскакал в сопровождении двух сановников за городскую стену. У одного из них было в руке белое знамя с изображением красно-желтого дракона, этим они давали монголам понять, что посланы на переговоры. Когда они достигли охранения монголов, к хану послали гонца с известием об их появлении.
Чингисхан сказал Мухули:
— Оставайся со мной, мой друг. Ты видишь, они в страхе и пожелали узнать, почему я отступил.
— И что ты им скажешь? — спросил военачальник.
— Много — и ничего!
— Как мы примем их, мой хан: как врагов или как гостей?
— Как гостей. Но если они нанесут нам оскорбление или заденут нашу честь, то…
Хан не закончил мысль, он вернулся на свое место на северной половине шатра и опустился на невысокий трон, покрытый шкурой рыси. Мухули в ожидании китайцев оставался у входа, а за его спиной стоял писец Тататунго, он же и переводчик. Из осторожности Чингисхан отказался от мысли воспользоваться для этой цели услугами китайского полководца Лу.
Хан подал знак. В шатер вступил императорский посланец.
Он отдал глубокий поклон Чингисхану и как только открыл было рот, чтобы произнести подобающие такому случаю слова приветствия, слуга протянул ему позолоченную фарфоровую чашу с холодным молоком и сушеные фрукты.
— Был ли твой путь приятным, полководец? — вежливо осведомился хан, оглядывая его с ног до головы. — Принесите мягкий платок, чтобы высокий гость мог стереть пот со лба.
— Я… — невнятно выдавил из себя китаец.
— Да-да, я вижу, тебе досаждают мухи. Извини моих слуг за это упущение.
Он сделал знак рукой, и слуги принялись помахивать около китайского посланца веерами из страусовых перьев, делая вид, будто отгоняют назойливых насекомых.
— Пей, пей! — настойчиво угощал Чингисхан, и посланник через силу допил большую чашу до дна, до последней капли. Когда слуги приняли ее из его рук, хан, расплываясь в улыбке, предложил: — А теперь угощайся фруктами, и пусть мои вопросы не слишком тебя отвлекают! Что у тебя за лошадь?
— Она из конюшни императора. А мне…
— Да?
— А мне поручено передать вам, великому императору всех народов степи, привет от Сына Неба.
— Как он поживает? Хорошо ли ему спится, радуют ли его яства, и вообще, чем он наслаждается, когда свободен от своих небесных обязанностей?
— Рисует! Пишет картины!
— Он рисует, — повторил Чингисхан, пряча в усах удовлетворенную улыбку. Улыбнулся и Мухули, и даже переводчик, лишь слуги стояли с каменными лицами.
— И что же он рисует? — допытывался Чингис. — Город?
— Горы, озера, деревья, попугаев и беседки.
Слуги принесли китайскому полководцу, а также Мухули и самому Чингисхану тяжелые серебряные кубки с крепкой рисовой водкой.
— Мне запрещено принимать во время переговоров крепкие напитки, чтобы не уронить достоинства и не потерять нити мыслей, — сказал китаец.
— О-о! — Чингисхан сделал удивленное лицо. — А я хотел выпить с тобой за здоровье вашего императора! Неужели я должен отказаться от этого только потому, что таковы китайские церемонии?
Хан выпил, и, когда он оторвал от губ кубок, полководец тоже выпил и поспешил объяснить:
— Нет, за здоровье моего императора мне пить не запрещено, мне лишь не разрешается принимать крепкие напитки прежде, чем я передам вам то, что поручено мне моим повелителем.
— Но ты все-таки выпил, — веселился Чингисхан.
— Мог ли я вас обидеть? — поклонился хану китаец. — Да будет мне позволено передать вам слова Сына Неба?
— Садись, — предложил Чингис.
— Я должен произнести эти слова стоя!
— Почему это?
— О-о, есть слова, которые могут показаться смешными, если их скажешь сидя.
— Будь по-твоему!
Китаец набрал полную грудь воздуха и сделал при этом такое лицо, будто ему не доставляет ни малейшего удовольствия выполнять поручение императора.
— Сын Неба, — начал он, заметно волнуясь, — спрашивает, почему вы вторглись в его страну. Он полагал, что с вами, монголами, он живет в мире!
Снова появились слуги с кубками рисовой водки.
Мухули прошептал что-то на ухо переводчику, тот склонился перед полководцем, теперь уже сидевшим, и прошептал:
— Выпейте за здоровье нашего хана!
— Мне это запрещено! Я уже замечаю, что… — так же шепотом ответил тот переводчику.
— Молчите и пейте! — зашипел на него переводчик.
— Как, ты не желаешь выпить за меня? — Хан сделал вид, что невесть как обиделся, и откинулся на спинку трона. Подняв глаза к деревянному перекрестью под крышей шатра, он сказал: — Ты можешь оставить нас, полководец. И передай вашему императору: я выпил за его здоровье, а его посол отказался осушить кубок за мое здоровье. Это оскорбляет наши законы гостеприимства, и я буду считать тебя моим врагом!
Быстро вскочив на ноги, китаец воскликнул:
— Я выпью!
И снова выпил до дна, до последней капли. Стоявший за его спиной Мухули улыбался во весь рот. Этот маленький розыгрыш был задуман для того, чтобы осадить посла китайского императора и дать ему понять, что он представляет слабейшую сторону и должен вести себя скромно.
Как-никак хан велел ему покинуть шатер, а он предпочел выпить. А это вот как истолковывается: ладно, я выпью за ваше здоровье, пусть и вопреки приказу моего повелителя, но выпью!
Чингисхан вовсе не собирался отсылать посланника прочь, но теперь его молчаливое согласие на то, чтобы полководец остался в шатре, следовало понимать как великодушное прощение. И китаец опять оказался слабейшей стороной на переговорах и должен был стерпеть, что вместо того, чтобы отвечать на его вопросы, хан выспрашивает его самого.
— Странно, — начал Чингисхан, — но ваша огромная империя разделена, по-моему, на две части: на севере правит император династии Хин, а на юге — император династии Сун{20}. Они, конечно, едины в своих устремлениях, — добавил Чингисхан, хотя отлично знал, что все обстоит как раз наоборот.
— Едины? Разве вам не известно о том, что мы воюем с сунцами?
Слуги внесли большие чаши с жирным бульоном из баранины.
— Это волшебный, живительный навар моих поваров, — сказал Чингис. — Если ты похвалишь его, это моих людей очень порадует! — И, не вдаваясь пока в суть отношений между Хином и Суном, хан поинтересовался: — А как поживает князь Ляо?
— Он подданный моего повелителя. Жив-здоров!
— Счастлив ли он? — Это была явная издевка.
Полководец поставил чашу с наваром на низенький столик.
— Как он может быть счастлив? Сто лет назад Ляо властвовали над всеми китайцами, а потом их свергли хиниты!
— Ты сказал «хиниты», а не «хинцы», полководец?
Китаец смутился и снова взял чашу в руки.
— Оставь ее! Навар уже остыл. — И Чингисхан велел принести свежий навар в новых чашах.
— Когда я говорю «хиниты», я хочу сказать, что сам я из рода Ляо!
— Понимаю, понимаю! — Чингис с удовольствием потянулся и бросил взгляд на Мухули.
Сжав ладонь в кулак, военачальник отставил большой палец, что значило: все идет как нельзя лучше. И хан решил нанести следующий удар без промедления:
— Тогда у этих… — он сделал паузу, словно искал подходящее слово, — тогда у этих хинитов, как ты их называешь, два противника: на юге — империя Сун, а внутри страны — князь Ляо. Ведь у него тоже есть сторонники?
— Стоило бы его иначе опасаться?
Появились слуги с подносами, на которых лежали куски баранины. В то время как китаец аккуратно отрезал серебряным ножиком небольшие кусочки мяса и бросал их в рот двумя палочками из слоновой кости, Чингисхан взял большой кусок на ребре прямо руками и с удовольствием впился в мясо, отрывая его крепкими зубами.
— Меня удивляет, что послом ко мне Сын Неба выбрал человека из рода Ляо, — осторожно, как бы прощупывая почву, проговорил хан.
Полководец ответил, что император не сделал бы этого, знай он о его родственных связях.
— И теперь ты вернешься к нему?
— Я должен.
— И что ты ему сообщишь?
— То, что он желает услышать.
— Он спросит тебя, выведал ли ты, почему мои воины отступили от города, вместо того чтобы идти на приступ.
— Я отвечу ему, что это западня!
— Западня? — рассмеялся хан.
— Да. Раз император подозревает это, я его в этом мнении укреплю.
Хан встал:
— Западня! Император подозревает это! И ты его в этом мнении укрепишь! Скажи, полководец, почему ты настроен против своего императора?
— Вы ведь сами спросили меня: «А как поживает князь Ляо?» И я ответил: «Жив-здоров». А потом добавил еще, что сам я из рода Ляо.
— Все так и было!
— Ваш интерес к нему и его сторонникам открыл мне, что вы намерены вступить с ним в союз.
— Верно подмечено! Ты смелый человек, полководец!
— Вы отводите войско от города и поворачиваете на север. Там вы провозгласите князя императором и вместе с его воинами пойдете войной на империю Хин.
Чингисхан не ответил ему, словно о чем-то мучительно размышляя. И наконец проговорил:
— Я восхищен твоим умом, полководец. Хочешь остаться у меня, поступить ко мне на службу?
Посол покачал головой:
— Я сослужу куда большую службу моему роду, если вернусь к Сыну Неба.
— Согласишься ли ты передать мой подарок князю Ляо?
— Соглашусь! — расцвел в улыбке китаец. — Но он должен быть таких размеров, чтобы я мог спрятать его под халатом.
— Драгоценные камни?
— Да. И еще несколько слов в придачу, чтобы он все понял.
— Он может на меня рассчитывать!
— Да продлит эта весть его годы! — ответил посол и неторопливо, с достоинством направился к выходу из шатра.
Чингисхан с Мухули постояли еще немного на вершине холма, глядя вслед удалявшемуся послу и двум сановникам.
— Князь Ляо — вот клич победы, дорогой Мухули. Князь Ляо! Да, я и впрямь возьму его в союзники. Естественная вражда — самая страшная вражда!
— Мне этот китаец показался чрезмерно болтливым. Стоит ли ему доверять?
— Разве не все они щебечут, как ласточки?
Между тем Мухули оказался прав, потому что китаец был не отпрыском старинного рода князей Ляо, а верным слугой своего императора, который в свою очередь мог завлечь монголов в западню. Когда он предстал перед Сыном Неба и положил к его ногам мешочек с драгоценными камнями, император обратился к своим придворным с такими словами:
— Вот видите, это настоящий полководец! Вместо того чтобы повезти этим степным варварам подарки от нас, он принес нам подарок от них. И выведал вдобавок все их замыслы.
Глава 7 НА КРАЮ СВЕТА
Осень в этом году пришла очень рано, и хан со своим войском, отойдя от Йенпина, быстро двигался на север. Ему удалось захватить огромные императорские табуны, лишив его тем самым даже самой возможности в ближайшем будущем посадить воинов на лошадей, создав новую конницу. Бои, в которые он вступал, были местного значения, но китайцы несли большие потери. Сделав все необходимые для своего войска запасы на зиму, он поспешил в оазис Доломур — там, на самом краю пустыни Гоби, было известное ему небольшое озеро, возле которого он решил перезимовать. И отсюда же послал посольство в Хитан к старому князю Ляо.
Джебе он приказал идти с тридцатитысячным войском «на край земли», к Желтому морю, и, дожидаясь весны, стать там лагерем на зиму.
К побережью они вышли ночью. Дул сильный ветер, холодный и влажный. Они стояли у «края земли» с влажными лицами, и хотя война была тяжелой и жестокой, в их глазах светилось чисто детское удивление: в эти мгновения они забыли обо всем, что осталось позади: о битвах, о смертях, о предсмертных воплях и оглушительном ржании лошадей, о голубом Керулене и Ононе, о тучных пастбищах и богатых рыбой реках своей родины. Они пришли к морю, а ведь никому из них не приходилось прежде видеть его. Ни Тенгери, ни тридцати тысячам остальных. Они и сейчас его не видели: ночь была черная, безлунная, но они слышали, как оно шумит, ощущали на губах его соль, а многих обуял страх перед его ревущими валами — наверное, они ростом с гору, эти валы! Кто их заставляет так реветь? Боги? Те самые, которые насылают бури на степь? Здесь буря так исхлестала море, что оно рыдало и неистовствовало, как исполинское чудовище.
— Всегда оно такое сердитое, это море? — спросил Тенгери.
И хотя он прокричал эти слова, а потом еще и повторил, Бат его не услышал: рев волн заглушал любой звук. «Здесь владычествует море, только море, и никто ему не указ», — подумал Тенгери.
Они простояли так до утра, по-детски удивляясь.
Они ждали дневного света и солнца, чтобы разглядеть как следует это чудовище, которое темнота прятала от их глаз. Но когда у горизонта появилась первая голубовато-розовая полоска между небом и морем, буря вдруг улеглась, а потом и пропала невесть куда. Высокие волны бились еще о береговые утесы, тело огромного чудовища еще вздымалось, но удары эти становились все более слабыми, и когда свет утра озарил море, его поверхность походила на бесконечное шелковое покрывало, блестящее и переливающееся.
Суровые воины стояли в почтительном молчании.
За их спинами всхрапывали лошади.
Вскоре вокруг стало совсем тихо.
Взошло солнце.
Сперва на воде появилось пятно, напоминавшее лужицу крови, а потом и все отражение кроваво-красного диска. Оно как бы подрагивало и расплывалось, во всяком случае Бату так показалось, потому что он сказал:
— Вот видишь, старики правду говорили: солнце утро за утром встает из воды и вечер за вечером уходит на другом конце земли обратно в воду.
— Думаешь, оно и правда выходит из воды? — спросил Тенгери.
— Сам не видишь, что ли?
— Я вижу, как оно поднимается между водой и небом. Там, откуда оно восходит, море, по-моему, кончается.
Бат энергично замотал головой:
— У моря так же нет конца, как и у неба. Когда ты стоишь в широкой степи и смотришь вдаль, ты видишь, как небо касается травы. Поскачешь в ту сторону на коне, а все остается по-старому: можешь скакать днем и ночью целыми неделями и даже месяцами, и все это время небо в дальней дали будет касаться земли. Конца этому нет, чем дольше ты скачешь, тем выше оно, небо, становится!
— Это правда, — сказал Тенгери. — Но где земля кончается, Бат?
— Чего проще: к востоку от нас безбрежное море и к западу от нас безбрежное море, а с севера и с юга мы отгорожены огромными горами, такими высокими, что через них ни коню, ни человеку не перейти — рухнут замертво! Так говорят ученые люди хана, Тенгери.
Утро выдалось ласковое и спокойное. Разъехавшись по берегу, монголы поставили свои кибитки и юрты неподалеку от глинобитных хижин китайских крестьян и пастухов. Джебе послал к Чингисхану в Доломур гонцов с вестью, что его войско достигло «края света».
К удивлению монгольских воинов, в китайских деревнях детей оказалось больше, чем овец, и это обстоятельство показалось им столь непривычным, что они начали присматриваться: а что же эти китайцы пьют и едят? И хотя китайцы поглядывали на своих завоевателей с некоторым недоверием, им льстило то любопытство, с которым те наблюдали, как женщины варят в горшках рис, фасоль или горох. Или как они перемалывают ячменное зерно, смешивают муку с молоком и водой и пекут на сковородах пышные темно-желтые оладьи. Они ели их с жареной рыбой, а иногда с маленькими зелеными плодами, которые они посыпали солью. Баранины они в пищу не употребляли, а лошадей у них не было. Лишь кое-где можно было встретить больших буйволов, лениво лежавших днем на желтой земле. В упряжках они не ходили, и на мясо их тоже не забивали. Иногда крестьяне запрягали их в приспособление, которое они называли плугом, и вскрывали с его помощью сухую землю. В эту землю, объяснили китайцы, они кладут фасолины и зерна ячменя, и если Небо оказывается благосклонным к ним, оно посылает на землю дожди, и тогда из одного зернышка вырастает сто. Монголы смеялись, слыша это, а некоторые повторяли без конца, что империя Хин и впрямь страна чудес. Осторожно пробуя китайскую пищу — некоторые сразу с отвращением сплевывали, — они объясняли им, что в своей родной степи сами едят только баранину или конину, причем один раз в день, вареную или в сыром виде, — безразлично. Некоторые спешили к своим лошадям и приносили сырое или сушеное мясо в тряпицах, разворачивали и показывали его китайским крестьянам. Китайцы непонимающе глядели на мясо и на воинов, потом монголы начали отрывать зубами куски сырого мяса и, смеясь, показывать им окровавленные зубы. Охваченные отвращением, китайцы с криками разбегались по сторонам — что мужчины, что женщины. А дети даже плакали и прятались за широкими юбками матерей.
Один из рыбаков осмелился остаться на месте. Он протянул монголам пригоршню блестящих сардинок — захотел узнать, едят ли монголы сырую рыбу. Однако монголы замотали головами и дали ему понять, что рыбу варят. Он подарил им этих сардинок, поклонившись при этом с таким видом, будто одарил их сверх всякой меры. Монголы же бросили рыбешек в песок, посмеялись над рыбаком и показали ему жестами, какую большую рыбу привыкли есть: этой, мол, нужно еще вырасти. Рыбак расстроился и пошел домой с невеселым лицом.
С того дня рыбаки и крестьяне говорили в один голос:
— Что правда, то правда: эти воины — дикари. Они едят мясо сырым, не знают риса, не знают ни ячменя, ни фасоли, ни гороха. Им неизвестен крестьянский труд, они не умеют сеять и, значит, не собирают урожая. Стоит ли удивляться, что они постоянно воюют: где они возьмут иначе то, чего у них нет?
Вот как они рассуждали, крестьяне и рыбаки, и их недоверие к монголам росло день ото дня.
Тенгери же, ко всему внимательно прислушивавшийся и приглядывавшийся, в глубине души был благодарен хану за то, что попал в империю Хин и даже оказался «на краю света» у восточного моря. Новое и незнакомое притягивало его с огромной, неумолимой силой, он делал для себя открытия чуть не каждый день. И это хоть как-то примиряло его с мыслью о том, что они принесли в эту страну ненависть и разрушения. Он пытался повторять за ними слова, потому что рассчитывал таким образом узнать от них побольше, он старался есть их пищу, потому что желал стать среди них своим и не хотел, чтобы они видели в нем врага.
В то время как большинство воинов сидели перед кибитками и играли бараньими костями на свою добычу — на золото, драгоценные камни и слоновую кость, пили рисовую водку, ссорились, дрались и даже набрасывались друг на друга с кинжалами, Тенгери бродил по деревне, поднимался на берегу на высокий утес и наблюдал, как рыбаки садятся в маленькие лодки в уютной, защищенной от всех ветров бухте и выходят в море. Оттуда, сверху, эти лодки очень напоминали острые листочки, плывущие по воде. Прошло совсем немного времени, когда Тенгери понял, кто это гонит лодки в море: ветер! Ему это показалось чудом из чудес: ни животные лодку не тянут, ни люди ее не двигают — все это дело рук ветра, который люди впрягают в свои лодки. Они закрепили на столбе посреди лодки льняное полотнище, привязали веревками и в него-то и ловят ветер, а он уже раздувает белое полотнище, как брюхо дракона.
В другой раз Тенгери долго смотрел на женщин и детей, собиравших на склоне холма листочки с шелковистыми волосиками со светло-зеленых кустов и бросавших их потом в плетеные корзины на груди. Когда он приблизился к ним, они перестали петь, но к нему не повернулись, а молча продолжали срывать листочки. Указав на них, он спросил, что это такое.
— Ча, — ответили они.
Он повторил за ними: «Ча!» — и удовлетворенно улыбнулся. Женщины и девушки захихикали и повторили это слово нараспев еще несколько раз. При этом они наклоняли головы вперед и указывали пальцами на рот: «Ча, ча, ча!»
Он снова повторил это слово, и все они закивали головами, но уже не хихикали больше, как бы давая понять, что он произнес его правильно. Однако он не понимал еще, для чего они эти листочки собирают и что с ними будут делать. Лишь когда одна из девушек сняла шерстяную тряпку с бронзового чайника и налила ему полную чашку ароматного напитка, он понял, что «ча» — это чай. Он знал об этом напитке, в их орду его привозили китайские купцы. Они кипятили воду на костре, растирали между ладонями сухие листочки и бросали в воду. Он сам никогда чая не покупал — слишком дорого этот чай обходился, торговцы требовали за него лучшие лисьи шкуры. Конечно, некоторые монголы пили чай, добавляя в него бараний жир и овечье молоко. Но когда Тенгери попробовал его сейчас, чай показался ему пряным и горьковатым на вкус. К радости девушек, он допил чай до последней капли. Они потирали глаза, а потом широко открывали их, как бы говоря: после такого чая не заснешь! Старуха, похожая на мужчину — у нее были черные усики и на остром подбородке тоже торчали волосы, — дернула Тенгери за рукав и подвела к большому валуну. Поднявшись наверх, она махнула Тенгери рукой: поднимайся, мол. Отсюда открывался вид далеко за пределы чайных плантаций, на крутой берег моря, в которое клином уходил могучий утес. На нем возвышалась башня. Крыша ее была в тени стройных кипарисов, тянувшихся за стеной в голубое небо. Вершины деревьев слегка наклонялись на ветру. Женщина, указывая рукой на эту башню, что-то говорила и говорила, а потом принялась оживленно жестикулировать, то улыбаясь во весь рот, то делаясь вдруг совершенно серьезной, а под конец взяла длинный нож и приложила его к своим дряблым векам, словно желая их отрезать.
Нет, Тенгери ничего толком не понял. Тогда старуха начала свое представление сначала. На сей раз оно было более вразумительным и медленным, говорить она больше не говорила. Вот о чем можно было догадаться: в стародавние времена на этом утесе у моря, на месте этой самой башни, жил в пещере буддийский монах, бедный и одинокий. Существовал он на подаяния жителей деревни. В один прекрасный день монах пришел к мысли, что у него остается слишком мало времени на молитвы и что он может это время продлить, если ему удастся молиться во сне. Однако, сколько он ни пытался, ему это не удавалось. Когда он просыпался на рассвете, ему сразу вспоминались его сны, но эти сны ничем молитвы не напоминали. Тогда он принял решение вообще не спать. Он провел без сна одну ночь, за ней другую, и всякий раз, когда сонливость его одолевала, он вскакивал и начинал ходить по пещере туда-сюда, потирая глаза. Но на третью ночь он до того устал, что сон его сморил. Он понял это лишь на другой день, когда его разбудили лучи солнца. Монах вознегодовал на самого себя, тер и тер глаза и вдруг воскликнул:
— Я все понял! Это они виноваты, мои веки! Как это я сразу не догадался!
Он взял острый нож и отхватил им свои веки во имя великого Будды. А потом выбросил их из пещеры. Из его век и вырос впоследствии куст с чудесными листьями, и если заварить ими горячую воду, то этот напиток лишит тебя сна.
— Ча, — повторила старуха, спускаясь с валуна.
Она радовалась, видя, что Тенгери понял все или почти все, о чем и поспешила рассказать остальным, собиравшим в плетеные корзины светло-зеленые листочки.
Тенгери эта история очень понравилась, и он с еще большим интересом смотрел теперь в сторону стоявшей на утесе башни. Его так и подмывало поскакать к ней прямо сейчас, но это было невозможно, потому что пришла очередь его десятка пойти на разведку, проверив, нет ли врага между Доломуром и побережьем моря. Ведь могло случиться и так, что часть китайского войска после снятия осады с Йенпина тоже выступила на север, с тем чтобы закрыть образовавшуюся между морем и оазисом брешь и приструнить вдобавок престарелого князя Ляо и его сторонников.
Тенгери, конечно, эти тонкости не были известны — не по чинам! Зато Джебе не забывал ни на час о том, что война еще только начинается…
Вечером того же дня выпало немного снега, и ночь выдалась холодной. Но с восходом солнца снег растаял, и они поскакали в глубь страны, переходя вброд неглубокие речушки, оставляя в стороне желтые холмы и желтые долины, на полном скаку пролетали сквозь березовые и каштановые перелески, избегая показываться в деревнях и вблизи многочисленных болот. Люди им по пути почти не попадались. Возвращаясь обратно, они углядели на равнине одинокого пастуха, который привел к водопою стадо верблюдов. Три навьюченных верблюда опустились на колени в пыль, а остальные пили из деревянного желоба, куда пастух подливал одно ведро воды за другим.
— Надо бы допросить его, десятник, — предложил пылкий Аслан, придерживая своего жеребца и вопросительно глядя на Тенгери. Но тот не ответил и продолжал скакать дальше, словно это не к нему обратились.
— Ты не слышишь, что ли? — крикнул Аслан.
Тут и Тенгери придержал коня и удивленно огляделся. «Это, конечно, Аслан меня позвал», — подумал он, поймав на себе его взгляд.
— Чего тебе?
— Надо бы взять в оборот вон того!
— Зачем?
— Как это? — Аслан подъехал к нему почти вплотную и с упреком проговорил: — Не делай вид, будто ты забыл, кто у нас десятник. Забыл ты разве, зачем нас послали в разведку?
Лишь теперь Тенгери заметил, как далеко отлетели его мысли: к китайцам из прибрежной деревушки. Он словно воочию видел, как они едят свои странные яства, слышал, как они смеются при виде воинов, рвущих сырое мясо зубами, видел крестьян, идущих по полю за запряженным в плуг буйволом, ему вспоминались зерна, которые закапывают в землю, чтобы из них народилось множество других. Ему вспомнились сборщицы чая и рассказ старухи о монахе-отшельнике, отхватившем себе ножом веки.
— Скачи к нему и разузнай все, что пожелаешь, — сказал Тенгери.
— Я? Один?
— А разве он там не один? Если хочешь, возьми с собой еще кого-нибудь!
— А вы останетесь здесь?
Тенгери впервые назвали в десятке на «вы». Это было важно, это не случалось само по себе. И Тенгери знал, что отныне так будет всегда.
— Я подожду.
Один из приятелей Аслана недовольно покачал головой и погнал своего коня вслед за ним к колодцу, где пастух поил своих верблюдов. Оставшиеся на месте видели, как Аслан кричал на старика и даже замахнулся плеткой. А его друг развязывал тем временем тюки.
— Ого, он лупит его! — проговорил воин, стоявший ближе других к Тенгери.
— Аслан глуп, — сказал Тенгери, с недовольным видом сжимая уздечку. — Когда птицу мучают, она не запоет! — Однако смотреть в ту сторону дольше не стал и поскакал со своими воинами в другую сторону, размеренно и не торопясь, как вдруг один из воинов крикнул:
— Китайцы!
Тенгери резко повернул лошадь и испуганно бросил взгляд в сторону колодца. Небольшой отряд китайцев галопом спустился с невысокого холма и врезался в самую гущу верблюдов. Для Аслана это оказалось такой неожиданностью, что он не сумел толком защититься. Правда, он попытался было выхватить меч из ножен, но тут ему на спину прыгнул китаец. Оба упали и покатились по земле. Подоспели другие. Связав Аслана, они положили его поперек крупа лошади и скрылись.
Все это произошло до того быстро, что Тенгери со своей группой не успел прийти на помощь. Они еще выпустили вслед китайцам несколько стрел, но попали лишь в двух лошадей, которые и рухнули на полном скаку. Однако их хозяева тут же пересели на других. Испуская радостные крики по поводу маленькой победы, они оказались вблизи холма, а когда рассеялась пелена пыли, поднятая их лошадьми, они уже были по его другую сторону.
Верблюды снова приблизились к колодцу и пили из деревянного желоба как прежде. И пастух был на месте. Он присел на корточки у тела убитого друга Аслана; ему размозжили голову копытом. Пастух широко открыл рот, как бы желая что-то сказать или крикнуть, но так и не выдавил из себя ни звука. Он в возбуждении замахал руками, потом повалился лицом на песок, потом вдруг вскочил — и все это молча. Ко лбу, покрытому рубцами от ударов плетью, прилипли песчинки. Он снова начал бешено жестикулировать, несколько раз прикладывал правую руку к сердцу, но не произносил ни слова.
— Он немой! — догадался Тенгери. — Он немой и поэтому ничего ответить Аслану не мог. А этот болван хотел, чтобы немой заговорил!
Шестеро воинов с упреком смотрели на своего десятника. Один из них сказал:
— Прикажи вы нам всем скакать к колодцу, этого не случилось бы!
— Двое убитых, — добавил другой.
— Почему это двое? — спросил Тенгери.
— Аслан будет молчать, как камень, и они убьют его.
— Вы правы, — кивнул Тенгери. — Если бы я повел всех вас к колодцу, этого не произошло бы.
— Тысячник спросит вас, почему вы этого не сделали. Что вы ему ответите, десятник? — спросил первый.
Тенгери промолчал. Он спрашивал себя, имеет ли смысл признаться им в том, что в тот момент больше думал о жителях китайской деревушки, чем о выполнении задания. И раз он молчал, как бы признавая тем самым свою вину, заговорил другой воин:
— Двое убитых! Двое убитых и никакой добычи! Это все равно как если бы в твой загон забрался ночью волк и зарезал сразу пять овец. Ты, допустим, можешь на другой день поймать и убить его, но пятерых овец тебе не вернуть!
Сойдя с лошади, он приник к желобу и стал жадно пить воду рядом с верблюдами. Пастух, почти уверенный, что они никакого зла ему не причинят, приводил в порядок тюки с грузом.
Ускакали они молча. Колодец, пастух, верблюды — все это осталось за спиной, никто в ту сторону не оглядывался. Ночью снова пошел снег, но на утреннем солнце к полудню опять растаял.
Побережья и китайской деревушки они достигли к вечеру, когда с моря задул холодный ветер, придавивший огни костров. Над кибитками и юртами стелился белый дым, а между ними шныряли приблудные псы. Откуда-то доносился протяжный рев ослов. Воины пели:
Мы пьем рисовую водку, Как пили бы кровь врага…Вон там, вдали, возвышается монастырь. На чистом вечернем небе его силуэт, как и силуэт самого утеса, вырисовывался особенно четко.
Когда Тенгери доложил, как и полагалось, о происшествии тысячнику и вышел из его юрты, он словно тяжелый груз с плеч сбросил, таким заметным оказалось испытанное им облегчение. Он пошел прямиком к Бату, который сидел со своим десятком у костра и время от времени опрокидывал в огонь чашку крепчайшего напитка. Отчего острые языки пламени так и подскакивали.
— Бат, — сказал Тенгери, — я снова вступаю в ваш десяток.
— Видите? Вот он у нас какой! Думает, что, если я выпил, со мной можно шутки шутить! Бр-р-р! — Бат высунул язык, делая вид, что его вот-вот вырвет. — Да-да, я пьян, слышишь ты, лоскуток неба{21}, только Бат никогда не допивается до того, чтобы поверить, будто один десятник захочет стать рядовым воином в другом десятке! Нет, Бат никогда головы не теряет!
— Я больше не десятник, Бат!
— Слышали: он больше не десятник! Сотником тебя поставили, что ли? У тебя это просто — рассказал сказку, тебя сделали десятником. Побываешь у хана — и возвращаешься от него с дареным конем. Ну, выкладывай, кем тебя сделали на этот раз?
— Никем!
— Никем! — Бат и его воины покатились от хохота. — Никем! — Могло показаться, что Бат мгновенно протрезвел. Он недоверчиво взглянул на Тенгери. — Послушай, разве не тебя посылали на разведку?
— Да.
— По-моему, я попал в точку. Валяй, выкладывай, — потребовал Бат.
Тенгери рассказал все по порядку. Все слушали не перебивая. И не пили крепкий напиток из высоких пузатых кувшинов, который они отобрали у местных жителей. Однако, когда Тенгери умолк, все сразу вспомнили о водке и приникли к чашам и кувшинам, не забыв предложить и ему тоже. Тенгери выпил, не отказался.
— Садись к костру, — сказал Бат. — Нас осталось всего шестеро. Будешь седьмым. Ну, что приумолкли? Запевайте!
Мы пьем рисовую водку, Как пили бы кровь врага. Мы пьем ее днем И ночью пьем ее тоже!— Давай, Тенгери, подпевай! Или эта песенка тебе не по душе? Тогда, братья, споем другую:
Стена высока, А китаец мал. За стеной мы увидим Много башенок, Больших и малых, И в каждой из них Сидит тот, кто смеется. Это Будда. Но отчего так раздался его живот? Эти ламы, Эти монахи И еще другие ламы Шляются по стране, Вымаливают милостыню, А потом…— Эй, да ты опять не поешь? Грустишь?
— Нет! — ответил Тенгери.
Бат выпил еще водки, утер ладонью бороду и не без подвоха сказал:
— Я бы тоже не веселился! А ты возьми и расскажи хану еще одну сказку, он тебя опять десятником поставит! Но только на этот раз… — Бат сделал паузу и оглядел по очереди всех своих воинов, готовых рассмеяться любой его шутке, — если он тебя опять спросит: «От кого ты узнал эту красивую сказку?» — ты ему не говори, от кого. Это никому не понравится. Потому что Черный Волк оказался вонючим шакалом, предателем.
— Бат, замолчи! — Тенгери вскочил на ноги.
— Что с тобой? Разве я не правду сказал?
— Откуда ты знаешь? Со слов других! Ведь так, Бат?
— Других? — Бат недобро рассмеялся. — При чем тут другие? Он был таким, как я сказал! И никаких разговоров!
— А если он не был предателем, Бат?
— Не ори! У хана чуткие уши, он услышит тебя даже в Доломуре! Пей лучше! Пей!
— Не хочу!
— Не хочешь? Да что ты! Вы только посмотрите на этого папиного сыночка…
— Бат! — Тенгери бросился на десятника и ударил его кулаком в лицо.
— Он свихнулся, он убьет меня!
— Стража! — крикнул кто-то.
Несколько кувшинов упали и разбились. Два тела сплелись и катались по земле, как огромный клубок. Крики, удары. Глиняные кружки разлетелись на куски.
— Я горю! — заорал Бат, одна нога которого оказалась в костре.
Но тут подоспели стражники и растащили дерущихся. Старший из них приказал:
— Снимите вот с этого одежду и привяжите к дереву на камне. Он напал на своего десятника! Если боги против него, он сегодняшней ночью замерзнет. А если они за него, он доживет до восхода солнца и останется с нами!
Стражники раздели Тенгери догола и погнали его по камням на берег моря. Там прямо из расщелины в валуне пророс тополек, в последних листьях которого шелестел ветер. Его привязали так, что он стоял лицом к морю. Стражники проделали это молча, как всегда молча и беспрекословно выполняли все приказы. Он тоже не открывал рта, потому что не хотел, чтобы они догадались, как ему страшно. Сначала вопреки его опасениям было не слишком холодно, рисовая водка еще согревала. Он не сводил глаз с луны, повисшей, казалось, над самой водой. Большая, светло-желтая, она позолотила волны. Привязанные в бухте лодки с сухим стуком ударялись о вкопанные столбы.
Сначала холод прокрался в ноги, и он старался по возможности шевелить хотя бы пальцами. Головы он повернуть не мог, ее привязали к стволу дерева сыромятным ремешком, закрепленным на лбу. А в лагере воины продолжали веселиться, пели и орали. «Если мне суждено пережить эту ночь, я убью Бата, — подумал он. — В первой же битве! Так, чтобы этого никто не заметил». Он по-прежнему не сводил глаз с желтой луны, диск которой поднимался все выше. «Еще совсем немного, и я больше не увижу ее, так высоко она уйдет. Тогда она из желтой превратится в белую или серебристую. И море тоже засеребрится. Но я не замерзну и не умру! Я не хочу!»
Когда шум в лагере затих, он начал мерзнуть по-настоящему. И не только ни одним пальцем пошевелить не мог, но даже дрожать — так крепко привязали его к стволу молодого тополя. Только зубы иногда стучали — это когда Тенгери переставал сжимать их. Казалось, они тоже застыли бы, не держи он рот закрытым. «Я похож на рыбу, выброшенную на берег», — подумал Тенгери. Теперь он радовался, когда удавалось подумать о чем-то. Ошаб, Герел, Онон, Керулен, зеленые пастбища, теплые юрты. И тут же в памяти возникал горящий город Дзу-Ху — ох, как жарко было тогда!
Кто-то приближался к нему, ступая по камням.
— Это я, — услышал он шепот за спиной.
— Бат? Пришел меня помучить?
— Слушай, я этого не хотел, Тенгери, этого я не хотел, боги видят. Я стражу не звал!
Тенгери, конечно, не ожидал появления Бата, но ничего ему не ответил.
— Ты меня чуть не убил, — тихо говорил Бат, стоя в тени дерева, чтобы стражники не заметили его.
— Ну да, чуть не убил, — выдавил из себя Тенгери. — А до этого ты чуть не убил меня. Одним-единственным словом.
Бат торопливо проговорил:
— Ты лучше скажи: выдержишь?
— Да.
— У тебя такой голос, будто ты полумертв.
— Допустим. Но еще не совсем мертв.
— Когда я сказал те самые слова, я был пьян!
— Что мне от этого, лучше?
— Я просто хочу, чтобы ты знал. — Бат наклонился и приставил к его губам чашу. — Пей!
— Рисовая водка?
— Гм…
Тенгери выпил, но немного.
— Выпей еще! Разве ты не знаешь, что пьяные никогда не замерзают?
— Да, если только не заснут! Если я засну, я замерзну! Ты вроде бы хочешь, чтобы я продержался всю ночь?
— А то пришел бы я сюда!
«Нет, я его не убью, — подумал Тенгери. — Он груб, как одичавшая степная собака, но под его исполосованной шкурой сохранилось еще немного тепла!»
— Не боишься, Бат, что тебя здесь схватят стражники?
— Вечно ты допытываешься, не боюсь ли я! Если кто появится и спросит, зачем я здесь, объясню, что хотел насладиться видом твоих мук. В это они поверят!
— Да, в это они поверят. Приблизь к моему рту чашу еще раз, Бат!
— Вот видишь!
Тенгери снова выпил, на сей раз побольше.
— Замечательно! — простонал он. — Я чувствую свое тело, только когда проглатываю эту жидкость.
— Кто-то идет! — Бат сорвал с Тенгери свой халат, который набросил ему на плечи, и скрылся в темноте.
Те, кто подходили все ближе и ближе к Тенгери, говорили по-китайски.
«Рыбаки», — подумал Тенгери.
— Эй, эй! — прошептал он. — Вы меня слышите?
Некоторые из них были еще в тени, но кое-кого он был в состоянии отчетливо разглядеть в свете луны. Они начали тихонько переговариваться, остановились ненадолго, а потом неслышно приблизились к нему почти вплотную. Их было семеро: пятеро мужчин и две девушки. Один достал из-за пояса нож, чтобы сразу перерезать веревки и ремни.
— Нет, — сказал Тенгери.
Этого они не поняли и стали показывать ему на лодки и на море.
— Будет еще хуже, — прошептал Тенгери. — Когда-нибудь они меня все равно достанут. Не прятаться же мне до самой смерти в лодке? Нет-нет!
Рыбаки сильно удивились. Человека голым привязали к дереву, его хотят освободить, а он еще сопротивляется? Чего же он хочет? Они попытались объяснить ему, что доставят его в такое место, где его монгольские воины не найдут. На побережье пещер и других укромных мест хватает.
— Принесите мне ча, горячего ча, — попросил Тенгери.
— «Ча»? Ты о чем говоришь?
— Ча, горячего ча, неужели вы не понимаете?
— Ах, «ча», — повторила девушка. — Конечно! Он хочет чаю!
Их удивило только, как он это слово произносит. Однако девушки сразу убежали, а рыбаки набросили на него большое полотно и принялись растирать.
Тут из-за валуна выступил Бат и беззаботно спросил:
— О чем это ты с ними говорил?
— Не бойтесь, не убегайте, — на ломаном китайском сказал рыбакам Тенгери. — Это мой друг. — А потом снова повернулся к Бату. — Я попросил, чтобы они принесли мне горячего чаю. Они называют его «ча».
— Вот как! — еще раз буркнул Бат.
После того как Тенгери растерли, он больше не мерз, зато все тело ныло. Ощущение было такое, будто вся кожа просто горит.
— Да, я сказал им, что ты мой друг, Бат. Попытайся я им объяснить, что стою здесь из-за тебя, они бы ничего не поняли.
— Хочешь еще водки?
— Да, глоток.
Он пил и думал о горячем чае: от рисовой водки его начало мутить. Тенгери сплюнул.
— Что с тобой?
— Внутри у меня все горит от водки, а кожа горит от ремней.
— Мне пора возвращаться, Тенгери.
— Иди, Бат.
— А эти, — он указал на китайцев. — Эти останутся? Не бросят тебя?
— Эти — нет!
— Тогда я пошел, Тенгери!
— Ладно, Бат.
«Нет, я его убивать не буду. Он такой, какими стали или станут большинство остальных. Степь, стада, воровство и войны. Все другое он высмеивает, над всем другим издевается, как смеются и издеваются многие, когда видят онгутов или китайцев, живущих в хижинах или в домах и которые вместо мяса едят бобы, горох и ячмень. И даже кладут зерно в землю, чтобы выросло много других. Может быть, Бат уже слишком стар: старый волк тоже делает только то, чему научился, когда был волчонком».
Ни с того ни с сего рыбаки сорвали с его тела грубое полотно, прошептали что-то и исчезли за валунами.
— Стража, — прошептал Тенгери и обратился в слух. Стук копыт!
Один из стражников спрыгнул с коня, подошел и приподнял голову Тенгери за подбородок.
— Смотрите, боги не оставили его!
— А если сейчас придет буря? Ну, с востока! — жестко и злобно проговорил другой.
— Откуда ей, буре, взяться? — возразил первый, глядя на луну, круглую и чистую, стоявшую сейчас высоко в небе прямо над тополем.
— Тогда ему повезло! Придется утром вернуться и развязать его! — произнес второй таким недовольным тоном, что сразу стало понятно: это ему вовсе не по душе.
— Знаешь, а тело у него даже теплое!
— Он спит?
— Похоже… Как от него несет рисовой водкой!
Второй стражник понимающе рассмеялся.
Когда они повернули обратно, из темноты вновь появились маленькие китайцы и опять набросили на тело Тенгери грубое домотканое полотно. Они радовались чему-то и улыбались. Вскоре вернулись и обе девушки с горячим «ча», с чаем. Отдали кувшин мужчинам и скромно отвернулись, став в сторонке. Тенгери жадно пил, и ему становилось лучше. Жизнь как бы потихоньку возвращалась в его тело, он заметил даже, какие маленькие ножки у этих молоденьких китаянок, которых обливал лунный свет. Двое мужчин остались подле него, а остальные спустились вместе с женщинами по крутому берегу прямо к лодкам. Лодки долго скользили по лунной дорожке, красивые, как острые опавшие листочки. Они уходили все дальше в море, такие маленькие-маленькие. «Там, где восходит солнце, должна быть другая земля и другая страна, — подумал Тенгери. — И до нее можно добраться только на лодках».
В сумерках, когда луна поблекла, а море посерело, китайцы удалились. Но прежде еще раз напоили его горячим чаем. Прошло еще порядочно времени, прежде чем солнце проснулось и появились стражники. Отвязали его, и он плашмя упал на камни. Они расхохотались, швырнули ему одежду и ускакали, не сказав ни слова. Тенгери был не в силах пошевелиться и испуганно подумал: а вдруг ему больше никогда не подняться? Боль, похоже, оказалась все-таки сильнее его. Он чувствовал сладковатый привкус крови на искусанных губах. Потом начал перекатываться по камням, как раненое дикое животное, скрючивался, сжимался в комок, подтягивая ноги руками, и когда на его лицо упали теплые лучи солнца, открыл глаза. Он был один, совсем один наедине с высоким синим небом. Море переливалось яркими красками и слепило глаза. Где-то далеко на равнине скакали лошади. Над прибрежной полосой с криками кружили чайки.
Тенгери, наверное, заснул. Он очнулся, когда кто-то несколько раз громко повторил его имя. Открыв глаза, увидел над собой Бата, который смотрел на него так, будто тот только что спустился с неба.
— Знаешь, — начал десятник, — я как-то попал в плен. Враги набили мне козьего и овечьего дерьма между пальцами, связали руки и поставили на солнце…
— …и тут на тебя набросились черви… Ах, Бат, эту историю я знаю! Сколько раз ты мне ее рассказывал!
«Старина Бат рассказывает все время одни и те же истории. Да, он стар!» — подумал Тенгери.
— Может быть, состарившись, ты тоже много раз будешь рассказывать, что с тобой сделали, когда ты был молодым. А сегодня тебе просто больно. И еще ты немного гордишься, что выдержал это.
— Может быть, — сказал Тенгери, хотя сам так не думал.
Глава 8 ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА
На покрытую зеленой глазурью черепицу крыши храма тоненьким слоем лег снег. Солнце пригревало, и на голубом небе не было ни облачка. Вокруг позолоченных башенок кружили бесчисленные голуби. Стоило одному опуститься на конек, как остальные немедленно опускались рядышком. Море казалось холодным и темным.
Тенгери прошел в высокие деревянные ворота с головами «страшных божеств». Это были не люди и не звери, не то звери-люди или люди-звери с четырнадцатью конечностями, двумя устрашающими зрачками и десятью обезьяньими хвостами. В руках они держали ножи и окровавленные полушария мозга, и кровь эта тонкими струйками стекала по воротам.
К желтым стенам внутреннего двора прислонились сидевшие на корточках китайцы и подобно другим, сидевшим на необструганных досках, бормотали молитвы. Их босые ноги лизали собаки с обрезанными ушами. У молившихся были лица людей, обретших счастье. Некоторые вертели огромный бронзовый барабан, на котором были выбиты слова молитвы, и слова эти обрамляли листья лотоса и цветы. Эта молитвенная мельница тарахтела и позванивала, а иногда дребезжала, но никогда не замирала — стоило одному из верующих отойти в сторону, как его место сразу занимал другой, едва дождавшийся своей очереди. Когда появился Тенгери, монгол, это никого не смутило. Здесь всех привечали и были каждому рады.
Из пагоды вышел невысокого роста лама. Полы его длинного желтого халата волочились по снегу. Люди, сидевшие у желтой стены, поспешили подняться и согнулись перед ним в поклоне. Держа над головой серебряную громовую стрелу, он проговорил:
— Пусть все живые существа, сколько их ни есть во всех десяти странах мира, никогда не знают болезней, и да пребудут они в счастье. Да завершатся полным успехом все духовные и добрые деяния, пусть все, к чему они стремятся, приведет к их спасению!
Из железного котла, поставленного на каменное возвышение, в голубое небо воспарялись благовония.
Дверь главной пагоды была открыта, и изнутри доносились звуки музыки — это играли ламы и монахи.
Войдя внутрь пагоды, Тенгери сильно удивило то, что он здесь не единственный монгол — целая группа воинов стояла вместе с китайцами на коленях и склоняла головы перед Буддой и Бодисатвой. Тенгери же остался стоять, потому что пришел сюда не из желания сотворить молитву чужим богам, а из чистого любопытства, чтобы поглазеть на их ясные лики и умильные улыбки. Кто сделал их такими красивыми? Кто создал такие изящные руки? Кто изобразил их столь радужными красками на шелке? Кто описал их жизнь на высушенных пальмовых листках и на бумаге? Кто вырезал их тела из дерева? И почему всего этого нет ни на Керулене, ни на Ононе? Почему там никто не умеет рисовать, писать, резать по дереву и лепить? Конечно, при дворе хана такие люди есть, но это уйгуры или китайцы, а не монголы.
Вот он стоит перед фигурами из золота, серебра, бронзы и дерева, перед богами и животными. Даже резные колонны, поддерживающие потолок, расписаны змеями и драконами, а под самым потолком по стене как бы бегут белые слоны, на которых восседают обезьяны и птицы. «Это другой мир», — подумал Тенгери. Нет, он пришел сюда не для того, чтобы молиться чужим богам, у него есть свои, монгольские, которые перешли к нему по наследству от отца с матерью.
Ламы и монахи сидели длинными рядами посреди пагоды и пели под музыку больших и малых колокольцев, разного размера барабанов, улиткообразных флейт и длинных труб, лежавших на деревянном помосте.
Тенгери видел, как старший лама подошел к молодому монаху, сорвал с него желтое одеяние и исхлестал его плетью за то, что вид у него недостаточно благочестивый. После чего священнослужитель сказал:
— Я прошу вас принять эту жертву во благо всех живущих.
Музыка смолкла.
Ламам и монахам подали чай с маслом, сбитым из молока яков. Старший лама подошел к высоким, в полтора человеческих роста, фигурам Будды и поймал их отражение в большом зеркале. Подошли два монаха и полили на это зеркало святую воду, собирая стекающие капли в серебряную миску. Потом вытерли зеркало красным шелковым платком и сказали:
— Подобно тому, как боги совершили ваше омовение сразу после того, как вы родились, я совершаю омовение тела Будды чистейшей влагой божьей.
А потом окропили всех собравшихся на молебен этой святой водой и прополоскали ею рот, чтобы очистить его от запаха душистого чая.
Старший лама провозгласил:
— Омовение, которому мы подвергли через зеркало тела всех Будд и которое перешло затем на вас, освящает и очищает душу и тело. Подобным же образом омовение очищает от грехов, сколь бы давно они ни были совершены, от всех болезней и напастей, тело омывается природной силой чистейшего и ярчайшего света, благодаря чему продлеваются годы жизни, растет склонность к свершению добрых дел, приумножаются знания, способность к точным суждениям и заслуги, достойные высоких наград.
После этой церемонии ламы вышли во внутренний двор, чтобы покормить голубей, которые садились им на руки, на плечи и головы, доверчиво поглядывая на них красными глазенками. Вокруг лам столпились верующие, большей частью больные, принесшие в мешочках и узелках ячмень, просо, фасоль и горох, чтобы заплатить ламам за исцеление: ведь те умеют читать книги, в которых сказано, как лечить от всех болезней.
— Все излечимо, ничего неизлечимого нет, — говорили священнослужители. И не всегда они предлагали травные лекарства, иногда это были волчьи зубы, кости обезьян, мясо змей или рога антилопы. Ну и волшебные заклинания в придачу.
Когда в ворота въехал на осле богато одетый купец и обнажил перед ламами ногу, они сразу отвели его в одно из своих помещений — ведь он бросил им мешочек не с фасолью или просом, а со звонкой монетой.
Помимо тех, кто посвятил себя искусству врачевания, были и такие монахи, которые отдавали все свободное время писанию картин или ваянию. В полуденный час, когда светло и воздух чист, они усаживались на помост в южной части пагоды, под выступающей крышей. Отсюда открывался вид на море и на крутой берег, и верующие их здесь не отвлекали. А Тенгери, который издали углядел их по бросающимся в глаза ярко-желтым халатам, решительно направился прямо к ним. Но вначале остановился все-таки под узкой лестницей. Не из страха, конечно, а из уважения к их молчанию и той серьезности, с которой они трудились над своими картинами и фигурами.
Кто-то сказал:
— Пришел какой-то монгол!
Все подняли глаза, но никто и словом не обмолвился, и все вновь обратились к своей работе. От взгляда Тенгери не укрылось, что один из них все-таки улыбнулся. Этот китаец мог быть его одногодком, и Тенгери захотелось подойти к нему. Поднявшись по лестнице, он кивнул монаху, а тот ответил ему:
— Санбайнсано!
— Санбайнсано! — ответил Тенгери. — Вы монгол?
— Разве обязательно быть монголом, чтобы говорить по-монгольски?
— Выходит, вы не из наших.
— Нет. Но мы, монахи, говорим на многих языках: как иначе нести наше учение в другие страны? Будда учит нас говорить с каждым, поэтому мы и изучаем чужие языки!
На коленях у монаха была рама с натянутым внутри нее куском темно-зеленого шелка. На нем уже можно было различить ярко-желтые очертания Будды. Но сейчас монах на время прервал работу, потому что его учитель, стоявший за спиной, спросил:
— А какими вы изобразите его руки?
— Обе ладони, — ответил молодой монах, — будут напоминать красные лотосы, их линии должны быть глубокими, но не искривленными. А цвет у них будет… как кровь у зайца!
Мастер удовлетворенно кивнул и спросил, что сказано в правилах об изображении мускулов и жил.
— О учитель, мясо мускулов должно быть бугристым, а жилы должны присутствовать, оставаясь невидимыми!
— Все верно, брат! Повторите еще раз правило о тыльной стороне руки и о ногтях!
— Тыльная сторона руки выпуклая, а в ладони должно быть легкое углубление. Кожица между пальцами — нежная и красивая. Ногти по бокам мягкие, нежные, светящиеся, розовые, крупные и блестящие.
— Если вы будете рисовать так, как излагаете правила, я останусь вами доволен, — сказал учитель и перешел к другому ученику.
— А почему бы вам не нарисовать Будду таким, каким вы его видите и представляете? — с удивлением спросил Тенгери.
— Потому что Будда есть один-единственный, и, значит, каждое новое его изображение не должно ничем отличаться от тысячи других в пагоде, ибо у него есть тридцать две больших и восемьдесят маленьких красивых черт и черточек.
— Нравится вам изображать все в точности так, как предписано?
— Об этом я еще никогда не задумывался, — уклонился от ответа монах. — Да, кстати: все, что Будду окружает — море, небо и землю, — я могу нарисовать как пожелаю.
— Тогда я на вашем месте рисовал бы только море, небо и землю.
— Будда во всем и повсюду! Как бы вы, если вы монах или лама, стали рисовать море, небо и землю без Будды? Нет-нет, это нам запрещено!
— Я не монах!
— Разве я утверждал это, брат?
— Зато я ни рисовать, ни вышивать картины не умею, — упавшим вдруг голосом проговорил Тенгери.
— Когда я пришел в монастырь, я тоже не умел! Я не умел ни читать, ни писать — ничего! — Тем временем монах успел нарисовать ладони Будды такими, что они напоминали листья лотоса и имели цвет крови зайца. — Так научитесь рисовать!
— Я монгол, брат!
— И что с того? Научиться рисовать может каждый. Хорошо у него будет получаться или нет — выяснится потом. Но научиться рисованию можно! Если вы полюбите то, что будете рисовать, получится!
— Почему вы рисуете голову Будды похожей на куриное яйцо?
— Так гласит правило, брат!
— А откуда вы знаете, какие краски накладывать?
— Это предписывает сам Будда, когда время от времени рисует на небе радугу. Вот эти краски мы и берем!
С покатой крыши упало несколько капель талой воды. Солнце светило монахам прямо в лицо, но они продолжали рисовать, резать по дереву или лепить фигуры Будды из воска, что Тенгери показалось особенно странным.
А некоторые сбивали масло из молока яков до тех пор, пока оно по цвету не начинало напоминать тело божества. Масло они тоже разрисовывали светящейся краской. Когда солнце скрылось за холмами, а снег на крыше перестал подтаивать, монахи сошли с помоста вниз.
— Если хотите, приходите еще, — предложил монах, удаляясь вместе с другими в сторону ворот главного храма, где они готовились к вечернему богослужению.
Идя по крутому каменистому берегу, Тенгери впервые за долгое время испытывал добрые чувства: этот день ничем не напоминал множество других, ему предшествовавших. Его так и подмывало и завтра, и послезавтра снова и снова посещать монастырь, чтобы наблюдать, как монахи собственными руками создают вещи удивительной красоты. С приходом зимы замерзла не только земля, но замерла и война, и теперь у воинов не было иных занятий, кроме как заботиться о стадах и табунах да забивать заболевших овец и лошадей. Ну и изредка выставить часовых или отправиться в дозор или на разведку. Нет, Бат не имел ничего против того, чтобы Тенгери появлялся в монастыре. По крайней мере, он ничего такого не сказал. Может быть, он проявлял такое снисхождение к нему еще и потому, что по его вине Тенгери всю ночь простоял голым, привязанный к тополю.
Дни сменялись днями, недели — неделями, и все они приносили Тенгери удивительные открытия. Сначала он не мог сообразить, как это получается, что огромное небо и безбрежное море умещаются на совсем маленьком кусочке шелка, и при этом море и небо кажутся столь же бескрайними, как в жизни. Даже солнце словно по волшебству возникало под руками монастырских художников. Оно отражалось на лице Будды, на овцах, слонах и обезьянах, оно отбрасывало тени на землю. И все выглядело так, словно пожелай — и дотронешься руками до солнца и моря, до неба и камней на крутом берегу. Конечно, со временем Тенгери понял, что это ничего общего с колдовством не имеет. Молодой монах дал ему кисточку и краски, поводил его рукой, разделяя картину на части, и сказал после этого:
— Так, а теперь рисуйте!
Он указал в сторону тополя, высокого тополя на берегу, сгибавшегося под порывами крепкого ветра с моря. Чисто случайно это был тот самый тополь, к которому привязали Тенгери, и, значит, особенное для него дерево. Он попытался изобразить на картине ночь. Светит луна. Листьев на дереве нет, оно голое… И человек подле него тоже голый. Оба нагие на холоде и ветре. Естественно, желания было куда больше, чем умения.
И сам Тенгери сказал:
— Ничего у меня не получилось!
— Какой вы нетерпеливый! — пожурил его монах.
— Моя картина — ложь! — злился Тенгери.
— Но тополь получился красивым, если знать, конечно, что это первое нарисованное вами дерево!
— Красивый? Той ночью он не был красивым. — И Тенгери рассказал монаху свою историю, связанную с этим деревом. — Где на моей картине холод? Где мой страх? Луна светит и улыбается, будто видит, как я сижу под деревом с девушкой и целуюсь. Значит, и луна у меня получилась лживой: той ночью у нее был такой вид, будто она хочет убить меня своими ледяными лучами! И где на картине моя боль? Где она, скажите? Нет, у меня не получилось сделать так, как было по правде, а раз я не умею рисовать правдиво, зачем мне вообще браться за кисточку?
— О-о, какой вы нетерпеливый! — сказал монах. — И вдобавок глупый, глупый, как баран, и даже глупее любого барана, баран всего-навсего животное, а вы хотите быть человеком!
— От одного моего желания картина лучше не станет! — проговорил Тенгери и отложил кисточку в сторону.
— Вы напомнили мне одного юношу, почти подростка, который пришел к нам и после первой же молитвы пожаловался: «Я молился, а Будда меня не услышал!»
— Будда!
— Я хотел этим сказать, что нужно вознести тысячи молитв, чтобы быть однажды услышанным. Точно так же нужно тысячу раз нарисовать тополь, чтобы он один раз получился по-настоящему. Или возьмем более понятный для вас пример: разве, взяв лук в руки первый раз, вы сразу попадете в цель?
— Не думаю, — возразил Тенгери, — чтобы стрельба из лука была таким же искусством, как рисование кисточкой!
— Положим, вы правы, — согласился монах. — При стрельбе к сердцу прислушиваться незачем, создавая картину, без него не обойдешься. Но моя мысль состояла в ином: в обоих случаях требуются терпение и упражнения!
Старый мастер, ходивший туда-сюда по помосту и поглядывавший через плечо на рисующих монахов, на их картины и лепку, одних хвалил, других поругивал, а третьим давал советы. Остановившись неподалеку, он слышал весь разговор монаха с Тенгери. Его острая бородка была такой же белой, как и его кустистые брови. Несколько раз он открывал рот, как бы желая что-то сказать, несколько раз согласно кивал. И наконец, негромко проговорил:
— Тебе мешает твое собственное происхождение, все дело в этом! Ты монгол и поэтому думаешь, что рисованию и живописи тебе никогда не научиться. Вам всю жизнь твердят, что вы рождены для войн и только для войн. Конечно, ты принадлежишь к народу храброму, неустрашимому, хитроумному и победоносному в битвах и войнах! Но что от него останется, если он будет лишь воевать и воевать? Мы сеем зерно, вы его крадете, мы строим дома, вы их разоряете, вы ищете счастье в чужих несчастьях! Да как вы можете быть счастливы, принося несчастье другим?
Голос старого мастера дрожал. Молодой монах встал, показывая, какие чувства вызвали в нем слова учителя.
— Разве твой народ хочет, чтобы у людей из других народов на глазах появлялись слезы при одном упоминании о монголах? Когда-нибудь, через много-много лет, о вас будут говорить так: «Ну да, у монголов были великие и жестокие полководцы, но среди них не нашлось ни художников, ни поэтов, ни крестьян, ни ремесленников! Они много чего разрушили, но после себя ничего не оставили!»
— Да, так и скажут, — поддержал его молодой монах. — И еще добавят: «Среди них не нашлось ни одного мудрого ученого, потому что ученых они призывали на службу к своему хану из дальних стран!»
Старик кивнул, взял лист бумаги, кисточку и обмакнул ее в черную тушь. И на глазах Тенгери вырос тополь, дерево, согнувшееся на ветру, нагое, как и привязанный к нему человек. На картинке была ночь, и холодная луна посылала леденящие лучи на море и на замерзающего человека. Но как бы ветер ни силился пригнуть дерево к земле, как бы ни терзал он привязанного к стволу человека, отчетливо ощущалось, что буре не сломить ни тополь, ни человека.
— Так и было! — вырвалось у Тенгери.
Старик улыбнулся и подарил ему картинку.
— Может быть, научиться рисовать и труднее, чем пережить такую ночь. Когда рисуешь, сражаешься не со смертью, а с собственной слабостью и несостоятельностью, и лишь тот, кому за тысячу дней и ночей удалось превозмочь эту слабость, ощутит, что смерть он отринул, а жизни своей придал осмысленность и высокую цену.
— Я завтра приду опять! — сказал Тенгери.
Но старик уже не услышал этого: спустившись по лестнице, он пересекал сейчас заснеженную площадь перед пагодой.
— Он завтра придет опять! — крикнул ему вслед молодой монах.
Старый мастер порывисто оглянулся. В этот миг он в своем развевающемся халате походил на большую черную птицу, испуганно застывшую на снегу. Подняв голову, он словно прикипел взглядом к какой-то невидимой точке. Издалека его крупный нос напоминал клюв. Однако старик не произнес в ответ ни слова, а только подхватил полы халата и зашагал дальше с гордо поднятой головой. Он как бы вдруг помолодел.
Начиная с этого дня Тенгери не говорил больше: «Ничего у меня не получается!» Он рисовал и рисовал, временами забывая даже о Бате и о войне, рисовал, будто появился в стране Хин только для того, чтобы научиться этому искусству. Молодой монах научил его и резьбе по дереву, ремеслу, в котором он вскоре добился больших успехов, чем в рисовании и живописи. Конечно, то, что у него выходило, произведениями искусства никто бы не назвал. Он вырезал такие маленькие предметы, что мог уносить их с собой: деревянных баранов, коз, лошадей, верблюдов и даже одного пастуха. Вечерами в юрте Бат говорил ему:
— А ну, выставляй свое стадо, Тенгери!
Воины лежали вокруг них на мягких шкурах и радовались тому, что этими долгими и тоскливыми зимними вечерами могут хоть чем-то развлечься: маленькие фигурки отбрасывали в свете очага длинные острые тени. Глядя на них, они без конца рассказывали друг другу истории о своих родных местах, о Керулене и Ононе. Вскоре они знали по имени каждое животное из деревянного стада Тенгери, каждую овцу и козочку, каждого жеребца и верблюда. А если ему удавалось сделать днем лошадку или овцу поудачнее, чем прежние, он вечером заменял старые фигурки новыми. Для остальных это не оставалось незамеченным.
— А где овца с коротким правым ухом? — спрашивали они.
Или:
— Что ты сделал с верблюдом, у которого отломилась одна нога?
Тогда он объяснял им с улыбкой, что выбросил их, зато принес новых.
— Они плывут по морю! — добавлял он, указывая в сторону прибрежной полосы.
— Они плывут по морю! — дивясь, повторяли они.
И вот еще что его удивляло: они никогда не поднимали его на смех, когда игрушка у него не выходила, даже когда овечка походила на козу или наоборот. Они полюбили всех его зверюшек, прочно стоявших на меховых шкурах и удачно у него получившихся, и тех, которые вышли похуже: то, что он привозил в юрту вечерами, напоминало им о родных. Какими бы грубыми или жестокими они ни были, деревянное стадо Тенгери и его пастухи делали их дружелюбнее, мягче, а иногда заставляли надолго затихнуть и задуматься.
— Теперь тебе пора вырезать еще степную собаку, — требовали они. — И несколько волков, да нет — целую стаю волков!
И вскоре он принес им и степную собаку, и волков. Хотя, к его огорчению, пес мало чем отличался от волков, ликованию воинов, казалось, не будет конца: как же, у пса нет или почти нет ушей! Это, между прочим, и было единственным различием этих фигурок. Но все сказали, что так и должно быть, все, дескать, правильно: их отцы всегда подрезали степным и юртовым псам уши, чтобы волки не вцепились в них зубами.
Перед праздником Нового года{22} снова повалил снег и сильно похолодало. Но утром выглянуло солнышко, и Тенгери поспешил в монастырь. Только на сей раз он шел туда не в одиночестве: кроме китайских крестьян, ремесленников и рыбаков, торопившихся туда же вместе со своими семьями, к утесу держали путь и многие воины-монголы, которым не терпелось увидеть собственными глазами, как китайцы танцуют в своих красочных костюмах и звериных масках.
Сначала они не увидели во дворе пагоды ни лам, ни монахов. Довольно долго монголы и китайцы молча стояли рядом под желтыми стенами.
На заснеженных крышах ворковали голуби.
Море шумело.
Но вот раздался звук гонга, который нарушил строгую тишину праздничного утра. Эти повторившиеся несколько раз глуховатые удары гонга как бы провозгласили: «Новый год наступил, празднуйте!»
И торжественная церемония началась.
Открылась высокая дверь пагоды. Из темноты выступили старшие ламы, за ними другие священнослужители, множество монахов, факельщики и танцовщики в масках, музыканты и знаменщики, художники с картинами и фигурами Будды, вылепленными из якового масла.
Три старших ламы торжественно несли на поднятых руках «сор», ячменный хлеб в форме пирамиды, водруженный на деревянный брусок и увенчанный черепом. Под златотканым балдахином, стоявшим посреди площади перед пагодой, они опустили «сор» на землю и воткнули рядом в заснеженную землю свернутое знамя. Ветер сразу раздул коричнево-красное полотнище, развернул его, и толпа увидела вытканное на нем изображение Будды. С него не сводили глаз, радуясь его мягкой улыбке и шести распростертым рукам, которыми он, казалось, всех их обнимал. На этом знамени у него было четыре лица, обращенных на все стороны света.
Старшие ламы окропили «сор» святой водой и провозгласили:
— Да будут ниспосланы счастье и святость богам! Да будут ниспосланы счастье и святость драконам! Да будут ниспосланы счастье и святость людям! Пусть счастье и святость простираются надо всеми!
Под музыку больших и малых труб, барабанов, медных тарелок и колокольчиков ламы и монахи запели молитву.
Потом вперед вышел танцовщик в маске и громко объявил:
— Пусть существа, ступившие на стезю тайных магических заклинаний и спасшие свой дух от пут приверженности к чувственной жизни, очистятся от совершенных ими недостойных деяний; для этого нужно научиться почитать и благоговеть, понимать, как соотносятся вещи в природе, и танцевать в масках, ибо эти три вещи весьма способствуют очищению от грехов и провинностей. Танцевальный ритуал в масках благодаря внешнему облику танцора уничтожает злых духов, а внутренним содержанием танца радует нашего Будду.
И сразу загудели малые и средние трубы.
Раздалась бешеная дробь барабанов.
Как дикие доисторические звери, взревели огромные трубы на подставках. Выскочили танцовщики и заплясали вокруг «сора». Они были в очень больших масках, деревянных или картонных. Костюмы на них были шелковые, в широких рукавах они прятали ножи и кинжалы, с помощью которых должны были изобразить борьбу со злыми духами. Высокие деревянные воротники защищали их от сильного ветра. Их костюмы украшали тяжелые подвески с жемчужными ожерельями в восемь рядов. Подвески эти завязывались на спине и прикреплялись потом у всех к высокому деревянному Колесу Закона. Словом, одеяния на них были такие тяжелые, что во время необузданной пляски ламам иногда приходилось поддерживать или подхватывать их, чтобы они не упали на снег. Тогда толпа — и особенно монгольские воины — засмеялись бы, чего доброго, проявив тем самым непочтительность.
Через некоторое время к танцовщикам в масках присоединились танцовщики-«скелеты», мужчины с надетыми на голову «черепами», в узких, облегающих белых одеждах, на которых черные полосы изображали ребра. Отплясывая вокруг «сора», они поколачивали дубинками и хлестали плетками маску-птицу, изображавшую ворону, вознамерившуюся похитить жертвоприношение, то есть ячменный хлеб.
После «скелетов» настала очередь шутов-весельчаков, исполнивших новогодний танец-поздравление. Перед лицами они держали в руках маски, изображавшие людей из горных и лесных племен. Движения у них были презабавные и напоминали прыжки то карабкающихся в гору, то подпрыгивающих на месте обезьян. Вдобавок они пускали дым из выдолбленных бараньих костей и без конца верещали.
В эту пеструю круговерть танца на площадь перед пагодой ворвались еще «злые духи» с поднятыми чашами-черепами и жертвенными ножами. Лица у них были коричневые, синие и зеленые, головы — с оленьими рогами и ослиными ушами. Короче говоря, это были палачи, владыки ада. Из чаш-черепов они проливали на снег кровь, и стоявшие под стеной китайцы съеживались от страха, когда один или несколько таких злых духов подбегали к ним, делая вид, будто собираются отправить грешника в ад.
Они не обошли своим вниманием и монгольских воинов: плясали вокруг них, издавая крики диких животных, или выхватывали из ножен мечи и кинжалы и, пошатываясь, изображали пьяных. Однако монголы с презрением отталкивали их и с искаженными злобой лицами поднимали на смех танцовщиков.
И наконец, появился Яма, жестокий владыка ада.
Толпа испустила крик ужаса, когда среди танцующих как бы из ниоткуда возникла омерзительная маска. Это была огромная синяя маска невиданного дикого зверя с длинными огненными рогами и черепом-короной.
Монастырский повар начал быстро бегать по площади с жертвоприношением в руках — фигурой обнаженного человека из теста размерами с пятилетнего ребенка.
Мечи и ножи блеснули на солнце.
Толпа воззвала к Будде.
И все маски затанцевали вокруг человеческой фигуры из теста. Загремели барабаны.
А ламы громкими голосами возносили молитву:
— Врага этого, приносящего зло трем святыням, ругающего своего ламу и преступающего святые обеты, — убей и уничтожь! Отринь его от своего бога, который родился одновременно с ним; соедини его с демоном, родившимся вместе с ним, отринь его от его отца, отринь его от его матери, отринь его от его друзей, отринь его от его счастья, разуй и раздень его, напусти на него ливень болезней и смердящих ран, низвергни на него мечи!
Все палачи Ямы набросились с мечами на жертву из теста, разрубили ее на мелкие части: в соответствии с двенадцатью проклятьями ламы ровно на двенадцать частей — и отшвырнули их прочь!
Толпа ликовала.
А монгольские воины только диву давались.
Красочность и разнообразие происходящего действа радовали глаз Тенгери.
Праздник Нового года достиг своего апогея. Над площадью гремела музыка — медь, барабаны, колокольчики. Она то убыстрялась, то замедлялась, становилась то оглушительно громкой, то едва слышной, и музыка эта повелевала масками, заставляя их высоко подпрыгивать или падать на снег, чтобы потом под призывный грохот барабанов снова вскочить. Под громкое многоголосье пляшущих, всеми своими телодвижениями и криками выражавших радость и страх, страдания, смех и слезы, маски и «скелеты» подскакивали к людям, стоявшим под желтой стеной, и тащили их за собой в самую гущу праздничной оргии, в хоровод, окруживший большой костер, в который бросили «сор». Только монгольские воины не принимали во всем этом никакого участия, хотя к ним тоже приставали и тянули в круг.
Тенгери стоял на третьей ступеньке той самой узкой лестницы, что вела на помост под крышей пагоды, где обычно сидели художники. Отсюда вся площадь была видна как на ладони. У задних ворот группа танцовщиков-«скелетов» исподтишка напала на нескольких стоящих там монгольских воинов, повалила их наземь, закатала в большие белые полотнища и поволокла к лошадям. Когда раздался клич: «Китайцы!», всадники с пленными уже скрылись за монастырской стеной.
— Китайцы!
— Среди нас враг!
Такие крики доносились со всех сторон, и Тенгери тоже кричал, охваченный страхом.
Китайцы угнали монгольских лошадей, так что о преследовании нечего было и думать. И вот воины обнажили мечи и начали разить подряд всех, кто был в масках. Яма тоже упал на снег, обливаясь кровью, меч раскроил его синий бычий череп надвое. Эта кровавая бойня привела к тому, что китайцы начали защищаться, хватая все, что под руку попадалось. Это были и мечи палачей, и жертвенные ножи, серебряные жезлы, символизирующие громовые молнии, дубинки и плетки. Тенгери могли в любую секунду сбросить с лестницы и затоптать. Он молотил кулаками по омерзительным рожам, возникавшим перед ним, но и по поразительно красивым маскам — тоже. Это были до того красивые маски, что казалось просто кощунством не то что убить их, но даже ранить, повредить.
Но вот огонь охватил башни монастыря: туда, наверное, успел проникнуть кто-то из воинов и поджечь изнутри. Языки пламени лизали деревянные опоры, черепица падала с крыш и разбивалась вдребезги, с башни сваливались позолоченные верхушки, со своих лотосовидных тронов низвергались статуи Будды. Голуби уносились прочь, найдя себе убежище на невысокой скале у самого побережья.
Со двора удалось убежать нескольким женщинам с детьми. Огонь ревел не переставая, и вот уже начали обрушиваться несущие балки.
Некоторое время спустя примчались всадники из лагеря, которые обратили внимание на пожар в монастыре и в пагоде. Однако до боя дело не дошло. На площади лежало множество убитых, снег, грязный и затоптанный, был залит кровью. Большинство мертвых было в пестрых масках, в масках плачущих, в масках, искаженных яростью, и в масках с доброй и нежной улыбкой. И никто не видел настоящих лиц людей, глаза которых закатились навсегда. Зимний ветер наметал снег на шелковые одеяния лам и погребал под собой обрывки коричнево-красных знамен.
Сидя на ступеньке лестницы, Тенгери смотрел на площадь перед пагодой, и из глаз его лились слезы. У его ног лежал мужчина в черном халате. Когда он упал, маска сползла с его лица. Но случилось это не раньше чем Тенгери пронзил его мечом. И оказалось, что он убил старого мастера, художника, и теперь его полузакрывшиеся глаза были обращены к чистому голубому небу.
— Хочешь сгореть тут вместе со всеми? — спросил Тенгери проходивший мимо воин.
Как раз в это мгновение рухнул навес и множеством головешек рассыпался по помосту, где прежде сидели и рисовали монахи. Воин силой оттащил Тенгери с лестницы.
— Ты ранен? Подлые ламы подарили тебе вместо благословения удар кинжалом?
Тенгери действительно был ранен. Его халат был вспорот кинжалом, и на теле зияла открытая рана.
— Из-за этого плакать нечего, — сказал воин. — До весны она сто раз заживет. Ты лучше на этого вот посмотри, — и он указал на валявшегося на снегу старого художника. — Он бы и рад поплакать, да не может!
А Тенгери даже не почувствовал, что ранен, потому что боль от мысли: «Это я, я убил старика!» — мучила его куда сильнее. Он долго бродил по площади, но так и не нашел своего приятеля, молодого монаха, ни среди живых, ни среди убитых…
Всего китайцы увезли с собой восемнадцать монголов. Скорее всего, они пошли на такой риск, чтобы узнать точно, когда монголы замышляют опять пойти на приступ Йенпина. И убитые монахи, иные пришедшие на праздник люди уже не могли сказать, знали ли они о предстоящем нападении или нет. В живых не осталось никого, кто мог бы ответить на этот вопрос.
Когда Тенгери вышел через широкие ворота в желтой стене, неожиданно снова пошел снег. Море почернело и казалось недобрым, голуби и чайки, сидевшие на камнях и утесах, втянули головы, словно они начали замерзать. Снега в тот день навалило больше, чем за всю зиму. Он еще раз оглянулся: в сторону лагеря кроме него брело еще несколько раненых воинов-монголов, а там, где еще совсем недавно стояли пагоды, в небо тянулись грязные клубы дыма да ветер поднимал серый пепел.
Вечером десятник Бат сказал Тенгери:
— Давай, выставляй свое деревянное стадо!
Но Тенгери не сделал этого, а завернулся с головой в шкуру и уткнулся носом в мех.
— Подумаешь, судьба поставила на нем сегодня свою метку, маленькую такую рану, с кошачий укус, а он уже лежит и не пискнет! Эх, парни! — Бата до того распирало, что не хватало воздуха. — А ведь он простоял всю ночь привязанным к тополю — это ведь куда страшнее! Нет, ничего не понимаю!
«Это не страшнее, — подумалось Тенгери. — И у тополя было не страшно. И рана не страшная. Страшно то, что у меня под халатом картинка с тополем, а художника, который ее нарисовал, я убил. И теперь ничего от монастыря и пагод не осталось, кроме этой картинки и того, чему я там научился».
Некоторое время воины, напившиеся рисовой водки, еще горланили песни. Тенгери заткнул уши, стараясь если не заснуть, то хотя бы унять слезы и забыться.
Глава 9 КОНЕЦ СЫНА НЕБА
Чингисхан не сидел на своих зимних квартирах без дела, он с помощью стрелогонцов поддерживал постоянную связь с князем Ляо. В начале весны ему принесли весть, что в Хитане началось большое восстание ляоистов против китайцев. Чингисхан ликовал и не раз повторял, что в благодарность за это сделает старого князя Ляо императором и вместе с ним и его подданными продолжит войну против империи Хин.
Но буквально два дня спустя в лагерь со всех сторон слетелись гонцы с недоброй вестью: перед Ляоянем, столицей княжества Лянь, неожиданно появились войска императора, которые подавляют один очаг восстания за другим.
Чингисхан опрокинул ногой маленький позолоченный столик, за которым они с Мухули играли в кости. Кубики из слоновой кости покатились по ковру, а Чингисхан вскочил на ноги и в гневе вскричал:
— Измена, Мухули, измена!
— Ты думаешь…
— Да, Мухули, я думаю о нем, том самом китайском полководце, что побывал у меня, когда мы стояли под Йенпином, и выдал себя за человека из рода Ляо. Как иначе объяснить, что китайцы подошли к Ляояню как раз к началу восстания?
Военачальник счел за благо не напоминать хану, что подобные мысли возникли у него уже тогда. Чингисхан мудр и помнит об этом. Поэтому Мухули ограничился тем, что сказал:
— А ведь ты дал ему еще мешочек с драгоценностями.
— Да, дал! Но это, по-моему, первый случай в моей жизни, когда я доверился человеку, а он… — Он вдруг оборвал себя на полуслове.
— Почему ты не договариваешь, мой хан?
— Нет-нет, Мухули! Как же я мог забыть: это уже второй случай, второй. Первого человека звали Кара-Чоно, и он был монголом…
— Я знаю.
— Конечно, а кто этого не знает? А где его приемный сын, его зовут Тенгери? Я назначил его десятником. Где он?
— Я его не знаю и не знаю, в какой тысяче он служит, мой хан.
— Одному я подарил драгоценности — и он предал меня, другого я назначил десятником — и он тоже меня предаст? Не слишком ли я добр, Мухули?
— Ты прав!
— Предательство приводит меня в бешенство, Мухули! Я готов сейчас заподозрить всех, кто проходит мимо моего шатра, всех, кто находится у меня в услужении!
— А сейчас ты не прав, мой хан.
Пройдя несколько шагов по ковру, Чингисхан сам поднял маленький столик и поставил его на место.
— Этого китайского полководца я привяжу к хвосту моего жеребца и буду волочить по земле, пока от него не останется столько, сколько он стоит, — ничего!
Однако Чингисхану так и не удалось выполнить этой своей угрозы…
Тем временем появился еще один стрелогонец и доложил, что китайцы ворвались в Ляоянь и заставили старого князя принести клятву, что он и впредь будет служить Сыну Неба, а не Чингисхану.
Хан немедленно послал девять гонцов по девяти дорогам к Джебе с приказом оставить «край света» и идти со своим тридцатитысячным войском на Ляоянь.
— Пусть возьмет город приступом, разгонит китайцев на все четыре ветра и докажет князю, что я от своего слова не отступаюсь.
Ляоян был далеко не столь велик, как Йенпин, но укреплен не хуже, и после того, как Джебе восемь дней и ночей пытался взять его штурмом и занял-таки все его предместья, он вынужден был признать, что сам город взять не в силах. И это притом что его войско увеличилось на пятьдесят тысяч человек: к нему перешло почти все войско сторонников князя Ляо. Но все же столица княжества оставалась неуязвимой. Нельзя взять приступом — значит, нужно перехитрить врага! Джебе распустил среди своих воинов и китайцев слух, будто на подходе громадные силы китайского императора, который жаждет отомстить князю Ляо за измену. Чтобы избежать верной смерти, нужно бежать сломя голову! Своим воинам он приказал бросить все награбленное и отступать в чем есть. Кроме Джебе и трех его приближенных, никто в его замысел посвящен не был, и в бегство поверили все. Монголы оставили не только стада и повозки, но и всех вьючных верблюдов с трофеями, юртами и кибитками. Они скакали по равнине два дня и две ночи, а когда оказались у озера Ста тысяч золотых рыб, Джебе приказал пересесть на оставленных здесь запасных лошадей.
— Если расстояние, на которое у нас ушло два дня и две ночи, мы пройдем за ночь, мы возьмем город и одержим славную победу!
Вот что сказал своим воинам Джебе! И только теперь до монголов дошло, что бегство было показным, что это была хитрость Джебе. Они закричали от радости и, выхватив мечи, помчались сквозь ночь, уже предвкушая, как они разделаются с китайцами и вернут себе брошенное добро. Они скакали на свежих лошадях, твердо зная: нет лучше оружия, чем внезапность!
После полуночи Джебе бросил клич — приставить острия кинжалов к шеям лошадей!
А когда едва начало светать, все увидели оставленный лагерь, а за ним стены Ляояня.
— Войте, как волки! — заорали тысячники.
И они завыли по-волчьи, нахлестывали лошадей и приставляли острия кинжалов к их теплым шеям. Сначала они ворвались в свой лагерь, и все случилось в точности так, как предсказывал Джебе: китайцы занялись грабежом, пили рисовую водку и плясали от радости — а теперь они погибали. На их головы и тела опускались тысячи мечей и боевых топоров, их сбивали копьями, их волочили по земле на арканах и разили кинжалами. А ворота города стояли открытыми настежь. Когда воины-монголы и ляоиты оказались перед дворцом князя, солнце уже взошло и светило победителям прямо в глаза. Джебе стоял на беломраморных ступенях дворца и говорил, обращаясь к освобожденному князю:
— С этого мгновения мы освобождаем вас от служения императору страны Хин, и вы становитесь императором Ляодуна. Это награда от великого Чингисхана за вашу верность!
— Я буду служить императору монголов до тех пор, пока буду видеть, чувствовать и слышать!
Пять долгих дней праздновали победу, и праздновали бы ее еще пять дней, если бы из Доломура не пришел новый приказ от Чингисхана. В нем говорилось: «Любую хитрость можно применить только один раз. А в империи Хин есть еще более ста укрепленных городов. Есть ли у нас в запасе сто хитростей и уловок? Значит, мы должны научиться брать укрепленные города и без хитростей! Научитесь этому летом и осенью!»
Они занялись тем, чем уже занимались однажды у отвесных скал вблизи родного Онона: учились брать штурмом крепостные стены. Как бы между делом заняли несколько провинциальных городов. Проверяли, насколько овладели искусством осады и решительного приступа.
А весной опять выступили в большой поход: войско Чингисхана, усиленное пехотой и всадниками властителя Ляодуна, повернуло на юг и во второй раз покатилось по равнине прямо на Йенпин.
В это время в подземной темнице дворца в Йенпине по-прежнему томились наказанные императором полководцы, и среди них бывший полководец Великой стены Ху Шаху. И хотя с ними обходились отнюдь не столь строго, как с обычными узниками или безродными купцами, не говоря уже о подлых ворах и убийцах, мучительная неизвестность об исходе войны заставляла их по-настоящему страдать. Когда они спрашивали стражников, где сейчас Чингисхан, им отвечали, что о нем уже с год ни слуху ни духу. Это было для них известием куда более неприятным, чем если бы им, предположим, сообщили, что повелитель степи стоит, мол, у ворот города, ибо только в тех случаях, когда император ощущал, что опасность или беда угрожает ему лично, он был готов помиловать тех, кто попал в опалу. Таковы уж обычаи в Китае.
В первый год своего заключения в подземной тюрьме они занимались тем, что нанизывали, словно бусы на нить, одну допущенную императором глупость на другую и подвергали их всяческим издевкам. А посмеяться и впрямь было над чем. Однажды, к примеру, Сын Неба повелел художнику написать картину, на которой он, император, восседал между горбами чернобородого дикого верблюда с короткой плеткой в поднятой руке. И так как мир еще не видывал человека, способного управлять диким верблюдом, картина должна была стать олицетворением мощи китайского императора. Вдобавок художник изобразил на картине деревья такими маленькими, что они едва доставали верблюду до колен, а это служило уже олицетворением того, сколь высоко возвышается над всем земным трон Сына Неба. Под картиной он повелел начертать на дощечке: «Император Китая управляет диким верблюдом с такой легкостью, словно это самая смирная лошадь из императорских конюшен».
А второй год заключения они использовали на то, чтобы разработать план свержения Сына Неба. Они обсудили все детали, вплоть до самых мелких, и этот план до того крепко засел в их головах, что они с ним и спать ложились, и просыпались.
Но вот пошел уже третий год их заключения, который принес новость об исчезновении хана степи. Стражники понятия не имели, куда он мог подеваться, они не знали даже, идет ли еще война. Теперь узники перестали посмеиваться над глупостью и промашками императора, и мысли о его свержении посещали их все реже.
Все эти годы лишь одно оставалось неизменным: гулкие шаги тюремщиков в длинном коридоре. Плюх-плюх-плюх, поворот, и опять плюх-плюх-плюх. Утром, днем и вечером им приносили на тарелочке рис; поскольку они были полководцами и император мог предположить, что однажды ему все-таки придется прибегнуть к их помощи, он позволил им есть рис палочками, палочками из слоновой кости, в то время как остальным было положено есть руками. Им даже приносили чай, причем горячий и сладкий. И что особенно важно: с этим чаем в подземную тюрьму как бы попадал терпкий аромат их родины.
Но вот в один из весенних дней этого года заскрипел тяжелый железный засов на их двери, и перед ними предстал не какой-нибудь стражник, а старший начальник охраны тюрьмы.
— Чингисхан со всем своим войском стоит у ворот города, — начал он. — Следуя нашим законам и обычаям, Сын Неба счел за благо помиловать вас. Я должен без промедления отвести вас в его покои, где он возведет вас в высокие должности.
Ху Шаху, полководец Великой стены, первым собрался с духом и довольно резко ответил:
— Без меча, без пояса, без шапки? Такого приказа император отдать не мог! Или вам когда-то доводилось уже видеть полководцев, осмелившихся появиться на глаза императора в таких отрепьях?
Тем не менее Ху Шаху первым вышел в коридор.
— Однако, господа, — залепетал начальник охраны, — почтительнейше прошу простить меня! Я передал вам слова Сына Неба, только и всего. Разве я осмелился бы упустить или добавить хоть одно-единственное слово? О мечах, поясах и шапках ничего сказано не было!
— Ошибка! Упущение! Забывчивость! — проговорил Ху Шаху не слишком строго, как бы смягчаясь. — Что сказал бы император, появись мы перед ним в таком виде? — Полководец повернулся на каблуках и снова переступил порог своей темницы. Обращаясь к другим, он сказал еще: — Идите сюда! Подождем, пока начальник охраны придет к нам с другой вестью!
Железная дверь закрылась за ними, и все они молча понимающе улыбнулись, а потом поклялись друг другу, что теперь-то непременно приведут свой план в исполнение.
Начальник охраны довольно скоро появился вновь и на сей раз принес мечи, пояса и шапки. С таинственным видом проговорил:
— Сын Неба дал понять, что после того, как он вернул вам честь ношения мечей, он вправе на вас рассчитывать. Ибо опасность, угрожающая ему, велика, как никогда прежде, господа!
— Пусть рассчитывает на нас! — ответили полководцы в один голос и, пройдя по бесконечно длинному коридору, вышли во двор.
Солнце пригревало. Стройные кипарисы походили на вечнозеленые торжественные свечи. Девушка у колодца наливала воду в кувшины. Они как-то сразу ощутили, что их окружает живая жизнь.
На ступенях двора полководцев поджидал главный телохранитель императора, который и проводил их до покоев. Перед самой дверью дворца Ху Шаху еще раз оглянулся: озеро в парке недвижно. Красная беседка отбрасывала на водную гладь красные решетчатые тени, а вдали, там, где синие горы уходили в небо, стягивались тучи.
Сын Неба принял полководцев в Покоях Доброй Мысли. Он сидел перед обтянутой белым шелком стеной. На ней когда-то висела картина художника Хао Фу, на которой хан монголов был изображен не то человеком, не то зверем — одним словом, чудовищем, но чудовищем смехотворным. Однако теперь ее на стене не было: она куда-то пропала, как пропал и написавший ее художник. Можно было подумать, что император опасался, как бы хан степи не появился здесь с минуты на минуту: эта картина вызвала бы в нем страшную ярость!
— Приветствую вас, мои полководцы! — сказал Сын Неба.
Полководцы поклонились.
— Я принял решение помиловать вас, мои полководцы!
На сей раз они ему не поклонились. Ху Шаху сделал три шага вперед и твердо проговорил:
— Помиловать? Император может помиловать убийцу, император может помиловать вора или обманщика, то есть виновного, но как он может помиловать нас, людей, ни в чем не повинных? Чингисхан у ворот города! Сколько раз я приходил к тебе, прежде чем он напал на нашу страну? Чингисхан разоряет нашу страну! Сколько раз я предупреждал тебя? Но за то, что я приходил к тебе и предупреждал о нем, ты приказал дать мне плетей и вместе с другими бросить в подземелье. И нам пришлось расплачиваться за твое заблуждение. Теперь же ты говоришь: «Я принял решение помиловать вас, мои полководцы!» Разве не справедливо было бы, если бы ты вместо этого опустился перед нами на колени и попросил, чтобы мы не держали на тебя зла?
— Я? Император? — Сын Неба вскочил с подушек, силясь все-таки улыбнуться.
— На колени! — закричали полководцы.
Главный телохранитель обнажил меч и встал перед императором.
— Стража! — крикнул он.
Кое-кто из полководцев бросился к двери, а другие, и среди них Ху Шаху, обступили императора. В коридорах, ведущих к Покоям Доброй Мысли, разгорелись было жаркие схватки, только длились они совсем недолго, поскольку телохранители растерялись, увидев перед собой знаменитых полководцев. А когда догадались, кто тут против кого, было уже слишком поздно.
Убитый главный телохранитель лежал у ног своего повелителя, который ни на шаг не отходил от обтянутой белым шелком стены.
Полководец Ху Шаху бросил Сыну Неба кинжал в серебряных ножнах.
— Сделай это сам, и потомки воздадут тебе!
Император поймал ножны на лету. Выражение полного безразличия, с которым он встретил обиженных им полководцев, давно сползло с его лица. Он стоял перед ними в своем золотисто-желтом одеянии, и вышитый на груди темно-красный дракон слегка подрагивал. Но никто не испытывал больше ни почтения к императору, ни страха перед ним.
— Цареубийцы! — с презрением проговорил император и выронил кинжал из рук. Однако, стоя под белой стеной, он как будто стал вдруг меньше ростом.
Когда заговорщики вскричали в один голос: «Трус!» — он выпрямился во весь рост и гордо поднял голову. Тогда Ху Шаху подбежал к нему и вонзил в грудь Сыну Неба меч. Император медленно, словно во сне, повалился навзничь, опрокинув при этом несколько кувшинов с цветущими ветками персикового дерева. Вода, смешанная с кровью, смочила подушки, на которых еще совсем недавно восседал повелитель империи Хин.
Заговорщики поспешили выбежать из покоев убитого. Попадавшихся им под горячую руку противников они убивали, друзей принимали в объятия. Нескольких видных сановников, членов Большого Совета, которые не сразу поняли смысл насильственного переворота и высказали некоторые сомнения, просто выбросили из окон во двор. Они, мертвые, лежали на окровавленных камнях, и их гибель убеждала сильнее всяких слов тех, кто еще колебался или хотел бы узнать, какой поворот примет восстание к вечеру, какое у него будет обличье.
Все произошло так или примерно так, как они замышляли в подземной тюрьме, и к заходу солнца в руках заговорщиков был не только весь дворец — они успели распределить все ключевые посты.
Новым императором они объявили принца из династии Хин по имени Хсуа Сун, человека, на чью благосклонность они могли рассчитывать твердо. Ху Шаху присвоил себе звание главнокомандующего всеми войсками. Три дня подряд он совещался со своими полководцами, как разбить Чингисхана, по-прежнему стоявшего у ворот Йенпина и готовившегося к штурму. В конце концов они разработали коварный план, пружину которого Чингисхан ни за что разгадать не смог бы и который привел бы хана степи на грань полного поражения, если не уничтожения. Ху Шаху сказал:
— Не он, а мы перейдем в наступление. Я сам поведу войско! Моя правая рука, полководец Као Хи, поведет левое крыло в обход и выйдет из города уже сегодня в полночь через южные ворота, в то время как я брошусь на эту степную крысу, выйдя завтра в полдень через северные ворота! Я погоню эти орды кочевников прямо перед собой, я буду сечь их, рубить, колоть и душить, а тех, что останутся в живых, у горного хребта встретит и растопчет полководец Као Хи.
— Слушайте и повинуйтесь! — торжественно провозгласил новый император.
Никогда прежде согласие полководцев на военном совете не было более полным, чем в тот день. Решение выйти из города и самим напасть на противника было столь неожиданным и смелым, что никто в победе не сомневался.
Ровно в полночь Као Хи с войском левого крыла вышел из города через южные ворота и приступил к отходному маневру.
А незадолго до полудня к своему войску прибыл главнокомандующий Ху Шаху, чтобы выйти из Йенпина через северные ворота. Его везли в плетеном кресле на колесах, потому что во время стычки в императорском дворце его тяжело ранили в ногу. Воины ждали его во дворах домов и перед хижинами, за защитными валами и под городскими стенами, у метательных машин и огромных катапульт.
И тут произошло нечто такое, чего никто не мог предугадать и что ни в какие планы не вписывалось. В сторону города задул сильнейший ветер, да что там — настоящий ураган! Солнце словно увяло в серо-желтой пыльной пелене. На улицах и в переулках стало сумрачно, темно. Собаки завыли от страха, а кошки попрятались. Раскаты грома прокатились над равниной и городом. Хижины обрушивались, с некоторых домов срывало крыши, и они, повисев несколько мгновений на сеющем дожде, с шумом разлетались на части во дворах и на улицах. Высокие деревья ломались, будто тоненькие стебельки.
Но едва буря утихомирилась, Ху Шаху отдал приказ немедленно открыть ворота. Под защитой пыльной завесы, которую все еще гнал в сторону города понемногу слабеющий ветер, китайцы вывели на открытые позиции метательные машины и катапульты, поставив их прямо против лагеря монголов.
Сидя в своем плетеном кресле на колесах, главнокомандующий Ху Шаху, которого телохранители защищали от порывов ветра своими телами — вот когда это выражение оправдалось вдвойне! — раз за разом кричал хриплым голосом:
— Стреляйте! Стреляйте! Стреляйте!
Китайцы заправляли в метательные машины камень за камнем и, попадая в ряды монголов, разносили их на куски, разбивали в щепки повозки, разили наповал лошадей и верблюдов. С жутким свистом пролетали в воздухе целые пучки обитых железом стрел, выпущенных из катапульт. А когда китайцы стали еще пускать на монголов летучий огонь, который взрывался во вражеском лагере и повсюду вызывал панику, монголы совершенно смешались и потеряли голову от страха. Они, наверное, подумали, что Небо отвернулось от них, потому что о военной машине, которая изрыгает в воздух горящих змей, взрывающихся потом со страшным треском, они и слыхом не слыхивали. И еще: откуда у китайцев взялись силачи, способные метать по равнине целые глыбы, одну за другой? И какие это великаны и из каких это луков выпускают по ним целые стаи железных стрел?
Монголы пятились, отступали, бежали. И конные и пешие.
— Загоняйте их в реку! — кричал сидевший в кресле Ху Шаху, которого катили вслед за линиями лучников, широким фронтом наступавших по равнине. Метательные машины и катапульты сейчас молчали, а пущенные китайцами тысячи стрел впивались в спины бегущих монголов.
— Конница! Удар справа! — приказал Ху Шаху. — Не давать им скатываться к северу! — И указал палкой направление.
Приподнявшись в кресле, он следил за тем, как конница выполняет его приказ. Ей действительно удалось оттеснить врага на северо-восток. Ху Шаху отреагировал немедленно:
— Еще две тысячи на правый фланг! Если варварам все-таки удастся прорваться на север, удар левого крыла Као Хи придется по пустому месту. Конечно, победа уже сейчас за нами, но простят ли нас потомки, если мы не воспользуемся возможностью уничтожить варваров с севера так, чтобы им неповадно было появляться в наших пределах?
Тем временем войско Чингисхана оказалось вблизи узкой и неглубокой реки. Здесь им удалось хоть немного восстановить боевые порядки и зацепиться: они нашли укрытие за камнями и кустами и готовились дать отпор разгоряченным китайцам.
Ху Шаху снова приподнялся в кресле и замахал палкой:
— Метательные машины! Катапульты! Где они?
Было очень сложно во время столь подвижной битвы постоянно перемещать тяжелые машины. Китайцы лупили тягловых яков, орали, сыпали проклятьями, тянули их за рога, били сучковатыми палками по окровавленным мордам или подносили к ушам подожженные веревки. Другие воины подтаскивали на досках по земле тяжелые камни и бесчисленное множество стрел с железными наконечниками.
Когда монголы начали отступать за реку, катапульты и метательные машины заработали снова.
Камни тяжело ухали в воду, вздымая пирамиды брызг. В кого камни попадали, тот оставался на илистом дне реки.
Главнокомандующий достиг того места, где прежде находился главный лагерь монголов. Между сломанными и опрокинутыми кибитками валялись убитые люди и животные, разорванные на части острыми камнями, рассеченные мечами или пораженные стрелами из катапульт. Горящие повозки, горящие тюки с награбленным. Разбегающиеся стада овец, стоящие на коленях верблюды, издающие страшные крики. И множество раненых, взывающих к богам. Но боги не пожелали смилостивиться над ними, как не знали пощады и китайцы: они безжалостно добивали всех раненых.
Когда Ху Шаху заметил, что некоторые из его воинов занялись мародерством, он сделал знак одному из своих порученцев: немедленно убить их!
А монголы успели укрепиться на другом берегу и не давали теперь китайцам возможности перейти ее вброд.
— Меня удивляет, — сказал маршал Ху Шаху, — что этот монгольский хан не вводит в дело резервы.
— Подтянуть поближе метательные машины и начать обстрел правого берега? — спросили его.
— Нет! Когда солнце скроется за горами и тени вершин коснутся реки, полководец Као Хи ударит в тыл врага, возьмет его в клещи и снова сбросит в реку. Тогда мы снова начнем обстреливать монголов из машин и катапульт. С одной лишь разницей: на сей раз мы его к берегу не подпустим. Это будет величайшим и знаменательнейшим днем нашей жизни — днем гибели Чингисхана!
Собрав все силы, он встал и, опираясь на палку, сделал несколько шагов вперед. Он не сводил глаз с гор, словно опасаясь, что Као Хи появится слишком рано и этим все испортит. Солнце стояло еще высоко, и Ху Шаху подумал: «Еще немного, и хан не выдержит, бросит в бой резервы».
— Может быть, «варвар с севера» разгадал наш план? — спросили Ху Шаху его помощники. — И ждет теперь появления Као Хи, чтобы своими резервами ударить в тыл нашего левого крыла?
Главнокомандующий заковылял обратно к плетеному креслу, упал в него и поднял на своего первого порученца искаженное злобой лицо:
— У Као Хи есть разведчик, и он наверняка знает о ходе битвы!
Хотя это прозвучало достаточно убедительно, лица порученцев выражали некоторое сомнение.
А с монгольской стороны реки несколько стрелогонцов помчались в сторону гор.
Когда солнце почти коснулось вершин, Ху Шаху сокрушенно проговорил:
— Никаких резервов он в бой не вводит! Никаких!
— Да, он придерживает их, — откликнулся тот из порученцев, который намекнул, что Чингисхан введет их в бой, только когда можно будет ударить Као Хи в тыл.
— Пусть левое крыло с пятью тысячами воинов переходит через реку, — приказал главнокомандующий. — На всякий случай, — добавил он.
Порученец улыбнулся, как бы говоря: «Значит, все-таки…»
Солнце скрылось за горами, и они сразу потемнели. Ху Шаху встал и посмотрел в сторону левого крыла. Там уже завязался жаркий бой. Его воины добрались, правда, до середины реки, но монголы не остались на своем берегу, а пошли на них в атаку прямо на лошадях и начали теснить. Добившись своего, вернулись на правый берег. Течение уносило трупы и тонущих раненых.
— Терпение, терпение, — говорил Ху Шаху, поглядывая на горы. — Као Хи должен вот-вот появиться!
Черные тени начали, подобно длинным стрелам, надвигаться на реку, а совершившее обходной маневр китайское войско все не появлялось.
— Он их придерживает, — снова сказал порученец главнокомандующего.
Монголы стояли на прежних позициях, внешне сохраняя полное спокойствие. Китайцы тоже прекратили всякие перемещения. Можно было подумать, что обе стороны ждут чего-то сверхъестественного. Однако ничего не происходило ни на той стороне реки, ни на этой. Лишь день угасал, забирая свой свет за горы.
Ху Шаху молчал. Время от времени постукивал палкой по колесу кресла, покашливал, пытался приподняться в кресле. Но горные ущелья были уже темными как ночь, и ничего нельзя было разглядеть: ни дерева, ни куста, ни перевала.
— Као Хи не придет! — с уверенностью в голосе проговорил тот же порученец.
А Ху Шаху по-прежнему хранил молчание.
— Может быть, подтянем все же метательные машины и начнем обстрел правого берега?
— Нет!
Они провели в тревожном ожидании еще некоторое время, и, когда оба берега стали уже неразличимы, Ху Шаху негромко сказал:
— Отвезите меня назад! Као Хи не придет. А если даже придет, в бой не вступит: кто способен в ночи разобраться, где свои, а где враги? Я прикажу казнить Као Хи. Он похитил у нас окончательную победу.
— Может быть, его задержала буря, — предположил главный порученец.
— Буря? Она была нашим союзником! А для Као Хи, значит, врагом?
На последнем холме перед северными воротами Ху Шаху сделал телохранителям знак остановиться. Он решил провести ночь здесь.
— Я велю казнить его, отрублю голову и пошлю ее Чингисхану, чтобы тот знал, кому обязан жизнью! — сказал он и снова уставился в сторону реки. Там не горел ни один костер, и ни одного звука оттуда не доносилось. Тишина стояла такая, словно после этой битвы не осталось в живых ни одного воина.
А потом главнокомандующего сморил сон, и, когда один из телохранителей приблизился к нему и доложил о прибытии Као Хи, он ничего не ответил. Тем временем миновала полночь и преданный телохранитель решился все-таки разбудить Ху Шаху.
— Главнокомандующий! — прошептал он. — Главнокомандующий! Он здесь!
— Кто здесь? — Ху Шаху испуганно вздрогнул и сбросил на землю меховое одеяло, укрывавшее ноги.
— Као Хи!
— Као Хи? — Маршал, опираясь на палку, огляделся вокруг. Все черным-черно, от Йенпина до самых гор. — Где?
— На другом берегу реки!
— Где, я спрашиваю! — главнокомандующий возвысил голос до крика.
— Я же сказал: на другом берегу!
— А монголы, они где? — сразу понизив голос до шепота, спросил Ху Шаху.
— Исчезли!
— Ага! — Он, тяжело ступая по рыхлой земле, сделал несколько шагов вперед и остановился, опираясь на палку. — Я жду его с первым лучом солнца в императорском дворце!
— Слушаюсь! В императорском дворце! — И телохранитель исчез.
Теперь со стороны реки доносился шум. Это Као Хи со своим войском переходил реку.
Когда кресло на колесиках с главнокомандующим прокатили уже через северные ворота, Ху Шаху спросил у своего помощника:
— А где же резервы, о которых ты столько раз упоминал?
— Зачем ему было вводить их в бой? Близилась ночь!
— Глупости! Никаких резервов у него не осталось! О этот Као Хи, из-за него мы потеряли все! История проклянет его!
Полководец Као Хи появился в императорском дворце точь-в-точь в назначенное время.
При его появлении Ху Шаху не произнес ни слова, а молча указал рукой на покои Хсуа Суна. Повелитель поспешил им навстречу с вытянутыми как для объятий руками. Такой прием был необычным и противоречил принятой церемонии. А он лишь улыбался и повторял:
— Победители! Победители!
Он действительно хотел обнять их, и широкие рукава его халата подрагивали на залетавшем в высокое окно ветерке как полотнища золотистого цвета знамен.
— Отступи назад, — посоветовал императору Ху Шаху. — Или ты готов заключить повинующегося в одни объятия с неповинующимся?
Император не замедлил отступить на несколько шагов, и теперь его руки безвольно повисли.
— Кто же из вас неповинующийся?
— Он, Као Хи! — сказал Ху Шаху.
— Мне доложили о великой победе. И ни словом не упомянули о неповиновении полководца Као Хи.
Главнокомандующий объяснил ему, что Као Хи не появился в назначенное время в нужном месте.
— Не случись этого, мы не только выиграли бы сражение, но и навсегда покончили бы с «варваром с севера»!
— Каким будет твой ответ, Као Хи? — спросил император.
— Буря, ураган…
— Буря! Мне буря помогла перейти в наступление, а тебе…
— Воины отказывались идти вперед. Мы дошли уже до гор и…
— У него нет воли! Если его воины отказывались, почему он не приказал казнить десятерых? Десять казненных вызывают прилив сил у тысячи живых, а сто казненных поднимут боевой дух всего войска! — С этими словами Ху Шаху отступил в сторону. — Я требую его смерти!
Император опустился на подушки. Рядом с ним стояла юная служанка, обмахивавшая его опахалом из павлиньих перьев.
— Смерти?
— Да, смерти!
Хсуа Суну захотелось орешков, и ему мгновенно подали их на серебряном блюде. Он бросал орешки в рот, переводя внимательный взгляд с Ху Шаху на Као Хи.
— Кто спешит, часто спотыкается и падает, — сказал император. — Кстати, как твоя нога, Ху Шаху?
— Совсем скоро я забуду о ране, — ответил тот, недовольный столь незначительным вопросом.
Као Хи вдруг встрепенулся, словно почуяв близкую удачу.
— Я прошу смерти!
От удовольствия император даже захлопал в ладоши:
— Молодец, Као Хи, молодец! Однако мудро ли казнить полководцев, в которых я так нуждаюсь?
Ху Шаху едко заметил, что мертвый полководец лучше строптивого полководца.
— Не желаешь ли сесть, мой верный главнокомандующий? Я вижу, рана доставляет тебе страдания!
— Нет!
Император отдал слуге пустой поднос и пожелал горячего молока.
Ху Шаху внимательно наблюдал, как император маленькими глотками отпивает горячее молоко из фарфоровой чашечки, как смакует его и какое наслаждение при этом испытывает — можно было подумать, что в эти мгновения ничего, кроме молока, в мире не существовало, а они двое, главнокомандующий и его полководец, пришли для того лишь, чтобы убедиться в том, как это молоко ему, императору, нравится.
Но вот император бросил на них поверх изящной и почти невесомой чашечки такой взгляд, словно отгадал мысли Ху Шаху и теперь думал вот о чем: «Один из них цареубийца и сам себе присвоил звание главнокомандующего, а другой трус и лицемер, который умоляет лишить его жизни, рассчитывая тем самым ее сохранить». А вслух Хсуа Сун сказал:
— Слушайте и повинуйтесь! Као Хи нападет на войско Чингисхана. Если он одержит победу, мы подарим ему жизнь. А если потерпит поражение, я позволю тебе, Ху Шаху, казнить его! Ты согласен? — И добавил: — Мой верный главнокомандующий.
— Да, — ответил Ху Шаху, — согласен! А мне что делать?
— Залечивать ногу, залечивать ногу!
По лицу Као Хи скользнула ехидная улыбка.
Вскоре оба оставили императорские покои. Ху Шаху, поддерживаемый двумя помощниками, хромая спустился по широкой мраморной лестнице к своему креслу на колесиках и велел доставить себя в собственный дворец.
— И каждый час оповещайте меня о развитии событий, — сказал он им, отходя ко сну. У двери спальни стояли два телохранителя с обнаженными мечами в руках, а несколько других прогуливались туда-сюда по аллеям сада мимо цветущих персиковых деревьев. Широкое окно в спальне оставалось открытым.
Хотя главнокомандующий возненавидел Као Хи за то, что тот лишил его лавров великого героя, он желал ему полной победы: Ху Шаху любил свою страну и не мог себе представить, что ее завоюет человек, не умеющий ни читать, ни писать, из подданных которого не вышло ни ученых, ни земледельцев, ни ремесленников, ни художников, ни купцов.
— Неужели нет еще никаких вестей? — спросил он вечером.
— Есть, но не слишком обнадеживающие: Као Хи стоит перед рекой и перейдет ее еще нынешней ночью, — ответил его первый помощник.
— А монголы?
— Видны отдельные лодки, но самого войска не видно. Хан степи наверняка хочет заманить его в горы!
Что было возразить Ху Шаху? Да и зачем?
Ночь выдалась ясная, лунная, и листочки на персиковых деревьях серебрились словно заснеженные. По посыпанной песком дорожке, поскрипывая башмаками, прохаживались телохранители. Главнокомандующий долго лежал без сна.
— Почему этот Као Хи собирается перейти реку? Не понимает разве, что монгол заманивает его в горы?
— Но ведь для того, чтобы остаться в живых, он, по-моему, должен искать сражения? — удивился первый помощник Ху Шаху. — А не опасается ли он, что вождь монголов после первого поражения навсегда уйдет восвояси? Как вы с ним тогда поступите?
Это Ху Шаху нисколько не заботило. Поэтому он ничего не ответил, а прислушался к руладам соловья, которые напомнили ему слова матери: «Никогда не засыпай под трели соловья: может быть, своей песней он хочет предупредить тебя о чем-то!»
И вот наступило ненастное, дождливое утро. Во дворце главнокомандующего появился очередной гонец и принес такую весть:
— Чингисхан вернулся и готов принять бой.
— Вот видите! — проговорил Ху Шаху, сел в кресло, и его подвезли к окну, как будто отсюда, из дворца, он мог наблюдать за ходом битвы. Конечно, это было невозможно, он видел только листья, которые ветер срывал с веток персиковых деревьев и пригоршнями швырял в окно. Стражи укрылись под ветвями могучего конского каштана и вытирали мокрые от дождя лица.
— При таком ливне Као Хи не удастся применить «летучий огонь», — сказал Ху Шаху. По его тону первый помощник понял, что главнокомандующий сожалеет об этом.
— Нет, никак не сможет, — подтвердил он.
К обеду приспела добрая весть. Полководцу Као Хи удалось отогнать монголов вплоть до предгорных деревень.
— Он бьется как пятиглавый Яма, — говорил гонец. — Он увлекает своих воинов за собой, он сражается в первых рядах. И казнил уже пятьдесят человек, которые недостаточно быстро подтягивали к месту боя метательные машины и катапульты.
Главнокомандующий криво улыбнулся.
— Когда во время нашей битвы он должен был совершить обходный маневр, он предпочел прийти слишком поздно. А сейчас, когда поражение может стоить ему головы, он, похоже, готов казнить не только пятьдесят, но и сто или даже тысячу человек. За жизнь цепляется…
— Да, он хочет жить!
— Пусть победит — и волос с его головы не упадет!
К вечеру подоспел другой гонец. Полководец Као Хи прекратил преследование, доложил он, остановился в предгорье, занял удобную позицию и держит у реки в засаде сильные резервы.
— Значит, у него хватило ума не дать увлечь себя в горы! — сказал Ху Шаху, снова вытягиваясь на кровати.
— Вы рады этому? — спросил первый помощник.
— Да! Можно ли сравнить цену победы с его жизнью?
Этой ночью дождь прекратился, но луну затянули тучи, и соловей больше не пел. Ху Шаху заснул, а ведь сколько ночей он бодрствовал!
А наутро произошло нечто совершенно неожиданное: Чингисхан поджег несколько деревень, прижимавшихся к предгорью, и погнал их жителей — женщин, детей и стариков — впереди своей конницы. Као Хи был вынужден отступить, причем без боя, потому что не мог себя заставить убивать ни в чем не повинных, безоружных земляков. Его положение осложнилось еще больше, когда ему пришлось вернуться на левый берег. Здесь стояли его тяжелые метательные машины, катапульты и, что самое главное, машины, стреляющие «летучим огнем». О том, чтобы захватить их с собой, быстро отступая, не могло быть и речи. Но с другой стороны, они могли попасть в руки врага, а это уже равносильно поражению. Какой выбор оставался у Као Хи? Стрелять по своим — по женщинам, детям и старикам — или смириться с неизбежным.
— Чтобы спасти свою жизнь, он будет стрелять по ним, — сказал Ху Шаху первый помощник и принес ему на подносе чашечку горячего чая.
— Я бы сделал то же самое, — ответил главнокомандующий, — даже если бы моей жизни ничего не угрожало. Что такое даже тысяча жизней беспомощных женщин и детей, если благодаря их гибели я смогу спасти миллионы моих соотечественников от владычества этого степного дикаря?
Полководец Као Хи так и поступил, хотя и по другой причине. Итак, он без конца пускал «летучий огонь» на своих земляков. А еще на них обрушивались тяжелые камни: метательные машины тоже работали без передышки. И когда монголы убедились, что Као Хи намерен закрепиться на левом берегу, раздались резкие отрывистые крики тысячников, после чего воины хана погнали своих лошадей прямо в воду, на людей. И, несмотря на огромные потери, на головах спасшихся прорвались на левый берег.
И случилось то, чего Као Хи опасался больше всего: они захватили метательные машины. И катапульты — тоже. И казавшиеся им исчадиями ледяного и огненного ада машины «летучего огня» — тоже. Как их применять, они пока не знали, но потеря этих орудий была для китайцев равносильна разгрому. И прежде чем Као Хи удалось перестроить свое войско, Чингисхан подвел свежие резервы, и китайцы дрогнули, откатились далеко назад, почти до самых предместий Йенпина.
Последнее донесение, которое принесли Ху Шаху гонцы, было таким:
— Он бежит, он уже у западных городских ворот.
— Жаль, жаль, — ответил главнокомандующий. — Победа обрадовала бы меня несравненно больше, чем никчемная жизнь.
В саду кто-то пронзительно вскрикнул. Главнокомандующий поднялся из своего кресла на колесиках и сделал несколько шагов к окну. Из кустов выскочили несколько воинов и метнулись к дворцу. Ху Шаху так и не смог разобрать, его ли это телохранители или враги, но это сейчас уже не имело для него значения.
— А вот и я! — услышал он хриплый возглас за спиной и повернулся к двери.
На пороге стоял Као Хи с мечом в руках и улыбался во весь рот.
— Твой дворец окружен, а твои телохранители мертвы! Понимаешь?
У Ху Шаху не было ни меча, ни кинжала. Куда ему было бежать на одной ноге? Выпустив из рук шелковую ткань занавески, за которую держался, он покачнулся и упал на пол.
Полководец подскочил к нему и одним махом отрубил ему голову. А потом схватил ее, выбежал из дворца и во весь опор поскакал в другой, императорский дворец.
Хсуа Сун ожидал увидеть Ху Шаху, но никак не Као Хи. А тот, держа в руке окровавленную голову главнокомандующего, с нескрываемой угрозой в голосе выкрикнул:
— Он или я? Выбирай!
Никакого выбора у императора не было. С таким же успехом Као Хи мог спросить: «Ты или я?»
— Ты храбр, — ответил император. — Назначаю тебя новым главнокомандующим.
Као Хи отдал низкий поклон, улыбаясь позолоченным цветам лотоса, узору, пущенному по сверкающему полу императорских покоев.
— Я вознагражу тебя за твою смелость, — сказал Хсуа Сун. — И воинов твоих тоже не забуду!
Вот так император и предал своего главнокомандующего, единственного человека, которому удалось победить Чингисхана в открытом сражении.
Глава 10 К ДОЛОМУРУ И ДАЛЬШЕ
Тенгери лежал на левом берегу речушки, протекавшей совсем недалеко от Йенпина, и пока он открыл глаза, прошло много-много времени, он даже сам не знал, как долго пролежал здесь. Первое, что дошло до его сознания, так это какое над ним высокое небо. Лежал он на спине, затылком в воде, и, кроме неба, синего, бескрайнего и красивого, как Керулен, ничего не видел. Но Тенгери сразу сообразил, что он не у Керулена, потому что со стороны города доносился шум сражения, крики, отрывистые приказы и стенания раненых. Ноги Тенгери были на прибрежном песке. Пошевелить ими он был не в состоянии. На них словно навалилась невесть какая тяжесть, сбросить которую он был не в силах. Речная вода холодила затылок. Она то подбегала, то убегала — это, наверное, было дыханием реки. Тенгери повернул голову вправо. Увидел упавшего ничком убитого монгола, повисшего на невысоком кустике с желтыми цветами. Чуть поодаль из воды торчали лошадиные ноги. А дальше по всему берегу валялись трупы, где поодиночке, а где целыми кучами. На расстоянии они напоминали все уменьшавшиеся в размерах тюки с полотном, которые раздувал ветер. Слева от Тенгери лежала китаянка в темно-синем платье, молодая женщина или девушка. Еще живая, потому что грудь ее вздымалась. Казалось, кто-то вонзил в ее тело тяжелый меч, но это было не так, меч был на расстоянии двух-трех пальцев от нее в мелком песке. Женщина застонала и замотала при этом головой. Лицо ее было в крови, запекшейся на солнце.
«Вот здесь я и умру», — подумалось Тенгери. Шум сражения не затихал и не отдалялся, и Тенгери понял, что воины хана пока что не овладели Йенпином. А если они не проникнут в город, то вполне возможно, что китайцы опять сделают вылазку и опять отбросят хана от крепостных стен. «Тогда они, китайцы, найдут и убьют меня, — подумал Тенгери. — Эту девушку или женщину они выходят, ведь она их рода и племени. Меня же они убьют».
Он то и дело поглядывал на молодую женщину и был бы рад заговорить с ней, но она только постанывала и не сводила глаз с прекрасного высокого неба. Один раз она подняла руки, словно желая кого-то обнять и притянуть к себе, но они сразу бессильно упали на песок.
Повернув голову набок, он мог без труда напиться речной воды. И он приник к ней, пил долго и жадно, как будто собирался напиться воды на всю жизнь. Тяжести на ногах он больше не ощущал, но зато и ног совсем не чувствовал, и он подумал: «А вдруг у меня их больше нет?» Спина горела так, будто он лежал на тлеющих угольях. Упершись руками в песок, он попытался сдвинуться с места. Это ему удалось. Но жгучая боль в спине не уходила. Похоже, она даже усилилась, стала невыносимой. И тогда он затих, лежа на боку и глядя на китаянку.
Вдруг эта женщина посмотрела на него, удивленно и вопросительно. И чем дольше она на него смотрела, тем скорее приходила в себя, пока наконец не поняла, почему она здесь. Взгляд ее сделался злым и даже диким.
— Монгол! — едва слышно проговорила она.
Это прозвучало как проклятье.
Тенгери силился улыбнуться, не зная, что ему еще сделать. Но он не сумел изобразить даже подобия улыбки. Он вдруг содрогнулся от мысли, что такая улыбка могла быть встречена как издевательство, не иначе: ведь она была одной из тех, кого они вместе с детьми и стариками погнали перед собой, чтобы заставить китайское войско отступить без боя. Так им приказали тысячники и сотники, и они повиновались, потому что обязаны были оказывать им полное повиновение, если сами не хотели умереть.
«Однажды смерть настигнет каждого из нас, — подумал Тенгери сейчас, когда женщина смотрела на него с такой ненавистью. — И кто знает, может быть, лучше умереть молодым, когда не успел еще натворить бед, чем поздно и кругом виноватым. Вот эта женщина, например, жила в своей деревне, как Герел у Керулена, а теперь должна умереть, хотя ничего плохого никому не сделала».
Женщина сместилась немного влево, и в ее руке оказался маленький кинжал.
— Монгол! — еще раз сказала она.
— Брось его! — сказал ей Тенгери по-китайски.
— Монгол! Монгол!
Она попыталась приблизиться к нему, перекатившись на другой бок, и уставилась на Тенгери. Но силы быстро оставили ее. Некоторое время она лежала на животе, уткнувшись лицом в песок, и стонала. Однако кинжал в руке сжимала крепко.
— Да брось ты его! — повторил Тенгери, и сказал это без угрозы в голосе, а скорее дружелюбно, со снисхождением. — Мы оба умрем здесь, зачем же тебе убивать меня до срока? Ты посмотри на небо! Оно у вас почти такое же красивое, как над моей ордой у Керулена.
Но китаянка не ответила, может быть, она и не поняла вовсе слов Тенгери. Она снова попыталась пусть ненамного, но приблизиться к нему. Теперь расстояние между ними было не больше шага.
«Она и впрямь хочет убить меня», — подумал Тенгери и показал ей свои руки: у меня, мол, никакого оружия нет, я не причиню тебе зла.
Однако это обстоятельство лишь подстегнуло ее. Женщина наверняка вспомнила, как они, безоружные и беззащитные, бежали к реке, чувствуя за спиной горячее дыхание лошадей монголов, и вот теперь они поменялись ролями: перед ней безоружный и беззащитный монгол. Она улыбалась. Может быть, неукротимая ненависть прибавила ей сил, и она приблизилась почти вплотную к Тенгери. Тут молодая женщина закашлялась, и из уголка рта со слюной потекла тоненькая ниточка крови. И когда она подняла руку с маленьким кинжалом, чтобы нанести удар, Тенгери уже нечего было опасаться: силы опять оставили женщину, рука опускалась помимо ее воли, и Тенгери не стоило большого труда отнять у нее этот кинжал. Она с удивлением смотрела на него, в ожидании, что теперь-то он наверняка убьет ее. Но во взгляде женщины не было и тени страха, она и не думала просить пощады, все та же ненависть светилась в ее глазах. Тенгери же отшвырнул кинжал подальше в воду.
— Вот так, — сказал он. — А теперь посмотри на небо и вспомни о чем-нибудь приятном…
Нет, он и сам не знал, что еще сказать. «Может быть, ей нет никакого дела до неба и ничего приятного в ее жизни не было?» — подумал он. Но как бы там ни было, сейчас женщина опять лежала на спине и действительно смотрела на небо. Тенгери очень хотелось, чтобы теперь, когда он бросил кинжал в речку, она посмотрела на него и улыбнулась. Но она и не думала улыбаться — смотрела себе на небо, и все.
Мысли об этой женщине овладели Тенгери, и на какое-то время он даже забыл о смерти. Но вот до него снова донесся шум от городской стены. «Они, как видно, топчутся на месте, — подумал он. — Да, это так. И если китайцы опять выйдут из Йенпина, а наши побегут, мне не жить».
Кто-то зашлепал ногами по воде, рыча при этом по-звериному. Судя по гортанным крикам, это был монгол. Он взывал к своим богам, проклинал Будду и китайцев. Монгол этот, похоже, свихнулся: орал что-то неразборчивое, плакал, сыпал проклятьями, через каждые несколько шагов плюхался в речку, поднимался снова и подходил все ближе и ближе.
Китаянка испуганно подняла голову. Ее лицо лоснилось на солнце от капелек пота. Только сейчас Тенгери пришла в голову мысль, что этого монгола она опасается куда больше, чем его: он-то убьет ее обязательно! «Я не дам ему убить ее», — подумал он и сказал то же самое вслух:
— Слышишь, я не дам ему убить тебя!
Голова китаянки опять упала на песок. Тенгери не знал точно, поняла она его или просто смирилась с неминуемой смертью.
Тем временем разоравшийся монгол дошел до берега, проклиная все на свете и ругаясь почем зря. Тенгери услышал, как он споткнулся о камень и от боли заорал еще громче.
— Иди сюда!
На сей раз китаянка головы не подняла, она лежала с закрытыми глазами и не шевелилась. Казалось, она даже не дышит.
— Иди сюда, понял? — еще раз крикнул Тенгери.
— Куда? К тебе? — Воин горько рассмеялся. — Теперь мне уже все равно, куда идти! Слышишь, все равно!
Он смеялся, а потом вдруг разрыдался и опять начал сыпать проклятьями. Но все-таки подошел, еще несколько раз споткнувшись и упав. Рыча от злобы, остановился в двух шагах перед Тенгери, согнувшийся как старик, с руками, повисшими как плети. Его синий халат был порван в клочья и покрыт жирными желтыми пятнами. Кожа с правой щеки сорвана и прилипла к ней, как тонкая липкая бумага. Над левым глазом — большая рваная рана, из которой сочилась кровь.
— Масло, горячее масло, — выдавил из себя воин. — Представляешь себе, как наши пляшут там под стеной, как орут, как подпрыгивают, а китайцы на стене хохочут и указывают на нас пальцами. И все льют и льют сверху горячее масло. Ой-ой, — застонал он, упал на песок, пополз на четвереньках к реке и окунул голову в воду. А когда вернулся, пробормотал снова: — Горячее, кипящее масло.
Холодная вода хоть немного, но сняла боль, и он уже несколько спокойнее проговорил:
— У Керулена росло одно такое растение с толстыми листьями. Если их сломать пополам, лился густой едкий сок. Вот если им потереть рану, боль сразу уходила. Знаешь ты это растение с толстыми листьями?
— А как же!
— Вот видишь! А в этой проклятой стране драконов оно не растет.
Он еще раз пошел к реке, снова окунул голову в воду, потом долго тряс ею.
— Кто это лежит рядом с тобой? — спросил он.
— Китаянка. Она мертвая.
— Ее счастье, — сказал раненый. — Я сейчас готов разорвать на части любого китайца.
— Когда доберешься до гор, пришли за мной людей. Не то я подохну тут и никто меня не найдет.
Воин ушел, пошатываясь как пьяный. Он опять начал орать, стенать, плакать и причитать, и Тенгери еще довольно долго слышал его голос. А когда он смешался с голосами других, Тенгери сказал китаянке:
— Так, а теперь можешь открыть глаза. Он ушел.
Говоря это, он не смотрел в ее сторону. Но когда она ему не ответила, Тенгери повернулся к ней лицом. Китаянка лежала с открытыми глазами.
— Он в самом деле убил бы тебя, но я сказал, что ты уже мертва.
Она ему ничего не ответила, и тогда Тенгери продолжил:
— Я знаю, что ты хочешь сказать: я все равно не сумел бы удержать его, потому что сам валяюсь, как мешок. Это правда! Но разве ты смогла бы удержать китайцев, появись они здесь, чтобы они не убили меня? Ну да, ты бы сказала им, что я тебя не тронул, а кинжал выбросил в реку. — Тенгери повернул голову немного в сторону. Солнце начало уже заходить. Теплый ветер приносил со стороны города шум продолжающейся битвы. — Может быть, они все-таки найдут нас. Я о наших говорю, о монголах.
Он ненадолго умолк, словно услышав ее немой вопрос: «Наши монголы? Эти! Эти! Эти! Которые гнали меня впереди своих лошадей и чуть меня не убили — это они-то меня спасут?» Она, конечно, ничего подобного не сказала, но у него было такое чувство, будто она сказала или должна была это сказать. Протянув руку, он коснулся тела китаянки, желая погладить ее и ободрить, успокоить. Ну, например, так: «Слушай, я обману наших, я скажу им, что ты спрятала меня от своих или что-то в этом духе, что если бы, мол, не было тебя, они бы меня убили, да? И тогда наши помогут и тебе. Так мы и сделаем, слышишь, китаянка? Так мы и сделаем!»
Но Тенгери не пришлось говорить ей ничего — вообще ничего! Его рука, лихорадочно горячая, легла на ее холодную, чуть ли не ледяную кожу.
— Она умерла, — прошептал он, отдергивая руку. — Мертва! — Некоторое время Тенгери лежал на спине тяжело дыша. Иногда над ним пролетали птицы, большие и маленькие, стайками и поодиночке. Все они устремлялись в цветущие прибрежные кусты, будто были уверены, что войне пришел конец и можно опять беззаботно распевать песенки и строить гнезда.
Но война еще жила своей жизнью, пусть и далеко от реки. Тенгери не только слышал ее, но и чувствовал ее запах, и даже различал на вкус: ветер приносил сладковатое, теплое дыхание пожарища. «А вдруг наши все-таки взломали одни из больших городских ворот и теперь жгут город?» — подумал он. На самом деле все обстояло не так. Защитники города продолжали лить на головы монголов горячее жидкое масло и кипящую смолу. Другие пускали на них «летучий огонь», и все вокруг горело, в том числе и множество воинов, которые метались под стенами Йенпина, как живые факелы, валялись в пыли, напоминая взбесившихся огнедышащих драконов, и умирали, продолжая еще гореть. Ничего этого Тенгери, конечно, не видел: сейчас все его мысли занимала лежавшая рядом мертвая китаянка. Он думал: «Хорошо, что она умерла. Они наверняка убили бы ее, и я ничем не смог бы ей помочь». И хотя женщина ответом его не удостоила, Тенгери ее не хватало. Ему хотелось, чтобы рядом с ним была хоть одна живая душа, чтобы он мог выговориться и чтобы его выслушали. Он опять почувствовал боль во всем теле и снова перевел взгляд на чистое высокое небо, почти такое же прекрасное, как синее небо над Ононом и Керуленом. Теперь Тенгери всеми силами противился смерти. Он не отдавал себе отчета в том, почему в нем родилась такая жажда жизни. Но одно он знал точно: он ни за что не должен сдаваться! Только не умирать! Тенгери не хотел даже задумываться о том, как и за кем приходит смерть. Хотя вот умерла же лежавшая рядом с ним женщина, тихо, будто уснула. «Вспомни о чем-нибудь приятном», — сказал он совсем недавно китаянке. А что приятного, что хорошего было в его жизни? Ему никак не удавалось упорядочить свои мысли, сосредоточиться, хорошее для него состояло из множества вещей: из гор и лесов в родной для него степи, из зеленых долин и богатых рыбой рек и озер, из стад и табунов, из свежего холодного кумыса, быстроногих скакунов, юркой дичи. Сюда надо было, конечно, добавить и Герел с Ошабом и, может быть, даже Бата, грубого, жестокого, необузданного, но и хорошего тоже. Да, и еще: ему вспомнились ламы, которые в монастыре «на краю света» научили его немного рисовать и вырезать по дереву и которые теперь убиты. Тенгери достал из-под халата рисунок тушью, подаренный ему мастером, старым мудрым мастером, которого не кто иной, как он сам, Тенгери, убил во время кровавой схватки перед пагодой. А на рисунке он, Тенгери, стоит ночью, привязанный к дереву, голый и замерзающий, но не сдающийся. Краешек рисунка был в крови, в его собственной. Эти засохшие капли крови словно обрушивались с неба во мраке ночи. «Теперь художник мертв, — подумал он, — и рисунок этот — единственное, что от него осталось, но ведь что-то от него все-таки осталось!» Он полез в карман и достал из него одну за другой свои игрушки: овечку, козу, верблюда и лошадь. Эти деревянные фигурки, особенно радовали его потому, что он твердо знал: вряд ли во всем ханском войске найдется второй такой воин, который способен вырезать из дерева что-нибудь подобное.
Но вот он услышал шаги приближающихся к нему людей и звуки родной монгольской речи.
— Сюда! — позвал он. — Сюда!
А теперь вдоль реки проскакало несколько всадников.
До него донеслись крики и стоны раненых.
Потом громкие отрывистые команды.
— Сюда! Не слышите, что ли?
Из кустов вылетели птицы. Теперь они торопились туда, где нет войны, подальше отсюда.
— Ко мне! Заберите меня!
И вот его уже окружило пятеро воинов, которые первым делом спросили, жива ли женщина, лежавшая рядом с ним, эта китаянка.
— Иногда они притворяются, — сказал один из них.
— Она мертва, — сказал он и подумал, что, когда он ответил то же самое раненому, у которого свисала кожа со щеки, она, может, и в самом деле уже умерла, хотя он сказал это просто для отвода глаз.
Они положили его на бамбуковые носилки и заторопились к лошадям.
Он застонал.
— Не рычи, — сказали ему. — У нас нет времени возиться с тобой. Знаешь, сколько повсюду таких, как ты? А еще больше таких, что уже никогда не закричат. Хан отводит войско от города, мы должны уйти в горы еще засветло.
Тенгери было совершенно безразлично, отводит хан войско от Йенпина или нет, победил он или разбит. Его бил озноб, он почувствовал, как холодеют конечности. Со всех сторон до него доносились голоса монгольских воинов, стекавшихся в предгорье. Тенгери хотели поместить в одной из землянок, вырытых китайцами, но изнутри крикнули, что там совсем нет места. Подняв бамбуковые носилки, воины потащили его к следующей, а потом и к третьей, четвертой, но все зря: они были переполнены ранеными. Вот и вышло, что носилки поставили перед одной из них — голова внутри, ноги снаружи. Кто-то набросил на него овчину и спросил, хочет ли он пить. И когда Тенгери кивнул, ему принесли целый кувшин кумыса. Он забылся тяжелым сном, но несколько раз просыпался от собственного крика. Ощущение было такое, будто смерть загостилась у него этой ночью, будто она уговаривает его не кричать, а успокоиться, спать, спать, уснуть на веки вечные. Поэтому-то он и вскрикивал время от времени и пытался запугать смерть своим голосом. Другие раненые в землянке тоже подавали голос, он слышал крики, сдавленные и испуганные: наверное, им снилось горячее масло, кипящая смола и «летучий огонь», иногда раздавались такие страшные крики, что легкораненые опасались даже, что потолок вот-вот обрушится и убьет их всех.
Наутро воины, которым было положено ходить за ранеными, вынесли из землянок тех, кто не пережил первой после страшного сражения ночи. Их сбросили с обрыва в ущелье, будто это были немые камни. Никто вниз не смотрел, и большинство было даже довольно, что в землянках стало попросторнее…
Чингисхан, приказавший прекратить штурм китайской столицы, сидел в своем походном шатре на упругих подушках, обтянутых синим шелком. С ним были Мухули и Тули с Джучи, его сыновья. У выхода с непроницаемыми лицами стояли стражи.
— Мы не победили, но мы и не разбиты, — сказал Мухули. — Что станем делать, мой хан?
— Позвать сюда писца! — приказал Чингисхан, бросив быстрый взгляд на Мухули.
— Что ты собираешься сделать, отец? — От нетерпения и злости Джучи даже закусил губу.
— Написать послание императору Хсуа Суну и заключить с ним мир! — ответил хан.
— Нет, отец! Нет! Нет! Никогда! — словно с цепи сорвался Тули.
— Нет? Ты говоришь мне «нет»? Я отдаю приказ, а ты говоришь «никогда»?
— Отец!
— Умолкни, Тули! Кто я для тебя прежде всего: твой отец или твой хан?
— Мой хан!
— Вот видишь! Справедливо ли будет, если мои сыновья получат, в отличие от всех остальных военачальников, право возражать мне? Держи язык на привязи, Тули!
Тули отступил на шаг назад, не осмелившись произнести ни полслова.
— Мы не бежали от них, мой хан, — очень тихо сказал Мухули.
— Нет, отец, мы не бежали, — подтвердил Джучи. — А ты намерен просить этого Хсуа Суна о мире?
— Просить? — Чингисхан рассмеялся. — Да, просить!
Вошел писец.
— Это мое послание императору империи Хин, — начал Чингисхан, глядя только на военачальников, но не на писца. — «Все цветущие провинции твоей великой империи, — продолжал он, — севернее Хуанхэ — Желтой реки — в моих руках! Тебе же принадлежит только твоя столица. Вот каким слабым сделало тебя Небо! Если я пожелаю отнять у тебя последнее, что скажет Небо обо мне? Я боюсь его гнева и поэтому принял решение отвести свое войско за пределы твоей империи».
Хан умолк и улыбнулся.
— Да, если ты пошлешь такое послание, тогда другое дело… — признал Тули.
— Да, такое! — перебил его хан.
— А все же я предпочел бы, чтобы город этот пал, — заметил Мухули.
— Я тоже! — поддержал его Джучи.
Чингисхан подошел к писцу Тататунго, положил ему руку на плечо и сказал:
— Добавь еще несколько слов в мое послание императору: «Не мог бы ты сделать подарки моим военачальникам, чтобы умерить их пыл и недовольство?»
— Но, отец!.. — Тули только покачал головой.
Писец удалился, и, когда открылась невысокая дверь походной юрты, они на какие-то мгновения увидели всю равнину перед Йенпином. Поднялся желтый ветер, который завывал от стен столицы до самых гор.
Чингисхан сказал:
— Йенпин — всем крепостям крепость! Не могу его больше видеть! Поставьте мою юрту так, чтобы из нее открывался вид на юг. И еще: подготовьте все необходимое для отхода к Доломуру.
— С пленными? — уточнил Джучи.
— Да, с пленными. Нет ли среди них больных?
— Нет, отец!
— А как быть с ранеными, мой хан? — спросил Мухули.
— Этих увезти сегодня же!
Чингисхан взял в руку зеркало в золотой оправе и стал в него глядеться. Долго расправлял бороду, будто искал в ней что-то. Потом пригладил кустистые брови и расчесал пятерней волосы на голове. Долго не отводил глаз от нескольких волосков, выпавших на колени и на ковер.
— Вода плохая! В империи Хин плохая, очень плохая вода! У меня выпадают волосы!
Потребовал, чтобы слуга принес ему овечьего жира. Натирая им голову, он сказал:
— Если среди пленных разразится болезнь, которая побежит от одного мужчины к другому, от женщины к женщине и не обойдет стороной даже детей, убейте всех пленных на месте. В этой стране не только вода желтая и плохая, в этой стране есть болезни, которые мы не знаем и которые могут уничтожить все мое войско.
Мухули поспешил оставить юрту, будто слова хана до такой степени его напугали, что он решил немедленно отдать соответствующие приказы.
— Ты себя плохо чувствуешь, отец? — спросил Тули.
— Отчего же, отчего же? — Хан рассмеялся и отбросил зеркало на подушки. — Очень даже хорошо, Тули, очень хорошо. Не выпить ли нам? За победу, Тули! За нашу победу, за то, Тули и Джучи, что пятьсот тысяч всадников победили многомиллионный народ!
— Но ведь у нас нет пока ответа китайского императора, отец, — сказал Тули.
— Ответит, вот увидишь. Сначала мое послание испугает и смутит императора, он встретит его с недоверием и заподозрит ловушку. Но моего замысла не поймет. Однако это-то и заставит Хсуа Суна усомниться в наших намерениях и спросить меня, почему я не ставлю никаких добавочных условии…
— Гонец из Йенпина! — доложил один из телохранителей хана.
— Вот видите, Тули и Джучи! Гонец с вопросами императора уже тут как тут.
У вошедшего в шатер молодого полководца было добродушное лицо, а роста он был небольшого даже для китайцев.
— Садись! — приветливо предложил ему хан.
Китаец повиновался и сел, все еще задыхаясь, и долго переводил взгляд с крыши шатра на стоявшие в нем шкафчики, столики, блюда и кувшины в ожидании, что хан предложит ему говорить.
— Ты знаешь наш язык?
— Да. И еще три других!
— О-о! — только и выдавил из себя хан. Он не любил вести переговоры с теми, кто знал что-то, для него недоступное. — Если хочешь, я позову переводчика! — сказал Чингисхан, чтобы унизить собеседника.
— В этом нет нужды!
— Тогда говори, полководец!
— Император приказал мне вести переговоры с вами. Его выбор остановился на мне, потому что я владею вашим языком. Кто эти двое, что рядом с нами?
— Мои сыновья, полководец!
— У меня приказ говорить с вами с глазу на глаз!
— Я же сказал: это мои сыновья!
— И все-таки!..
— Мы одна плоть, одна кровь и одна голова!
— Но шесть ушей!
— И что же?
— Мой император…
— Его император! Ладно, Тули и Джучи, идите! — Чингисхан начал раздраженно одергивать левый рукав своего халата. К счастью, он нашел ниточку, которую удалось выдернуть. — Говори! — повелительно добавил он, не глядя на китайца.
— Мой император принял ваше послание с улыбкой, с благосклонной улыбкой, и возблагодарил Небо за то, что оно подало вам знак завершить поход. Он, конечно, готов послать вам подарки, чтобы умерить пыл и недовольство ваших военачальников, а также некоторых воинов, — это для него мелочи. Однако императора империи Хин очень интересует, какие условия властитель монголов связывает с заключением мира?
Чингисхан заставил себя сохранить серьезное выражение лица и не рассмеяться, когда ответил:
— Только одно условие!
— Одно? Могу ли я узнать какое?
— Есть у тебя особые полномочия, полководец?
— Да!
— На что?
— Я не вправе распространяться на сей счет!
Нет, этого молодого китайца на мякине не проведешь. Он встал, оправил свой кафтан и слегка прищурился. Вот он сидит перед ним, этот монгольский хан, этот степной волк, этот коварный властитель, о котором все говорят, что он хитер и непроницаем, и задает вопрос столь же неуклюжий, сколь и прозрачный. Или за ним все-таки что-то кроется?
— Мое условие: бывший князь Ляо, которого я поставил властителем, так и останется властителем Ляодуна.
— Мы согласны! — быстро ответил китаец и добавил, что он уполномочен своим императором дать этот утвердительный ответ.
— Вот, значит, как далеко простираются твои полномочия? — тихо, но не без издевки проговорил Чингисхан.
Полководец кивнул и улыбнулся:
— Что мне сообщить императору о вашем уходе в степь?
— Мы уйдем через день после того, как получим подарки.
— Тогда мне поручено передать вам сразу: император империи Хин дарит вам сто красивейших женщин своей империи. Первой среди них будет дочь убитого Сына Неба, императора Юн Хи. Если вы пожелаете, можете взять ее в младшие жены. Она получит приданое, положенное дочери императора, а красотой своей она может сравниться с цветком персика, который не раскроется, пока солнце не поцелует его своими лучами. Для ваших военачальников и храбрых воинов император посылает пятьсот верблюдов с золотом, серебром, жемчугом, слоновой костью, коврами, шелком и другим товаром.
— Хорошо, — сказал Чингисхан. — Слова, которыми мы обменялись, были хорошими, и я хочу, чтобы у тебя осталась добрая память обо мне. Возьми этот кинжал. Когда-то он принадлежал человеку, который предал меня. И от него, кроме этого кинжала, ничего не осталось. Ты сам видишь: кто нарушит данное мне слово, тот умрет, далеко он от меня или близко.
Полководец отдал низкий поклон и попятился к двери.
— Я желаю твоему императору более долгую жизнь, чем была дарована Сыну Неба Юн Хи! — добавил Чингисхан, несколько повысив голос.
* * *
Тем временем успели собрать целую колонну повозок для раненых. Уже стемнело, и над огромной столицей империи Хин взошла луна. Хан приказал отправить раненых немедленно, поэтому их выносили из землянок и вырытых в горах пещер, где было уже тепло от их дыхания, прямо на сырой, промозглый воздух и укладывали по нескольку человек на одну повозку: кого на боку, а кого на спине. Подстилкой служила рисовая солома. Но вообще-то на повозках нашлось место не для всех, а только для воинов с тяжелыми ранениями и переломами конечностей либо потерявших руку или ногу, ослепших или со страшными ожогами. Когда колонна пришла в движение и яки потянули тяжелые повозки в гору, многие раненые начали, не стесняясь, кричать и стенать, до того их растрясло. Боль казалась теперь нестерпимой. Сопровождавшие воины старались утешить своих несчастных собратьев:
— Подождите, спустимся на равнину, там пыль и песок, колеса пойдут мягче. И вообще, при дневном свете мы будем объезжать камни, и вас не будет так трясти.
— Вам будет мягко и удобно, как на кошме в юрте, — подшучивали над ними погонщики яков.
— Потерпите до рассвета! — успокаивали другие.
Однако эта ночь оказалась долгой, куда более долгой, нежели все предыдущие, никто не смог сомкнуть глаз, многие продолжали вскрикивать, кое-кто успел даже умереть. Но в одном никто из них не сомневался: подобных ночей им предстоит пережить немало. Тенгери не кричал. Раны мучили его, но он сдерживался. Он испытывал боль в ногах, голова гудела не переставая. Хуже всего обстояло дело со спиной, в нее во время боя попала стрела.
И все-таки он сцепил зубы и не стонал. Тенгери смотрел на небо, на бесчисленные звезды и созвездия, и не ощущай он, как катят колеса, можно было бы подумать, будто они стоят на одном месте. Но колеса повозок все перемалывали дорогу, тарахтели по камням, заваливали песком норы байбаков, катили и катили наверх, к северу, к Доломуру, к Керулену и Онону. И от этого в его душе разливалась радость, которая была такой сильной, что теснила и побеждала боль.
Один из лежавших в повозке Тенгери раненых без конца распевал песни, и большинство из них он, похоже, придумывал на ходу. Он и сам не знал точно, с чего он начнет песню и где ее кончит. Неизвестно даже, доставляло ли собственное пение ему удовольствие.
Дзун был воином, Дзун был героем, Героем на службе великого хана. Дзун днем сражался, Дзун ночью сражался, При солнечном свете И при свете луны. Дзун был воином, Дзун был героем, Героем на службе великого хана. Дзун ночью погиб Или погиб при дневном свете, Может, в солнечный день он погиб, А может, и в дождь.Вот о чем он пел, и многие радовались, что кто-то поет. А когда потом, незадолго перед восходом солнца, он умолк, другие стали спрашивать его, почему он больше не поет сейчас, когда красный огненный шар вот-вот выкатится из-за холмов.
— Он умер, — сказал Тенгери.
Все очень удивились, и Тенгери тоже удивился, когда увидел его, лежавшего рядом, таким тихим, застывшим, и вряд ли кому-то из них еще когда-нибудь доведется стать свидетелем того, как человек поет-поет — и вдруг умирает!
Погонщики яков вытащили его из повозки и положили на влажный придорожный песок.
Взошло солнце, но вовсе не красное, раскаленное, а улыбчивое, золотистое.
А колонна повозок продолжила свой путь к Доломуру, к Керулену и Онону.
Глава 11 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Четыре месяца спустя, перед приходом холодов, колонна повозок с тяжелоранеными добралась до орды у Керулена, а войско во главе с Чингисханом осталось зимовать в Доломуре.
Тенгери уже удавалось не только приподняться, но даже сесть и, значит, наблюдать за происходящим по сторонам от повозки. Он издалека узнал своего старого знакомца, Бурхан-Калдуна, этого серо-сизого великана, гордо упирающегося своей благородной головой в синее небо. И леса на другой стороне реки стоят как стояли, высокие и молчаливые. При этой мысли ему вдруг стало смешно: а где же им еще быть, куда они могли подеваться? Но новая встреча с ними обрадовала его. С этими лесами дело обстояло в точности так, как с овечьими стадами: их любишь, если ты вырос рядом и вместе с ними, но при самой первой встрече в них ничего особенного не замечаешь. А что, овца, она овца и есть, а лес — всего лишь лес, и все.
Когда повозки миновали последний холм и юрты родной орды стали видны как на ладони, женщины и старики оседлали лошадей и поскакали им навстречу. И когда они оказались совсем рядом, никто из них не плакал и не причитал. Снимая с высоких повозок родных и близких, они не рыдали, когда находили их безногими, безрукими, слепыми или с другими увечьями. Сначала их укладывали на влажную пожухшую траву, потом на носилки и уносили в юрты. А те женщины и мужчины, которым сообщали о гибели их мужей и сыновей, возвращались в орду и говорили всем, кто был готов их слушать, что они, мол, отдали Чингисхану то, чего он требовал, и теперь вправе рассчитывать на его доброту. А доброта эта заключалась в том, что с них могли перестать брать налоги и выделить им толику из награбленного добра.
Пришли к повозкам и Ошаб с Герел.
— Да вот же он! — упрекнула Герел мужа. — Видишь, вон там! Боже, какой у него вид!
— Тс-с-с! — шикнул на нее Ошаб.
— Что — «тс-с-с»? Улыбаться мне, что ли?
— Закрой рот, слышишь?
— Закрыла, — откликнулась она.
— Разве у других вид лучше?
— Да нет! Но ты на его глаза посмотри: какая в них тоска!
— Замолчишь ты когда-нибудь?
— Дал бы ты ей по губам, брат! — посоветовал Ошабу стражник, сопровождавший колонну. — Вот, возьми мою плетку и всыпь ей как следует!
— Кому это всыпать? Уж не мне ли? — так и взвилась Герел. — Ах ты, сын ядовитой змеи! Хочешь, чтобы он ударил меня при людях? — Еще немного, и она бросилась бы на него.
Стражник расхохотался.
— Правда, уймись, — повторил свою просьбу Ошаб.
— Да-да, уймись, — поддержал его Тенгери. — Я рад, что вы ждали меня и что вы пришли. Я, как видите, вернулся, так что тащите меня в свою юрту!
Герел и Ошаб наклонились, чтобы поднять носилки с Тенгери, но женщина не удержалась и зашипела на стражника:
— Всыпь ей! Я бы так расцарапала твое мерзкое лицо, что тебя никто не узнал бы! Никто, понял?
— Вот ты какая! — рассмеялся стражник, но уже не так вызывающе. А потом заторопился вдруг в голову колонны.
— Ну и похудел же он! — сказала Герел Ошабу. — Слышишь, Тенгери, ты худой, как овца зимой. На эти носилки можно положить троих таких, как ты, и мы с Ошабом понесли бы их до самой юрты и ничуть не устали!
— А около Йенпина, — отозвался Тенгери, словно не расслышал ее слов, — около Йенпина небо такое же синее и красивое, как у нас над Керуленом.
— Вот как! — всплеснула руками женщина. — Я ему о его худобе, а он мне о синем небе!
— О моей худобе? Я потерял много крови, Герел. Я лежал на спине, уставившись в небо, и думал, что все обо мне забыли и что я умру, умру совсем один, у чужой реки и чужого города.
— И что? — спросил Ошаб.
— Да, все так и было, как я говорю, а потом меня все-таки нашли!
— Ты вспоминал о нас, Тенгери? — с робостью в голосе проговорила Герел.
— Когда я смотрел на небо, я только о вас и думал, Герел!
— Скажи, правда, наше небо над Керуленом красивее того, что над Йенпином? — тихо спросила Герел.
— Ну да. Конечно, оно намного красивее тут, у нас.
Подойдя к своей юрте, они осторожно внесли его внутрь. Здесь пахло свежим чаем и сушеным мясом. Тенгери прошептал:
— Как хорошо, что я опять у вас!
— Ошаб, принеси масло, — сказала Герел.
И когда тот вышел, она достала из сундука кусок белой льняной ткани и положила рядом с Тенгери. Потом налила полную миску горячего бараньего навара и протянула раненому:
— Пей, пей много. Я хочу посмотреть на твои раны — может быть, тебе будет больно! Когда придет боль, пей опять или кричи, если тебе от этого станет легче!
— Не закричу, не бойся!
Вернулся Ошаб и принес в полом роге яка жидкое масло. Они раздели его и, опустившись на колени, стали рассматривать ноги Тенгери.
— Ну и отделали они тебя! — Герел вздохнула и покачала головой.
— Нечего причитать! Скоро он у нас забегает, как жеребчик!
— Конечно, забегает. А все-таки жалко его…
— Что ты понимаешь в войнах, женщина! — пробурчал Ошаб. — Когда я сам был молодым, Герел, для нас военные походы были чем-то вроде охоты на дикого зверя: тебя только тогда признавали настоящим мужчиной, если ты был смелым и храбрым и ни врага не боялся, ни смерти.
— Что ты болтаешь! У тебя самого-то ни одной раны и ни одного шрама нет! Подержи-ка лучше! — Она протянула ему белую тряпицу, полила ее маслом из рога, а потом, покачав головой, еще и окунула ее в рог. Приложила жирную тряпицу к одной из ран. — Кинжалом ударили! — сказала она. — Ты хоть помнишь, как все это было?
— Точно не помню. Было это у реки, недалеко от Йенпина. Мы как раз вогнали клин в ряды китайцев, и тут меня чем-то огрели по затылку и что-то воткнули в спину. Когда я очнулся, я лежал у реки и от боли был готов зареветь как бык. А на ноги мне будто тяжелый камень взвалили!
— Понятно, — зевнула Герел. — И рядом с тобой никого не было?
— Никого, — солгал он и даже удивился, до чего легко далась ему эта ложь.
— Совсем плохо, когда ты беспомощен и совсем один, — сказала она.
Он лишь кивнул в знак согласия.
— Ты, значит, лежал там один, смотрел в небо и вспоминал нас, — подытожил Ошаб.
«Расскажи я ей об этой китаянке, она бы мне не поверила. Но она не поверила бы, что я был заодно с теми, кто гнал перед своими лошадьми на верную смерть женщин, детей и стариков, — в это она тоже не поверила бы. И не простила бы меня».
Герел продолжала смазывать его раны влажной тряпицей.
— Это не только следы от кинжала и меча. Такие раны заживают скорее, Тенгери. Вот эта рана — от лошадиного копыта. И вот эта тоже, что на бедре.
— Проехались, значит, по мне, — силился улыбнуться Тенгери. Он отпил еще горячего бараньего навара.
— А на спине? — Герел перевернула его на живот.
— Зажили твои раны! Рубцы красные, — немного повеселела она.
— А ведь это раны от копья! — проговорил Ошаб, проведя по красному рубцу пальцами. — Не от кинжала, не от копыт, а от копья!
К вечеру пошел снег. Крупные снежинки косо падали в прорезь крыши юрты и таяли над огнем. Тенгери, закутавшийся в теплую овчину, сидел, прислонившись спиной к опорному столбу, и рассказывал об империи Хин. На сей раз Герел не стала спрашивать, привез ли он ей оттуда подарки. А все его раны… Она не раз и не два прерывала его рассказ вопросами о том, где у него сейчас болит и сильно ли, и звучали ее вопросы так, будто она и не прислушивалась вовсе к тому, о чем он говорил. Можно было подумать, что Герел только в этот самый день узнала, что на войне не только убивают, но и получают раны.
— А были такие, что без глаз остались? — неожиданно спросила она.
— Ты в своем уме, Герел? — разозлился Ошаб. — Тенгери рассказывает о монастыре на краю света, где живут монахи в желтых шапках, а ты…
— Не сердись на нее! Конечно, многие остались без глаз, и даже без обоих!
Она промолчала, и Тенгери продолжил свой рассказ. Снегопад тем временем усилился, и Ошаб наполовину затянул прорезь в крыше.
— Если снег не перестанет идти, придется совсем закрыть крышу и погасить огонь, — сказал Ошаб.
Словно услышав его, снегопад вдруг прекратился, и в юрту заглянуло черное беззвездное небо.
— Пойди принеси мясо, — велел он жене и, когда она вышла, чтобы вырыть из земли замороженную баранину, тихо сказал Тенгери:
— Знаешь, этих женщин никогда до конца не поймешь… — И Ошаб сокрушенно покачал головой. — У нее были сыновья, которые погибли один за другим в разных битвах. Тогда Герел часто плакала, а днем бегала к прибрежным кустам или даже в лес и шастала там в чащобе, как волчица, у которой отняли волчат. Давно это было, мы много лет не говорили с ней об этом. Но сегодня, когда ты вернулся и она увидела твои раны, она опять вспомнила о наших детях. Она сегодня не такая, как всегда. С тех пор как увидела эти повозки с тысячами раненых, она сама не своя. Ты глаза ее видел?
— Да, Ошаб.
— Я думаю, она не только расцарапала бы лицо этому стражнику, она до того озверела, что…
— Я слышу ее шаги, Ошаб! — прошептал Тенгери, глядя на полог.
И действительно, вошла Герел с замороженной тушкой ягненка в руках. Ошаб встал, взял тушку, разрубил ее и бросил куски в большой черный котел, висевший над огнем. Дым и пар уходили в прорезь в крыше юрты.
— Тебе придется снова учиться ходить, — сказала Герел, подбрасывая в котел какие-то сухие травы.
— Вы оба так добры ко мне, — сказал Тенгери.
Герел подняла голову и ответила ему:
— Шаман сказал, что боги добры к умершим, если эти умершие были добры к богам. Вот я и хочу понравиться богам.
— Ты говоришь о ваших сыновьях, Герел?
— Да. Но и о себе — тоже.
Ошаб бросил взгляд на Тенгери, словно говоря: «Вот видишь, она думает о том самом, о чем я тебе только что сказал».
— Сильно болит? — спросила она.
— Нет, — ответил он и даже попытался улыбнуться, хотя боль испытывал сильную. — Я вам кое-что привез.
— Да? Правда?
Она не скрывала своего удивления: как может человек, которого привезли в таком виде, не забыть о подарках? Когда он вернулся из Дзу-Ху, все было совсем иначе — он пришел таким, каким ушел. Конечно, кто-то приходит с войны победителем, а кого-то убивают. Давным-давно о ее сыновьях говорили как о погибших героях. Но сегодня, когда они принесли в свою юрту Тенгери, всего израненного, она как бы увидела войну его глазами. Мертвые остаются там, где их убили, их оплакивают так, будто знали каждого из них. Знали? Нет, большинство убитых, сколько бы их ни оказалось, сотни или даже тысячи, для многих оставались безвестными и безымянными, не больше чем разбросанными по степи холодными и молчаливыми камнями, которые все похожи один на другой.
— Что же ты привез нам, Тенгери? — спросила Герел.
— В хозяйстве это вам не пригодится. От моего подарка вы не разбогатеете и не обеднеете.
— Значит, тебе никакой добычи не досталось? — спросил Ошаб, наморщив лоб.
— Добычи? Никакой!
— А обрадуемся мы твоему подарку, Тенгери? — спросила Герел, которая присела к очагу, сложив руки на коленях, словно желая отдохнуть и ни о чем другом, кроме подарка Тенгери, не думать.
— Я думаю, обрадуетесь.
— Если так — значит, он нам пригодится, — сказал Ошаб.
— Да, он прав, — подтвердила Герел. — Если так, обязательно пригодится. Когда мы радуемся, мы не ссоримся. Так что это, Тенгери?
— Я это ни у кого не отнял, и никто мне этого не давал! — ответил он, глядя на их удивленные лица.
Достал из карманов резные деревянные игрушки и поставил их на красный столик под войлочной стеной юрты. Столик был низким, но достаточно широким, чтобы на нем уместились в ряд все его лошадки, овцы и бараны, козы, верблюды, волки, собаки и пастухи.
— Целое стадо! — воскликнул Ошаб.
— Деревянные овечки и бараны? — всплеснула руками Герел.
— И козы! Ведь это козы, правда, Тенгери?
— Конечно, козы! — Он был рад, что в его игрушках сразу признали настоящих животных.
— И верблюды! — удивлялась Герел.
— А пастух кто? Ты? — спросил Ошаб.
— Может быть, я. Или ты, Ошаб! — с улыбкой проговорил Тенгери, приблизив фигурки пастуха к его глазам.
— Ты слышал, Ошаб, он этого ни у кого не отнял и никто ему этого не давал!
— Да-да! Теперь Тенгери станет резчиком при дворе нашего хана.
— Где ты научился этому, Тенгери? — спросила Герел.
— У китайских желтошапочников в монастыре у моря, — ответил он и добавил: — Между прочим, Ошаб, художником при ханском дворе мне никогда не стать, даже если я всю жизнь об этом буду мечтать.
— Почему? По-моему, твои овечки, верблюды и все остальные игрушки, которые ты вырезал, очень красивые, и вообще, Тенгери, мне вот что удивительно: как это получается, что ты больших животных делаешь совсем маленькими, а они все равно кажутся большими?
Ошаб не сомневался, что Тенгери уже сейчас настоящий художник: кто, кроме него, способен в их орде вырезать такие игрушки? Ха-хан наверняка тоже очень обрадуется и назначит его художником при своем дворе.
— Только ты обязательно должен показать ему, Тенгери, на что ты способен.
— Ошаб прав, — кивнула Герел. И шепотом добавила: — Тогда тебя больше не позовут на войну. Художники делают разные красивые вещи, Тенгери, а воины их потом растаскивают или сжигают, а их при этом убивают. Разве не так, Ошаб?
— Да-да, жена, как не так? Если мужчине что известно, женщине известно и подавно! — Он громко расхохотался, вытащил из котла большой кусок мяса на кости и протянул Тенгери. — Пойди к Ха-хану и покажи ему…
— Послушай, Ошаб, я не пойду к нему!
— Пойдешь! И покажешь ему, на что способны твои руки. Вот увидишь, игрушки понравятся хану и он вознаградит тебя.
Говоря это, Ошаб достал из котла кусок мяса и для себя, тщательно отделил темное мясо от костей и, разрезая его на узкие полоски, посылал себе в рот и с удовольствием причмокивал.
— Да, пойди! — поддержала мужа Герел. — Станешь придворным резчиком хана!
— Вот это была бы должность! — заранее обрадовался Ошаб. — При такой твоей должности в нашей юрте сразу посветлело бы!
— Никаких резчиков-монголов никогда не было и не будет!
— Ха-ха! Один такой как раз сидит сейчас перед нами! — возразил ему Ошаб. — Правда, Герел, что он, художник этот, сидит перед нами и жует мясо?
— Неужели вы оба хоть когда-нибудь слышали, чтобы при дворе Ха-хана был монгольский художник? Или монгольский ученый? Писец-монгол, златокузнец-монгол или монгол-звездочет? Да-да, я знаю, у него есть свои художники и ученые, писцы, златокузнецы и звездочеты, но все они уйгуры, китайцы или арабы. А монголы? Никогда!
— Может быть, то, что ты сказал, и правда, — тихо проговорил Ошаб. — Но почему это так, Тенгери? — Он отшвырнул кость подальше от юрты.
— Да, почему? — повторила его вопрос Герел, разливая навар из котла в черные миски.
Снова пошел мелкий снежок, и снова в прорезь в крыше юрты начали залетать отдельные снежинки, которые медленно опускались и таяли над огнем.
Тенгери некоторое время не отвечал им, пережевывая мясо. А потом сказал:
— В империи некоторые люди говорили мне: «У вас есть великие военачальники, а у нас — великие ученые. Значит, вы народ воинственный и живете только с того, что завоюете и награбите».
— А они с этого не живут?
Тенгери покачал головой:
— У них есть такая штука, в которую они впрягают буйволов, те тянут ее, взрезают желтую землю и кладут в нее семена. И то, что из них вырастает, едят сами или везут на продажу. Они, как и мы, ловят рыбу. И еще выращивают чай. Когда идет дождь, китайцы радуются и говорят: все будет расти еще быстрее и лучше.
Ошаб ничего не сказал.
И Герел ничего не сказала.
В юрте стало совсем тихо. Герел с Ошабом не сводили глаз с Тенгери, с его рта, им хотелось, чтобы он говорил не переставая, и они даже забыли о том, что в котле оставалось еще много вкусного мяса.
— Ты знаешь теперь не меньше китайских купцов, — вполголоса проговорил Ошаб. — Они нам всегда рассказывали истории, похожие на твои. Да, но как у них насчет рыбы? Они что, ловят ее в реках, как и мы? Когда захотят?
— Вот-вот! Ты попал в точку, Ошаб: мы ловим рыбу, только когда захотим.
— А как же иначе? Неужели мы пойдем ловить ее, когда не голодны или когда нам это скучно? — И он снова потянулся к котлу и выудил из него очередной кусок мяса. — Хочешь? — спросил он Герел.
Она кивнула и принялась объедать мясо с кости, не сводя глаз с Тенгери.
— Китайцы ловят рыбу, даже когда никакого голода не испытывают, — объяснил им он. — «На краю света» есть такие мужчины, которые всю жизнь ловят рыбу и ничего другого не делают.
— Да что ты? — удивился Ошаб.
— Да! Они продают рыбу тем, которые ее не ловят. Или обменивают.
— Но почему те, другие, сами не ловят рыбу?
— Потому что они занимаются своим делом. Если они, допустим, выращивают и собирают чай, они делают это и для себя, и для всех. Если строят такие штуковины, которыми взрезают землю, — тоже и для себя, и для других людей. Короче, каждый делает то, что нужно, чтобы иметь то, что делают и другие. И получают за это то, что им сейчас нужно. И рыбу, значит, тоже.
— И большой у них бывает улов?
— О-о, знали бы вы, какой большой! — взмахнул руками Тенгери.
Он рассказал им, как рыбаки выходят на лодках в море. А бегут эти лодки по волнам благодаря ветру, потому что на них натянуты большие полотна крепчайшей ткани — они напоминают крылья дракона. У рыбаков есть еще сети, которые они забрасывают в море, а потом вытягивают из него.
— Видели бы вы возвращение этих лодок! Рыбы в них полным-полно!
— Ну и ну! — дивился Ошаб, вытягиваясь на войлочной подстилке. Позевывая, он долго смотрел на решетку в прорези крыши юрты. Потом разделся догола, укутался в мохнатую шкуру и сказал: — Спать хочу! — Но некоторое время спустя добавил все-таки: — Она и впрямь страна чудес, эта империя Хин. Может быть, она сегодня ночью приснится мне, Тенгери. Да, я так и не понял: что они делают с зерном, которое выращивают?
— С зернами? Они варят зерна в воде или в молоке и потом едят их как кашу.
— Вкусно это?
— Им — да. А мне — нет. Помните, когда я вернулся тогда от хана, я сказал вам, что ханское вино с виду похоже на воду Онона, но по вкусу намного хуже? Я в империи Хин много раз пил такое ханское вино и теперь могу сказать: оно очень даже вкусное. Наверное, тут вот в чем дело — чего не пробовал, сразу не понравится. Китайцев, например, прямо тошнит, когда они видят, как мы едим сырое мясо.
Ошаб с Герел рассмеялись. Жена сняла котел с огня, прилегла к мужу и тоже укрылась теплой овчиной.
Немного погодя Тенгери сказал:
— А еще они растирают зерна в пыль, подливают немного воды или молока и придавливают потом дощечкой. Получаются такие лепешки, которые они поджаривают на огне.
Но теперь его никто не спросил, каковы эти лепешки на вкус. Их сморил сон, и снилась им, наверное, империя Хин. Ошабу — крестьяне, сборщицы чая и рыбаки, а Герел — убитые и раненые, истекающие кровью.
«Пусть Ошаб принесет мне завтра тополиного дерева, — подумал Тенгери. — Я буду вырезать, но не для хана, а для себя, для Герел и Ошаба, для всех, кому мои игрушки понравятся. Да, займусь делом, а Ошаб будет приносить мне подходящее дерево, поленья». Тенгери посмотрел в сторону очага, огонь в котором уже посерел, из темноты на него поглядывали совсем маленькие красные глазки; но вот и они погасли, закрылись, залетавшие в юрту маленькие снежинки таяли теперь не над огнем, а в теплом пепле.
Погас огонь, и в юрту пришла ночь, принесла покой, молчание и сны.
Однако крепко заснуть Тенгери не мог. Мысли о прошлом сменялись мыслями о будущем, и лишь одна-единственная радовала его по-настоящему: завтра он будет резать по дереву. «Художники делают разные красивые вещи, а воины их растаскивают или сжигают», — сказала Герел. Ему вспомнился монастырь на утесе над морем, весь объятый огнем. Что от него, кроме пепла, осталось? Старый мастер, художник, падал и падал на серый снег, пестрая маска сползала с его лица, и на Тенгери, прямо ему в глаза, смотрела неумолимая, упрямая смерть. Маленькое стадо неподвижно стояло на столике. «Эти вещицы не рукой художника сделаны, — подумал он. — Но пока я не ушел с войском хана на войну, я вообще не знал, что такое картины и скульптуры и как они выглядят. А сегодня я хочу проникнуть в эту тайну и сам создавать красивые вещи, которые обрадуют других. Почему? Да потому, что буду рад их радости!»
Едва небо опять посветлело, Тенгери открыл глаза и первым делом посмотрел в сторону столика, на свое «маленькое стадо». Овцы, козы, верблюды, лошади, волки и собаки стояли в снегу, а пастухи, вырезанные из мягкого тополя, стерегли их.
Тенгери обрадовался и стал с нетерпением ждать восхода солнца.
Чингисхан вернулся со своим главным войском из Доломура только в середине лета. А его лучший полководец, Мухули, с двадцатипятитысячным отрядом монголов и двадцатью тысячами сторонников князя Ляо оставался в империи Хин, потому что властитель Йенпина вопреки данному слову напал на владения Ляо. И Мухули стоял на том, что Йенпин опять нужно взять в осаду.
— Освободи сначала князя Ляо! Он наш друг, и у меня есть перед ним обязательство, — оставался непреклонным хан. — Если тебе это удастся, силы Йенпина иссякнут и он падет сам собой.
Пока Чингис оставался в Доломуре и делал вид, будто столица империи его нисколько не интересует, Мухули неожиданно ударил китайцам в тыл, обратил в беспорядочное бегство и на их спинах ворвался в Йенпин. В благодарность за эту великую победу Чингисхан назначил своего военачальника главным правителем всей империи Хин.
Однако теперь Ха-хан окончательно возвращался домой. Стояла летняя жара, и на берегах голубого Керулена все цвело. Когда гонцы оповестили всех о возвращении победителей, со всех сторон раздались торжествующие крики, которые вместе с ласточками вознеслись к небу и полетели над лесами, реками, пастбищами. Женщины и девушки украшали свои волосы яркими полевыми цветами и расставляли вдоль дороги победителей, ведущей к дворцовой юрте, кувшины с пенящимся кумысом. И вот появился хан, великий Чингисхан, властитель всех живущих в войлочных юртах народов. Он восседал на жеребце белой масти, по бокам от него ехали сыновья, а за ними — знаменитые военачальники.
На их роскошных одеждах сверкали драгоценные камни, хан улыбался, махал рукой, кивал и даже смеялся. А потом сорвал вдруг со своего праздничного наряда все драгоценности, которые сияли на солнце как звезды в ночи, и бросил их в толпу. Ликованию народа не будет, казалось, предела.
— Наш хан!
— Наш могущественный хан!
— Наш всесильный хан!
— Наш Ха-хан!
— Наш Чингисхан!
— Наш Чингис-Ха-хан!
И всякий раз, когда достигалась эта последняя степень возвеличивания хана, толпа испускала бесконечно долгий торжествующий крик. После чего все начиналось сначала.
— Наш хан!
А он разбрасывал пригоршнями рубины величиной с глаз яка.
— Наш могущественный хан!
Военачальники и сыновья хана дарили старым воинам кинжалы с позолоченными лезвиями. Это были трофеи из разоренного императорского дворца в Йенпине.
— Наш всесильный хан!
Чингисхан проехал через всю орду, сияющий как само солнце, улыбающийся, помахивающий руками, благосклонный к своим подданным и щедрый.
— Наш справедливый хан!
На пятистах верблюдах за ним следовали пятьсот его младших жен, и среди них принцесса, дочь бывшего Сына Неба из Йенпина. Их сопровождали две тысячи служанок.
— Наш Ха-хан!
За женами и служанками — приближенные хана, нойоны, писцы и разный придворный люд: слуги, повара, охотники и загонщики. А по бокам этой казавшейся бесконечной вереницы ехали еще десять тысяч телохранителей великого властителя.
— Наш Чингисхан!
Наконец появились караваны с захваченным добром и военной добычей, с повозками, полными золотой и серебряной утвари, слоновой кости и шелков, сосудов из императорских дворцов и буддийских монастырей, целых мешков с драгоценными камнями и жемчугом. Сколько их было, этих повозок? То ли тысяча, то ли целых десять тысяч? Никто их и не считал!
— Наш Чингис-Ха-хан!
Стемнело.
А толпа продолжала ликовать. Наконец подошло и войско. Впереди гарцевали тысячники. Появился бледный серп луны. Волна за волной скатывалась конница с холмов и растекалась по равнине вдоль Керулена. Это продолжалось до самого утра. Пленных они с собой не пригнали. Из-за страшной болезни, начавшей свирепствовать среди них, хан приказал умертвить посреди пустыни Гоби тридцать пять тысяч китайцев и три тысячи пятьсот монголов, которые их охраняли, — это чтобы зараза не перекинулась на все войско.
Когда солнце опять поднялось над верхушками деревьев, пришли все, кому было положено оставаться в долинах у Керулена.
В то же утро Чингисхан вышел на широкую площадь перед дворцовой юртой и обратился к своему народу с такими словами:
— Мы отправились в поход, чтобы разнести врага в пух и прах. Мы разнесли врага в пух и прах и вернулись домой. Мы стали сильнее и богаче, нас стало больше. Я привел вас к победе, потому что вы повиновались мне. Вы проливали кровь, но вы были храбрыми. А те из нас, кто не вернулся, кто погиб за Великой стеной империи Хин, ускакали в бесконечное синее небо к богам, одарившим нас мужеством, к богам, придававшим нам силы, к богам, у которых мы попросили совета и которым мы всем обязаны и благодарны!
Хан поклонился, развязал пояс и вместе со своей шелковой шапочкой положил в пыль у своих ног. Потом опустился на колени, и все собравшиеся на площади тоже опустились на колени.
— О боги! — начал молитву верховный шаман, воздевая руки к небу. — Мы благодарим вас!
И толпа повторяла за ним:
— Да, мы благодарим вас!
— Мы хотим принести вам жертвы! — провозгласил верховный шаман.
— Да, мы хотим принести вам жертвы! — вторила ему толпа.
— Очисти нашу военную добычу от пятен врага! — неистовствовал верховный шаман.
В это же мгновение из кучи дров вырвался высоченный столб пламени, и вся толпа прошла мимо этого подобия капища, чтобы очиститься самим и очистить все, что было снесено на площадь. Хан оседлал своего жеребца, народ расступился перед ним и еще долго смотрел вслед ему и его свите, за которыми тянулось облако желтой пыли. Придворным хана было приказано раздать очищенную огнем добычу храбрейшим из воинов, вернувшимся с поля боя раненым или увечным, а также вдовам погибших. Сколько бы хан ни воевал за свою жизнь, ни один поход не продлился так долго, как этот, в империю Хин. Но никогда прежде он не возвращался еще с такой богатой добычей. Хан обещал, что вернется с ней, и он не только выполнил обещание, но и превзошел все ожидания во много раз. То, что было роздано народу, никому и во сне не снилось.
Бедняки из бедняков вдруг разбогатели, потому что богачи из богачей в Китае вдруг обеднели. Сколько монгольских женщин и девушек украсили свои волосы и шеи коралловыми нитями и жемчужными ожерельями! Еду в горшках помешивали не бараньими костями, а палочками из слоновой кости, рукоятки кинжалов тоже были выложены слоновой костью, из нее же сделаны маленькие шкатулки для драгоценностей. Молоко и кумыс пили не из вырезанных из березового дерева мисочек, а из фарфоровых чашечек, разрисованных драконами. Во многих юртах лежали покрытые золотистой краской маски, напоминавшие отрубленные головы с застывшими зловещими ухмылками. А сколько монголов — мужчин, женщин и детей — разгуливали по орде в шелках с таким видом, будто всю жизнь только и делали, что рыбачили или охотились в шелковых нарядах, хотя вряд ли нашелся бы среди них один-единственный человек, способный объяснить, как в империи Хин выделывают шелк.
Этот с неба свалившийся блеск, осветивший орду словно тысячи маленьких солнц, никак не отражался на тех, кто не участвовал в походе против империи Хин. Старики проклинали свой возраст, помешавший им уйти на войну, множество женщин и девушек с завистью смотрели на своих разбогатевших подруг и соседок. А вот что было хуже всего: теперь им, над кем судьба не смилостивилась, придется идти в услужение к тем, кто вчера был им ровней и ничем похвастаться не мог. Теперь они будут стоять у юрт разбогатевших, как некогда стояли обращенные в рабство пленные в ожидании, когда за чем-нибудь понадобятся.
А у Чингисхана были другие заботы. Ему захотелось доподлинно узнать, до какого возраста доживет и как должен править, чтобы великая империя монголов просуществовала и тысячу, и десять тысяч лет. Да, он вернулся победителем. Но куда ему обратить свой взор теперь?
Сидя в дворцовой юрте в окружении военачальников, сыновей и благородных нойонов, он праздновал победу. Был среди них и великий мудрец из империи Хин. Хан позвал его, и тот явился, замкнутый и невозмутимый. Ему предложили угоститься кумысом, однако он отказался. Ему поднесли сырое мясо на серебряном блюде — он и это монгольское яство отверг, сказав:
— Я не из тех, кому свойственны звериные наклонности. Я человек! Но как вам, столь далеким от человеческих понятий, услышать меня!
Эти обидные слова вызвали лишь улыбку на губах хана, ему хотелось узнать от старого мудреца важные для себя суждения, а там видно будет. Когда китайский ученый отказался и от вареной рыбы, хан послал несколько слуг в степь, чтобы собрали лучшие травы и нарубили мелко-мелко для чудаковатого старика.
— Ты умрешь от голода! — упрекнул его хан.
— Разве для меня будет позором умереть от голода при твоем дворе? — поддел хана мудрец.
Чингисхан пропустил его слова мимо ушей и спросил:
— Есть ли у тебя снадобье, дарующее вечную жизнь, мудрец?
— Мне, конечно, известны средства, продлевающие жизнь, но лекарств для бессмертия нет в природе! — ответил мудрец, смело глядя в глаза властителю.
Один из нойонов вскочил и бросил на Ха-хана вопрошающий взгляд.
— Садись, садись, — тихо проговорил Чингис. — Неужели ты не способен укротить свою необузданность даже в том случае, когда встречаешься с человеком, который в тысячу раз умнее тебя?
Устыдившись этих слов, благородный нойон так и упал на подушки.
— Я уважаю тебя, — обратился хан к ученому, — и поэтому не позволю никому обижать тебя, а тем более угрожать.
Мудрец как будто не расслышал этих слов. Он, воплощение спокойствия и самообладания, сидел, поджав под себя ноги, и о чем-то размышлял. А потом, покачав головой, проговорил:
— Крики твоих воинов мешают течению моей мысли!
Чингисхан сделал знак телохранителям, те выбежали из дворцовой юрты, и буквально несколько минут спустя вся площадь перед ней опустела.
В наступившей тишине хан с поклоном проговорил:
— Прошу, угощайся. Мои люди собрали и приготовили для тебя самые изысканные травы. Если они тебе не по вкусу, скажи мне. И вообще: скажи, чего ты хочешь? Я исполню любое твое желание!
Мудрец медленно поднял на него глаза, улыбнулся, но ничего не ответил.
Он отведал трав с разных тарелочек, которые одну за другой подавали на золотой столик.
— Желаешь вина? — спросил хан.
Ученый продолжал молча пережевывать пищу.
Люди из окружения хана сидели словно окаменев. После того как властитель грубо осадил погорячившегося нойона, никто не позволял себе и бровью повести.
Из женщин присутствовала только главная жена великого хана — Борта.
— Скажи мне, мудрец, — снова начал хан, — что я должен сделать, чтобы сохранить созданную мною империю монголов на веки вечные, как мне сбить ее так крепко, чтобы никакая сила — ни на небе, ни на земле — никогда не смогла ее расчленить и уничтожить?
— На веки вечные, говоришь? — Мудрец поднял глаза к зарешеченному потолку юрты. Солнечные лучи позолотили деревянные бруски. — На веки вечные? — повторил он. — Буря пролетает за одно утро, проливной дождь длится не дольше дня. А кто их вызывает? Земля и небо. И то, чего не могут продлить ни небо, ни земля, тем более неподвластно человеку. Быть правителем великой империи — все равно что жарить мелкую рыбешку: ни одну нельзя подбрасывать слишком высоко, волочить по жаровне или пережаривать, каждая требует нежного и внимательного обращения. Лишь тот, кто справедлив ко всем, тот и может считаться достойным правителем.
— Ко всем, говоришь?
— Да, ко всем! Лишь то, что хорошо укоренилось, чего не вырвать из земли, что в ней прижилось, — лишь это и не уйдет от нас. Нужно поступать, как того требует учение Дао{23}: вечный и истинный смысл — действовать через бездействие. Делать через неделание!
— Этого я не понимаю! — сказал хан. — Объясни мне учение Дао!
— Попытаюсь сделать это, Чингисхан. Явления, происходящие между небом и землей, многообразны и способны повергнуть человека в растерянность. Однако в основе своей они просты и внешне едва различимы; лишь тот, кто уловит их суть, тот овладеет учением Дао и постигнет его истинный смысл. Пространство между небом и землей пусто, как воздуходувный мех. Но чем больше этим мехом двигаешь, тем больше воздуха из него выходит. Уместно и сравнение с флейтой: земля — инструмент, небо — дыхание, а Дао — музыкант, исторгающий из нее в нескончаемой последовательности бессчетное количество мелодий. И подобно тому как мелодии эти возникают из ничего, из пустоты, так и все сущее возникает из несущего и в это же несущее и возвращается. Но, вернувшись туда, оно не исчезает. Даже отзвучавшие мелодии можно услышать. Таково воздействие Дао: производить, но не обладать, воздействовать, но не сохранять, содействовать, но не властвовать.
Выслушав это подробное объяснение, хан поднялся и поблагодарил мудреца, сказал, обращаясь ко всем:
— То, что он говорит, ему внушило Небо. Его слова проникли в мое сердце. Воспримите же это и вы, мои сыновья, мои военачальники и мои нойоны, — хан понизил голос, — но пусть кроме нас об этом никто не знает.
— Ты спросил, есть ли у меня желание, которое ты мог бы исполнить, Чингисхан, но я тебе не ответил.
— А оно у тебя есть? — Хан удивился и обрадовался.
Ученый покачал головой.
— Может быть, ты ищешь моей благосклонности или покровительства? Хочешь стать моим советником до конца дней своих? Так ведь?
— Нет и нет! Я тебе на это вот что отвечу: благосклонность и покровительство ничего не стоят. Обретя эти блага, живешь в страхе потерять их. А когда потеряешь, будешь бояться еще больше. Ведь неизвестно, что последует за этим.
— Но ведь ты, мудрец, не намерен отойти от дел? Что бы тебе ни предстояло, действие или бездействие! Однако, если ты попадешь в опалу, как будет распространяться твое учение?
— Когда человек с благородными помыслами обретает свое время, — ответил старец, — он шагает вперед. А если он с ним не совладает, приходится уйти в сторону, и тогда его путь порастает бурьяном.
Чингисхан оглядел всех своих нойонов, военачальников и сыновей по очереди, не скрывая улыбки. Он как бы хотел сказать им: «Видите, что такое мудрость и находчивость?»
— И вот еще что, мудрец! Я недавно упал с лошади. При мысли, что меня призывают к себе боги, меня охватил ужас. Неужели силы оставляют меня?
— Тебе уже почти шестьдесят лет, Чингисхан, — ответил последователь учения Дао. — Сойди навсегда со своего скакуна и поменяй свои войны на жизнь в мире!
— Тяжело отказаться от того, чем занимался всю жизнь, мудрец!
Старец с сомнением посмотрел на него и словно для того, чтобы успокоиться, взял со столика маленькое блюдо со сладостями, а потом сказал:
— За зимой приходит весна, а за нею лето, осень — и снова зима! В жизни человека иначе. Каждый новый день содержит в себе события предыдущих, и к началу возвращаешься лишь после того, как весь круг пройден. Возвращение к истокам — это успокоение, покой. Обрести покой — значит выполнить предначертанное тебе и завершить свой земной путь — так говорит учение Дао. Постигнуть это — значит достигнуть просветления, Чингисхан!
На этом их разговор завершился. Властитель монголов остался очень доволен.
Когда на другой день на площади собирался караван, с которым мудрец возвращался в Йенпин, хан вышел из своей дворцовой юрты, приблизился к великому мудрецу и обратился к нему с такими словами:
— Тебя повезут с почестями и удобствами, подобающими императору, и путь не покажется тебе долгим и изнурительным.
В ответ на это мудрец впервые поклонился властителю монголов, а потом подошел к предназначенному для него верблюду. Это был благородный белый верблюд, единственный в своем роде среди ста пятидесяти остальных своих собратьев. Между его крепкими, мясистыми и высокими горбами лежал пестрый ковер с золотистой бахромой, а поверх него — седло с серебряными стременами, позади которого была шелковая подушка, набитая лебединым пухом.
— Еще один, последний вопрос к тебе, мудрец, — сказал хан. — На завтра назначена большая охота по ту сторону реки — в ознаменование нашей победы. Советуешь ли ты мне участвовать в ней?
— Что я могу добавить к уже сказанному?
— Но не начнут ли люди теряться в догадках о том, почему меня нет? Не станут ли они перешептываться: «Наш хан состарился, он немощен, ему больше не по силам долго держаться в седле»?
Мудрец лишь покачал головой:
— О чем ты говоришь, Чингисхан? Если ты не поедешь на охоту и люди начнут судачить, будто ты больше не в силах долго держаться в седле, что это докажет? Ничего! А если ты поедешь на охоту и на глазах у всех упадешь с лошади — какие еще доказательства потребуются?
И мудрец махнул рукой проводнику каравана. Верблюды поднялись с колен. Хан отошел в сторону, присоединившись к Тули, Джучи и Джебе. Он долго не сводил глаз с сидевшего на великолепном белом верблюде мудреца, который, приставив ладонь ко лбу, чтобы не слишком слепило солнце, вглядывался в даль. Он так ни разу и не оглянулся, хотя догадывался, что хану это было бы приятно. Ни разу!
— Он высокомерен, отец! — сказал Тули.
Чингисхан невольно вздрогнул, отошел от сына на два шага и только после этого сказал:
— Не лучше ли сказать: «Он горд»?
— Нет, отец, он не выказал тебе приличествующего уважения!
Хан подошел к нему вплотную и тихо, доверительно проговорил:
— Ты ошибаешься, Тули! Он умен. С его появлением вокруг становится светлее. Разве мы не привыкли всегда поклоняться свету? Солнцу безразлично, светит ли оно нам или кому другому. — Хан снова обратил свой взгляд на степь. — А знаешь, — вздохнул он, — я был бы рад удержать его при себе!
Караван спустился в низину, а когда через некоторое время вновь появился на виду у всех, он до того уменьшился в размерах, что казалось, будто это идет один-единственный верблюд.
— Джебе! — воскликнул вдруг Чингисхан.
— Мой хан?
— Готовься к охоте! — быстро проговорил хан и снова отступил на несколько шагов в сторону. — И чтобы через пять дней я мог проскакать через ложбину прямо к котловине!
— Значит, ты все-таки решил участвовать в охоте, отец?
— Да, Джучи, я хочу этого!
— Вопреки советам мудреца, о котором ты столь высокого мнения, отец?
— Да, вопреки! Старец, может быть, и прав. Но что ему известно о моей воле? А разве не сила воли решала исход многих битв? Почему бы ей не победить и усталость моего тела?
Чингисхан бросил последний взгляд в сторону уходившего за горизонт каравана, а потом вместе с сыновьями вернулся в дворцовую юрту.
Четыре дня спустя Джебе доложил своему властителю, что большое кольцо за охотничьими угодьями сомкнулось и что ни одному зверю теперь не уйти.
— И теперь путь через ложбину для тебя открыт! — сказал военачальник. — Кольцо, как ты и приказал, состоит из пяти рядов. Внутрь этого кольца мы загнали все зверье. Мы обыскали все, ни одной медвежьей берлоги не пропустили!
Хан кивнул и сказал:
— Хорошо! Завтра и начнем!
— Все будет так, как того требует обычай? — спросил Джебе. — Я спрашиваю потому, что…
— Я знаю, почему ты спрашиваешь, — тихо, почти зловеще проговорил Чингисхан. — Все будет так, как этого требует обычай: я убью тигра, медведя и кабана.
— Да, — сказал Джебе, побледнев и покрывшись испариной. — Медведя, тигра…
— Нет, не так, Джебе! Сначала тигра, потом медведя и последним кабана. Тебе что, плохо, мой друг?
Военачальник промолчал.
— Или у вас в Неркехе{24} перевелись тигры? — спросил хан, хотя знал, что смущение Джебе объясняется его, Чингисхана, нежеланием последовать совету мудреца из Йенпина.
— Тигров хватает. — В голосе Джебе прозвучало некоторое сожаление.
— Вот видишь! Послушай, Джебе, дело обстоит вот как: если мне скажут: «Хан, твои силы пошли на убыль!», я покажу им, что несгибаем, если же скажут: «Хан, ты состарился!», я покажу им, что многих молодых стою! Стал бы я тем, кем стал, если бы всю жизнь не поступал именно так?
Джебе поднялся, чтобы уйти, однако Чингисхан удержал его:
— Отвечай, друг!
— Я хорошо держусь в седле, мысль моя летит как выпущенная из лука стрела, но на схватку с тигром сил у меня больше нет. Разве признавать то, что есть на самом деле, противоречит мудрости, мой хан?
— Я докажу тебе, что ты ошибаешься!
Джебе как будто пропустил эти слова мимо ушей и неожиданно спросил Чингисхана:
— Ты по-прежнему ожидаешь послов шаха?
— Да, они прибудут к вечеру.
— А если завтра утром? Тебе известно, до чего трудно удерживать в кольце загнанных зверей!
— Мне безразлично, когда они подъедут, Джебе. Завтра утром начнется большая охота!
— Хорошо! — И Джебе вышел из дворцовой юрты.
Посольство шаха Мухаммеда, повелителя великого Хорезма, действительно прибыло к вечеру. Оно было принято с подобающим почетом, и в его честь был устроен пир. Хана приятно поразили богатые дары и подношения посла шаха: для него самого — прочнейшая кольчуга, которую не пробьет ни одна стрела, позолоченный шлем и стальной щит, для его сподвижников и нойонов — кривые сабли из кованой стали, для женщин — украшения и сосуды из мерцающего стекла, узорчатые пестрые шелка и мягкие коврики.
— Мне известно, сколь могуществен ваш шах и необозримы его земли! — воскликнул Чингисхан. — Он такой же властитель Запада, как я — властитель Востока, и поэтому мы должны жить в мире. Будет хорошо, если торговые люди из наших стран станут свободно обмениваться товарами.
Хан поднялся со своего стоявшего на некотором возвышении трона и поднял чашу в честь шаха. А потом вывел послов из дворцовой юрты и подошел с ними к сотне, если не больше, породистых жеребцов, которых он называл «белогубыми», и сказал:
— Оседлайте их и следуйте за мной. Я хочу вам кое-что показать.
Небо над ними было чистым, звездным, луна выкатилась из-за гор чуть позже, когда они уже оставили орду позади и придержали лошадей у поросшего березами холма. С его вершины открывался отличный вид на долину Керулена и лесистые склоны гор, протянувшихся до самого Бурхан-Калдуна.
— Лес горит! — испуганно воскликнул один из послов. Хан рассмеялся.
— Именно ради этого зрелища я и привел вас сюда! Но это не настоящий пожар, это костры вокруг кольца моих загонщиков дикого зверя. Наутро у нас назначена большая охота. Желают ли мои гости участвовать в ней?
Послы с радостью согласились. Их взгляды все еще были прикованы к огромному пылающему кольцу, из которого согнанному туда зверю не было никакого выхода. Иногда до их слуха долетал жалобный рев оленей, злобный вой волков или хриплый рык тигра, после которого, правда, все остальные голоса умолкали.
Удивлению посланцев шаха Хорезма не было предела. Им не единожды приходилось охотиться, но чтобы к охоте готовились с таким размахом, видеть не приходилось.
— Чтобы согнать столько диких зверей, потребовалось никак не меньше десяти тысяч воинов, — предположил один из послов.
— Тут вы ошибаетесь, — ответил хан. — Воздух сейчас удивительно чист, и ваш взгляд простирается куда дальше, чем вы себе представляете. И поскольку это так, то и само огненное кольцо, внутри которого находятся дикие звери, намного больше. Мы оставим лагерь сразу после полуночи и достигнем внешнего кольца только перед рассветом. Вот как далеко оно отсюда! Нет, не десять тысяч воинов сгоняли зверя! Их было восемьдесят тысяч, посол!
— Восемьдесят тысяч!
Эта цифра переходила из уст в уста. На некоторое время наступила полная тишина: каждый пытался мысленно вообразить, что же это за охота такая им предстоит!
Кольцо пылало. И там, где оно пылало, лунный свет померк. Лесистые склоны покрылись перемежающимися красными и желтыми полосами, и снова до их слуха начали долетать отзвуки волчьего воя и рева оленей. А изредка и злобный, хриплый тигриный рык. Можно было подумать, будто звери издают эти крики, когда добираются до внутренней стороны кольца и вынуждены убегать прочь, испуганные огнем или наткнувшись на острые копья воинов.
Луна светила на поросший березами холм. В ее призрачном свете всадники казались такими же белыми, как и их лошади.
— Поскакали обратно! — предложил хан. — До полуночи есть еще время отдохнуть.
В тот вечер настроение у хана было отличным. Свежий воздух подействовал на него благотворно. Когда он отходил ко сну, в ушах его еще стоял тигриный рык. Во сне он улыбался и что-то бормотал. Телохранитель приблизился к нему на цыпочках и укрыл еще одной легкой пушистой шкурой. И Чингисхан растянул губы в улыбке, словно именно это ему особенно понравилось.
Глава 12 ТИГР. МЕДВЕДЬ. КАБАН
А после полуночи зарядил дождь. Не сильный, не проливной, но все-таки. Глинистая почва расползалась под копытами лошадей, особенно когда приходилось подниматься на холмы. Несколько посланников шаха даже свалились с лошадей, и их с переломанными конечностями пришлось отправить обратно в лагерь. Хан велел объяснить гостям, что Керулен — река столь же красивая, сколь и сварливая: на одном берегу может светить солнце или луна, а на другом бушевать непогода. А вообще-то говорили мало, потому что отдохнуть как следует не успели. Лес словно вымер: ни одна пичужка не вскрикнет, ни волк не завоет, ни тигр не зарычит. Вскоре ветер переменился, теперь он задул с гор в сторону лесистой равнины и принес с собой запахи костров, горелой травы и дерева. Едва занялось утро, как они увидели и сам лес: сосны, ели и кедры. Это был сонный, насупившийся лес, уставившийся на них всеми своими верхушками и ветвями. Деревья стояли строгие, молчаливые и лишь изредка с сомнением покачивали своими верхушками.
Хан оказался прав: к утру они достигли огненного кольца. По сути дела оно представляло к этому времени лишь ленту из пепла, тянувшуюся через леса. Там и тут еще догорали сучья и тянулись в небо дымки, ибо, когда свет дня затмил языки пламени, воины разомкнули кольцо и начали стекаться в котловину, чтобы еще уменьшить пространство, по которому могли свободно перемещаться звери.
Оставленные на месте десятники указывали хану путь. Они приближались к тому месту, где воины образовали вокруг зверей в восемь раз сплетенное кольцо смерти. Отгонять их они отгоняли, но убивать или хотя бы наносить им серьезные повреждения воинам было строжайше запрещено. Единственные живые существа, которым охотников опасаться было нечего, — птицы. Их стайки беззаботно носились над колонной, возглавляемой властителем.
На скале, стоявшей несколько в стороне от дороги и возвышавшейся над старыми деревьями, сидела ворониха. Восходящее солнце зачарованно уставилось сверху на эту сидевшую на краю каменного карниза птицу с мерцающим черным оперением, а ветер старался это оперение распушить. Ворониха гордо взирала на лес и на серую ленту петляющей по нему дороги; однако когда хан приложил стрелу к тетиве и прицелился, птица, издав короткий крик, взмыла вверх и исчезла за высокими деревьями, росшими на скале.
Один из гостей из Хорезма удивленно заметил:
— Какая умная и чуткая птица!
Однако хан не опускал лука, а продолжал прицеливаться, хотя ни на скале, ни на ее карнизе никого видно не было. Это удивило гостей: они в почтительном молчании смотрели вверх, не зная, что и подумать. А хан все целился, будто не сомневался, что ворониха вот-вот вернется. Она, конечно, не вернулась, и хан на это, разумеется, не рассчитывал: будучи заядлым охотником, он прекрасно знал, кто спугнул птицу. Его свита тоже знала об этом, а вот гости даже не догадывались.
Из-за деревьев на скале, почти не шевеля крыльями, медленно выплыл огромный серый гриф. На какое-то мгновение он неподвижно завис над скалой, а потом мягко спланировал вниз.
Тут Чингисхан выпустил стрелу.
И она попала в цель!
Серый гриф взмахнул крыльями, пытаясь взлететь, забил лапами по камню.
— Вот в него-то я и целился, — объяснил хан своим гостям. — Что и говорить, вороны птицы умные, но не настолько, как вы думаете.
— Какой поразительно меткий выстрел! — воскликнул главный посол.
— Это я только примериваюсь! — ответил хан.
А серый гриф уже свалился со скалы. Прежде чем он ударился о землю, его несколько раз подбрасывало пружинистыми сильными ветвями елей. Это была большая, тяжелая птица, и, когда она уже лежала во влажном мху, ветви еще долго подрагивали.
— Я слышал, — начал главный посол, — будто вы собираетесь победить в поединке тигра?
— Да! И еще медведя. И кабана! Таков наш обычай.
— А это не опасно?
— Еще опаснее, если ты не в состоянии сделать это, посол. Мой народ это очень опечалило бы.
Слова Чингисхана озадачили послов, они никак не могли взять в толк, зачем властителю столь огромной страны подвергать себя такому риску.
— Странный обычай, — пробормотал главный посол, подумав о своем шахе, который тоже любил поохотиться, но вовсе не на тигров. — Разве властитель должен побеждать медведей и тигров, чтобы быть властителем? — спросил он.
— Да, должен! — ответил хан с улыбкой. — У нас говорят: «Властитель народа обязан быть храбрейшим из храбрых!»
— Мы рассуждаем иначе! — заметил посол.
— Как? Ваш повелитель не храбрейший из храбрых? — Такое предположение развеселило Чингисхана.
— У нас никто не задается вопросом, храбр Мухаммед или нет. Наш шах мудр, он земная тень Аллаха!
— Значит, он мудрейший из мудрых?
— Да! А храбростью отличаются его полководцы!
— А его послы?
— Они на втором месте по уму во всей стране, высокородный хан! — ответил главный посол.
— Странно, — проговорил хан и умолк.
С одной стороны, ему не хотелось обижать гостей, а с другой — он желал дать им понять, что сам не только храбр, но и мудр.
— По нашим обычаям, — неторопливо и не без задней мысли продолжал он, — гостям подгоняют самого лучшего зверя, чтобы дать им возможность показать свое бесстрашие, — он нарочно не употребил слово «храбрость», — а также ловкость и находчивость…
— Как, нам придется сразиться с тиграми? — в страхе воскликнул главный посол.
— И с медведями? — добавил другой, а третий в сильнейшем волнении проговорил:
— Мы прибыли сюда вовсе не для того, чтобы рисковать жизнью в схватке с кабанами!
— Успокойтесь, успокойтесь! — рассмеялся хан. — Разве я говорил о тиграх, медведях и диких кабанах? Этой чести удостаивается только Чингисхан, уважаемые послы! Я упомянул о лучшем звере, я мог бы назвать его и самым благородным зверем. У нас таким считаются олени, серны и газели.
— Извини, высокородный хан, — склонив голову, проговорил главный посол. — Извини нас за то, что мы столь громко и взволнованно ответили на твои слова.
— Мне не за что прощать вас, — возразил Чингисхан. — Это мне следовало бы просить у вас прощения, потому что я неточно выразился и тем самым испугал вас. И вот, охваченные страхом, вы и повысили голос, полагая, будто я требую, чтобы вы сразились с тиграми, медведями и дикими кабанами. Но я вовсе не требовал этого, мне и в голову не приходило потребовать от вас этого! Теперь мы поняли друг друга?
Послы смотрели на него, не зная, верить ли своим ушам.
Один из них кивнул. А другой сказал:
— Не будем больше обсуждать это.
А третий добавил:
— Мне даже почудилось, великий хан, будто ты желаешь обвинить нас в отсутствии мужества!
Чингисхан даже бровью не повел и совершенно серьезно проговорил:
— Вы мои гости!
Этим было сказано все и — ничего!
Но сейчас их внимание переключилось, потому что они достигли внешней стороны кольца смерти, в восемь раз сплетенного кольца.
Здесь хана поджидал Джебе.
В сопровождении телохранителей они поскакали по широкой тропе, проложенной к тому месту, где стоял трон властителя и длинное возвышение для его свиты и гостей.
Чингисхан занял свое место на обтянутом синим шелком троне. А рядом с ним развевалось знамя рода Чингисхана.
Хан с улыбкой предложил сыновьям, военачальникам, благородным нойонам и гостям из Хорезма садиться. А многочисленные слуги и придворные остались стоять.
Позади деревянного возвышения и трона властителя в десять рядов выстроились телохранители с мечами наголо. Им же было положено следить за тем, чтобы до назначенного времени ни один зверь не помешал плавному течению церемонии охоты.
Хан поднял правую руку.
Прозвучал призывный сигнал трубы.
Хан встал, спустился по ступенькам с возвышения и, пройдя мимо телохранителей, приблизился к своему коню. Для этой охоты он выбрал вороного, принадлежавшего некогда китайскому императору.
Когда сигнал трубы отзвучал, с другого конца котловины донеслись звуки барабанов, медных тарелок, трещоток и фанфар. Под эти звуки загонщики начали сгонять зверей. И вскоре первые из них появились на той самой тропе, в начале которой сидел на своем вороном хан. Первыми выскочили несколько зайцев-пищух, которые запрыгали в высокой траве, а потом замерли на задних лапках, насторожив уши. За ними показались олени, белогрудые горные бараны, газели, антилопы, дикие ослы и кабаны. Большинство из них испуганно метались туда-сюда, пытаясь найти путь к спасению.
И снова прозвучал голос трубы.
Хан высоко поднял руку.
На какое-то мгновение наступила полная тишина.
Где-то хрустнула ветка.
Хан медленно поехал по тропе — прочь от деревянного возвышения, прочь от своего трона.
Затих грохот барабанов и меди. На поляне, подобно изваяниям, застыли олени, газели, бараны и антилопы. Все они уставились в одну сторону — на высокие ряды лиственниц и кедров.
Над тропой с криком пролетела крупная сойка.
Первыми с места сорвались зайцы-пищухи. Вскоре вслед за ними засеменили фазаны, потом начали разбегаться бараны и овцы.
Хрипло зарычал тигр. И тропа мигом опустела, только газели удалялись неторопливо, как бы сохраняя присущее им достоинство.
Трубачи дали последний сигнал. Вот-вот на тропе должен был появиться тигр.
Чингисхан придержал коня, прислушался. Он поднял лук, приложил стрелу к тетиве.
Вороной приплясывал на месте, всхрапывая.
Хан похлопал его по шее, чтобы успокоить.
Над тропой снова с криком пролетела сойка.
Лошадь сделала несколько шагов в сторону от тропы, и хану стоило немалых усилий удержать ее.
И вот на широкой тропе, на расстоянии несколько большем, чем полет стрелы, показался тигр.
С возвышения для гостей и приближенных послышались крики: это они предупреждали хана об опасности. Всех испугало, что тигр появился столь неожиданно и там, где его увидеть не ожидали. Но и хищник был, наверное, немало удивлен; остановившись, он смотрел в сторону одинокого всадника. Может быть, тигра озадачила полная тишина, наступившая так неожиданно. И потом, он не был голоден, ему хотелось только спать. Целые сутки он блуждал по котловине, подгоняемый огнями и криками загонщиков. Он успел задрать много мелкого зверя, уставшего еще больше, чем он. Да, он был сыт и устал; под общий хохот гостей он как ни в чем не бывало разлегся на траве, положив свою огромную голову на передние лапы. Однако с хана он тем не менее глаз не спускал. Он наблюдал за ним, притаившись в высокой траве, скорее по привычке, чем в предощущении грозящей ему опасности.
Чингисхан недовольно покачал головой. Он ударил вороного по морде серебряной рукояткой плетки, а потом пробормотал что-то похожее на страшное проклятие, поэтому у стоявших на возвышении приближенных пропало всякое желание улыбаться. А его сын Тули шепнул своему брату Джучи:
— Он в бешенстве, он боится предстать перед послами в смешном виде!
— Неужели у загонщиков не найдется для него другого тигра? Этот умер прежде, чем его убили! — тихо ответил Джучи.
— Пусть раздразнит его! Одной стрелы в нос хватит, чтобы его взбесить!
А Чингисхан снова изо всех сил ударил вороного плеткой по морде. Став на дыбы, вороной заржал от боли.
Тигр уже поднялся, с любопытством глядя на человека, который лупил свою лошадь. Но ни у вороного, ни у тигра не было никакого желания сделать хоть несколько шагов навстречу друг другу.
— Приведите мне белого скакуна! — заорал хан, поворачивая вороного вспять.
Но едва лошадь сделала три шага по направлению к деревянному возвышению, как Тули закричал:
— Тигр, отец! Тигр!
И остальные тоже закричали:
— Тигр! Тигр! Он идет на вас!
И действительно, тигр, весь подобравшись и пригнувшись, неторопливо шел вверх по тропе. Он пригибался настолько низко, что иногда высокая трава скрывала его почти целиком.
Когда хан снова развернул вороного, тигр замер на месте, уставившись на человека на лошади. Расстояние между Чингисханом и хищником заметно сократилось. Властитель поднял лук и выпустил первую стрелу.
Тигр подпрыгнул, перевернулся в воздухе, упал с рычанием в траву и сразу вскочил на ноги.
— Видишь, он попал точно в ноздрю! — вскричал Тули.
Тигр помчался в сторону хана. Стрела в ноздре переломилась, когда он упал, глаза и рот тигра заливала кровь. Вторая и третья стрелы попали ему в шею и в спину, но тигру это было словно нипочем, большими прыжками он подбирался все ближе и ближе, а вороной хана вдруг испугался и начал пятиться назад. Хан выпустил еще две стрелы, но зверь приблизился настолько, что он отбросил лук и выхватил из ножен меч.
Тигр зарычал. Затем резко остановился. Стрелы торчали из его тела, но пока что он еще твердо держался на ногах. Потом вдруг повалился на землю и покатился по траве, широко раскрыв пасть. От стрел в его теле остались одни наконечники! И вот уже тигр опять поднялся на ноги.
— Пошел, вороной! Слышишь, пошел, пошел, вороной! — кричал Чингисхан, стараясь повернуть его так, чтобы можно было встретить тигра мечом. Однако вороной никак не хотел слушаться его. Он стоял в траве, расставив ноги и опустив голову. — Эй, вороной!
Хан еще несколько раз ударил лошадь плеткой по ноздрям. Брызнула кровь, но хан продолжал стегать вороного, а тот никак на это не реагировал. Похоже было, что тигр боялся этой страшной плети больше, чем всего остального. Он отступил на несколько шагов в сторону. Сейчас, когда он отступал, прижимаясь теснее к земле, вид у него был трусливый и жалкий.
И тут вороной сошел с места. Шаг вперед, другой, третий. Снова остановился. Тигр тоже остановился, но на трех лапах: правую переднюю он поднял, как бы примериваясь к прыжку. Или в ожидании неведомого.
Но ничего не происходило.
Вороной опять стоял на месте.
И тигр стоял на месте.
Хан снова изрыгнул проклятие, пришпорил вороного.
— Ты, вороной, жизнью заплатишь мне за этот позор, — негодовал хан. — Слышишь, жизнью заплатишь!
Хищник лежат сейчас в траве и тяжело дышал. Утро было раннее, прохладное, и дыхание вырывалось из его пасти как облачка тумана. Несколько мгновений всадник и хищник смотрели друг другу прямо в глаза, и хан видел, что темная кровь почти совсем ослепила зверя. Ее тяжелые капли скатывались с век и катились по влажной от пота шкуре.
И вот тигр прыгнул!
Вороной встал на дыбы, но Чингисхану удалось то, что на его месте мало кому удалось бы: сидя в седле как влитой, он мимо пышной гривы непокорного коня ловким ударом вонзил свой меч прямо в пасть тигра.
С деревянного возвышения до его слуха донеслись восторженные здравицы, радостные крики и громкие восхваления. Тигр упал на землю, поднял в последний раз свою могучую голову, попытался выгнуть спину, но сразу повалился на бок. Чингисхан сошел с коня и без всякой опаски добил хищника. А потом взметнул меч к небу, повернувшись к гостям и придворным, которые вновь ответили восторженными криками. Гости из Хорезма тоже почтительно поднялись со своих мест. Он отчетливо видел, как они приветственно машут ему своими пестрыми шапками.
А вороной стоял за его спиной. Он уже почти совсем успокоился, бил по земле копытом и вытягивал шею, словно радуясь, что все осталось позади. И действительно, все осталось позади — для него. Ибо хан подозвал к себе несколько воинов и отдал им короткий приказ, после чего они мигом спутали ему ноги и повалили на спину. Вспоров брюхо, они быстро оттащили его в глубь леса, подальше от тропы.
Чингисхан, который никак не мог отдышаться, не сводил глаз с лежавшего в траве тигра. Тигров он любил. Их опасное соперничество на охоте закаляло его волю, ему всегда доставляло радость смотреть им прямо в глаза. Он разглядывал его прекрасную шкуру. К черно-желтым полосам прибавились и красные — в тех местах, куда попали его стрелы. Он видел, как воины вытаскивают из тела железные наконечники стрел, слышал, как они радуются тому, что стрелы застряли так глубоко. Чингисхан знал, что они гордятся и им, и умелыми кузнецами.
Тем временем по тропе прискакали Тули и Джучи с белым скакуном для отца. А некоторое время спустя к ним присоединился и Джебе. В то время как Джучи и Тули обнимали отца, Джебе негромко проговорил:
— И как только тебе удалось это, мой хан?
Чингисхан улыбнулся:
— А разве не ты, друг мой, усомнился вчера в том, что я на это способен?
— Да.
— Вот видишь: пока ты способен действовать, ты действуешь. А если перестать действовать, разве эта способность к тебе вернется?
Хан взял белого жеребца под уздцы и повел вверх по тропе. Ему было приятно ступать ногами по подгибающейся мокрой траве, а не сидеть в седле. Лицо у него раскраснелось, он был доволен собой.
— Я желаю до самой смерти жить так, как жил до сих пор, — проговорил он, широко улыбаясь.
— Старый волк бежит медленнее молодого, — заметил Джебе, искоса взглянув на него.
— Зато он умудрен опытом жизни и охоты! Или, состарившись, принимается жрать траву и листья? Нет-нет! Ему всегда нужны мясо и свежая кровь — и в молодые годы, и в старости!
Они вернулись к деревянному возвышению, к которому чуть погодя воины принесли и положили в траву убитого тигра, чтобы все могли увидеть его и испытать почтительное волнение. Казалось, больше всех это зрелище поразило гостей из Хорезма, которые только покачивали головами: никогда прежде им не доводилось лицезреть властителя, способного в схватке один на один победить тигра.
Чингисхан выпил прохладного кумыса, поел жирной баранины и при этом то и дело отпускал такие шуточки, что его сыновья, военачальники, благородные нойоны и гости так и покатывались от хохота, хлопали себя ладонями по ляжкам и вытирали слезы из уголков глаз. Им уже давным-давно не приходилось видеть хана в столь прекрасном расположении духа. По его виду никак нельзя было сказать, что он только-только схватился с тигром, хотя вся эта его радость только тем и была вызвана, что он одержал такую победу и превозмог тем самым и собственные, и чужие сомнения. Однако он по-прежнему был полон сил. Сидя на троне, он радовался, он ликовал, и все окружавшие хана восхваляли его до небес, а когда некоторое время спустя он убил и медведя, которого загонщики тоже подогнали к тропе, Чингисхан как бы вернулся в дни своей молодости. Лишь Джебе нарушил общее ликование, сказав:
— Ты ранен!
— Неужели? — переспросил хан, словно приняв это за шутку. — И где же рана, друг мой?
— В предплечье!
Все посмотрели на руки хана.
— Я ничего такого не чувствую, — сказал хан и, обращаясь ко всем, громко проговорил: — Всем известно, что Джебе один из моих самых верных и самых храбрых полководцев. У него есть только одна слабость: ему почему-то все время кажется, что либо тигр с медведем победят меня, либо я с лошади свалюсь, либо меня тяжело ранят в бою!
— Рана и впрямь кровоточит, великий хан, — сказал главный посол Хорезма, уставившись на правое предплечье властителя монголов.
— Это правда, отец, она кровоточит, — подтвердил Тули. Джебе промолчал.
— У медведя когтистые лапы, — проговорил хан, прикасаясь левой рукой к синему шелку рукава, сквозь который просочилась кровь. — Да, тут он меня поцарапал. Он хотел схватить меня, когда я пролетал мимо него на моем белом жеребце.
— Твой меч тоже просвистел мимо, — сказал Джучи.
— Да, но только в первый раз. Возвращаясь, я рубанул его изо всех сил. Не спорю: в первый раз я промахнулся и он попытался схватить меня. Ну и поцарапал…
— Кровь идет, — напомнил Джебе. — С этим не шутят, мой хан!
Тули, тоже обеспокоенный, закатал шелковый рукав халата. Хану это не понравилось, но он не подавал виду. Однако, когда предложили позвать шамана, чтобы тот осмотрел и заговорил рану, он решительно отказался. Хан стоял на том, что это всего лишь царапина, достаточно перевязать платком, и кровь останется в жилах.
Его пожелание было немедленно исполнено. Но когда он снова попытался развеселить всех шутками, это воздействия не возымело: всех смущало темно-красное пятно на синем шелке. К тому же главный посол вдруг сказал:
— Это наказание! Чего я и ожидал!
— Наказание? — удивился Чингисхан.
Не обращая внимания на великого хана, хорезмский посол обратился к своим спутникам с вопросом, не приходило ли им в голову, что убийство вороного будет иметь недобрые последствия.
— Да, я о чем-то таком подумал, — подтвердил второй посол, а третий добавил:
— А я опасался куда более тяжелых последствий. Особенно когда великий хан в первый раз пролетел на своем белом скакуне мимо медведя.
— Тут-то оно и случилось! — Главный посол выпрямился и перевел взгляд с третьего посла на великого хана.
— О чем вы говорите, гости мои? Не скажете ли вы мне, за что воспоследовало наказание? — Чингисхан выжидательно посмотрел на посла.
И тот ответил:
— После схватки с тигром ты велел убить своего коня.
— Он не слушался моей руки.
— Лошадь, на которой скакал, убивать не принято.
— Но она не слушалась меня, разве ты не понял?
— Не слушалась? Потому что испугалась тигра? Разве лошади положено сражаться с тигром? Была она под вашим седлом?
— Да. На ней я проделал весь путь из империи Хин до Керулена!
— И после этого вы велели убить ее! — посол, изменившись в лице, повернулся к своим людям.
— А если бы я из-за неповиновения вороного погиб? Что тогда? — спросил хан.
— Кто кого выбирал для схватки с тигром? Вы его или он вас? Почему же обиду за свой неверный выбор вы выместили на коне?
— Я вас не понимаю, — с равнодушным видом проговорил хан. — Я всю жизнь умерщвлял коней, отказывавших мне в повиновении.
Чингисхан потребовал принести всем свежего кумыса, давая понять, что считает этот разговор законченным.
А посол Хорезма никак не успокаивался:
— Может быть, сказка, которую я хочу вам поведать, скорее объяснит нашу тревогу, чем мои безыскусные слова.
— Сказка? Я люблю сказки! Расскажи мне ее! — обрадовался хан.
— Она называется «Охотник и его лошадь».
— Есть много сказок, которые так называются, — заметил хан. — Где все происходит? В вашем Хорезме?
— Да, великий хан.
— Тогда я ее, наверное, не слышал. Начинай, дорогой гость, начинай.
Чингисхан скрестил руки на груди, но от пристального взгляда Джебе не ускользнуло, что хан прижал левую ладонь к тому самому месту на правом предплечье, где кровь пропитала шелк.
— Это случилось в стародавние времена, — начал посол. — Отправились однажды отец с сыном на охоту. Охотник был храбрецом, каких мало, и все любили его за это. Однако все знали также, что охотник часто впадает в необузданную ярость, и осуждали его за это. И вот подъехали они как-то к такому месту в лесу, где в высокой траве разлилась лужица. Наверное, где-то рядом била струйка воды. Стояла сильная жара, и отца с сыном мучила жажда. Отец опустился на колени в траве, чтобы попить из лужицы. Но лошадь почему-то оттолкнула его, да так, что он повалился на бок. Он не поранился, но затаил на нее обиду. А потом случилось такое, что ни отец, ни сын никак не могли ожидать. Лошадь с невероятной жадностью выпила всю лужицу. И похоже, не напилась досыта.
— Что за непослушная лошадь! — выкрикнул охотник и стеганул ее плетью по морде.
Чингисхан прервал посла, спросив, не было ли поблизости другого источника влаги.
— Нет, ни единого, — ответил посол.
— Тогда охотник поступил по справедливости, — рассудил хан. — Неужели он должен был изнывать от жажды до смерти, лишь бы лошадь утолила свою?
— Вы лучше дослушайте сказку до конца, — обидчиво проговорил посол. — После того как он избил лошадь, они с сыном решили продолжить свой путь. Но, оглянувшись в ту сторону, где была лужица, заметили, что там снова блестит вода.
— Ну, твое счастье! — сказал охотник своей лошади.
И велел сыну напиться первым: он-де придержит пока лошадь, потому что ее опять потянуло к воде. И что, вы думаете, случилось? Не успел сын даже напиться, как лошадь, что была под охотником, оттолкнула в сторону и его. И быстро выпила всю воду до капли.
— А я что говорил? Ну как не убить такое животное? — Чингисхан даже взмахнул руками, но сразу овладел собой и снова сложил их на груди так, что прикрыл левой ладонью свою рану. — Я бы убил эту лошадь не раздумывая!
— Что охотник и сделал, — кивнул посол. — Он убил ее своим мечом, и как только это случилось, они увидели, что в траве опять появилась лужица. И охотник сказал сыну: «Теперь напьемся досыта, никто нам не помешает!»
— А другая лошадь? Я про лошадь сына. Она что? — полюбопытствовал хан.
— Да ничего! Стояла себе спокойно на месте! — невозмутимо ответил посол.
— Значит, у сына была послушная лошадь! — заметил хан.
— Послушная? О нет, великий властитель! Она всего лишь отомстила за свою подругу отцу, позволив сыну напиться.
— Отомстила? — нетерпеливо перебил его хан. — Опять ты говоришь об отмщении, о наказании. Я ничего не понимаю!
— Сказке еще не конец, высокородный хан!
— Да? Так доскажи ее!
— Сын напился и упал замертво!
— Замертво?
— Да, он умер! Сын!
— Дальше, дальше!
— Когда отец поднял сына с земли, он сразу разгадал тайну его смерти: на камнях, лежавших вокруг лужицы, свернулась большая черно-белая змея. Она почти не переставая сплевывала в воду свою ядовитую жидкость. И только теперь вспыльчивый отец осознал, что лошадь, которую он убил, хотела спасти от смерти и его, и сына.
— Да, — тяжело вздохнул хан, — невеселая сказка!
— И в конце ее сказано: «Никогда не убивай лошадь, на которой скакал, потому что следующая отомстит за ее смерть!» Разве вторая лошадь не поступила именно так, когда безучастно наблюдала за пьющим из лужицы сыном? Это и было ее местью отцу!
Чингисхан кивнул, посмотрел на небо, потом на тропу, но ничего не сказал. Солнце начало пригревать, и это сразу ощутили все стоявшие на деревянном возвышении. Слуги подносили желающим чаши со свежим охлажденным кумысом.
— В вашей стране все сказки такие грустные, посол? — спросил хан.
— Вовсе нет! Кстати, — решил ответить вопросом на вопрос тот, — не обнаружил ли ты, высокородный хан, некой переклички этой сказки с судьбой твоего вороного?
— Вороной умерщвлен!
— Да, он убит, однако разве твой белый жеребец не пролетел в схватке мимо медведя?
— Я уже ответил: только в первый раз! А на обратном пути я с медведем покончил!
— Это было предупреждением, высокородный хан! Что и доказывает рана на твоем правом предплечье!
— Брось ты кабана, отец! — сказал Тули.
Чингисхан встал и опустил руки.
— Что? Из-за какой-то сказки — вдобавок не из нашей страны! — я должен отказаться от борьбы! Тигра я победил, медведя убил, а сейчас, когда мне предстоит самое легкое, отказаться? Джебе!
— Мой хан?
— Подавай знак!
— Но, мой хан! Ты так любишь сказки, ты веришь в мудрость их иносказаний, и поэтому… — начал было военачальник.
— Я велел подавать сигнал, слышал, Джебе? Пусть гонят к тропе кабана, пусть гонят!
Властитель в бешенстве топнул ногой, спустился с деревянного помоста на землю и обошел ряды своих телохранителей. Оседлал своего белого жеребца, похлопал рукой по его крутой шее, напоминавшей лебединую, и медленно поехал по тропе. Подняв глаза к солнцу, снял шапку и поклонился ему.
Прозвучал пронзительный рев трубы. Хан не оглянулся, а поехал по теневой стороне тропы под елями и кедрами мимо цветущих кустов и пышных желто-коричневых цветов на длинных ножках, светившихся в темноте как огоньки.
На тропу выбежала стайка газелей, но тут же метнулась в сторону.
И снова, в последний раз, пропела труба. Затрещали ветки кустов. Сквозь подлесок и эти кусты продирался кабан; без всякого страха и ни на кого не обращая внимания, он выбежал на тропу — весь в листьях и обломках веток.
Неожиданно резко остановившись, он оказался наполовину в тени, а наполовину на солнце. Это был старый, а значит, очень злой кабан. Ведь как известно, старые дикие кабаны ведут одинокую жизнь…
Чингисхан оказался недалеко от кабана и начал выпускать в него одну стрелу за другой. Разумеется, когда хан сказал, что ему остался самый легкий поединок, он имел в виду, что сражаться с кабаном далеко не так опасно, как с тигром или с медведем. В тело кабана попало уже три стрелы, и только после этого он повернул голову в ту сторону, где на своем белом жеребце восседал хан. Мощные клыки кабана как бы заострились даже. И снова хан выпустил одну за другой несколько стрел, и снова не промахнулся. Зверь весь затрясся, стряхивая их с себя, но впившиеся в шкуру стрелы держались, и только листья и ветви посыпались в разные стороны. И тогда он бросился вверх по тропе, подстегиваемый, скорее всего, болью и страхом. Он не останавливался, и все приближался к охотнику. Им овладело бешенство, и всякий раз, когда в него попадала очередная стрела, он подпрыгивал, страшно крича.
Чингисхан обнажил меч, слегка наклонился вправо. А жеребец сделал несколько быстрых шагов навстречу кабану.
— Молодец, молодец! — похвалил белого хан.
И тут властитель вывалился из седла и, рухнув на землю, остался лежать без движения. А старый кабан остановился как вкопанный. Застыв от неожиданности в десяти шагах от хана, он на фоне зеленой травы походил на черный камень.
Белый жеребец пробежал мимо него и теперь медленно возвращался.
В конце тропы и на деревянном возвышении все словно онемели. Никаких криков отчаяния и ужаса. Ничего! Лишь верховой ветер продолжал раскачивать вершины елей и кедров, да где-то вдали попискивали лесные пичуги. Хан лежал в траве как парализованный, а в десяти шагах от него над травой возвышался черный камень-кабан.
Когда белый жеребец вплотную приблизился к своему хозяину, тот вдруг одним махом вскочил в седло. Кабан опустил голову и сделал несколько неверных шагов в сторону. Его пошатывало, потом потянуло поближе к тропе, у самого края которой он уткнулся клыками в землю. И несколько мгновений спустя все увидели, как он повалился на бок. Оперенные стрелы подрагивали подобно высоким травинкам — с той лишь разницей, что были куда длиннее их.
Хан поднял руку, и по его знаку из-за деревьев выбежало несколько воинов, которые и прикончили кабана.
На деревянном возвышении никто не шевелился, но хан повернул скакуна в ту сторону и медленно, степенно направился к своим сыновьям и приближенным. Он никак не мог взять в толк, что и как произошло. Рана на предплечье огнем горела. Он упал с лошади, это да. Но каким образом и почему, хан объяснить себе не мог. На него словно ночь набросилась, глухая темная ночь, и потащила куда-то. А когда он пришел в себя, совсем близко от него стоял кабан — огромный, застывший неподвижно, как мрачное изваяние.
Чингисхан спешился и прошел мимо рядов своих телохранителей. Поднялся по ступенькам и направился к трону с родовым знаменем, не обращая внимания на склонившихся в поклоне близких и гостей. Времени, проведенного в седле на обратном пути сюда, вполне хватило для того, чтобы овладеть собой и найти необходимое для подобного происшествия объяснение случившегося. Он не боялся их укоризненных взглядов, но мысль о том, что он на глазах у всех упал с лошади, заставляла его страдать. Но виду он не подавал. Первым, на кого он повысил голос, оказался Джебе:
— Ты, конечно, думаешь сейчас о мудреце из Йенпина? Разве я не прав?
Джебе счел за благо промолчать.
— Так прав я или нет?
— Я с удовольствием вспоминаю о нем, — уклонился Джебе от прямого ответа. — Он мудр. И не ты ли говорил, что был бы рад удержать его при себе?
Как бы пропустив слова Джебе мимо ушей, Чингисхан обратился к послам из Хорезма:
— А вы, конечно, думаете о вашей грустной сказке и радуетесь, что ее потаенный смысл подтвердился на глазах у всех?
Послы хранили почтительное молчание, хотя в их взглядах хан прочел некоторое недоумение и сожаление.
— Зачем так кричать, отец? А если они правы? — попытался успокоить отца Тули.
Чингисхан ответил ему широкой улыбкой, и даже Джебе и послам кое-что от нее перепало.
— Они и в самом деле правы, Тули!
И он опять перевел взгляд на Джебе и послов:
— Я упал с лошади. Какая-то неведомая сила вышвырнула меня из седла. — Хан перевел дыхание и оглядел всех по очереди: почему у них такой смущенный вид? Кому известна причина этого? Мудрецу из Йенпина? Послам из Хорезма? А может быть, обе эти силы взаимодействовали? Не исключено!
По лицам гостей скользнула улыбка удовлетворения. Лишь Джебе, Тули и Джучи знали, что у хана свое на уме и что следует ждать еще чего-то. Вот-вот он нанесет удар. Чем дольше хан хранил молчание, тем более тягостной становилась тишина.
— Довольны вы теперь? — спросил он. Джебе не ответил. Гости из Хорезма оказались не столь проницательными. И главный посол проговорил:
— Мы… Я думаю, что ты, высокородный хан, допустил мысль, будто мы…
— С чего вдруг ты, посол, начал так запинаться? Неужели мои гости испытывают страх передо мной?
— Я хотел сказать: все мы сожалеем о постигшей тебя неудаче, хотя ты, наверное, подумал, будто она способна порадовать нас! — выдавил из себя посол.
— Неудача? — хан даже рассмеялся. — Это была удача! Победа над темными, невидимыми силами!
Удивленные гости отступили на шаг назад.
— Неужели вы все не разглядели кабана, этого старого одинокого кабана, который выбрался на тропу, побежал на меня, а потом вдруг замер, словно окаменев, — слышите! — когда я упал с коня. Что его остановило, что обуздало его ярость?
— Это были боги, — ответил стоявший за спиной хана главный шаман.
— Боги! — повторил хан. — Значит, боги взяли верх над темными силами, над предсказаниями мудреца из Йенпина, приверженца чуждой нам веры, и над предсказанной в хорезмской сказке местью лошади! И это вы называете неудачей? — Чингисхан покачал головой. — Что же худого может со мной случиться, если боги дали мне понять, что они на моей стороне и на стороне моего народа?
Послы из Хорезма в недоумении смотрели на хана, о богах которого им ничего не было известно.
Джебе, Джучи и Тули преисполнились чувством гордости за своего властителя и сделали слугам знак обнести всех собравшихся чашами со свежими напитками. Позднее, когда хан открыл охоту для всех, Тули сказал отцу, понизив голос:
— Разве не старость выбросила тебя из седла, отец?
— Да нет же, мой дорогой Тули, — шепотом ответил ему хан. — Не может быть, чтобы причиной этому был возраст. Не то послы сообщили бы, чего доброго, своему Мухаммеду, что властитель всех монголов не в силах больше удержаться на лошади. Хорошо это было бы для моего народа?
И отец с сыном расстались, довольные друг другом. Потом подобревший хан распорядился подогнать гостям обещанных газелей, серн и оленей. Гостям удалось подстрелить зверей, хотя и неумело. К вечеру на полянах разложили большие костры, на которые черный молчаливый лес взирал с гордым безразличием. Убитых животных разложили на траве рядами. Птицы уже умолкли. И когда многочисленные повара начали разносить гостям нанизанные на деревянные палочки лакомые куски жареного мяса, над верхушками старых елей и кедров появилась полная луна.
Среди присутствующих лишь один не испытывал ни радости, ни удовольствия — сам хан. Но никто не заметил того, что он в этот день ощутил с особенной остротой: годы не красят и самого великого хана. Около полуночи, когда в лунном свете, подобно павлиньим перьям, запорхали девушки-танцовщицы, Чингисхан обнял своего старого друга Джебе и сказал:
— С сегодняшнего дня годы мои побегут быстрее; значит, и мне придется жить быстрее. И тогда после моей смерти я оставлю свой народ таким великим, могучим и богатым, что смогу сказать ему: «Так, теперь у вас всего довольно. Сберегите то, чем уже обладаете, и оставайтесь такими, какими стали». Как знать, кто придет после меня?
Джебе ответил:
— Много-много лет ушло с тех пор, когда я принадлежал к числу твоих врагов и даже ранил тебя стрелой. Но после этого я пришел к тебе и сказал: «Если я должен сейчас принять смерть от владыки, то от меня останется горсть праха величиной с ладонь. Но если меня помилуют, я буду бросаться на врагов владыки впереди него, не важно, придется ли мне для этого бросаться в глубокую воду или разбивать крепчайший камень. По приказу «Иди!» или по приказу «Увлеки врага на себя!» я помчусь вперед, даже если мне для этого придется пробиваться сквозь толщу камня или море огня». Так это было или нет?
— Это было так, мой друг!
— И я помню, что ты сказал мне в ответ. Ты сказал: «Воин, действовавший как враг, обычно скрывает, кого он убил или кому причинил зло, его уста об этом безмолвствуют. А этот, напротив, ни о чем не умалчивает — ни о том, кого убил, ни о том, кого ранил. Он говорит об этом открыто. Такой человек способен стать моим сподвижником. Тебя зовут Джирко-адай. Ты пустил в меня стрелу, и я буду звать тебя Джебе, Стрела. Ты будешь сопровождать меня в походе». Так это было или нет?
— Это было так, мой друг!
— Тогда скажи мне сегодня, всегда ли я был таким, каким обещал быть?
— Всегда, Джебе!
— Значит, отныне будет так: с сегодняшнего дня и мои годы побегут быстрее, чтобы твой народ стал великим, могучим и богатым и чтобы ты перед смертью мог сказать ему: «Теперь у вас всего довольно, сберегите то, чем уже обладаете, и оставайтесь такими, какими стали». Потому что как знать, кто придет после тебя?
— Ах, Джебе, — хан расчувствовался и обнял военачальника. — Требуй от меня чего угодно! Я выполню любое твое желание!
Они прошлись немного под деревьями. Трава была холодной и влажной. Сквозь ветви, раскинувшиеся над их головами подобно огромным веерам, пробивались лучи луны. На лужайках продолжали танцевать девушки. Горели костры, и в чистое небо уходили острые, как стрелы, дымки.
— Слушайся иногда моих советов, хан, — сказал военачальник.
Чингисхан остановился:
— Вот это твое желание, Джебе, я выполнить не обещаю. Ты мог бы попросить сто женщин или тысячу лошадей. Но воля моя непреклонна, Джебе! Нет-нет, друг мой, нет-нет!
Над ними пролетела снявшаяся с ветки большая ночная птица. Испуганно встрепенувшись, она взмыла вверх и уселась на верхушке ели. Похоже было, будто она сидит на луне, белый диск которой как раз сейчас проплывал мимо этого дерева.
Глава 13 МЕЖДУ ВОЙНАМИ
В солнечный день Тенгери сидел на берегу Керулена на стволе ели и резал по дереву. Неподалеку щипала траву его лошадь. Вода реки шумела, а в том месте, где поток, преодолев пороги, с грохотом падал вниз, к небу вздымалась мельчайшая водяная пыль.
Иногда к реке сбегались дети. С кувшинами и другими сосудами. А иногда собирались просто так, чтобы погреться на камнях, поиграть в прятки в камышах или побегать взапуски. С маленькими луками в руках охотились на уток и на серых цапель, соревнуясь в меткости и находчивости. А потом вытаскивали из воды свою добычу. Их азарт выдавал радость, которую они испытывали от одержанных над другими живыми существами побед. Когда они вдруг замечали Тенгери, то собирались вокруг него в некотором смущении: ведь это он их заметил первым, а не они его. Одни торопились вернуться в камыши, другие же усаживались подле него и с открытыми ртами наблюдали за тем, во что под его руками превращается обычное полено, лежавшее у него на коленях. Чтобы остаться опять наедине с собой, он одаривал ребятишек маленькими деревянными баранами, козами, собаками, волками и пастухами. Все эти игрушки были такого размера, что свободно умещались в кулаке. Получив эти подарки, дети разбегались с радостными криками: теперь у них есть такие вещицы, каких им ни у кого в орде видеть не приходилось. А Тенгери после их исчезновения старался обычно найти место поукромнее, чтобы не попадаться больше ребятам на глаза и потрудиться всласть.
В его холщовой сумке всегда было много деревянных зверьков и домашних животных; он научился вырезать их и стоя, и сидя, главное — было бы время. Это дело давалось ему теперь легко, он к нему приноровился. И с легким сердцем дарил их, эти маленькие деревянные игрушки, ребятне: годы, когда он хранил все вышедшее из-под его рук, давно миновали. Он начал вырезать и другие фигуры. Стражника в шлеме и с мечом в руках, воина с луком, пастуха с двумя собаками, женщину, присевшую отдохнуть на камне у реки, о которой Герел сказала, что эта женщина очень на нее похожа. Они были такими большими, эти фигуры, что достигали Тенгери до пояса и стояли в юрте Ошаба за пологом и за пестрым шкафчиком, чтобы их никто не видел. Вот этого Ошаб с Герел никак понять не могли: им бы, наоборот, хотелось, чтобы об этих фигурах узнали все, а особенно Ха-хан. Еще когда Тенгери вернулся из империи Хин со своим маленьким стадом, Герел сказала ему:
— Пойди к хану! Он назначит тебя своим придворным резчиком по дереву.
Ошаб поддержал жену:
— Да, это будет важной и высокой должностью для тебя. И в нашей юрте станет светлее.
Тенгери же отказался идти к хану на поклон, объяснив это такими словами:
— Приходилось вам когда-нибудь слышать, что при дворе Ха-хана есть монгольские художники, ученые-монголы, монголы-писцы, златокузнецы-монголы или монголы-звездочеты? Да-да, я знаю, у него есть и художники, и ученые, и писцы, и златокузнецы, и звездочеты — только все они уйгуры, китайцы, арабы или турки! А монголы? Нет таких!
На что Ошаб возразил: да вот же он, художник-монгол, и имя ему Тенгери! Откуда и взяться таким людям при дворе хана, если тому неизвестно, что в его народе такие люди есть? Но Тенгери и слышать об этом не хотел…
Нет, Герел с Ошабом его не понимали. И уж совсем ничего не поняли, когда он вырезал еще более удачную, чем прежде, фигуру воина с луком, стоящего на коленях, поставил ее на место прежней за пологом в юрте, а первую завернул в кусок полотна и унес с собой в лес, где спрятал в одной из песчаных пещер. Ошаба с Герел это настолько разозлило, что Ошаб не сдержался и даже закричал на Тенгери:
— Ты спятил! В твоей голове черные мысли, Тенгери! Тебя нужно отвести к шаману, чтобы он с помощью трав и громких молитв отогнал от тебя злых духов!
А его жена добавила:
— Он прав! Ты способен сотворить такое, чего, кроме тебя, во всей орде никто не сделает. И как ты с этими вещами обращаешься? Ты прячешь их от чужих глаз. Нет, Тенгери, добром это не кончится!
Они даже посмеялись над ним и вышли из юрты, оставив его одного. Тенгери вышел из нее вскоре вслед за ними. Сидя на стволе упавшей ели, он думал: нет, никто не должен узнать об этом. Хан хочет, чтобы его воины оставались воинами — и только. Он придет в ярость! Но не только по этой причине ему не хотелось, чтобы до хана дошел слух о его страстном увлечении. «Во мне живет какая-то сила, которая противится тому, чтобы хан хвалил или хулил меня, — размышлял Тенгери. — Может быть, это воспоминания о моих приемных родителях, и особенно об отце. Как это трудно, как неимоверно трудно свыкнуться с мыслью, что твои мать с отцом были предателями». Глядя на темную воду реки, он мысленно слышал, как пьяный Бат орет на него на «краю света»: «Да если он тебя опять спросит: «От кого ты узнал эту красивую сказку?» — ты ему не говори от кого. Это никому не понравится. Потому что Черный Волк оказался вонючим шакалом, предателем!» — «Бат!» — «Что с тобой? Разве я не правду сказал?» — «А если он не был предателем, Бат?» — «Не ори! У хана чуткие уши, он услышит тебя даже в Доломуре! Пей лучше! Пей!» — «Не хочу!» — «Не хочешь? Да что ты? Вы только посмотрите на этого папиного сыночка!»
И тогда они с Батом подрались. Стражники разняли их, а потом привязали его, раздетого, к топольку на обрывистом берегу у моря, где он и простоял всю ночь. Он замерз бы на ледяном ветру, если бы силы Неба не сжалились над ним.
Но здесь, у Керулена, сейчас светило солнце. Оно согревало руку, в которой он сжимал нож. Пестрые бабочки порхали от цветка к цветку. Жара заставила умолкнуть всех птиц в лесу.
Лошадь Тенгери, передние ноги которой он связал, прошла через камыш к реке и пила холодную чистую воду. Отойдя от деревянной фигуры на три шага, он пригляделся к ней. На солнце тополиное дерево казалось почти совсем белым. Ему особенно понравилось лицо девушки, простое и красивое. Голову она слегка склонила набок, глаза полузакрыты, она словно близоруко вглядывается в даль, складки платья отбрасывают на солнце строгие четкие тени.
Он снова уселся на ствол ели и, продолжая разглядывать стоявшую в траве фигуру, с удовольствием вдыхал запах хвои; упавшее дерево продолжало кровоточить, и на жаре смола проступала сквозь кору, как капельки пота. «А что сказала бы настоящая, живая девушка, увидев эту фигуру? — подумал он и сразу представил себе такую, частенько пробегавшую мимо юрты Ошаба с кожаными ведрами в руках, чтобы подоить кобылиц. — Она как газель, — подумалось ему, — ловкая, быстроногая, красивая». Тенгери вдруг встал и быстро подошел к деревянной фигуре. Сначала он еще ощущал, как жесткая трава режет босые ноги, а потом уже не чувствовал ни этого, ни чего другого: он видел только голову девушки, гладил ее лоб и щеки, касался кончиками пальцев слегка изогнутой шеи. Она была теплой, эта шея, теплой от лучей солнца. Глаза девушки были полузакрыты, а голову она слегка склонила набок…
Откуда-то до его слуха донесся топот копыт. Тенгери поднял глаза. Над головой — небо, синее и высокое, под ногами — трава, высокая и щетинистая, и еще камешки. Он улыбнулся, отнял руку от шеи девушки, словно устыдившись того, что расчувствовался, вернулся к поваленной ели, смущенно огляделся и тихонько проговорил вслух:
— Кожа у нее должна быть мягкой, мягкой и белой, как лунный свет!
А сама деревянная фигура ему почему-то разонравилась. Только голова ему удалась. Ну и походка, наверное: сразу видно, что она — легконогая газель.
— Она из дерева? — услышал он удивленный голос.
Тенгери испуганно оглянулся. Неподалеку стояло несколько мальчишек. На длинной жерди они несли пять пойманных сурков. Взъерошенный мех у двух из них был в крови.
— Да, из дерева! — ответил Тенгери.
— Он делает людей из дерева! — удивленно воскликнул мальчуган, не сводивший глаз со стоявшей в траве фигуры, которая отбрасывала сейчас длинную черную тень.
— И это ты делаешь топором?
— Ножом!
Он показал им свои ножи, и они осторожно прикасались один за другим к острым лезвиям.
— У хана перед главной юртой тоже стоят деревянные звери, два льва, — сказал мальчуган. — Но люди из дерева? Деревянные люди?
Все как один покачали головами, и зверьки, висевшие на лежавшей на их плечах жерди, тоже закачались.
Тенгери достал из сумки и подарил им маленьких деревянных баранов, коз, собак и волков, а самому любопытному из них даже верблюда. Обрадованные, они убежали, а тот, которому он подарил верблюда, выкрикивал на бегу:
— Он делает деревянных людей! Людей из дерева! Деревянных людей, людей из дерева! Из дерева!
Он видел, как они прибежали в орду, как их окружили другие дети, которым они начали что-то рассказывать, указывая в сторону реки.
Тенгери набросил на фигуру девушки кусок синего полотна и унес подальше от упавшей ели; дети наверняка приведут сюда остальных, и когда те его увидят и запомнят в лицо, начнут собираться у его юрты. И тогда все узнают о его увлечении, и в том числе и те, кому этого не следовало бы знать. «А что будет, если узнает и та девушка с кожаными ведрами? Не обидится ли она, когда увидит созданную по ее образу скульптуру?» — спрашивал себя Тенгери.
Он начал продираться сквозь кусты, а потом, держа деревянную фигуру под мышкой, начал карабкаться вверх по расщелине. Камни здесь были холодными, а воздух влажным, но когда он вылез из расщелины и оказался меж двух берез, выросших, можно сказать, прямо из камня, то оказался на залитой солнцем площадке высоко над пенившимся и грохотавшим Керуленом. Какой красивый вид открывался отсюда! Тенгери опустился на мягкий мох, ковром покрывавший камень. И увидел отсюда ребят: вот они вынырнули из камыша, пятеро на лошадях, а трое на своих двоих, и стоят у поваленной ели, разочарованные донельзя. Они так и вертели головами во все стороны, но никто из них, конечно, не догадается, что он забрался на такую верхотуру. Тенгери не слышал, о чем они говорили, но вполне мог представить себе, что одни не верят другим: не было, мол, здесь никакого человека, который умеет вырезать людей из дерева.
Фигуру он поставил против света, так, что она казалась сейчас почти черной, а очертания ее обрели неожиданную резкость. Как это было глупо, думалось ему, что он гладил ее голову и шею, голову и шею деревянной фигуры! Встав на ноги, он оглядывал всю большую орду, которая расселилась вдоль пологого берега Керулена и даже поглотила многие холмы. На самом высоком из них стояла огромная златоглавая юрта хана. К ней то и дело устремлялись всадники, копыта лошадей которых поднимали в эту жару тучи пыли. А в дальней дали, за изгибом Керулена, открывалась бескрайняя степь. Там несколько тысяч всадников учились, как с ходу переходить в бой, как рассыпаться по сторонам, пропуская врага, как обходить его. Эти военные игры не прекращались ни днем, ни ночью, и за те три лета, что прошли со времени похода против империи Хин, великий властитель монголов передал своему войску весь тот опыт, который обрел в минувших битвах. На каждом из воинов была теперь рубашка из китайского шелка-сырца, настолько прочного, что острые стрелы его не пробивали, а только вдавливали в рану. И достаточно было потянуть за ткань, чтобы вытащить стрелу. У каждого воина были теперь при себе лоскутки такого шелка и иголки с нитками, каждый имел по четыре запасные лошади, а не по одной, как во время похода в империю Хин; у каждого было по луку и по два колчана с разными стрелами, по копью с крюком, по мечу или боевому топору и, конечно, по аркану. Теперь в войске были и китайцы, которые умели строить мосты и наводить переправы через большие реки. Они же учили мастеровых людей, как строить осадные и метательные машины и оружие «летучего огня». Этим тоже занимались днем и ночью. А тех, кто не выказывал при этом особого рвения, хватали за руки и за ноги и тащили на Холм Непокорных. Там им рубили головы и насаживали их на бамбуковые шесты, которые глашатаи потом носили по всей орде. И через каждые девять шагов глашатаи выкрикивали:
— Его покарал хан за непокорность! Гнев хана обрушится на всякого непокорного! Тот, кто не повинуется хану, отказывает в повиновении и нашим богам! А Чингисхан — это наш бог на земле!
Когда Тенгери вновь обрел способность свободно ходить и ездить верхом, он обязательно принимал участие во всех положенных ему военных играх. Но испытывал чувство радости, если выходить в степь было не нужно: мысли о фигурах из дерева не шли у него из головы, иногда он даже просыпался среди ночи и думал: да, вот так, а не иначе нужно было бы то-то и то-то вырезать!
Эти догадки и прозрения радовали Тенгери, и когда он знал, что ни завтра, ни в ближайшие дни отдаться любимому делу не сможет, потому что должен со своей тысячей идти в степь, злился и начинал даже ненавидеть военные игры, которые только отрывали его от самого главного.
Он старался больше не смотреть ни в сторону степи, где в летнюю жару воины скакали на своих лошадях до полного изнеможения, ни в сторону Холма Непокорных, над которым кружили стервятники, жадные до свежей еще крови и мяса, а разглядывал без конца фигуру девушки, особенно ее голову, думая при этом: «Надо бы высечь ее в камне, как китайские монахи высекали своих Будд. Изображения богов должны сохраниться на веки вечные, говорили монахи, почему бы и женской красоте не пережить века?»
Он взял однажды крепкий нож и соскоблил с валуна обветрившийся зеленоватый верхний слой. Это был песчаный камень. Тенгери провел ладонью по его пористой поверхности, и отдельные песчинки потекли вниз. Высокий камень был виден издалека… Снова спустившись вниз по расщелине, Тенгери отвязал уздечку лошади от ствола ели, прошел с ней через кусты, перепрыгивая с камня на камень и переступая через узловатые корни деревьев, а потом вскочил в седло и поскакал в орду, чтобы взять у кузнеца заказанные с неделю назад молотки и разные зубила.
В такой предвечерний час ему нередко приходилось встречать девушку с двумя кожаными ведрами, торопившуюся подоить кобылиц. Сидя в углу кузницы с завернутой в синее полотно деревянной фигурой под рукой, он с удовольствием смотрел на огонь в горне, как вдруг заметил Герел. Она стояла перед своей юртой, смеясь и размахивая руками. А потом из юрты вышел Ошаб и показал какому-то незнакомцу деревянную фигуру пожилой женщины, присевшей отдохнуть на камне. Женщина эта очень походила на Герел…
А теперь Ошаб поставил эту фигуру почти вплотную с Герел, и незнакомец даже замотал головой, придирчиво сравнивая живую женщину с ее деревянным подобием. Сразу было видно, до чего он поражен сходством! Незнакомец начал что-то быстро говорить, и Тенгери, взбешенного тем, что Ошаб с Герел вынесли эту фигуру из юрты без его разрешения, словно пружиной подбросило. Как раз в это мгновение мимо них пробежала девушка с двумя кожаными ведрами. Голову она, как всегда, немного склонила набок, а глаза прижмурила. Успокоившись, Тенгери снова опустился на землю напротив горна, не упуская из виду девушки, спешившей к загону и даже перепрыгнувшей через его верхнюю жердь.
— Зачем тебе все эти вещи? — спросил его кузнец.
— Чтобы рубить по камню! — ответил Тенгери.
— Зачем тебе?
— Хочу вырубить китайский домик, — солгал Тенгери.
— А если мы оставим нашу орду, — раздумчиво проговорил кузнец, — ты что же, взвалишь свой китайский домик на спину и потащишь его к Онону?
— Да, попробую, — с улыбкой ответил Тенгери.
Кузнец тоже неизвестно почему улыбнулся. Но он хорошо помнил, как несколько лет назад Тенгери получил в подарок от хана дорогую лошадь и как властитель в тот день спросил о нем, кузнеце. По крайней мере, так ему сказал тогда Тенгери. И еще Тенгери сказал хану, что он очень хороший кузнец.
— Вот все, что ты просил. — Кузнец положил перед ним зубила, долота и молотки. — При случае напомни властителю…
— Да-да, я обязательно напомню ему о тебе.
— Это будет прекрасно, сын мой! — проговорил силач кузнец, утирая пот со лба.
Девушка вышла из загона с двумя кожаными ведрами, полными кобыльего молока. Оно сильно пенилось, и издали эта пена походила на пышный снег. Мимо него она прошла не поднимая глаз.
— Ее зовут Саран{25}, — сказал кузнец. — Правда, у нее походка газели? — А так как Тенгери не ответил, он добавил еще: — Да, Саран знает, как она хороша! Саран! — Он произнес ее имя торжественно, с придыханием. — Говорят, кожа у нее белая, как луна!
Тенгери взял зубила и молотки, не спуская глаз с девушки, и покрепче прижал к себе деревянную фигуру, словно опасаясь, что ветер сорвет с нее синее полотно и все увидят, что он несет. «Лучше сгореть со стыда в огне или броситься со скалы вниз очертя голову, — подумал он. — Насколько же она красивее той, что получилась у меня».
— Что это там у тебя? — спросил кузнец, подступая ближе.
— Ничего!
— Ничего? Тогда зачем ты обернул это в полотно?
— Ты чересчур любопытен, кузнец! Разве я спрашиваю тебя, почему ты сегодня выковал на десять наконечников для стрел меньше, чем велено ханом? — Это он просто так, наобум сказал.
— Ты пугаешь меня! — Силач с побагровевшим лицом снова отступил на несколько шагов назад.
— И поделом тебе, кузнец! Тот, кто не выполняет приказов властителя, должен испытывать страх!
— Когда твои зубила притупятся, я тебе их наточу, — выдавил из себя кузнец.
— Наверное, это скоро понадобится, — сказал Тенгери.
Тем временем девушка по имени Саран успела скрыться за черными кибитками, и он неспешно зашагал к юрте Герел и Ошаба. Теперь он уже поостыл и не слишком сердился на Герел за то, что она вынесла на люди фигуру сидящей на камне женщины. «Я спрошу Саран, не пойдет ли она вместе со мной к большому песчаному камню у отвесной скалы», — эта мысль овладела Тенгери. Она настолько проросла в нем, что он уже как будто видел перед собой ее светлый лик на темном камне. И по сравнению с этим изображением Саран все остальное представлялось ему настолько мелким и ничтожным, что обиду на Герел в конце пути словно ветром сдуло.
Пригнувшись, Тенгери вошел в юрту. Ошаб стоял перед очагом на коленях и шевелил в нем угли железной кочергой. Герел резала длинными полосками свежую баранину и подвешивала их к кожаному ремешку. А потом цепляла ремешки к поперечной балке под крышей юрты.
— Мы должны кое-что сказать тебе, — проговорил Ошаб, бросив быстрый взгляд на Тенгери.
— У вас неприятности? — полюбопытствовал Тенгери.
— Неприятности? С чего ты взял?
Герел потихоньку выскользнула из юрты.
— Я угадал это по выражению ваших лиц!
— Ну, — рассмеялся Ошаб, — это ничего не значит, ровным счетом ничего, Тенгери!
— Вот как…
Он огляделся. Справа и слева на стенках висели золотистые маски и жемчужные ожерелья. На шкафчике стояли тонкие фарфоровые чашечки с тремя золотыми шариками внутри. Нет, ничего из его доли добычи, которую он получил при ханском дворе, не пропало.
— А шелк? Он еще у вас?
— Куда же ему деться?
— Я просто так спросил.
Тенгери приблизился к шкафчику и поставил на него деревянную фигуру девушки. Полотно с нее он не снимал, но когда фигура оказалась наверху, оно как бы само по себе сползло с головы и задержалось на плечах, так что было похоже, будто девушка нарядилась в длинное, до пят, синее платье. К тому же это платье скрывало все недостатки резной фигуры, а голова, которая и без того нравилась ему, теперь понравилась еще больше.
— Разве это не та самая, что каждый день проходит мимо нашей юрты к загону с двумя ведрами? — спросил Ошаб, положивший кочергу подле очага.
— Ты хотел что-то сказать мне? — перебил его Тенгери, подняв глаза к свисающим сверху полоскам розоватого мяса.
Со стороны кузницы доносились звонкие удары по железу. «Похоже на радостные крики зябликов по весне! — подумалось Тенгери. — От страха перед ханом даже силач из силачей становится маленьким и жалким».
— Знаешь что… — неуверенно начал Ошаб и умолк, словно сомневаясь, уместны ли будут сейчас его слова. А потом решился: — Перед тем как ты пошел к реке, мы поссорились, Тенгери…
— Мы поссорились? Это вы меня ругали! А я вам ничего не ответил!
— Да, так оно и было!
— Все позади, Ошаб. Я больше не стану резать по дереву.
— Не станешь?.. — Тот встал и пошел позвать жену.
— Может, когда-нибудь потом вернусь к этому. А сейчас с этим покончено!
Вернулась Герел.
— Он не желает больше резать по дереву, жена, — проговорил Ошаб с нескрываемой грустью. — А мы-то хотели… — Ошаб вопросительно взглянул на Герел.
— Как, ты ему еще ничего не сказал?
— Нет, но вот возьму и скажу! Мы договорились… ну, то есть я велел Герел отнести одну из твоих фигур к хану.
— И она сделала это?
— Да, Тенгери, я отнесла!..
— Вот как!
Тенгери подошел к шкафчику и заглянул за него, чтобы узнать, какой фигуры не хватает.
— Значит, стражника!
— Да, стражника! — ответили они в один голос.
— Отнесли хану!
Оба кивнули.
— И хан принял тебя, Герел?
— Не сам хан! Но один из его слуг.
— И что он сказал тебе, этот слуга?
— Ничего. Кроме того, что, если хан скажет свое слово, к тебе пошлют гонца.
— Он не ругается, — сказал Ошаб. — Посмотри на него, Герел, он не ругается. А мы-то думали, что от твоей брани сломается поперечная балка и потолок рухнет нам на головы.
Сейчас Тенгери было все равно, что скажет о его работе хан: все его мысли занимала темная отвесная скала и светлый облик на песчаном камне. И все же он подумал: «А что, если хан и впрямь призовет меня ко двору и заставит вырезать то, что ему пожелается?»
— Мы разбогатеем! — сказала Герел.
— Держи язык за зубами! — прикрикнул на нее Ошаб.
— Кто был тот человек, с которым ты стояла у юрты? — спросил Тенгери.
— О, я совсем забыла рассказать о нем, — затараторила Герел. — Он из тех, кто служит при дворе нашего хана. Вот видишь, там уже знают о тебе. Этот человек пришел спросить, сколько у тебя таких готовых вещей из дерева!
— Она говорит правду, — подтвердил Ошаб. — Он был очень добр к нам, дорогой Тенгери. Значит, тебе нечего опасаться.
— Палачи на холме, — процедил сквозь зубы Тенгери, — тоже всегда добры к непокорным и говорят им с вежливой улыбкой, уже занеся меч: «Вам хорошо, вам повезло, вы попадете к богам раньше нас!» А потом, когда отрубленные головы уже лежат в траве, еще спрашивают друг друга: «Как ты думаешь, они уже наверху, у богов?»
— Что ты такое говоришь?.. — пробурчала Герел.
Позднее, когда они улеглись на шкуры, Тенгери полюбопытствовал:
— Они спросили, как меня зовут?
— А как же! — воскликнула Герел.
— Хан вспомнит, кто я такой!
— Ах, вот ты о чем! — удивился Ошаб.
— Об этом мы не подумали, — вздохнула Герел.
— Нет, это нам и в голову не пришло, — согласился с ней Ошаб. Помолчав немного, прошептал: — Ты не переживай, Тенгери. В тот раз, зная, кто ты такой, он поставил тебя десятником, хоть это и было очень странно. Мне почему-то кажется, он потому и поставил тебя десятником, что хорошо знал, кто ты такой…
— Но теперь я не тот, что прежде.
— А ему-то что до этого, Тенгери? Я думаю, в этот раз он назначит тебя придворным художником. Или, — тут Ошаб захихикал, — поставит сотником. Разве, начав резать по дереву и став художником, ты нарушил наши законы и обычаи? Чего тебе опасаться, Тенгери?
Но тот ему не ответил.
Когда взошла луна, ее бледный свет упал на накрытую синим полотном деревянную фигуру, стоявшую на шкафчике. Тенгери тихонько поднялся и осторожно, чтобы не разбудить спящих, приблизился к ней. Сняв полотно с головы девушки, он приспустил его и с плеч, и теперь они, как бы обнаженные, казались в лунном свете вылепленными из слоновой кости, а синее полотно превратилось в фиолетовое. Тенгери лег на свое место, положив руки под голову. Он долго разглядывал свое детище. Иногда быстро закрывал глаза, чтобы проверить, запечатлелась ли красивая головка девушки в его памяти. Когда фитиль ночничка погас и девушка отступила в темноту, он снова укрыл ее с головой синим полотном. И осторожно провел кончиками пальцев по изогнутой шее. Сейчас она была холодной, как лунный свет.
Утром Тенгери заторопился к юрте Саран. Девушка как раз седлала лошадь. Оба кожаных ведра стояли перед юртой. Без молока, но зато полные чашек и других сосудов. «Она, значит, собралась к реке», — подумал Тенгери, и так как ни Саран, ни ее матушка, набивавшая подушки овечьей шерстью, на него никакого внимания не обратили, вернулся к себе, отвязал свою лошадь от жерди и медленно поехал по главной ордынской дороге к Керулену, время от времени придерживая своего гнедого, натягивая уздечку, отчего тот высоко задирал голову и испускал недовольное ржание. Тенгери то и дело оглядывался, ища глазами Саран. Но она появилась попозже, когда он уже ехал вверх по течению. Заметив ее, он сразу повернул гнедого и поскакал галопом вдоль кустов навстречу Саран.
— Ты к реке? — спросил он и, едва выговорив эти слова, счел свой вопрос дурацким.
— Да, к реке, — ответила девушка, не поднимая глаз.
Но от взгляда Тенгери не ускользнуло, что она покраснела.
— А я уже был там! — сказал он и сразу пожалел об этих словах еще больше, чем о своем вопросе.
— Вот как! — только и ответила Саран.
В ее ведрах позванивали чашки и чайнички.
— А еще раз проехаться туда не хочешь? — не без подвоха поинтересовалась она.
— Хочу!
— Разве ты не знал, что мне нужно к реке?
Он даже испугался:
— Я? Откуда мне было знать?
Девушка бросила на него быстрый взгляд. Она, наверное, угадала сковывавшую его неловкость, потому что поспешила предупредить его возможный уклончивый ответ:
— Ты ведь был сегодня утром рядом с нашей юртой, правда?
— Правда! И я знал, куда ты поедешь!
— Вчера вечером, когда ты сидел у кузнеца рядом с очагом, ты тоже видел меня?
— Да, видел!
— А в другие дни? Ну, когда я с кожаными ведрами бегала…
— …к загону для кобылиц? — закончил за нее Тенгери и даже смутился.
Он отвел взгляд и, конечно, сразу увидел перед собой высокий песчаный камень под отвесной скалой. Молодые березки, стоявшие по бокам от него, слегка клонились на ветру. Тенгери никак не решался прямо сказать Саран, что собирается высечь в камне ее портрет. «Она не знает, что это такое, того гляди, испугается, умчится в орду и поднимет там шум», — подумал он.
— А ты видела когда-нибудь, — осторожно начал он, — такие картины… ну, которые привозят с собой китайские купцы?
Она посмотрела на него с нескрываемым удивлением, словно спрашивая: «С чего это вдруг ты вспомнил о китайских купцах?»
— Нет, — тихонько проговорила она.
А все-таки это первый случай, когда она подняла на него глаза и так долго не отводила. Теперь и он покраснел. И испытывал немалое смущение даже после того, как она опять потупилась. Тенгери пронзила мысль: «Выходит, она тоже наблюдала за мной, а я-то думал, что я для нее пустое место».
Тем временем они добрались до камыша. Тенгери сошел с лошади, а Саран осталась в седле.
— Я люблю проезжать через камыш, — призналась она со смехом. — Туда и обратно, туда и обратно. Знаешь, как это здорово! Хватаюсь иногда крепко-крепко за несколько коричневых камышин, мой конек ржет, бьет копытами и злится — а мне смешно! Я смеюсь потому, что мы с камышом сильнее моего маленького гнедого. А когда потом отпускаю камышины, он так и срывается с места и все прибавляет ход, будто боится, что я опять остановлю его, уцепившись за них! Если по правде, — чуть понизив голос, добавила она, — когда я держалась за камыш чересчур долго, он несколько раз сбрасывал меня.
— Откуда у тебя этот конек? Я таких маленьких всего несколько раз видел!
— Мой брат привел его из похода в Хси-Хсию. Он хоть и маленький, а очень крепкий и добрый! Как тебя зовут? Черный?
— Как ты сказала? Черный?
— Да, Черный! У тебя черные точечки в глазах. Когда ты говоришь, они загораются, эти точечки!
— Черный, — с удивлением протянул он. — Так зовут лошадей. Ну, некоторых…
— А я буду звать Черным тебя!
— Тогда я назову тебя Газелью!
— Называй! Но скажи сначала почему? — Соскочив с конька, она прижалась головой к его шее.
У Тенгери было такое ощущение, будто земля под ногами покачнулась. Дрогнувшим голосом он проговорил:
— Газели нежные и стройные, они даже красивее ланей. — Он набрал полную грудь воздуха, радуясь, что сейчас она больше не смотрит на него, а стоит, опустив голову и почти совсем прикрыв глаза веками. Сейчас она напоминала ему деревянную фигурку со шкафчика в юрте Ошаба.
— А еще? — прошептала она.
— Глаза у газелей огромные, сияющие, походка торжественная. Газель — это королева среди животных!
Саран так и уставилась на него. Над рекой кричали чайки. Из камыша вспорхнуло несколько уток. Саран же не сводила с него глаз, ожидая, что он еще скажет. Но Тенгери промолчал, и тогда она проговорила совсем тихо:
— Черный!
— Газель! — откликнулся он.
Взяв ведра, она понесла их на берег. Наполнив все сосуды и чайники водой, она, не говоря ни слова, сбросила свой темно-красный халат с таким видом, будто Тенгери вовсе и не было рядом; не глядя на него, она побежала по белым гладким камням к одинокой иве, длинные ветви которой свешивались прямо в реку, как зеленые косы. В тени этого дерева она вошла в воду Керулена и прошла по его песчаному дну почти до самой середины потока. А когда остановилась, вся облитая солнцем, вода была ей по грудь. Повернувшись лицом к берегу, она замахала руками и крикнула что-то, чего Тенгери не расслышал, потому что и сам скинул одежду в траву и бросился в реку.
Он оказался рядом с ней; неподалеку от большого плоского камня, напоминавшего панцирь огромной черепахи, который лежал на самой стремнине.
— Я каждое утро купаюсь в Керулене, — сказала она, — и всякий раз в другом месте! Разве ты меня здесь никогда раньше не видел?
— Нет!
— Давай вскарабкаемся на камень! — Это она про тот самый, что походил на панцирь черепахи.
— Он скользкий, как рыбья чешуя. — Обняв колени Тенгери, она положила на них голову. — Это чтобы не свалиться в воду, Черный!
Тенгери не сводил глаз с ее длинных влажных волос, сразу прилипших к его коленям. Глаза девушки были обращены к берегу, и Тенгери любовался ими как завороженный.
— Газель!
— Что тебе, Черный?
— Ничего!
А чуть попозже она предупредила:
— Из орды сюда скачут несколько всадников! Они что, по твою душу?
— А вдруг по твою?
— Ты прав! Всегда найдутся люди, которым до других есть дело. Когда до тебя, а когда до меня. Такие люди никогда не переведутся!
«Кожа у нее и впрямь цвета бледной луны», — подумал он, наблюдая за тем, как капельки влаги на ее теле сливаются в ручейки и стекают вниз.
— Всадники поскакали вверх по течению, — сказал он. — Выходит, их все-таки не за нами послали.
— Значит, за кем-то другим, — упрямо стояла на своем девушка.
Тенгери поглядел на высокий песчаный камень, стоявший под отвесной скалой с часовыми-березками по бокам.
— Полезешь туда со мной? — несмело спросил он.
— Куда?
Он показал рукой. Над каменной стеной возвышалось бездонное темно-синее небо, на котором сиротливо повисло одно-единственное белое облако.
— Вон туда! — сказал Тенгери.
— Что ты там спрятал, Черный? — весело рассмеялась она. — С тобой я пошла бы не только туда, но и вообще…
— Что вообще, Газель?
— Да что это я! Все болтаю и болтаю, Черный! Я никогда еще за раз не говорила столько, сколько за это утро.
Они сидели на камне, свесив ноги в воду. Сейчас он не казался им таким уж скользким, да и тела их обсохли на солнце. Они все смотрели на темно-голубое небо и на белое облако над скалой. Облако не двигалось с места, будто кто-то привязал его к этой скале. Легкий ветерок играл листьями березок. «Вот возьму и поведу Саран наверх, а там скажу: «Стань вот тут, Газель, и не шевелись. Смотри вниз, на орду, Газель. Если ты все сделаешь, как я сказал, мне, может быть, и удастся…» «Что тебе может удаться, Черный? И почему ты колотишь по камню?» — спросит она, наверное.
Однако неожиданный вопрос Саран нарушил ход его мыслей:
— Почему ты сегодня рано утром приходил к моей юрте? И почему ты все предыдущие дни следил за мной? Ну, когда я с ведрами бегала к кобылицам, Черный?
Вздрогнув, он проговорил:
— Так я тебе и сказал!
— Я и сама знаю!
— А я все равно не скажу, Газель!
«Могу ли я открыть ей, что я вырезал ее фигуру и что та стоит на шкафчике в юрте Ошаба? Должен ли я сказать, что полюбил ее и люблю все крепче и крепче?»
— Поцелуй меня, Черный, — прошептала она. — Поцелуй, чтобы я знала…
— Газель!
— …что ты знаешь то, о чем знаю я! — Глаза девушки потемнели. — Ты дрожишь, Черный… Ты не хочешь поцеловать меня?
— Да, конечно, только…
— Сейчас твои точечки опять загорелись, мой Черный!
— Газель!
Он протянул к ней руки. Саран слегка отпрянула, откинув голову, как испуганный зверек. Глаза ее расширились и округлились, словно девушка удивилась, каким безграничным может быть счастье.
— Мой Черный! — проговорила она, опустив голову и закрывая глаза. — Иди ко мне, Черный!
Где-то на берегу вскрикнула птица.
Ладони Тенгери сомкнулись на ее теплой шее, она, медленно теряя силы, обняла его. Он целовал ее губы и нежные плечи, как вдруг из его глаз потекли слезы.
— Почему, Черный?
— Я сам не знаю!
— Тогда все хорошо, мой Черный, — сказала она. — Ты плачешь от счастья и не осмеливаешься в этом признаться. Боишься, что любовь пропадет или улетит куда-то. Но пока мы вместе, она не пропадет и никуда не денется!
— Газель!
— Что ты?..
— Ты горячая, как солнце, и белая, как луна!
— Да, мой дорогой, мой сильный и храбрый Черный!
Белое облако, долго висевшее над скалой, все-таки откочевало, молчаливое, как и все прекрасное. Темно-синее небо гляделось в реку и любовалось своим отражением. Керулен пенился между камнями у излучины. Кусты и деревья на берегу устали от жары. На большом плоском камне, напоминавшем панцирь черепахи, лежали Тенгери и Саран. Сейчас они не разговаривали. Когда где-то поблизости треснула и переломилась ветка, Тенгери приподнялся, но Саран притянула его голову к себе.
Из воды выпрыгнула большая рыбина и со звонким плеском плюхнулась обратно.
На горячей спине каменной черепахи этого звука не услышали: влюбленные не замечали больше ничего вокруг.
Глава 14 ЛЮБОВЬ, ЛУНА И ЧИМ
К полудню Саран отвезла кожаные ведра с чистой посудой в орду и сразу вернулась. Тенгери ждал девушку у подножия скалы. Окутанные прохладой и тенью, они начали подъем. Оказавшись наверху, на гладкой покатой площадке, откуда открывался роскошный вид на окрестности, они то и дело поглядывали на белый песчаный камень с двумя березками по бокам, залитый сейчас ярким солнечным светом.
— Красиво здесь, — сказала Саран, подходя к самому краю скалы.
Внизу шумел поток, синий, как небо, а над его волнами летали вверх-вниз чайки, белые, как пена волн.
— Видишь его? Сейчас он такой маленький, как перевернутая чашечка.
— Да, Газель!
Они смотрели на камень, похожий на панцирь черепахи. Но мысли Тенгери далеко от скалы не удалялись. Он аккуратно разложил перед собой зубила, долота и молотки.
— Зачем тебе все это, Черный?
— Вот именно, зачем? — пробормотал он и подумал: «Ну, Тенгери, давай, самое время!»
Долота, зубила и молотки лежали в полном порядке, но он начал их зачем-то перекладывать. Саран спросила:
— Что с тобой? Что ты собираешься делать, Черный?
Он бросил на нее быстрый взгляд.
— У тебя такой вид, Газель, будто ты боишься, что я хочу тебя ими убить.
— Но…
— Не спорь!
— Ох и выдумщик ты, Черный!
— Ты присядь лучше, Газель, и смотри в сторону орды.
— А ты что станешь делать?
— М-да, что я стану делать? — Он тяжело вздохнул, искоса посмотрев на нее. — Я кое-что выдолблю в скале, — сказал он вдруг.
— Да? Луну? Или солнце? Огонь? Я угадала, Черный? Я видела в лесу камни с выбитыми на них луной, солнцем и языками пламени.
— Такие камни есть, — кивнул он, приставив долото к камню. Она не заметила, как дрожат его руки. — Только я хочу выбить в камне не луну, не солнце и не языки пламени, Газель, а…
— Может быть, меня, Черный? — рассмеялась она.
— Не исключено, — неуверенно проговорил он.
— Да я пошутила, Черный!
— А я нет!
— Черный!
— Сиди молча и не болтай! — Он взял другое долото и вытер тыльной стороной руки пот со лба и бровей.
На какое-то время Саран действительно умолкла, но ненадолго, ее мучил вопрос, почему он не сказал ей об этом раньше.
— Ты бы мог объяснить мне это еще внизу, у песчаного камня.
— Что? Что объяснить?
— Нет, ты и вправду хочешь выбить меня в камне?..
— Конечно, Газель!
Она вскочила на ноги и порывисто обняла Тенгери.
— Только чтобы никто об этом не узнал! — предупредил он. — И сядь, прошу тебя! Сиди и молчи!
Саран села, но сразу угомониться не смогла:
— Ты мне на один-единственный вопрос ответь, слышишь, Черный? Почему ты не сказал мне сразу, что хочешь…
— Почему, почему! — перебил ее он. И, понизив голос, добавил: — А если у меня ничего не выйдет, Газель? Что тогда будет?
— Тогда? — Девушка отвернулась и смотрела сейчас, как он и просил, в сторону орды. — Ничего такого не случится, Черный! Допустим, мой нос получится у тебя чересчур длинным, а рот огромным. Ничего страшного, Черный! Разве мало вокруг других камней, чтобы не попытаться еще раз, а потом еще?..
— Газель!
— Молчу, молчу!
Сейчас он был просто счастлив, и руки его больше не дрожали. Прошло довольно много времени, пока он не обратился к ней:
— Как это было замечательно… то, что ты мне сказала, Газель… Я насчет этих камней и того, что на них выбито. Нет, правда, это было замечательно. Я очень люблю тебя, Газель.
Саран продолжала хранить молчание и сидела в прежней позе, не шевелясь. Но по выражению ее лица Тенгери понял, до чего она рада его словам. Время от времени верховой ветер шевелил волосы Саран, которые свисали у нее до пояса, и даже набрасывал их на веточки невысокого куста, проросшего из камня. Тогда он подходил и освобождал их, целовал Саран и шептал:
— Газель моя! Моя Газель!
Вечером на песчаный камень под высокой отвесной скалой упали последние лучи заходящего солнца, и он казался красным, а там, где по нему долбил Тенгери, — ярко-красным. Голову Саран на камне толком разглядеть было еще нельзя, но он сказал девушке:
— Завтра в этот час она будет выглядеть совсем иначе, Газель!
— А теперь что будем делать, Черный?
— Останемся здесь, — твердо проговорил он.
— Черный! — воскликнула она и снова вскинула голову, как испуганный зверек.
— Когда луна взойдет над лесом, — прошептал он, — я кое-что скажу тебе.
Глаза ее расширились: она догадалась, о чем пойдет речь. Они прислонились спинами к песчаному камню и глядели в сторону орды. По степи носились гонцы и пастухи. С холмов стекали потоки воинов, тысячи которых возвращались с учений. А впереди них лениво летели стаи вспугнутых ими ворон. Потемневший Керулен торопливо стремил свои воды к излучине.
— Посмотри-ка на солнце, Газель!
— И что?..
— Правда, оно подпрыгивает?
— Подпрыгивает? Солнце подпрыгивает, говоришь?
— Да! Когда на него заглядишься, оно подпрыгнет. Конечно, это только так кажется, будто оно подпрыгивает, понимаешь, Газель?
Большой красный диск касался теперь высоких травинок в степи.
— Оно подпрыгивает! Нет, правда, оно подпрыгивает, Черный! — ликовала Саран.
— Вот то-то и оно! — И без всякого перехода Тенгери сказал: — Однажды — давно это было, Газель, — я тоже сидел под камнем у озера, на берегу которого росли три кедра. Когда я открыл глаза, потому что услышал поблизости от нас какие-то крики…
— От кого это — «от нас»?
— Я был там с приемными отцом и матерью, Саран. И вдруг нас окружили десять всадников. С копьями, мечами и боевыми топорами. Они словно из солнца вынырнули, эти воины, а солнце в тот день было похоже на сегодняшнее.
— А потом что было?
— Три кедра у озера стояли такие же красные, как этот камень, что у нас за спиной. Мой отец любил кедры, он так говорил о них: «Кедры не умирают, они растут из прошлого в будущее, они живут среди нас как могучие великаны, они — свидетели времен. И когда ветер набрасывается на них, они начинают рассказывать, как умудренные жизнью седовласые старцы. Кто научится понимать их, тот наберется мудрости, сын мой».
— Что нужно было этим всадникам, Черный?
— Вечером того же дня они убили отца и мать. А заход солнца был таким же, как сегодня.
— Почему?..
— Говорят, он оказал неповиновение хану.
Девушка долго смотрела на него со стороны, словно восхищаясь тем, что его родители оказались людьми, которые отказали хану в повиновении.
— Мало таких, Черный, кто не покорился бы хану.
— Да, таких немного.
Они, как будто сговорившись, посмотрели в сторону Холма Непокорных, который был уже в тени. Саран не стала выспрашивать, в чем выразилось неповиновение приемных родителей Тенгери, а сказала:
— Солнце зашло, Черный. Но оно подпрыгивало, ты точно подметил.
Некоторое время они еще посидели молча, прислонившись спинами к нагревшемуся за день камню, а ведь уже спустился вечер, и вся орда с ее светлыми войлочными юртами и кибитками казалась сейчас широкой светлой дорожкой из отбеленного льна, протянувшейся по всей долине реки. До них доносились отдельные звуки: блеяли овцы, которых пастухи закрыли в загонах, ржали лошади на водопое, там и тут лаяли собаки и во все горло кричали наигравшиеся за день детишки.
Тенгери нашел в скале расщелину, которая могла сойти за пещеру. Снаружи ее защищали от ветра молоденькие березки да худосочные кустики. Ничего, переночевать можно. Приведя сюда Саран, он опять сказал ей:
— Садись!
Тенгери и Саран приняли ту же позу, что и днем на спине каменной черепахи: Саран обняла его колени, положила на них голову и уставилась на вход в расщелину — вот-вот должна была взойти луна. Они коротали время, пытаясь угадать, над верхушкой какого дерева она появится. Девушка указала на ель, черневшую справа на фоне неба. А ему, конечно, пришлось указать налево. Но луна вынырнула не справа и не слева, а как раз посередине; ее восход угадывался по светлому темно-желтому пятну, которое все увеличивалось, вливаясь в синеватую темень.
И вот луна повисла над лесом — большая, золотистая.
— Ну, давай говори, Черный!
— С завтрашнего дня мы будем жить в одной юрте, Газель!
— Черный!
Березки вскрикнули под сильным порывом ветра. Прижавшись лицом к груди Тенгери, Саран прошептала:
— А все-таки редко бывает так, чтобы человек утром пожелал чего-то, а вечером оно уже исполнилось бы! Правда, Черный?
— Да, Газель! — А потом добавил: — Но еще лучше, когда двое пожелают одного и того же, даже не догадываясь об этом.
Она поцеловала Тенгери. В ту ночь луна была на ущербе, в ее диске не хватало доброй трети, и она напоминала желтую шапку ламы. Неподалеку от пещеры всхрапывали их лошади: конек Саран и гнедой Тенгери.
— Мы будем жить в одной юрте, — тихо повторила Саран.
— Да, Газель.
— И всегда будем счастливы?
— Всегда? — Он ненадолго задумался и после некоторых колебаний проговорил: — Я не знаю, может так быть или нет. По-моему, мы могли бы всегда быть счастливы, если бы жили только вдвоем, никогда не разлучаясь. Где-нибудь в лесу, или на этой скале, или на камне посреди реки… Но разве от людей уйдешь, скроешься? Разве не будут над нами всегда люди, которые будут призывать нас к себе, отсылать прочь, унижать, оскорблять, проклинать или мучить проявлениями своей любви? Прав я, Газель? Есть боги на небе, но есть и земные боги; одних мы видим, других нет, но повиноваться обязаны и тем и другим, не то нас ждет кара.
— Ты тоже любишь кедры? — шепотом выдохнула она.
— О чем это ты? — спросил он, сразу догадавшись, о чем она подумала. Саран не ответила. И тогда Тенгери сказал: — Да, я люблю кедры!
— Я тоже, Черный!
Луна была сейчас не желтой, как шапка ламы, а белой, как молоко. Белой стала и каменная стена с очертаниями лица Саран, молочно-белый свет обливал молодые березки, которые мягко вздрагивали на ветру, бледными были и лица Тенгери и Саран.
Девушка прилегла на мох и неожиданно спросила:
— Неужели боги живут повсюду?
Вопросы Саран удивляли его. На этот тоже было нелегко ответить, и он проговорил не слишком-то убежденно:
— Да, они, наверное, живут везде: ведь сколько раз нам приходилось слышать, что горы, реки, деревья, цветы, люди и звери есть повсюду.
— А где жить лучше, Черный, в империи Хин или в империи монголов?
— До чего же ты любопытная, Газель! — Тенгери пришлось задуматься, прежде чем он ответил, что, дескать, реки, горы, леса и луга в их стране красивее всех других. — Но, — добавил он, — в империи Хин есть вещи, о которых у нас никто понятия не имеет и которые мне очень нравятся.
— Что это за вещи, Черный?
Он рассказал Саран о людях, которые ткут шелка, ловят рыбу, пашут землю, обжигают горшки и кувшины, собирают чай, режут по дереву, рисуют картины, оправляют драгоценные камни в серебро и золото, печатают книги.
— Представляешь, Газель, они строят дома, которые всегда стоят на одном и том же месте!
— Не верю!
— Да! И унести или увезти их нельзя! Жители этой страны не переходят реки вброд, как мы, а строят через них мосты. Там я научился рисовать и резать по дереву. И у них же видел, как они рубят по камню.
— А почему у нас этого нет?
— Почему? Откуда мне знать? Китайцы говорят, что мы только воевать умеем и грабить. Наше счастье — это несчастье для других. Вот что они говорили, Газель.
— Но ведь так было во все времена, правда, Черный? И разве другие народы живут иначе? Разве мы ведем свой род не от волков?
Он снова надолго задумался, а потом ответил ей:
— Положим, так у нас было заведено. Но значит ли это, что так оно и будет во веки вечные, Газель?
Луна поднялась так высоко, что по водной глади побежала светлая дорожка. Мерцающий серебристый поток катил, извиваясь между лугами, а потом, плавно изогнувшись, уходил в лес и прятался в нем под густыми кронами кленов и кедров.
— Мы будем жить в одной юрте, Черный, — повторила девушка. — И никогда не поссоримся, правда?
— Ну, не скажи, — рассмеялся он. — Тебе может захотеться того, а мне этого. А кто окажется прав? Разве тот, кто уступает, обязательно не прав? Надо убеждать друг друга, договариваться и не жалеть на это времени.
— Значит, без ссор все-таки не обойдется, — вздохнула она, положив руки под голову.
— Может, оно и на пользу?
Она вдруг вскочила на ноги.
— Знаешь, что говорят старики? Они говорят: «Если у тебя есть девушка, которая тебя любит, ты умрешь, если она тебя оставит!» Так оно и есть, Черный!
Тенгери тоже вскочил.
— Я всегда буду добр к тебе, всегда, даже если мы поссоримся, даже если на нас обрушится несчастье, всегда — днем и ночью, в дождливый день и в день солнечный, в бурю и в стужу, всегда, Газель!
— Я люблю тебя, — тихо и страстно проговорила Саран.
Тенгери обнял ее за плечи. И тут ему вспомнился тот вечер, когда вырезанная из дерева фигура стояла на шкафчике в синем облачении. Он приспустил тогда полотно до плеч, и в лунном свете они были цвета слоновой кости. Он на какое-то мгновение зажмурился, чтобы проверить, запечатлелся ли в его памяти облик Саран.
— Что с тобой, Черный?
Пальцы Тенгери коснулись ее тонкой шеи. «Кожа холодная, как и в тот раз», — подумалось ему.
— Газель, — шепнул он.
Они опустились на мягкий мох и поцеловались. Теплый ночной ветерок обдувал березы. А когда он совсем улегся, наступила такая тишина, словно весь мир умер. Белые деревья застыли в лесу. Светлое небо глядело на них, будто дивясь тому, насколько оно все-таки больше земли. Со стороны степи до них доносился горький запах полыни.
Ночь была такой долгой, какими бывают только летние ночи. Но когда выглянуло солнце, им показалось, что оно поспешило: окружающий мир, которого они вовсе не ощущали ночью, вдруг вернулся вновь — вот орда, вон там верховые, пастухи, стада овец и табуны лошадей, дворцовая юрта с золотым острием и Холм Непокорных.
Саран и Тенгери долго не произносили ни слова.
Они лежали на утреннем солнце, разомлевшие и счастливые. Он поднял глаза на каменную стену и улыбнулся. Небо над ней было нежно-розовым. На кустах и ветвях деревьев прыгали и раскачивались птицы — пестрые, быстрые, распевавшие свои утренние песенки на разные голоса. Тенгери спросил Саран, не зябко ли ей.
Она покачала головой.
— Газель!
— Теперь ты веришь, что я тебя люблю?
Тенгери кивнул.
— А в то, что ты умрешь, если я тебя оставлю, тоже веришь?
— Это старики так говорят, Газель!
— Но все будет хорошо, Черный?
— Да, Газель.
Она повернулась на бок, чтобы посмотреть ему в глаза, но он не сводил своих с каменной стены.
— Сегодня вечером, к заходу солнца, все будет выглядеть по-другому, Газель!
— Да, — согласилась она, но не оглянулась в ту сторону.
Теперь и он лег на бок. Они глядели и не могли наглядеться друг на друга. Но вот кто-то закричал на берегу:
— Тенгери! Где ты, Тенгери! Ответь мне!
Этот зов прокатился над рекой и долетел до скалы.
— Это меня зовут, Газель! Меня ищут!
Оба встали, не слишком-то уверенные в себе, и глядели на берег Керулена.
— Ошаб! Да, это он, Ошаб! — сказал Тенгери.
Но не отозвался, потому что хотел остаться незамеченным. Кроме того, он боялся, что кто-то увидит незаконченный рисунок на камне.
— Вот видишь, Газель, все выходит так, как ты и предсказала, когда мы сидели на камне посреди реки: «Всегда найдутся люди, которым до других есть дело. Когда до меня, а когда до тебя. Такие люди никогда не переведутся!»
— Что ему от тебя нужно?
Тенгери рассказал Саран о резных деревянных фигурах и о том, что Герел отнесла одну из них ко двору Ха-хана, чтобы там узнали, какой он, Тенгери, художник. Слово «художник» он произнес пренебрежительно.
— Наверное, Ошаб принес мне весть, что фигура эта понравилась Чингисхану. Либо совсем не понравилась. И что меня призывают ко двору или не призывают…
Ошаб проехал немного вверх по реке, потом вниз и все время звал Тенгери.
— А тебе хотелось бы быть при дворе?
— Нет, Газель.
— Но мы все равно поставим сегодня свою юрту, Тенгери?
— Да.
И они заторопились к своим лошадям.
— Может быть, это было бы совсем неплохо, если бы тебя назначили придворным художником и резчиком по дереву.
— Меня, монгола? Среди всех остальных иностранцев?
Ошаб тем временем выехал из камыша и держал путь в орду.
— Где мы поставим нашу юрту, Черный?
— В самом красивом месте, Газель. У реки, у цветущих кустов.
— А свои овцы у нас будут?
— И еще пять лошадей!
— Целых пять, Черный? Ты такой богатый?
— Богатый? Я поменяю на них маски из империи Хин, это моя доля военной добычи. И получу за них пять лошадей и не меньше восьми овец.
— Черный! — радостно воскликнула она, вспрыгивая на своего конька. — Неужели у нас и впрямь будет восемь овец и пять лошадей? Вот здорово!
— И еще шелк, Газель, синий шелк, красный шелк и желтый шелк — все для тебя, Газель! Да, Газель, я совсем забыл о жемчужных ожерельях!
Они мчались сейчас почти вплотную друг к другу сквозь камыш, нахлестывая лошадей, и кричали от радости. Саран скакала без седла, прижавшись головой к шее конька. Ее длинные волосы развевались на ветру так же, как и его иссиня-черная грива. Из-под копыт лошадей вспархивали испуганные утки, длинноногие цапли степенно и горделиво отходили в сторону. Когда они выехали на луг, Ошаб, так ни разу и не оглянувшийся, уже привязывал лошадь к жерди подле своей юрты.
— Когда у нас будет пять лошадей и восемь овец, — радовалась Саран, — и своя юрта…
— Не забывай о шелках и ожерельях!
— …тебе незачем будет идти к хану. Так что не расстраивайся, если он не возьмет тебя!
— Мне это совсем не нужно, Газель! Почему бы я стал расстраиваться?
— Ты мог подумать: «Он не позвал меня, потому что моя вещь ему не понравилась».
— Чтобы знать, на что я способен, мне не хан нужен, Газель, а только я сам!
— Да, Черный! А я? Я тебе разве не нужна?
— Конечно, нужна, конечно!
Через некоторое время, когда они выехали уже на торную дорогу, Саран спросила:
— А если он позовет тебя? Пойдешь? Хотя тебе и не хочется, Черный?
— Придется пойти, — ответил он упавшим голосом.
Сейчас они ехали медленнее, придерживая лошадей. Еще издалека они заметили глашатая с чьей-то отрубленной головой на шесте, которого сопровождали стражники с обнаженными мечами. Глашатай кричал:
— На него обрушился гнев хана, и его наказали за непокорность! Гнев хана обрушится на всякого непокорного! Тот, кто отказывает в повиновении хану, отказывает в повиновении богам! Чингисхан — это бог на этой земле!
Дети забегали за юрты и прятались. Только собаки безучастно валялись в пыли, да козы и овцы тоскливо жались друг к другу на жаре.
— Гнев хана обрушился на него… — снова взялся за свое глашатай.
Над шестом с отрубленной головой кружили два стервятника. По шесту стекали струйки крови, которые, правда, быстро засыхали в такую жару.
— Да, тебе все-таки придется идти, — согласилась Саран.
Стоявшая у своей юрты Герел воскликнула:
— Вот и он! А ты никак не мог его найти! — откинув полог юрты, крикнула она Ошабу. — Он вернулся!
Ошаб вышел наружу, покачал головой и подтвердил, что все утро искал его, Тенгери.
— С сегодняшнего дня мы будем жить в одной юрте, — сказал Тенгери, указывая на Саран.
Он проговорил это таким тоном, что сразу можно было понять: его нисколько не интересует, зачем он понадобился Ошабу.
— В одной юрте! — повторила за ним Герел. И с укоризной посмотрела на мужа: — Ты мог бы искать его хоть целый день! Кто уговорился жить в одной юрте с другим, того нипочем не сыщешь, если он сам не объявится…
И она приветливо улыбнулась им обоим. В ее глазах зажглись огоньки памяти о давным-давно прошедшем.
— Значит, вы еще больше обрадуетесь, когда узнаете, зачем я посылала Ошаба за тобой, Тенгери.
— Они приехали и забрали все твои фигуры! — с гордостью проговорил Ошаб.
— Люди хана?
— Да, их было двое.
— Вот как!
— Смотри, он не радуется, — удивилась Герел. — Нет, ты погляди, он и правда ни чуточки не обрадовался! Тебе, наверное, было бы по душе, если бы они вернули ту, что им отдали мы, и сказали, что лучше бы тебе продолжать пасти табуны, а об остальном забыть.
— Не скажу, что я рад. Но и что я не рад, тоже не скажу.
Тенгери бросил вопросительный взгляд на Саран.
— У него сейчас другое на уме! Вот в чем дело, жена, — подытожил Ошаб, мотнув головой в ту сторону, где рядом со своим коньком стояла Саран.
— И что же они сказали о моих игрушках и фигурах?
— О-о, они были очень добры, это было сразу видно по выражению их лиц, — поспешила ответить Герел. — При дворе твои фигуры понравились. Сегодня после обеда ты должен явиться к одному очень важному господину, который живет по правую руку от главных ворот в большой юрте. Он сообщит тебе решение властителя. А зовут его Чим.
— Чим! — буркнул Тенгери.
— Тебя назначат резчиком по дереву при дворе Чингисхана! — радостно воскликнул Ошаб.
— И когда ты им станешь, ты забудешь о нас, — вздохнула Герел.
— Как это забуду, Герел? — искренне возмутился Тенгери.
Подняв брови, Ошаб рассудительно заметил, что все, кого призывают ко двору хана, начинают расхаживать с видом высокомерных журавлей.
— Самый обыкновенный слуга, вся служба которого хану только в том и состоит, что он сторожит юрту, где сложены седла придворных, раздувается от важности, как индюк, а на нас смотрит как на ничтожнейших воробьев, чье высшее счастье — купаться в пыли.
— Я вас никогда не забуду, — сказал Тенгери. — Да и вообще я не уверен, что меня возьмут.
— Как это не уверен? — улыбнулась Герел.
— Это так же точно, как то, что посреди реки лежит большой плоский камень, а на берегу, совсем неподалеку, возвышается скала! — Ошаб посмотрел туда, где росли две молоденькие березки.
Саран улыбнулась, а Тенгери подумал: «Нет-нет, отсюда ему не разглядеть того, что я начал…»
Они с Саран уехали, а к полудню уже поставили свою юрту неподалеку от реки, на округлом холме, поросшем цветущими кустами, рядом с тремя другими юртами. Выход из юрты был на юг. Полог они отбросили, так что лучи солнца позолотили ее стены. Поперечную балку и решетку потолка они покрыли краской, а ложе Саран и Тенгери отливало блестящим синим шелком, таким же синим, как и монгольское небо. Траву внутри юрты они покрыли волчьими и лисьими шкурами.
Лошадей у них пока не было, да и до восьми овец дело еще не дошло.
— А теперь тебе пора идти к Чиму, — сказала Саран.
— На что он мне сдался, этот Чим! Мы с тобой пойдем к скале, чтобы…
— Тебе обязательно нужно побывать у Чима, — упрямо стояла на своем Саран.
— Вообще-то да.
— Вот видишь.
Тенгери и Саран сидели прямо под поперечной балкой. Солнце пригревало вовсю.
— Я думаю, — начала девушка, — для нас все равно, возьмут тебя ко двору хана или нет, Черный. Для нас от этого ничего не изменится. Наших пяти лошадей, восьми овец и юрты у нас не отнимут. Мы всегда будем вместе, и если тебе придется идти на войну, я пойду за тобой, Черный, как многие жены идут за своими мужьями.
Ни словом на это не ответив, он лег на спину и, глядя в потолок, думал: «Я должен сказать ей сейчас, как я счастлив. Я счастлив, как никогда в жизни!» И еще он подумал: «От счастья становишься сильным! Я никому не поддамся, и никому не взять надо мной верх!»
Она тоже ничего не сказала и легла с ним рядом, положив руки под голову. Может быть, подумала: «Вообще-то надо бы сказать ему, как я счастлива. Я счастлива, как никогда в жизни». И еще она, наверное, подумала: «От счастья становишься сильнее. Кому под силу разлучить нас?»
А солнце все поднималось и уходило вправо. Саран вдруг воскликнула:
— Смотри, Черный, я лежу уже наполовину в тени! Тебе пора к этому Чиму!
Тенгери быстро собрался, и вскоре они уже скакали по главной дороге к лагерю.
— А ты-то куда торопишься? — спросил Тенгери Саран.
— Сказать матери, что мы с сегодняшнего дня муж и жена и живем в одной юрте!
— Правильно, Газель! — Он все не сворачивал налево, а ехал за ней следом. — Хочу сначала поблагодарить за все Герел с Ошабом, ведь сколько они для меня сделали! Сегодня утром я был несправедлив к ним.
Саран кивнула. Но вот Тенгери придержал своего гнедого, а она на своем коньке исчезла между юртами.
— Это опять он! — обрадовалась Герел. — Видишь, Ошаб, он одумался!
— Мы даже не подозревали, что ты можешь быть таким… — Ошаб даже рукой махнул с досады.
— Простите меня за то, что утром…
— Эй, Тенгери! Брось ты это! — сразу сменил гнев на милость Ошаб.
Герел встала со своего места и, согнувшись в пояснице, приблизилась к нему.
— Все эти годы мы были добры к тебе, Тенгери. Наши сыновья ушли далеко-далеко, вот мы и подумали…
— Замолчи, женщина! — рассердился Ошаб.
— Не забывай нас, Тенгери, когда будешь при дворе, — сказала она. — А теперь поезжай к этому Чиму!
Они немного проводили его. Тенгери поскакал галопом, а потом оглянулся и помахал им на прощанье.
— Ты видишь, он совсем не изменился, — прошептал Ошаб.
— Я подумала, что эта девушка…
— Помаши ему! Он опять оглянулся!
Они долго еще махали ему вслед, а потом женщина, состарившаяся до времени и зачастую подавленная и невеселая, широко улыбнулась:
— Видишь, он благодарит нас! Наверное, Ошаб, лучше этого мы с тобой ничего в жизни не сделали: мы заботились о нем как о сыне, мы постарались, чтобы о нем узнали при дворе, раз уж он так замечательно режет по дереву — не хуже любых китайцев, уйгуров, персов или как они все там называются!
— Ты права, Герел!
Они вернулись к своей юрте, радуясь, что все случилось так, как случилось. А потом сказали друг другу, что с сегодняшнего дня в их жизни многое переменится. Начал Ошаб:
— Ты сегодня сама не своя, Герел!
— И ты тоже, Ошаб!
Он пробормотал что-то неразборчивое, усмехнулся, но промолчал.
— Может быть, все это из-за того, что мы сегодня радуемся, как уже давно не радовались?
— Похоже на то, — ответил он и рассмеялся.
Тенгери же тем временем достиг главных ворот, по правую руку от которых стояла юрта человека по имени Чим. Перед ней — два стражника с мечами, луками и копьями, а справа от нее — коновязь, вся трава перед которой была вытоптана. Здесь Тенгери и привязал своего гнедого.
— Мне к Чиму, — объяснил он стражникам. — Он ждет меня!
Стоявший справа от входа нырнул в юрту, очень скоро вернулся и кивком головы указал Тенгери: входи, мол.
Чим сидел, скрестив ноги, посреди юрты на высоких черных подушках. Халат на нем был желтый, а бархатная шапочка — синего цвета. На острие ее все время подрагивало павлинье перо, хотя Чим сидел как изваяние и только улыбался.
«Зубы у него все равно что у хряка, — подумалось Тенгери. — Глаза как у суслика, а уши как у паршивого лиса. Клянусь всеми богами небесными, не таким я себе представлял Чима, совсем не таким!»
— Подойди на три шага поближе, — велел ему Чим.
«Что за голос! Как у степного волка, охрипшего от воя!» Только сейчас Тенгери заметил, что в затененной части просторной юрты стоят слуги и стражники.
— Это тебя, значит, зовут Тенгери?
— Да.
«Теперь он, конечно, спросит, как звали моих родителей!»
— И ты режешь по дереву?
— Да.
«Значит, он спросит об этом чуть позже. Сказать мне: Кара-Чоно, или нет?»
— Ты любишь это ремесло, правда?
— Очень люблю!
«Обязательно скажу: «Кара-Чоно!» Я должен бросить ему вызов, просто обязан!»
— По твоим вещам видно, что ты действительно его очень любишь!
«Ты смотри, ему нравятся мои вещи! Может, он все-таки не так уж плох, как кажется с первого взгляда? И об отце с матерью ничего не спрашивает!»
— Недавно я начал высекать в скале человеческое изображение.
— Вот как!
После этого «вот как!» Тенгери сразу пожалел, что похвастался.
— Кто же научил тебя этому замечательному ремеслу?
Тенгери рассказал все как было. Когда он посетовал, что еще не вполне овладел мастерством художника и резчика, Чим ему решительно возразил. Польщенный Тенгери подумал: «Он нисколько не виноват в том, что у него такие уши и зубы. Чим человек справедливый и честный».
А Чим продолжал участливо выспрашивать:
— По чьему приказу ты начал вырезать игрушки и фигуры, Тенгери? — У Тенгери от страха перехватило дыхание. — Пойми смысл моего вопроса: каждый из монголов занимает то место, которое ему указано одним из приближенных властителя. Да или нет?
— Да, но…
— Нет, ты помолчи и выслушай меня: пастухи — это те, кого поставили пасти овец, стражами стали те, кому это приказано, а воинами — те, кого сочли достаточно сильным и смелым! Да или нет? Или кузнец стал кузнецом без всякого повеления свыше? Будут женщины шить халаты, если им об этом не скажут, и кто будет охранять наш лагерь без приказа? Короче говоря: разве не все делают то, что им велено приближенными хана?
— Я тоже делаю что положено, господин, — сказал Тенгери. — Я вхожу в свой десяток, участвую в походах и военных играх. Я проливал кровь за нашего хана.
— Хорошо, очень хорошо, — снова заулыбался человек по имени Чим. — Но не в этом тебя упрекают, Тенгери. Ты участвуешь в походах и в военных играх, поэтому никому и в голову не пришло бы запрещать тебе в то время, когда никаких войн и военных игр нет, пасти своих овец, поить своих кобылиц или ловить в реке рыбу. Разве не так поступают все кузнецы, воины, пастухи и стражники? Ты же, Тенгери, ударился в искусство! Могут ли все воины быть художниками? Хан сказал, что тот, кто рисует картины и сражается, воин только наполовину. А военачальник, который пишет стихи, лишь наполовину военачальник. Воины и военачальники наполовину — плохие воины и военачальники! Нашему хану такие люди не нужны! — Глядя на донельзя удивленного Тенгери, Чим продолжил: — Я был свидетелем того, как Чингисхан спросил своего главного писца Тататунго при всех, требует ли он от него, чтобы он стал храбрым воином. Тататунго покачал головой и ответил: «Нет! Ибо писать и читать — само по себе большое дело».
— Я подумал, господин, что хан пожелал назначить меня придворным художником и резчиком по дереву!
Чим громко рассмеялся. «Ого, у него зубы и впрямь как у хряка», — подумал Тенгери.
— Придворным художником, слыхали? — веселился Чим. — Да есть ли среди них хоть один монгол? Этим занимаются горожане из империи Хин, из Хси-Хсии или Хорезма. Их позвал к себе на службу сам хан. А монгол — это воин, пастух, стражник. Он любит сражения, любит добычу, чистое небо и вольную степь. Все, что привязывает к одному месту, только портит монгола. Монгол, который режет по дереву, рисует, слагает стихи, строит дома, отесывает камни и ткет ткани — не монгол! А теперь уходи! Уходи, ибо во мне закипает ярость! — Павлинье перо на шапочке покачивалось туда-сюда. — Уходи, — в третий раз приказал он, — пока я не пожалел, что потратил на тебя столько времени! Это, наверное, потому, что твои вещицы мне так понравились.
Он встал и подошел вплотную к Тенгери. Понизив голос до шепота, сказал:
— Особенно мне понравилась одна… я говорю о девичьей головке. Красивая она! А какая шейка! Какой призывный взгляд!
«От него воняет чесноком! — Тенгери отступил на шаг назад. — А эти желтые зубы! Неужели он никогда не жует древесную кору, чтобы очистить их?»
— Значит, вы вернете мне мои вещи?
— Он не понял моей долгой речи, — с досадой проговорил Чим, повернувшись к стоявшим в затененной части его юрты. — Их сожгли, твои игрушки и фигуры!
— Сожгли?
— Что ты орешь? То, что не идет на пользу нашему властителю, — я ведь все подробно объяснил тебе, юноша! — подлежит уничтожению! И поэтому мы сожгли то, что ты вырезал из дерева.
— Не-ет!
— А если ты будешь чересчур долго и чересчур громко удивляться, — пригрозил ему Чим, — тебя ждет их же участь! Воины наполовину — плохие воины, плохие воины хану не нужны, а то, что хану не на пользу, то ему во вред, а то, что вредит хану…
— Нет-нет… Но мои игрушки… мои фигуры, особенно та, одна-единственная…
— Он у нас тугодум, ему нужно все объяснить поподробнее! — разозлился Чим и сделал знак стражникам.
Те навалились на Тенгери и, исхлестав плетьми, вышвырнули вон из юрты, на камни, в пыль под ноги лошадям. Он был без сознания и лежал как мертвый. Два наружных стражника, хохоча во все горло, взвалили его на гнедого, привязали его веревками и огрели гнедого кнутовищем по морде.
Гнедой побежал к главным воротам.
А стражники все хохотали над случившимся.
Чим тоже улыбался, приговаривая:
— Ишь ты, художник выискался! — Однако, вернувшись в юрту, пробормотал себе под нос: — Но резать по дереву он умеет, что правда, то правда!
Гнедой понес на себе Тенгери не к реке и не к поросшему цветущими кустами холму, где его ждала Саран, а к юрте Ошаба и Герел. Там его всегда привязывали к жерди, там его все знали, поэтому он и прибежал туда, как домой. А новое место у Керулена, которое облюбовали Саран и Тенгери и где они жили с этого дня, он всего-то один раз и видел.
Ошаб сидел на солнышке и резал свежевыдубленную кожу яка на длинные узкие полоски. Лежавшие рядом с ним коричневые кожаные змейки скручивались сами по себе до тех пор, пока Ошаб не натягивал их на широкую доску. А потом, взяв горшок с бараньим жиром, смазывал один ремешок за другим и укладывал их потом рядышком на траве, где они, темные и блестящие, напоминали жирных угрей.
Завидев лошадь, Ошаб буркнул: «Да ведь это гнедой!» И тут же испуганно вздрогнул, быстро огляделся и воскликнул:
— Гнедой Тенгери? А где он сам? — И только теперь увидел его, привязанного. — Что это? Что они с тобой сделали? Герел! Герел! — Ошаб остановил лошадь, схватившись за свисавшую уздечку.
— Ты почему раскричался? — выглянула из юрты жена.
— Да отвяжи ты меня! — простонал Тенгери.
— Ты жив, хвала богам!
— Ой-ой-ой! Это у Чима тебя так? — прослезилась подоспевшая Герел.
— Да, у него!
— У Чима! И кто же тебя так избил? — Вся белая от гнева, старуха прислонилась к гнедому.
— Его люди. Он приказал, они и рады стараться. Били до тех пор, пока я ничего больше не видел и не слышал. Может, мне почудилось, но все время, что они хлестали меня плетьми, они смеялись.
Стоя на земле, Тенгери вытирал кровь с лица.
— Не может этого быть! — сказала Герел. Но по ее голосу легко было догадаться, что это она просто так сказала, а на самом деле уверена: все это чистая правда.
— А мои игрушки и фигуры он сжег!
— Нет! — пронзительно, как от острой боли, закричала Герел.
— Он сжег их, Герел, все до единой!
— Нет, Тенгери, нет и нет!
Ошаб схватил жену за длинный рукав халата:
— Закрой рот и возвращайся в юрту!
— В юрту? Я? Ни за что, Ошаб! — И тихонько проговорила, обращаясь к Тенгери: — Что они с тобой сделали, мальчик мой! Все до единой… все игрушки и фигуры… А я-то, я-то думала… Они правда их сожгли? А я-то думала… Нет-нет, Тенгери, я этого не хотела, я надеялась…
— Заклинаю вас всеми богами нашей жизни: идите в юрту! — умолял их Ошаб.
Кузнец смотрел в их сторону, и люди, стоявшие подле него, тоже не сводили глаз с Тенгери, Герел и Ошаба.
— Не пойду я в юрту, — повторила старая женщина.
Раны Тенгери по-прежнему кровоточили.
— Нет, не этого я хотела! — заплакала Герел. Сейчас вид у нее опять был угнетенный, она как-то сникла и казалась даже старше своих лет. Но вот глаза ее сверкнули, и она воскликнула: — Нет, только не это! — И она с неожиданной легкостью вскочила в седло.
— Герел! — вскричал Ошаб.
— Герел! — воскликнул в свою очередь и Тенгери.
Пылинки и мелкие камешки так и брызнули во все стороны. Кузнец и его друзья вскинули руки, как бы пытаясь удержать ее.
— Она с ума сошла! — завопил Ошаб.
Все смотрели на нее с нескрываемым ужасом — и кузнец, и те, что стояли с ним рядом, и те, что только-только подошли сюда, привлеченные криками. Они видели, как Герел погнала лошадь между юртами, как она настегивала ее изо всех сил, будто вознамерилась улететь на ней на небо, чтобы поведать богам, какие несправедливости вершатся на земле. Но на небо Герел не улетела, а свернула у высокого тополя и погнала лошадь прямиком к главным воротам.
— Нет, она и впрямь обезумела! — сокрушался Ошаб, глядя в сторону окаймленной тополями дороги, где клубилась поднятая копытами лошади Герел пыль.
— Но в мужестве ей не откажешь! — признал Тенгери.
— В мужестве? Взбесилась она, вот и все!
— Я поскачу следом за ней, Ошаб!
— Следом за ней! А потом по лагерю будут носить на шестах ваши головы. Ну, может, и найдутся люди, которые скажут: «Да, эти двое были храбрецами!» Но разве храбрость нужна только для того, чтобы кого-то этой храбростью удивлять? Разве волк нападает только для того, чтобы напасть? — Ошаб снял с доски просохшие ремешки и повесил их через левую руку. — Нет-нет, Тенгери, к чему вся эта храбрость, если ты только того и добьешься, что голова твоя окажется на шесте глашатая?
С искаженным от боли лицом Тенгери оседлал своего гнедого и негромко проговорил:
— Может быть, ты прав, Ошаб. Надо все обдумать.
— Как ты это сделаешь с нанизанной на шест головой?
Один из ремешков упал с его руки в траву. Наклонившись, чтобы поднять его, Ошаб пробормотал:
— Какое несчастье, Тенгери! Не я ли предостерегал Герел, когда она после твоего возвращения из империи Хин собиралась расцарапать лицо крикливому стражнику? А теперь дело вот до чего дошло! Какая ярость, какая необузданность!
А в кузнице кузнец опять бил молотом по раскаленному железу.
И вообще все вокруг опять шло своим чередом, за исключением одного: Герел ускакала. И еще: все игрушки и фигуры Тенгери превратились в пепел. И еще: Тенгери исхлестали плетьми до крови!
— Мне жаль ее, Ошаб!
Тот поднял на него глаза:
— А ее-то какая жалость к тебе охватила, представляешь, Тенгери? Ты помнишь: всех наших детей убили или угнали в плен, а у нас их было семеро. И все то, что она чувствовала как мать своих детей, она в последние годы перенесла на тебя, на тебя одного. Что правда, то правда: она у меня как ветер, который днем может дуть с севера, а ночью с юга. То она ненавидела хана, то любила его, и никогда нельзя было понять, почему и то и это ей в голову взбрело. Но вот о чем она мечтала все эти годы: увидеть тебя счастливым!
— Ты говоришь о ней как о мертвой, Ошаб!
— Мне кажется, Герел умерла сразу после того, как ты рассказал, что с тобой сделали у Чима. То, что может после этого случиться с ней самой, ее уже не пугает, Тенгери!
— Ошаб!
Но тот уже отвернулся и понес ремешки в юрту.
Тенгери медленно спускался на своем гнедом к Керулену. Он нарочно выбрал тропинку, которую Саран не могла видеть сверху, и спешился у реки, там, где вода была почти недвижной. Опустившись на колени, он гляделся в нее, как в зеркало, видел свое лицо, все в ссадинах и кровоподтеках, и думал: «Не может этого быть!» Но быстро овладел собой, стараясь прогнать боль и забыть о ней; сравнима ли она с теми страданиями, которые испытывает, наверное, в эти мгновения Герел? Тенгери остудил, как мог, свое пылающее лицо холодной речной водой, полежал немного на теплой земле. Камыши мягко шелестели над ним, легонько покачиваясь. Взглянув на скалу, разглядел очертания девичьей головы. Тенгери думал: «Ничего хорошего для себя я от этого приказа явиться к Чиму не ожидал. Как меня могли встретить при дворе? Высмеять, унизить, а потом прогнать прочь, сказав, что для хана никаких художников-монголов в природе не существует! Но этого им показалось мало: они сожгли все, что вышло из-под моих рук, и избили, как последнюю собаку. Знай этот приближенный хана, этот Чим, что я приемный сын Кара-Чоно, он велел бы удавить меня на месте. Бедняжка Герел!» Поднявшись, Тенгери повел гнедого через камыш. Выйдя на открытое пространство, сразу увидел свою юрту на склоне поросшего цветущими кустами холма. Вокруг холма ходила одинокая овечка. Он удивился: кто это привел ее к Саран? «А все-таки у нас будут и свои лошади, и овцы!» — подумал он. На поперечной жерди сушились вещи Саран. Тенгери поднимался по склону холма, ведя за собой лошадь в поводу. В какой-то момент ему почудилось, будто за ним наблюдают. Но сколько ни оглядывался, никого не обнаружил.
Когда Тенгери привязал гнедого рядом с коньком Саран, он услышал:
— Черный!
— Газель!
Она подбежала к нему, обняла, поцеловала и долго молча смотрела на него расширившимися глазами, с трудом сдерживая чувства:
— Я все знаю!
Тенгери кивнул.
— Пока ты был у реки, я заезжала к Ошабу.
— Что с Герел?
— Никто не знает… — покачала она головой. — Бежим, Черный? — быстрым шепотом спросила она.
— Газель!
— Мы должны бежать! Здесь они не позволят тебе ни резать по дереву, ни высекать на камне!
Они сели в траву.
— Куда? У каждой реки и речушки стоят ханские заставы. — Тенгери посмотрел вниз, где мужчина с женщиной прилаживали к верблюду бочонки с водой. — По степи шныряют гонцы, стражники и соглядатаи хана. До Онона нам не добраться, Газель! — Тенгери опять заметил привязанную к колышку овечку. — Откуда она здесь, Газель?
— Матушка подарила — ведь мы теперь муж и жена! — Она задумчиво поглядела на него и проговорила: — А я-то подумала, что мы сегодня ночью бежим!
Повернувшись к заходящему солнцу, Тенгери ответил:
— Вчера, в такое же время, когда солнце тоже заходило, я рассказал тебе, как сидел однажды с моими приемными родителями у озера с тремя кедрами на берегу и как появились десять всадников…
— Я помню, Черный!
— Мать с отцом тоже бежали! А теперь их называют предателями. Но разве вправе я считать их предателями, если не знаю даже, по какой причине они бежали из орды, Газель? Положим, у нас есть причина. А нас все равно назовут предателями!
— Пусть так! Но бежать все-таки надо!
Тенгери смотрел вслед удалявшемуся верблюду-водоносу. Женщина шла по левую, а мужчина по правую руку от него. Когда они прошли уже сквозь камыш, Тенгери сказал Саран:
— Нужно продумать все до мелочей. Какой смысл бежать, наперед зная, что нас изловят?
Ошаб тоже имел в виду это, когда говорил о необузданной ярости Герел, которая завязала ей глаза и заткнула уши.
— Герел, бедная Герел, — вздохнула Саран.
В тот вечер он даже не попытался обменять свое добро на лошадей и овец. Да и вообще это им ни к чему, раз они решили бежать. Для бегства было всего две возможности. Первая: наняться погонщиками в какой-нибудь караван и остаться потом в чужой стране. Вторая: дождаться нового похода и скрыться по пути…
— А вдруг новых войн не будет? — спросила Саран. — С тех пор как хан три года назад упал на охоте с коня, он больше на людях не появлялся и никаких походов тоже больше не было.
— Тогда, значит, уйдем с караваном, — кивнул Тенгери.
Когда погонщики верблюда исчезли из виду, Тенгери и Саран зашли в юрту. И больше не говорили о бегстве, о войнах, о хане и о караванах; войлочные стены у юрты тонкие, как узнаешь, кто пройдет мимо нее? Не говорили Тенгери и Саран и о своем счастье, когда день беспощаден и ночь немилосердна. Они лежали на волчьих шкурах голова к голове и смотрели на поднявшуюся над крышей кособокую луну.
— Когда луна выглянула вчера вечером, ты, Черный, сказал мне: «С завтрашнего дня мы будем жить в одной юрте».
— Да, Газель!
— Так оно и вышло!
— Думаешь?
— И все вокруг изменилось, Черный.
— Все? Ну уж нет, Газель!
— Не все, конечно. — Она пригладила его волосы, провела пальцами по лицу и шее, стараясь при этом не касаться ран. — Но многое сделалось куда более грустным, правда, Черный?
— Пока мы вместе, нам не может быть грустно, Газель!
— Может быть, — прошептала Саран, — тебе было бы легче и проще без меня?
Тенгери испуганно приподнялся на локтях:
— Откуда у тебя такие мысли, Газель?
— Ладно, ладно, ложись. Это я так, пошутила…
— Пошутила? Я жить без тебя не смогу, понимаешь?
Она рассмеялась, потом захихикала и повторила за ним:
— Он жить без меня не сможет! Слыхали?
— Ты надо мной смеешься?
— Что ты, что ты, Черный! Конечно, не над тобой! Просто мне вспомнилось одно предание, которое мне пересказывал мой брат. В конце его тоже так говорилось… Не сердись, Черный!
— Хорошо, не буду. А все-таки…
Она перебила его, сказав, что пусть выслушает сперва это сказание. Может, тогда и сам улыбнется.
— Так вот, — начала Саран сразу. — В начале всех времен Тваштар{26} создал…
— Кто это, Тваштар?
— Какой-то бог на юге. Мой брат привез это предание из Хси-Хсии. Да, так вот, бог Тваштар создал мир. А когда должен был сотворить женщину, то заметил, что при сотворении мужчины использовал все, что могло пригодиться для создания человека. Тваштар очень расстроился и надолго задумался. А когда наконец придумал, сделал вот что: он взял
Округлости луны, Волнистые линии змеи, Стройность тростника, Бездумную радость солнечного луча, Слезы облаков, Непостоянство ветра, Пугливость зайца, Высокомерие павлина, Мягкость птичьего пуха, Твердость алмаза, Сладость меда, Жар огня, Холод снега, Болтливость сойки, Воркованье горлицы,смешал все это и сотворил женщину. А потом подарил ее мужчине. Через неделю этот мужчина пришел к Тваштару и сказал: «Господи, существо, которое ты подарил мне, отравляет всю мою жизнь. Оно болтает без умолку, отнимает у меня время, плачет по пустякам, и вдобавок ему постоянно нездоровится. Я хочу вернуть тебе этот подарок, потому что жить с ним не могу!» Тваштару пришлось взять подарок обратно. Но неделю спустя этот мужчина опять предстал перед богом Тваштаром и сказал: «Господи! Как одиноко мне живется с той поры, как я отдал тебе это создание. У меня все время так и стоит перед глазами, как оно пело и танцевало. Я не могу забыть, какие загадочные взгляды оно на меня бросало, как оно со мной играло и как ко мне прижималось». И Тваштар отдал ему женщину. Прошло всего три дня, и тот снова предстал перед господом. «Отец небесный, — начал он, — я сам не пойму, как это получается, но это создание доставляет мне куда больше неприятностей, чем радости. Прошу тебя, господи, возьми ее обратно!» Тут Тваштар закричал: «Прочь отсюда, мужчина! Устраивайся как знаешь!» На что тот ему ответил: «Не могу я жить с этой женщиной!» А Тваштар рассмеялся: «Но и без нее ты жить не сможешь!» После чего мужчина удалился, тяжко вздыхая: «О я несчастный! Ни с женщиной мне не ужиться, ни без нее не жить!»
Как она и ожидала, Тенгери от души рассмеялся. Тоску и тревогу словно ветром из юрты выдуло!
Вот так они и провели свою первую ночь в собственной юрте, и хотя грустить никому из них не хотелось, каждый легко угадывал мысли другого. Они видели перед собой степь, реки, леса и дальние страны, о которых им ничего, кроме того, что и над ними простирается бездонное небо, не было известно. У них и названий-то пока не было. Где они, эти страны — на юге, на севере, на востоке или на западе? И как они уйдут — во время военного похода или с караваном? Никто из них не загадывал этой ночью, как и когда они убегут и куда их занесет судьба.
На другой день они узнали, что Герел домой не вернулась. Люди рассказывали, будто она выцарапала этому Чиму глаза, за что ее убили на месте. Но в точности никто ничего о ней не знал. Не знал тогда, не узнал и позже. И никто ее с тех пор не видел. Между прочим, этого Чима — тоже!
Глава 15 КАРАВАН И ТЕНЬ АЛЛАХА
В последующие дни ничего особенного не происходило: ни караваны в дальние страны не снаряжались, ни новых военных походов как будто не предвиделось. А тем не менее до войны было уже рукой подать. Однако этого пока никто не знал. Даже сам Чингисхан, а он-то всегда чуял, когда бывший друг задумывал ему изменить.
Властитель сидел в своей дворцовой юрте, и подле него никого, кроме его врача-китайца, не было. Те, кому хан велел оставить его юрту, знали, чем он будет заниматься, хотя он и принимал все меры, чтобы они ни о чем не догадались. С того дня, когда он во время охоты упал с лошади, хан ежедневно опускал свои ступни в деревянный бочонок с горячей водой и лекарственными травами. Так ему посоветовал ученый-китаец. Вечером, когда начинало темнеть, он выезжал со своими приближенными в степь, всякий раз стараясь пробыть там подольше, чем накануне. С лошади он не падал с тех пор ни разу. Чингисхан нахваливал китайца, воздавая должное его познаниям, исполнял все его пожелания и называл другом.
— Что подумали бы обо мне мои враги, — говорил с улыбкой Чингисхан, — если бы узнали, что я, один из величайших властителей в мире, опускаю мои усталые ноги в бочонок с горячей водой?
Хитроумный китаец уверял его, что враги всегда найдут чем его уязвить, будет ли он опускать ноги в горячую воду или нет.
— Гораздо важнее узнать, что говорят по этому поводу те из ваших друзей, которым вы велите оставить вашу дворцовую юрту! — говорил он.
— Они ни о чем не догадываются!
— Тогда вы — единственный человек, который не знает, что они давно обо всем догадались, мой хан.
— Вот как? — Хан вынул ноги из бочонка. — Что ж, пусть себе знают, — равнодушно проговорил он. — Чего бы я не вынес, так это их сочувственных взглядов! Будут они мне повиноваться, как прежде, увидев меня в таком положении? Способен ты, друг, представить себе бога, засунувшего голые ноги в бочонок с горячей водой? Молился бы ты такому богу? И болеют ли вообще боги? А разве я не бог?
Китаец вытер досуха ноги властителя и обмотал их большим куском мягкой белой ткани.
Снаружи один из стражников доложил, что прибыл гонец со срочным донесением для хана.
— Пусть подождет! — сказал властитель ученому-китайцу. А тот в свою очередь прокричал этот приказ стоявшему у входа в дворцовую юрту телохранителю.
И там сразу все стихло. Хан продолжил свою мысль:
— Нет-нет, друг мой! Стоит хотя бы нескольким из них увидеть меня задравшим халат и с голыми ногами в воде, и о поклонении мне как земному божеству можно забыть навсегда.
— Но ведь это для них не тайна, — продолжал упорствовать китаец.
— Догадываться и видеть собственными глазами — разные вещи! Многие способны поверить лишь после того, как сами убедятся в том, о чем они до тех пор лишь догадывались, мой друг.
Целитель из империи Хин с улыбкой кивнул. Ему, наверное, было совершенно безразлично, принимают ли подданные этого властителя кочевников за бога или нет, но то, что Чингисхан сам себя считает божеством, его умиляло.
— Вам пора отдохнуть, — строго проговорил он, после чего властитель послушно прилег и укрылся.
Снаружи снова послышался голос стражника: у гонца, мол, действительно очень важные новости.
— Спроси, — повелел хан ученому-китайцу, — не надвигается ли на нас враг?
Целитель приблизился к выходу, откинул синий полог и обменялся со стражником несколькими словами. После чего вернулся к Чингисхану и передал ему, что опасаться нападения неприятеля пока не приходится; однако, как утверждает гонец, весть он принес безрадостную.
— Я — раб! — сказал вошедший.
— И что? Может быть, рассчитываешь выйти из дворцовой юрты свободным?
— Не потому я здесь, властитель: я пришел, чтобы сказать тебе, что был четыреста пятидесятым человеком из того торгового каравана, который ты в начале этого лета отправил в Хорезм, где мы, как и много лет подряд, должны были поменять шкуры белых верблюдов, красную кожу, соболиные и горностаевые меха на те товары, что ты пожелал.
— Да, таково было мое желание, раб!
В дворцовую юрту зашли Джучи и Джебе и приблизились к хану.
— Продолжай, раб!
Невысокого человека в порванной одежде начала бить дрожь, ведь все собравшиеся в юрте не сводили с него глаз. Ему, конечно, никогда прежде не доводилось видеть хана вблизи. И кроме того, он был совсем без сил после долгого пути и всего того, что пережил.
— Я четыреста пятидесятый человек… — снова выдавил он из себя, но Чингисхан перебил его:
— Это мы уже слышали, раб! — Хан проговорил это милостиво и даже удостоил его улыбки.
— Да, — пробормотал раб, — но остальные четыреста сорок девять человек убиты.
— Убиты?
— Да, убиты. Я последний из четырехсот пятидесяти, — повторил гонец. — Мне подарили жизнь, чтобы я, четыреста пятидесятый, донес до вашего слуха, что остальных убили. Да, так мне было приказано.
Гонец пошатнулся, потом его затрясло, и он повалился на ковер. По знаку хана к нему подбежало несколько слуг и рабов. Они растерли его лицо пахучей жидкостью, а потом влили в рот настой, который им дал китайский целитель. Когда гонец открыл глаза, перед ним стоял хан, который и сказал ему:
— Радуйся: с сегодняшнего дня ты больше не раб.
Маленький человечек улыбнулся, и тогда Чингисхан спросил, видят ли теперь его глаза и слышат ли уши.
Гонец слабо кивнул.
— Подложите ему шелковые подушки, чтобы его измученное тело отдохнуло.
Слуги донельзя удивились, но, конечно, повиновались. Вот и вышло так, что маленький человечек, считанные минуты назад еще раб, сел в своих лохмотьях на шелковые подушки и начал свой рассказ с того, как наместник пограничной крепости Отрар набросился на монголов с обвинениями, что они все, дескать, лазутчики и наемные убийцы.
— Он разграбил весь наш караван. А потом заставил нас всех встать на базарной площади на колени лицом к стене. Потом откуда ни возьмись набежала тьма хорезмских воинов и всем, кроме меня, отрубили головы. А меня, ничтожнейшего раба, оставили в живых, чтобы я принес тебе весть об этом избиении твоих верных слуг.
— Имя наместника Отрара знаешь?
— Да, его зовут Гаир, мой хан.
— Гаир, — повторил Чингисхан, взглянув на Джебе и Джучи. — Гаир — это еще не Мухаммед! Самоуправство наместника Отрара приведет Мухаммеда в бешенство, и он выдаст мне этого негодяя! Или ты считаешь, что этот Гаир действовал по повелению Мухаммеда?
— Об этом мне ничего не известно.
— Нет, этого не может быть, — сохраняя полное спокойствие, проговорил хан. Он даже не распалился. — Как повелитель Запада, имя которому Мухаммед и который сам себя называет тенью Аллаха, предстанет перед своим богом, став подлым убийцей беззащитных?
— Может быть, всему виной корыстолюбие наместника? — осторожно предположил Джебе.
— Так ли это? — спросил Чингисхан.
— И это мне неизвестно, — ответил сидевший на шелковых подушках маленький человечек.
Можно было подумать, что с того момента, как ему подложили эти подушки, робость в присутствии хана оставила его.
— Ты мне больше не нужен, — сказал Чингисхан. — Но как только этого Гаира приволокут в нашу орду, я пошлю за тобой. По моему приказу ты отомстишь ему за гибель четырехсот сорока девяти человек. Я сам буду присутствовать и наблюдать вместе со всеми, как ты вольешь в глотку человека, убившего столько людей из нашего каравана, расплавленное серебро.
Лицо маленького человечка расплылось в детской улыбке, когда он ответил:
— О да, мой хан, расплавленное серебро!
И, быстро вскочив на ноги, он бросил восторженный взгляд на Чингисхана. Только после того, как слуги сделали ему знак следовать за ними, он пошел по направлению к синему пологу.
Чингисхан велел Джучи составить представительное посольство во главе с высокородным нойоном и немедленно направить его к Мухаммеду, чтобы сообщить о происшедшем и потребовать немедленной выдачи наместника Отрара.
И той же ночью посольство выехало за пределы главного лагеря у Керулена.
Чингисхан не был склонен придавать этому событию большого значения и в последующие дни и даже недели ни разу к нему не возвращался: он доверял Мухаммеду и был уверен, что во всем повинен стяжатель наместник, которого и следует покарать. Но высокое посольство все не возвращалось, и хан начал терять терпение. Неужели Мухаммед все-таки предал его?
— Пусть придет Тататунго с бумагой, на которой нарисован Хорезм!
— Ты думаешь о войне? — спросила Чингисхана его супруга Борта.
— Если Мухаммед, с которым я долгие годы обменивался торговыми караванами, вздумал обмануть меня, я буду молить богов, чтобы они укрепили мое сердце и позволили страшно отомстить за нанесенную обиду.
В тот вечер Чингисхан призвал в дворцовую юрту всех своих сыновей. Даже Угедей и Чагутай прискакали с Онона и Туле. Когда Тататунго принес рисовую бумагу с изображением Хорезмского царства, все начали рассматривать эту огромную страну, включавшую в себя весь горный Иран, курдско-армянские горы, вплоть до Инда, долины Амударьи и Сырдарьи, а также все плоскогорье между Аральским и Каспийским морями.
Чингисхан долго не произносил ни слова.
Неожиданно для всех первой высказалась Борта:
— Если ты замыслил отправиться в военный поход, во время которого тебе придется переправляться через бурные потоки и преодолевать крутые перевалы, не забывай и о том, властитель, что ни одному из явившихся на свет существ не суждено жить вечно.
Чингисхан поднял на нее испуганный взгляд. Да и сыновья так и прикипели глазами к матери.
А Борта продолжала:
— Когда твое, подобное высокому и стройному дереву, тело начинает клониться к земле, кому ты намерен передать свои похожие на конопляные стебли народы? Когда твое тело, подобно стоящей на постаменте мраморной колонне, накренится и вот-вот упадет, кому ты доверишь свои похожие на стаи птиц народы? Имя какого из четырех своих сыновей, каждый из которых стал знаменитым военачальником, ты назовешь? Твоя воля священна для них, властитель! Я, недостойная, сказала то, о чем размышляла давно!
Чингисхан подошел к своей супруге, обнял ее, поцеловал в лоб и радостно воскликнул:
— Хотя Борта всего лишь женщина, слова ее исполнены глубокой мудрости. Никто из вас, ни мои братья, ни мои сыновья, ни все вы, мои приближенные, никогда таких мыслей при мне не высказывал! Да и сам я забыл и думать об этом, как будто не был наследником моих предков. Я спал как бог, как будто мне не суждено умереть.
Сказав это, он сел, и все остальные тоже сели. Многочисленные младшие жены хана находились в полутьме у стен дворцовой юрты, лишь его супруге Борте было позволено оставаться рядом с ним.
Потом хан снова обратился к собравшимся:
— Старший из моих сыновей — Джучи! Как ты, Джучи, относишься к тому, что сказала твоя мать?
Однако вместо Джучи откликнулся Чагутай:
— Обратившись к Джучи, не хочешь ли ты, отец, дать нам понять, что остановил свой выбор на нем? Разве не похитили твою супругу, и значит, мою мать, меркиты? И разве не в лагере меркитов родился Джучи? Уверен ли ты, что он и в самом деле твой сын? И не потому ли ты назвал его Джучи — Гость, — потому что не знал точно, твой ли он сын? Может ли он при этом наследовать тебе?
Джучи вскочил, охваченный гневом и нестерпимой обидой, и схватил Чагутая за грудки.
— Отец никогда не делал различий между нами. Как же ты осмелился усомниться в моем происхождении? В какой из доблестей ты превзошел меня, Чагутай? Разве что в упрямстве… Если ты обойдешь меня в стрельбе на расстоянии, я готов отрубить свой большой палец! Если ты победишь меня в борьбе, я останусь лежать на том месте, где ты меня повалишь!
Все смотрели на Чагутая с упреком, а старый воин Кокочо, один из тех, кто всю жизнь был рядом с ханом, выступил вперед и обратился к нему с такими словами:
— Почему, Чагутай, ты так распаляешься? Всем известно, что все надежды твой царственный отец связывал с тобой!
Джучи с Чагутаем разошлись и оправили свои одежды. А бывалый воин снова заговорил:
— Вы взрослые мужи и прославленные военачальники. И только что вцепились друг в друга, как несмышленые дети. Еще до вашего рождения небо со всеми своими звездами перевернулось. Все люди стали врагами. Они оставили юрты и кибитки и занялись воровством и грабежами. В такие времена люди живут не так, как им положено, а враждуют. Ты злишься, ты не в себе, Чагутай! Но разве вы все не вышли из одного и того же жаркого материнского лона? Ты несправедлив, когда подозреваешь и обижаешь свою мать! Неужели ты, Чагутай, хочешь, чтобы ее материнская любовь к тебе охладела? В те времена, когда ваш отец собирал великую империю монголов и когда все еще могли видеть его залитую кровью голову, когда подушками для сна ему служили рукава халата, а сам халат был единственной подстилкой, когда свою жажду он утолял собственной слюной, вашей матери приходилось очень не сладко рядом с ним. Она воспитала вас, Чагутай и Джучи, Тули и Угедей. Прежде чем самой съесть кусочек, она отдавала все вам, и иногда ей приходилось просто-напросто голодать. Таская вас на закорках, она не переставая думала о том, как вырастить вас настоящими мужчинами. Когда она чистила ваши десны и зубы, думала о том времени, когда вы подрастете, будете по плечо взрослым и сможете скакать верхом. Все свои мечты она связывала только с вами. У супруги нашего великого властителя Чингисхана ум такой же ясный, как солнце, и такой же необъятный, как море! — закончил старик.
Хан поблагодарил своего верного сподвижника Кокочо и сказал:
— Ведь он во всем прав, согласись, Чагутай! Почему ты позволил себе свысока отозваться о Джучи? Чтобы я никогда больше такого не слышал!
Чагутай ухмыльнулся и недобро проговорил:
— О силе Джучи и прочих его достоинствах никто не спорит. Тех, кого убили его злые слова, на самых больших повозках не увезешь. И после смерти не ограбишь!
Чингисхан раздраженно прикрикнул на него:
— Умолкни! Или предложи что-нибудь дельное и полезное для всех нас!
— Я вот что хочу сказать, — уже более спокойно проговорил Чагутай. — Мы с Джучи — старшие сыновья. И хотим все наши силы отдать делу отца. А того из братьев, кто забудет о своем долге, пусть другой рассечет мечом надвое! Самый рассудительный из нас Угедей. Давайте же все вместе изберем наследником Угедея, нашего брата. Пусть Угедей, отец, постоянно будет рядом с тобой, и ты, отец, научишь его управлять империей и крепко держать в руках золотую узду власти. Так будет правильно.
— А ты что скажешь, Джучи? — спросил Чингисхан.
— Чагутай сказал то, что хотел бы сказать и я, отец. Мы все будем служить тебе!
— Хорошо, — согласился хан. — Но крепко держите свое слово и не давайте народу повода поднимать вас на смех! — После чего Чингисхан повернулся к Угедею и спросил: — А ты что на это скажешь?
Взгляды всех собравшихся были обращены на третьего сына. Тот встал и твердо проговорил:
— Неужели я должен ответить: «Я не смогу»? Вот мой ответ: я отдам твоему делу, отец, все свои силы. Опасаюсь только…
— Чего ты опасаешься? — перебил его хан.
— Я опасаюсь только того, что когда-нибудь среди моих наследников появятся и такие, что если их обернуть в скошенную траву, ни коровы, ни быки жрать ее не станут. А если обложить их жирным мясом, даже голодные псы к нему не прикоснутся. Я боюсь, что будут рождены и такие, что не смогут поразить стрелой пробегающего мимо хандакайского оленя и на большом расстоянии не попадут в суслика. Вот какие сомнения тревожат меня. Больше мне сказать нечего, отец!
Чингисхан повернулся к своему четвертому сыну — Тули, и тот проговорил:
— Я буду стоять плечом к плечу с моим старшим братом Угедеем. Если он забудет о чем-то, я ему напомню, а если заснет, разбужу. Я поклянусь ему в вечной дружбе, я стану плеткой для его гнедого скакуна. И слову своему никогда не изменю, он всегда найдет меня рядом с собой. Я пойду вместе с ним в самый дальний поход и в самом быстротечном бою буду при нем.
После этого на некоторое время в дворцовой юрте Чингисхана наступила полная тишина. Потом хан встал и обратился ко всем, кого собрал у себя:
— Жили однажды две змеи. У одной из них было много голов и лишь один хвост, у другой — много хвостов и только одна голова. С приходом зимы им пришлось искать подходящую нору. Одна змея легко проскользнула в первую попавшуюся, а другая, многоголовая, никак не могла решиться: каждая из голов предлагала что-нибудь другое, и под конец змея околела от холода.
Чингисхан перевел дыхание и оглядел всех по очереди.
— Итак, властителем может быть только один. Я назначаю моим наследником Угедея. И еще скажу всем вам, моим родным и приближенным: если среди наследников Угедея появятся столь ничтожные, что ни коровы, ни быки не станут жрать скошенную траву, в которую они будут завернуты, и даже голодные псы не прикоснутся к жирному мясу, которым они будут обложены, то почему бы к тому времени не родиться достойному наследнику у других моих сыновей?
Сказав это, он подошел к каждому из сыновей, поцеловал в лоб и каждому прошептал на ухо, что они должны быть особенно благодарны своей матери: ведь это она навела его на мысль о назначении наследника.
После не слишком долгого, но пышного обеда, когда слуги начали обносить гостей напитками, Чагутай шепотом спросил отца:
— Ты на меня не рассердился?
— Рассердился? Нет, — ответил хан. — Но ты по своему обыкновению поспешил и наговорил лишнего. Тот, кто стремится к величию, Чагутай, тот не заговорит прежде, чем его спросят, и даже когда спросят, должен оставаться сдержанным. Заговорить прежде времени — все равно что ковать холодное железо!
Потом Чингисхан повернулся к своему сыну и наследнику Угедею:
— Мне известно, что ты держишь в почтительном подчинении всех своих жен, детей и слуг. Тот, кто способен властвовать в своей юрте, как ты, Угедей, тот сумеет править и великой империей монголов, а тот, кто держит в строгом повиновении свой десяток, достоин со временем стоять во главе тысяч и сотен тысяч.
— Благодарю тебя, отец!
Чингисхан встал и подошел к Тули. Тот сидел, как обычно, в окружении женщин и налегал на рисовую водку, громко пел и махал руками музыкантам. Тули не заметил даже, что отец стоит совсем рядом у одной из деревянных опорных колонн и не сводит с него глаз. Чингисхан приказал одному из слуг подозвать Тули. Когда тот предстал перед отцом и непонимающе уставился на него своими воспаленными глазами с красными прожилками, хан сказал ему:
— Ты хороший воин, но властитель из тебя вышел бы никудышный. Поставленный над войском, ты знаешь, что есть люди и повыше тебя и что от них-то ты и получишь приказ. А от кого ты стал бы дожидаться приказа, сделавшись властителем? Вот то-то и оно! И сдержать тебя было бы некому, и сам бы удержу не знал бы. Знай, Тули: властитель, который сдается рисовой водке, ни владений своих не сохранит, ни славы не добудет!
Когда Тули вернулся к женщинам, те встретили его смехом, потому что от их глаз не укрылось, что отец был к нему неблагосклонен. И все они стали наперебой протягивать сыну властителя чаши и сосуды с рисовой водкой, подбивая пить еще и еще.
— Да, и выпью! Выпью! — кричал он смеющимся женщинам и девушкам, плясал и подпрыгивал под музыку, бросая в головы слугам опустошенные им тонкостенные сосуды. — Я не властитель, надо мной стоят другие, — кричал он, поглядывая в сторону отца. — И раз надо мной есть другие, самые главные, то я буду пить и пить, потому что тот, кто надо мной, все за меня и решит! — И взмахнув руками, как птица, Тули повалился на завизжавших от радости женщин и девушек. — Да, я в его власти! Но в один прекрасный день, — заорал Тули, перекрывая все остальные голоса, — в один прекрасный день тот, кто стоит надо мной и в чьей я власти… тот, кто, по словам моей матери, подобен высокому дереву… когда он начнет клониться к земле… да-да, так она и сказала… что ж, тогда… тогда я…
— Тули! — вскричал Чингисхан.
— …тогда я провозглашу свою собственную империю и буду пить, пить день и ночь, пить без конца… а девушек и женщин у меня будет куда больше, чем у того, кто стоит надо мной и в чьей я власти! А потом…
Телохранители хана подбежали к Тули и распластали его на ковре как червяка. Он мгновенно потерял дар речи, да и женщины сразу испуганно умолкли и прикусили языки. Слуги закатали Тули в тонкий ковер и вынесли из дворцовой юрты.
Чингисхан велел уйти всем, кроме Джебе, Угедея и Джучи. Разложил на низеньком столике из красного дерева карту Хорезма со всеми его реками, горами, долинами и городами.
— Горе ему, если он замыслил измену!
— Он сильнее, мой хан! — сказал Джебе.
— Я всегда был слабейшей стороной, но победа всегда оставалась за мной. Так или нет, Джебе? Ты, наверное, до сих пор обдумываешь слова этого пронырливого краснобая, купца из Хорезма, который говорил: «Блеск войска Чингисхана по сравнению с сиянием воинства шаха Хорезма — все равно что свет свечи по сравнению с яркостью золотисто-красного солнца!»
Джучи заметил, что до возвращения посольства полной ясности нет.
— Ему давно пора быть здесь, — сказал Угедей.
— Известно, какие пиры любит закатывать Мухаммед, — сказал Джучи. — Вполне возможно, что их задержали на пирах!
И как раз в это мгновение, откинув полог, в юрту вбежал один из телохранителей и воскликнул:
— Они совсем близко, мой хан!
Вскоре в дворцовую юрту ввели восьмерых из высокого посольства, изможденных, в грязном рванье, с обожженными бородами.
— Кто так поступил с вами? — тихо спросил хан, словно ни о чем не догадываясь.
— Люди Мухаммеда, — ответили ему послы.
— По его приказу?
Они закивали. И только теперь Чингисхан заметил, что головы у них бритые.
— Где главный посол, первый среди вас?
— Он казнен!
— А что вам сказал Мухаммед?
— По твоему повелению мы потребовали выдачи наместника Отрара Гаира, и тогда Мухаммед сказал, что не собирается отчитываться перед тобой, кочевником с песьей душой!
— Так и сказал?
— Да, так!
— А еще что он говорил? — допытывался хан.
— Он говорил, что сам он — тень Аллаха и второй Александр. В отличие от тебя, мой хан: ты, дескать, неверный пес, пожирающий траву и выброшенные сгнившие кишки!
— Больше он ничего не сказал?
— Нет.
Все остальные подтвердили это кивками. Наступившее в дворцовой юрте молчание становилось угнетающим. Хан вернулся к своему трону, сел, опершись локтями о колени и спрятав лицо в ладони. В такой позе он просидел долго, очень долго. Никто не осмеливался ни слова произнести, ни с места сойти, ни пошевелиться. Спускалась ночь. В проеме зарешеченной крыши юрты заблестели первые звезды.
Тут хан встал и перевел свой взгляд на оборванных послов с обгоревшими клочковатыми бородами. И вдруг его лицо побагровело, приняло свирепый вид, а на правом виске вздулась и задергалась жила. По его знаку телохранители вывели всех восьмерых наружу. После чего хан грозно проговорил:
— Пусть это даже будет стоить мне жизни, я отвечу на это оскорбление! Боги видят, что не я был причиной несчастья, которое он накликал на себя, на свой народ и свою страну! Война!
И той же ночью первые стрелогонцы оставили главную орду, чтобы доставить приказы в самые отдаленные лагеря. Они помчались даже в сторону Йенпина, к Мухули, которому Чингисхан повелевал незамедлительно перевести несколько сильных колонн китайских воинов под командованием монгольских военачальников в сторону Алтая. Там они поздней осенью соединятся с войском Чингисхана и перейдут в его подчинение.
Собрав несколько дней спустя своих военачальников, хан обсудил с ними подробный план похода, и только после этого сотни стрелогонцов помчались в ближние лагеря и орды: к Онону и верхнему Керулену, к Селенге и Туле.
Под охраной нескольких тысяч воинов большие караваны двухколесных повозок первыми вышли из лагеря и двинулись через степь, где к исходу лета увядали последние цветы.
На повозки погрузили отдельные части разобранных метательных и осадных машин и орудий, которые разбрасывали «летучий огонь». Да, внушительное это было зрелище: бесконечные караваны повозок, запряженные черными яками, пронзали пожелтевшую степь как черные стрелы. Иногда начинало казаться, будто они вовсе не продвигаются вперед, а лежат подобно упавшей в густую траву стреле, черной и неподвижной. Но это только чудилось из-за огромной отдаленности и прозрачного, чистого воздуха. Смотри сквозь этот воздух сколько угодно — никакого движения не увидишь!
В начале осени сам Чингисхан во главе основных сил своей конницы ушел из лагеря у Керулена, слился в степи с войсками, подошедшими со стороны Онона, Селенги, Туле и Орхона. И как и было предусмотрено, поздней осенью оказался в предгорьях Монгольского Алтая. Здесь Чингисхан как бы случайно обронил, обращаясь к своей свите:
— Все мои чаяния и помыслы связаны с тем, чтобы усладить жизнь моих друзей и телохранителей, наших жен, невест и дочерей, сравнимых только с сияющими лучами восходящего солнца. Я хочу, чтобы все они сладко пили и ели, наряжались в расшитые золотыми нитями одежды, чтобы их, наших женщин, подносили к лошадям на носилках, чтобы у них было вдоволь чистой воды и лучшего вина, чтобы у их животных были самые тучные пастбища и чтобы они никогда не притрагивались к колючкам и сорным травам.
Это случилось в тот день, когда конница настигла давно ушедшие вперед караваны высоких двухколесных повозок. Конница остановилась у западных склонов Алтая, а караваны с прикрывающими их тысячами воинов продолжили свой путь.
После сказанного Чингисхан устроил пир для своих друзей, телохранителей, жен, невест и дочерей. Все говорили о близящейся войне, все ругали Мухаммеда, и каждый вызывался влить в глотку наместника Отрара Гаира расплавленное серебро. Громче всех визжали младшие жены властителя. Чтобы обратить на себя внимание хана и снискать его благосклонность, они старались перещеголять одна другую, придумывая все более и более страшную кару для Хорезма.
— Отруби четыремстам пятидесяти жителям Хорезма головы и забрось их метательными машинами в другую крепость! — воскликнула одна из них.
— Конечно! Они все до смерти испугаются и сразу сдадутся! — поддержали ее другие.
— Четыреста пятьдесят? Мало! Четыре тысячи голов!
— Пять тысяч!
Несколько младших жен упали перед ханом на колени и, обнимая его ноги, умоляли:
— Десять тысяч!
— А еще поверни одну из рек вспять, чтобы она затопила весь город!
— Да, пусть они захлебнутся водой и утонут!
— Накажи их водой! Напусти на них реку!
Хан встал, поднял руку, повелевая всем успокоиться, и объявил во всеуслышание:
— Хорошо, я стану для них карой господней!
Всеобщее волнение достигло предела. Среди приближенных хана не нашлось ни одного, кто предостерег бы властителя или предупредил, что кары, уготованные им Хорезму, во много-много раз превосходят понесенные им потери и убытки. Только ученый-звездочет Берды из Хси-Хсии добрался до одного из приближенных хана и сказал:
— То, что собирается сделать хан, несправедливо. Он хочет отомстить за смерть четырехсот пятидесяти монголов, разрушив могучее государство, в котором живут миллионы людей, в котором есть свои медресе и мечети, книгохранилища, сведущие в письме и чтении ученые люди, он готов разрушить и предать огню дома и сады, дворцы и замки! Тысячу лет спустя после нашей смерти люди будут проливать слезы при воспоминании о том, что мы разрушили этот очаг мусульманской культуры!
— Пусть плачут! Пусть стенают! — ответил ему приближенный хана. — Прочь, старец! Может быть, ты и умеешь читать по звездам, но в происходящем на земле ничего не смыслишь!
— Пропусти меня к хану! Я обязан предостеречь его!
Но приближенный лишь усмехнулся в ответ:
— Ты не успел бы даже договорить до конца, как женщины, да, одни только женщины, разорвали бы тебя на куски, словно дикие львицы.
— Меня это не страшит! Клянусь тебе жизнью, клянусь всеми моими знаниями, высокородный господин, я должен предстать перед Чингисханом!
— Поди прочь! — отшвырнул его от себя приближенный хана. — Убирайся, пока на тебя не обратили внимание телохранители!
— Нас будут проклинать! Даже через тысячу лет, слышите, высокородный господин, через тысячу лет любого охватит испуг при слове «монгол»! Нас будут проклинать: мы идем на страну мечетей и медресе, на страну дворцов, садов и книгохранилищ.
— Хану не нужны ни книгохранилища, ни дворцы — ничего из того, что ты перечисляешь. Великий Чингисхан и его великая империя возвысились без всех этих вещей. Наша империя будет жить еще долго после того, как развалины Хорезма уйдут под песок и превратятся в безжизненную пыльную степь.
— О, высокородный господин! — взывал звездочет.
Приближенный хана отталкивал его все дальше и дальше. Он был даже слишком добрым и снисходительным — ведь он запросто мог бы позвать стражников! О чем он и сказал звездочету.
— Да, позови их! Позови! — не сдавался старик. — А вдруг хан обратит на меня внимание, заметит и позовет? Я не боюсь смерти, высокородный господин! Если бы только я смог спасти Хорезм ценой моей жизни! Если бы я мог отдать ее ради этой страны великой культуры, я сделал бы это с чистым сердцем!
— Ты бредишь!
— Я? Брежу? Вы сделаны из камня, высокородный господин, а сердце ваше — из железа. О вашей голове я и говорить не желаю, она того не стоит.
Утром звездочета Берды из Хси-Хсии нашли мертвым на дне пропасти. Он сам прыгнул вниз со скалы. Это случилось той самой ночью, когда Чингисхан задавал большой пир для всех близких, для их жен, дочерей и невест.
Когда о смерти звездочета доложили тому самому приближенному хана, он лишь улыбнулся.
Глава 16 МЕРТВЫЕ НА СНЕГУ
Чингисхан оставил позади почти безжизненную пустыню между Алтаем и Тянь-Шанем как раз к приходу зимы. Никаких стычек с противником пока не было. Может быть, Мухаммед даже не знал, что на него надвигается властитель монголов с его сотнями тысяч воинов? У отрогов Небесных гор{27} хан разделил свое войско, послав сильное левое крыло к югу, где оно должно было перейти через перевал между Гиндукушем и Памиром.
— Вы пойдете в обход, — объяснял хан, — и выйдете Мухаммеду в тыл. Дождитесь нас — и тогда уже мы ударим с двух сторон!
Хан проговорил это таким тоном, будто речь шла о военных играх у Керулена, за которыми приятно наблюдать с вершины одного из холмов. Не заблуждался ли он относительно размеров и военной мощи Хорезма? «Вы пойдете в обход!» — сказал он. Неужели он не рассчитал, что на этот обходный маневр потребуется вся зима и еще часть весны в придачу? Представлял ли он себе этот трудный, долгий, полный немыслимых тягот путь?
Да, он все знал и все предусмотрел, потому что несколько дней спустя сказал Джебе:
— Представляю, как поразится Мухаммед, когда узнает, что я именно зимой решил перейти через горы. Да еще через такие горы, что возвышаются над облаками, как престолы богов в небе. Я с моим войском ворвусь в его цветущую страну вместе с первыми весенними ливнями!
Но пока что до этого было еще далеко, ибо одно препятствие он явно недооценил — сам Тянь-Шань. Горы простирались перед монголами подобно стене из льда и снега и закрывали перед ними доступ в Хорезм. Здесь воинов великого хана поджидали снежные бури, лавины, ледники, страшные обрывы и теснины и множество других опасностей, о которых они даже не догадывались. Таинственные вершины носили гордые имена богов. Это были священные горы, и нога человека здесь еще не ступала.
Через две недели хан вынужден был признать, что допустил ошибку. Разумеется, он об этом никому не сказал, даже своим сыновьям и военачальникам. Он поступил именно так, как поступал всякий раз, обнаруживая собственную ошибку: собрал в кулак всю свою несокрушимую волю, сделался жестоким и безжалостным. Стремясь к одной-единственной цели, властитель монголов не видел и не слышал никого из тех, кто хотел бы открыть ему глаза на правду. Зачем? Он и без советчиков разберется…
— Верховных военачальников и тысячников ко мне! — повелел он однажды утром.
Прошел день и еще полдня, пока они у него собрались. Многие явились в порванных меховых шубах, с распухшими руками и ногами. Привыкшие к победам бравые воины стояли перед ханом в этом мире застывшего снега и льда с потухшими взглядами. Ничего хорошего от этой встречи у хана они не ждали.
— Отставшие от войска без моего позволения должны быть без промедления убиты тысячниками, сотниками или десятниками. Если ни одного из начальников рядом не окажется, пусть отстающего убьет ближайший к нему воин. Если кто-нибудь из обоза оставит свою повозку или не починит сломанную, он должен быть убит на месте.
— Большинство погонщиков яков — женщины и девушки, мой хан! — заметил один из тысячников.
— А кто заставлял их участвовать в походе? Ответь мне: что потребуется тебе перед стенами таких городов, как Отрар, Бухара и Самарканд, — женщины и девушки или метательные машины с их повозок?
— Мой хан! — выступил вперед один из военачальников. — Уже сейчас от войска отстало больше тысячи обессиленных и отморозивших руки или ноги воинов. Сколько таких будет, когда, повинуясь твоему приказу, мы перейдем через Небесные горы?
— Сто тысяч! Или двести тысяч! — вскричал Чингисхан.
— О-о, властитель! — выдохнули одновременно три тысячника, а первый повторил упавшим голосом:
— Сто тысяч! О мой хан!
— Отдать за четыреста пятьдесят убитых монголов сто тысяч других монголов? — набрался мужества второй.
— А сколько их поляжет в самом Хорезме? — не удержался третий.
— Да если и пять раз по сто тысяч — пусть! — ответил им всем Чингисхан. — Я — бич божий! Разве не заслуживает наказания этот испорченный народ за то, что терпит такого повелителя?
Властитель прошелся по снежному насту; подходя к одному военачальнику за другим, заглядывал им в глаза, загадочно улыбался. Остановившись перед теми тремя тысячниками, которые осмелились вслух выразить свое недовольство, сказал:
— Как же, наверное, вопят и негодуют ваши воины, когда их начальники визжат, как старые немощные бабы? — Чингисхан быстро повернулся к своим телохранителям и приказал им: — Бросьте этих крыс голыми в снег, а их шубы отдайте тем, кто мерзнет! — И еще хан сказал: — Куда легче идти на Хорезм с сотней или двумя сотнями тысяч воинов, которые следуют за мной без тени сомнения, чем с четырьмя или пятью сотнями тысяч, чьи стоны и вздохи всех сковывают.
После этого военачальники разъехались. Хан все устроил таким образом, что все они должны были проехать мимо тех троих, которые голыми лежали на снегу. Головы им успели отрубить. Когда тысячники отъехали на порядочное расстояние и Чингисхан тоже сел в седло, над перевалом задул сильный северный ветер. И скоро тела казненных совсем замело…
Тенгери был в том главном клине, которым предводительствовал сам хан, а Саран — в караване повозок, доверху нагруженных отдельными частями метательных и осадных машин, а также орудий «летучего огня». Перед Тенгери ехал верхом или плелся по снегу Бат. Случались дни, когда они больше двигались в пешем строю. Саран и Тенгери не виделись уже больше месяца. Расстались они в долине, у самого подножия Тянь-Шаня.
Лошади шли по брюхо в снегу. У многих от холода лопались жилы, и воинам пришлось обматывать им копыта и ноги шерстью яков. А ведь войско не пробилось пока к верхней части плоскогорья; здесь еще попадались ели, невысокие тополя и клены, так что по ночам можно было погреться у костров. Да, этот переход потребовал немалых жертв. Мертвые оставались на снегу, как черные поленья. А некоторые провалились в глубокий снег по плечи и замерзли с поднятыми руками и открытыми ртами. Кое-кто замерз вместе со своими лошадьми, не выпуская из окостеневшей руки плетки. Они, обледеневшие, казались высеченными из камня. И это притом что войско Чингисхана еще не дошло и до середины Тянь-Шаня.
Пришел день, когда Бат крикнул, оглядываясь по сторонам:
— Деревьев впереди нет!
И хотя из-под меховой шапки были видны только его глаза, от Тенгери не укрылось, что Бата трясет от страха.
— Впереди никаких деревьев нет! — еще раз крикнул Бат, словно опасаясь, что Тенгери и остальные не поймут, чем это грозит.
Тенгери кивнул. «А что ему ответить?» — думал он, глядя на бескрайние снега. Да, леса, и без того редкие, остались позади. Впереди только снежные наносы, обледеневшие каменные стены со свисающими сосульками и глубокие пропасти во льду и снегу, а над всем этим — серое давящее небо. Время от времени доносилось предсмертное ржание скользящих вниз по обледеневшему насту, срывающихся и падающих в пропасть лошадей, звуки глухих ударов в этой бездне и их отражение — и конный переход по бескрайней снежной пустыне продолжался.
Вдруг лошадь Бата как-то накренилась и повалилась на льдистую корку снежного покрова, которую ветер вылизал до блеска. Тенгери и другие из его десятка поспешили к нему, чтобы высвободить из стремени его ноги — караковый жеребец придавил Бата. Когда Хунто это удалось, все заметили, что жеребец сломал переднюю и заднюю ноги. В состоянии, близком к умопомрачению от радости, Тенгери и все остальные навалились на обреченное животное, вспороли ему ножами жилы и жадно пили его горячую кровь, а потом уже наелись вдоволь жареной конины. С наступлением темноты они закапывались в снег, жались друг к другу и ворочались, как звери, пока не забывались тяжелым сном, заметенные снегом.
Тенгери каждую ночь являлась во сне Саран, ведь он целыми днями только о ней и думал. Он видел ее бредущей рядом с повозкой и переворачивающей лицом кверху каждого лежащего на снегу воина, а вдруг это он, Тенгери? Она, конечно, тоже целыми днями думала только о нем. Он тихо шептал под снегом ее имя, и ему чудилось, будто он слышит в ответ: «Черный!» Как это страшно, когда тебе ночь за ночью снятся упавшие на снег воины и белые скелеты лошадей! Или казни! Просыпаясь, Тенгери всякий раз спрашивал себя: «Жива ли она?» И иногда стонал сквозь зубы: «Газель!»
Тогда Бат толкал его рукояткой плетки в бок.
— Какие тут газели? Привиделись они тебе, что ли, газели эти? Здесь даже волка не встретишь!
Сколько раз Тенгери давал себе слово не думать больше о бредущей за повозкой и вглядывающейся в лица трупов Саран. Он заставлял себя мысленно возвращаться к дням мирной жизни у Керулена, к голубой реке и синему небу над ней, к камню с изображением Саран, которое он так и не закончил. И наконец, к призывному звуку трубы из лагеря: «Война!» Тогда он, ликуя от несказанной радости, погнал своего гнедого к юрте, стоявшей у вершины округлого холма, где его ждала Саран. Едва увидев друг друга, они оба воскликнули: «Война!» И скрылись в юрте, где обнялись и шептали друг другу, забыв обо всем: «Война! Теперь мы сможем бежать! Мы убежим! Наконец-то!» Тогда, конечно, никто из них и представить не мог, какие тяготы их ждут в горах. И вот они в самом сердце Тянь-Шаня, перед ними его перевалы, ледники и вечные снега. Тенгери думал: «Отсюда обратного пути нет, отсюда не убежишь. Саран знает это теперь не хуже меня. Она знает, что мы можем встретиться в долине по ту сторону гор, если каждый из нас отдаст за это все! И значит, нам предстоит пробиться сквозь этот мир льда, снега, порывистого ветра и лежащих при дороге мертвецов. Только после этого мы можем попытаться добиться того, к чему стремимся! Ты слышишь меня, Газель?» Ответом ему был только ветер.
Однажды Бат сказал, обращаясь к нему:
— Время между походом в империю Хин и этим походом мне не понравилось. Мне вообще не нравится, если я не на войне. Тогда я сам не свой, не знаю, кто я и зачем я.
Тенгери ничего ему не ответил, и Бат продолжил:
— Может, мне пасти овец, как старикам или одноглазым? Или ловить рыбу? Клянусь богами, я привык добывать на войне все, что мне хотелось и было нужно: овец и золото, жемчуг и коз, серебро и женщин!
Десятник громко рассмеялся, но смех его был горьким, это был смех через силу, который недолго длится.
— Знаешь, Тенгери, как я радуюсь, когда верхом на коне, с луком и мечом молнией набрасываюсь на врага!..
— Ты так говоришь, Бат, будто тебе хочется сесть здесь на снег и умереть!
— Если меня что и страшит, то только моя старость! Она накинулась на меня! Она сковывает мои руки и ноги, они болят! Скажи: может быть, эти проклятые горы и пропасти и есть наши враги?
Вот до чего договорился Бат на шестьдесят второй день похода через Тянь-Шань. Они как раз закопались в снег неподалеку от гребня высокой горы.
— Шестьдесят дней без солнца! Для монгола это все равно что быть похороненным заживо под чужим небом!
Несколько дней назад произошло страшное и неслыханное. Никто об этом не говорил вслух, но все только об этом и думали: страшным порывом ветра с ледника смело в пропасть сто восемьдесят девять воинов вместе с их лошадьми. Многие рассуждали так: выходит, на заснеженных вершинах все-таки восседают боги, а то, что они, вершины, все время окутаны непроницаемыми облаками, означает, что боги желают оставаться невидимыми. А почему? Очень просто: боги всегда негодуют, когда люди проникают в Небесные горы. Вот они и напустили на монголов злую снежную бурю, которая шутя сбросила в пропасть две сотни всадников.
Тенгери с Батом забились в расщелину. Лошадей они оставили совсем рядом. За ними лежали на снегу остальные пятеро из их десятка. Должно было быть еще трое, но они давно замерзли где-то в снегах Тянь-Шаня. И может быть, они даже не лежали на снегу, а стояли: в нем, таком высоком, некоторые умирали стоя. Бат долго не произносил ни слова, молча уставившись в пустоту. Потом достал мешочек, сделанный из желчного пузыря яка, достал из него высушенное и растертое в порошок мясо, пожевал его. У каждого было с собой по такому мешочку с растертым в порошок мясом. Полпригоршни его хватало для крепкого навара. Но здесь костра не разложишь, так что приходилось есть всухомятку.
— Где солнце никогда не заходит, никакая луна не взойдет! — ворчал Бат.
Но прозвучало это беззлобно, скорее насмешливо, чем с сожалением. Когда заморишь червячка, все-таки становится полегче…
Лошади терлись одна о другую, стоя в полной темноте. Иногда позванивала замерзшая сбруя, а когда они переступали ногами, лед потрескивал.
— В империи Хин ты был веселее, Бат. Я уже не говорю о Дзу-Ху! — сказал Тенгери. — Ну и горлохватом же ты был! Иногда ты был способен на подлости, иногда был наглым. Но и добрым ты бывал, Бат, да, добрым.
— Заткнись!
— А на свои ноги ты уже под Йенпином жаловался, помнишь, когда мы без лошадей, пешие…
— Да-да, я во всех битвах участвовал…
— …и каждая из них оставила на тебе свою отметину!
И они рассмеялись, они смеялись от души, забыв об ужасах этой ледяной пустыни. Но смех их вдруг оборвался, будто кто-то сжал им горло. Хунто, один из тех, что лежал за лошадьми, подполз к Тенгери и Бату и сказал:
— Все трясется! Горы заговорили!
— Вот видишь, — злился Бат, — чем выше мы поднимаемся, тем ближе мы к богам. И чем ближе мы к ним, тем больше они сердятся.
Они втянули в глубь расщелины одного за другим всех пятерых. А оставшиеся снаружи лошади как бы живой стеной отгораживали их от ледяного мира.
Бат ругался: лучше каждый день биться одному против десяти или даже двадцати воинов Мухаммеда, чем провести хотя бы еще одну ночь в этих горах.
— Я бы мигом посшибал с лошадей всех этих кривоногих турок, длинноногих персов или туркменов! Они бы даже понять не успели, кто это отправил их на небо — боги или монголы? А здесь? На что мы здесь годимся? Какие мы воины? Биться головами о ледяные стены, вспарывать мечами снег, продырявливать копьями облака, разрубать боевыми топорами горы? Ответь: что нам, воинам, здесь делать?
— Сражаться против всего, что готово нас уничтожить! — ответил Тенгери. — Когда мы спустимся вниз, в долинах будет уже весна, Бат!
— Я стар, силы уходят.
Сильный порыв ветра швырнул им в лица пригоршни снежинок.
— Вспомни о хане, — поддел его Тенгери. — Разве он молод?
Бат ухмыльнулся:
— Я слышал, его носят по снегу на носилках.
— Думаете, правда? — спросил воин по имени Гам, впервые участвовавший в военном походе.
Ему не ответили: никто не знал, правда это или нет.
— На носилках? — переспросил Тенгери. — А женщин он куда подевал? Их что, тоже на носилках через горы переносят?
— Говорят, будто он оставил своих жен в долине, — заметил Бат. — Вот пройдет зима, и их перевезут к нему на лошадях с покрытыми бархатом седлами.
— А вот если бы сегодня снежная буря сбросила в пропасть не две сотни воинов, а его жен, — неожиданно для самого себя проговорил юноша Гам. — И что тогда? Конец войне? Да или нет?
Тенгери промолчал.
Бат не рассердился:
— Какой там конец войне?! Хан обязательно довел бы ее до конца. Хотя бы для того, чтобы выбрать себе в Хорезме других красавиц! Ты еще не знаешь хана, — закончил он многозначительно.
Ветер завыл вдвое сильнее, как бы предупреждая: на подходе буря! Пока что земля под ними только чуть-чуть подрагивала, но еще не кренилась и не падала.
— Она идет сбоку! — вскричал Бат.
Воины прижались спинами к совершенно обледеневшим стенам расщелины. Загрохотали раскаты грома. Что-то в расщелине треснуло.
— Бат?
— Тенгери?
— Гам?
Они по очереди окликали друг друга, сами не зная для чего, ведь пока что они держались за руки.
— Вот сейчас! — крикнул десятник.
Расщелину словно покачнуло, сверху дождем посыпались мелкие камешки. Раздался чей-то крик — не то от испуга, не то от боли. Буря неистовствовала, грохотала, хлестала, не разбирая, где люди, а где животные. С обрыва с шумом обрушился вниз огромный камень. Ветром двоих из их десятка оторвало от ледяной стены, и они потащили за собой других.
— Конец! — заорал Бат.
— Нет! — взревел Тенгери. — Нет, никогда!
Ощущение было такое, что сама гора зашаталась туда-сюда, словно ей тоже надоело мерзнуть или ей захотелось сбросить с себя этих людишек, которым вздумалось ее покорить.
— Бат!
Любой крик, любой зов был сейчас бессмысленным. Буря властвовала надо всем: над горами и небом, над снегами и ледниками, над животными и людьми. Именно она, эта необузданная буря, и решала, кому еще кричать, а кому никогда больше не вскрикнуть, кому умереть сейчас, а кому позже. «Я не должен погибнуть!» Все естество Тенгери противилось этому. «Я взываю ко всем богам-небожителям и богам этих гор: не допустите этого! Я не хочу!» Его пальцы вцепились в чью-то овчину, ртом он тоже прижимался к чьей-то шубе. Он даже вцепился в нее зубами, а разжать его пальцы вряд ли кто-нибудь сумел бы. Чья это шуба, он не знал. Да и какая разница? Может быть, ее хозяин так же цепляется сейчас за шубу соседа. Они сплетались в клубок, как дикие звери, а снег и льдинки, льдинки и снег все больше погребали их под собой.
Сколько времени это продолжалось, никто потом сказать не мог. Когда буря улеглась, небо сделалось таким чистым, таким звездным, каким они его никогда в горах не видели. Луну кто-то словно приморозил к вершине одной из гор, и теперь она выкрасила снег в синий, а лед — в серо-зеленый цвет. Все выглядело каким-то болезненным, блеклым, неестественно замершим, неживым.
— Бат! — крикнул Тенгери. — Смотри, Бат, луна! Она вернулась! Живем, Бат, луна вернулась!
Он стоял по грудь в хрупких льдинках и снегу. Потянув на себя шубу, за которую он совсем недавно цеплялся изо всех сил руками и даже зубами, Тенгери проговорил, снова нарушая пугающую тишину:
— Ну, давай, вставай же, Бат!
Но тот, кого он звал, не поднимался. И вообще это был не Бат. Это был Гам — уже мертвый. Погиб во время своего самого первого похода, так и не увидев перед собой живого врага. А у входа в расщелину один за другим вставали все остальные из их десятка, кого пока не унесла на небо смерть. Тенгери пришлось долго растирать меховой шапкой лицо почти совсем замерзшего Бата, который диковато озирался, не говоря ни слова.
Тенгери потащил Бата к одной из лошадей, которую ударило о скалу и которая лежала теперь на снегу в пяти шагах от Гама.
— Взрежьте ей жилы, — сказал Тенгери Хунто и Соригу.
Когда это было сделано, Бата напоили горячей кровью коня. Сначала он отказывался пить. Они не без труда разжали его зубы, но потом, когда горячая кровь потекла по лицу, губы Бата раскрылись. Десятник пил мелкими глотками. Его глаза начали оживать, и лунный свет отражался в зрачках. Сидя вокруг него на корточках, они наблюдали, как он пьет. Пар от горячей конской крови превращался в снежинки на их бородах и бровях. Когда десятник напился досыта, все стали пить по очереди. Они, можно сказать, высосали лошадь досуха. А потом досыта наелись конины, как несколько дней назад. Бат сказал:
— Мы с тобой давно знакомы.
Воины непонимающе переглянулись, не зная, к кому он обращается.
— Я о тебе говорю, Тенгери.
— Обо мне?
— Он бредит, — прошептал Хунто.
— О тебе, — повторил Бат и поднял глаза на Тенгери. — Перед смертью…
— Бат!
— …я хочу сказать тебе все, что хотел…
Где-то отвалилась большая сосулька и с шумом покатилась в пропасть. В глазах десятника появился страх, но он спокойно проговорил:
— Я был одним из тех самых десяти всадников тогда, помнишь?..
— Бат! — перебил его Тенгери.
— Заткнись! Мы пришли со стороны заходящего солнца, а вы сидели у озера, на берегу которого росли три кедра. Так или нет?
— Да.
— Видишь. Вы, значит, бежали… и сидели там, у озера… а мы вас догнали.
— Дальше, Бат!
— Дальше? Что было дальше, ты знаешь.
— Да, знаю.
— А тебя мы не тронули. Таков был приказ хана.
— Да.
Каждый слышал сейчас дыхание соседа.
— Не надо меня за это ненавидеть, — сказал Бат. — Может, ты сам завтра окажешься в десятке, который пошлют за кем-то в погоню.
Тенгери кивнул.
— Я… я хочу сказать тебе: тогда мне это даже доставило удовольствие, да, я выполнил приказ хана с радостью!
— Помолчи, Бат! — сказал Тенгери и встал.
— Я сказал «тогда», Тенгери!
Луна повисла сейчас прямо над ледником и проливала свой свет на него и на соседние снежные поля.
— Хочешь мяса? — Один из воинов протягивал десятнику мешочек из желчного пузыря яка.
Бат с трудом покачал головой, приподнялся на локтях, но снова упал на спину и спросил Тенгери:
— Когда ты стоишь надо мной, такой большой, мне кажется, что ты хочешь меня растоптать. Разве я не сказал тебе, что ты, может быть, сам завтра будешь в десятке погони?
Тенгери присел на корточки.
— Почему мои родители бежали, Бат?
Десятник промолчал. Закрыв глаза, он тяжело дышал. Сейчас луна осветила его лицо, и все увидели рану на голове Бата, большую рану на правом виске. Эта глубокая черная выемка напоминала разверстую пасть рыбины.
Бат ничего не говорил, и Тенгери начал размышлять о том, как давно десятник догадался, кто он, Тенгери, такой.
— У скал Онона я еще не знал, кто ты такой, — ответил вдруг на его невысказанный вопрос Бат. — Только твое имя мне о чем-то напомнило. А потом ты рассказал, что Чингисхан подарил тебе скакуна — благородного, дорогого! — и я подумал: «Значит, это не он. Тому Тенгери хан ни за что скакуна не подарил бы».
— А когда ты понял, что Кара-Чоно мой отец, а Золотой Цветок — моя мать?
— Когда ты рассказал хану сказку «О лошадиноголовой скрипке». Я стоял в толпе на площади и слышал, что, когда тебя спросили, от кого ты узнал эту сказку, ты ответил: «От моего названого отца!» Потом тебя спросили еще, как твоего названого отца звали. И ты ответил: «Кара-Чоно, Черный Волк».
— Все так и было. А после этого меня поставили десятником.
— Это было хитрой уловкой хана! — прошептал Бат. — Разве он мог простить тебе, что ты назвал своим отцом изменника?
— Он пришел в ярость, Бат! И прямо сказал мне об этом!
— Вот видишь! Я потом долго избегал тебя, ни словом с тобой не перемолвился!
— А я-то подумал, ты обиделся, что меня, молодого, сделали тебе ровней, Бат.
— Ты так и сказал, когда мы с тысячей маленького китайского полководца Лу скакали к Великой стене. Я ответил, что не поэтому. Я тебе сказал: «Знаешь, Тенгери, жизнь — странная вещь». А ты: «Не понимаю, о чем ты говоришь, Бат». И тогда я сказал еще: «Ладно, помолчим». Для меня, даже для меня, столько всего видевшего и пережившего, мысль о том, что в моем десятке есть человек, отца и мать которого, пусть и названых, я по приказу хана…
Бат умолк ненадолго, а потом, собравшись с силами, закончил:
— Хотя мы ссорились, ругались, а иногда просто задирали друг друга, как волчата, ты мне всегда нравился. Ты не похож на других, понимаешь? Это ведь как с лошадьми, Тенгери: за всю жизнь у тебя под седлом могло быть хоть двадцать лошадей, а все равно одну из них ты всегда будешь помнить и любить больше других!
На какое-то время наступила полная тишина. Луна вскарабкалась еще выше на небо. Сейчас все очертания казались более резкими и величественными. Двое, Сориг и Баязах, пошли погреться около лошадей. Хунто побежал на поиски запасной лошади для Бата.
— Трите им покрепче шеи! — прохрипел вслед уходящим Бат.
Ему захотелось встать. И опять он упал навзничь. Тенгери спросил, нет ли у него ран на теле.
— Нет, одна эта, на голове. Только захочу сесть или встать, луна так и пляшет у меня перед глазами, а горы подпрыгивают вверх-вниз, — ответил Бат, ощупывая рану. — Эх, лучше бы мне треснул по башке какой-нибудь кривоногий турок! Так нет же, получил от дурацкой сосульки!.. Тоже мне, враг! Пройти через все битвы и принять смерть от замерзшей воды?!
— Из-за этой маленькой дырки в голове ты не умрешь, Бат, — сказал Тенгери.
— Но сражаться я тоже не смогу! На что я теперь годен?
— Будешь стеречь овец, Бат. Или ловить рыбу.
Десятник надолго задумался, глядя на далекие звезды.
Тенгери думал: «Вот он лежит передо мной. Один из того десятка, что выехал из заходящего солнца. И он говорит мне, что, может быть, завтра я сам буду участвовать в погоне за беглецами, если того пожелает хан!»
— Иногда я думаю, — негромко заговорил Бат, — что воевал на всех войнах. И с этих войн привозил домой все, что хотел. А вот сейчас лежу здесь и понимаю: все, да не все! Чего мне не хватает, я не знаю. Только не может быть, чтобы это было все, что человеку нужно!
«Да, этого быть не может», — подумал Тенгери и вспомнил о китайских рыбаках, которые выходили на своих лодках в открытое море, о девушках и женщинах, собиравших чайный лист, о мужчинах, которые впрягали в плуги буйволов. «Ваше счастье — это наше несчастье», — говорили они. А другие добавляли угрюмо: «Вы только для того и живете на свете, чтобы угонять стада и поджигать чужие дома!»
— У меня было много всякого добра, а ничего не осталось, — жаловался десятник.
— Что ты такое говоришь? — удивился Тенгери.
Хунто смотрел на них обоих с недоумением и даже с некоторым смятением.
— А все оттого, что мне ноги отказали. Доведись мне сразиться с воинами Мухаммеда, я укладывал бы их направо и налево, как пересохший тростник. И даже если бы мне пришлось сложить свою голову, я умер бы сжав зубы. А тут?.. Лежу, лежу, думаю о всякой всячине, перебираю, что было и чего не было, а смерть не идет и не идет за мной…
Остальных сморил сон, только лошади всхрапывали, переступая с ноги на ногу.
Утро пришло холодное, туманное. Тысячи неспешно вытягивались в колонны, повинуясь громкому зову трубы.
Воины посадили десятника на лошадь. Но его тут же вырвало, и он свалился на руки Тенгери. Бата завернули в три шубы и привязали ремнями поперек спины каурой. Он не произносил ни звука и не ответил, когда его спросили, не положить ли его по-другому. Тенгери ехал впереди на своем гнедом, держа в руке уздечку шедшей сбоку каурой Бата. Пришлось опять медленно тащиться в гору. Сколько ни всматривайся вперед, ничего не видно. Иногда им казалось, что они уже на небе: вокруг одни облака. Но когда они все-таки пробились сквозь облачное море наверх, то увидели сияющее солнце. Солнце! Впервые за столько дней! Теплое, доброе, оно посылало им свои лучи с темно-синего неба.
«Если Бат сейчас умрет, — подумал Тенгери, — после него ничего не останется, как не осталось ничего после тысяч из нас. Он не построил дома, он не ловил рыбу, не собирал чайный лист, не бросал зерно в землю, не рисовал картин, не тесал камней, не посадил деревьев, не научился грамоте. Зато он разорял чужие дома, убивал рыбаков, поджигал чайные кусты, опустошал поля, уничтожал картины и статуи, сбрасывал отесанные камни с лестниц, швырял книги в огонь и в воду».
— Я думаю о том, — проговорил Бат, — как хорошо сейчас было бы посидеть на солнце у Керулена. Не ты ли только что сказал мне, на что я еще гожусь? Пасти овец, ловить рыбу?
— А ты совсем недавно говорил, до чего тебе опротивело время между походом в империю Хин и этим. Ты, мол, не знал, чем заняться…
— Полежал бы ты поперек лошади, как я сейчас, тебе бы тоже пришли в голову такие вещи, которые тебе и не снились!
— Вдруг уже слишком поздно, Бат?
На этот вопрос десятник не ответил. Зато сам спросил:
— Ты по-прежнему вырезаешь этих маленьких овечек, коз, собак и волчат, как тогда, в империи Хин?
— У Керулена я этим еще занимался. И вырезал фигуры, большие фигуры. И еще выбил женское лицо в камне. Правда, не до конца — нас позвали на войну.
«О Чиме ему лучше не рассказывать, — подумал Тенгери. — Лучше о Чиме вообще не упоминать!»
Десятник сказал, что он с удовольствием вспоминал те вечера в империи Хин, когда Тенгери выставлял перед воинами свое маленькое стадо.
— Тебе это дело нравится?
— Очень, Бат.
— Больше, чем бить врага?
— Намного больше, Бат.
— Скажи ты мне об этом несколько лет назад, я столкнул бы тебя в пропасть. Или накинулся сзади и сломал хребет!
— Знаю.
Теперь они поднимались круто вверх, и лошади двигались как бы боком. Здесь снега было поменьше, чем внизу, очень тихо и даже тепло. Когда откуда-то сверху из-под копыт лошади срывался камень, передние старались криками предупредить задних, и те отводили лошадей в сторону. Но иногда не успевали, и тогда камень ножом вонзался в тело воина или его коня. Одному жеребцу он словно острым лезвием срезал переднюю ногу, та упала, как замерзшее полено, на заснеженный склон и покатилась к обрыву.
На другой день они достигли последнего перед вершиной перевала. Отсюда они смотрели вниз сквозь облака, пробитые отдельными каменными пиками. Кое-где облачный покров был в прорехах, заглянув в которые можно было увидеть темные теснины или ледники — по их чистой глади скользили темные тени.
— Ты сейчас против хана? — тихо спросил Тенгери, бросив взгляд на Бата.
— Против, говоришь? С чего ты взял? А кто меня спросил, за него ли я? Я служу ему с тех пор, как себя помню. Я служил бы и Мухаммеду или этому желтому сукиному Сыну Неба из Йенпина. Это смотря по тому, где ты родился, Тенгери. Против? Я никогда не был против него. И сейчас — тоже. Разве те, кто против него, живут дольше? — Десятник вопросительно посмотрел на Тенгери. Лежа в толстой мохнатой шубе поперек спины лошади, он походил на волка. Только маленькие узкие глаза и видны. — А почему ты об этом подумал?
— Потому что ты говоришь не так, как раньше, Бат!
— Знаешь, когда лежишь, как я, всякие мысли в голову лезут. Видишь вон того беркута? Как гордо он летает над горами, над реками, лесами. Увидишь такого и завидуешь. Правда! А потом возьмешь и одной-единственной стрелой скинешь его с неба. Свалится он оттуда, подергается, подергается, побьет крыльями, да толку мало! Посмотришь ему в глаза, а они у него уже совсем тоскливые, скучные. И когда ты его вот таким перед собой увидишь, удивишься: неужели это та же самая птица, которая совсем недавно гордо кружила над тобой в небе? Ты уж поверь мне: когда лежишь, как я, и ноги тебя не слушаются, у тебя и слова и мысли не те. Но против хана я никогда не был и не буду. Слушай! — Бат немного приподнял голову. — Мне получше. Я, наверное, не умру.
— Солнце помогло, да? Конечно, ты не умрешь, Бат!
На самом гребне перевала проходившие тысячи воткнули между камнями много синих флажков: они радовались тому, что им удалось перейти через Тянь-Шань. Попадались по дороге и мертвые с почерневшими лицами и застывшей в глазницах влагой. В стороне от большого камня два обезглавленных трупа, а несколько подальше, на сломанных копьях, воткнутых в снег, торчали их головы.
— Вот эти-то и были против хана, — сказал Бат, когда они проезжали мимо. Теперь во главе их поредевшего десятка были Хунто и Сориг. — Нет-нет, я не умру, — повторил десятник и потребовал даже, чтобы Тенгери отвязал его. — Понимаешь, эта ночь, эта страшная буря, когда я ударился головой о выступ в расщелине, все эти шестьдесят два дня похода перед бурей… я был уже сам не свой!
Тенгери распустил ремни, Бат сел в седло, распростер руки и начал разминать пальцы.
— Солнце! Вот чего мне не хватало — солнца! Теперь я понял!
Они спускались по западному склону горы. Медленно, осторожно, шагом. Иногда приходилось спешиваться, потому что лошади боялись обходить большие валуны.
— Ну, ты хорош, — улыбнулся через силу Бат. — Чего подумал! Спросил… ну, ты сам знаешь, о чем…
Тенгери промолчал, дивясь столь быстрой перемене в настроении Бата. Но вспомнил, что так оно было всегда: и в Дзу-Ху, и под Йенпином, и «на краю света», у моря, когда его самого привязали к тополю. Да, всегда. Был один Бат — и был другой.
— Нет, я не против него, — сказал десятник.
Он проговорил это без злости, скорее насмешливо, как будто принял вопрос Тенгери за шутку.
— Ладно уж, Бат, — примирительно сказал Тенгери. — Рана больше не болит?
— Побаливает! Ничего, солнце поставит меня на ноги, лучшего лекаря не найти!
— Ты вчера не ответил на один мой вопрос, Бат. Почему все-таки мой названый отец Кара-Чоно и моя названая мать Золотой Цветок сбежали?
— Твоя правда, не ответил, — проворчал Бат.
Этот вопрос пришелся ему не по вкусу. Может быть, он уже пожалел, что ночью и утром так разоткровенничался. Зачем он признался, что был среди тех десяти всадников, которых послали в погоню за родителями Тенгери? Страх перед близящейся смертью развязал ему язык… Но в этом никакой беды нет.
— В молодости твой отец был другом хана, которого тогда еще звали Темучином. Ханом его тогда еще никто не называл…
— Знаю, Бат.
— Так вот, твой отец сражался вместе с ханом за объединение всех племен и родов, живущих в степи в войлочных юртах и кибитках. За создание великого народа «синих монголов», понимаешь? Твой отец был даже начальником телохранителей хана.
— И это мне известно, Бат.
— Известно? Вот как!
Им снова пришлось спешиться, потому что несколько лошадей впереди упали и запутались ногами в подпругах. Бат сделал несколько шагов в сторону большого камня, вытягивая вперед руки, словно торопясь поскорее о него опереться. Тяжело дыша, сел. За спинами у него и Тенгери к камню прислонился Хунто. Он часто сидел в одиночестве и первым ни с кем не заговаривал. Но выполнял все, что требовалось. С радостью или через силу — никто не знал. На лбу Бата выступили капельки пота. Понизив голос и вздохнув, он говорил, наклонившись к Тенгери:
— Твой отец иногда не соглашался с приказами хана, особенно когда убивали вражеских воинов, которые сдались в плен и отбросили мечи и пики. Он хотел быть умнее самого Чингиса! — Бат взял пригоршню снега и принялся растирать лицо. — Короче: Кара-Чоно утверждал, будто Темучин нарушает старые законы степи, обычаи и заветы дедов и прадедов. И часто ссылался на собственного отца, на его слова, понимаешь?
Снег на лице растаял, и капельки влаги падали на всклокоченную бороду Бата.
— Когда хан узнал о таких его злонамеренных речах, он его из своих телохранителей прогнал. За такие дела никому бы не поздоровилось! Стоило хану хоть кого-нибудь заподозрить в неверности, как его сразу же убивали или обезглавливали. А твоего отца он пожалел, послал в обыкновенный десяток. Ведь они с ханом в молодости были друзьями…
Колонна снова осторожно двинулась вперед, и Тенгери с Батом пошли к своим лошадям. Сориг, Баязах, Хунто и Тарва уже сидели в седлах, а Бату никак не удавалось попасть ногой в стремя. Сколько ни пытался, все зря. Тенгери помог десятнику. Тот ругался почем зря и сплевывал.
— Я теперь все равно что лошадь, у которой вспороли жилы. — Но потом, когда уселся прямо, как и положено, приободрился немного. — Ну, так вот, — снова повернулся он к Тенгери, продолжая рассказ, — пришла пора похода на Хси-Хсию. Это уже после основания великой империи монголов. И Хси-Хсия была первой страной, которую хан пожелал покорить. Незадолго до нападения Чингисхан сказал всем, кого собрал вокруг себя: «Сейчас наши враги завизжат: «Почему вы не уважаете наши границы?» Мы же ответим им, что орел тоже никаких границ не признает, а мы — орлы! Помните: на всей земле должен быть лишь один властитель, и я хочу стать им — Потрясателем Вселенной. Все будут трепетать, едва заслышав мое имя, куда бы я вас ни повел». Еще когда мы скакали в эту Хси-Хсию, кое-кто пытался удрать — эти тоже, понимаешь, были верны заветам отцов!.. Но мы их всех поотлавливали и тащили за собой, привязав длинными веревками к лошадям, пока те не подыхали собачьей смертью. Твоему отцу удалось сбежать уже в самой Хси-Хсии: он украл у одного из гонцов колокольцы и с ними добрался до нашего главного лагеря, где его ждала твоя мать. С колокольцами его все принимали за одного из ханских стрелогонцов. — Бат вытер руками вспотевшее лицо. — Остальное ты сам знаешь! — И попросил Тенгери слезть с коня и дать ему немного снега. Но Хунто поторопился сделать это за товарища и протянул Бату слепленный им плотный снежок. Десятник улыбнулся ему, обнажив зубы, и проговорил, повернувшись к Тенгери: — Но одного ты знать никак не можешь. Того, что твой отец велел нам передать Чингисхану: «Я служил ему, когда все произносили его имя с почтением и благоговением! Теперь от этого ничего не осталось, кроме страха перед этим именем. Я ненавижу его! Передайте ему это!» Когда мы донесли эти слова до слуха хана, он опустил голову и долго молчал.
Они ехали рядом молча. Солнце сильно пригревало. Небо было по-прежнему темно-синим, и по нему, как прежде, кочевали пушистые белые облака, которые, похоже, хотели закрыть собой находившийся над ними темный мир.
— Не думал я, что ты смолчишь после того, как я так много тебе рассказал, — упрекнул его десятник.
Тенгери повернулся к Бату. Лицо у него было счастливое, но он опять ничего не сказал.
— Ты вроде бы радуешься? С чего бы это? — спросил десятник.
— Твоя правда, Бат!
«Интересно, а сам бы ты не обрадовался, узнав, что твой отец был совсем-совсем не таким, как сотни и сотни тысяч других?» — подумал Тенгери.
— Что же ты молчишь?
Тенгери похлопал по шее свою лошадь, рассмеялся вслух и, не скрывая своей радости, проговорил:
— Ты мне все сказал, Бат, и я очень рад, что ты сказал мне это!
— Не станешь же ты спорить, — устало ответил ему Бат, — что тогда я не мог поступить по-другому? Откуда ты знаешь, а вдруг завтра или еще когда тебе придется сделать то же самое? А много времени спустя встретишь кого-нибудь, кому расскажешь об этом, как я рассказал тебе.
«Со мной ничего похожего не случится», — подумал Тенгери.
— Ты сегодня тоже убил бы их?
Десятник промолчал, словно размышляя, какие последствия может иметь для него ответ на этот вопрос. А что, если за этим вопросом Тенгери кроется какой-то подвох? Эту мысль он все же отбросил: как-никак Тенгери запросто мог убить его даже минувшей ночью. Хотя, если Тенгери не убил его прошлой ночью только потому, что хотел узнать причину бегства своих названых родителей, тогда как?..
— Не хочешь отвечать мне, Бат?
— Я всегда сделаю то, что мне прикажет хан! — Эти слова прозвучали отнюдь не так грозно, как ему хотелось бы. — Ну, не знал я, что это был твой отец, откуда мне было знать…
— Ладно, Бат. Ты открыл мне всю правду, и тебе нечего меня бояться.
— Хунто, дай мне еще снегу!
— Хорошо, Бат.
— Болит все-таки рана! Даже не знаю, что это было: о камень я треснулся или сосулька на меня свалилась?
— Все может быть, Бат!
Много часов подряд ехали они по каменистой горной гряде, по льду и снегу. С тех пор как дорога пошла под уклон, мертвых по пути стало встречаться все меньше и меньше. Да и павших лошадей почти не попадалось. Когда солнце нырнуло в облачное одеяло, Бат сказал:
— Положите меня теперь опять на лошадь!
Они снова укутали его в меховые шубы и крепко привязали ремнями. Лежа на лошади спиной к спине, он долго смотрел на небо, постепенно менявшее свой красный цвет на фиолетовый.
Тенгери, как и утром, вел сбоку и его лошадь. Спустилась ночь, и они устроились на ночлег между обледеневшими глыбами и каменной стеной. Стаскивая десятника, они сразу обратили внимание, что губы его плотно сжаты и выражение лица у него точь-в-точь как у замерзшего воина. Клочья шерсти верхней шубы были в сосульках и позванивали. Своей твердостью тело не уступало камню, на который его положили.
Никто не проронил ни слова.
Утром Тенгери положил на могилу десятника большой тяжелый меч, как того и требовал обычай: острием вниз. Глядя на этот меч и прощаясь с Батом, Тенгери будто слышал слова отца: «Я служил ему, когда все произносили его имя с почтением и благоговением! Теперь от этого ничего не осталось, кроме страха перед этим именем. Я ненавижу его! Передайте ему это!» Потом он вскочил на гнедого и поехал догонять своих.
Глава 17 БИЧ БОЖИЙ
Из смертоносной зимы в горах они явились в цветущую весну долин похожими на звероподобных существ из далекого прошлого. Обвешанные шкурами и разодранными шубами, ехали они на своих лошадях со спутанными гривами и выпирающими ребрами мимо абрикосовых и персиковых садов, мимо людей, которые безропотно стояли на коленях вдоль дороги или прятались в апельсиновых рощах, посчитав появление монголов карой Аллаха за их прегрешения.
Так было в пограничных с Хорезмом деревнях.
Чингисхан приказал войску остановиться и разбить лагерь: предстояло навести порядок в тысячах и подготовиться к решающим битвам. Кроме того, он ожидал появления гонцов от северного и южного крыльев войска, направившихся в обход.
Первый стрелогонец принес весть, что старший сын Чингисхана, Джучи, разбит в Ферганской долине воинами Мухаммеда и обратился в бегство. Значит, Мухаммед ожидал, что монголы вторгнутся в его земли в этом месте. Для Чингисхана это было тяжелым ударом, хотя он не спешил во всем обвинять Джучи, потому что тот, спустившись в долину с донельзя уставшим после перехода войском, никак не рассчитывал, что именно тут его и будет поджидать Мухаммед. Наверное, одному или нескольким сбежавшим в горах изменникам-монголам удалось все-таки предупредить Мухаммеда о близящемся нашествии.
А второй стрелогонец принес добрую весть: по его словам, левое крыло, в которое помимо монголов входили и китайские отряды под предводительством Мухули, еще в середине зимы перешли через перевалы между Памиром и Гиндукушем, не понеся при этом сколько-нибудь заметных потерь, и стоят теперь в нижнем течении Амударьи.
— Значит, примерно через месяц они подойдут к Бухаре? — спросил хан.
— Да! — воскликнул гонец. — Они по-прежнему во всем следуют твоему приказу: «Идите в обход и выходите Мухаммеду в тыл. Дождитесь нас — и тогда уже мы ударим с двух сторон!»
— Это мои слова, гонец! Чтобы ты никогда не забывал, что однажды принес весть, которая согрела мое сердце, дарю тебе этот боевой топор, — сказал хан. — Он украшен жемчужинами, сорванными с наряда китайского Сына Неба!
Не дожидаясь выражения благодарности со стороны гонца, Чингисхан подошел к своим сыновьям Чагутаю и Угедею.
— Отправляйтесь на северо-восток и возьмите Отрар. Сровняйте с землей этот город, в котором расправились с моими караванщиками. А наместника Гаира приведите мне в Бухару живым — к тому времени я ее возьму! Там я залью ему в глотку расплавленное серебро. За то, что он не внял моему слову и не явился ко мне, чтобы я судил его по закону, я залью ему вдобавок жидким серебром глаза и уши.
Тули Чингисхан оставил при себе, а Джебе послал на помощь Джучи. И без промедлений пошел на Бухару. Лошади успели отъесться на зеленых пастбищах, повозки починили, подпруги подшили. Уставшие воины тоже пришли в себя: они не только наедались, но даже обжирались; чем жирнее становилась пища и чем больше удавалось награбить, тем больше они ожесточались и зверели. В маленьких селениях они никакого сопротивления не встречали, никто не осмеливался дать им отпор. Зато предателей и льстецов, готовых указать, где соседи попрятали свое добро, находилось достаточно.
Остаток десятка вел теперь Тенгери. Кроме него воинов осталось четверо: Сориг, Баязах, Тарве и Хунто. Они ехали друг за другом, удивляясь своему новому десятнику, такому немногословному, строгому и непреклонному, совсем непохожему на того Тенгери, каким они его знали в последние недели и месяцы. И действительно, этот Тенгери сильно отличался от прежнего, а особенно от того, каким он был в империи Хин, когда его, совсем недолго пробывшего десятником, лишили этого звания за неблагонадежность. Может быть, воины объясняли себе его поведение так: сейчас он старается превзойти своего предшественника в строгости, чтобы навсегда занять то место, которое Бат занимал до своей смерти! Но Тенгери оставался во всем справедливым, и это воинов с ним примиряло. Саран ему удалось увидеть у стоявших в долине повозок, и он был несказанно рад, что ей удалось пережить ужасный переход через Тянь-Шань. Его так и подмывало помчаться к ней, обнять и целовать, целовать, но он не сделал этого, опасаясь дать хоть малейший повод для подозрения. Саран тоже не бросилась к нему, заметив Тенгери верхом на гнедом под цветущими персиковыми деревьями.
Они ехали совсем медленно, иногда даже шагом, так что запряженные яками повозки почти от них не отставали. Однажды перед ними появился великий Чингисхан, сам Ха-хан! Остановившись в стороне от дороги у миртового перелеска, он сделал смотр своему войску, всем этим тысячам воинов с копьями и пиками, боевыми топорами и арканами, мечами, луками и полными стрел колчанами. Колеса повозок со скрипом перемалывали красноватый песок, а сильных черных яков погоняли женщины и девушки, которые приняли на себя все тяготы похода, чтобы помочь во вражеских землях своим мужчинам, помочь раненым и увечным, похоронить павших и, если придется, самим отомстить за их смерть. Много часов подряд Чингисхан с удовлетворением наблюдал за своим отдохнувшим и как бы даже помолодевшим войском. А потом вместе с Тули и своей свитой поскакал от левого крыла своей конницы к ее острому клину и вскоре исчез из виду, скрытый пеленой пыли, тянувшейся над колоннами.
Прежде чем достигнуть Бухары, монголы вступили в бой под городком Таш. Но стычка была не из трудных, в дело бросили всего несколько тысяч: серьезное сопротивление здесь не ожидалось. А главные силы отдыхали по обе стороны от горной дороги, занимаясь грабежами в окрестных селениях. Все воины из группы Тенгери, кроме Хунто, врывались в маленькие домики и сады и возвращались оттуда с похищенными кувшинами и тарелками искусной чеканки, а кое у кого в руках были вазы и кувшины из стекла. Стекло было удивительно прозрачным, такого им не доводилось видеть никогда в жизни. Они глядели сквозь него на солнце и смеялись, подносили к глазам других и опять смеялись, смеялись без конца. А когда эти сосуды выскальзывали у них из рук и разбивались на множество острых осколков, они хохотали до упаду. В одном из абрикосовых садов они окружили стеклодува, старика с длинной седой бородой, который на их глазах выдувал над огнем огромную пузатую каплю. Она переливалась на солнце радужными красками. Завороженные, как дети, воины не сводили глаз со все увеличивавшейся в размерах капли. В эти мгновения можно было подумать, что они только за тем и пришли в Хорезм, чтобы наблюдать за стеклодувами, выдувающими сосуды. Но когда старик отложил трубку в сторону, один из воинов проткнул стрелой пузатый сосуд, свисавший с нее. При виде их ухмыляющихся лиц ошеломленный старик тихо проговорил:
— Вас не Аллах сюда привел, а дьявол.
Они его слов не поняли, но кто-то с такой силой ударил его в грудь, что старик как подкошенный упал на траву. Выхватив несколько кусков древесного угля из огня, монголы бросили их в открытые окна маленького глинобитного дома. Не успел еще старик прийти в себя и подняться на ноги, как языки огня уже охватили крышу, и в безоблачное небо потянулся дым.
— Справедливо ли то, что они сделали? — спросил Хунто Тенгери.
Тенгери вопросительно посмотрел на Хунто. Он пока не знал, что это за человек, до сих пор им почти не приходилось разговаривать друг с другом, а на Керулене они не были знакомы. «То, что Хунто не врывается в чужие дома, не грабит и не поджигает их, не обязательно означает, что грабежи и поджоги ему противны. Как знать, а вдруг сотник велел ему следить за мной, потому что им с тысячником известно, что я — приемный сын Кара-Чоно?» — подумал Тенгери. И поэтому твердо проговорил:
— Они делают то, что им позволено ханом, Хунто!
Хунто посмотрел на него с недоумением. Похоже, такого ответа он от Тенгери не ожидал.
— Скажи, а тех, кто этим не занимается, хан не наказывает?
«Он хитрец!» — подумал Тенгери и улыбнулся.
— А ты сам как думаешь?
— Конечно, нет! — поспешил с ответом Хунто.
— Вот видишь! — Сидевший на корточках Тенгери встал во весь рост. — Как тебе только в голову пришла такая мысль, а? Разве не все, что хан разрешает, что делает и что повелевает, справедливо? Отвечай, Хунто!
Подумав немного, Хунто тоже встал:
— Мне не по себе, когда я вижу, как они бесчинствуют в домах и садах, десятник!
Бросив на него быстрый взгляд, Тенгери повернулся и пошел к лошадям. «У него честное лицо, — подумал он. — Не станет он здесь что-то вынюхивать и доносить потом сотнику». Тенгери оглянулся: Хунто пил у колодца воду, глядя поверх кувшина в ту сторону, куда шел он. Под ногами у Хунто громко скулил большой мохнатый пес, которому кто-то из шутников монголов отрубил переднюю правую лапу. Хунто налил воды в глубокую глиняную миску и поставил перед псом. Тот приник к ней, стоя на трех лапах, а с обрубка четвертой в песок капала кровь. Хунто прошелся пятерней по его шерсти, и Тенгери снова поймал на себе его взгляд…
Бой в городке тем временем закончился. От Таша осталось одно пожарище, и тяжелые клубы сизого дыма тоскливо поднимались в небо.
Колонны продолжали свой путь по пыльной дороге. Ветер дул с запада, и, проезжая мимо городка, в который они не заглядывали, монголы терли слезящиеся от едкого дыма глаза и кашляли.
Примчавшиеся из Отрара стрелогонцы принесли весть, что город взят в кольцо, а северная его часть вплоть до базарных площадей затоплена: Чагутай с Угедеем с помощью китайских мастеров перекрыли течение одного из рукавов Сырдарьи. Тысячи воинов днем и ночью сносили в одно место камни, построили запруду и повернули поток в сторону.
Чингисхан всех подгонял и подстегивал, не делая различия между днем и ночью. Останавливались очень ненадолго: только на водопой и отдых для лошадей. Этим ему удалось на несколько дней сократить время броска на знаменитый город Бухару. Едва его конница устроила привал и воины разложили первые костры, как хану сообщили, что оба крыла, шедшие в обход, приблизились к городу со стороны Амударьи и ждут теперь приказа властителя.
У города было семь ворот. Хан повелел перекрыть шесть из них, а седьмые оставить как бы без внимания. Пусть враг думает, будто монголы их не заметили. Если враг попадется в эту ловушку, он непременно воспользуется седьмыми воротами — либо для вылазки, либо для бегства. Чингисхан поставил в засаду несколько тысяч всадников, которые должны напасть на ослабленных и спасающихся бегством врагов и перебить их всех до одного.
Хан дал отдохнуть своему войску на окружавших город холмах. Повелел зажечь сотни тысяч костров, чтобы устрашить врага своей мощью и численностью. Потом приказал пускать из пушек «летучий огонь» — обязательно ночью! Он заранее предвкушал, какое воздействие на горожан и защитников Бухары произведет этот огнепад, тысячами змей низвергнувшийся с неба на дома, дворцы, минареты и на самих людей.
— Я бич божий! — повторял он, обращаясь к заряжавшим, переезжая от одного орудия к другому. — Они решат, что это само небо пылает и обрушивается на них! Они будут наказаны за свои грехи!
Обстрел Бухары «летучим огнем» повторяли ночь за ночью. Хан сидел на троне, поджав под себя ноги, и улыбался во весь рот.
Иногда ветер доносил до холмов вопли горожан, охваченных огнем на узких улочках Бухары или заживо погребенных под рухнувшими крышами домов. Некоторые до того обезумели от страха перед монголами, что искали смерти и бросались вниз с высоких стройных минаретов.
В одну из этих ночей куда-то пропал Хунто. Тенгери заметил его отсутствие ранним утром, но ничего не сказал. Тут к нему прибежали встревоженные Сориг и Баязах.
— Лошадь его здесь? — спросил Тенгери.
Те бросились проверять — лошади и след простыл.
— Может быть, он поскакал к сотнику? — предположил Тенгери. «Если он сбежал, я дам ему время уйти подальше», — подумал он. Ему вспомнилось, как Хунто под городком Таш поставил перед трехногим псом миску с водой, как погладил его. Этот поступок показался Тенгери необычным и не совсем понятным: из многих тысяч воинов так не поступил бы никто, даже он сам. Ему тогда пришла в голову мысль, что Хунто из тех людей, которым неприятно видеть страдания других живых существ, даже если это звери или птицы. Но потом он совсем забыл об этом происшествии, а Хунто с тех пор ни разу не сделал попытки поговорить с ним или вызвать на откровенность. Теперь же, вспомнив о нем, Тенгери подумал: «Если Хунто пожалел собаку, у которой кто-то отрубил ногу, то что он должен был переживать в те ночи, когда на Бухару пролился огненный дождь, спаливший не только дома, но и самих горожан? А многие из них даже бросались вниз головой с минаретов!»
— Мог ли он поскакать к сотнику без твоего разрешения? — усомнился Сориг.
— Я совсем забыл! — мгновенно нашелся Тенгери. — Он еще говорил, что сотник ему родня и он должен перед боем что-то такое ему сказать.
— Вот как! — проворчал Сориг и пошел к остальным.
Теперь Тенгери больше не сомневался, что Хунто сбежал, он сожалел лишь о том, что тот выбрал для этого самое неподходящее время — город со всех сторон обложен воинами хана. А со стороны гор подходили новые свежие отряды, которые располагались в селениях и небольших городках, прикрывая главные силы Чингисхана с тыла. «Нет, ему не прорваться», — подумал Тенгери. Теперь он сожалел о том, что не обращал на Хунто внимания и даже оттолкнул его от себя.
Под вечер Сориг с улыбкой спросил Тенгери:
— Не пора ли ему уже вернуться от сотника?
— Еще нет, Сориг!
— Вот это да! — протянул воин, понимающе улыбаясь. — Утром ты не был уверен, что он поскакал к сотнику, а теперь знаешь точно, что ему вернуться еще не пора!
— Да, я знаю это, Сориг!
— И это ты послал его к сотнику? Или разрешил?
— Да, и послал и разрешил.
— А я тебе вот что скажу: он сбежал! — повысил голос Сориг. — И другие так думают. Он ни разу с нами в домах хорезмцев не бывал, дорогих и красивых вещей не хватал, мешок у него был пустой, ни с кем из нас говорить не хотел, а с тобой — да! Мы слышали даже, как вы однажды с ним потихоньку толковали о чем-то важном…
— Ты хоть раз слышал, чтобы он говорил громко или орал?
— Нет, он был тихий, это правда.
— Ну вот! Запомни! К сотнику его послал я!
— Поглядим! — Сориг сплюнул в песок и зашагал прочь.
Когда солнце зашло за городом, Тенгери подумал: «Ну и дела! Для побега он выбрал самое неподходящее время. Но вроде бы ушел. Не то его давно схватили бы и казнили!»
Той ночью они еще много раз видели, как взвиваются в небо, а потом падают на город огненные змеи. Наконец Тенгери сказал своим воинам:
— Ложитесь спать!
— А этот Хунто? — спросил Сориг.
— Он вернется к утру, — отрезал Тенгери и сам лег на теплый песок холма, от которого до Бухары было рукой подать.
В городе с треском обрушивались последние деревянные смотровые вышки.
— Хан потребовал, чтобы они сдали город, — сказал Тарва. — Они отказались. Теперь от него, кроме пепла, ничего не останется!
— Да, кроме пепла — ничего, — повторил Баязах, — а потом и его унесет ветер! И там, где он упадет на землю, люди скажут: видите, монголы совсем близко!
Они поговорили еще о городских стенах и о внутренней крепости с двадцатью двумя воротами и тридцатью восемью каменными башнями. Сориг сказал:
— Хан любит повторять: «Никакие крепостные стены не удержать, если защитники крепости пали духом!» Им перед нами не устоять!
Тенгери лежал несколько в стороне и отмалчивался. У него из головы не шли мысли об этом Хунто, который уже вторую ночь бежит прочь отсюда, гонимый страхом и исполненный мужества одновременно. Втайне он завидовал ему: как это ему удалось скрыться, не обращая на себя никакого внимания и без особой подготовки? Бежал, и все тут: смело, решительно, без колебаний. При этой мысли Тенгери недоверчиво покачал головой: «Настоящий смельчак необдуманно не действует! Нет, даже если Хунто и удалось выйти за пределы кольца осады, бежать куда глаза глядят неразумно. Жизнь драгоценна, а счастье — редкостная удача! Если Хунто удастся скрыться, это будет удачей, каких мало. Нет, мы с Саран выберем для этого какой-нибудь особенный день. Или особенную ночь. Да еще найдем самый подходящий момент — чтобы нас не хватились!»
Снизу, из-за городских стен, доносился треск горящих домов. Хан ввел в дело метательные орудия и мощные катапульты, пускающие пучки заостренных стрел. Но Бухара большой город, и защитникам ее храбрости было не занимать. Они без устали гасили пожары, используя для этого воду из семи искусственных каналов, выкопанных в мирные времена, чтобы в жаркие весенние и летние дни подпитывать фруктовые сады и ягодники.
Тенгери не сводил глаз с багровеющего неба и думал: «Что я скажу Соригу и остальным, когда они меня спросят о Хунто? Если скажу, что послал Хунто к сотнику с какой-то вестью, а он не вернулся и, значит, сбежал, меня заподозрят в сговоре с Хунто. Где же выход?» Тенгери прикидывал так и сяк, напрягал свой мозг и, ничего не придумав, не на шутку испугался: «А ведь вся вина падет на меня! Конечно, меня заподозрят! Сориг или кто другой побегут к сотнику и донесут! Все будут допытываться, почему я молчал целый день и всю ночь? Кто ты такой, Тенгери? Уж не тот ли Тенгери, который… Да, тот самый! Ах, вот он кто!»
Послышался шорох от шагов по песку.
Тенгери прислушался. Чуть поодаль спали Сориг и другие. Храпели они вовсю. На шкурах, которыми они укрылись, играли желто-красные отблески городских пожарищ. За ними тянулись в небо высокие желто-красные кусты с устрашающими терновыми колючками. Тенгери часто приходилось встречать такие кусты на земле Хорезма — от них любая лошадь шарахалась. Но шаги доносились не с этой стороны и не оттуда, где спал соседний десяток, а сзади, из темноты.
Вот он опять, этот скрипучий звук, и хотя кто-то приближался, шаги замедлились — идущий явно чего-то опасался. И вот из темноты появился чей-то силуэт. Хунто?
Но человек настолько пригнулся, что лица не разглядеть.
«Откуда тут взяться Хунто?» — подумал Тенгери.
— Тихо! Это я!
— Хунто!
— Да! Только не поднимай шума! Мне не удалось уйти. Закричишь — я тебя заколю!
— Никакого шума не будет!
— Давай ложись! Я тоже!..
— Хорошо.
Хунто прилег рядом с ним. У Тенгери вдруг возникло такое ощущение, будто кто-то схватил его за горло и душит. Как могло случиться, что Хунто сбежал, вернулся, а этого никто не заметил и его не задержали?
— Думаю, ты не дошел до того, чтобы донести сотнику о моем исчезновении?
— Конечно, нет, — прошептал Тенгери и сам испугался этих слов. «Как он мог предположить, что я буду держать это в тайне? Неужели я был неосторожен? Так неосторожен, что поставил под удар и Саран, и себя?»
— Я знал: ты не доносчик! — тихо проговорил Хунто и, положив руки под голову, перевернулся на спину.
— Знал?..
— Да!
— Ты был уверен во мне, хотя тогда, под Ташем, мы с тобой общего языка не нашли?
— Я и тогда это знал! — Хунто тихонько рассмеялся, прикрывая рот рукой. — Тебе сейчас нечего бояться: я, положим, ушел, но ведь вернулся! Сотник ничего не знает и вряд ли узнает. И пока мы будем доверять друг другу, наши головы не упадут с плеч!
— Так почему ты был уверен?
— В чем?
— Что я не донесу на тебя сотнику?
— A-а, ты об этом… Ладно! Припоминаешь такие слова: «Я служил ему, когда все произносили его имя…»?
— Хватит!
— Я подслушал ваш с Батом разговор и знаю, кто ты на самом деле. Не тебе доносить на меня хану! Бежим завтра вместе? Завтра хан пойдет на приступ, и им будет не до нас!
— Хунто! Ты подслушал, как мы говорили с Батом…
— Завтра, договорились?
— Сегодня ты совсем не похож на того Хунто, из-под Таша. Твой голос, Хунто, он звучит как-то…
— При чем тут мой голос! — обидчиво проговорил тот, приподнявшись немного. — Бежим завтра или нет? — прошептал он.
Тенгери не ответил, продолжая вглядываться в лицо Хунто. Что-то в этом лице не совпадало с тем, что Тенгери думал об этом человеке еще сегодня днем.
— Да или нет? — настаивал Хунто.
— Послушай! Ты вроде бы сказал, — осторожно, обдумывая каждое слово, чтобы не допустить ошибки, произнес Тенгери, — что хан завтра идет на приступ?
— Допустим. И что с того?.. — Хунто как будто споткнулся, но сразу нашелся: — По всему видно, что да. Я так думаю…
— Нет, ты сказал: «Завтра хан пойдет на приступ!» Откуда ты знаешь? — Тенгери рывком сел с ним рядом.
— «Откуда, откуда»! По дороге всякое услышишь.
— Это тебе-то, беглецу, удалось услышать случайно? Может быть, от одного из тысячников? Только им известно, на какой день назначен штурм. Выходит, задумав бежать из войска, ты сумел переговорить с тысячником?
Тенгери рассмеялся. Мгновение спустя Хунто вскочил, но Тенгери, крепко обхватив его ноги, рванул предателя на себя, и Хунто упал на песок. Он извивался, как дикая кошка, но Тенгери сжал его в железных объятиях и приставил к горлу лезвие кинжала. И тот сразу обмяк.
— Если у тебя есть что сказать мне, поторапливайся! — прошептал Тенгери.
— Тебе тоже не жить, — выдавил из себя Хунто. — Им все известно о том, что…
Тенгери вонзил в него кинжал.
— Сориг! — вскричал он. — Тарва!
И когда Сориг, Тарва и остальные подбежали, Тенгери, делая вид, будто он во власти неуемной ярости и ненависти, еще несколько раз ударил Хунто кинжалом, катаясь с ним по песку, хотя отлично знал, что тот уже мертв.
— Кто это под тобой? — громко спросил Сориг. — Перс? Турок?
— Хунто!
— Хунто? — в один голос воскликнули воины, не веря ушам своим.
— Да! Я долго ворочался с боку на бок, не мог заснуть, — тяжело дыша и откашливаясь, прохрипел Тенгери. — Комары! И вдруг я вижу над собой лицо Хунто. Сперва я подумал, будто он мне приснился. Я не успел даже понять толком, во сне это или наяву, как Хунто тихонько сказал мне: «Ни у какого сотника я не был…
— Вот видишь! — перебил его Сориг.
— …я хотел бежать из войска…
— Разве я не предупреждал? — снова перебил Сориг.
— …но у меня ничего не получилось».
— Он тебе во всем признался? — вдруг усомнился Сориг.
— Да! И предложил мне бежать вместе с ним! Вместе, мол, куда легче…
— И тогда ты именем хана заколол его, как бешеного пса? — договорил за него Сориг.
— Не сразу! Когда я сказал, что об этих его словах узнает сотник, он выхватил нож. И тогда…
— И тогда ты нанес удар первым!
— Да! И убил его именем нашего великого хана!
Они стояли вокруг Тенгери и обдумывали его слова.
Похоже, они всех убедили. А Тенгери думал: «Вот лежишь ты на песке, не дышишь и истекаешь кровью. Сколько дней ты лежал вот так на песке, выслеживая меня и подслушивая. По крайней мере, дважды ты побывал у тысячника: в первый раз — когда подслушал наш с Батом разговор. Под Ташем тебе захотелось втереться ко мне в доверие, а потом вызвать на откровенность своими высказываниями о бесчинствах слуг и воинов хана. Я едва не попался в эту ловушку. Второй раз ты был у тысячника то ли вчера ночью, то ли сегодня днем. От него ты и узнал, когда мы пойдем на приступ. И тогда же тысячник поручил тебе подбить меня на бегство, чтобы испытать сына Кара-Чоно!»
— Сориг! — позвал Тенгери.
— Что, десятник?
— Скачи во весь опор к нашему тысячнику и скажи ему: сегодня ночью десятник Тенгери именем великого Ха-хана заколол воина Хунто, когда тот подбивал десятника вместе с ним бежать из войска. Покажи ему голову Хунто!
— Это я мигом! — живо откликнулся Сориг. Повернувшись к Тарве, сказал ему: — Приведи моего жеребца, я пока займусь мертвецом!
А Тенгери подумал: «То-то тысячник обрадуется этой новости!» При этом он не спускал глаз с Сорига, который как раз заворачивал в черный платок голову Хунто, им самим и отрезанную.
— Сориг!
— Да, десятник?
— Назначаю тебя моим помощником! — бодро проговорил Тенгери. — Понимаешь почему?
Расплывшись в улыбке, Сориг вскочил в седло.
— Угадать нетрудно, десятник: мое подозрение, что Хунто не поехал к нашему сотнику, а предал нас, оправдалось!
— Да, ты парень не промах! — кивнул Тенгери.
«Знал бы ты, дурачина, как все было на самом деле, ты первым убил бы меня именем хана».
— Ты не только храбрец, но и хитрец, — добавил Тенгери.
— А ты, десятник, честный и справедливый, любой из нас подтвердит!
— Ладно уж, Сориг. Я уверен, лучшего помощника, чем ты, мне не найти.
— Положись на меня, десятник!
— Теперь в путь!
Тенгери глядел ему вслед и думал: «Лучшего помощника, чем он, мне и впрямь сейчас не найти. Он будет нахваливать меня и говорить о том, какой я справедливый. Он вообще будет на моей стороне, потому что это я первым хоть сколько-то возвысил его! В моей верности и преданности хану он ни капли не сомневается: ведь это именем великого хана, именем нашего великого властителя, я убил Хунто». Подойдя ближе к Тарве и Баязаху, он похлопал каждого из них по плечу, приговаривая:
— Вот с кого вам надо брать пример!
— Да, десятник, — закивали оба, подавленные прозорливостью Сорига, который днем уже знал все, что подтвердилось только ночью.
Когда под покровом предутренних сумерек тысяча за тысячей начали медленно стекать с холмов и двигаться по направлению к городским воротам, Тенгери убедился, что они пойдут на решительный приступ и Хунто действительно успел побывать у тысячника. Вскоре прозвучал сигнал трубы и на их холме. Тенгери мигом оседлал своего гнедого. Поднимать по тревоге десяток особой нужды не было, от него на месте оставались только Баязах да Тарва. Тенгери улыбался, представляя себе, как исполнительный Сориг, осчастливленный внезапным повышением, мечется в поисках тысячника по всему двинувшемуся на Бухару войску. «Мы с тобой, Сориг, больше не увидимся, — подумал Тенгери. — После того как ты предъявишь тысячнику завернутую в черный платок голову Хунто, тебе будет так же трудно отыскать нас в огромном городе, как опавший темно-багряный лист клена среди сотен тысяч точно таких же опавших листьев».
Оглянувшись, Тенгери посмотрел туда, где были составлены повозки. Увидел, как женщины и девушки машут вслед уходящим воинам. Саран среди них он, конечно, не разглядел: восходящее солнце было совсем тусклым. Но скоро этот раскаленный красный шар повиснет над пеленой пыли, поднятой войском. Таранные машины уже подкатывались к воротам. Отовсюду доносились крики, щелканье бичей и плетей, хриплые гортанные приказы. «Летучий огонь» по-прежнему падал на город, а тяжелые метательные орудия обрушивали на него большие камни. Мощные катапульты посылали один за другим пучки стрел с острыми железными наконечниками на улицы, переулки и площади Бухары. Но стоило только первым воротам с треском разлететься и первым группам всадников ворваться в город, как наблюдатели всех тысяч подняли синие флажки, давая сигнал воинам, заряжавшим метательные орудия, катапульты и другие орудия, немедленно прекратить огонь.
Примерно к полудню бой в городе продолжался только за чертой крепостных стен: большая часть воинов — персов и турок, защищавших Бухару, — бежали ночью через «незамеченные» ворота, и на расстоянии дневного перехода от города монголы наголову разбили и рассеяли их.
Тенгери, находившийся в последних рядах своей тысячи, попал вместе с Тарвой и Баязахом в город позже многих других. На узких улицах, в переулках и на базарных площадях вповалку валялось множество убитых воинов и лошадей — своих и чужих. Некоторых мирных жителей стрела или меч поразили прямо на молитвенных ковриках, так что и после смерти их лица были обращены в сторону Мекки. Многие монгольские воины забавлялись тем, что заставляли почтенных горожан-купцов, ученых мужей, лиц духовного звания, мастеровых и ремесленников прислуживать себе как рабов. Им было велено мыть и поить лошадей, но кормить их не как обычно, а используя вместо яслей полки, на которых у грамотных стояли в домах священные книги, — в них-то и насыпалось зерно. И лошади оскорбляли своим прикосновением дорогие сердцу каждого мусульманина предметы, связанные с отправлением культа. Муэдзинов заставляли прямо посреди мечетей забивать для воинов баранов и коз, а имамов — резать мясо на длинные узкие полоски. А тех кади и мулл, которые отказывались осквернять этим свои мечети, монголы за бороды стаскивали по каменным ступеням, волокли их к городским каналам, сбрасывали в воду и, не давая выплыть, орали:
— Ну, где ваш Аллах? Что же он не научил вас плавать? Что же он вас не спасает?
Старики, жавшиеся к стенам уцелевших домов, вопрошали друг друга и вслух, и взглядами:
— Что это значит? Что это за звери? Кто их наслал на нас? Неужели Аллах решил покарать своих верных слуг? За какие грехи?
Хотя внутренняя крепость еще не пала, Чингисхан с полудня объезжал город. Тенгери видел, как он поднимался на белом жеребце по главной улице Бухары в сопровождении Тули и тысячи телохранителей. Злобные и подозрительные, они прогоняли прочь с улицы немногих любопытствующих бухарцев, тыкали длинными копьями в цветущие кусты, обрамлявшие улицу, разбивали окна домов, когда вблизи от них проезжал хан, и убивали собак, метавшихся под ногами лошадей свиты.
— Вот это и есть дворец «Тени Аллаха» проклятого Мухаммеда? — спросил Чингисхан, указывая на самое высокое строение Бухары.
Сверкающее белизной, оно стояло во всем своем великолепии под заходившим уже солнцем.
— Это дом Аллаха, а не дом Мухаммеда! — объяснил ему городской старейшина.
Чингисхан некоторое время с удивлением разглядывал столб из светло-красного камня, подпиравший мощный купол, потом покачал головой и начал подниматься верхом на белом скакуне по ступеням молельного дома и через выложенную бирюзовой плиткой арку въехал прямо в главную мечеть. За ним последовало множество народа: и свита хана, и его воины, а среди них и Тенгери с Тарвой и Баязахом. В мечети оказались персы, туркмены, таджики и турки, все уважаемые жители Бухары, которых еще совсем недавно бесстыдно унижали воины властителя, — их позвал сам хан, хотя его телохранители позаботились о том, чтобы ни один из бухарцев не оказался вблизи Чингисхана. А тот остановился посреди мечети на толстых пестрых коврах и оглядывал с высоты ее внутреннее убранство.
— Что это такое? — Вытянув правую руку, Чингисхан указал на позолоченное возвышение рядом с одной из белых колонн.
— Это мимбар. Отсюда мулла читает нам молитвы, — поспешил объяснить ему один из священнослужителей.
Чингисхан улыбнулся Тули, с величественным видом опустился с седла на ковер и приблизился к белой колонне. В мечети стало тихо-тихо. Поскольку ступеньки к мимбару находились за колонной, никто не видел, как Чингисхан поднимался, но все угадывали это по скрипящим звукам, раздававшимся все выше и выше. И вот он предстал перед всеми, великий и неодолимый властитель всех монголов. Он по пояс возвышался над позолоченной решеткой.
Подозвав к себе толмача, хан повелел ему:
— Объяви всем жителям этого города: «Я — Бич Божий!»
Персы, туркмены, турки и таджики повалились на колени. Те из них, кого уже успели избить или унизить подданные хана, надеялись хоть из его собственных уст услышать нечто более утешительное.
— Небо отдало вас в мои руки, — продолжал хан, — чтобы я покарал вас за содеянные вами прегрешения. На всех вас страшный грех!
«Какое он чудовище», — подумал Тенгери, вглядываясь в объятые ужасом лица жителей Бухары, в их остекленевшие от страха и беспомощности глаза.
— А самые великие грешники из вас — это ваши правители и их приближенные! — перешел на крик хан. — Они убили моих караванщиков, вы же терпеливо сносили все тягчайшие преступления этих убийц, Мухаммеда и Гаира!
«Когда-нибудь придет время, когда нашему народу бросят обвинение в том, что мы молча сносили все, что делали с нами наши первые люди. Так будет через сто лет. Или через пятьсот. Но и тогда никто не сумеет прочувствовать всю тяжесть обрушившегося на нас горя. Отец мой, ты оставил его, когда он перестал быть справедливым и стал жестоким. Мы с Саран оставляем его, когда несправедливость стала для него законом, а жестокость превращена в обязанность и доблесть его воинов». Тенгери слышал еще, как хан сказал:
— Забудьте о том, что осталось в ваших домах, с сегодняшнего дня все это принадлежит нам. — И вдруг он опять перешел на крик: — Но то, что вы спрятали или закопали в землю, — немедленно сносите к мечети!
Большинство бухарцев сломя голову бросились вон из мечети, торопясь исполнить его повеление.
Потом хан верхом на лошади выехал из мечети на площадь. Посреди нее разложили огромный костер, вокруг которого стояли и воины хана, и жители Бухары. Шеренги телохранителей расступились перед Чингисханом, и он остановил свою лошадь в нескольких шагах от костра.
— Приведите его! — страшным голосом выкрикнул хан.
Телохранители приволокли закованного в цепи плененного наместника Отрара Гаира и, связанного по рукам и ногам, поставили у самого костра на колени.
Солнце уже закатилось, и лица телохранителей, воинов и жителей Бухары освещали только отблески костра.
Кто-то снял с углей высокий сосуд.
Чингисхан подал знак.
Двое телохранителей рванули Гаира за волосы, запрокинув его голову назад. А тот, кто снял с углей сосуд, налил в уши, глаза и в глотку наместника расплавленное серебро.
Кто-то в толпе испустил истошный крик.
И на этот крик еще более страшным криком откликнулись многие. Воины принялись избивать всех подряд без разбора. Тысячу семьсот пятьдесят лет назад недалеко от этого места царь массагетов Тонарий приказал залить в глотку убитого Кира горячее золото. Но то было тысячу семьсот пятьдесят лет назад! И Кир был мертв, а Гаир был жив. Нет, теперь он тоже был мертв.
В тот миг, когда телохранитель поднял сосуд с расплавленным серебром, Тенгери закрыл глаза и опустил голову. Потом он поскакал вместе с Тарвой и Баязахом к большому зернохранилищу, которое им велено было охранять.
— Держите ворота на запоре и никого без приказа сотника не подпускайте!
— Да, десятник!
— А если увидите Сорига, передайте ему, чтобы непременно дождался меня. До моего возвращения он будет за старшего!
— Да, десятник!
Потом Тенгери неспешно проехал через весь город, минуя только его главную площадь, где у затухающего уже костра лежал мертвый Гаир. По всем улицам с криком и гиканьем носились верховые монголы, сгоняя всех бухарцев в толпы, которые гнали потом перед собой воины, продолжавшие штурм внутренней крепости. Тех, кто отказывался идти против своего народа, убивали, затаптывали лошадьми или обезглавливали на месте. А тех, кто соглашался идти против своего народа, первыми убивали, затаптывали или обезглавливали делавшие вылазки храбрые защитники Бухары.
Выехав за городские ворота, Тенгери поднялся на гнедом на тот самый холм, с которого его сотня спускалась сегодня сумеречным утром. Навстречу ему попадались гонцы, воины, погонщики скота, торговцы и женщины, торопившиеся попасть в город, потому что опасались остаться с пустыми руками. В ту же сторону катило и множество повозок, а за ними вышагивали верблюды, на которых восседали придворные хана, его писцы и хранители казны. А сбоку от них ковыляли слуги и прочая челядь. Всем им не терпелось поскорее попасть в богатый город.
Тенгери быстро нашел свою Саран.
— Пора, Газель, — шепнул он ей, шагом проезжая мимо.
Она безмолвно последовала за ним.
С холма они спустились, не подгоняя лошадей. Ехали медленно, даже очень медленно. Тенгери сказал:
— Луна восходит, Газель! Наша луна!
Она была до того испугана, что не нашлась с ответом.
— Ничего не бойся, — успокаивал ее Тенгери. — Время самое подходящее. Кто нас хватится сейчас, когда у всех горят руки побольше награбить? Ночью все будут праздновать победу и пить финиковое вино!
— Хорошо, хорошо, Черный, — шепотом ответила она.
Некоторое время до их слуха доносились из-за городских стен стоны и вопли раненых, лошадиный топот, рев пьяных воинов, визг и мольбы женщин Бухары, на которых набрасывались победители.
На темнеющем небе оставались еще багровые полосы.
— Луна здесь кажется такой холодной, Черный!
— Это тебе только кажется, Газель!
Вблизи от Амударьи оба придержали лошадей и в последний раз оглянулись.
— Вот видишь, — негромко проговорил Тенгери, — переберемся здесь через реку, проедем чуть дальше и окажемся там, где их не было и куда они не пойдут.
— А потом, Черный?
— Все дальше и дальше, Газель!
Потом они переоделись в персидские одежды и помчались сквозь тьму и ночь навстречу солнцу. Долго они скакали.
А семьсот лет спустя ученые нашли в густом лесу южнее Каспийского моря большой камень с высеченным на нем изображением нежного женского лица. Под ним было выбито по-уйгурски: «Саран».
Хронология жизни и царствования Чингисхана
Между 1155–1162 гг.
Рождение у вождя монголов Есугея сына Темучина (Чингисхана).
Около 1170 г.
Смерть Есугея. Распад объединения племен монголов.
Около 1175 г.
Начало борьбы Темучина за наследство отца.
1175–1206 гг.
Практически непрерывные войны Темучина с другими племенами: меркитами, кераитами, найманами, татарами, за объединение всех кочевых племен Монгольской степи под своей властью.
1206 г.
Провозглашение Темучина на собрании вождей племен Ха-ханом (Великим ханом) с новым именем Чингисхан («Истинный властитель»).
1208 г.
Начало войны с китайскими татарами и с государством тангутов Си-Ся.
1209 г.
Начало войны с китайской империей Цзинь.
1209–1215 гг.
Разгром и завоевание государства Цзинь.
Взятие полководцами Чингисхана Йенпина (Пекина).
1214 г.
Возвращение в Монголию Чингисхана.
1216–1219 гг.
Войны с кара-киданями. Дипломатические переговоры с шахом Хорезма.
1219 г.
Начало похода из Каракорума на Хорезм.
1219–1223 гг.
Переход через Тянь-Шань. Война в Средней Азии. Взятие Бухары, Самарканда и других городов.
1221–1223 гг.
Поход «летучих отрядов» Джучи и Субедей-багатура. Вторжение в Грузию. Разгром аланов, половцев.
1223 г.
Битва на Калке. Поражение русских дружин.
1224 г.
Сражения в Волжской Булгарии и возвращение отрядов Джучи и Субедея в Среднюю Азию.
1227 г.
Возвращение в Монголию. Смерть Чингисхана в пути.
Комментарии
1
КУРТ ДАВИД — известный немецкий писатель, родился в 1924 году в Райхенау. Начал писать в пятидесятые годы и обратил на себя внимание читателей первым же своим романом «Совращенные» (1956), своеобразным итогом расчетов целого поколения молодых немцев с недавним фашистским прошлым. Одна за другой выходят его повести «Письма Господу Богу», «Михаэль и его Черный Ангел» и «Прорыв в никуда», отмеченные тонким психологизмом и поэтическим восприятием действительности. Он не без успеха пробует себя и в других жанрах: в юмористических рассказах и повестях для детей и юношества, в приключенческой литературе.
Особую популярность принесла ему историческая дилогия о Чингисхане. Оба романа — «Черный Волк» и «Тенгери, сын Черного Волка» много раз переиздавались в Германии, переведены на другие языки.
Курт Давид говорил: «При написании этой книги я пользовался не только всеми доступными мне историческими материалами, принадлежащими перу европейских авторов, писавших об империи Чингисхана, но и самыми многообразными монгольскими источниками, ибо я исколесил эту страну от голубого Керулена до Алтайских гор, и от пустыни Гоби до северных лесов».
Текст печатается по изданиям: David Kurt. Der Schwarze Wolf. Neues Leben, Berlin, 1966. David Kurt. Tenggeri. Sohn des Schwarzen Wolfs. Neues. Leben, Berlin, 1968.
(обратно)2
Тайчиуты — монгольское племя, к которому принадлежал и Темучин. После смерти вождя Есугея многие роды не захотели подчиняться малолетнему наследнику Темучину, отделились от племени, объединившись вокруг нового вождя — Таргутая, и даже воевали с Темучином.
(обратно)3
…из Поднебесной. — Так в течение долгого времени называли императорский Китай.
(обратно)4
Имена братьев Темучина в романе не совпадают с именами, приводимыми различными историческими источниками. Курт Давид писал художественный роман и имел право на вымысел и отклонение от некоторых исторических фактов. Кроме того, у ученых-историков существуют расхождения не только по этому, но и по другим, более значительным вопросам.
(обратно)5
…анда Джамуха. — Темучин, по одному из степных обычаев, побратался в детстве с Джамухой, сыном вождя племени джиджиратов. После смерти отца Джамуха побратался со старшим ханом кераитов Тогрулом, у которого искал поддержку. По другой версии, Джамуху после смерти отца усыновил хан кераитов Тогрул.
(обратно)6
…посольство из царства Хин. — Хин, или Цзинь, — государство, созданное чжурчженями в XII веке на территории Северного Китая. Чжурчжени — племена тунгусского происхождения, заселяли восточную часть Маньчжурии. В XII веке отвоевали Северный Китай до реки Хуанхэ (Желтой реки) у династии Сун и киданей, разгромивших государство Ляо.
(обратно)7
Год Кур — 1201 год.
(обратно)8
…сделал Хулан своей женой. — В данном случае Хулан — одна из многочисленных младших жен-наложниц Чингисхана. Борта же навсегда осталась его главной супругой.
(обратно)9
Год Тигра — 1206 год.
(обратно)10
Ха-хан — властитель всех властителей.
(обратно)11
Ясса — свод законов и установлений, введенный Чингисханом.
(обратно)12
…страна тангутов, и зовется она Хси-Хсия, — Тангуты — народ тибето-бирманской группы, в X веке создавший свое государство Си-Ся (Хси-Хсия) на севере Китая. После разгрома монголами ассимилировались.
(обратно)13
…простирается империя Кара-Хитан. — Кара-Хитан, или Кара-Кидан, — государство, созданное племенами киданей в Средней Азии.
Кидани — племена монгольской группы. В X веке образовали на территории Северного Китая (до реки Хуанхэ) государство Ляо. Оно просуществовало до 1125 года. Уничтожено чжурчженями, создавшими свое государство Цзинь. Остатки племен киданей ушли в Среднюю Азию, где и создали государство кара-киданей. Даже шахи Хорезма платили им дань. Уничтожено монголами после долгой разрушительной войны.
(обратно)14
…высокая стена. — Имеется в виду Великая Китайская стена, сооружаемая китайцами в течение многих лет для защиты империи от набегов степных кочевников.
(обратно)15
Йенпин — современный Пекин.
(обратно)16
Мандарин — императорский чиновник.
(обратно)17
Ом мани падми гум — первая строка буддийской молитвы, дословно переводится так: о ты, восседающий на лотосе.
(обратно)18
Золотая Крыша — дворцовая юрта властителя.
(обратно)19
Аслан — лев (монг.).
(обратно)20
…на севере правит император династии Хин (Цзинь), а на юге — император династии Сун. — После завоевания Северного Китая чжурчженями они создали свое государство Цзинь, просуществовавшее с 1115 года по 1234 год. Сун — императорская династия, существовала с 960 по 1279 год. После завоевания чжурчженями Северного Китая под властью Сунской династии остался Центральный и Южный Китай.
(обратно)21
Тенгери — дословно — «небо» (монг.).
(обратно)22
Праздник Нового года — по буддийскому календарю приходится на дни между 1 и 15 февраля.
(обратно)23
…учение Дао — древнее китайское религиозно-мистическое учение. Его основатель — Лао Цзы (IV в. до Р.Х.).
(обратно)24
Неркехе — котловина для охоты.
(обратно)25
Саран — луна (монг.).
(обратно)26
Тваштар — в древнеиндийской мифологии бог-демиург, творец всего на земле.
(обратно)27
…отрогов Небесных гор — горы Тянь-Шань.
(обратно)
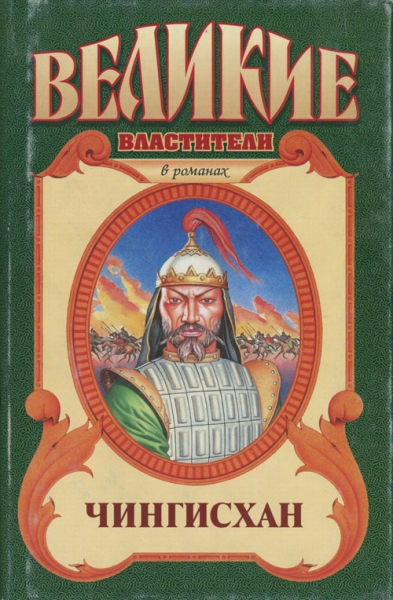


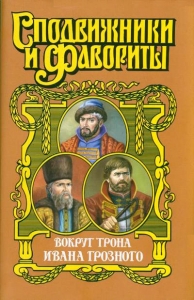


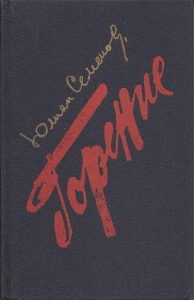
Комментарии к книге «Чингисхан. Черный Волк. Тенгери, сын Черного Волка», Курт Давид
Всего 0 комментариев