Дмитрий Барчук Сибирская трагедия
© Д. В. Барчук, 2010
© ООО «Печатная мануфактура», макет, 2010
* * *
Эта книга не состоялась бы без помощи доктора исторических наук, профессора Николая Семёновича Ларькова, кандидата исторических наук Евгении Александровны Казаковой и, конечно же, моего литературного редактора, правнучки известного сибирского областника А. В. Адрианова Нины Александровны Амельянчик, любезно предоставившей мне материалы из своего семейного архива. И еще многих других людей, помогавших мне в этом историческом исследовании.
Огромное им спасибо!
От автора
История – это правда победителей. Мое поколение с «Букваря» учили, что нам посчастливилось жить в самой передовой стране мира, стране победившего социализма. (А северные корейцы до сих пор думают так!) И насколько было тяжело в зрелом возрасте переосмысливать обман. Красная правда оказалась жесткой и безжалостной. Террор, репрессии, ГУЛАГ…
Взамен нам предложили отредактированную белую правду. Адмиралу Колчаку, несостоявшемуся реставратору империи, теперь ставят памятники, выходят фильмы о мученике за Россию, великую и неделимую. Новое время – старые песни. Словно машину времени включили вспять. Может быть, в Российской империи и впрямь жилось так сладко, что надо вернуться туда? А как же «История города Глупова» или «Мертвые души»? Выдумки? Но почему тогда произошла революция?
Сибирь – вообще тема особая. Страна ссылки и каторги, лишенная права на земское самоуправление… Едва обретя независимость, бывшая колония вдруг бросилась спасать метрополию от гибели и вместе с ней попала еще в большую кабалу. Загадочная русская душа! Вряд ли история еще знает примеры подобного самопожертвования.
Но когда на очередном этапе российской Гражданской войны победили белые, Сибирь снова оказалась обманутой центром.
Этот роман не историчен. И хотя он в своей прошлой части максимально приближен к реалиям, это – лишь сибирский провинциальный взгляд на драматические события первой четверти XX века. Это точка зрения проигравших сибирских областников, чьи идеи похоронены под спудом забвения, а потому – не история.
P.S. Все современные персонажи выдуманы мной. Любое сходство – случайно. Но герои прошлого, за исключением главных, реальные исторические лица. Правда, к некоторым я не смог скрыть своего личного отношения, и пришлось изменить их фамилии, но о прототипах можно узнать в примечаниях. Описанные события для меня самого стали открытием. Им я хочу поделиться с читателями.
Пролог
Сибирским областникам, патриотам и мечтателям, посвящается
«Патриотам Сибири[1]
Неспособность русского правительства управлять подвластными ему народами признана в настоящее время всеми здравомыслящими и честными людьми России. День ото дня ненависть и недовольство властью усиливаются.
Повсюду организуются оппозиционные партии, и области Европейской России живут накануне революции.
Сибирь более чем прочие части Империи прочувствовала всю тяжесть монархического гнета, всю силу притеснений и оскорблений, наносимых народу ее самовластными правителями. С самого начала наша страна, будучи заселена свободными людьми, была беззаконно захвачена руками жадных Московских царей и самовольно присвоена ими вместе с народом. В продолжение трех столетий в нее посылались воеводы и губернаторы, которые обирали, грабили, пытали, мучили и убивали… Вся история Сибири ознаменована страшными насилиями и злодействами Царского чиновничества и политическими и экономическими стеснениями. Присвоение себе земель, разорение инородцев, сбор податей на содержание чиновников, царских любовниц и толпы шпионов, кабальная зависимость целых сословий, наводнение страны ссыльными преступниками, стеснение торговли, создание частных и казенных монополий… Вот чем ознаменовало свое управление в Сибири русское правительство!!!..
Сибири менее всех областей следует надеяться на русское правительство и его реформы. Находясь вдали от управляемого народа, оно не может знать его нужды и заботиться о них. Его чиновники будут всегда злоупотреблять властью как люди, чуждые народу. Интересы Сибири никогда не соединятся с интересами России, как страны с другими условиями и в другом положении, нежели Россия. Особенное географическое положение, особенная территория, особенная производительность, особенные экономические интересы, особенные соседние страны, а вследствие этого потребность особенной политики – все это требует самостоятельности Сибири, и она должна отделиться от России во имя блага своего народа, создавшего свое государство на началах народного самоуправления. Демократический состав общества особенно благоприятствует Сибири создать республику, состоящую из штатов, подобно Америке…
…мы развернем и поднимем знамя борьбы за независимую и свободную Сибирь и, сильные верой в свою лучшую судьбу, поведем народ к великому дню нашего освобождения. Для этого мы призываем всех сибиряков – от Урала до Восточного океана – братски соединиться в одну семью и вместе добиваться свободы».
Пожелтевшую от времени бумагу я извлек из потертой картонной папки с надписью «О независимости Сибири…», разбирая завалы в письменном столе Григория Николаевича.
Это было весной 1913 года. В ту пору Потанин усердно работал над своими «Воспоминаниями», а я их стенографировал. Злые языки болтали, что он выделял меня из всех своих секретарей из‑за землячества. Но это было не так. Я был для него скорее собратом по несчастью, чем любимчиком.
– Славный у нас с вами дуэт, Пётр Афанасьевич: слепой да немой! Что два калеки напишут – ума не приложу, – шутил он.
Прокламация меня шокировала. Старик дремал рядом в старом кресле. Я сгорал от нетерпения услышать его комментарий к этому историческому, на мой взгляд, документу и разбудил его. Он встрепенулся и спросонья долго искал на столике свои очки. Наконец нашел, а прочитав бумагу, безразлично отбросил ее на стол.
– Не стоило меня будить из‑за такого пустяка.
Я недоумевал и продолжал растерянно стоять перед ним в ожидании объяснений.
Потанин понял, что я не отстану, и нехотя пробурчал:
– Из‑за этой глупости я попал на каторгу. Но в «Воспоминания» ее не включу. Это не я писал.
Я продолжал стоять.
– Автор этой листовки – один иркутский купец. Карбонарий по духу. Для меня сибирское областничество – прежде всего культурный сепаратизм. А подполье я вообще не люблю, ведь оно крадет у бедной Сибири ее лучшие умы…
Жаклин заметила, что родственник прочел предисловие.
– Здесь еще много интересного. Почитай на досуге. Я думаю, что это и есть твое главное наследство. Наше наследство, – уточнила она и вышла из кабинета, оставив Коршунова наедине с прошлым.
Книга первая Царица Азии
…Вместо несчастной, слышавшей только звон цепей и проклятия ссыльных, мы рисовали ее населенною, свободною, жизнерадостною и ликующею… Подобно Америке и Австралии, перечисляли неисчислимые ее богатства, рисовали ее в будущем видным мировым рынком, царицей Азии…
Николай Ядринцев[2]Сибирь есть страна Дон-Кихотов.
Михаил Сперанский[3]Глава 1. Нежданное наследство
Неделя…
Из всех календарных единиц именно семидневка производила на Сергея Коршунова особое, даже в некоторой степени пугающее впечатление.
В России среднестатистический мужчина живет всего 59 лет, а в Сибири и того меньше. Мало, но что поделаешь. Эта цифра давно растиражирована газетами. Народ сперва ужасался, а потом ничего – свыкся. И когда кто-нибудь из друзей, знакомых или просто известных людей уходил раньше, то пережившие его невольно примеривали на себя остаток лет, неизрасходованный почившим. И где-то в глубине души шевелилась надежда: а вдруг на мою долю выпадет счастливый билет? И вопреки безжалостной статистике именно я доскриплю, доковыляю, доползу до пенсии и почтенной старости. Когда все намеченные цели достигнуты, дети прочно устроены в жизни, внуки сами заводят детей и чувствуется, что жизнь прожита не зря, цепь поколений не распалась, а напротив – корни разрослись и пустили новые молодые побеги, тогда, наверное, и смерть не так страшна и даже, может быть, в некоторой степени естественна: пожил сам – дай пожить другим.
«Но мне, пожалуй, такая перспектива не грозит, – трезво оценил свое житье-бытье Коршунов. – В лучшем случае – среднестатистический показатель.
Хотя какая, к чертям собачьим, середина! – выругался он про себя. – С такой работой загнешься гораздо раньше. Полтинник бы разменять… Сына в университет пристроить… И на том можно будет сказать судьбе спасибо».
А в месяцах-то 59 лет выглядят солиднее – целых 708. Месяц – это много. Его как-то успеваешь отследить. Он может надоесть. Каждый месяц привносит в жизнь его семьи нечто новое. Какой-нибудь праздник или день рождения. Поэтому запоминается.
Январь – Новый год и Рождество. Елка, шампанское, звон курантов, пьянка, сочельник, обжорство и снова пьянка. Февраль – День защитника Отечества. Жена ему подарит традиционную дорогую авторучку «Паркер» или «Ватермэн», которую он вскоре где-нибудь забудет. А на работе коллеги женского пола накроют большой стол, и он придет домой под утро, пьяный и пахнущий чужими духами. Жена с ним долго не будет разговаривать, и какое-то время спать ему придется отдельно, на старом диване в прихожей. Март – Международный женский день. Он подарит жене цветы, а они через два дня завянут. Зато он помирится. А с банкета опять придет под утро.
Апрель – день рождения Кирюхи. Май вообще богат на праздники: 1 Мая, День Победы. Июнь – день рождения Пушкина и его, Сергея Коршунова, тоже. Еще День независимости России – но это как обычный выходной, его спокойно можно посвятить работе на огороде.
Июль – это просто лето. Жена с Кирюхой уедет в отпуск – к своим родителям на Урал или на море. Он будет пахать, выложится на все сто, но денег им на поездку заработает. Зато потом будет целых три недели кайфовать, предоставленный самому себе.
В августе – уборка урожая на огороде и сбор Кирилла в школу. Сентябрь – начало нового учебного года. Октябрь – день рождения жены. Она хочет новые сапоги. Тоже серьезная трата.
Ноябрь – еще один новый праздник – День народного единства, перетекающий по старой привычке в пьянку по поводу очередной годовщины Октябрьской революции. Декабрь – период внутреннего «сухого закона» и накопления средств, продуктов и сил для празднования очередного Нового года.
В днях жизнь среднего россиянина выглядит вообще приемлемо. Но что такое день? Особенно длинной зимой. Серые морозные сумерки, не успев начаться, после полудня тонут в задуваемой поземкой ночной мгле. Зато дней в жизни много – целых 21 тысяча с половиной. Даже если откинуть младенчество, детство, отрочество и раннюю юность, то все равно остается достаточно, чтобы натворить массу глупостей, а потом расхлебывать их последствия до гробовой доски, – около 15 тысяч дней.
Но недель-то русским мужикам отводится всего три тысячи! Из них одна тысяча на несознательные годы.
Неделя начинается утром в понедельник, а в воскресенье вечером ее уже нет.
Иные, у кого работа другая, если им шлея под хвост попадет и на пробку невзначай наступят, могут вообще не заметить этой календарной единицы. Выпил, похмелился, проболел – неделя из жизни вон.
Но Сергею Коршунову, будь он хоть с какого бодуна, все равно приходится идти на службу и делать свою работу. Никто другой за него ее так не сделает. Он – политический обозреватель в областной газете.
К тому же Коршунов относится к вымирающему типу публицистов, пишущих, по признанию классика, «кровью, потом и соком нервов». У него совсем не получаются рекламные, оплаченные материалы, как у большинства сотрудников редакции, которым все равно, о чем писать, лишь бы платили бабки.
Коршунов так не умеет. Редакционное начальство поначалу пробовало посылать его на разные там пресс-конференции, презентации, но всякий раз, читая написанный им материал, кусало локти. Сергей не останавливается на внешней стороне освещаемой темы, той радужной обертке, в которую заказчики упаковывают свой «продукт», предназначенный для тиражирования в массы, а копает глубже, так что заказ в его исполнении выходит боком самим же рекламодателям. Поэтому специалисты по связям с общественностью ведущих предприятий области шарахаются от имени Коршунова как черт от ладана. Его бы давно выгнали из редакции, если бы газета делалась только для начальников и бизнесменов, но ее еще читают и простые граждане, составляющие так называемый электорат, о котором всякий раз накануне выборов вынуждены вспоминать сильные мира сего.
Чтобы нейтрализовать скандальный талант Коршунова, наносящий серьезный урон рекламной политике и бюджету редакции, начальство выделило для неудобного журналиста своего рода «вольер», в котором тот мог бы резвиться, конечно, в приемлемых рамках. Коршунова назначили шеф-редактором специального еженедельного экономико-политического приложения к большой газете.
Этот иезуитский ход, как это ни парадоксально, оправдал себя. Ведь самым страшным видом цензуры является самоцензура. Получив автономию, новый шеф-редактор стал оберегать родное детище и волей-неволей начал следить за собственным стилем. Но когда его все-таки заносило за флажки, то в бой вступала тяжелая артиллерия. Коршунов огрызался, спорил, хлопал дверью, даже несколько раз писал заявление на увольнение, но, выпустив пар, садился и переделывал материал в русле редакционной политики или просто удалял его из своего компьютера.
Как и подавляющее большинство интеллигентов, живущих в нашем умном городе, Сергей Коршунов – ярый сторонник либерализма и противник любой несвободы. Но в своем приложении он больше уже не критикует мэрию за развал городского коммунального хозяйства, а пытается усовершенствовать политическую систему страны в целом. Если раньше главными объектами его обвинений были мэр и его заместители, то теперь основные шишки сыплются на президента и правящую партию.
В результате все довольны. Местные воротилы выведены из-под нападок Коршуна, газета не потеряла своей остроты и даже более – увеличила тираж, ведь читатели поражаются смелости публициста, задирающего столь высокопоставленных людей. А в Кремле его критики просто не замечают потому, что не читают эту газету.
С появлением еженедельника его жизнь стала делиться на мини-циклы: от среды до среды. Во вторник поздно вечером он выпускает в свет свою газету, а на следующее утро уже задумывается: какой будет следующая?
Проходит год. Позади 52 номера. Но Коршунов продолжает фонтанировать идеями. Удивительно! Он все еще горит. Правда, за этот год он сильно похудел, осунулся, щеки впали, но глаза, даже после сильного похмелья, всякий раз, когда он садится за компьютер, загораются каким-то лихорадочным блеском. И этот его сумасшедший драйв передается потом через газетные строчки читателям.
– Ну, с первой годовщиной тебя, Серёга!
Тост флегматичного дизайнера потонул в его густой черной бороде, и все присутствующие на скромной вечеринке – ответсекретарь да корреспонденты, пописывающие в еженедельник, дружно выпили дагестанский коньяк из замусоленных редакционных рюмок до дна.
– А я хочу вам пожелать, Сергей Николаевич, чтобы ваша газета, самая лучшая и смелая в области, жила еще долго-долго! – пропела дифирамб влюбленная в шефа практикантка и чмокнула его в щеку.
Коршунов рукавом старого свитера стер со щеки помаду и задумчиво произнес:
– Надолго меня не хватит. Мне только сорок, я еще пожить хочу. А хорошая журналистика – это хлеб с гвоздями…
Он не договорил, потому что дверь распахнулась и в кабинет вихрем ворвалась главный редактор.
– Пьете? По какому поводу?.. А-а-а, день рождения Серёгиного приложения?.. Ну, поздравляю!.. Только материал об областниках поменяйте на что-нибудь приличное и можете дальше пьянствовать.
– Но почему, Роза Ахметовна? – недоуменно вопросил Коршунов. – Мы же договорились, что к потанинскому дню рождения дадим что-то похожее.
Ему никак нельзя было снимать этот материал, ведь он был написан присутствующей здесь практиканткой. Это был удар не только по его профессиональному авторитету, но и мужскому тоже.
– Здесь нет ничего нового. Обо всем этом мы уже писали сто раз, – безапелляционно заявила Хамитова.
– Этот материал останется в номере, – уткнувшись взором в пол, упрямо пробурчал Коршунов.
– Что?! – взвизгнула главная редакторша. – Один заголовок чего стоит! «Сибирские Соединенные Штаты». Тебе мало того, что на выборах в областную Думу мы остались без денег правящей партии. Ты думаешь, что твои горячо любимые либералы на нас обрушат золотой дождь?! Да они за копейку задавятся! А мне в политсовете прозрачно намекнули: вы, конечно, можете и дальше нас шпынять и на президента всех собак навешивать, только в своей избирательной кампании мы как-нибудь без вашей газеты обойдемся. А это сотни тысяч рублей. Твоя зарплата в том числе.
– Но причем здесь областники? Потанин? – всплеснул руками Коршунов.
Хамитова подлетела вплотную к подчиненному и, обдав его жаром негодования, вынесла окончательный вердикт:
– В моей газете никаких сепаратистских материалов не будет! Давай замену!
Коршунов дернулся из‑за стола, отпихнул редакторшу со своего пути и со словами «Делайте, что хотите!» выбежал из кабинета.
Он стоял на черной лестнице и жадно втягивал в себя сигаретный дым. Вдруг в кармане его потрепанных джинсов запиликал сотовый телефон. Вначале он вообще не обратил на звонок внимания, но потом, опомнившись, нервно прокричал:
– Да, я слушаю.
Невидимый собеседник вежливым голосом с едва выраженным акцентом поинтересовался:
– Господин Коршунов?
Журналист, несмотря на пережитый стресс, понял, что звонит иностранец, и в нем невольно пробудилось профессиональное любопытство.
– Да, это я. С кем имею честь говорить? – уже почти спокойным тоном спросил Сергей.
– О! Мы пока не знакомы. Меня зовут Карел Крайчек. Нотариус из Праги. Я по справке нашел ваш домашний телефон. Поговорил с супругой, и она любезно дала номер вашего мобильного телефона. Вы сын Дарьи Петровны Коршуновой?
– Да. Только моя мама умерла пять лет назад, – его интерес к разговору еще больше возрос.
– Я это знаю и сочувствую вам, – сказал нотариус и перешел к делу: – Поэтому мне нужны вы, как законный наследник вашей покойной матери.
– Но у нее никогда ничего не было! – недоуменно воскликнул Сергей. – Даже собственного угла. Мы все время ютились по съемным квартирам.
– Понимаете, – чех не сразу нашел нужные слова на русском языке. – У вашей мамы в Праге жил дедушка. Пётр Афанасьевич Коршунов. Когда в сорок пятом году советские войска вошли в Чехословакию, его арестовали и заключили в лагерь как врага народа. Там он и умер. Но его вторая жена, Тереза Коршунова, успела эмигрировать во Францию. После падения Берлинской стены и конца Варшавского договора ей удалось восстановить право собственности на их старую пражскую квартиру. Госпожа Тереза скончалась десять дней назад, а в своем завещании она указала наследницей этой квартиры вашу маму. Но раз ее уже нет в живых, то автоматически право наследования переходит к вам, ее единственному сыну. У вас же нет больше братьев и сестер?
– Нет, – пересохшим ртом пролепетал Сергей.
– Тогда вам надо приехать в Прагу, ко мне в офис, и оформить все документы на наследство. Записывайте мой адрес и телефоны…
Ошарашенный известием наследник накрапал на краю газеты адвокатские координаты.
Крайчек уже попрощался и вот-вот должен был отключиться, но Коршунов успел его опередить:
– Скажите, а сколько стоит эта квартира?
– Место очень хорошее, центр Нового города. Масариковская набережная вам о чем-то говорит? И квартира большая. С камином. Но дом совсем древний, как музей. Больше 150 тысяч евро вам за нее не заплатят. Если хотите, я помогу найти покупателя…
Но Сергей уже ничего не слышал. 150 тысяч евро. Это же целых пять миллионов рублей! У него никогда не было таких денег. Можно столько всего накупить Кирюхе, жене. Одеть их с ног до головы. Отремонтировать однокомнатную хрущевку. Да что там ремонт – переехать в новую. А лучше открыть собственную газету и послать к черту Хамитову с ее продажной политикой «и нашим, и вашим» и самому попробовать порулить.
Так в жизни Сергея Коршунова началась большая светлая полоса. Он перестал считать недели, да и времени на размышления о смысле бытия у него не осталось. Выпуск еженедельника он как-то незаметно переложил на одного молодого журналиста. И хотя Коршунов перестал гореть своим детищем, издание от этого ничуть не ухудшилось, а напротив, прилив свежей крови явно пошел ему на пользу. Коршуновский фирменный стиль был разбавлен работами других журналистов, отчего в газете к радости госпожи Хамитовой появились долгожданные «многоголосие и плюрализм».
Сам же шеф-редактор целиком и полностью был поглощен новыми хлопотами. Оказалось, что для поездки в Чехию теперь нужна специальная виза. А ее выдают только в чешском посольстве в Москве. Туристические фирмы предлагают свои услуги, но это стоит денег, а с ними пока у наследника было туго.
Но фарт есть фарт. Начало везти в одном, повезет и в другом. Коллеги из Союза журналистов связались с чешскими товарищами, и те сделали ему вызов на конференцию по проблемам экологии. Виза, отель и питание за счет принимающей стороны. Но проезд до Праги – за свой счет.
Однако фортуна и тут улыбнулась наследнику. Словно сама судьба распахивала ему ворота в новую жизнь.
Неожиданно белорусский президент надумал поведать провинциальным российским журналистам «правду» о своем режиме. И созвал их к себе в Минск. Запихнуть Коршунова в эту делегацию помогла Роза Ахметовна. Несмотря на все их производственные стычки, главная редакторша относилась к Коршунову уважительно и ценила его за талант. И хотя рыночная экономика и наша сволочная жизнь заставили ее подчиниться законам продажной прессы и как зеницу ока оберегать рекламодателей от какой-либо критики, в глубине души Хамитова еще оставалась журналисткой и просто свойской бабой. Вдобавок она была опытным руководителем и видела, что Серёга находится на грани нервного срыва, и ему необходимо развеяться.
Оказалось, что батька[4] повезет пишущую братию еще и в Брест. Поэтому наследнику пришлось раскошелиться только на железнодорожный билет в купе 2‑го класса от Бреста до Праги и обратно, что вышло совсем недорого.
Белорусы настолько тепло приняли журналистов из российской глубинки, что свою загрузку в международный вагон Сергей помнил смутно. Проводник, видя «жидкое» состояние нового пассажира, поселил его в отдельное купе. И если бы не таможенники с пограничниками – вначале белорусские, потом польские, а под утро – и чешские, которым полусонный Коршунов только успевал открывать дверь купе и протягивать свой паспорт, то его европейское турне можно было даже назвать комфортным.
Фирменный поезд «Влтава» Москва – Прага прибыл на Центральный вокзал около шести часов утра по местному времени. Болеющий с похмелья наследник сошел на перрон. Новые ощущения окончательно разбудили его. Казалось бы, он столько раз ездил на поезде, побывал на стольких вокзалах больших и маленьких городов. Видел и избыточную декоративность московских вокзалов, и нищету заснеженных сибирских полустанков с насквозь провонявшими мочой холодными сортирами. Но таких ощущений он прежде никогда не испытывал. Даже сам воздух здесь был другой. И пусть так же, как в России, на дворе стоял ноябрь, и чувствовался легкий утренний морозец. Но он был совсем другим. Не резким, а каким-то мягким. И запахи на перроне были другими. Пахло машинным маслом, металлом и вагонами, но как-то приглушенно и ненавязчиво.
Он толком не успел разобраться со своими эмоциями, как, пройдя немного, оказался в огромном сводчатом, отделанном в стиле модерн вестибюле. Из‑за раннего часа помещение освещалось тускло, в ночном режиме, но все равно оно поразило Сергея своим великолепием. Купол уходил высоко-высоко в темноту, таинственно поблескивали позолотой скульптуры античных богов с балюстрады.
Коршунов вышел на стоянку такси и сел в первую ожидавшую пассажиров машину.
– Отель «Стирка», – прочитал он в ваучере на поселение и чуть не рассмеялся забавному названию.
На всякий случай он показал водителю пригласительный билет на конференцию, где адрес гостиницы был написан по-чешски.
Не прошло и десяти минут, как авто доставило его к месту назначения. Под перезвон подвесного колокольчика Сергей открыл массивную входную дверь, чем разбудил дремавшего за стойкой портье.
Это оказался приятный молодой парень, свободно говорящий по-русски. Он дал прибывшему анкеты и помог их заполнить. Потом достал большой ключ и сказал:
– Ваш номер на третьем этаже. В семь тридцать можете спуститься в фойе и позавтракать. Это входит в стоимость проживания.
Номер был скромный, но чистый. Сергею с дороги и с похмелья он вообще показался настоящим раем.
Мурлыча под нос засевшую в голове еще с Минска старую песню «Молодость моя – Белоруссия», он направился в душ.
Новое лезвие безжалостно срезало трехдневную щетину, оставляя на его бугристой, испещренной оспинками коже кровоточащие порезы. Сергей обдал покрасневшую физиономию холодной водой и критически посмотрел на свое отражение в зеркале.
Ему было всего шестнадцать, когда неизвестная болезнь, связанная с каким-то гормональным сдвигом, оставила на его лице непроходящие отметины. После чего он плюнул на свой внешний вид. Отрастил длинные, под хиппи, волосы, стал носить просторные неопределенного цвета свитера и джинсы. Он отдалился от сверстников и замкнулся. Единственными его друзьями стали книги. И профессию первоначально он выбрал себе соответствующую, игнорирующую внешнюю атрибутику жизни, – поступил на философский факультет университета.
Единственным природным богатством Сергея, унаследованным им от матери, были глаза – миндалевидные, глубокие, темно-карего цвета.
– С тебя иконы можно писать, – призналась ему однажды жена.
Да и многие другие женщины, влюблявшиеся в него, говорили похожее.
– Интересно, какой из меня получится буржуа? – спросил себя побрившийся наследник и растер физиономию дешевым лосьоном.
Переодевшись в чистый свитер, ровно в половине восьмого он спустился вниз на завтрак. Никого из постояльцев еще не было. Но свет в дальнем конце фойе, где стояло несколько обеденных столиков, был уже включен, и официантка в белом фартуке хлопотала возле небольшой газовой плиты в самом углу.
– Вы будете омлет или глазунью? – спросила она гостя на безукоризненном русском.
Коршунов почесал затылок и заказал омлет с ветчиной и сыром. Еще наложил полную тарелку салата из свежих овощей, а в другую набрал колбас и сосисок разных сортов. Потом сходил за йогуртом, апельсиновым соком и тостами. В довершение трапезы официантка принесла ему ароматный кофе. Пришлось еще раз встать и совершить ходку к шведскому столу за свежим, еще теплым, пирожным.
Сытый и довольный, Сергей снова поднялся в номер. Он уже окончательно освоился во внутреннем пространстве, и его заинтересовало, что творится за его пределами. Он подошел к окну и раздвинул шторы. Его взору открылся вид на тихую пражскую улочку, готовящуюся встретить новый день. Седой дворник заканчивал подметать тротуар, редкие пешеходы спешили по делам.
Сергей открыл окно, и свежая прохлада впорхнула в гостиничный номер. С карниза, глухо захлопав крыльями, взлетели тяжелые голуби, а за углом дома, похоже, стучал колесами по рельсам трамвай. И сибиряку так вдруг захотелось туда, в громыхающее пражское утро, на трамвайную остановку, что он, ни секунды не раздумывая, быстро натянул спортивную куртку и, хлопнув дверью, устремился по лестнице вниз.
Встреча с нотариусом была назначена на полдень. И хотя до нее оставалось почти четыре часа, Сергей решил заранее побывать на месте, где на него должен пролиться золотой дождь, чтобы потом, не дай бог, не заблудиться и не опоздать. Как объяснил Крайчек по телефону, его контора располагалась в переулке рядом с Вацлавской площадью. Надо было доехать на трамвае до Национального музея, а потом пройти пешком два квартала.
Коршунов быстро освоился и перестал чувствовать себя гостем в этом прекрасном старинном городе. На остановке он приметил интеллигентного вида старушку в черном драповом пальто и шляпке с вуалью, опирающуюся вместо трости на длинный мужской зонт, уверенно подошел к ней и спросил по-русски, как ему проехать до Национального музея. Он предпочитал наводить справки у пожилых женщин, и это всегда срабатывало безотказно. Но седая дама неожиданно бросила на него презрительный взгляд и демонстративно отвернулась. Сергей извинился и со своим вопросом подошел к стайке студентов. Те ничего не поняли из его слов, но указали на схему маршрутов, висевшую с торца остановочного комплекса. С горем пополам Коршунов определил место своего нахождения, зато музей нашел сразу. Зайдя в трамвай, он на всякий случай громко по-английски назвал нужную ему остановку, на что пассажиры утвердительно закивали головами.
И тут с ним случился казус. Все вошедшие в вагон пассажиры компостировали проездные билеты, которые доставали из карманов и сумок. У Коршунова, конечно же, не было никаких талонов, более того – у него вообще не было чешских крон. С таксистом он рассчитался евро. А в отеле не удосужился поменять деньги. Окажись он в подобной ситуации в России, то плюнул бы на подобную мелочь и спокойно проехал зайцем. В крайнем случае при появлении контролера заплатил бы штраф. Здесь вообще ничто не предвещало проверки билетов, но Сергею вдруг стало так стыдно, что лицо его моментально залилось краской. Ему казалось, что все пассажиры смотрят на него с укоризной: иностранец, дескать, а мелочь за проезд зажилил. Он уже был готов провалиться сквозь железный пол, прямо на рельсы, лишь бы только улетучиться из этого трамвая. И приготовился на первой же остановке стремглав выскочить, как только откроется дверь.
Но неожиданно его кто-то тронул за руку. Коршунов встрепенулся, но повернуться боялся. Его воображение уже рисовало строгого контролера, полицейский участок… Но это был никакой не контролер, а обыкновенная миловидная женщина средних лет, одетая весьма скромно. Она открыто улыбалась Сергею и протягивала ему проездной билет. Сибиряк поблагодарил свою спасительницу на всех ему известных языках и, нарыв в кармане монету достоинством в один евро, продолжая раскланиваться, как китаец, протянул ее женщине. Та еще шире улыбнулась и отвела его вспотевшую ладонь с деньгами. Трамвай остановился, и женщина вышла, еще раз улыбнувшись Коршунову на прощание. Он пробил билет и уткнулся носом в окно, продолжая прокручивать в мозгах случившееся, и чуть не проехал мимо Национального музея. Но бдительные пассажиры напомнили ему об остановке.
Больше ничто не омрачало его настроения. Он быстро нашел нотариальную контору Крайчека. Посмотрел на часы. Они показывали пять минут десятого. У него в запасе оставалось еще три часа, и он отправился на прогулку по старой Праге.
В первом же exchange[5] Коршунов поменял сто евро на кроны и был приятно удивлен их курсом. Чешские деньги и по отношению к евро, и по покупательной способности практически равнялись российским рублям. Не надо было ломать голову над валютными пересчетами. Он купил путеводитель и, сверяя по нему курс, узенькими улочками добрался до Староместской площади. Там посидел в открытом кафе и выпил кружку вкусного пива. Потом отправился на Масариковскую набережную и долго гулял по ней, пытаясь угадать, в каком из этих старинных домов окажется его наследство?
Без четверти двенадцать он стоял у входа в контору Крайчека. Застекленная дверь из потемневшего от времени благородного дерева требовала от посетителя некоторых усилий. Стены приемной были задрапированы красной тканью с золотыми лилиями, местами сливавшимися с массивными позолоченными рамами с полотнами импрессионистов. Глубокие кресла и диван из блестящей черной кожи пустовали. Единственным обитателем этого помещения был молодой человек в черной тройке и с аккуратно подстриженными усиками. Он сидел за антикварным конторским столом в глубине помещения.
Коршунов представился. Молодой человек вежливо поклонился и назвался секретарем нотариуса. Он пригласил гостя присесть и справился у него, не желает ли господин Коршунов кофе или чая. Наследник опустился в кресло, от напитков же отказался, и секретарь бесшумно исчез за дверью кабинета своего босса.
С первым ударом больших часов из лакированного дерева дверь распахнулась, вышел секретарь и доложил, что господин Крайчек ожидает господина Коршунова.
Нотариус оказался импозантным, красиво стареющим мужчиной. Отутюженный костюм сидел на нем как на манекене, а седые волосы были расчесаны на совершенно ровный пробор справа налево и блестели от лака. В углу кабинета возле окна стоял овальный стол, за которым пила кофе из белоснежной фарфоровой чашки красивая брюнетка с большими глазами.
После дежурных фраз «как добрались?», «как устроились?» Крайчек представил свою гостью.
– А это ваша родственница, господин Сергей. Жаклин Готье. Ваш прадедушка был и ее дедушкой.
То есть… – нотариус не сразу нашел русские определения их родству. – Она – ваша тетя. А вы ее племянник.
Коршунов уставился на новую родственницу. Короткая стрижка под мальчика, слишком черные для натурального цвета волосы, белое лицо, брови-дуги красиво изогнуты, на щечках едва заметные веснушки, узкие губы ее не портят. А глаза – карие, почти черные. Омут, Вселенная… И одета во все черное. Тонкий, облегающий стройную фигуру свитер с высоким горлом, длинная юбка…
Да у нее же траур! Родная бабушка умерла. А ты разглядываешь ее столь бесцеремонно. Но ей же года двадцать два – двадцать три, не больше. Как она может быть ему теткой?
Сергей никак не въезжал, где пересекаются их генеалогические ветви, и девушка пришла ему на помощь.
– Ваш прадед Пётр Коршунов, находясь в эмиграции в Праге, познакомился с местной девушкой Терезой и женился на ней. От этого брака в 1938 году родилась дочь – Елена. В 1970 году она вышла замуж за профессора Монреальского университета Жака Готье и переехала жить к нему в Канаду. А в 1979‑м родилась я. И хотя я моложе вас на тринадцать лет, Сергей Николаевич, но по линии вашего прадеда, и тут месье Крайчек абсолютно прав, я прихожусь вам именно тетей. Поэтому здравствуйте, Сергей, я – ваша тетя!
Коршунов рассмеялся и бережно пожал узкую ладонь.
– Раз все наследники собрались, я могу огласить завещание Терезы Коршуновой. Ни у кого нет возражений? – спросил больше для проформы нотариус и тут же перешел к делу.
Вторая жена Сергеева прадеда не слишком-то озолотила потомков своего мужа от первого брака, но хорошо, что вообще вспомнила. Из завещания выяснилось, что она была весьма состоятельной дамой. Ее внучка Жаклин унаследовала магазины, загородные дома, ателье, банковские счета, акции ведущих европейских компаний и даже действующую риелторскую фирму. На перечисление всего движимого и недвижимого имущества, завещанного почившей бабушкой любимой внучке, у нотариуса ушло более половины часа, тогда как на долю Сергея – три минуты.
Кроме пятикомнатной квартиры площадью 200 квадратных метров на последнем, пятом, этаже жилого дома 1905 года постройки на Масариковской набережной наследнику из Сибири причитались рукописи его прадеда и документы из семейного архива Коршуновых.
Крайчек вынул из своего сейфа потертый чемоданчик и поставил его на стол перед Сергеем.
– Это архив вашего прадеда. Теперь он ваш.
Коршунов приподнял чемоданчик и убедился, что он увесистый. Канадка проводила взглядом его движение.
– Мадемуазель Жаклин, вы же в Праге как дома, и вам так много предстоит принять из наследства, поэтому давайте вначале покажем Сергею его квартиру, а потом продолжим работу с вами, – предложил нотариус.
Молодая тетка не возражала и даже вызвалась ознакомить племянника с его наследством.
– Моими делами, дорогой Карел, вы можете заняться в любой день. У Сергея же время ограничено. Сколько вы намерены пробыть в Праге, Серёжа? – поинтересовалась родственница.
– Моя конференция продлится три дня. Плюс день приезда и день отъезда. Итого пять дней.
– Я думаю, что мы успеем оформить все права на наследство. Если же возникнут проблемы, то оставите мне доверенность, я все доделаю за вас. Но давайте начнем экономить время и отвезем Сергея на квартиру его прадеда.
Крайчек встал из‑за стола, наследники последовали его примеру.
А ведь именно этот угловой дом приглянулся ему во время утренней прогулки. Одна его часть выходила на проспект, который устремлялся дальше на мост через Влтаву, а вторая смотрела окнами на реку. Дом состоял как бы из нескольких частей. И хотя они были объединены в единый архитектурный ансамбль в стиле позднего модерна[6], однако каждая часть этого большого дома – от мостовой до крыши – чуточку отличалась от остальных – формой окон, балкончиками, лепниной.
Нотариус помахал им рукой, и лимузин покатил дальше, вниз по набережной.
– Богатые люди, строившие этот дом в начале прошлого века, хотели отличаться от соседей. Даже венские богачи вложились в его строительство. Чехия ведь тогда входила в состав Австро-Венгерской империи и была самой богатой и экономически развитой ее провинцией, – Жаклин начала экскурсию как опытный гид.
– Неужели одна семья занимала целых пять этажей? – спросил Коршунов, а про себя отметил, что и нынешние жильцы явно были не стеснены площадью, потому что на каждом этаже располагалось всего по одной квартире.
– Не думаю. Скорее всего, и тогда собственники сдавали часть здания в наем. Редко кто продавал. Но после распада империи Габсбургов[7] и обретения Чехословакией независимости австрийцы стали уступать свои позиции на чешском рынке французам, англичанам и местным нуворишам. И в 1923 году деду удалось купить последний этаж у одного венского банкира.
На третьем этаже на Сергея напал сильный кашель. А он, к своему стыду, забыл носовой платок.
Жаклин поняла его проблему и протянула ему свой.
– Тебе надо бросать курить, – назидательно заявила она.
– А также употреблять алкогольные напитки и встречаться с женщинами, – съязвил Сергей. – Но зачем такая жизнь?
– Странные вы, русские. Сами уничтожаете себя, а потом еще неумно шутите по этому поводу.
Укор достиг цели, Сергей почувствовал неловкость и резко переменил тему разговора:
– Слушай, а где ты так здорово научилась говорить по-русски? Отец вроде француз, бабушка – чешка, один только дед русский, но он умер задолго до твоего рождения. А у тебя такая правильная речь. Если бы мы с тобой встретились в Москве или Томске, я бы ни за что не догадался, что ты иностранка.
– Бабушка у меня хорошо знала русский и маму воспитывала как русскую. Мой отец, когда женился на маме, тоже выучил русский язык. Он преподает на факультете общественных наук в Монреальском университете как раз историю России. Я пошла по его стопам. Только он специалист по XIX веку, а я – по началу двадцатого. Училась на его факультете, потом прошла стажировку в университете в Калифорнии.
Работала в знаменитом архиве Гуверовского института[8]. А сейчас пишу диссертацию о роли союзников в Гражданской войне в Сибири. Я полгода корпела в московских архивах. Историю твоей страны я знаю хорошо. Взгляд извне более объективен, лишен предвзятости и ангажированности. А вы, русские, к сожалению, все еще не можете избавиться от идеологических штампов.
– Умом Россию не понять! – вставил Сергей реплику.
– Да уж, – согласилась Жаклин. – Живя в благополучной стране, я действительно не могу понять причин русской трагедии. Как бы точнее выразиться? Я не чувствую ритма, пульса России. Я – посторонняя. Ты меня понимаешь?
Коршунов утвердительно кивнул головой. А Жаклин продолжила:
– Дед долго жил здесь один. Бабушка рассказывала мне, что до знакомства с ней и даже после их свадьбы он вел очень замкнутый образ жизни. Не встречался ни с кем из бывших соотечественников. Хотя в ту пору в Праге жило много эмигрантов из России. Она вначале списывала его нелюдимость на физический недостаток. Ты знаешь, что твой прадед был почти немым?
– Откуда? Месяц назад я вообще не знал о его существовании.
– Речь ему давалась с огромнейшими усилиями. Бабушка говорила, что это следствие психической травмы, полученной им в России. И чтобы не выдавать свою ущербность, он вообще предпочитал молчать. Хотя она подозревала, что он просто порой не хочет ни с кем говорить.
– А что же она тогда вышла замуж за калеку?
Жаклин остановилась и мечтательно произнесла:
– Представь себе, любила. До беспамятства. По ее рассказам, он был безумно красивым и элегантным мужчиной. Всегда одевался в черное. Фрак, костюм, плащ, пальто, галстуки, шляпы он покупал в дорогих магазинах или заказывал у самых модных портных. Зато рубашки у него были белоснежные. Бабушка рассказывала, что он даже за газетами ходил в смокинге. Этакий Чайльд Гарольд и Жюльен Сорель[9] в одном лице. Он пользовался очень большим успехом у дам. Однажды даже стрелялся с кем-то из обманутых мужей на дуэли, но, слава богу, соперник выжил после ранения. И деду удалось откупиться от полиции…
– Как же он, немой, ухаживал за женщинами?
Она задумалась лишь на мгновение.
– Слова здесь вообще лишние. Важен контакт глаз. А его глаза были очень красивыми. Бабушка говорила о «взгляде бога». К тому же он умел писать письма. На всех европейских языках. А любовные послания производят на женщин не меньшее впечатление, чем самые пылкие признания, высказанные вслух.
Вот, наконец, их пятый этаж. Жаклин подошла к обитой кожей двери, достала из сумочки длинный ключ и по-хозяйски открыла замок.
– Милости прошу, – распахнула она перед Сергеем дверь.
Женщина явно нервничала. Нарочитые кокетливость и язвительность призваны были скрыть ее смятение. Она явно не знала, как вести себя дальше, колебалась и словно чего-то боялась.
Но Сергей, попав под обаяние старины, не обращал на это никакого внимания.
Переступив порог, он словно совершил путешествие на машине времени и переместился на сто лет назад. Ужасного, жуткого ХХ века с его социальными, информационными и сексуальными революциями, мировыми войнами, коммунизмом, фашизмом, исламской угрозой и глобализацией будто бы не было и в помине.
В узкой прихожей на блестящем полу из черного камня стояла рогатая вешалка для верхней одежды. Единственная дверь, спрятанная за тяжелыми бархатными портьерами с позолоченными шнурами и массивными кистями на концах, вела в гостиную. В ней и окна, и двери были зашторены бархатом. Плюшевый диван, два кресла и три пуфа с возложенными на них подушками сверкали золотыми нитями. В дальнем углу стоял большой черный рояль, а в ближнем – изящный круглый столик с приставленными к нему четырьмя мягкими стульями. В проем между окнами хорошо вписался инкрустированный золотом сервант из светлого дерева, в котором виднелись фарфоровая посуда и бронзовые статуэтки. У самого потолка в дорогой раме висел портрет прежнего владельца этой квартиры. Красивый черноволосый мужчина с миндалевидными глазами. Казалось, что он смотрит через комнату на портреты своих близких: молодой русоволосой женщины с приятным лицом и девочки-принцессы шести-семи лет. И хотя фотографии были черно-белыми, Коршунов сразу понял, что у девочки волосы цвета червонного золота.
– Это мой дед и твой прадед, а это моя бабушка и моя мама, – пояснила Жаклин.
Хотя он и сам догадался, кто есть кто.
Ниже женских портретов висели три декоративных рыцарских щита с маленькими фотографиями.
Закончив беглый осмотр гостиной, Сергей открыл ближнюю к нему дверь.
– Это комната моей мамы, – заметила девушка.
Обои со звездочками и обилие мягких игрушек и кукол красноречиво свидетельствовали об ее предназначении. Это была чужая жизнь, и Сергей тут же закрыл дверь.
По скрипучему паркету он пересек гостиную.
Увиденное в другой комнате заставило его ахнуть. Это был кабинет прадеда с огромной библиотекой. Две стены до самого потолка были заставлены книжными шкафами. В глубине виднелся камин, рядом с ним стояло кожаное кресло-качалка. С краю была еще одна дверь.
– Там спальня, – опередила ход его мыслей Жаклин.
Сергей вышел на балкон с ажурными литыми перилами, казалось, нависший над бездной. Под его ногами текла Влтава, а дальше, за рекой, открывался чудесный вид на Пражский Град и Малую Страну[10] с их живописными дворцами и соборами.
Решив, что полюбоваться пейзажами он еще успеет, Коршунов вернулся в кабинет и стал рассматривать библиотеку прадеда.
– Бердяев! Мельгунов![11] «Очерки русской смуты» Деникина! «Белая Сибирь» Сахарова, мюнхенское издание 1923 года! А это… Да неужели?! – он не поверил своим глазам. – «Очерки Северо-Западной Монголии» и «Тунгуто-Тибетская окраина Китая»![12] Самые первые издания потанинских книг! Ни фига себе! Всё – это моя комната! Я остаюсь тут жить. Здесь же столько всего!
Его глаза блестели, как у фанатика. Он словно сошел с ума. Метался от одного книжного шкафа к другому, доставал из них запылившиеся фолианты и бешено радовался очередной находке, как ребенок, нет, скорее всего, как первобытный человек, только что добывший огонь.
Жаклин смотрела на его дикие танцы и улыбалась.
Наконец он успокоился и, остановившись на томике Бердяева, бухнулся в кресло-качалку и стал усердно его листать.
– Слушай, а давай меняться! – неожиданно предложила канадка.
– Чем? – недоуменно пожал плечами Сергей.
– А нашими долями в бабушкином наследстве. Я отдам тебе все магазины, дома и деньги. Всё вместе мое наследство миллионов на пять евро потянет. А ты мне – эту квартиру и этот чемодан.
– Шутишь?
– Нет. Это серьезное предложение. Если согласен, то я сейчас позвоню Крайчеку, и он за пару дней подготовит необходимые бумаги, – в подтверждение своих слов Жаклин достала из сумочки изящный мобильный телефон.
Сергей остолбенел поначалу, но быстро нашелся и ответил:
– Нет.
– Почему? – удивилась тетка.
– Твоя бабушка была мудрой женщиной. Она наверняка долго обдумывала свое завещание. Пойми, это будет нечестно, если я, посторонний человек, наследую имущество, принадлежащее твоей семье. Но мой сын тоже не поймет меня, если я, преследуя материальную выгоду, лишу его истории нашего рода. Ведь, насколько я понял, в архиве Петра Коршунова хранятся документы, касающиеся его далекого сибирского прошлого, его первой семьи, продолжателем которой являюсь я.
Настало время тетке призадуматься.
– Да, ты – настоящий Коршунов. Как всё четко разложил по полочкам. Я тебя сначала недооценила. Но неужели тебе совсем не нужны деньги?
– Почему же? Нужны. Да еще как! Но чужого мне не надо. Кстати, я, по всей видимости, буду продавать эту квартиру. Не поможешь найти на нее покупателя? Крайчек обещал помочь, но мне почему-то кажется, что она стоит дороже, чем 150 тысяч евро, в которые он ее оценил.
– Конечно, больше! Ай да старый пройдоха! – взорвалась Жаклин. – Ее рыночная цена как минимум вдвое больше. Но не переживай, я дам тебе за нее полмиллиона евро.
– Ты шутишь? – Сергей не верил своим ушам.
– Нисколько. Только у меня будет к тебе еще одна просьба.
Коршунов всем своим видом показывал, что он готов исполнить любое ее желание.
– Разрешишь мне снять копии с некоторых бумаг из дедова архива? Они мне нужны для диссертации.
– No problems, miss,[13] – легко согласился Коршунов, покачиваясь в кресле, но потом вдруг спохватился и добавил: – Но только учти: библиотеку я тебе не продам!
Жаклин поставила на стол дедов чемоданчик и открыла его. Она быстро нашла то, что искала. Это была старая тетрадь в сафьяновом переплете.
– Почитай лучше своего прадеда. Это уж точно первоисточник, который еще нигде не издавался…
Глава 2. Молчание – золото
Прошлой ночью в Праге выпал снег. Я засиделся за чтением в кабинете далеко за полночь. Потом выходил на балкон выкурить папиросу. С Влтавы дул промозглый ледяной ветер, но никакого снега не было. А утром проснулся, глянул в замерзшее окно, а там все белым-бело. Прямо как у Пушкина:
Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег лежит, Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, И речка подо льдом блестит[14]Чудо… Настоящее рождественское чудо… Вот Леночка обрадуется, когда проснется. Она так мечтала о снеге на Рождество. И ее мечта сбылась.
Боже, но отчего так сразу болит голова? Снег, снег… Снег всему виной! Снег и лес. Снег и тайга. Белое и зеленое… белое и зеленое… белое и зеленое… Снега и леса Сибири…
Я дышу на затянутое причудливым ледяным узором стекло, и в матовом белом инее возникают прозрачные блюдца. И я невольно погружаюсь в воспоминания и переношусь в своем воображении в далекую и дорогую моему сердцу Сибирь.
Как вы там, Полина и Петруша? Живы ли? На свободе иль на большевистской каторге? Ничегошеньки мне про вас, любимые мои, не известно. Остается только молиться да полагаться на Божью волю. Он милосерден, он не даст вас в обиду. А меня простите, что не смог вытащить вас из этого ада.
…Под ноготь забивается холод, зато на замерзшем стекле остается прозрачная линия. Одна, вторая, третья… и вот уже можно рассмотреть заметенный сугробами огород, причудливо изогнутые голые ветви садовых деревьев, на которые часто прилетают птицы. Воробьи, синицы, сороки… Я даже снегиря однажды видел. Толстый, с выпуклой красной грудью, он тоже пожаловал полакомиться замерзшими ранетками на самой верхушке дикой яблони. Бабка Катерина увидела этот птичий пир, сходила в сарай за лестницей, перетащила ее через сугробы, вскарабкалась с горем пополам и обобрала все ранетки. Птицы потом еще не раз наведывались к яблоне, прыгали по голым ее веткам и улетали прочь голодные. Их добыча досталась мне. Бабка высыпала ледяные ягоды в миску и поставила ее возле плиты. А когда они оттаяли, дала мне. Какая это была вкуснятина! Они буквально таяли во рту. Ничего вкуснее в жизни мне не довелось попробовать.
А ночью умерла мама. Она заходилась в бесконечном кашле, бабка едва успевала менять окровавленные полотенца. Мама стонала и бредила. Из‑за ситцевой занавески долетали до моего уха обрывки бессвязных фраз.
Я заснул, а когда утром проснулся, в старой избушке было не топлено и царила непривычная тишина. Мне жутко не хотелось вылезать из-под вороха ветоши, именуемой бабкой Катериной одеялами. Но я спрыгнул на ледяной пол и зашлепал босыми ногами к маме. Она лежала на лавке неподвижная, тихая и величественная. Очень красивая и совсем чужая. Как Снежная королева из сказки.
Вдруг дверь со скрипом отворилась, и, впустив в избу клубы морозного пара, со связкой дров вползла бабка, закутанная в облезлую пуховую шаль.
Увидев меня, голого и босого, подле мертвой матери, хозяйка всплеснула руками, и поленья рассыпались на полу.
– Батюшки-светы, – запричитала старуха. – Сиротинушка ты мой, да на кого тебя оставила твоя мамка! На дряхлую и немощную бабку. По мне самой-то могила плачет.
И только тут до меня дошло, что случилось непоправимое, горе-несчастье, что у меня больше нет мамы. Осталась только одна оболочка от нее, но и ее скоро от меня заберут. И вдруг из моей груди к горлу поднялся какой-то ком. Мой язык задеревенел, из глаз покатились слезы. Но рыдания не сорвались с уст, а остались где-то внутри.
И когда маму отпевали, и когда ее хоронили, я не проронил больше ни слова и даже не всхлипнул.
А вскоре к бабе Кате приехала из Павлодара какая-то ее дальняя родственница, Елизавета Степановна. Она была замужем за богатым купцом Коршуновым. Уже не первой молодости, хотя еще и не старая, она не могла подарить мужу наследника. Я же ей полюбился с первого взгляда.
– Прямо живой ангелочек! – одаривала меня тетка Лизавета ласками, а я все равно к ней не шел.
Катерина поведала ей про мою горькую судьбу. Как моя мать поехала с малолетним дитем на поиски мужа в Сибирь да нарвалась на лихих людей, которые обчистили нас до нитки. И деньги, и документы – все забрали да бросили на погибель в чистом поле. Хорошо, киргизцы[15] -чабаны нашли, а то бы мы в степи замерзли.
– А роду-звания они непростого. Мать-то его в бреду все не по-нашему лепетала. И руки у нее белые и холеные были. Видать, никогда простым трудом копейки не заработала. Здоровьем слаба была, остудилась – и вовсе слегла. А мальчонка сразу молчуном был. Петей назвался. Да и мамка его то Петрушей, то Петером кликала. Фамилии ихней я вообще не знаю. А как бедняжка преставилась, он и вовсе говорить перестал. Мне ль, старухе, мальца-калеку выходить? Сама одной ногой в гробу, – бабка Катерина любой ценой хотела от меня избавиться.
То ли бабкины уговоры так подействовали, то ли сильная личная симпатия у Коршуновой ко мне сразу возникла, но она, даже не посоветовавшись с мужем, увезла меня к себе в Павлодар. Так я пяти лет от роду в очередной раз сменил место жительства. Из села Успенского переехал в уездный город.
Супруг Елизаветы Степановны Афанасий Савельевич Коршунов не мог простить ей этого самоуправства и долго не признавал меня. В своем большом доме на высоком берегу Иртыша он вначале поселил меня во флигеле со слугами. А потом, видя, как его жена носится со мной, сжалился и переселил на хозяйскую половину. Мне отвели небольшую комнату с видом на реку. И я подолгу просиживал возле окна, наслаждаясь зрелищем неторопливой равнинной реки.
Елизавета Степановна была женщиной образованной. Еще до замужества она училась на Бестужевских курсах[16] в Санкт-Петербурге. Хотела начать учить меня грамоте и другим наукам, но до того задалась целью вылечить меня от немоты. Местные «эскулапы» из числа армейских фельдшеров были категоричны: сей недуг лечению не поддается. Но Коршунова не успокаивалась, повезла меня в Омск к настоящему врачу, но и эта поездка не помогла.
Он прописал каких-то микстур, от которых я спал целыми днями и становился больше растением, чем человеком.
Видя такой лечебный эффект, тетя Лиза выкинула все лекарства и отвела меня к бабке Василисе, лечившей народными средствами. У меня остались смутные воспоминания, что делала со мной эта целительница. Помню только, что мы ходили к ней много раз, она молилась, растапливала воск и выливала его в чашку с водой над моей головой. Причем всякий раз воск затвердевал интересным образом: то в виде собаки, то в виде всадника, то тюремной решетки, то гроба. А под конец он растекся по поверхности воды в плоский блин. Знахарка громко хлопнула в ладоши, от чего я вздрогнул, а потом спросила меня:
– Ты как себя чувствуешь, милок?
И я ей ответил:
– Хорошо.
Тетя Лиза была на седьмом небе от счастья. Она подарила бабке Василисе дорогое золотое кольцо и дала еще денег.
Мне в ту пору было уже семь лет. Мое первое молчание длилось целых два года. Вернув мне дар речи, Елизавета Степановна приступила к моему усиленному обучению. Учила меня французскому и английскому языкам, истории, географии, русской грамматике. Она привила мне любовь к русской литературе. Моими любимыми писателями стали Тургенев и Гончаров. От Достоевского веяло безумием, поэтому тщательное ознакомление с его произведениями было чревато для моей неустойчивой психики непредсказуемыми последствиями. Толстого же я не любил за его менторский тон. Хотя с удовольствием читал многие его романы. Но «Анна Каренина» мне понравилась гораздо больше, чем «Война и мир».
Мне уже стукнуло четырнадцать лет, а я воспитывался в семье у Коршуновых как приемыш. Афанасий Савельевич не любил свою жену, дома бывал редко, чаще в разъездах. Злые языки поговаривали, что в Семипалатинске у него была еще одна семья. Молодая казачка родила ему двух детей: сына и дочь. Елизавета Степановна же всю свою неистраченную материнскую и женскую любовь отдавала мне. Она не раз заговаривала с мужем о моем усыновлении, но он всегда уходил от принятия решения под всевозможными предлогами. И хотя он относился ко мне неплохо, но любил только своих семипалатинских детей и думал, как оставить наследство им, а не мне.
Но судьба распорядилась иначе. Зимой 1900 года, возвращаясь из Семипалатинска в Павлодар, Афанасий Савельевич попал в снежную бурю, заблудился в степи и замерз вместе с приказчиком, ямщиком и лошадьми.
На похороны приехала и его вторая жена с детьми. Елизавета Степановна повела себя как законная супруга и самозванку даже не пустила на порог своего дома. Кухарка Глаша по секрету поведала мне, что она все-таки встречалась с молодухой на постоялом дворе, где та остановилась, и твердо сказала: что есть у той в Семипалатинске, пусть остается ей, но на павлодарское имущество роток не разевай. Казачка умоляла дать ей хоть немного денег на воспитание детей, но Елизавета Степановна осталась непреклонна: мне самой надо Петеньку в люди вывести. Так они и расстались.
Вдова усыновила меня на законном основании, и я стал Петром Афанасьевичем Коршуновым, наследником всего состояния Коршуновых. А вскоре Елизавета Степановна продала дом, конезавод с многочисленными табунами, магазины и лавки, ранее принадлежавшие мужу, и мы переехали в Томск. Здесь я наконец-то пошел в гимназию, а после ее окончания выдержал вступительные экзамены и был зачислен студентом на юридический факультет Томского университета.
Известие об этом Елизавета Степановна встретила с огромной радостью. Но уже тогда она сильно болела, а потом и вовсе стала сохнуть буквально на глазах. Главная ее цель – дать мне хорошее образование – была близка к осуществлению. Я стал студентом первого в Сибири Императорского университета, учился основательно и ответственно. Да и специальность, которую я выбрал, – правоведение – вселяла в нее надежду, переходящую в уверенность, что я выйду в люди, стану либо судьей, либо известным адвокатом. Запас ее жизненной энергии иссяк, и моя приемная мать отдала Богу душу, когда я учился только на первом курсе.
Переехав в Томск, Елизавета Степановна не захотела обременять себя содержанием собственного дома. При ее жизни мы снимали несколько комнат в каменном доме на Еланской улице у вдовы коллежского советника. После смерти моей приемной матери надобность в такой большой жилой площади у меня отпала, и я переехал в дом общежития студентов на Садовой улице.
Елизавета Степановна оставила мне в наследство изрядный капитал, который я положил в Сибирский торговый банк на крайний случай, а жил исключительно на проценты с него, как истинный рантье.
Мое буржуазное положение не помешало мне примкнуть к революционерам. Это произошло как-то само собой, по крайней мере, я не прилагал к этому никаких усилий.
Томск вообще в ту пору был весьма прогрессивным и либеральным городом. Здесь работала своя электростанция, центральные улицы и дома освещались. Существовала городская телефонная сеть. В трех библиотеках – публичной, университетской и технологического института – было столько книг, что мне казалось: на их чтение одной человеческой жизни будет мало. А кроме них в городе еще имелись хорошие библиотеки в управлении Сибирской железной дороги, в Обществе приказчиков, в Пожарном обществе, переселенческом управлении, при казенном винном складе, в Общественном и Коммерческом собраниях… Мощеные камнем улицы, прибывающие на станцию поезда, водопровод, зеркальные витрины и железные ставни богатых магазинов, театр… Для меня, выросшего в заштатном степном городишке, все эти достижения цивилизации были в диковинку.
Университет…
Даже сейчас, спустя три с половиной жутких, перевернувших весь мир десятилетия, это слово я произношу с благоговением. Даже в церкви я не испытывал такого волнения души, как здесь. Переступая порог своей Aima mater[17], я попадал в совершенно иной мир.
Вхожу я в темные храмы, Свершаю бедный обряд. Там жду я Прекрасной Дамы В мерцаньи красных лампад.[18]Это блоковское четверостишие я вспоминал всякий раз, когда поднимался по приглушенно освещенной парадной лестнице главного корпуса. Моей Прекрасной Дамой в ту пору была наука. Сердце в груди начинало учащенно биться при каждом свидании с ней.
Стоит мне лишь на мгновение закрыть глаза, как я явственно вижу высокую, заполненную студентами аудиторию. Я обычно занимал место на галерке, чуть ли не у самого потолка. Но акустика этого помещения позволяла слышать голос лектора там не хуже, чем на первых рядах. Историю русского права нам читал профессор Малиновский[19], считавший «Гражданский кодекс» Наполеона самым величайшим его завоеванием в истории. Гражданское общество и русское самодержавие в его лекциях были понятиями взаимоисключающими. И хотя в отличие от революционеров он не призывал студентов к оружию, но ощущение того, что так, как живет сейчас Россия, больше жить нельзя, оставалось у каждого побывавшего на его лекции. А профессор Соболев[20], читавший нам политическую экономию и статистику, свободно сыпал цитатами из Маркса. Когда я стал завсегдатаем марксистского кружка, товарищи дали мне прочитать «Манифест Коммунистической партии». Но я уже был знаком со многими его положениями из лекций Соболева.
Мое вступление в Сибирский социал-демократический союз[21] было закономерно. Большинство студентов, проживающих в общежитии, «болело революцией», мы все были ярыми противниками самодержавия и различались только степенью своей революционности. Выбор у нас в ту пору был невелик. Либо Союз социалистов-революционеров[22], либо социал-демократы. В технологическом институте заправляли эсеры, а в университете – читатели «Искры»[23]. Были, конечно, и в студенческой среде скрытые монархисты. Но это единицы. Может быть, кое-кто из сынков местных чиновников. И вели себя они тихо, тон в нашем сообществе не задавали.
Если эсеры были продолжателями дела народников, главной силой революции считали крестьянство и в политической борьбе не гнушались применением террора, то социал-демократы по сравнению с ними представлялись мне более умеренными в своих воззрениях и прогрессивными. Фабрично-заводские рабочие были образованнее и цивилизованнее крестьян. И сами организаторы марксистских кружков в Томске воспитанием и интеллигентностью превосходили воинствующих социалистов-революционеров. Эсдеков[24] окружал ореол книжности и учености. «Капитал» Маркса вообще поразил меня своей логикой и доказательностью. Это на самом деле была лучшая экономическая теория, когда-либо изобретенная человеческим умом. А борьба за права угнетенного рабочего класса практически без всякой надежды на успех придавала социал-демократам некоторую жертвенность.
От ликующих, праздно болтающих, Обагряющих руки в крови. Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви![25]Это стало моим жизненным девизом.
Но идеалом революционера для меня был-таки эсер, присяжный поверенный Пётр Васильевич Муромский[26]. Одним своим внешним видом он выделялся на митингах из толпы. Всегда носил светлые костюмы, а если стояла холодная погода, то светло-серое пальто. И определенно – шляпу. Летом – легкую, защищавшую от солнца, а осенью и весной – теплую. Жил он на Ефремовной улице[27] в собственном двухэтажном доме с флигелем и на работу в окружной суд ходил пешком, попутно выгуливая белого в черных яблоках дога. Пес по кличке Маркиз всегда трусил с тростью в зубах чуть впереди своего хозяина, а когда тот заходил в здание суда, сам возвращался домой.
Однажды мне довелось присутствовать на процессе Муромского. Он тогда взялся защищать деревню сибирских старожилов от посягательства на их земли одного переселенца из Вятской губернии. Шансов выиграть дело, прямо скажем, не было никаких. В ту пору переселенцы составляли своего рода касту неприкасаемых. Правительство их поддерживало всем, чем могло. И если кто-нибудь из вновь прибывших присматривал себе земли коренных сибиряков, то ему не составляло большого труда на законном основании отобрать их. Суды, беспрекословно следуя царской воле – оказывать переселенцам всевозможную поддержку, даже не вникая в суть конфликтов, принимали сторону гостей из Европейской России. А сибирские мужики, ругая произвол чиновников и продажных судей, уходили дальше в тайгу, корчевали, осушали и осваивали новые таежные деляны.
До пришествия новых гостей из Европы.
И вот Пётр Васильевич решил положить конец этой порочной практике. Взявшись защищать старожилов, он попросил суд отложить рассмотрение дела на три недели и неожиданно исчез из города. В назначенный же час явился на судебное заседание, уставший, но весьма довольный.
Судья с желтым и нездоровым лицом хотел поскорее покончить с этим делом, и так оно сильно затянулось, но, с другой стороны, ему самому очень уж любопытно было узнать, где пропадал присяжный поверенный столько времени. Потому он сразу дал слово защите, ведь противоположная сторона давно уже высказала свои претензии.
Пётр Васильевич встал, обвел взглядом присутствующих в зале и тихим голосом начал свою речь:
– В народе давно говорят, что подавляющую часть переселенцев составляют далеко не лучшие люди, которых по приговорам сельских обществ «за порочное поведение» этапируют к нам, как когда-то ссылали каторжников.
Муромский демонстративно откашлялся и продолжил:
– И вот я решил проверить, правда ли это. Не поленился и съездил на родину нашего уважаемого истца, господина Прохорова, который предстает перед судом в роли рачительного хозяина. И вот что мне удалось выяснить, уважаемые судьи.
Адвокат выдержал многозначительную паузу, а затем раскрыл свою папку.
– Перед вами приговор сельского схода Михайловского общества И жевско-Нагорной волости Сарапульского уезда Вятской губернии от 4 января 1899 года: «Мы, нижеподписавшиеся старшие домохозяева в числе 68 человек, бывшие сего числа на сельском сходе в присутствии сельского старосты, от которого выслушали предложение о том, что однообщественник наш сельский обыватель Александр Васильев Прохоров ничем не занимается, кроме краж и праздношатательства, вследствие чего решили принять противу этого меры. Не надеясь на его исправление, мы, бывшие на сходе, единогласно постановили: сельского обывателя нашего общества Александра Васильева Прохорова, 28 лет, отдать в распоряжение правительства, приняв на себя издержки по его удалению, для чего надлежащую сумму внести в уездное казначейство».
В зале наступила тишина. Только сонные осенние мухи лениво жужжали на окнах.
– И для этого горе-крестьянина вы собираетесь забрать землю, уже десятилетия кормящую большое семейство ваших же граждан? Боюсь, что у истца даже в мыслях нет желания обрабатывать эту пашню. Получив на нее права, он тут же продаст ее или передаст кому-нибудь в аренду и сбежит с деньгами из Сибири. Нужны нам такие хозяева?
Ответом было дружное «нет». По-моему, даже сам судья присоединился к этому разноголосому хору.
Сам истец и его поверенный тихо удалились с заседания, а коллеги бросились поздравлять Петра Васильевича с победой, даже не дождавшись судебного вердикта. Мне так и не удалось протиснуться сквозь толпу, чтобы пожать руку этому блестящему адвокату.
Однако вскоре сама судьба свела нас.
С начала октября мы не учились. После очередной сходки студентов, где в присутствии посторонней публики произносились весьма резкие речи о современном государственном устройстве России, университет закрыли совсем. На митинг железнодорожников о присоединении к всероссийской забастовке я не успел. Управление Сибирской железной дороги быстро окружили казаки и никого туда не пускали.
– Куда прешь, жидовская морда! – цыкнул на меня здоровенный казачина с красным испитым лицом, когда я попытался протиснуться между его лошадью и стеной дома.
Свистнула нагайка, и мою спину обожгла резкая боль. Рука машинально дернулась во внутренний карман шинели, где лежал купленный третьего дня в оружейном магазине купца Толкачёва револьвер. Но вдруг сзади меня дернули за полу шинели. Это был студент Нордвик. Он оттащил меня от оцепления.
– Погодите, Пётр. Еще не время. Успеете настреляться.
Назавтра получилась такая же канитель. Только собрались устроить общенародный митинг в технологическом институте, как его тут же заперли и окружили войсками.
– Театр при Бесплатной библиотеке пустой. Бежим быстрее туда.
Весть быстро распространилась по толпе, и она хлынула по Садовой вниз. Солдаты из патрулей, важно дефилирующие по тротуарам, недоумевали: куда студенты так несутся? По дороге к нам присоединялись гимназисты и гимназистки. Оказалось, и эти дети не остались в стороне от революции и тоже забастовали.
У меня на ботинке развязался шнурок, я остановился на обочине, чтобы его завязать, и невольно стал свидетелем одного разговора.
Паренек в гимназической форме отчитывал плачущую девчушку лет двенадцати.
– Ну куда ты за мной увязалась, дуреха? Сказано же было, что на митинг пойдут только ученики старших классов.
– Я тоже за республику! – всхлипывая, ответила девочка.
– А сестры где?
– Их сторож отвел домой.
– А ты почему с ними не пошла?
– Я убежала.
– Вот теперь иди сама домой. А со мной нельзя.
– Ну почему, Гриша?
– А вдруг по нам стрелять начнут? Что я родителям скажу, если с тобой что-нибудь случится?
Юная особа отвела взгляд и ненароком посмотрела в мою сторону. И я буквально оцепенел, пораженный красотой ее зеленых глаз. От нее не укрылось мое смущение, она тоже залилась румянцем и, быстро отвернувшись, безапелляционно заявила Григорию:
– Гимназисты бастуют. В коммерческом и реальном училищах – тоже. Приказчики и рабочие мастерских вышли на улицы. И я дома сидеть не буду!
Я невольно улыбнулся и уже собрался вмешаться в их разговор, чтобы помочь гимназисту урезонить юную бунтарку, но тут меня окликнул кто-то из товарищей, и я присоединился к толпе, несущейся вниз по улице.
Народу в Бесплатной библиотеке набилось около двух тысяч человек. Яблоку негде было упасть. Даже в проходах между рядами стояли люди. Гимназиста Григория придавили к стенке. Я поискал взором его зеленоглазую спутницу и обнаружил ее сидящей рядом со сценой в третьем ряду.
В 11 часов дня начали выступать ораторы. Говорили о Государственной думе, о революции, о главном ее двигателе – пролетариате, о классах, о республике, о положении женщин в современной России.
Но вот народ вроде бы выговорился, время обеда давно минуло, многие проголодались. Митинг затихал.
Но встал из президиума председатель и сказал:
– Господа! Здание библиотеки окружено войсками. Полицмейстер[28] требует, чтобы все учащиеся покинули помещение, остальные же, как организаторы несанкционированного митинга, будут арестованы и отправлены в тюрьму. Так приказал губернатор.
Толпа загудела в негодовании. На сцену выбежал прыщавый гимназист и звонким мальчишеским голосом громко заявил:
– Мы никуда не уйдем. Мы не оставим старших товарищей на произвол полиции. Мы – такие же граждане, как и вы, и готовы идти на любые лишения ради свободы. В тюрьму, на муку, даже на смерть! Нас никто не разъединит!
Потом снова взял слово председатель и предложил оставаться всем здесь и требовать удаления войск. А если будут вытаскивать насильно, то всем сцепиться руками и не выпускать друг друга. Но если у кого есть оружие, то ни в коем случае не стрелять. Чтобы не дать войскам и полиции повода для истребления собрания.
Отправили депутацию к полицмейстеру. Она вернулась ни с чем. Передали, что будто бы начальник полиции поехал советоваться с губернатором.
В проходе перед сценой стали собираться в кружок умеющие петь. Своды театра вздрогнули от тысячи голосов:
Вихри враждебные веют над нами, Черные силы нас злобно гнетут; В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут…От педагогического совета гимназии принесли письмо, и председатель зачитал его:
– «Просим всех мужчин, которые держат в заложниках детей, отпустить их домой…»
Толпа взревела. Неожиданно на сцену выскочила зеленоглазая гимназистка:
– Здесь никто никого силой не удерживает. Здесь все находятся сознательно, по собственному выбору. А если сатрапов беспокоит судьба детей, пусть лучше привезут нам хлеба. Мы с утра ничего не ели.
Кто-то из гласных городской думы выкрикнул из зала:
– Городской голова еще пополудни послал целый воз хлеба сюда – полиция его не пустила. Губернатор запретил. Но городская дума уже постановила: требовать у губернатора нашего освобождения.
Библиотечные узники эти слова встретили бурными аплодисментами и криками «Браво!». Потом опять весь зал стал петь революционные песни.
И только ближе к полуночи по рядам пронеслась радостная новость: солдаты ушли и можно расходиться без боязни быть арестованным.
На выходе толпа встречала нас как героев. Радостные люди обнимали и целовали нас, словно мы совершили какой-то подвиг. Тогда я впервые увидел Потанина. Невысокий, заросший волосами, как гном, он стоял, окруженный ликующей публикой, и буквально весь светился от счастья. Как мне потом рассказали, именно Григорию Николаевичу мы были обязаны своим освобождением. Он возглавил делегацию к губернатору, добившуюся увода войск.
Назавтра проходил митинг в Общественном собрании. Там было уже больше пяти тысяч человек. В колонном зале висел портрет императора в полный рост. И кто-то из ораторов, указывая на изображение Николая II, напрямик заявил:
– Мы не можем больше терпеть, чтобы этот недоумок нами правил!
Толпа взорвалась овацией.
По рядам пустили шапку для пожертвований на вооружение. Каждый давал, что мог. Деньги, кольца, серьги, часы, револьверы, брошки… Я не любил афишировать свое богатство, потому свернул в кармане сторублевку и незаметно сунул ее в шапку. Один студент оборвал со своего сюртука погоны, стоившие больше рубля.
Опьяненные свободой, мы словно испытывали терпение властей. И скоро оно иссякло. Поджигателями столкновения с полицией стали гимназисты. Им, видите ли, вздумалось с «Марсельезой» пройтись по губернскому городу. В коммерческом училище уже шли занятия, но, увидев в окно своих товарищей, шествующих с песнями по Соляной площади, ученики повыскакивали из своих классов и валом хлынули к выходу.
Нашей группой руководил студент Нордвик родом из Благовещенска, живший в общежитии. Он контактировал и с социал-демократами, и с эсерами, и с городской управой. Командир получил задание свернуть молодежный митинг, дабы уберечь детей от столкновения с полицией.
Под его началом я и еще трое студентов поспешили на Воскресенскую гору, где рассчитывали перехватить демонстрацию. Но опоздали. Казаки уже окружили манифестантов и беспощадно лупцевали их нагайками. Испуганные дети бросились за спасением к коммерческому училищу, но директор так и не открыл перед ними двери.
Не знаю, чем бы закончилось это избиение, если бы на помощь не пришли председатель и адвокаты окружного суда. Они распахнули двери своего здания и стали запускать туда гимназистов, а потом выбежали на Соляную площадь и сцепились с казаками. Блюстители порядка поначалу стушевались при появлении служителей Фемиды[29], но полицмейстер, лично руководивший разгоном демонстрантов, взмахом руки велел продолжать. И избиение вспыхнуло с новой силой. Казачьей ногайкой досталось даже председателю суда.
Я заметил, как есаул скомандовал двум казакам следовать за ним.
Я протиснулся вслед. Их целью был адвокат Муромский, вытаскивающий из толпы перепачканную кровью и грязью девчонку.
Адвокат закрывал собой потерявшую сознание гимназистку от казачьих ногаек. Внезапно казаки отступились и переключились на других демонстрантов. Краем глаза я уловил, как сверкнула на солнце вороненая сталь. Это обнажил шашку есаул и направил лошадь прямиком к Муромскому. Мне удалось растолкать мечущихся в панике подростков и встать на пути всадника. Тот бросил на меня удивленный взгляд, ухмыльнулся, мол, одним больше, одним меньше, и замахнулся. Но я выхватил из кармана револьвер раньше и выстрелил в небо. Громовое эхо прогремело над побоищем. Неожиданно наше противостояние оказалось в центре внимания толпы. Есаул стушевался, еще немного погарцевал передо мной на своем вороном жеребце, а потом с гиканьем поскакал прочь. Казаки последовали за ним.
Я помог Муромскому подняться с мостовой, и мы вместе с ним занесли в здание суда все еще находившуюся без чувств гимназистку.
Адвокат смерил меня благодарным взглядом и протянул руку.
– Муромский, Пётр Васильевич, – представился он, а потом поинтересовался: – Кому я обязан своим спасением?
– Коршунов, Пётр… Пётр Афанасьевич, студент юридического факультета.
Новый знакомый продолжал разглядывать меня, силясь вспомнить, встречались мы ранее или нет.
– Коршунов… Коршунов… Фамилия вроде бы знакомая… Я наверняка встречался с вашим батюшкой. Ваши глаза… Я определенно их где-то видел…
– Нет, Пётр Васильевич. Ни со мной, ни с моими родителями вам прежде не доводилось видеться.
Муромский всплеснул руками:
– Ну конечно! Ваши глаза напомнили мне икону Спасителя. Тот же взгляд. Христос с револьвером! В моем спасении проглядывает божий промысел. И все равно перед вами я в большем долгу.
А потом спохватился и ринулся в кабинет, куда унесли девочку.
– Как она?
Пострадавшая уже пришла в себя и сидела за столом с забинтованной головой. На фоне белых бинтов, прикрывших ее темные волосы, зеленые глаза казались огромными и бездонными.
– Ничего страшного, – успокоил Муромского судейский помощник. – Просто кожа на голове рассечена. Не саблей, а плетью. Она упала и ударилась головой о мостовую. Потому потеряла сознание. Но надо, чтобы доктор ее осмотрел.
– Полина, как вы себя чувствуете? Я позвоню вашей тете. Она приедет за вами и увезет домой. Или сам, когда разойдется толпа, возьму извозчика, – предложил адвокат.
За нее ответил внезапно появившийся в дверях гимназист Григорий:
– Не волнуйтесь, Пётр Васильевич. Я уже позвонил маме и рассказал о случившемся. Она скоро подъедет за нами.
А после пожал мне руку.
– Григорий Андреев, – представился он. – Вы спасли мою кузину.
Я тоже назвался.
Муромский представил меня девочке.
– Вот, Полина, этому молодому человеку мы с вами обязаны жизнью. Не приди он на помощь, ушибами и царапинами мы бы не отделались. Пётр Коршунов. А это Полина Игнатова.
Я вежливо, даже несколько чопорно поклонился ей. Она по-детски непосредственно рассмеялась, а потом вспомнила о приличии и улыбнулась, как взрослая женщина, пережившая большое волнение, измученно, но лучезарно.
В городскую управу повалил народ. Родители избитых учеников требовали заклеймить позором через газеты директора коммерческого училища и вообще удалить подобных преподавателей из учебных заведений, уволить с должности полицмейстера, а если губернатор этого не сделает, то обратиться к министру, чтобы он отозвал самого губернатора.
– Казакам не место в городе. Надо отказать им в квартирах…
– Полиции жалованье не выдавать, раз она не может защитить горожан от нападения войск…
– Немедленно приступить к организации городской добровольной милиции…
– Освободить из тюрем политзаключенных…
Народный ультиматум властям обрастал все новыми пунктами.
Из управы митинг стихийно переместился снова в Королёвский театр[30]. Здесь собравшимся был зачитан царский манифест от 17 октября. Его первый пункт – «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» – толпа встретила с ликованием. Но последующий призыв монарха ко всем верным сынам России – «выполнить долг свой перед родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы для восстановления тишины и мира на родной земле» – холодным ушатом отрезвил собравшихся.
– Это ж призыв к погрому!
– Это – не свобода, а жалкая подачка! – резюмировал следующий оратор. – Где свобода печати? Где всеобщее, прямое, тайное и равное представительство в законодательных органах? Этот манифест – надувательство!
К губернатору была направлена делегация гласных, чтобы передать требования возмущенных томичей. Он был вынужден сочувственно отнестись к петиции, пообещал отстранить от должности полицмейстера и выпустить политических заключенных из тюрьмы.
Охрипшие на митингах, мы возвращались в общежитие уже за полночь. Мы шли быстро и обгоняли таких же припозднившихся студентов, железнодорожных рабочих и служащих. Почему-то много встречалось пьяных. Впереди нас в обнимку плелись двое чуть живых мужиков. Когда мы их обгоняли, один с руганью завалился на Сашу Чистякова. Тот хотел ответить на оскорбление, но Нордвик остановил его, и мы быстро пошли вперед, не обращая внимания на пьяные угрозы.
Мы свернули за угол, и я спросил всезнающего Нордвика:
– Неужели и у этих людей когда-нибудь проснется гражданское самосознание? Им же никакая революция не нужна. Дай только пожрать да выпить и запрягай в любую упряжь.
– Проснется! Обязательно проснется! Революция принесет просвещение и в такие темные массы, – заверил командир.
По дороге нам попалось еще немало пьяных. А между тем будки городовых пустовали. Не видно было и патрулей. Все полицейские словно повымерли.
В городскую охрану меня записали под номером 33 и выдали белую нарукавную повязку с большими красными буквами «Г. О.»[31]. От револьвера же я отказался, сказал, что у меня есть свой. Их купили мало, и на всех желающих вступить в ряды милицейской дружины не хватало. Едва раздали оружие, как в городскую управу ворвался перепуганный человек с криком:
– Погромщики идут! С Базарной площади. С портретами царя, флагами и хоругвями. Поют «Боже, царя храни». Все пьяные. Многие вооружены. Моего товарища застрелили из револьвера, а мальчишку – ученика железнодорожного училища – зарезали. Все, кто в форменных фуражках, для них враги!
Раздался звон стекла, и в окна управы полетели булыжники. В двери вломились испитые морды с кольями и палками. Снаружи слышались выстрелы. Наш дружный залп в воздух заставил их ретироваться. И толпа отправились дальше, вверх по Почтамтской.
– Эти обманутые люди могут еще много лиха натворить. В театре Королёва скоро начнется митинг. Мы должны защитить наших товарищей. За мной! – скомандовал Нордвик.
Мы выстроились в каре и пошли вслед за толпой. Возле почтамта на тротуаре лежали еще двое убитых. Студент и рабочий. А черносотенцы[32] сгрудились около дома епископа и, взяв его с собой, чтобы он отслужил молебен за царский манифест, двинулись к Троицкому собору[33].
Там толпа вновь остановилась. Мы попытались проскользнуть вдоль длинного здания Управления службы тяги. Однако нас заметили.
И толпа тут же ринулась на нас. Раздался выстрел, и студент с милицейской повязкой на рукаве схватился за шею. Из нее фонтаном брызнула кровь. Толпа могла нас смять в любую минуту, пришлось стрелять на поражение. Четверо из врагов упали, а остальные бросились врассыпную.
Театр тоже был в осаде. Но здесь хватило предупредительных выстрелов в воздух, чтобы рассеять толпу нападавших. Мы уже собрались возвращаться назад в управу, как вдруг из‑за собора вылетели на лошадях казаки. За ними, бросая вверх шапки и крича «Ура!», возвращались ликующие черносотенцы. Из‑за каменной церковной ограды появились дула винтовок, это солдаты целились в нас.
Армейский офицер взмахнул белым платком, и солдаты дружно опустили ружья. Мы пытались докричаться до него, показывали на свои белые нарукавные повязки: дескать, мы тоже стоим на страже общественного порядка. Но офицер, показывая на Управление железной дороги, прокричал:
– Уходите в здание и вышлите парламентера!
Мы подчинились его требованию. Внутри помещения народу оказалось еще больше, чем на улице. Ведь сегодня выдавали заработную плату железнодорожным служащим. И многие пришли сюда вместе с женами и детьми, чтобы, получив деньги, сразу отправиться по магазинам.
На переговоры пошел Нордвик. С офицером он переговорил подозрительно быстро и вернулся в здание.
– Как попугай заладил: «Вы – самозванцы! Ваша милиция незаконна!» – и требует, чтобы мы сдали оружие. После чего нас арестуют и отведут в тюрьму, как преступников.
– Но ведь управа представила губернатору свое постановление об организации городской охраны. И он не возражал насчет милиции.
– Да я говорил об этом офицеру, но он упрямо твердит про приказ начальника гарнизона о незаконности милиции, нашем разоружении и аресте. А тому, говорит, приказал сам губернатор.
– Да, незавидное у нас положеньице, – констатировал я. – Но ты представляешь, что будет, если мы подчинимся этому приказу, выйдем и сдадим оружие? Да нас тут же толпа разорвет на части…
– И об этом я тоже сказал офицеру. Мол, вы сначала разгоните людей, окруживших здание, а потом ведите нас в тюрьму. Там мы сами сдадим оружие.
– А что ответил офицер?
– Он согласился развести посторонних. Но мы должны разоружиться здесь, а не в тюрьме…
Мнения разделились. Нордвик готов был принять офицерский ультиматум, но при условии, что первыми выйдут гражданские лица. Если солдаты уберегут железнодорожников, тогда можно выходить и самим и сдавать оружие.
– И ты веришь в милость этих людей? – спросил я командира.
– Он дал честное слово офицера, что ни один волос не упадет с нашей головы.
– Ну-ну, – покачал я головой.
У меня перед глазами стояла ухмылка казачьего есаула, который позавчера покушался на Муромского.
– Я им не верю. Ни этому офицеру, ни губернатору. Погром спровоцирован самими властями. Возможно, по подсказке из Санкт-Петербурга. Уж больно все гладко у них получается. Граждане-патриоты вершат самосуд над смутьянами. И не надо никого судить, отправлять в ссылку. А полицмейстер и губернатор – в белых перчатках.
– Да, мне самому во всем этом видится подвох, – согласился Нордвик. – А что прикажешь делать – подвергать риску жизни сотен ни в чем не повинных людей ради нашего с тобой спасения? Мы сделали свой сознательный выбор, встав на сторону революции. А они, Коршунов, простые люди, не революционеры, а обыватели. Они сюда пришли за зарплатой, а не за смертью. Неужели мы возьмем их в заложники ради собственного спасения?
С ним сложно было спорить. Но внутренний голос упрямо твердил мне: револьвер не отдавай! И прав оказался он, а не бедняга Нордвик.
Пока мы дебатировали по поводу революционной морали, черносотенцы все решили за нас.
Мы были на втором этаже управления, отсюда удобнее было держать оборону – больше сектор обстрела, а железнодорожные служащие скопились внизу. Туда зашли два младших офицера и пригласили их покинуть помещение. Некоторые поверили, но стоило им оказаться на улице, как разъяренные христиане набросились на них. Срывали одежду, валили наземь и били поленьями.
Больше желающих покинуть помещение не нашлось. Осажденные могли рассчитывать только на нашу помощь.
Вкусившие крови погромщики ворвались на первый этаж. Железнодорожники успели подняться к нам. А вот перед преследователями мы едва захлопнули дверь. Для пущей надежности придавили ее тяжелым книжным шкафом. И правильно сделали – когда с той стороны начали стрельбу, пули застревали в книгах.
– Пожалуйста, стреляйте вверх. Чтобы не было жертв, – упрашивал Нордвик.
Начало темнеть. По нам палили уже не только черносотенцы, но и солдаты с казаками. Стекол в окнах не осталось вовсе, и студеный осенний ветер гулял по комнатам. Но нам было жарко, едва успевали отражать атаки.
Поняв, что нас просто так не возьмешь, противники решили изжарить нас в огне. Из Королёвского театра натащили кресел, стульев, их ломали и сбрасывали в кучи подле стен. Откуда-то прикатили две смоляные бочки и подожгли. Пламя моментально охватило первый этаж. Все заметались в поисках спасения. Женщины кричали. Дети плакали. Иные в отчаянии выпрыгивали из окон. Но казаки рубили их шашками, сверкавшими в зареве пожарища. А потом черносотенцы, как шакалы, добивали жертвы поленьями. Жуткое зрелище!
Единственным спасением для нас был плохо освещенный Московский тракт. Но чтобы добраться до него, надо было пересечь двор, а там тоже были черносотенцы.
Уцелевшие милиционеры собрались перед дверью и на счет «три» распахнули ее. Наружу вывалили всем скопом, поливая врагов свинцовым дождем. Погромщики не ожидали такого напора и были вынуждены отступить. Выведя из огня служащих и членов их семей, мы с Чистяковым еще раз вернулись в задымленное, пылающее здание, поднялись на второй этаж, кричали, есть кто живой, но никто не отозвался.
Театр Королёва уже пылал, когда мы выбрались наружу. Пожар освещал двор не хуже полуденного солнца. У ворот, ведущих на Московский тракт, вновь появились погромщики. Мы выстрелили в их сторону, и они расступились.
Но и на улице нас не перестали преследовать, солдаты стреляли нам в спину.
Нордвику, Чистякову и мне удалось вырваться из этого ада. Мы были уже далеко от площади. За черным силуэтом университетских клиник виднелось зарево пожара, и вдалеке были слышны выстрелы.
Неожиданно из‑за угла прямо на нас выехал казачий патруль. В темноте мне трудно было разглядеть их лица. Первым шел Нордвик, он практически налетел на лошадь казачьего предводителя.
– Господа, сдайте оружие. И мы вас проводим в тюрьму, – спокойно и властно сказали из темноты.
Нордвик без малейшего колебания отдал свой револьвер. Офицер подбросил оружие в руке, словно проверяя по весу, настоящее или нет, и вдруг рубанул саблей наотмашь нашего командира. Тот, не издав ни звука, упал на землю. С Чистяковым мы выстрелили одновременно, но попали в одного и того же казака. Он кулем повалился с лошади, а офицер и другой казак остались в седлах.
Мы прыгнули в густой тальник по другую сторону тракта. Казачьи лошади не могли пробраться через эти заросли, и всадникам пришлось спешиться. Мне не повезло, при прыжке я подвернул ногу. Попробовал на нее встать, но едва сдержал крик от боли. О бегстве пришлось забыть. Я затаился в зарослях и молил Бога, чтобы преследователи не нашли меня в темноте. Но на призыв офицера с площади прибежали упустившие нас патриоты. У них в руках были факелы, хоронившие мою надежду на спасение.
– Сюда, сюда свети, – велел кому-то офицер. – Один сюда побежал, я точно видел.
Голоса приближались. Их было двое. Видимо, преследователи разделились. Часть отправилась за Чистяковым, а эта парочка – за мной. В колышущимся свете факела я увидел самодовольное лицо усатого есаула, того, что охотился на Муромского на Соляной площади.
– А, старый знакомый! Вот так встреча! – радостно протянул он, наводя на меня револьвер.
Однако я выстрелил первым. Есаул повалился прямо на меня. Второй не замедлил этим воспользоваться и стал бить меня пылающим факелом по голове. Я пытался увертываться, а потом провалился куда-то в пышущую жаром преисподнюю…
Самый выдающийся художник на свете – это мороз. Никто другой не в состоянии изобразить на стекле столь изощренные узоры. Вначале эти причудливые завитушки и виньетки напоминали мне картины из Дантова «Ада»[34]. Вот черти зажаривают грешников в большом котле, а вот корчится в муках посаженный на кол сластолюбец. Однако чем дальше я уходил от смерти, тем более оптимистические картины выискивало на замерзшем окне мое воображение. Когда я стал воспринимать произведение Деда Мороза как географическую карту Северной Америки и отслеживать на ней Миссисипи и Кордильеры, до меня наконец-то дошло, что я жив и нахожусь все еще на этом свете, а не на том.
Постепенно я стал различать лица склоняющихся надо мной людей. Очаровательной сестры милосердия, кормящей меня из ложечки. Пожилого профессора с дряблой от старости кожей на щеках и шее. На какой-то миг спросонья мне показалось, что передо мной мелькнуло личико зеленоглазой красавицы, совсем еще девочки, которую я раньше определенно где-то видел.
Прошло еще немало времени, пока сознание окончательно вернулось ко мне. Наконец меня стали навещать посетители.
Первым со связкой баранок пришел Чистяков. Он сел рядом со мной на стул и все рассказал по порядку.
– Своих-то я сразу перестрелял. Я больше за тебя переживал. Один выстрел, а потом только пыхтение и сопение. Ну я и пошел на эти звуки. Гляжу, а из-под есаульской туши только твоя голова торчит, и какой-то тщедушный мужичок лупит по тебе дымящейся палкой. Я его сразу и подстрелил. Подбежал ближе, а у тебя все лицо в крови. Ну, думаю, убили. А когда вытащил из-под есаула, прислушался к груди, понял, что ошибся. Сердчишко-то еще бьется. Взвалил я тебя к себе на плечи и понес прямо в клинику. Благо, она рядом – только в горку подняться. Дежурный врач сразу отправил тебя в операционную. Говорят, даже в черепушку хирурги заглядывали. Потом два месяца без сознания. Уже студентам тебя как экспонат стали показывать. Доктор сильно сомневался, что ты выживешь. А сейчас, напротив, считает, что скоро встанешь на ноги. Только он одного понять не может: почему ты до сих пор не говоришь? Вроде бы мозг у тебя не поврежден.
Я улыбнулся, попробовал пошевелить рукой – пальцы ожили. Дальше – больше. Оторвал руку от постели и пальцем показал на лежащий рядом на тумбочке карандаш и листок бумаги.
Чистяков понял меня сразу и протянул мне письменные принадлежности. Кое-как, корявым почерком я вывел: «У меня такое уже было. В детстве».
– Ну и здорово. Значит, скоро совсем поправишься. Ты отлично выглядишь. Только небольшие шрамы остались. Баки подлинее отрастишь, и никто ничего не заметит, – подбодрил меня товарищ.
И начал рассказывать мне о последних событиях, случившихся в Томске и стране за время моего беспамятства.
– Погром продолжался еще три дня. Грабили дома, лавки, магазины, фабрики, принадлежащие евреям. Даже дом городского головы разгромили. И только потом войска разогнали погромщиков. Сейчас ведется следствие. Выявляют зачинщиков погрома. Полицмейстера и губернатора отстранили. Кстати, есаул, зарубивший Нордвика, тоже оказался живучим. В соседней палате лежал. Выписался на днях. Но он уехал из города. Перевели от греха подальше, кажется, в Омск. Зовут его Виктор Вдовин, чтобы ты знал. Если вдруг встретитесь еще, прошу тебя – не промахнись. В городе уже целых двадцать профсоюзов. Создана новая партия – народной свободы[35]. Туда почти все наши профессора записались. Да и студенты. Но для меня лучше РСДРП[36] все равно ничего нет. Ты ведь тогда в споре с Нордвиком оказался прав. Эти погромы были спровоцированы из столицы и прошли по всей стране. И в Москве, и в Одессе, и в Кронштадте, и в Польше.
Об этом сам Ленин в «Искре» писал. Давай поправляйся быстрее. Нашей боевой дружине тебя очень не хватает.
Я отрицательно помотал головой.
– Почему? – удивился Чистяков, а потом схватился за голову, вспомнив нечто очень важное. – Ты же, наверняка, теперь к эсерам пойдешь. Ведь твое лечение лично Муромский контролирует, а он в их партии активную роль играет. А Потанин, как узнал, что его земляк столько людей во время погрома спас, лично тебя навестил. Но ты тогда был без сознания. А сын и племянница Андреева вообще возле тебя все ночи напролет дежурили. В общем, ты в Томске сейчас личность известная. Можно сказать, герой. О тебе такие люди пекутся, можно только позавидовать. Ну ладно. Ты прости уж, что совсем заболтал тебя, больного. Давай выздоравливай.
Через два дня я самостоятельно встал с кровати, подошел к заледеневшему окну. На улице валил снег. Он покрыл собой и превратил в большой сугроб пожарище на месте театра Королёва. А каменный остов бывшего железнодорожного управления безжизненно смотрел на меня пустыми глазницами окон, как полуразрушенный древнеримский Колизей. И я вдруг отчетливо понял, что вся моя прежняя жизнь осталась в прошлом. Только эти руины и укрытые сугробами головешки напоминают о ней. С одной стороны, мне было немного грустно расставаться с моим революционным студенчеством, но с другой – новая, незнакомая, интересная жизнь манила своими перспективами. И от осознания этого мне стало легко и спокойно.
Глава 3. Сибирский характер
Щеки горели под ладонями. Словно это его самого, а не прадеда изуродовали факелом в овраге на Московском тракте. Пётр Коршунов отделался легкими шрамами, зато на лице его правнука откуда-то взялись ожоги. Мистика, и только.
Может быть, и непонятная болезнь, которой он переболел в детстве, была только поводом, а истинная причина корявости его лица в каких-то недоступных человеческому пониманию генетических, энергетических, судьбоносных механизмах или, по-другому говоря, божьем промысле? Досталось пращуру, а на нем сказалось.
Захотелось напиться, и тотчас он почувствовал голод. История настолько захватила его, что он забыл о времени. Взглянул в окно и не поверил своим глазам: на улице было темно. Окликнул Жаклин, но никто не ответил. Он обошел все комнаты, но родственницы не было.
Холодильник на кухне был не только пуст, но и вообще отключен. Пришлось одеваться и тащиться на улицу.
В круглосуточном мини-маркете за углом дома он купил еды, кофе и виски. Вернувшись в квартиру, нарезал бутерброды, сварил кофе и, собрав весь ужин на почерневший от времени мельхиоровый поднос, снова отправился в кабинет. Выпивая и закусывая, он открыл вторую тетрадь прадеда.
Из клиники меня выписали лишь на Масленицу. С двигательными рефлексами стало все в порядке, а вот с речью докторам справиться не удалось.
– Вы явно не немой, но почему не можете говорить, современной науке не известно. Скорее всего, мы имеем дело с каким-то психическим отклонением. Возможно, вы сами когда-нибудь вдруг возьмете и заговорите. Но когда это случится и случится ли вообще, я не знаю, – сказал мне перед выпиской седой профессор и отвел в сторону глаза.
Томская общественность была занята выборами в Государственную думу. Я не хотел никого загружать своими проблемами и нанес всего по одному визиту вежливости тем, с чьей помощью оказался на ногах.
Муромский первым делом поинтересовался, как у меня с деньгами, если нужна какая-то помощь на дальнейшее лечение, то он готов оказать ее. Я отрицательно покачал головой, мол, в средствах не нуждаюсь. Тогда адвокат посоветовал мне отправиться лечиться за границу.
– Поезжайте в Германию. Нет, лучше сразу в Швейцарию. Там самая передовая медицина в Европе. А какой воздух в Альпах! Я, правда, сам там не бывал, но от авторитетных людей слышал, что одним только горным воздухом можно лечиться.
Я улыбнулся и утвердительно кивнул. Да, собеседник из меня теперь был никудышный. И хозяин дома облегченно вздохнул, когда я встал и потянулся за пальто.
Визит к Потанину получился более душевным. В комнате, которую он снимал, не было даже свободного места, чтобы присесть. На стульях и лавке были разложены какие-то географические карты, раскрытые книги, газетные вырезки, прокламации. Маленький, сухощавый, волосатый, как Вий[37], насупленный старик в поношенном черном сюртуке, прикрытом сверху серым пледом, восседал за несоизмеримо огромным для него захламленным столом и быстро что-то писал. Увидев меня, он встал и вышел на середину комнаты. Мне даже не пришлось представляться – писать на бумаге, кто я. Григорий Николаевич сам узнал меня, хотя видел лишь единожды, перевязанного и без сознания. Мы сели. Потом он какое-то время пристально смотрел на меня, но я не испытывал от этого никакого неудобства. Он не просто читал мои мысли, а как бы разговаривал со мной глазами.
И вдруг неожиданно спросил:
– И когда вы намереваетесь отправиться на родину?
Могу поклясться, что ни одна живая душа не знала об этом моем намерении. Только вчера, выходя от Муромского, я решил перед отъездом в Швейцарию посетить Павлодар и попытаться отыскать там знахарку, которая однажды уже излечила меня от немоты.
Пораженный его внутренним зрением, я поочередно загнул все пять пальцев на ладони, мол, через пять дней.
Но Потанин в своих мыслях убежал вперед и произнес фразу, которую я запомнил на всю оставшуюся жизнь:
– В любом положении есть свои достоинства. Молчаливые люди мне всегда нравились больше, чем болтуны. В наш говорливый век слова уже малого стоят. Окажись я на вашем месте, наверное, занялся бы каким-нибудь затворническим трудом. Например, стал бы учить иностранные языки, написал многотомную эпопею или, на крайний случай, овладел стенографией. У сильных мира сего особо ценятся помощники, умеющие держать язык за зубами.
Благодаря этому драгоценному совету я в дальнейшем не опустился до уровня никчемного калеки, а выжил и нашел свое место в жизни.
Григорий Николаевич огорченно добавил:
– Вы уж извините меня, уважаемый Пётр Афанасьевич, что даже чаем вас угостить не могу. Кухарка уже ушла. Я полагал, что у меня к ужину остался хлеб или кусок какого-нибудь пирога, но ошибся…
В его голосе чувствовалась такая искренняя досада, какую испытывают только дети, когда не могут сделать чего-то хорошего и важного для других, и этого стыдятся.
Я припал лбом к его костлявой, шершавой руке, точно прося благословения. А уходя, обронил на заваленный манускриптами стул у двери десятирублевую купюру.
В доме статского советника[38], ревизора акцизного управления, публициста и археолога Андреева[39] меня приняли как родного, усадили за стол и без ужина не отпустили. Хотя сам хозяин, недавно вернувшийся из поездки, сильно простудился и вышел к столу с перевязанным шерстяным шарфом ухом.
Познакомившись с Андреевым, я почувствовал себя счастливчиком. Вот уж кто должен был сетовать на собственную физиономию! Его лицо было неумело скроено из отдельных лоскутов кожи, стыки между которыми представляли собой неприятные шрамы. Будто бы какой-то дикий зверь разукрасил его своими когтями. Однако Александр Васильевич, казалось, вообще не обращал внимания на свою внешность, вел себя настолько легко и непринужденно, что я невольно проникся симпатией к этому человеку. Он так увлеченно рассказывал о древних скифских курганах в верховьях Енисея, изучение которых способно изменить само представление о мировой истории, что такие мелочи, как шрамы, забывались сразу.
Я вначале полагал, что раз у этого господина целых пять дочерей, то каждый молодой человек должен восприниматься здесь как возможный жених. Но потом понял, что хлебосольство и радушие в традициях этой семьи. Мне не нужны были никакие слова для общения с этими милыми, добрыми и открытыми людьми. Хватало улыбок, мимики, жестов. За столом царила веселая и непринужденная атмосфера, в которой я совершенно не чувствовал своего физического недостатка. Дочери археолога при всей их душевной симпатичности как женщины не произвели на меня никакого впечатления. В отличие от сидевшей напротив Полины, приходившейся главе семейства какой-то двоюродной или троюродной племянницей. Ее короткие, стремительные взгляды заставляли меня краснеть как мальчишку. А ведь этой девочке всего двенадцать-тринадцать лет, совсем еще дитя. Мне нельзя испытывать к ней таких взрослых чувств.
Прощаясь, и хозяин, и хозяйка приглашали меня еще в гости. Я соглашался, кивал головой, улыбался.
В гостинице, куда я перебрался после выписки из клиники, я проворочался всю ночь без сна. А на следующее утро пошел на ямскую станцию, сговорился с возничим о цене проезда до Павлодара. И хотя у меня в Томске еще оставались дела, в тот же день скоропалительно уехал.
Моя поездка в Прииртышье не увенчалась успехом. Бабка Василиса умерла два года назад. Лечить меня от немоты было некому, оставалось только воспользоваться советом Муромского и поехать на лечение в Швейцарию. Но вначале я решил побывать в Семипалатинске. На моей совести лежал груз, принятый вместе с наследством Коршуновых. После моего воскрешения и возвращения детского недуга я стал верить в судьбу и хотел облегчить свою совесть. По завещанию моей приемной матери я унаследовал часть того, что по праву принадлежало другим людям. Второй жене купца Коршунова и ее детям.
Приехав в Семипалатинск, я остановился в гостинице и стал наводить справки об их судьбе. К сожалению, то, что я узнал, было трагичным. Вскоре после гибели Афанасия Савельевича его незаконная жена наложила на себя руки, и дети – мальчик и девочка двенадцати и десяти лет от роду – остались сиротами. Их взяла к себе в дом сестра покойницы. Но она имела склонность к пьянству и вела разгульный образ жизни, поэтому ничего хорошего из родных детей купца Коршунова не вышло. Его дочь стала проституткой, заболела дурной болезнью и наградила ею какого-то офицера. Офицер, в свою очередь, – жену. Та возьми да отравись. Муж тоже не пережил горя и позора. Он вначале застрелил дочь Коршунова, а потом себя. Сын купца тоже пошел по кривой дорожке. Связался с лихими людьми и стал грабить торговые обозы на большаке. Вначале везло, и разбойники уходили с богатой добычей. Но однажды замахнулись на кассу, которую везли под усиленной охраной. Экспроприация не удалась. Охранники перестреляли всех налетчиков, в том числе и младшего Коршунова. Так бесславно закончился род Афанасия Савельевича. Остался один я, который не имел к нему никакого отношения, но носил его фамилию.
В Томск я заехал всего на пару дней. Нигде в обществе не появлялся. Собрал вещи, перевел деньги в европейские банки и на первом же поезде уехал в Москву. Оттуда в Берлин. Затем в Женеву…
За семь лет своего европейского турне я объездил весь Старый Свет, изучил десять европейских языков и стенографию. Пробовал себя на литературном поприще. Но первые опыты оказались не слишком удачными, и я оставил литературу. Зато прослушал курс по биржевому делу в Оксфордском университете, потом купил акции сталелитейных компаний, и вскоре мой капитал вырос как на дрожжах. В один прекрасный момент я сказал себе: «Хватит», – продал акции, почти всю наличность перевел в швейцарские франки и отдал их на хранение «альпийским гномам»[40], оставив малую часть на жизнь.
Однако речь до конца ко мне так и не вернулась. Сколько ни бились надо мной логопеды и психиатры, я научился только издавать отдельные звуки, как животные. Язык же глухонемых я принципиально не стал изучать. Общество нормальных людей было моим. Пусть многие считали меня немым, зато загадочным и таинственным. И недостаток я перевел в разряд моих достоинств. Оказывается, немногословные мужчины производят в обществе впечатление гораздо более сильное, чем самые неистовые ораторы. Если в ваших глазах читается интеллект, вы образованны и недурны собой, хорошо одеваетесь, имеете счет в банке, умеете вести себя в обществе и при этом не чувствуете себя скованным, то будете приняты и обласканы в самых высоких кругах.
Последние полтора года я прожил в Праге. Этот город запал в мою душу, и я на удивление быстро сроднился с ним. Но Сибирь все равно оставалась роднее. К тому же в Европе пахло большой войной. А я не испытывал ни малейшего желания находиться в трудное время на вражеской стороне.
На станции Тайга к нашему поезду прицепили новый паровоз, и вагоны покатились обратно. Но поезд шел уже не на запад, а на север.
Я ехал из Москвы в вагоне первого класса единственным пассажиром в купе, и проводники были чрезвычайно предупредительны. Едва состав отошел от станции, как один из них, в белоснежном фартуке, заглянул в мое купе и услужливо поинтересовался:
– Чаю не желаете?
Я улыбнулся и показал на пустой стакан, стоявший на столике.
– Сию минуту!
Не успел я полюбоваться проносившимися мимо заснеженными елями, как передо мной на белой салфетке появился ароматный свежий чай в блестящем подстаканнике, а также сахарница и блюдце с баранками.
Улыбающийся проводник все еще стоял в дверях.
– Еще чего-нибудь изволите?
Я показал ему на диван, приглашая присесть. Он оглянулся в вагонный коридор и, убедившись, что его более никто не зовет, исполнил мою просьбу. Это был мужчина лет сорока, явно сибиряк. С характерной для здешних мест правильной русской речью и свободными манерами. Его предельная учтивость с пассажирами не имела ничего общего с холопским заискиванием перед господами, что так распространено среди обслуживающего персонала в Европейской России. Он просто хорошо выполнял свои служебные инструкции, не поступаясь при этом своим человеческим достоинством.
На лацкане его форменного пиджака блестела бляха с надписью «Станция Томск‑II». Возвращаясь после длительного отсутствия, я хотел хоть немного узнать, чем живут и дышат нынешние томичи.
Поводом для разговора послужило поездное расписание, на котором я обвел карандашом названия трех станций: Межениновка, Томск-I и Томск-II – и поставил перед ними жирный знак вопроса.
– О, вы, видимо, давно не были в Томске! – проводник понял мою проблему с полнамека. – Это еще в девятьсот девятом году сперва Межениновку переименовали в Томск первый, а ту станцию, что прежде называлась просто Томском, – в Томск второй. А чуть погодя станцию Басандайка назвали Межениновкой. Поначалу многие пассажиры путались. Иные важные господа, которые общение с нашим братом считают ниже своего достоинства, выходили на Межениновке и оказывались в глухой тайге. Их убеждаешь: вам, поди, в Томск надо, еще рано. Ведь явно не в деревню едут с дорогими чемоданами. Одних таких не удержал, высадились да еще меня отругали как последнего дурака. А потом начальству жалобу написали, мол, тридцать верст до города на лошадях добирались. Я на имя самого начальника Управления железной дороги объяснительную записку писал. Слава богу, разобрались и не прогнали меня со службы. А вы давно в Томске были?
«1906» – начертал я на расписании.
– Ну вы тогда вообще город не узнаете! – протянул проводник, являвшийся, похоже, большим патриотом.
Кстати, я заметил, что после потери голоса мне стало гораздо легче вызывать на откровенность даже малознакомых людей. В человеке потребность быть услышанным и понятым развита гораздо сильнее, чем самому услышать и понять другого человека. Ведь подавляющему большинству Homo sapiens[41] близки и понятны только свои проблемы, а нужды других мало интересны. Любая беседа подразумевает общение минимум двух людей. Причем вначале говорит один, излагает свои мысли или изливает собственную душу, а другой в это время слушает его и ожидает своей очереди. На митингах же вообще бедные ораторы томятся в длинных очередях и вынужденно слушают бредовые идеи своих предшественников, дожидаясь, когда же им дадут слово. В моем случае – все наоборот. Я не претендую даже на незначительную реплику, поэтому не сковываю собеседника никакими обязательствами по отношению к своей персоне. Он не рискует быть прерванным на половине фразы или неправильно понятым. Я только слушаю, слушаю и слушаю. Очень внимательно и всегда с интересом. И людям это нравится. Они раскрываются в разговоре со мной, иногда выдавая такие секреты, такие интимные тайны, о которых не сказали бы даже под пыткой. Ведь я – идеальный собеседник. Не спорю, не противоречу, не повышаю голоса. Нечто среднее между собакой и пастырем. Но лучше собаки, потому что все понимаю, а священника – потому что не стану наставлять на путь истинный решившего мне исповедоваться.
Память проводника отличалась любопытной избирательностью. События из политической, промышленной, образовательной, культурной и торгово-финансовой сфер городской жизни, будь то выборы в Государственную думу или назначение нового губернатора, оставались им совершенно не замеченными, зато чисто житейские, обывательские вещи он запоминал во всех подробностях.
«Я хочу поселиться в Томске на постоянное жительство. Но не знаю, где остановиться по приезде», – написал я на обратной стороне расписания.
Проводник оценил мою одежду и багаж:
– Лучше гостиницы, чем «Европа», в Томске нет. Кому средства позволяют, все останавливаются там. От вокзала Томск-1 до нее на автомобиле проезд стоит тридцать копеек. Ходит и омнибус на восемь персон. Но можно и на извозчике. Так дешевле.
Внезапно в проходе раздался шум. Проводник извинился и тут же выбежал из купе. Мне тоже стало интересно, и я выглянул за ним. Это пассажирка из дальнего купе вытаскивала свои огромные чемоданы, хотя до Томска оставалось ехать еще больше двух часов.
По своему внутреннему убранству гостиница «Европа» оправдывала свое название. Мраморные лестницы покрывали мягкие ковры, а высокие потолки украшала лепнина. В центральном холле и коридорах стояли экзотические растения в больших керамических горшках и деревянных кадках. Причудливые листья, отражаясь в развешанных на стенах зеркалах, создавали у постояльцев ощущение, что они находятся вовсе не в холодной Сибири, а в какой-нибудь экваториальной стране. Из большого окна моего номера открывался вид на устье речки Ушайки, где она впадала в Томь, одиноко стоящее на высоком берегу здание ресторана «Славянский базар», причальные склады, торговую биржу и базарную площадь. Хотя цены в гостинице даже мне, человеку небедному, показались явно завышенными, все же я решил остановиться здесь на пару-тройку дней, чтобы осмотреться и подыскать приличное постоянное жилье на приемлемых условиях.
Плотно поужинав в «Славянском базаре» ухой из осетрины и пельменями в грибном соусе, я прошелся по вечернему городу, с наслаждением вдыхая студеный сибирский воздух. Центр заметно преобразился в лучшую сторону. Прибавилось освещения. Стало больше фонарей, и витрины магазинов тоже источали электрический свет. Я зашел в книжный магазин Макушина[42] и накупил разной литературы. Книгу «Очерки русско-монгольской торговли», потанинскую брошюру «Областническая тенденция в Сибири», а еще местные газеты и журналы.
Поднявшись в свой номер, первым делом я просмотрел газету «Сибирская жизнь» в надежде увидеть знакомые фамилии. Особенно меня интересовал публицист Андреев, дядя зеленоглазой девочки, мысли о которой не оставляли меня до сих пор. Я боялся признаться себе в том, что именно желание увидеть это прелестное создание было решающим в выборе моего дальнейшего места жительства.
«Какая наивность и самонадеянность! – голос рассудка пытался урезонить мои чувства. – Ведь минуло целых восемь лет, девочка давно выросла и с ее необыкновенной красотой наверняка уже вышла замуж, а может быть, закончила учебу и уехала из города навсегда».
Но мне очень хотелось верить, что она здесь, свободна и помнит меня. К моей величайшей радости, Александр Васильевич Андреев значился в числе сотрудников редакции в качестве заведующего сибирским отделом. Я уже стал планировать визит в его хлебосольный дом. И тут мне попался на глаза журнал под названием «Сибирский студент», купленный мною больше из‑за ностальгии по былым университетским временам, чем из‑за полезности. Статья о сибирском патриотизме была подписана М. Шаталовым. В свою томскую бытность я знавал одного Шаталова. Он учился на юридическом факультете тремя курсами ниже, крутился в эсеровской среде. Звали его Михаилом, но студенты его иначе как отцом Бонифацием не величали. Отчество у него было такое оригинальное – Бонифациевич. До поступления в университет он учился в духовной семинарии. И внешне более походил на священнослужителя, чем на революционера. Лисьи черты лица, тихий и вкрадчивый голос выделяли его из сверстников. Я бегло пробежал глазами журнальные страницы и в разделе выходных данных прочитал: «Главный редактор – Шаталов Михаил Бонифациевич»[43]. Вопрос, кто введет меня в томское общество, решился сам собой.
Заваливаться без приглашения в гости к Андрееву, Муромскому или Потанину после шапочного знакомства и семилетней отлучки было не совсем прилично. Я надеялся, что гидом по современному Томску станет мой старый товарищ Чистяков, но, где его отыскать, не имел ни малейшего понятия, а Шаталов нашелся сам. И, судя по его положению в городе, легко мог ввести меня в круг передовой здешней интеллигенции.
Редакция журнала «Сибирский студент» располагалась на втором этаже главного университетского корпуса в узком, напоминающем монашескую келью кабинете. За столом в глубине комнаты, у самого окна, выходящего на задний двор, корпел над письмом молодой человек с давно не стриженной, растрепанной шевелюрой и жидкой бородкой.
– Вы ко мне? – спросил он, прищуриваясь и поправляя спавшее пенсне.
Я подошел ближе и приветливо улыбнулся.
– Бог ты мой, Коршунов! – с неподдельной радостью воскликнул главный редактор.
– Сколько лет, сколько зим! – продолжал он приговаривать, разглядывая меня. – Ну ты и впрямь выглядишь как английский джентльмен. Словно про тебя Пушкин писал в «Онегине»: «Как dandy лондонский одет – и наконец увидел свет». Ну хорош, хорош! Ничего не скажешь. Слушай, а ты же ни капельки не изменился. Только усы с бакенбардами отрастил. Но они тебе к лицу. И почему это в Европе люди так долго не стареют? Не то что мы, затерянные в евразийской глуши. Ты же года на три постарше меня. Но разве нас можно сравнить? Я уже пожилой господин, – он склонился и показал проплешину на голове, – а ты – франт, жених, донжуан. Бедные томские барышни, они все теперь будут сохнуть по тебе, а нас, бедных донкихотов, оставят без внимания.
Я достал из внутреннего кармана пальто блокнот в переплете из мягкой кожи и карандаш в серебряной инкрустированной вставке – эту изящную вещицу я приобрел в Париже – и написал на листке: «Я остановился в гостинице «Европа». Буду рад тебя видеть, когда ты освободишься».
Шаталов прочитал записку и сразу предложил выпить пива в мужской компании. Он зайдет за мной часам к шести.
Я улыбнулся в знак согласия и откланялся.
Редактор заехал за мной на извозчике без опоздания и, отпустив комплимент по поводу моего номера: «Богато живешь!» – заторопил меня.
– Я заказал столик на двоих в Общественном собрании. В тамошнем буфете готовят вкусно и недорого. Но если опоздаем, то наши места отдадут. Интеллигентная публика полюбила это заведение.
Я быстро оделся, и мы спустились по лестнице. Шаталовскую предусмотрительность относительно извозчика я оценил. К вечеру мороз окреп, а мое модное драповое пальто явно не соответствовало здешнему климату.
В буфете Общественного собрания, несмотря на довольно ранний для ужина час, было действительно многолюдно. В заведение то и дело заглядывали хорошо одетые господа, но, увидев, что свободных мест нет, удрученно уходили прочь.
Шаталов заказал четыре большие кружки свежего крюгеровского пива[44] и закуску.
– Ты в Томске по делам или как? – спросил меня он, сдувая с кружки пивную пену.
Я заранее приготовил свой блокнот и быстро написал: «Хочу остаться здесь. Мне нужно снять приличную квартиру и поступить на службу».
Отец Бонифаций выразительно посмотрел на меня и уже с некоторым высокомерием поинтересовался:
– Извини, конечно, но у тебя какая имеется специальность? Если мне не изменяет память, то диплом правоведа ты так и не получил. Довелось доучиться в каком-нибудь университете?
«Юридического диплома у меня до сих пор нет. Хотел бы вновь восстановиться на нашем факультете. Правда, еще изучал финансы в Оксфорде, но получил только сертификат. Владею десятью европейскими языками. Хорошо знаком со стенографией. Умею печатать на машинке».
Шаталов призадумался, пригубил пиво и ответил:
– Относительно квартиры не беспокойся. Найдем в самом центре и даже с телефоном. Что касается службы – с этим сложнее. На губернских вакансиях героев революции не жалуют. Университет тебе вначале надо закончить. Остается частный сектор, местное самоуправление и, может быть, суд. Чтобы найти хорошее место, нужно время. Но если тебя не сильно заботит денежная сторона, – редактор еще раз окинул взором мой дорогой костюм, – и ты просто жаждешь интересной работы, где все твои навыки будут востребованы, то я могу пристроить тебя хоть сегодня.
Настала пора мне выразить взглядом свое удивление. На какую же работу решил определить меня Шаталов?
Но Михаил Бонифациевич, похоже, решил помучить меня и ходил вокруг да около:
– Эта работа важна для всего человечества. Но за нее ты не получишь ни копейки. Ну как, согласен?
«Что я должен делать?» – написал я в блокноте.
Официант принес еще пива. Шаталов явно не спешил с ответом. Он выпил полкружки и поинтересовался:
– Ты ведь знаком с Потаниным?
Я утвердительно кивнул головой.
– И наверняка знаешь, в какой он проживает нищете. Обещанная от географического общества пожизненная пенсия за путешествие по Северо-Западной Монголии – тысяча рублей ежегодно – куда-то испарилась. От казны он получает всего 25 рублей в месяц. Невеликие деньги по нынешним временам. К тому же Григорий Николаевич недавно женился…
Я открыл рот от изумления. Если в 1905 году томичи праздновали его семидесятилетие, то сейчас ему уже около восьмидесяти!
– На поэтессе из Барнаула Павловой[45]. Ты не читал ее «Песен сибирячки»?
Я покачал головой.
– И не читай. Ничего особенного. Но старик от нее без ума. Она женщина еще молодая и весьма экзальтированная. Выходя замуж за маститого старца, рассчитывала на безбедную жизнь. А с него много ли возьмешь? Он сам с себя снимет последнюю рубашку и отдаст ближнему. А теперь она пилит его целыми днями за свою погубленную молодость. Мы, его ученики, решили помочь Григорию Николаевичу содержать семью. Предложили ему написать мемуары и издать их в «Сибирской жизни», а в случае успеха – и в Санкт-Петербурге отдельной книгой большим тиражом. Весь гонорар – Потанину. Ведь он – фигура всероссийского масштаба. После смерти Толстого он вообще на всю империю один такой остался.
Я вопросительно смотрел на Шаталова и никак не мог взять в толк, при чем тут я.
– Сам-то сибирский дедушка за это предложение ухватился с великим энтузиазмом. И сказать ему есть что. Какая жизнь прожита! Вот только ослеп он почти совсем. Без секретаря работать не может.
Тут я начал понимать, к чему клонит мой собеседник.
– У Григория Николаевича от добровольных помощников отбоя нет. Поработать рядом с великим человеком – уже честь. Только все они женского пола. А жена его Мария Георгиевна ревнует старика к каждой юбке. Истерики на весь дом закатывает. А он ее еще и подначивает, сам кокетничает с секретаршами. И вдруг появляешься ты: мужчина, умный, интеллигентный и, главное, молчаливый. К тому же знаешь стенографию и языки. Поверь мне, потанинские труды заслуживают того, чтобы их читали европейцы. Мне кажется, что тебя послала сама судьба. Ну как? Едем?
Я пожал плечами: мол, куда?
– К Григорию Николаевичу. Сегодня как раз пятница. Он принимает гостей. Послушаем мудрого человека. Заодно, может быть, и договоритесь.
Щелчок кнутом по спине каурой кобылы далеким эхом отозвался в кристальном морозном воздухе, и извозчик помчал нас вниз по Почтамтской. Сани хорошо скользили под гору по занесенной снегом мостовой. Обогнув пассаж Второва, мы проехали вдоль Ушайки и, лихо перемахнув через Думский мост, резко остановились у начала Ефремовского взвоза, ведущего в гору к католическому костелу.
Шаталов расплатился с возничим, и мы поднялись на высокое крыльцо. В сенях было тоже холодно. Мои ноги в австрийских туфлях так замерзли, что я их почти не чувствовал. Отец Бонифаций для вежливости позвонил в колокольчик третьей квартиры и сразу потянул дверь на себя.
Она отворилась, и мы втиснулись в узкую прихожую, завешанную шубами, шинелями и пальто. Застеленный домотканым половиком пол был завален валенками и сапогами. Я принялся расшнуровывать туфли, но выглянувшая из комнаты женщина средних лет строгим голосом приказала:
– Не разувайтесь. У нас холодно. Давайте ваше пальто, я отнесу его в спальню.
Шаталов, уже успевший разоблачиться и приглаживающий перед тусклым зеркалом свою растрепанную шевелюру, представил меня даме.
Это оказалась хозяйка квартиры, жена Григория Николаевича, Мария Георгиевна. Она жеманно протянула мне для поцелуя свою белую ручку. Мне почему-то вспомнилось стихотворение Саши Чёрного[46], которое я недавно читал в «Сатириконе»[47] и запомнил почти наизусть:
Она была поэтесса, Поэтесса бальзаковских лет. А он был просто повеса, Курчавый и пылкий брюнет.«Да, жена Потанина – та еще штучка, – подумал я. – И еще неизвестно, кто кого должен ревновать в этой непростой семье».
Тем временем хозяйка проводила нас в залу, набитую до отказа. Все места на диване, на креслах, стульях, табуретах были давно заняты. Некоторые молодые люди стояли. Нам пришлось присоединиться к ним. Единственное, что я смог себе позволить, – это упереться плечом в дверной косяк.
В центре комнаты, в кресле, укутанный старым серым пледом, сидел Потанин. Время еще состарило его. Глубокие морщины изрезали лицо, и сам он высох, сделался совсем маленьким и сгорбился. С носа то и дело сползали очки с очень большими и выпуклыми линзами. Но они, видимо, добавляли ему мало зрения. Скоро он вообще снял их.
Лекция Григория Потанина о сибирском характере
– Главный фактор в природе, который обусловливает физиономию страны, – климат. Он формирует ее флору, пейзаж, фауну и, наконец, культуру человека. Разница между погодными условиями Сибири и Европейской России громадна. Наш климат в высшей степени континентальный, сухой, тогда как в Европейской России сильно чувствуется влияние океана, хотя и не такое, как в Западной Европе. Контраст между климатическими условиями Сибири и Европейской России столь же существен, как между климатом Европейской России и Западной Европы.
Его голос изменился совсем в обратном направлении, нежели внешность. Он приобрел некое пророческое звучание. То, о чем говорил Григорий Николаевич, нельзя было подвергнуть ни малейшему сомнению. Его мозг с возрастом научился отбрасывать все лишнее, он видел самую суть фундаментальных проблем человеческого бытия и говорил об этом просто и обыденно, как о чем-то само собой разумеющемся. И у каждого прослушавшего его лекцию невольно возникал вопрос: как все просто, но почему я сам до этого не додумался?
– Воздействие сибирского климата уже отмечено на организмах культурных растений. Зерно сибирской пшеницы вырабатывает более клейковины, чем русской. Клевер в сибирских условиях теряет в развитии листьев, зато семя нашего клевера ядренее, поэтому агрономы рекомендуют выращивать его не на корм скоту, а для продажи семян. Немецкие сельские хозяева предпочитают семена клевера из восточных частей России своим. Если растения испытывают влияние сибирского климата, то, вероятно, подчиняются ему и животные, а вместе с ними и человек.
Климат – самый упорный, самый закоснелый сепаратист, и ничто не помешает ему вопреки шовинистическим, обрусительным вожделениям образовать расу, если в нем самом есть особенности.
В Сибири метисация с инородцами стремится образовать своеобразный народно-областной тип, не разделяющий признаков родоначальных рас – славяно-русской и азиатско-инородческой. Физические особенности этого типа: сужение внешнего угла глаза, выдающиеся скулы, редкая борода и расходящиеся в коленях ноги.
Психическая сторона коренного сибиряка иная, чем великоросса. Российский человек, хотя бы и крестьянин, более гибок и развязен в суждениях о вещах, чем сибиряк. Наш же, напротив, простак: ум его не гибок, логические приемы не развиты, ассоциации идей немногосложны. Зато в сибирском народе рассудок преобладает над чувствами больше, чем в великорусском. Холодно-рассудочная практическая расчетливость сибиряков подавляет в них всякое идеалистическое настроение. Оттого сибиряки гораздо менее мистичны и религиозны, чем российские люди. Ум сибиряка есть отражение дикой сибирской природы и продукт влияния полудиких азиатских племен. Инстинктивная жажда всяких новых впечатлений и отсутствие староверческого отвращения к новизне есть признак молодости нации. В Сибири даже простонародье значительно отличается страстью к моде и щегольству. Здесь и в деревнях можно видеть шиньоны, кринолины[48], бурнусы[49], часы, обои, диваны, цветы в полисадниках…
Некоторые «просвещенные» российские европейцы изображают сибирского мужика зажиревшим и глухим ко всяким интересам, кроме интересов животной жизни. Им кажется, что на сибирской почве из великоросской народности расцвел особый, очень несимпатичный для них тип. Но это не тип, а стадия, в которой находится сибирское крестьянство. Она временна. Зажиточность сибирского крестьянина не помешала бы образованию духовных интересов в здешней деревне, если бы не печальные условия сибирской жизни…
В сибирском мужике нет той дрессировки, какая заметна в крепостном крестьянине, который веками выработал в себе искусство подчинения воле своего барина. Из земледельца-коллективиста сибирский крестьянин обратился в земледельца-индивидуалиста. В первое столетие освоения Сибири большинство колонистов занималось звероловством, и многие уходили в тайгу в одиночку и проводили там по нескольку месяцев, не имея общения с остальным миром. Но склонность к коллективизму у них сохранилась в скрытом виде. И при определенных условиях они опять смогут стать коллективистами, какими были на родине.
По меткому замечанию Ядринцева, «сибиряк считает себя русским, а на русского поселенца смотрит как на совершенно чужого ему человека и сомневается в его русской национальности». А Щапов[50] полагал, что «сибиряк – это молодой великоросс».
Сибирский характер только еще складывается, как и сама метисация продолжается. Мы стоим не у могилы, чтобы могли составить верную эпитафию, а у колыбели младенца. У сибирского населения все впереди. Это лист белой бумаги, на котором трудно сказать, что напишет жизнь…
Поток холодного воздуха, ворвавшийся в кабинет через балконную дверь, разбудил Сергея.
Он невольно поежился и попытался свернуться в кресле калачиком, чтобы согреться, но очередной порыв сквозняка пробудил его окончательно. Он протер глаза.
Пожелтевшие листы прадедовой рукописи перелистывал ветер с Влтавы. Недопитая бутылка виски, немытые рюмка и бокалы, одинокий надкусанный бутерброд в окружении хлебных крошек на тарелке…
В гостиной по паркету застучали каблучки.
«О господи! Это, наверняка, Жаклин!» – пронеслось у него в голове, и он, как ужаленный, подскочил с кресла и стал впопыхах прибирать на столе.
– Доброе утро, племянник! – ледяным душем обдало его теткино приветствие. – Уже одиннадцатый час, пора просыпаться.
– Я вчера поздно заснул, – попытался он оправдаться.
– Я вижу, – Жаклин посмотрела на бутылку виски, а потом с укоризной на Сергея и добавила: – Чем пьянствовать в одиночестве, не лучше ли совершить экскурсию по старой доброй Праге?
Коршунов не возражал, но попросил десять минут на сборы.
Перед экскурсией Жаклин поинтересовалась, где он уже успел побывать, и с учетом этого составила программу.
У подъезда их ожидал красный «Фольксваген-гольф». Канадка нажала на кнопку сигнализации, авто ей приветливо подмигнуло и радостно взвизгнуло, как щенок. Молодая женщина уверенно открыла дверцу и села за руль. Коршунов втиснулся на переднее пассажирское сиденье.
– Здесь немного тесновато, – извинилась Жаклин. – В Монреале у меня более просторный автомобиль. Но Крайчек одолжил мне только такой.
Тетка брезгливо посмотрела на поношенную куртку Сергея и заявила:
– Тебе надо срочно сменить гардероб. Твои вещи не только выглядят непрезентабельно, но еще и дурно пахнут!
Она демонстративно сморщила свой очаровательный носик.
Коршунов покраснел и открыл окно.
Между тем Жаклин переехала через мост и, свернув в переулок, аккуратно припарковала маленькую машинку у тротуара.
Она показала Сергею достопримечательности Градчан, затем провела его по Пражскому Граду. Как раз в это время сменялся почетный караул гвардейцев перед резиденцией главы чешского государства. Осмотрев кафедральный собор святого Вита, по Золотой улочке, застроенной маленькими, почти игрушечными домиками, они спустились с холма. Потом погуляли по Малой Стране и вернулись к Карлову мосту[51].
– А это мое самое любимое место в Праге, – призналась Жаклин, когда они ступили на древний каменный мост. – Оно на самом деле святое. Мне здесь настолько хорошо, что начинаю смеяться без причины. Как на Ниагарском водопаде. Но там я понимаю причину. Человеку передается энергия падающего огромного количества воды, и он невольно начинает веселиться. А здесь – тайна. Ты чувствуешь драйв?
Но кроме головной боли с похмелья, правда, несколько притупившейся за двухчасовую прогулку, Сергей пока не ощущал ничего. Его внимание привлекли утки, плавающие под мостом.
«Вот бы сейчас мелкашку[52]!» – почему-то подумалось ему. Но сразу стало стыдно за эту кровожадную мысль. Утки так забавно плескались, ныряли в мутную воду Влтавы, а потом чистили красными клювами свои крылышки.
Где-то впереди слышался звук саксофона. Это бродячий музыкант наигрывал неизвестную ему мелодию.
И тут Сергей почувствовал, что в нем нет никакой боли, злобы, зависти, ему легко и свободно. Так легко, что хочется дурачиться, танцевать, петь. Он осмотрелся вокруг и понял, что все люди, попадающиеся им навстречу, тоже испытывают подобные чувства. Не было ни одного мрачного лица. Одни приветливые улыбки. Он посмотрел на Жаклин. Она танцевала с закрытыми глазами под мелодию уличного музыканта. Сергей в своей жизни не видел более красивой и одухотворенной женщины. Весь ее облик дышал любовью и нежностью. И он не смог более сдерживать себя. Как зомби, он подошел к ней и положил руки ей на плечи. Она даже не подумала высвободиться, а наоборот – прильнула к нему еще ближе. Так, обнявшись, как влюбленные, они пошли дальше по мосту.
Наваждение покинуло их лишь на узкой улочке в Старом городе. Жаклин освободилась из-под его руки, открыла глаза и спросила:
– Что это было? Я ничего не помню.
– Я тоже, – соврал Сергей и покраснел.
На обед в маленьком ресторанчике они заказали свиные колбаски. Ожидая заказ, чтобы избавиться от неловкого ощущения после прогулки по мосту, Сергей завел разговор о прадедовой рукописи.
– А ты на чем остановился? – спросила Жаклин.
– Когда Потанин рассказывает о сибирском характере.
– О! Завидую! Самое интересное у тебя еще впереди.
– Но я и так уже узнал много нового. Одна фраза, что сибиряк сомневается в русском происхождении жителя Европейской России, чего только стоит! Я-то наивно полагал, что сам, на личном опыте дошел до мысли, что настоящие русские живут только в Сибири. А оказалось: еще сто лет назад мои земляки в этом не сомневались и даже подвели тому теоретическое обоснование.
Жаклин улыбнулась:
– Тебя ждет еще много открытий. А про какой свой опыт ты заикнулся? – неожиданно спросила она.
– Это долгая история, – попытался увильнуть Сергей.
– А мы никуда не торопимся.
– Тебе будет неинтересно. Это наши российские проблемы.
– Ошибаешься, Серёжа. Все, что касается современной России, меня очень интересует. Я же исследователь. О прошлом я могу прочитать в книгах, а вот о живых ощущениях современников, особенно об их личном опыте, я могу узнать только от тебя. Так что выкладывай свою длинную историю. Я вся – внимание.
Сто дней одиночества
Это было в 1990 году. Еще в советские времена. Да, представь себе, я уже такой древний. К тому времени я успел окончить философский факультет университета, разочароваться в выбранной специальности, оставить аспирантуру и год поработать в отделе сельского хозяйства областной партийной газеты корреспондентом. А еще я имел неосторожность сделать одну роковую глупость: жениться.
Пожалуйста, не смотри на меня таким осуждающим взором. Да, я – многоженец. Дважды вступал в законный брак, а в одном до сих пор даже состою.
Причем от каждого брака у меня есть дети. Девочка – от первого, и мальчик – от второго. Но дочка уже взрослая. Ей недавно исполнилось восемнадцать лет, и алименты на ее содержание я уже не плачу.
Моя первая жена была очень красивой. Ты, кстати, на нее чем-то похожа, но ты гораздо миниатюрнее и интеллигентнее. А она была крупной девицей, настоящей русской бабой. Скандалы начались сразу после свадьбы. Я уже решил с ней развестись, но она оказалось беременной. Потом последовали два года истерик и ссор. И передо мной возникла дилемма: либо сбегать от нее, либо отправляться в психбольницу. Я выбрал первое. Это была настоящая эвакуация.
В отличие от личной жизни моя карьера была успешной. Передо мной уже маячила перспектива возглавить отдел сельского хозяйства, ибо мой предшественник перешел в центральную газету. Но эта должность была номенклатурой обкома КПСС, и ее мог занять только коммунист. Да, представь себе, я даже в партии успел побывать. В заявлении о приеме я написал какую-то штампованную чушь типа «хочу быть в авангарде обновления и перестройки нашего общества». В горбачевские времена такая формулировка была модной. И меня на партийном собрании приняли кандидатом в члены КПСС. Заведующим отделом, правда, не назначили, ведь кандидатский срок еще не прошел, а только исполняющим обязанности. Но и это было по тем временам большим достижением для 24-летнего пацана. Если бы советская империя не развалилась, моя жизнь сложилась бы успешнее, чем в демократической России.
Понимаешь, тогда у журналистов был один хозяин – партия, работать было значительно легче, и профессия была гораздо в большем почете. Сейчас же кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Мы, представители второй древнейшей профессии, гораздо более циничны, чем представительницы первой. Проститутки хоть торгуют собственным телом, а мы же – своей гражданской позицией. Причем сознательно и корыстно обманываем общество.
При командно-административной системе я мог одной критической статьей снять с должности руководителя любого предприятия, если он проворовался или развалил производство. Когда я приезжал в командировку в какой-нибудь район, меня встречали как очень важную персону – на уровне первого секретаря райкома, для поездки в хозяйства предоставляли машину и провожатого, селили в лучший номер в гостинице.
Сейчас же новые хозяева жизни – чиновники и бизнесмены – на любую критику плюют с высокой колокольни. Поначалу хоть немного побаивались газеты, по телефону раздавались анонимные звонки с угрозами. Хоть так ощущалась значимость профессии. А сейчас они просто покупают прессу, причем задешево. Зачем с ней воевать? И свободы слова вообще никакой не стало. Мои журналистские расследования, которые я провожу по собственной инициативе, вообще не попадают на страницы газеты. Главный редактор заворачивает их под предлогом, что фигуранты критики – наши основные рекламодатели, и с ними нам нельзя ссориться. Приветствуются только хорошо оплачиваемые конкурентами «наезды», и то лишь в том случае, если противная сторона не заплатит больше.
Извини за лирическое отступление. Просто наболело на душе.
Ну вот, я ушел из дома, поселился у мамы и подал на развод, а моя благоверная решила за это поломать мне карьеру. Бегала к главному редактору, в отдел пропаганды обкома партии. Дескать, повлияйте на молодого коммуниста, помогите сохранить семью – ячейку общества. Мое персональное дело даже рассматривало партбюро редакции. Старые коммунисты осуждающе смотрели на меня, словно своим моральным обликом я уронил авторитет их партии в целом.
Я все-таки добился развода через суд, но понимал, что моя бывшая жена не даст мне спокойно жить и работать в Томске. К тому же маме в Сибири был не климат, ее страшно мучили приступы ревматизма и гипертонии, особенно в межсезонье. И мы на семейном совете решили перебираться в теплые края. У матери жили какие-то друзья в Ростове-на‑Дону, и мой выбор пал на этот город.
Возвращаясь из Трускавца – это такой курорт на Западной Украине, где лечат заболевания почек, я завернул в Ростов и забросил в редакцию тамошней областной газеты свои публикации. Честно признаюсь, я мало на что рассчитывал. Но через пару месяцев мне позвонили оттуда и пригласили на работу, причем на такую же должность, какую я занимал в Томске, и даже с более высоким окладом. Ну я и дернул из Сибири на Дон.
1 июня я вышел на новое место работы. Мне сразу выделили отдельный кабинет. Вот только с жильем возникла проблема. Кроме места в общежитской малосемейке мне ничего предложить не могли. Ты не знаешь, что такое малосемейка? Попробую объяснить. Это такая маленькая однокомнатная квартира с малюсенькой кухонькой размером со шкаф и еще меньшим санузлом. В этой квартире уже жил один разведенный журналист, временно оставивший работу в редакции ради обучения на очном отделении Высшей партийной школы. Там же, в Ростове-на‑Дону. Но все слушатели ВПШ обеспечивались общежитием. Оно находилось в центре города, издательское же – в отдаленном микрорайоне. Поэтому Василий, так звали моего соседа, в основном обитал в общежитии ВПШ. А я жил словно у него на квартире, потому что наша комната была обставлена его мебелью и домашней утварью. Я ведь явился в Ростов налегке, с одним чемоданом.
Лето в тот год выдалось очень жарким. Температура не опускалась ниже 30 градусов по Цельсию. А мне еще приходилось знакомиться с коллегами в неформальной обстановке. Что было сопряжено с застольями и изрядным употреблением спиртного. Я изнывал от жары, обливался потом, но терпел.
Первая моя командировка была в пригородный район, где в один большой агропромышленный комбинат собрали все совхозы, колхозы и перерабатывающие сельскохозяйственное сырье предприятия. Моим заданием было изучить этот опыт и подготовить серию материалов – как о положительных его сторонах, так и о недостатках.
На комбинате меня приняли по высшему разряду. Сам генеральный директор, Герой Социалистического Труда, личность известная на весь Союз, уделил мне полчаса для интервью, а в провожатые мне выделил своего заместителя и секретаря парткома. На «Волге» с кондиционером, что по тем временам было редкостью, меня провезли по «потемкинским деревням», организовали встречи со знатными работягами, специально натасканными для общения с прессой. Дело клонилось к вечеру, и я попросил свою свиту отвезти меня в город.
– А как же ужин? – обиженно произнес секретарь парткома.
Против него я ничуть не возражал, ведь изрядно проголодался. Поинтересовался лишь, где мы будем ужинать?
– Да вот найдем лесопосадку покрасивее, там и остановимся, – пояснил главный коммунист комбината.
Я стал догадываться, почему мы так долго стояли возле столовой, видимо, дожидались, пока нам соберут сухой паек.
«Волга» остановилась на краю пшеничного поля у редких, искусственно высаженных деревцев, и мои провожатые стали вытаскивать из багажника машины полные коробки с едой, шампанским, а в довершение извлекли на белый свет ящик пива и целый ящик водки. Это целых двадцать бутылок. Такими декалитрами можно было напоить всю нашу редакцию, а не только одного журналиста.
Для меня, приехавшего из области, где некогда рулил Егор Кузьмич Лигачёв, вторая фигура в КПСС после Горбачёва, и где особенно рьяно исполнялись постановления партии и правительства по борьбе с пьянством и алкоголизмом, эта батарея бутылок представляла целое состояние. Нигде в Сибири меня так не встречали.
– Ну, по маленькой за знакомство! – предложил тост секретарь парткома.
Пришлось выпить. Со своим уставом в чужой монастырь ведь не полезешь! Я же не знал, какие здесь порядки, и решил действовать по ситуации. Поддерживать компанию, но слишком не напиваться. Черт знает чего можно от этих донских казаков ожидать.
Заместитель директора был мужчина грузный и не слишком здоровый. Выпив пару рюмок водки, он стал сачковать и больше налегал на еду – бутерброды с балычком, сервелатом и красной икрой, словно из обкомовского буфета, чего простой народ в ту пору в магазинах никогда не видел. Я решил последовать его примеру. И как ни пытался секретарь парткома меня напоить, у него это не получилась, только сам напился в стельку.
– У меня есть один знакомый корреспондент в вашей редакции. Он, когда приезжает в командировку, всегда говорит одну фразу: «Я – человек маленький, но могу так вам осложнить жизнь, что мало не покажется», – лепетал он мне пьяным голосом.
А у меня от сердца отлегло, что не один я такой коррупционер в конторе и продаюсь за водку с бутербродами. Ах, сейчас бы вместо этих лебезящих и заискивающих передо мной неискренних людей сюда моих томских друзей и подружек, мы бы мигом умяли все их буржуйские запасы! И тогда бы я позволил себе расслабиться на славу, а то сижу как Штирлиц между Мюллером и Шелленбергом[53], боюсь брякнуть лишнее слово и не знаю, как прореагирует «центр» на эту мою моральную неустойчивость.
Секретарь парткома наверняка считался на комбинате записным и непьянеющим тамадой, за что и был поставлен на работу с людьми, но против сибирской закваски ему было не устоять. И хотя я давно перестал филонить и пил наравне с ним, но его уже совсем развезло, а у меня ни в одном глазу, под такую закуску я еще много мог выпить.
– Сергей Николаевич, а может быть, девуленьку? – неожиданно предложил он.
Я вначале даже не понял, о чем идет речь. Но мой собутыльник объяснил суть предложения:
– У меня в комитете комсомола такие девчата работают – залюбуетесь! Даже из «Правды» корреспондент к нам специально ради них приезжает. Обслуживают по самому высокому разряду. Одно ваше слово – мы их тут же по рации сюда вызовем.
Ну это уже был явный перебор! Я недавно смотрел фильм «ЧП районного масштаба»[54], и там был эпизод, как комсомольские секретари развлекались в сауне с комсомолками, а проще сказать, штатными путанами, но искренне полагал, что такое возможно только в кино. А тут мне наяву подкладывают девок при исполнении служебного задания! К такому повороту событий я был явно не готов.
– Спасибо. Но я привык сам решать эти вопросы. Мне пора домой, – строго сказал я и встал с подушки, любезно подложенной водителем под мой зад.
– Вы что, Сергей Николаевич, банкет в самом разгаре! Мы вас просто так не отпустим, – с досадой протянул моментально протрезвевший секретарь парткома.
– Извините, товарищи, но мне действительно уже пора. Завтра в девять утра я должен быть в обкоме партии. А перед этим не мешало бы хорошенько выспаться. Спасибо вам за угощение, но работа превыше всего, – заявил я ледяным голосом.
Про обком я, конечно же, соврал. Никто меня завтра там не ждал. Но именно эта ложь подействовала на представителей принимающей стороны. Они молча собрали остатки ужина в коробки, загрузили их обратно в багажник, в том числе и почти полный ящик водки, и повезли меня в сторону областного центра.
Когда «Волга» остановилась перед входом в мое общежитие, заместитель директора предложил мне забрать содержимое багажника, мол, шофер поможет все донести до квартиры. Я отказался.
– Но тогда хоть на завтрак себе чего-нибудь возьмите, – умоляющим тоном произнес зам и чуть ли не силой всучил мне в руки тяжелый пакет.
Я растерялся в первый миг, а когда опомнился, «Волга» уже сорвалась с места, и заместитель директора приветливо помахал мне рукой в открытое окно.
В пакете было две бутылки «Столичной», палка сервелата, крупный кусок осетрового балыка, две банки красной и одна банка черной икры.
Так я впервые в своей жизни получил замаскированную взятку. А на следующий день мне в редакцию позвонил заместитель директора комбината и «по старой дружбе» попросил меня, когда я напишу статьи, перед сдачей в печать предварительно показать ему. Что я потом и сделал. Но «лесопосадочным» друзьям даже не пришлось ничего править в моих рукописях, ибо мой внутренний цензор это сделал за них. В двух статьях я расхваливал их передовой опыт, а третий материал, который и должен был содержать критику, получился больше проблемным. Я очень деликатно на примере конкретного агропромышленного объединения рассуждал о проблемах сельского хозяйства страны в целом.
Оказалось, что я не ошибся в оценке своего первого командировочного застолья. Так действительно было принято на Дону. Со временем я даже привык к этому. А когда меня обламывали с ужином, то начинал обижаться и выплескивал свою неудовлетворенность на страницы газеты в виде серьезной порции критики.
Ящик черешни из плодоводческого или кусок мяса из животноводческого хозяйства стали обычными для меня подношениями. А однажды благодарный директор бахчевого совхоза за репортаж о его передовом опыте прислал мне целый грузовик арбузов. Бедный водитель никак не мог понять, почему я отказался от этого дара, а взял всего пару крупных и спелых полосатых кавунов. Мне просто некуда было их выгружать. В моей общежитской каморке, заставленной Васькиной мебелью, не уместилась бы даже маленькая тележка.
Постепенно я обживался на донской земле, заводил нужные знакомства и сам становился нужным человеком для других избранных. Зато себя уважал все меньше и меньше. И у меня почему-то совсем не складывались отношения с тамошними женщинами. Словно рок какой-то навис надо мной. Тем, которые более или менее нравились мне, не нравился я. А те, которые сохли по мне и готовы были отдаться по первому зову, меня абсолютно не вдохновляли. Так я и промаялся в одиночестве все свои сто дней пребывания в Ростове-на‑Дону. Пока не наступила закономерная развязка.
Своим трудоустройством в ростовскую газету, как оказалось, я был обязан горбачевской демократизации. В ту пору было модно, чтобы трудовые коллективы сами выбирали себе руководителей. Эта волна докатилась и до редакции областной газеты. Журналисты на собрании при тайном голосовании сами выбрали первого заместителя редактора. Победил заведующий отделом сельского хозяйства, а до этого собкор по центральным районам области Иван Петрович Ощепков. Он был старше меня лет на семь, успешно женат и воспитывал двух детей – мальчика и девочку.
Встав у руля, он первым делом начал формировать команду из лично преданных ему людей. Одного парня подтянул из Казахстана и поставил его на свое собкоровское место в Каменске-Шахтинском, а меня сразу посадил в кресло завотделом.
Обещанного жилья в областном центре мне в ближайший год не светило. Неожиданно в редакции нарисовался собкор из Каменска, такой же варяг, как и я, и написал заявление на увольнение по собственному желанию, сославшись на семейные обстоятельства, дескать, жена не хочет сюда переезжать.
Получив на руки трудовую книжку, он зашел ко мне в кабинет попрощаться и вскользь посетовал, что уже выделенная ему в Каменске квартира уйдет на сторону. Я намотал эту новость себе на ус, поразмышлял денек, а назавтра зашел в кабинет первого зама и выразил желание поехать собкором в Каменск.
Моя инициатива вначале Ощепкову показалась странной, ведь в редакционной иерархии собкор стоял на ступень ниже заведующего отделом, но когда я произнес слово «квартира», Иван Петрович сразу все понял и очень обрадовался.
– А ты здорово придумал, честное слово. В Каменске ты крепко станешь на ноги. Все бытовые вопросы там решатся сами собой. Я тебя познакомлю с руководителями города и района. Будешь кататься как сыр в масле. Сам себе хозяин. Все местные начальники будут перед тобой шапку ломать. А там, глядишь, и у нас перестановки произойдут. Мне тут в обкоме шепнули на ухо, – Ощепков понизил голос, – что первый секретарь недоволен нашим редактором. Представляешь, если его турнут, кто тогда займет редакторское кресло?
Я показал пальцем на своего шефа.
– Верно мыслишь, – похвалил меня Иван Петрович. – Лучше быть первым в ауле, чем вторым в Риме. А ты к тому времени на собкоровских харчах жирком обрастешь. Хозяйство заведешь, машину купишь, может быть, женишься или со своей бывшей помиришься. В жизни всякое, брат, бывает. И снова займешь мое место, только теперь вот это.
И он указал на свое кресло, а потом похлопал меня по плечу и произнес:
– Отважные герои всегда идут в обход. На завтра ничего не планируй, поедем в Каменск. На твою презентацию.
Черная «Волга» с обкомовскими номерами преодолела сто километров за час с небольшим. «На автобусе это путешествие заняло бы вдвое больше времени», – отметил я про себя.
Мы припарковались на стоянке для служебных машин у самого входа в горком партии.
Ощепков уверенно, как и положено областному начальнику, поднялся по лестнице и открыл дверь в приемную. Я следовал за ним как верный оруженосец.
– Василий Иванович у себя? – громко спросил он расплывшуюся в улыбке дородную секретаршу и, не дождавшись ответа, по-хозяйски открыл дверь в кабинет первого секретаря.
Партийный лидер города восседал под большим портретом Горбачёва за широким письменным столом, на лакированной поверхности которого не было ни одной бумажки. Только настольный календарь, малахитовая подставка для ручек, остро заточенные карандаши да бронзовый бюст Ленина с краю. Своей сверкающей лысиной он походил на партийных вождей. Только лицо у него было слишком вытянутое.
– Иван Петрович! Какими судьбами? Какая радость! – физиономия первого расползлась в елейной улыбке.
– Вот привез вам нового собкора. Знакомьтесь, Сергей Николаевич Коршунов. Прошу любить и жаловать, – напыщенно представил меня Ощепков.
– Как же, читали его статьи. Грамотно хлопец пишет и очень точно улавливает текущую политическую конъюнктуру. Нам такие люди нужны, – заранее похвалил меня секретарь горкома и крепко пожал мне руку.
– Вы, поди, устали и проголодались с дороги? Давайте пообедаем и обсудим в непринужденной дружеской атмосфере все вопросы, – предложил хозяин кабинета.
Мы с Ощепковым не возражали. И Василий Иванович провел нас в свою комнату отдыха. Под портретом Горбачёва в стене, обшитой лакированными щитами, открылась дверь, совсем не заметная для постороннего глаза. Переступив порог, из рабочего кабинета, как по мановению волшебной палочки, мы переместились в домашний, немного мещанский уют. Здесь стоял раскладной диван с креслами, сервант с дорогой посудой и, главное, поражал своим изыском и разнообразием накрытый стол. Я не буду утомлять тебя описанием всех выставленных яств. Скажу только, что у меня создалось впечатление, что мы попали на какой-то юбилей, но никак не на рядовой обед.
Не успели мы усесться за столом, как к нам присоединился четвертый участник застолья – затюканный мужик в очках на длинном носу.
– Это председатель нашего горисполкома.
Секретарь горкома представил его по имени и отчеству, но я их забыл, потому что давно это уже было, и не суть важно для моего рассказа, как его зовут.
В общем, мы стали выпивать и закусывать. Ощепков сразу направил разговор в нужное русло:
– Квартира для собкора готова?
– Да. Трехкомнатная. На третьем этаже. На тихой улочке в самом центре города. Там жил прокурор города. Он только что переехал в Ростов на повышение.
– Но я же один. Как вы мне выделите одному целых три комнаты? – удивился я.
Секретарь горкома посмотрел на меня как на ненормального и спокойно ответил:
– Вы и будете жить в одной комнате. В другой у вас будет корпункт, а в третьей – общественная приемная. К тому же вы – молодой человек, наверняка скоро обзаведетесь семьей. Детишки пойдут. Вы не переживайте, Сергей Николаевич, мы вас тут быстро женим.
Пока я осмысливал сказанное, первый неожиданно спросил председателя горисполкома:
– В райпо на складе какая мебель осталась?
Очкарик засуетился, открыл свой дипломат и стал шелестеть бумагами.
– Есть румынская «жилая комната», спальный гарнитур югославский, вот только с кухней проблема. Но ничего, к вашему приезду, Сергей Николаевич, мы и кухню найдем. Вы когда думаете заселяться?
На вопрос я не ответил, потому что меня волновало совсем другое.
– У меня на сберкнижке всего девятьсот рублей. Этих денег явно на мебель не хватит.
Василий Иванович вопросительно посмотрел на Ивана Петровича, мол, ты кого привез? А потом обстоятельно, как учитель ученику, разъяснил мне:
– Уважаемый Сергей Николаевич, вы должны уяснить себе, что мы обставляем вовсе не вашу квартиру, а оборудуем корпункт для собственного корреспондента областной партийной газеты. А это разные вещи. И здесь мы скупиться не вправе.
Больше я лишних вопросов не задавал и сидел, молча слушая старших товарищей. Между тем они приговорили уже вторую бутылку водки, их языки развязались, и разговор пошел без лишних политесов.
– А Савченко по-прежнему работает на станции техобслуживания «Жигули»? Надо будет мне к нему подъехать на своей машине, пусть карбюратор заменит, а то нынешний совсем барахлит. И про Сергея не забудьте ему сказать. Пусть как хочет, через кредит или по остаточной стоимости, сделает для парня автомобиль. А то несолидно даже, собкор – и вдруг без колес…
– Вы тут смотрите, у Сергея Николаевича почки пошаливают, а у вас химкомбинат. Если отравите собкора, он вам тоже жизнь отравит…
Не знаю почему, но именно эта фраза из пьяного трепа моего шефа особенно задела первого секретаря горкома. Он даже несколько изменился в лице и долго не мог подцепить вилкой маринованный огурчик.
– А зачем вообще нашему собкору жить в городе? – неожиданно вопросил он уважаемое собрание.
Все молчали, и он продолжил:
– А давайте мы ему дом построим на берегу Северского Донца? Чтобы жил он на лоне природы, черпал вдохновение для своего творчества на чистом воздухе. Сколько средств на эти цели может выделить городской бюджет?
– Не знаю… Все так неожиданно… – промямлил очкарик. – Тысяч десять наберем, не больше…
– Ну вот, первый взнос в строительство дома свободной прессы уже есть. А я переговорю еще с руководителями предприятий, хозяйств, чтобы в порядке оказания шефской помощи помогли. Как видите, мы прессе ни в чем не отказываем…
Они еще о чем-то говорили, громко смеялись, договаривались, я же окончательно ушел в себя и присутствовал на банкете только номинально. Наконец Василий Иванович вспомнил, что у него на пять часов намечено заседание бюро горкома.
– Правда, я его могу отменить в честь вашего приезда.
Но Ощепков этой жертвы не принял и сказал, что мы и так уже все решили, поэтому нет смысла задерживаться.
А на обратном пути в машине он восторженно подводил итоги нашего визита:
– Ну, парень! Ну, Серёга! Ну тебе и повезло! Даже больше, чем мне. Видано ли дело, целый особняк в природоохранной зоне на халяву получить! Это, батенька, не просто везенье, а супервезенье. Мне что ли обратно в Каменск вернуться? Нет, у меня уже другой уровень. Но какое мы с тобой новоселье забабахаем! Девок целый табун нагоним. Пускай они голые в бассейне плещутся. Ты не забудь напомнить про бассейн первому, когда в Каменск приедешь. А то сэкономит. А на прессе экономить нельзя. Себе дороже получится.
В эту ночь я вообще не уснул. Хотя в одиночку выпил две большие бутылки дешевого портвейна.
А утром напросился на прием к главному редактору и, минуя Ощепкова, подписал у него заявление на увольнение по собственному желанию. Вернулся в Томск, в родную редакцию, где меня в воспитательных целях, как летуна, приняли на должность корреспондента.
Вот такая история.
За рассказом Сергей не заметил, как проглотил свиные колбаски и две большие кружки пива.
Жаклин тоже доела свою порцию и допивала кофе.
– А разве в Томске тебе никогда не предлагали взятки? – спросила она.
– Нет.
– Даже когда руководители знали, что ты будешь их критиковать?
– Они, естественно, обижались, могли помешать в сборе информации, но чтобы купить корреспондента с потрохами – об этом в ту пору в Томской области и не думали.
– Интересно… А тебе не кажется, что ты иногда сам себе противоречишь?
– Это в чем?
– Ну, например, в твоих словах чувствуется явная ностальгия по командно-административной системе, когда журналист был личностью, с ним считались, его боялись, и в то же время ты сам рисуешь картины жуткого морального падения, во сто крат худшего, чем при рыночной экономике. Когда за людей всё решают начальники. Кому дать квартиру, а кому – нет, кому какую мебель распределить и даже кому с кем жить. Если, конечно, ты об этом не врешь. Хотя возвращение ушедшего мужа через обком мне представляется просто абсурдом. Это же страшно, Сергей!
Коршунов промолчал, ему нечего было возразить. А Жаклин продолжила:
– Проблема выбора – деньги или достоинство – встает перед каждым думающим человеком, живущим или жившим сто, двести, тысячу лет назад в любой стране земного шара. И каждый решает ее по-своему, как ему велит совесть. Тогда, в Ростове, ты выбрал достоинство, и хотя ты об этом сейчас немного жалеешь, но, я думаю, делаешь это напрасно. Ты просто не мог поступить по-другому. И я бы не смогла. И наш общий родственник Пётр Коршунов тоже не смог бы. Как не смогли Потанин, Ядринцев, Андреев. Те, о ком ты читаешь в дедовой рукописи. И в те времена издатели вставали перед выбором: либо деньги и карьера (такие и на газетном деле составляли немалые состояния), либо беззаветное служение обществу, что было сопряжено с гонениями, ссылками и, конечно же, бедностью.
– Но ведь были и другие примеры! – не успокаивался Сергей, на собственной шкуре испытавший, что такое безденежье и как оно ломает людей. – Тот же Муромский, твой дед, наконец! Они были революционерами и вместе с тем жили, ни в чем себе не отказывая.
Жаклин сморщила носик и скептически произнесла:
– Для России они были скорее исключением, чем правилом. Им по какой-то счастливой случайности удавалось достаточно долго сохранять баланс между личными, меркантильными интересами и внутренней потребностью служения обществу. Такой умеренный эгоизм больше характерен для западного типа поведения. Вы же, русские, без крайностей не можете. У вас либо одно, либо другое.
Несмотря на протесты Сергея, она рассчиталась с официантом за обед и отвезла его обратно к дедовскому дому.
Прощаясь, она по-родственному чмокнула его в корявую щеку, а потом закрыла глаза и мечтательно произнесла:
– А на Карловом мосту мне приснился чудесный сон.
Глава 4. Родина бога
– Продвигайте свое дело вперед, не обращая внимания на толки окружающих. Не ими вы будете судимы. У нас будет другой судья, который иначе смотрит на дела людей. Этот другой судья, во-первых, наша собственная совесть, и, во-вторых, мнение не многих, но стоящих выше толпы, – продиктовал старик и сделал паузу, чтобы я успел записать.
Как только перо перестало скрипеть по бумаге, Потанин продолжил:
– Такой совет я дал давно, еще будучи вольнослушателем Петербургского университета, одному начинающему сибирскому литератору.
Неожиданно Григорий Николаевич прервал меня:
– Нет, вычеркните, пожалуйста, последнюю фразу, Пётр Афанасьевич, будьте так любезны. А то опять из меня сампьючайство[55] полезло. Терпеть не могу, когда другие люди себя выпячивают, а сам под старость лет стал страдать этим грехом…
Вот как причудливо распорядилась судьба! Человеку, указавшему мне выход из трудной ситуации, самому пригодились навыки, какие я приобрел, последовав его совету. Шаталову стоило только подвести меня к Потанину, как старик сразу вспомнил меня и очень обрадовался встрече. Но еще более обрадовалась Мария Георгиевна: наконец-то у ее супруга появится секретарь мужского пола.
За неделю своего секретарства я уже привык к перескокам потанинской мысли. Было очевидно, что образцом для своих мемуаров он выбрал «Былое и думы» Герцена[56]. Хронологический принцип он явно заимствовал у редактора «Колокола». Но память порой его подводила. Начав рассказ об одном событии, он мог увлечься описанием какой-нибудь второстепенной детали, уйти далеко в сторону и развивать совсем иной сюжет, относящийся совершенно к другому периоду его жизни. Иногда забывался на полуслове и дремал. Но, просыпаясь, спрашивал меня, на чем мы остановились. Я крупными жирными буквами писал на листе окончание его последней фразы. Сильно прищурившись за своими выпуклыми очками, старик медленно прочитывал мою запись и продолжал диктовать дальше без сбоев, словно и не было никакого перерыва.
– На пятом году жизни я лишился матери, и я ее не помню…
«Я тоже!» – захотелось вскрикнуть мне, но я промолчал.
– Большей же частью я в доме дяди жил на положении барчонка…
А я?
Когда Григорий Николаевич описывал полковницу, взявшую его на воспитание, перед моими глазами возникала моя приемная мать Елизавета Степановна.
Правда, здесь наши дороги с маленьким Гришей Потаниным, прошедшим по ним на полвека раньше, разошлись. Он оказался в кадетском корпусе в Омске, а я – в томской гимназии. Но и этих совпадений было достаточно, чтобы я осознал всю их НЕСЛУЧАЙНОСТЬ.
– Отец рассказывал, когда мне было полгода, ему пришлось перевозить меня из одной станицы в другую. Это было зимой. Он с женой ехал в кошеве[57], а меня привязали сзади к подушке. По дороге ямщик остановил лошадей, разбудил спящего отца (была ночь) и сказал, что ему показалось, будто что-то с воза упало. Подушки с ребенком не оказалось. Испуганные родители бросились назад и нашли меня на порядочном расстоянии от кошевы, продолжающим спокойно спать. Это было начало моих путешествий. Я начал странствовать на первом году жизни, и только тогда мне угрожала смертельная опасность.
Я записываю и отчетливо вижу заснеженную степь и маму, укутывающую меня своим шелковым платком, будто невесомая ткань может согреть на морозе. Сознание уже уплывает, тело перестает ощущать холод, а мама сквозь слезы успокаивает меня, прижимая к себе:
– Ничего, ничего, сынок. Скоро согреемся. В раю – тепло, там всегда лето.
Дикий свист, топот копыт, взволнованное лицо киргизца в меховом малахае, крепкие руки, укутывающие меня в овчинный тулуп. И я засыпаю в тепле.
– В кадетском корпусе дети сибирских казаков обучались в эскадроне, а дворяне, выходцы из Европейской России, в роте. Мы были демократия. Бельэтаж – это была Европа, нижний этаж – Азия. В бельэтаже учили танцам, а казаков в те же часы – верховой езде. Там учили немецкому языку, а в нижнем этаже – татарскому. Вот откуда берет истоки культурный сибирский сепаратизм. Само правительство посеяло его, стремясь сохранить сословную чистоту в детях дворян.
Мы зачитывались повестью Гоголя «Тарас Бульба» и чувствовали себя сродни запорожским республиканцам, самим избиравшим кошевых атаманов[58].
Казачий офицер в ту пору получал в год 72 рубля жалованья, армеец – 250 рублей и кроме этого различные надбавки: квартирные, фуражные, на отопление и освещение. Казачий – голое жалованье. Армейский имел денщика, казачий сам себе чистил сапоги. Армейцу после окончания службы полагалась пенсия, а казачьему – нет. И награды начальство давало армейцам куда охотнее, чем казакам.
Мы даже мечтали развязать против армейцев партизанскую войну. Даже уговорились, одевшись в киргизские шубы и малахаи, нападать по ночам на проходящих мимо армейцев и стегать их нагайками…
Григорий Николаевич умолк. Я пригляделся и понял, что он заснул. Короткий зимний день уже клонился к закату, и в тесную, уставленную книжными шкафами комнату вползли причудливые сумерки. Я тихо вышел из кабинета и затворил за собой дверь.
Мой квартирный вопрос пока не решился. Я побывал по трем адресам, предложенным мне Шаталовым, но ничего путного не нашел. И продолжал шиковать в гостинице «Европа».
Однажды на входе на свой этаж я был неожиданно атакован двумя собаками – большим мраморным догом и его длинношерстным компаньоном, ирландским сеттером. Животные играли и ко мне отнеслись миролюбиво, только «украсили» шерстью мои брюки.
– Кинг! Чарли! Фу! Быстро ко мне! – послышался из коридора взволнованный голос.
И вскоре выбежал запыхавшийся господин в светлом костюме.
– Бога ради, извините меня, что упустил своих питомцев. Я надеюсь, они не причинили вам вреда?
Хозяин ухватил псов за ошейники и теперь боялся лишь одного – чтобы постоялец не поднял шума.
Я улыбнулся и погладил дога по голове. Лицо его хозяина просветлело – он узнал меня.
– Господин Коршунов, если не ошибаюсь? – не веря своим глазам, удивленно произнес Пётр Васильевич Муромский.
Я бы тоже назвал его по имени и отчеству, если бы мог, но в ответ только утвердительно кивнул головой и еще раз улыбнулся.
– Понимаете, я дома затеял ремонт и временно перебрался в гостиницу. Этих же «крокодилов» на улице не оставишь, они же домашние, а в доме пыль, грязь, разруха. Пришлось уговорить управляющего, чтобы разрешил их взять с собой сюда. Он согласился, но только до первой жалобы от других постояльцев. Вы же не будете жаловаться?
Я успокоил его как мог, мол, всё в порядке. Более того – взял за ошейник дога и помог довести его до номера Муромского. После чего адвокат окончательно успокоился и пригласил меня отужинать вместе.
В ресторане присяжного поверенного встретили как самого дорогого гостя и сразу провели в отдельный кабинет, где трое официантов мигом уставили стол всевозможными закусками.
– Как насчет водочки с морозца? – спросил меня Пётр Васильевич.
Я с удовольствием поддержал его предложение. Мы выпили по рюмке и закусили строганиной из мороженой стерляди.
Адвокат растрогался и стал всячески извиняться, что после революции так и не отблагодарил меня за свое чудесное спасение. Но на этот раз он намерен реабилитироваться в моих глазах. Он поинтересовался, надолго ли я в Томске? Я написал в блокноте, что приехал сюда надолго, работаю у Потанина добровольным секретарем, сотрудничество с таким великим человеком уже честь, но хотелось бы найти место на жаловании, и с квартирой я тоже еще не определился.
Муромский проявил искреннюю заинтересованность в моем деле. Долго расспрашивал меня, к чему я имею навыки, где учился, что делал за границей, есть ли у меня семья, в какой политической партии состою. Я только успевал строчить ответы на его вопросы. Больше всего моему собеседнику понравилось, что я вышел из РСДРП и вообще отошел от политики.
– Представьте себе, Пётр Афанасьевич, я испытал нечто подобное. После тех печальных событий, когда вы потеряли голос, меня выслали из Томска на полгода, но затем мне удалось взять реванш: я выступил обвинителем в суде против организаторов погрома. А потом даже избирался депутатом в Государственную думу, но поработать там так и не успел. Пока я доехал до столицы, ее распустили. От партии социалистов-революционеров я теперь вообще отдалился. Их политическая борьба меня уже мало интересует, только идеи автономии Сибири мне по-прежнему близки и дороги. За них готов стоять до конца.
Он предложил тост за Потанина.
– Вам очень повезло, что свою деятельность в Томске вы начали именно с помощи Григорию Николаевичу. Это поистине святой человек. Он из разряда пророков, которые приходят на землю раз в тысячелетие. Как Христос, Будда, Магомет. Попомните мои слова, придет еще такое время, когда именем Потанина будут называть города…
Перед горячим мы сделали перерыв, и Муромский предложил партию в бильярд.
Вообще-то в русский бильярд я играл хуже, чем в пул, но этим вечером я был в ударе, и мои шары залетали в лузы один за другим. На выигрыш мне не понадобилось и десяти минут.
Муромский достал из бумажника пять рублей и положил их на край стола.
– Может быть, еще партию? – он явно не привык проигрывать.
Мы сыграли и вторую, и третью, а потом и четвертую, и пятую. Но исход был один. Моему партнеру сегодня явно не везло.
Расстроенный, он предложил вернуться за стол, где сгоряча выпил три рюмки водки подряд. Потом мы еще раз плотно поели. Я отяжелел после обильной еды, а Пётр Васильевич еще и захмелел.
– А может быть, в карты? – предложил он умоляющим голосом.
Я не посмел ему отказать. Тогда разом повеселевший адвокат крикнул официанту в зал, чтобы тот принес запечатанную колоду.
– Видать, чем-то прогневил я госпожу фортуну. И в фараона[59] мне лучше не играть. А то донага меня разденете, – он рассмеялся и спросил: – Как насчет какой-нибудь коммерческой игры? Покера, например? Там хоть думать надо, не все зависит от слепого случая.
Я не возражал.
Остатки пиршества были тут же убраны со стола, скатерть уже поменяли, но графинчик с водкой, две рюмки и тарелку с солеными огурцами официант предусмотрительно оставил.
За стенкой пьяные голоса затянули «Боже, царя храни…» Это активисты Союза русского народа[60] продолжали отмечать 300-летие дома Романовых. Официант извинился и попросил не обращать на них внимания, мол, скоро уйдут.
– Нашли что праздновать! – выругался Муромский. – Триста лет рабства. Холопы они и есть холопы. Как были ими, так и останутся до скончания дней своих. Зачем им свобода, гражданские права, если они упиваются собственным холопством? И, к сожалению, Пётр Афанасьевич, именно такие люди составляют основную массу населения нынешней России. Им и так хорошо. Революция по большому счету нужна только интеллигенции.
Я выиграл и в карты еще тридцать рублей. При азартности моего соперника игра могла затянуться еще надолго, а обыгрывать его в пух и прах вовсе не входило в мои планы, поэтому я поставил на кон весь свой сегодняшний выигрыш, в том числе и бильярдный, и наконец карта пришла Муромскому.
Он был поистине счастлив, что ему удалось отыграться. Хотя к деньгам, как я понял, он относился по-философски. Как легко они к нему приходили, с такой же легкостью он с ними и расставался. Для него был важен сам процесс игры, испытание благосклонности фортуны. Наверняка, если бы я схитрил и специально поддался, он бы обиделся. А так все было честно и Пётр Васильевич продолжал считать себя фаворитом судьбы.
Он явно не хотел расставаться и затянул меня к себе в апартаменты на рюмку коньяку. Оба пса с радостным лаем выскочили из спальни и стали ластиться ко мне. Дог запрыгнул на кровать и, скомкав покрывало, стал носиться как угорелый. Умилившись непосредственностью своего любимца, адвокат сменил гнев на милость и уже обычным дружеским тоном произнес:
– Кинг – сын того самого Маркиза, который у меня жил прежде. Как видите, мне служат только особы голубых кровей! Еще одна разновидность моей борьбы с самодержавием. А сеттера зовут Чарли. Я так избаловал этих тварей, что они уже спят у меня в ногах. Даже не знаю, как их теперь от этого отучить…
Муромский пригубил коньяк и неожиданно перешел совсем на другую тему:
– Пётр Афанасьевич, это совершенно недопустимо, что вы до сих пор не женаты. Вот даже я, человек уже пожилой, старше вас на двадцать лет, и то подумываю о женитьбе. Пусть она и не знатного рода, и не так богата, как томские купчихи, и пусть моложе меня на четверть века, но я влюбился как мальчишка и не мыслю своей жизни без моей милой Сонечки.
«Какова судьба той девочки, которую вы спасли на Соляной площади?» – написал я в блокноте, воспользовавшись моментом.
– Полины? Племянницы Андреева? – переспросил Пётр Васильевич.
Я не сдержал своего нетерпения и судорожно закивал.
– Так вот из‑за кого вы вернулись в Томск! – обрадовался своей догадке мой собеседник. – Объект, достойный обожания. Полина Игнатова – первая красавица Томска. Да что там Томска, всей Сибири! Но боюсь вас огорчить, молодой человек. Уж больше года, как она уехала в Иркутск, чтобы ухаживать за больной матушкой. Да вы сходите к Андреевым. Вас там встретят как родного, и все сами узнаете про Полину из первых уст.
Муромский заметил румянец на моих щеках и, дружески похлопав меня по плечу, сказал:
– Ладно. Я сам все разузнаю, а после вас извещу.
Моя встреча с Петром Васильевичем имела серьезные последствия. Муромский был не только присяжным поверенным в суде, на нем еще висела масса всяких общественных поручений: товарищ председателя Общества попечения о начальном образовании, почетный член Общественного собрания, гласный городской думы[61], председатель училищной комиссии. Вдобавок он все-таки поддерживал отношения с партией эсеров, общался с единомышленниками по Сибирскому областному союзу[62] и еще регулярно писал статьи в «Сибирскую жизнь». Естественно, такой объем работы одному человеку осилить было весьма сложно. И у него был целый штат помощников. Мне он перепоручил ведение самых щекотливых дел, в которых длинный язык совсем не требовался и даже, наоборот, порицался. Финансовые дела, те, которые и приносили ему высокие гонорары, позволявшие жить на широкую ногу. Моя природная молчаливость и оксфордское экономическое образование предопределили его выбор.
Томские купцы зачастую имели хозяйственные споры друг с другом, с местной властью и решали их в суде. Муромский был поверенным в делах самых известных и громких фамилий. Особо доверительные отношения сложились у него с владельцем золотодобывающей компании Второвым, с семейством виноделов и спиртозаводчиков Вытновых[63] и некоторыми другими. И тут мои биржевые навыки, умение читать бухгалтерские документы пришлись как нельзя кстати. Фиксированного жалованья мне Пётр Васильевич не положил, а только процент с его гонорара по выигранным делам, но он превзошел все мои ожидания. К тому же это обстоятельство позволяло мне не сидеть в конторе с утра до вечера, а иметь свободный режим. И мне легко удавалось выкраивать по два-три часа на дню, чтобы поработать у Потанина.
Одновременно с трудоустройством решился и квартирный вопрос. Муромский сдал мне в аренду одноэтажный флигель в своей усадьбе. Теперь я мог за пять минут добраться и до окружного суда, и до дома, где снимали квартиру Потанины.
Работа над «Воспоминаниями» приостановилась в связи с неожиданным решением Григория Николаевича отправиться летом в этнографическую экспедицию в Каркаралинскую степь[64]. Началась переписка с Западно-Сибирским отделом Русского географического общества в Омске и его Семипалатинским подотделом. Согласовывались план, сроки и состав предстоящей экспедиции, определялось финансирование, выискивался переводчик с киргизского…
Я и предположить не мог, что организация путешествий связана с такой бумажной волокитой.
Теперь чуть ли не половину своего рабочего времени мы тратили на составление корреспонденции, а еще отвлекались то на вычитку корректуры монгольского сборника, то на написание статей для «Сибирской жизни». В результате «Воспоминания» приобрели еще более разорванную и запутанную форму.
Наброски, черновики, вычитанные рукописи валялись по разным углам. Я постоянно собирал их в папку, потом отсортировывал. Кое-что особенно запомнившееся я сохранил до сих пор.
Избранные места из «Воспоминаний» Г. Н. Потанина
В Томске, самом меркантильном городе в Сибири, жил тогда Бакунин[65]. Я помню, как он говорил: «Два года посидеть в тюрьме полезно. Человек в уединении оглянется назад, на прожитую жизнь, обсудит свои поступки, осознает свои ошибки, подвергнет строгой критике всю свою деятельность и выйдет из тюрьмы обновленным и усовершенствованным. Но восемь лет продержать человека в тюрьме – это самая верная система его оглупления».
Весной 1858 года я выехал из Омска и 9 мая приехал в Томск. До этого я бывал только в Омске, Семипалатинске и Усть-Каменогорске, состоящих из одноэтажных построек, скорее больших селах, чем городах. Здесь огромная улица, дома в несколько этажей, тротуары, которых я еще никогда не видел, ворота под домом, о которых я читал только в романах, – все это вместе и, наконец, нищие, окружившие нас, показалось мне картинкой из романа Диккенса.
Бакунин по собственной инициативе стал хлопотать о моей поездке в столицу для учебы в университете. Он придумал отправить меня с караваном золота. Тогда золотоплавильная печь была одна на всю Сибирь, в Барнауле. Туда свозили золото со всех сибирских приисков и в течение зимы отправляли в Петербург до семи караванов, или, как называли в народе, серебрянок. Караван обычно состоял из 17–20 возков. Для конвоя садили на караван человек пять солдат. Для большего успокоения начальства старались его сделать многолюднее и оживленнее. Всегда записывали туда трех-четырех обывателей, едущих по собственной надобности.
Со своими пожитками я приехал во двор горного управления. Восемнадцать возков, в которые были составлены ящики с золотом, стояли во дворе. В стороне ожидали готовые лошади в хомутах. В самом заднем возке были назначены места для урядника и для меня. Пришло начальство, пощупало возки, спросило, крепки ли полозья и шины, и приказало запрягать лошадей. А в другом конце двора исполнялась экзекуция: гоняли сквозь строй какого-то преступника. Раздавались бой барабана и крики несчастного наказуемого. Так меня провожала Сибирь.
…Главное отличие Ядринцева от предшественников-патриотов заключается в том, что он оппонировал не правительству, а русскому обществу. Он противопоставлял интересы колонии интересам метрополии.
В середине 40‑х годов один автор поместил в «Отечественных записках»[66] статью, в которой давал советы русскому правительству не сорить русские деньги на нужды Сибири. По его мнению, Сибирь совершенно лишний придаток к Российской империи, который гроша ломаного не стоит. Он рисовал природу этой страны мрачными красками. По его мнению, она не имеет будущего, в ней невозможно развитие гражданственной жизни. Поэтому отпускать деньги из государственного казначейства на нужды Сибири – все равно что бросать их в печь.
Скаредные взгляды с позиции метрополии разделяли некоторые деятели и в Политико-экономическом комитете, учрежденном при географическом обществе. Мало того что они были против государственных затрат на нужды Сибири, но еще и хотели, чтобы правительство препятствовало насаждению в ней гражданственности. Они предупреждали, что если население Сибири возрастет и получит просвещение, то оно разделит общую судьбу с земледельческими колониями других государств, то есть отпадет от России и объявит свой край независимым. На это один академик возразил, что отделение колонии от метрополии вполне естественный акт, который не должен смущать государственных людей, что история знает много подобных случаев отделения колонии и что метрополия от этого не только не проигрывает, но процветает лучше прежнего. Великий князь Константин Николаевич[67], председатель Русского географического общества, поспешил сгладить впечатление от откровенного заявления академика и сказал приблизительно следующее: «Сибирь – не колония, и выселение русских из Европейской России в Сибирь есть только расселение русского племени в пределах своего государства».
Мы сознавали, что над Сибирью тяготеют три зла: деморализация ее населения как в верхних, так и в нижних слоях, вносимая в край ссылаемыми социальными отбросами Европейской России; подчиненность сибирских экономических интересов интересам московского мануфактурного района и отсутствие местной интеллигенции, могущей встать на защиту интересов обездоленной родины. Особенно волновал нас вопрос об экономических потерях Сибири вследствие обречения ее служить сырьевым рынком для мануфактурного рынка империи…
Пропаганда о сибирском университете шла с большими затруднениями: было много противников этой идеи, боялись, что университет сделается рассадником сепаратизма.
…артистам советовали не ездить в Сибирь на гастроли – прогорят; идею о сибирском университете встретили недружелюбно, говорили, будто она мешает сосредоточить внимание русского общества на более важных общегосударственных вопросах.
…нас рассадили по одиночным камерам… Я волновался при каждом новом имени, попавшем в письмо; сейчас приходило на ум, что у этого лица сделан обыск, что он, может, уже арестован, что вся его семья в слезах и тревоге и обвиняют меня.
Маленькая прокламация была найдена в кадетском корпусе. Младший брат одного нашего товарища, кадет по имени Ганя, отыскивая в письменном столе брата почтовую бумагу, нашел исписанный листок, это и была прокламация. Он прочел ее, заинтересовался, ничего не сказав брату, унес в корпус, чтобы показать товарищам. Она стала ходить по рукам и попала в руки одного кадета, который стал пользоваться ею, чтобы выманивать у Гани папиросы. Наконец они условились отдать: один – папиросу, а другой – прокламацию из руки в руки. Пошли в укромный уголок, произвели обмен и начали курить. Дежурный офицер заметил табачный запах и накрыл преступников. Он стал шарить в карманах кадета, надеясь найти в них табак или папиросы, но вместо табаку нашел возмутительное воззвание… Прокламация была доставлена в жандармское управление.
…в своем признании сказал, что главным агитатором в нашей группе был я. Так как было бы странно, если бы я сказал, что распространял свои идеи, а кому говорил, не помню, то я решился назвать тех лиц, которые уже были привлечены к делу. О Ядринцеве я сказал, что он разделяет мои убеждения, а о других, что я пытался обратить их в своих единомышленников. Я откровенно признал себя сепаратистом, признался, что при случае говорил о возможности отделения Сибири от России. Я видел в этой пропаганде только один практический результат. Я верил, что такая фраза поразит инертное сибирское общество и заставит его задуматься о своих интересах.
Дело было озаглавлено так: «О злоумышленниках, имевших целью отделить Сибирь от России и основать в ней республику по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов».
…Обряд гражданской смерти надо мной был совершен ранним утром, когда на базарной площади еще не собрался народ. Меня посадили на высокую колесницу, повесили на грудь доску с надписью. Переезд от полицейского управления до эшафота был короткий, и никакой толпы за колесницей не образовалось. Меня вывели на эшафот, палач примотал мои руки к столбу; дело это он исполнил вяло, неискусно; руки его дрожали. Затем чиновник прочитал конфирмацию. Вокруг эшафота моря голов не образовалось, публика стояла только в три ряда. Я не заметил ни одного интеллигентного лица, не было даже ни одной дамской шляпки. Продержав меня у столба несколько минут, отвязали и на той же колеснице отвезли в полицейское управление. Я, признанный судом главным злоумышленником, был первоначально приговорен на 15 лет на каторгу. Суд нашел какие-то смягчающие обстоятельства и ходатайствовал о сокращении срока каторги до 5 лет. Ходатайство было удовлетворено. Остальных моих товарищей присудили к ссылке на поселение с лишением всех прав. Я был осужден на каторжные работы в Нерчинские заводы, но так как наше преступление заключалось в пропаганде сепаратистских идей в Сибири, то нас выдворили отсюда. Меня отправили в крепость Свеаборг, где находилась арестантская рота военного ведомства с каторжным отделением при ней. Моих товарищей по делу разместили в Северной России.
…Меня ввели в комнату караульного офицера и позвали холодного кузнеца, чтобы заклепать кандалы на моих ногах. Кузнец оказался тот самый, которого я учил грамоте. Лицо его было грустным, глаза опущены в землю, он смущался тем, что ему пришлось невольно совершить неблагодарность…
Такого человека я больше не встречал на своем жизненном пути. Хотя мне довелось знавать многих сильных мира сего. И диктаторов, и премьер-министров, и президентов, и главнокомандующих, и знаменитых писателей, и самых больших богачей планеты. Бывало, что и среди них встречались достаточно скромные и воспитанные люди. И все равно каждый из них осознавал, что он знаменит, и манерой держать себя невольно давал почувствовать другим, что он отмечен печатью известности. Потанин этого был лишен совсем. Он даже говорил о себе в третьем лице. Главным идеологом сибирского областничества у него выходил Ядринцев, а он сам был лишь помощником талантливого студента. Хотя на каторге отбывал срок один Потанин. У него на этот счет была интересная аргументация:
– Я все-таки часто изменял Сибири, уходя в продолжительные экспедиции в Монголию и Китай. Ядринцев же всегда стоял на защите ее интересов. Он чувствовал раны на теле Сибири, как будто они были на его собственном теле.
Рассказывая о тюрьме и каторге, он вспоминал не столько лишения и тяготы, сколько интересных людей, с которыми его свела судьба. Причем в каждом из узников или тюремщиков он отмечал исключительно положительные черты.
Меня поразило, когда в разговоре о Свеаборге он неожиданно вспомнил буддийскую легенду.
– Враги Будды стреляют в него, но стрелы, приближаясь к его телу, превращаются в цветы. Вот так и мои судьи хотели покарать меня, создать для меня тягостную обстановку, обставив меня строгими и жестокими сторожами, но жизнь подсунула на место зверей людей с сердцем.
С каким добродушным юмором он поведал о том, как, находясь в ссылке в Никольске, чуть не превратился в буржуа. Поражение в правах лишило его пособия от казны. Зарабатывать на жизнь, давая уроки, ему тоже было запрещено, как и выходить в город. Как выжить? Выручил местный лесничий. Он предложил писать за крестьян прошения о приписке их к «починкам», самовольно расчищенным землям в казенном лесу, а в качестве платы установить рубль или полтинник. Потанин выбрал меньшую плату. Но вскоре весть о человеке, грамотно составляющем прошения, по которым не бывает отказа, распространилась по всем окрестным деревням, и крестьяне повалили к нему. Ссыльный рассчитался с долгами перед своей квартирной хозяйкой, и вскоре у него стали образовываться сбережения.
– Полтинников скопилось столько, что я складывал их на своем столе стопочками, и вскоре очутился во власти человеческой страсти к накоплению, которой политэкономы приписывают возникновение культуры и образование капитала. Я стал превращаться в буржуа, ибо умножение стопок из деревенских пятаков ласкало мои глаза. Удержаться от этой страсти я был не в силах. Впоследствии, во время моих путешествий, она проявилась в более благородных формах. С той же страстностью я констатировал накопление за время путешествия коллекций. Когда я раскрывал коробочку с наложенными на ватные коврики жуками и замечал дневной прирост, то моя жадность успокаивалась, как при пересчете деревенских пятаков.
Супруга отказалась сопровождать Григория Николаевича в киргизскую степь. Тогда в пику ей он пригласил в свою экспедицию двух молоденьких сестер Синицыных. Старшая, Антонина, была уже замужем и к своей девичьей фамилии присоединила еще одну «пернатую»: Воробьева-Синицына. Она неплохо рисовала, и Потанин рассчитывал на нее как на художницу. Младшая же, Екатерина, еще училась в университете и готовилась преподавать в гимназии естественные науки. Ее интересовали травы, кустарники и деревья далекого края.
– Еще у меня будет интеллигентный переводчик с киргизского, которого мне обещали подыскать в Семипалатинске, – подытожил состав экспедиции организатор.
Однако Петра Васильевича Муромского число участников не удовлетворило.
– Позвольте полюбопытствовать, Григорий Николаевич, а кто будет охранять вас в пути?
– Зачем мне все эти церемонии? Я же не Пржевальский, чтобы путешествовать с военным эскортом. Берданки мне не нужны, ведь я отправляюсь не на охоту за туземцами.
– Но в дороге всякое может случиться, – не унимался Муромский. – Я не могу позволить вам так безрассудно рисковать жизнью.
– Да помилуйте, дорогой мой Пётр Васильевич, я же не к диким племенам еду, а буду путешествовать в границах своего отечества. Киргизы – очень гостеприимный и добродушный народ. Вы же не будете выделять мне охрану, если я надумаю приехать к вам на дачу?
Муромский промолчал.
– Или на курорт Немал на Алтае?
Адвокат махнул рукой, осознав, что Потанина не переспоришь.
Но на улице, когда мы оказались наедине, мой начальник сказал:
– Вот что, Пётр Афанасьевич, вы же сами родом из тех мест. Поэтому я даю вам отпуск до окончания этой экспедиции. Поезжайте как будто по своим делам. Например, отыскать следы вашей покойной матушки. Кто она и откуда? Как оказалась зимой в степи с ребенком? Поездите по станицам. А вдруг и отыщете что-нибудь? А заодно и от Григория Николаевича с его спутницами будете неподалеку. Если возникнет какая-то неприятность, всегда придете на помощь. Вы же не разучились еще стрелять? Поэтому возьмите на всякий случай с собой револьвер.
Мы выезжали на поезде в Омск в конце мая. Погода стояла не по сезону жаркая. В лесу, зеленой стеной нависавшем над самым перроном, росло много черемухи. И хотя она уже отцветала, источала такой дурманящий аромат, от которого даже у меня, зрелого мужчины, кружилась голова.
Нас провожала целая толпа народа. Грузчики едва успевали заносить в вагон чемоданы и баулы, но куча багажа на перроне убывала медленно. Я с тревогой думал, как нам самим придется вытаскивать эту поклажу.
Наконец дежурный по станции дал последний звонок, и кондуктор заторопил нас в вагон. Родственники затискали бедных сестер в объятиях и со слезами давали им последние наставления, как вести себя в экспедиции. Григорий Николаевич, сухо кивнув на прощание Марии Георгиевне, первым скрылся в вагоне.
Перрон с провожающими, машущими нам вслед белыми платками, остался позади. Свежий ветер, врывающийся в окно, ласкал мне лицо и хоть немного спасал от духоты. Рядом с другим окном возле своего купе стояли барышни Синицыны и о чем-то шушукались, то и дело прыская со смеху.
Мои опасения относительно неподъемного для нас багажа оказались напрасными. На вокзале в Омске нас встречал весь Западно-Сибирский отдел Русского географического общества. Мне даже не дали принять участие в разгрузке. Из вагона я вынес лишь саквояж со своими личными вещами.
Кто-то из встречающих посоветовал сразу отвезти экспедиционные принадлежности на пристань и оставить их в камере хранения, чтобы не таскать лишний раз в гостиницу. Получилась целая телега. Зато в город мы отправились налегке.
Вечером на специальном заседании отдела географического общества в честь приезда Потанина был дан специальный концерт. Киргизские певцы пели свои народные песни, и звучала домбра[68].
В Омске мы задержались на три дня. Григорий Николаевич был нарасхват, он едва успевал наносить визиты, но все равно желающих принять у себя знаменитого путешественника было гораздо больше, чем времени, которым мы располагали. И в этой ужасной суматохе он не забыл о моем личном деле. Через каких-то своих знакомых он навел справки в полицейском архиве о женщине и пятилетнем мальчике, пропавших без вести в Барабинской степи зимой 1890 года. Я весьма скептически относился к этой затее, ведь уже неоднократно делал подобные запросы и в Омск, и в Семипалатинск, и в Усть-Каменогорск, ответ был один и тот же: нет сведений.
Накануне нашего отплытия вечером в мой номер, предварительно постучавшись, вошел Потанин в сопровождении младшей сестры Синицыной и попросил ее зачитать один документ.
– Из числа погибших и пропавших без вести в указанный год под ваше описание не подходит никто. Однако весной 1892 года в Омское полицейское управление с подобным запросом уже обращался подданный Австро-Венгрии, проживающий в Праге, горный инженер Павел Петрович Войцеховский. Он искал следы своей семьи: жены Марии Людвиговны, 1861 года рождения, уроженки города Кенигсберга, в девичестве носившей фамилию Эрхарт, и сына Петра, 1885 года рождения. Указанные лица въехали в пределы Российской империи в декабре 1889 года. Последнее письмо, которое он получил от своей жены, было отправлено из Москвы. В нем она сообщала, что намеревается отправиться к нему на Змеиногорский рудник, где он в ту пору работал в старательской партии. Он написал ей категорический отказ и даже выслал денег, чтобы она могла вернуться домой в Прагу. Однако перевод она не получила, и больше инженер известий о своей семье не имел. В 1891 году он смог прервать свой договор с нанимателем и отбыть на родину. Однако и там никаких сведений ни о жене, ни о сыне он не нашел. Здесь внизу даже указан адрес, по которому надо писать инженеру Войцеховскому.
Я не верил собственным ушам. Боже мой, тайна, волновавшая меня с младенчества, раскрывалась так легко! Достаточно было самому приехать в Омск и обратиться в полицейское управление, а не ограничиваться официальными запросами, на которые в этой чиновничьей стране один ответ – отписка.
Потанин хитро улыбался.
– Теперь нет необходимости в нашем совместном путешествии, – официальным тоном предложил Григорий Николаевич. – Вам следует изменить свой маршрут. Пока мы находимся на Сибирской магистрали, сделать это нетрудно. Покупайте билет до Москвы и отправляйтесь на поиски вашего батюшки. Если вам не хватает денег, то я готов одолжить…
Добрый и наивный волшебник, он совершенно неправильно истолковал мою растерянность. Не в деньгах вовсе было дело. Я мог бы завтра же зайти в местный банк и снять со своего счета сумму, во много раз превышающую весь бюджет его экспедиции. Но я же дал честное слово Муромскому, что буду сопровождать Потанина и его спутниц. Вдобавок настроился увидеть родную степь, где давно уже не был. А из Праги я выехал только прошлой осенью.
Я еще раз взглянул на адрес, указанный в полицейском ответе, – мой отец жил всего в двух кварталах от меня. Возможно, мы с ним пили пиво в одном кафе, покупали газеты в одном магазинчике. Я стал перебирать в памяти запомнившиеся мне лица пражан, но никого, кто бы годился мне в отцы, так и не вспомнил. Да и, вообще, жив ли он еще? Ему сейчас должно быть около шестидесяти. Весьма преклонный возраст. А вдруг у него сейчас другая семья? Другие дети? И я свалюсь на их головы нежданно-негаданно: здравствуйте, я ваш сын и брат, прошу любить и жаловать. Не думаю, что мне будут рады. Ведь отец уже давно не ищет меня. Значит, на то есть причины. Пожалуй, лучше для начала написать письмо.
Итак, Войцеховский. Меня зовут Пётр Павлович Войцеховский. И кто же, интересно, я по национальности: поляк, словак или все-таки чех? А может быть, это обыкновенное совпадение? И это вовсе не мой отец?
Глаша! Кухарка Коршуновых! Кажется, она говорила, что бабка Екатерина называла ей мою фамилию, которую мать твердила в бреду перед смертью. И если Войцеховский искал семью в Омске, то он, скорее всего, делал это и в Семипалатинске, а это совсем маленький городок, где подобные вещи случаются нечасто, потому местные полицейские должны помнить об этом случае. К тому же оттуда недалеко и до самого Змеиногорска, где работал мой вероятный отец. Может быть, где-нибудь в личном деле сохранилось фото его, жены, сына? Нет, полученная информация вовсе не отменяет моей личной экспедиции, а наоборот, она делает мои поиски более целенаправленными. Теперь я знаю, кого и где искать.
Я подошел к столу и быстро написал в блокноте ответ.
Катя Синицына во всеуслышание прочла эту запись, захлопала в ладоши от радости и прокричала:
– Ура! Пётр Афанасьевич отплывает вместе с нами!
Против течения пароход продвигался очень медленно. Иртыш еще не успел отойти от весеннего половодья и представлял весьма широкую реку с мутной водой. Слева на высоком берегу осталась столица Сибирского казачьего войска, а справа ярко зеленели заливные луга. Но стоило пароходу отойти на юг, как пейзаж резко изменился. Пойма реки еще продолжала радовать глаз богатой растительностью, а на крутых откосах, которые просматривались с верхней палубы, открывался вид на бескрайнюю степь.
На Григория Николаевича этот пустынный пейзаж производил обратное воздействие, чем на остальную публику.
Он гулял по палубе в одной легкой рубашке и с наслаждением вдыхал полынный степной запах.
– А вы знаете, Катя, что восточные народы брали мотивы для своих орнаментов у самой природы? Вам не кажется, что вон тот изогнувшийся яр напоминает желтый сыромятный ремень, инкрустированный серебряными бляхами? – сильно прищурившись и поправив пенсне, спросил Потанин.
Девушка только вздохнула. Иногда слепой видит лучше зрячего.
А воодушевленный дорогой старик воскликнул:
– Если и есть на свете рай, в котором обитали Адам и Ева, то я убежден, что он находится в верховьях Иртыша!
Катя скептически улыбнулась, я же был солидарен с Потаниным.
Изредка пароход причаливал к берегу, и пассажиры имели возможность прогуляться. Я отходил подальше от всех, раздевался донага, купался и плавал в реке своего детства в полном одиночестве.
В Павлодаре мы остановились почти на целый день. Команда пополняла запасы угля и продовольствия. Публика получила возможность выйти в город. Я заранее попросил Катю Синицыну пойти со мной. Если удастся найти кухарку Глашу, мне понадобится человек, способный быстро на словах объяснить цель нашего визита. А Григория Николаевича оставили на попечении Антонины.
Оказалось, что Аграфена Ивановна жива, более того, она по-прежнему проживала в старом доме Коршуновых, правда, служила теперь у новых хозяев.
Она очень обрадовалась, когда узнала, кто мы такие, рассмотрела меня со всех сторон, а потом усадила нас за стол выпить чаю и откушать ее особенного яблочного пирога.
– Называла, Петенька, бабка вашу фамилию, только Елизавета Степановна мне строго-настрого наказала забыть ее и никогда больше не упоминать. Дескать, ты Коршунов и более никто.
– А не помните, что за фамилия? – поинтересовалась Катя.
– Ох, и не упомню, милые вы мои. Столько годков уже прошло. Вон Петя как вырос, настоящим кавалером стал. Повезет той девке, что выскочит за него замуж.
Барышня покраснела, но еще настойчивее повторила свой вопрос.
Кухарка призадумалась, а потом вспомнила:
– Какая-то нерусская. То ли польская, то ли малоросская. Хмельницкий, Вержбицкий…
– А может быть, Войцеховский? – пришла на помощь моя переводчица.
– Точно, Войцеховский! – радостно воскликнула Аграфена Ивановна. – Как пить дать, Войцеховский! – подтвердила она, перекрестясь.
В Семипалатинске мои поиски вновь сильно продвинулись с помощью членов географического общества. Через их протекцию полиция выдала мне фотографии: моей мамы, меня в младенчестве и всей нашей семьи, включая отца. Таким образом, мое расследование было завершено. Я теперь доподлинно знал свое происхождение. И ехать в далекий Змеиногорск мне не было никакого смысла.
Я решил остаться с Потаниным. И не только потому, что боялся отпускать его в компании двух беззащитных девиц и переводчика, но киргизская степь тоже манила меня, а Екатерина Синицына явно выказывала мне свою симпатию.
От берегов Иртыша мы двинулись в глубь безводных, выжженных солнцем пространств, взяв курс на Куяндинскую ярмарку[69]. Григорий Николаевич вместе со своими спутницами ехал на тарантасе. Мне же пришлось вспоминать навыки верховой езды, приобретенные в детстве на конном дворе купца Коршунова. Но долгое отсутствие тренировки сказалось: к вечеру я так натер седлом бедра и ягодицы, что не мог без посторонней помощи слезть с лошади.
– Плохие дела, Пётр Афанасьевич, – осмотрев мои кровавые ссадины, покачал головой наш переводчик Алимхан Ермеков.
Он учился в Томском университете, и мне доводилось встречать его у Потанина на «пятницах», но познакомились мы с ним только перед отъездом в степь. Ему удалось досрочно сдать экзамены и нагнать нас. Пополнение нашего коллектива я встретил с радостью. Этот молодой человек был своего рода связующим звеном между цивилизованным Томском и дикой степью. Он свободно говорил и по-русски, и по-киргизски. Физически хорошо развит. И стрелял из ружья отменно: на каждом перегоне ему удавалось добыть какую-нибудь дичь, и на ужин у нас всегда была горячая похлебка.
Порывшись в своем дорожном мешке, юноша извлек какую-то склянку. Несмотря на мои протесты, Алимхан смазал раны этой гадостью и велел не вставать до утра, чтобы лекарство впиталось. Зато на следующее утро я с удивлением обнаружил, что рубцы на коже затянулись, будто бы их не было вовсе. Переводчик поправил мое седло.
Теперь дорога не причиняла мне никаких неудобств, и я стал уделять внимание окрестным пейзажам. Всюду простиралась бескрайняя желто-серая степь. Иногда она бугрилась и как бы выпучивала из себя курганы с одинокими большими камнями у самых вершин. Подъехав к одной такой возвышенности поближе, я обнаружил, что это вовсе не валуны, а каменные истуканы с плоскими лицами. И тогда я понял, что при всей неприглядной однообразности и скудности это – обетованная земля.
– Степь – та же книга, только ее надо научиться читать. И никогда не будет скучно, – словно угадав мои мысли, пояснил Алимхан.
В начале степной одиссеи Потанин был немногословен и замкнут. Видимо, он чувствовал себя неважно, но не хотел нас расстраивать и крепился. И только когда на горизонте показались горы и переводчик объявил, что ночевать будем в станице Баянаульской, лицо старого путешественника просветлело и взгляд оживился.
До этого я никогда не бывал в оазисах, хотя много читал о них в приключенческих романах. Мое воображение рисовало финиковые пальмы среди барханов песка в палящей пустыне, обступающие источник с живительной влагой. Но чтобы оазис возник посреди солончаковой степи, притом таких внушительных размеров – не менее десятка верст в длину и столько же в ширину, в это я вряд ли поверил бы, если бы сам не побывал там.
Станица стояла на берегу равнинного озера Сабандыкуль, от которого начинался сосновый бор, уходящий дальше по скалам в горы.
– Настоящая красота начинается за перевалом, – заметил переводчик. – Там еще два озера. Если пожелаете, могу завтра проводить туда. Вы будете удивлены.
К Григорию Николаевичу подошли местные старейшины, и Алимхан поспешил к нему. Однако разговор уже начался. Потанин в недоумении показывал рукой на новый бревенчатый дом у подножия диких скал на берегу озера. Аксакалы поняли суть его вопроса, Ермекову осталось только перевести их ответ.
– Старый дом сгорел во время пожара.
– Как же так? – развел руками путешественник. – Когда я во второй раз возвращался из Монголии, дом был еще цел.
Он говорил так, будто бы это было вчера или, по крайней мере, неделю назад. Но со времени второго монгольского путешествия Потанина прошло уже тридцать три года.
Старик разом как-то обмяк и присел на крыльцо новостройки.
– Вам плохо, Григорий Николаевич? – подскочила к нему Антонина и стала искать в сумочке лекарство.
– Пустое, – отмахнулся он. – Скоро пройдет. Просто обидно, что старого дома больше нет. Его строил еще мой отец. И первый год семейной жизни он прожил с моей матушкой в этом доме. И, вероятно, его стенам я был обязан своим рождением.
Ни завтра, ни послезавтра у переводчика Ермекова не выдалось свободного времени, чтобы проводить нас за перевал. К дому, где мы остановились, выстроилась очередь из аборигенов, желающих рассказать сказки и предания «аксакалу с красивой душой», как они называли Потанина. Видя такой ажиотаж, я предложил Алимхану свою помощь. В результате у нас возникло своеобразное трио. Григорий Николаевич расспрашивал сказителя, Ермеков переводил вопросы и ответы, а я стенографировал их беседу.
Накануне отъезда мы с Алимханом условились закончить работу до полудня и сразу после обеда махнуть в горы. Григорий Николаевич тоже поначалу хотел поехать с нами, но потом передумал.
– Все равно ничего толком не увижу. Я же даже картин рассмотреть не могу, одни только рамы, что уж говорить о настоящих пейзажах. Езжайте сами, быстрее обернетесь.
Мы вскочили на лошадей и галопом понеслись по пыльной дороге. Однако вскоре наши скакуны сами перешли на шаг, им пришлось круто подниматься в гору. Зато когда мы оказались на перевале, у меня дух захватило от увиденного. За нами простиралась бескрайняя степь, ее скудный ландшафт просматривался и справа, и слева за поросшими сосновым лесом горными хребтами, и далеко впереди. Но если посмотреть вниз, то невольно забываешь, где находишься. Это была настоящая Швейцария. В расщелине между крутых скал и гор, поросших хвойными деревьями, лежало голубое озеро. В самом конце вьющегося серпантина я увидел узенькую желтую полоску песчаного пляжа и указал на нее своему спутнику. Он сразу меня понял, и мы стали спускаться.
Такой чистейшей воды я не видел даже в Швейцарии. Можно было далеко зайти в озеро, даже заплыть на глубину и обозревать свое тело, словно парящее в прозрачной стихии. Удивительно, но вода здесь была теплой. Обычно в горных озерах долго не покупаешься. Раз-два нырнешь, а потом весь дрожишь от холода, и судорога начинает сводить ноги и руки.
Мы купались в Джасыбае (так называлось это озеро), пока солнце не начало садиться за вершины гор. А потом едва успели взобраться на перевал и спуститься на равнину, как кромешная тьма окутала нас. Дорогу в станицу нашли лошади.
Ближе к Куяндинской ярмарке нам стали чаще попадаться навстречу табуны лошадей и отары овец, погоняемые покрытыми пылью чабанами.
Однажды из‑за горбатого увала вылетели на скакунах два джигита. Я уже нащупал в кармане сюртука ребристую ручку револьвера. Но Алимхан очень дружелюбно прореагировал на их появление. Он словно забыл про ружье, а когда они приблизились к нам вплотную и что-то прокричали, с улыбкой ответил им на своем языке. Всадники заливисто расхохотались и, перебросившись еще парой фраз, ускакали в степь.
– Что им было от нас нужно, Алимхан Абеуович? – спросила перепуганная Катя.
– Спрашивали, зачем и куда едем.
– А почему рассмеялись?
– Их развеселила цель нашего путешествия. Им непонятно, зачем старому аксакалу нужны казахские сказки. Неужели в России мало своих?
– А вы им что ответили?
– Сказал, что наши лучше.
Обе барышни прыснули со смеху. Потанин тоже улыбнулся. Набравшись смелости, Екатерина спросила его:
– Григорий Николаевич, а на самом деле, зачем вам столько киргизских сказок? Вы собираетесь их издать?
Потанин сразу собрался, словно вознамерился читать лекцию в университетской аудитории, забыв про тряский тарантас.
– Видите ли, Екатерина Александровна, староват я для простого сборщика фольклора. Времени у меня осталось немного, поэтому хочу посвятить его разгадке тайны, которая меня давно уже занимает. Сибирь – удивительная страна. Здесь сталкиваются и своеобразно взаимодействуют европейская и азиатская культуры. Умственная и общественная деятельность кочевых племен развивалась оригинально, она в меньшей степени испорчена поздними религиями: христианством, исламом и буддизмом. В фольклоре кочевников можно найти истоки. Меня очень интересует влияние Верхней – ордынской – Азии на искусство и жизнь России, а через нее и Европы. В частности, у меня есть все основания полагать, что легенда о Христе родилась вовсе не в Палестине, а пришла туда из Верхней Азии через киргизскую степь, Кавказ и Армению. Доказательства этой гипотезы я собираю всю свою жизнь, и первые результаты нашей нынешней экспедиции свидетельствуют, что я на верном пути.
Бедная Катя Синицына! Хоть она и изучала естественные науки в университете, но все-таки воспитывалась в православных традициях и наверняка по воскресеньям посещала церковь. Откровенные признания такого авторитетного человека, каким для нее являлся Григорий Николаевич, вошли в противоречие с церковными догматами. В ее больших круглых глазах читался один вопрос: кому верить? И чтобы отогнать сомнения, она быстро перекрестилась.
Два месяца мы пробыли на джайляу[70] в Каркаралинских горах. Жили в юртах. Григорий Николаевич, Алимхан и я – в одной, а сестры Синицыны в другой. Пили кумыс, по праздникам ели бешбармак. И каждый день возле нашей юрты собирались акыны и сказители из всех окрестных аулов, пели свои песни и рассказывали сказки и легенды.
Однажды прохладным августовским вечером на притоке реки Токрау Катя Синицына призналась мне в любви, неумело чмокнула в губы и быстро убежала в темноту. Я потом не спал всю ночь и думал, как мне поступить. Эта девочка по-настоящему любит меня, и, может быть, мне стоит ответить на ее чувство и предложить ей руку и сердце? Возможно, это и есть мое счастье, а ее любви хватит на нас двоих? Но всякий раз, когда я только пытался допустить эту мысль, перед моими глазами вставал образ другой девушки – с зелеными глазами.
На следующее утро я повел себя так, будто ровным счетом ничего не случилось. Екатерина Александровна сильно на меня обиделась. А вскоре с первыми утренними заморозками мы снялись с кочевья и отправились в обратный путь.
Глава 5. Девушка пела в церковном хоре
Стоял теплый вечер. И хотя календарь отсчитывал вторую неделю сентября, и листья на бульваре раскрасились в разные цвета – зеленый, красный, оранжевый, желтый, а иные уже засохли, опали и шелестели под ногами прохожих, неожиданно вернувшееся тепло заставило горожан скинуть плащи и накидки. Публика прогуливалась налегке, греясь в преддверии ненастья и следующей за ним долгой и холодной сибирской зимы.
Сегодня на меня свалились курьерские обязанности. Только что отнес тезисы потанинского доклада о каркаралинской экспедиции профессору технологического института Обручеву, чтобы он просмотрел их перед заседанием Общества изучения Сибири, а еще предстояло выполнить поручение Муромского и доставить какие-то документы его клиенту на Торговую улицу.
Я шел, погруженный в собственные думы, шелестя опавшей листвой, и корил себя за жестокость, с какой отверг чувство Кати Синицыной.
Но вдруг ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. После потери голоса я стал очень чувствительным к таким вещам. Видимо, так уж устроена природа человека, что недостаток одного органа чувств приводит к развитию другого. Я обернулся.
На меня смотрела очень красивая барышня. Она стояла на углу Бульварной и Торговой и о чем-то оживленно беседовала с кавалером. Я вначале не узнал ее и сделал еще несколько шагов. Но спиной чувствовал, что она продолжает смотреть мне вслед. Я обернулся. Она улыбалась мне как доброму старому знакомому. Глаза у нее были зеленые, цвета весенней листвы. ЭТО ОНА!
Та самая гимназистка, девочка-подросток из безумного октября девятьсот пятого года с огромными зелеными глазищами. Та, которая призывала взрослых мужчин к стойкости и спокойствию в оцепленном казаками здании Бесплатной библиотеки. Та, которую спасал адвокат Муромский во время разгона ученической демонстрации на Соляной площади. Дальняя родственница Андреевых, моя сокровенная мечта, из‑за которой я и вернулся из Европы в Томск, – Полина Игнатова.
И, как вы думаете, что я сделал? Бросился к ней навстречу, взял за руку, увел от кавалера, встал на колени, объяснился, как мог, пусть даже при помощи карандаша и блокнота, в любви, попросил руки и сердца? Ничуть не бывало. Я отвесил дежурный поклон и, изобразив на лице искусственную гримасу наподобие улыбки, прошел мимо.
Как же мне хотелось вернуться назад и излить ей свою душу, но ноги упрямо несли меня прочь. Я ненавидел себя за смущение и малодушие! И хотя разум оправдывал мой поступок неожиданностью встречи и правилами этикета, но сердце отказывалось подчиняться логике.
Даже мельком я успел заметить, что она заметно похорошела за эти годы. Стала настоящей тургеневской барышней. Заплетенные в косу густые темные волосы, высокий лоб, большие одухотворенные глаза, правильный нос, точеная фигура с тонкой талией. И в то же время в ней не было даже малейшего намека на кокетство, что я всегда находил в большей или меньшей степени во всех встречавшихся мне ранее женщинах и девицах. Весь ее облик дышал сдержанным достоинством.
Я долго стоял перед домом купца, к которому имел поручение. Ждал, когда мое лицо перестанет пылать и сердцебиение придет в норму. Потом передал через прислугу пакет и поспешил к себе домой.
В ту ночь я не заснул.
Редакция «Сибирской жизни» выплатила Потанину гонорар за первую часть «Воспоминаний». Жена-поэтесса успокоилась на какое-то время, и Григорий Николаевич смог возобновить свои журфиксы по пятницам.
И надо же было такому случиться, что на первый же вечер к нему собрались одни барышни. Из мужчин были только Шаталов да я. Много было хорошеньких. Сие обстоятельство чрезвычайно нервировало Марию Георгиевну. Она сослалась на мигрень и удалилась в свою комнату. Я же надеялся увидеть милое лицо своей возлюбленной. Но тщетно. Полины не было.
Видя, что собрание имеет преимущественно женский состав, Потанин тему для беседы выбрал соответственную – о сибирячках.
– Заведение пашен, скотоводства, оседлых поселений требовало умножения женщин в Сибири, а в новую страну шло преимущественно мужское население. От недостатка женщин в первое время Сибирь не отличалась нравственностью. За неимением своих женщин русские заводили жен из инородок и по обычаю бухарцев заводили их по нескольку, так что московский митрополит Филарет должен был выступить против сибирского многоженства. Жены-инородки добывались или покупкой, или захватом. Многочисленные бунты инородцев, которые вызывались несправедливыми поборами и притеснениями сборщиков ясака, давали повод к военным походам в инородческие стойбища, причем мнимых ослушников избивали, а жен и детей забирали в плен и затем продавали их в сибирских городах в рабство. Голод от бесхлебицы и неулова зверя заставлял часто и самих инородцев продавать своих детей. Кочевое племя киргизов, занимавшее южные степи Сибири, делая набеги на соседних с ними калмыков, всегда возвращалось с пленными и пленницами и также иногда сбывало их в сибирских пограничных городах.
Старик откашлялся и продолжил:
– У сибиряков собственное воззрение на женскую красоту. Местный вкус более пленяется татарским или бурятским идеалом женщины. Есть даже такой анекдот, как иркутские девушки, рассматривая альбом портретов, находили хорошенькими лица азиатского типа: узкие глаза и плоский нос. Слово «краснорожий» в Сибири синонимично слову «безобразный» и употребляется как бранное. Тогда как слова «черномазый», «халзан», «карым» или «карымочка[71]» – ласкательные по отношению к детям или девицам. Росомаший разрез глаз и скуластое лицо здешних красавиц пленяют сибиряков гораздо более, чем европейские каноны красоты…
В залу бесцеремонно вошла супруга с перевязанной полотенцем головой, сказала, что ей совсем дурно и попросила срочно послать за доктором. Гостьи были воспитанными, поэтому сразу стали собираться. Я тоже направился к выходу, но Григорий Николаевич тихо окликнул меня. Я подошел к сидящему в кресле старику, и он, наклонив мою голову к себе, быстро зашептал мне на ухо:
– Пётр Афанасьевич, голубчик, пока мы с вами путешествовали, у Андреевых случилось большое несчастье. Александра Васильевича сослали в Нарым. Семья осталась без кормильца. Вот десять рублей. Пожалуйста, передайте Анне Ефимовне.
И он сунул в карман моего сюртука замусоленную банкноту.
В комнату вернулась супруга, уже без каких-либо признаков болезни. В руках она держала полотенце.
– Друг мой, не надо доктора. Как ушли эти вертихвостки, мне сразу стало лучше, – заявила она бодрым голосом.
Потанин насупился, а потом еле слышно произнес:
– Я ошибся. Двух счастий в жизни не бывает.
Лучшего повода, чтобы попасть в дом Андреевых, было не найти. Роль посланника доброй воли, приносящего вспоможение в годину лишений, великолепно подходила для возобновления знакомства с этим милым семейством.
Я разгладил потанинскую десятирублевку, потом аккуратно свернул ее вчетверо и спрятал в тайное отделение бумажника как ценную реликвию. Вместо нее положил в конверт свои сто рублей и надписал: «Анне Ефимовне Андреевой от Григория Николаевича Потанина». Теперь можно было не опасаться, что не смогу объяснить хозяевам или прислуге цель своего визита.
Уезжая на лечение за границу, я тайком оставил Григорию Николаевичу десять рублей. Но только для меня даже в ту пору это былая сущая мелочь, капля в море. Потанин же отдал семье друга чуть ли не последние свои деньги, когда нечем заплатить за квартиру или продукты. Я представил себе, какой скандал ему закатит Мария Георгиевна, и подумал: не зря монголы считали его «кукуштой» – святым человеком.
Андреевы проживали в собственном доме на Преображенской улице, на городской окраине недалеко от вокзала Томск-I. Прошлый раз я был у них зимой, когда все было заметено снегом, поэтому не мог разглядеть всей здешней красоты. Зато сейчас, ранней осенью, в разноцветье природных красок я в полной мере оценил великолепие этого места. Двухэтажные деревянные дома с резными наличниками буквально утопали в садах и цветниках. Подступавший к усадьбам березовый лес подчеркивал патриархальность и гармонию этих жилищ. Жужжали вновь проснувшиеся пчелы, в стайках мычали коровы. Даже не верилось, что это город.
Именно здесь, по рассказам Потанина, когда он жил во флигеле возле дома Андреевых, зародилось Общество изучения Сибири, в честь чего эту часть Преображенской и прозвали Сибирской слободкой.
Если сказать, что я нервничал, подходя к дому под номером двадцать, значит, не сказать ничего. Я краснел и бледнел одновременно, сердце клокотало у меня в груди так, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет наружу. Подойдя к парадному крыльцу, я невероятным усилием воли заставил себя постучать в дверь. Однако мне никто не ответил. Тогда я постучал еще раз и вновь не дождался ответа. Я решил, что зайду в другой раз и облегченно вздохнул. Но неожиданно из ворот вышла женщина в какой-то кацавейке и туго повязанном, как у монашек, платке. Она несла ведра с помоями. Я видел ее только со спины и решил, что это прислуга убирается в хлеву.
«Ну вот и славно, – окончательно успокоил я себя. – Отдам ей конверт. Пускай передаст хозяевам. А с Полиной, бог даст, встречусь потом».
Тем временем работница вылила помои за ограду, повернулась и увидела меня, стоящего на крыльце. Она всплеснула руками, бросила ведра и ринулась бегом к воротам. Но я опередил ее и загородил дорогу. Женщина буквально с лету врезалась мне в грудь и закрыла лицо руками. Я уже подумал, что это какая-то полоумная девка и что деньги ей нельзя доверять. Но заметил, что из-под ее грязных пальцев текут слезы.
Я отнял ее ладони от лица. На меня смотрели огромные заплаканные зеленые глаза.
– Извините меня, Пётр Афанасьевич, за мой коровий костюм. Но Анне Ефимовне нечем платить прислуге…
Что произошло со мной в этот миг, я не помню. Обычно от неожиданности лишаются дара речи, но его у меня давно уже не было, и поэтому я его… обрел.
– Вы? – изумленно прошептал я.
Не мыча, не заикаясь, а нормальным человеческим языком, как говорил до погрома. Я бы и не заметил этого, утонув в омуте бездонных зеленых глаз, если бы моя барышня-крестьянка не прыснула смехом в свой измазанный кулачок.
– Чудно… А мне говорили, что вы – немой.
– Я и был им. А еще слепым и глухим. Пока не встретил вас, – пролепетал я и наконец-то осознал, что ко мне вернулась способность членораздельно говорить.
– Ну это вы на себя напраслину возводите. Хотите произвести впечатление на провинциальную девушку. Только куда уж больше? – Полина глубоко вздохнула. – Или это у вас такой маскарадный костюм, вроде моего коровьего. Только я в нем за коровами убираю, а вы – девушек соблазняете.
За этими словами она стремилась скрыть собственное смущение от того, что посторонний человек из благородного общества застал ее в таком непотребном виде. Мне же было безразлично, о чем говорить: лишь бы говорить с ней.
– Вы ошибаетесь, Полина. Я молчал целых семь с половиной лет. Объездил всю Европу, лечился у самых знаменитых докторов, но никто не смог мне помочь. А с вами вдруг взял и заговорил. Это чудо совершили вы!
Она смотрела мне прямо в лицо, пристально и недоверчиво, словно изучала, что происходит у меня внутри.
– А вы не обманываете? – тихо спросила девушка.
– Нет. Никогда в жизни я не был более искренним, чем сейчас.
Полина немного успокоилась, напряжение с нее спало.
– А вы к Андреевым по делу или как? – поинтересовалась моя барышня-крестьянка.
– Ах, совсем из головы вылетело, – я стал рыться в карманах в поисках конверта. – Вот, будьте так любезны, передайте, пожалуйста, Анне Ефимовне от Григория Николаевича Потанина. Здесь, кажется, деньги.
Она бережно взяла конверт и поблагодарила:
– Спасибо. Они будут очень кстати. Только тети дома нет. Она поехала в ломбард – закладывать какие-то ценности. Нина и Вера сейчас на службе. Поэтому я вас в дом не приглашаю. Но если вы сможете подойти в субботу к обеду, то, я думаю, все будут очень рады вам. Придете?
– Непременно.
Крепко сжимая в руке конверт, она вернулась за ведрами, подняла их и крикнула:
– Ну идите же!
– Вы меня уже гоните?
– Нет, но баба с пустыми ведрами – плохая примета.
– А я не верю в приметы.
– Зато верю я. Ну, пожалуйста, – взмолилась Полина.
– А вы будете меня ждать?
– Больше всех.
Услышав ее ответ, я как на крыльях пустился обратно. Я был на седьмом небе от счастья.
За годы молчания мой характер претерпел значительные изменения. В принципе, я вообще научился обходиться без слов. Лишь изредка, когда возникали щекотливые ситуации и речь была жизненно необходима, я прибегал к помощи карандаша и блокнота. А сейчас, когда способность говорить вернулась ко мне, у меня не возникло ни малейшего желания безрассудно пользоваться ею. Я понял цену и силу слов. Для меня они были равносильны оружию, которое следовало применять весьма избирательно. Это, конечно, замечательно, что я вновь заговорил. Но ведь если у казака есть шашка, он же не машет ею постоянно. Она зачехлена в ножнах и ждет своего часа.
Окружающие меня люди свыклись с тем, что я немой, и даже находят преимущества в этом моем положении. Полагаю, что и Муромский доверил мне свои конфиденциальные дела потому, что я не могу разболтать о них первому встречному. А Потанин вообще видит во мне родственную душу, собрата по несчастью. Пусть уж все останется, как было. Голос мне нужен только для общения с Полиной. Для остального мира я буду немым!
К субботе погода испортилась. С утра зарядил холодный дождь, а к полудню, когда я подъехал на извозчике к парадному крыльцу Андреевых, ливень хлестал как из ведра. Я расплатился и еще в пролетке раскрыл зонт. По придорожной канаве несся поток мутной воды. Я легко перепрыгнул через него и оказался на дощатом тротуаре. В ближнем окне первого этажа за струями дождя маячили какие-то тени. Меня ждали.
Дверь распахнула сияющая Полина, теребя в руках кончик своей длинной косы.
– Я так ждала вас! – выпалила она с ходу и покраснела.
– Я тоже мечтал видеть вас, – тихо произнес я и еще тише прошептал. – Пожалуйста, не рассказывайте домашним, что я снова заговорил. Пусть это будет наш с вами маленький секрет.
– Ой! А я уже проболталась Нине. Мы живем с ней в одной комнате. У меня нет от нее тайн.
Я даже не смог нахмуриться, ее раскаяние было столь искренним, что она сама чуть не расплакалась.
– А Нина умеет хранить секреты?
– О да! – радостно воскликнула Полина. – Пока вы раздеваетесь, я ее предупрежу.
В гостиной меня поджидало все семейство, за исключением молодого человека в косоворотке с забинтованной головой – по возрасту мне ровесника, состоящее сплошь из представительниц женского пола. Мать – Анну Ефимовну – время не пощадило. Цветастая блузка и накинутая на плечи серая пуховая шаль не только не молодили ее, а, напротив, подчеркивали преклонный возраст. Узкие, плотно сжатые губы, выпуклый подбородок и взгляд уставших глаз, направленный не в лицо, а куда-то поверх головы собеседника, выдавали в ней женщину властную, на долю которой выпало немало жизненных испытаний. Ее дочери тоже не отличались красотой. И если бы я не знал, что они прекрасно образованы, обучены музыке и другим изящным искусствам, то по внешнему виду скорее бы отнес их к крестьянскому сословию, чем к интеллигенции. Старшие сестры – Нина, Мария и Люба – были со мной приблизительно одного возраста, но выглядели более зрелыми. Младшие – Надежда и Вера – Полинины ровесницы.
После барышень представился раненый кавалер, пожав мне крепко руку, и спросил:
– Вы не узнали меня, Пётр Афанасьевич?
Я пригляделся. Да, именно с ним разговаривала Полина в тот вечер на бульваре.
– Я – Григорий. Мы с вами встречались в девятьсот пятом году на демонстрации. А потом вместе митинговали в осажденной казаками Бесплатной библиотеке. Я был тогда с Полиной. Ну что, вспомнили?
Я закивал головой, обрадовавшись, что это оказался никакой не соперник, а всего лишь двоюродный брат.
– Вам тогда здорово досталось. Но вы вели себя как настоящий герой. Столько людей спасли!
Я не любил вспоминать революцию и поспешил перевести разговор на другое, вопросительно показав на забинтованную голову Григория.
– Это пустяки! – отмахнулся он. – Конь лягнул.
– Никакие не пустяки! – возмутилась Нина. – Представляете, Пётр Афанасьевич, перед самым папиным отъездом Гриша вывел из ограды Орлика, чтобы показать его покупателю. А тот сам приехал на лошади. Вдруг Орлик, увидев чужую кобылу, взвился на дыбы и прямо копытами грохнулся Грише на голову. В двух местах рассек ему кожу. Боже, какой это был ужас! Когда брат повернулся к нам лицом, мы с мамой чуть не попадали в обморок. Вся его голова была в крови. Она хлестала ручьями из ран, струилась по лицу, заливала глаза, рот и рубашку. Прямо как царевич на картине Репина «Иван Грозный убивает собственного сына». Но самое ужасное, что Гриша никак не среагировал на ранение, а продолжал держать Орлика под уздцы, пока не завел в конюшню. У меня до сих пор стоит в ушах мамин крик: «Гриша! Уйди! Ведь он убил тебя!» А брат еще нас успокаивал, мол, это пустяки. Хорошо, что хоть череп уцелел, а то были бы тебе пустяки.
– Ну хватит причитать! – взмолился Григорий. – Живой остался, и слава богу.
Анна Ефимовна позвала всех к столу и сама первая заняла место в центре по праву главы семейства.
– Это что же, географическое общество выплатило Григорию Николаевичу компенсацию за каркаралинскую экспедицию? – неожиданно спросила она.
Я чуть не поперхнулся куриным супом и не нашел ничего лучшего, как кивком головы подтвердить ее версию.
– Я так и подумала. Редакция «Сибирской жизни» никогда бы не расщедрилась на такие гонорары. А вы, значит, у Григория Николаевича кем-то вроде секретаря служите? Поди на общественных началах, из любви к науке?
Я вновь кивнул.
– Вот-вот, из‑за такого энтузиазма и бескорыстия происходят все беды. Мой Александр Васильевич тоже беззаветно служил науке, справедливости и Сибири, за то и пострадал. Каково под старость лет оказаться женой политссыльного, без денег, с пятью девками на руках? О дочерях подумал бы, прежде чем в политику лезть. И зачем он ввязался в эту стачку приказчиков? Говорила же ему: надо переезжать в царство Польское[72], пока была возможность, но он уперся. Не могу, дескать, свою душу приносить в жертву Мамоне[73]. Я – сибиряк и должен работать здесь для умственного и духовного развития родины.
За столом установилась гробовая тишина.
Анна Ефимовна поняла, что переборщила с эмоциями и спросила меня уже спокойным голосом:
– А чем вы, Пётр Афанасьевич, зарабатываете на жизнь?
Я уже потянулся в карман за блокнотом, но на помощь мне пришла Полина.
– Господин Коршунов, тетя, служит помощником у Петра Васильевича Муромского.
– Доброе дело, – похвалила жена Андреева. – Этот господин, хоть и играет в революцию, но зарабатывать умеет.
Я все-таки достал блокнот и написал, что кроме этого я имею сбережения в банке и в трудное время смогу прожить на проценты с капитала.
Полина зачитала мою запись вслух, и в столовой снова стало тихо.
Молчание прервала Анна Ефимовна.
– Вот за какого надо выходить замуж, дурехи! – пожурила она дочерей. – А то водите в дом одну шантрапу. Что ни жених, то гол как сокол.
Лица барышень залились краской. Первой встала из‑за стола Мария и сказала:
– Спасибо. Я уже сыта.
За ней Надежда.
– Я в бане угорела. Можно, пойду в свою комнату. Страшно болит голова.
Потом Люба и Вера.
Нина тоже хотела уйти, но Полина жестом попросила ее остаться.
Анна Ефимовна прониклась ко мне особым доверием.
– Представьте, Пётр Афанасьевич, родная сестра Александра Васильевича, что живет в Тюмени, знакома с одним человеком, который сильно преуспел при царском дворе. Она написала ему письмо с просьбой похлопотать за брата. И тот ей ответил, что если ее брат украл или проиграл, то пусть мучается в ссылке, а если был осужден по другой причине, то пусть подает прошение о помиловании на Высочайшее имя. И что вы думаете – Александр подал? Ничуть не бывало. Для него какие-то курганы дороже семьи. Знаете, кто за него готов был хлопотать?
Я пожал плечами.
– Григорий Распутин. Знаменитый сибирский старец!
– Мама, вы совсем утомили гостя. Дайте ему хоть перед чаем передохнуть. А заодно проводите меня.
Извинившись, Григорий встал из‑за стола и сказал, что он спешит к жене и детям. После этих слов я почувствовал к нему еще большую симпатию. От кузена еще можно было ожидать подвоха, а женатый – не соперник Анна Ефимовна стала собирать гостинцы внукам, Нина унесла на кухню грязную посуду. Полина хотела ей помочи с чаем, но та отказалась и велела ей заниматься гостем, то есть мной.
– А хотите, я покажу вам нашу комнату? – спросила меня Полина.
Я согласно кивнул головой.
Далеко идти не пришлось, обитель моего ангела располагалась тоже на первом этаже, прямо за стеной столовой. Комната была просторной. Хотя окно в ней было всего одно, прямо напротив двери. Перед ним стоял большой стол с приставленным к нему стулом, еще два таких же стула по бокам отделяли стол от кроватей.
– Я сплю справа, а Нина – слева, – пояснила Полина.
– А я и сам догадался, – тихо сказал я.
– И как же?
Я показал на городской пейзаж с надписью «Иркутскъ», висевший над ее кроватью. Она заулыбалась.
Стены у изголовий и вдоль кроватей были обиты кошмой, чтобы не дуло. Выше висели написанные маслом летние пейзажи и многочисленные фотографические карточки друзей, а также две балалайки и гитара.
– Вы играете? – спросил я.
– Да. И пою немного.
– А что именно?
– Романсы. А раньше вместе с Ниной пела в церковном хоре. Мне там так нравилось. Я хотела бы снова петь на клиросе[74]. Вот зову Нину, а она упрямится. С одной стороны, ей тоже очень хочется, а с другой – опасается, как это воспримут коллеги в Управлении железной дороги. А вдруг начнут подсмеиваться?
– Желания надо исполнять без оглядки на чужое мнение. На свете есть не только хорошие люди, но и дурные, которые отнюдь не желают вам добра. И если вы их будете слушать, то никогда не станете счастливы. Я всегда больше жалел о том, чего не сделал, нежели о том, что сделал. Как тогда на бульваре, когда прошел мимо вас. Если бы вы знали, как я корил себя за это!
– Мне вначале показалось, что вы не узнали меня. Ведь столько времени прошло! Но когда вы так сухо со мной раскланялись, подумала, что зазнались и не хотите продолжать наше знакомство. Значит, вы тоже думали обо мне?
– Да. Собственно, из‑за вас я и вернулся в Томск. И был очень расстроен, когда узнал, что вы уехали.
Она вскинула на меня глаза и прошептала:
– Я тоже часто вас вспоминала. Ведь вы мой спаситель. Какое счастье, что матушка настояла на моем возвращении сюда! Иначе мы бы не встретились. Как на медицинский факультет университета разрешили прием сибирячек христианского происхождения, она велела мне ехать учиться. А тут с дядей Сашей такое несчастье! У Андреевых самих денег нет, да еще приживалка объявилась. Тетя Аня хоть и мамина сестра, но дядя Саша для меня ближе. Боюсь, что я здесь не задержусь. Придется возвращаться в Иркутск и ждать, когда там откроют университет.
– Не придется. Я вас не отпущу.
– И по какому такому праву вы начинаете указывать мне? – искренне возмутилась Полина.
Язык одеревенел у меня во рту. Не хватало, чтобы я снова лишился речи. Надо было решаться. Сейчас или никогда! Я сделал невероятное усилие и буквально по слогам, внятно и четко, словно докладывал командиру, произнес:
– Полина Викторовна, я прошу вашей руки. Я люблю вас. Будьте моей женой.
Предложение застало ее врасплох.
– Но вы совсем не знаете меня…
– Я вас знаю почти восемь лет.
– Но та детская встреча не считается. Это было случайное знакомство.
– Нами всеми управляет провидение.
– Я из бедной семьи. По сравнению с нами Андреевы – богачи. За мной не будет приданого.
– Зато я богат.
– У меня нет отца. Одна больная мама…
– А я вообще сирота. Ваша матушка будет и моей тоже.
Она не сдавалась:
– Но и я вас не знаю. Вот вам, например, какой романс больше нравится?
– «Утро туманное, утро седое…».
– А мне «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Уже наши вкусы расходятся. А какой ваш любимый поэт?
– Пушкин.
Она замешкалась.
– Ну, положим, я тоже больше всех люблю Пушкина. Но он же признанный гений. А из современных?
– Александр Блок и Николай Гумилёв.
– Как? Они же такие разные! Гений и ремесленник. И притом монархист!
– Мне иногда самому кажется, что во мне живут два человека. Порой я ощущаю себя таким радикалом и хочу переустроить всю жизнь заново, а иногда становлюсь махровым консерватором, страшно боюсь сделать выбор и с удовольствием бы переложил это бремя на кого-нибудь. И Гумилёв такой же не однозначный. Это предельно искренний поэт, любящий мир и верящий в Бога. Что уже показательно в наш безбожный век. А в революции он опасается сопряженного с ней зла и варварства.
– А мне все равно больше нравится Ахматова. Поэтому ничего у нас с вами не получится. Я вас буду мучить, как Ахматова Гумилёва[75], и вы сбежите от меня в Африку или в Минусинск, как дядя Саша.
– Никуда я от вас не сбегу.
– А давайте проверим! – неожиданно предложила она и подошла к книжной полке. – Если вы верите в судьбу, то эта игра должна вам понравиться.
Она сняла книгу с полки.
– Это ваш любимый Блок. Назовите страницу и строку.
– Страница тридцатая.
– А строка?
– Первая.
Полина побледнела.
– Надо же, словно кто-то подслушал наш с вами разговор.
– И что там? – меня заинтересовала ее реакция.
– «Девушка пела в церковном хоре».
– Да, любопытное совпадение, – согласился я. – А давайте еще раз. Страница сорок один. Строка первая.
– «О жизни, догоревшей в хоре…» – прочитала дрожащим голосом Полина. – Какой ужас! И тут хор, и жизнь догоревшая.
Я попросил у нее книгу и дочитал четверостишие до конца:
– О жизни, догоревшей в хоре На темном клиросе твоем. О Деве с тайной в светлом взоре Над осиянным алтарем, –совсем не страшное стихотворение. Есть и тьма, и свет. Как в жизни: полоса белая – полоса черная.
И предложил сделать наоборот. Пусть она назовет страницу и строку, а я зачитаю.
– Пятидесятая. Пятнадцатая строка.
– «О Дева, иду за тобой»! Сама судьба благословляет наш союз. У вас больше нет причин для отказа.
– Дайте мне книгу, пожалуйста, – попросила барышня и убедилась, что я не солгал.
Однако ее ответ поверг меня в шок.
– К сожалению, Пётр Афанасьевич, хоть вы мне очень нравитесь, но я вынуждена ответить на ваше предложение отказом.
– Но почему? – недоуменно воскликнул я.
– Вы второпях совершенно не обратили внимания на название этого стихотворения. А называется оно «Деве-Революции». Ваша и моя судьба вовсе не в тихом семейном счастье, а в служении грядущей революции. Будьте великодушны и простите меня, пожалуйста. Давайте останемся добрыми друзьями, а если придет грозное время, то боевыми товарищами. Я вообще не собираюсь замуж!
От ее слов у меня заболело сердце, но я не подал виду, что мне плохо, и сухо ответил:
– Как вам будет угодно, Полина Викторовна.
Проклятая революция! Вначале чуть не лишила меня жизни, сделала калекой на многие годы, а вот теперь отнимаешь сам смысл моего существования – мою любовь. Если ты дева, то старая дева, злая и сварливая. Ходишь по миру, как нищенка, и совращаешь людские сердца. Жадным обещаешь богатство, неудачникам – власть (кто был никем, тот станет всем), сеешь в душах зависть и ненависть, и на этом будет зиждиться царство добра и справедливости? Ой лжешь!
Кто дал тебе право спекулировать на самых благородных порывах юных самоотверженных душ? Старая сводня! Нет, хуже! Содержательница борделя – вот ты кто! Не отдам я тебе Полину! Слышишь: не отдам! Увезу ее в Европу, в Америку, на край света, но уберегу от твоей тлетворной заразы!
Мне отказали. Без тени кокетства, не по правилам любовной игры, а из высоких идейных соображений. Я даже не знал, как вести себя. Раньше я бы написал любовное письмо, и оно бы было встречено получательницей как откровение, ведь она знала, что это единственный доступный мне способ выражения чувств. С Полиной этот номер не проходил. Ладно бы, имелся соперник-мужчина, с которым можно было бы посостязаться. Но как доказать любимой девушке, что ты лучше революции, я не знал.
Забыть о зеленоглазой красавице я был не в силах и вынужденно согласился на роль друга. Мне удалось уговорить Полину остаться в Томске под предлогом, что Общество вспоможения студентам‑сибирякам оплатит ее обучение в университете и выделит стипендию, позволяющую безбедно жить здесь. Когда я принес ей эту новость, то девушка несказанно обрадовалась и в сердцах расцеловала меня. Но тут же смутилась и подозрительно посмотрела.
– Но как у вас получилось включить меня в число стипендиатов, там же столько более нуждающихся и одаренных соискателей?
– Пётр Васильевич Муромский помог, – соврал я.
На самом же деле я просто договорился с казначеем, что буду ежемесячно переводить на счет общества указанную сумму, чтобы она шла в уплату за обучение и на стипендию студентке Игнатовой, а за содействие и молчание дополнительно выплатил ему вознаграждение наличными.
Я стал ухаживать за Полиной. Мы вместе ходили в синематограф и театр, катались на роликовых коньках в скеттинг-ринге[76], посещали концерты и художественные выставки. Однажды даже сходили в цирк. Но там нам не понравилось. Шутки клоунов были плоскими, а бедные животные – дрессированные собачки и медведь – столь худы и замучены, что их становилось жаль, и даже трюки, исполненные ими, не очень-то веселили. После я провожал Полину домой, но мы больше не затрагивали запретной темы из области чувств, а говорили о путешествиях, Сибири, политике, литературе, музыке, живописи, о церковном хоровом пении. Вместе с Ниной они снова стали петь в церковном хоре, и часто во время вечерних прогулок Полина рассказывала мне о последних новостях с клироса.
– Сначала я всех дичилась, но сейчас со многими певчими в отличнейших отношениях. С батюшками тоже. Кроме одного дьякона. Он встанет на левом клиросе и глаз с меня не спускает. Я вначале стеснялась, пряталась за спины других певчих. А потом решила ему отомстить. Набралась смелости и давай его смешить: корчить рожи, передразнивать. А он как раз стоял в алтаре перед отцом Василием и читал молитвы. Дьякон кое-как удерживался от смеху, опускал вниз глаза, краснел. После всенощной отец Василий отчитал его за нерадивость.
– И вам его не жаль?
– Кого?
– Дьякона.
– А чего его жалеть? Он сам первый начал заигрывать, вот и получил поделом.
Я улыбнулся и подумал: все-таки какое она еще дитя. В глубине души я надеялся, что посещения церкви пойдут ей на пользу, она повзрослеет и выкинет из головы весь революционный бред. Но, похоже, я переоценил влияние церкви на девичью натуру. Корчить на клиросе рожицы дьякону – до этого мало кто мог бы додуматься.
В ноябре в Общественном собрании состоялся этнографический вечер. Потанин принял участие в организации представления, следовательно, и я. В фойе установили настоящую алтайскую юрту и искусно обложили ее ватой, так что у посетителей возникало впечатление, будто она наполовину занесена снегом. На сцене декорации изображали глыбы льда, на которые уложили бутафорскую фигуру полярного медведя.
Вечер открылся татарским отделением. Самодеятельные артисты играли на дудках из камыша, пели песни о любви, родине, матери. Потом звучали киргизские, бурятские, монгольские, русские и якутские песни, народная музыка каждой национальности. Последним значилось выступление алтайского шамана.
Поднялся занавес. На сцене возле костра, специально разведенного на железном листе, сидел шаман в священном облачении с большим бубном в руках. Он тихо ударил в бубен и запел речитативом, обращаясь к огню. Языки пламени, подчиняясь его заклинаниям, задрожали, как под порывами ветра, хотя в зале не было никакого сквозняка, а потом взвились вверх, словно в костер плеснули спирта или бензина. Хотя могу поклясться, ведь я сидел в первом ряду, что ничего в огонь шаман не плескал. Звук бубна то усиливался до громовых раскатов и больно ударял по ушным перепонкам, то становился совсем тихим, еле слышным, как биение человеческого сердца. Кам[77] вскочил на ноги и коршуном закружил по сцене, издавая гортанные жуткие звуки. Вдруг он внезапно замер и завыл как волк. Постепенно стал оживать бубен, зазвенели привязанные к спине колокольчики и как змеи зашелестели разноцветные ленты его облачения. Шаман впал в транс и раскачивался из стороны в сторону с закрытыми глазами. Его губы были плотно сжаты, но вой продолжался, словно исходил из живота. За спиной шамана пламя вновь взвилось с новой силой, и он, закатив глаза, начал дикую пляску. Тени огромных языков пламени бешено сновали взад-вперед, разноцветные ленты развевались, гулкий бубен то оглушал, то усыплял публику…
На какой-то момент я сам потерял контроль над собой, а когда пришел в себя, то увидел распластанное на полу сцены тело шамана и погасший костер. Полина тоже находилась в гипнотическом сне. Я осмотрелся по сторонам и ужаснулся: вся публика в огромном зале Общественного собрания спала или, как я, просыпалась. Я вскочил со своего кресла, но Григорий Николаевич, сидевший справа, ухватил меня за рукав и чуть ли не силой усадил обратно.
– Успокойтесь, Пётр Афанасьевич, – прошептал он мне на ухо. – Это нормальная реакция на шаманское камлание. В экстазе шаман общается с духами, и если прервать этот ритуал, то можно только навредить окружающим. Если он проиграет схватку с темными силами, может случиться великое зло.
Полина открыла глаза, и у меня отлегло от сердца.
– Странно. Я будто бы спала, – тихо произнесла она. – У вас очень усталый вид. Видно, я вас совсем замучила…
Грозный окрик полицмейстера прервал ее:
– Требую немедленно прекратить это безобразие! Быстро выведите людей из беспамятства!
Начальник полиции в сопровождении двух подчиненных затопал сапогами по проходу прямо к сцене.
– Что же он делает, этот солдафон? – ужаснулся Потанин.
Но полицмейстера уже было не остановить. Он взобрался по лестнице на сцену и подошел к бездыханному шаману.
– Я сказал – прекратить! – прокричал он во весь голос прямо над камом.
Но тот даже не пошевельнулся.
Потанин встал с кресла и попросил нас с Шаталовым помочь алтайцу.
– Он может так пролежать несколько суток и вообще никогда не прийти в сознание, – сказал Григорий Николаевич. – Пока полицмейстер не арестовал шамана, выносите его из зала и везите на извозчике ко мне домой.
В фойе было полным-полно народа. Все были заторможенные, некоторые вообще спали стоя, поддерживаемые своими товарищами. В гардероб выстроилась огромная очередь. Я не стал дожидаться, пока рассосется толпа, а передал наши с Шаталовым номерки Полине, чтобы она получила наши пальто. Мы же с Михаилом Бонифациевичем, как два заправских санитара, он – за ноги, а я – за руки, вытащили бесчувственное тело шамана на мороз. Благо, много свободных извозчиков дожидались окончания вечера, мы сразу погрузились в сани, укрылись кошмой и лихо полетели на Ефремовский взвоз.
Мария Георгиевна встретила нас недружелюбно. Ее вновь мучила мигрень, из‑за которой она даже не пошла на вечер. А тут еще мы принесли инородца без признаков жизни.
Мы уложили шамана на диван, тут приехали Потанин с Полиной и с нашими пальто. Увидев мужа в обществе молодой и красивой барышни, законная супруга с чопорной надменностью процедила сквозь зубы: «Добрый вечер», – и ушла в спальню, демонстративно громко захлопнув за собой дверь.
– Маня! Нельзя же так! – не выдержал Григорий Николаевич. – Это племянница моего друга Александра Васильевича Андреева и… – Потанин запнулся, – …хорошая знакомая Петра Афанасьевича.
Но Полина неожиданно поправила хозяина:
– Я – его невеста!
Дрожь пробежала по моему телу. Даже Григорий Николаевич немного растерялся, а потом радостно и одновременно облегченно, что появилась возможность избежать скандала, громко крикнул в направлении спальни:
– Ты слышишь, Маня? Полина – невеста Петра Афанасьевича!
Я не сводил с нее глаз. Она улыбалась и с ноткой извинения в голосе произнесла:
– Я подумала, что нам не стоит больше скрывать наши отношения.
Я радостно закивал головой.
А Потанин, как добрый Дедушка Мороз, расцвел в улыбке:
– Я так рад за вас, дети мои. Вы такая чудесная пара…
Но тут с дивана раздался стон.
– Шаман приходит в себя! – крикнул Шаталов.
Мы тут же бросились к нему.
Кам приподнялся на диване и что-то бормотал на непонятном нам языке. Когда Григорий Николаевич приблизился к нему, он ухватил его за руку, прижал его ладонь к своей груди и стал быстро шептать туземные слова. Потанин изменился в лице. Радость сменилась настороженностью и тревогой. Шаман проговорил еще пару минут, затем выдохся и уронил голову на подушку. Но дыхание его теперь было ровным. Он просто заснул.
– Что он вам сказал, Григорий Николаевич? – поинтересовалась Полина.
– Он говорил о демонах? – уточнил Шаталов, немного знавший алтайский язык.
Бледный Потанин снял очки, словно они мешали ему говорить, и сказал:
– Я тоже не все понял. Кам хотел помочь людям, пришедшим на встречу с ним, избавить их от несчастий и болезней. Но когда он заговорил с духами, то понял, что взвалил на себя непосильную ношу. Души белых людей оказались во власти демонов. Некоторых он сумел изгнать, но очень сильные демоны, посланники Эрлика[78], остались.
– А кто такой Эрлик? – спросила Полина.
– Владыка загробного мира.
– А его посланники?
– Демоны войны.
– Типа «Бесов» Достоевского?
– Да-да… – растерянно произнес Потанин и добавил: – Я должен об этом тотчас же написать, пока не забыл. А вы можете идти.
– Но вы без Пети сможете? – засомневалась моя суженая.
– Ничего. Как-нибудь справлюсь. А если что, Пётр Афанасьевич завтра придет и разберет мои каракули. Или еще проще – надиктую на фонограф.
Мы обвенчались на Масленицу в Троицкой церкви. Полина стала моей законной женой и сменила свою девичью фамилию на Коршунову. Свадьба была очень скромной и немноголюдной. Из Иркутска приехала ее матушка, с которой мы быстро нашли общий язык. Гостями были только очень близкие нам люди: Шаталов с нештатной корреспонденткой своего журнала, Муромский со своей молодой женой, Потанин без жены да семейство Андреевых во главе с Анной Ефимовной, замещавшей своего ссыльного мужа.
Мы решили не обзаводиться собственным жильем в Томске. Флигель в усадьбе Муромского Полину вполне устроил. Правда, пришлось внести некоторые изменения в мой холостяцкий быт. Но с переездом ко мне Полины съемный флигель превратился в настоящий уютный дом. В свадебное путешествие мы решили поехать в Италию, но перенесли его на август, чтобы сполна насладиться средиземноморским теплом.
Я не возражал, чтобы моя жена пела в церковном хоре. Хотя сам, несмотря на ее многочисленные уговоры, в церковь не ходил. У меня вообще отношения с церковью неровные. И вовсе не потому, что не верю в Бога, наоборот, в душе я очень набожный человек. Верю в судьбу, в вькший разум и в то, что все случайности закономерны. Но попам я мало верю, потому что не вижу в них духовных авторитетов. Вот если бы Потанин был архиереем, я бы не пропустил ни одной его службы. Но он – откровенный гностик и этим заразил меня. Я даже на венчание согласился только потому, что иначе Полина не стала бы моей женой.
– Маня Андреева тоже начала ходить к нам в хор. Теперь мы втроем – Нина, Маня и я – разучиваем «Покаянный псалом». Я буду петь первым голосом. Во время Всенощной на Троицу поем в первый раз. Между прочим, даже Григорий Николаевич обещал прийти послушать. Неужели тебе нисколько не интересно, как поет твоя жена?
У меня не было другого выхода, и я согласился сопроводить Потанина в церковь. Давая такое обещание, я даже не предполагал, что мне придется его выполнять, ведь Потанин и православная церковь были для меня несовместимы.
Каково же было мое удивление, когда в конце напряженного рабочего дня, надиктовав почти целую главу своих «Воспоминаний» и еще полтора десятка различных писем, старик напомнил:
– Пётр Афанасьевич, вы не забыли, что мы с вами сегодня идем к Всенощной?
Служба еще не началась, но в храме уже было тесно и очень душно. К церковным запахам – лампадного масла, воска и мирра – паства привнесла свои: мыла, пота, чеснока, дорогих духов, дешевого одеколона, рыбы, лука и дегтя. После свежего, напоенного черемуховым и сиреневым ароматом воздуха весенней улицы казалось, что здесь вообще нечем дышать.
Но постепенно я обвыкся. Огляделся. Увидел Анну Ефимовну и поклонился ей. Она кивнула в ответ. Меня поразил Григорий Николаевич. Он быстро освоился в толпе прихожан. И хотя почти ничего не видел, но имел торжественный вид, словно предвкушал что-то очень значимое. И мне подумалось, что с таким же трепетом он бы стоял и на католической мессе, и на проповеди муллы в мечети, и в буддийском храме, и в еврейской синагоге. И неважно, что в нем нет фанатичной веры в Иисуса Христа как в единственного Бога-Спасителя. Для него это такой же исторический персонаж, как Будда, Магомет или Моисей. И он просто пришел в гости к старому доброму другу. Ведь он сам – такой же проповедник, гражданин мира и пророк. В его душе столько святости, что его примут за своего истинно верующие люди в любой религии мира. И мне сразу стало легко и свободно. Напряжение спало с моей души, и я тоже почувствовал себя здесь своим. Неважно, насколько истово ты веришь в того или иного бога, главное – что Бог есть в твоем сердце.
На левом клиросе у самого потолка я разглядел свою жену. В белом платке она казалась ангелом, спустившимся с небес. А когда она взяла ноты и запела вместе с остальными певчими «Благослови душе моя, Господи…», я заслушался и не различал уже ничего, кроме божественных звуков.
Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю, О всех кораблях, ушедших в море, О всех, забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, И луч сиял на белом плече, И каждый из мрака смотрел и слушал, Как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, Что в тихой заводи все корабли, Что на чужбине усталые люди Светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, И только высоко, у Царских врат, Причастный Тайнам, – плакал ребенок О том, что никто не придет назад.[79]Через месяц началась война, и мы не поехали ни в какую Италию.
Книга вторая Старое знамя
В китайском языке слово «кризис» пишется двумя иероглифами. Первый означает угрозу, второй – шанс.
Глава 1. Благая весть
Все-таки деньги надо зарабатывать, иначе не знаешь им цену. От искусства жить экономно отвыкаешь очень быстро, но восстанавливаются навыки бережливости чрезвычайно тяжело.
Вначале полмиллиона евро казались уймой денег, которых хватит на всю оставшуюся жизнь. Но не прошло и трех месяцев, как от прадедова наследства у Сергея Коршунова остались одни только рукописи и дневники. Приобретение элитной квартиры в центре города, ее ремонт и мебель, круиз по Индийскому океану, новый японский джип, который он разбил через два дня, не успев его застраховать, модные шмотки, прически, репетиторы, неудачные вложения в акции, помощь многочисленным родственникам и безвозвратные займы друзьям быстро обнулили его банковский счет.
– Это у тебя-то, миллионера, нет денег? – скандалила жена. – Скажи лучше, что тебе их жалко!
И никто не верил ему, что миллионы кончились.
Собственную газету он даже открыть не успел.
В растрепанных чувствах Сергей жадно курил сигарету на редакционной лестнице, когда, как и в начале осени, ему позвонили из‑за границы.
– Привет! Как твои дела? – нежно спросила Жаклин.
Он даже поперхнулся дымом от неожиданности и закашлялся.
– Спасибо, хреново. А ты где?
– Дома. В Монреале. А ты все куришь… – укоризненно произнесла она.
Но он не обиделся, напротив, ему даже было приятно, что хоть кто-то на белом свете, пусть даже на другой стороне земного шара, заботится об его здоровье.
– Почему у тебя такой грустный голос? – поинтересовалась она.
– Проблемы всякие навалились, – Сергей попытался увильнуть от ответа.
– Какого плана? Надеюсь, не со здоровьем.
– Нет. Я здоров как бык. Правда, графа МонтеКристо из меня не получилось, придется переквалифицироваться в управдомы.
– Значит, деньги не принесли тебе счастья, – философски заметила она.
– Отчего же, целых три месяца я чувствовал себя богачом, но, увы, все хорошее в жизни быстро заканчивается, а деньги – особенно.
– Ты уже потратил 500 тысяч евро?! – удивилась Жаклин. – Я, конечно, догадывалась, что ты непрактичен, но чтобы настолько! Ты проигрался в казино?
– Нет. Я до него еще не дошел.
– Может быть, тебя обокрали?
– Нет.
– Тогда я ничего не понимаю.
Повисла пауза. Первой ее прервала Жаклин.
– А я хотела пригласить тебя в гости.
Он промолчал.
– Понимаешь, при уборке в пражской квартире я случайно обнаружила возле камина дедушкин тайник.
И в нем оказалось продолжение рукописи. А ведь свой архив дед завещал тебе.
– Ты можешь выслать рукопись экспресс-почтой. Например, DHL. А то у меня со временем и деньгами сейчас напряженка. И канадскую визу, говорят, сложно получить.
Коршунов ломался для виду. Перспектива посетить Канаду и, главное, увидеть Жаклин была очень заманчивой.
– Сережа, во второй части рукописи есть очень важная информация. Я не хочу рисковать и доверять ее почте. И вообще – нам необходимо встретиться. Я одна не могу разгадать дедову загадку. А прилететь к тебе у меня не получится, через месяц – защита диссертации. Приглашение тебе я уже выслала. Надо будет съездить в Москву на собеседование в канадское консульство. Дату я сообщу дополнительно. На следующий день получишь визу. В консульстве у меня есть знакомые, все сделают быстро. Билет на рейс до Монреаля я закажу. Тебе выслать денег на билет?
– Не надо. Сам как-нибудь обойдусь, – обиделся Сергей.
Его мужское самолюбие было явно задето.
– Ну тогда до встречи на берегах Святого Лаврентия, – сказала она и отключилась.
Все-таки Жаклин явно ошиблась в выборе профессии. Чем дышать архивной пылью, просиживать джинсы в библиотеках и писать никому не нужные диссертации о давно забытых революциях, лучше бы занялась туристическим бизнесом, к которому у нее имелись явные наклонности. С такой продуманностью мельчайших деталей организовать поездку в страну Британского Содружества смог бы далеко не каждый туроператор.
Собеседование в консульстве заняло у него всего пять минут. Еще столько же он просидел в коридоре, дожидаясь, пока его вызовут. Хотя народу здесь толпилось прорва. Но он шел по предварительной записи.
Работник консульства, отделенный от него пуленепробиваемым стеклом, поинтересовался лишь целью его поездки в Канаду. Согласно инструкции, полученной от Жаклин, он ответил по-русски, что жаждет увидеть своих родственников, с которыми его разлучила революция и Гражданская война, а еще всю жизнь мечтал посетить знакомое по романам Купера озеро Онтарио и знаменитый Ниагарский водопад.
– О! Niagara falls! – интервьюер за стеклом причмокнул губами и показал большой палец. – The best![80]
Больше ничего он не спросил, а только проштамповал бумаги Коршунова и сказал: «Good bye!»
В тот же вечер Сергей получил свой заграничный паспорт с вклеенной бело-серебристой канадской визой.
До Монреаля можно было долететь и «Аэрофлотом», но Жаклин почему-то выбрала голландскую авиакомпанию «KLM».
– Сдалась мне эта пересадка в Амстердаме! – возмущался вначале Сергей.
Но тетка настояла на этом маршруте и правильно сделала. Неполные сутки, проведенные в голландской столице, перевернули его представление о свободе. Доселе в его сознании это понятие ассоциировалось в первую очередь со свободой слова. Понятно: у кого что болит. Он много писал о свободе и демократии, даже считал себя в некоторой степени специалистом в этом вопросе. Но видеть воочию настоящую вакханалию вседозволенности, которая при этом остается в рамках закона и приличий, ему никогда прежде не доводилось. Даже пресловутая улица красных фонарей, это, по определению советской пропаганды, «гнездо разврата и низменных страстей», при ближайшем рассмотрении оказалась приятным и бесшабашным местом, где каждый делал то, что он хотел. Любовь продажных женщин, красующихся на витринах, волновала далеко не многих. Марихуана в заводской упаковке на прилавках магазинчиков впечатлила Сергея сильнее всех амстердамских проституток, походивших на манекены.
Сам воздух здесь был напоен свободой. Даже в Праге так не дышалось. Наверное, энергетика тоталитарной системы исчезает не сразу после падения диктатуры, а распадается постепенно и медленно, как радиоактивные вещества.
Он катался на моторной лодке по каналам, заходил в маленькие бары, долго шатался по узким улочкам и в гостиницу пришел уже за полночь, усталый, но счастливый.
Полет через Атлантику прошел тоже комфортно. Стюардессы трижды приносили еду. Не говоря уже о напитках. На виски он наложил строгое табу, помня, что Жаклин не любит пьяных. Пил только сок, минеральную воду и кофе за обедом. Всякий раз, просыпаясь, он первым делом бросал взгляд на монитор бортового компьютера, показывающего местонахождение самолета над океаном, и, убедившись, что до суши еще далеко, вновь крепко засыпал. Так, урывками, за девять часов полета он успел выспаться и сошел на трап уверенно и бодро.
Америка встретила его восходом теплого весеннего солнца. Оно заливало весь накопитель. И прибывшие пассажиры в длинных очередях к стойкам пограничного и таможенного контроля жмурились.
Тот же дежурный вопрос, что и на собеседовании в консульстве: «Цель вашего приезда в Канаду?» Тот же ответ, только теперь по-английски: «Встреча с родственниками и туризм», удовлетворил пограничника и таможенника. Штамп в паспорт – и путь на североамериканский континент для Сергея был открыт.
В зале прилета было много встречающих, но он сразу заметил Жаклин. Она сильно изменилась. Волосы покрасила в огненно-рыжий цвет и одета была в светлые тона – бежевый свитер и песочного цвета джинсы. В руках она держала свернутый плащ и три белые розы.
– Это тебе! – она вручила ему цветы и чмокнула накрашенными губами в щеку. – С приездом!
Сергей немного смутился и пробубнил:
– К чему такие церемонии? Я же не барышня и не кинозвезда, чтобы мне дарили букеты.
– Не дуйся! – проворковала Жаклин. – Просто я очень рада тебя видеть, и эти розы передают мое настроение. Ты их можешь выбросить, но лучше, если они, конечно, не завянут до завтрашнего вечера, подари их моей маме. Она обожает розы, а встречи с сибирским внучком ждет не дождется.
– А почему до завтрашнего вечера? – недоуменно спросил он.
– Потому что мама нас пригласила на обед только завтра.
– А где ты меня поселишь? В гостинице?
– Если ты хочешь, я могу заказать тебе номер в отеле. Но я подумала, что на квартире тебе будет удобнее. У моего отца есть удобная квартира. Правда, рядом с кладбищем, зато почти в центре. Там неплохая библиотека, а на первом этаже даже есть бассейн.
Папа сейчас на конференции в Будапеште, вернется только через неделю.
– А что, твои родители разведены?
– Скажешь тоже! – Жаклин надула губки. – Просто отцу нравится работать в одиночестве, домой он приезжает только ночевать. Когда люди долго живут вместе, то они надоедают друг другу, и иногда возникает желание пожить отдельно.
– А ты где живешь?
– У меня своя квартира в новом районе. Что-то типа студии. С видом на реку Святого Лаврентия. Я тебя обязательно приглашу в гости. Еще вопросы будут?
Коршунов промолчал.
– Если допрос закончен, то поехали. Кстати, ты классно выглядишь. Похож на разбогатевшего актера.
– Не сыпь мне соль на раны, – взмолился Сергей. – Моя одежда – единственное, что у меня осталось. Новую квартиру я оформил на жену, и в случае развода она останется ей.
– У богатых свои причуды, – пожала плечиками Жаклин и направилась к серебристому джипу.
Считалось, что квартира отца Жаклин на четырнадцатом этаже, хотя на самом деле была на тринадцатом. В кабине лифта кнопки с номером 13 не было. За двенадцатым сразу следовал четырнадцатый этаж.
– Это что за чертовщина? – спросил Сергей.
– Американская блажь! Не обращай внимания, – махнула рукой Жаклин. – Все янки суеверны. Наши англосаксы набрались от них глупостей. У нас нет ни тринадцатых квартир, ни тринадцатых этажей. Несчастливое число. Риелторы боятся, что никто не купит квартиру с таким номером. Здесь даже черного кота нельзя публично упоминать. Считается, что можно накликать беду. А я бы с удовольствием жила в квартире номер 13 и на тринадцатом этаже. Особенно, если бы мне предоставили скидку!
Жаклин рассмеялась. Сергей тоже ухмыльнулся и сказал:
– А у Булгакова нехорошей была пятидесятая квартира. Этот номер у вас еще не отменили?
– Здесь мало кто читал «Мастера и Маргариту».
– И это замечательно. Ведь Воланд[81] со своей компанией запросто бы загадили и осквернили любую жилплощадь. Тогда бы вам пришлось отменять нумерацию вообще или перейти на алфавит. Этаж А, этаж Б… А букв несчастливых нет?
Девушка замотала головой и засмеялась.
– Мысль хорошая. Одна проблема – букв мало. У нас, конечно, нет стоэтажных небоскребов, как в Нью-Йорке, но алфавита все равно не хватит.
– А вы латиницу еще кириллицей дополните. А в китайском языке вообще знаешь, сколько иероглифов?
Жаклин не успела оценить юмор дальнего родственника, лифт остановился на четырнадцатом этаже, и двери распахнулись.
Конечно, эта квартира не могла сравниться с пражской. Низкие потолки, какой-то темный закуток с электроплитой и холодильником вместо кухни, подчеркивали избыточную американскую практичность. Из окон открывался вид на мемориальный комплекс.
Однообразные белые столбики были расставлены на ярко-зеленом подстриженном газоне с педантической аккуратностью – ровными рядами на равном удалении друг от друга, с высоты они походили на наступающую парадным строем армию или на искусственные посадки новой породы деревьев с каменными стволами.
«Даже смерть на Новом Западе стала ухоженной и прилизанной», – подумал Коршунов, но вслух, выйдя на лоджию, театрально продекламировал:
– О поле! Кто тебя усеял мертвыми костями?
Жаклин смотрела на него из глубины комнаты и улыбалась.
– Это отцовский кабинет, – она открыла дверь в маленькую, похожую на шкаф комнату.
Компьютер на хромированном столике, такой же стеллаж, наполовину пустой, да маленький офисный диванчик.
– Да, академичности здесь маловато, – констатировал гость.
– Папа предпочитает книги в электронном виде. Я научу тебя пользоваться его каталогом. Там есть литература и на русском языке. Хотя тебе и без того придется прочитать немало.
Жаклин вышла из кабинета, но скоро вернулась с потертой, выцветшей от времени папкой.
– Вот тебе академичность! – сказала она. – Это вторая часть рукописи Петра Коршунова. Я совершенно случайно обнаружила тайник. Хотела передвинуть подставку для каминной утвари, а она оказалась намертво вделанной в мраморную плиту. Мне подумалось, что это неспроста, и я внимательно осмотрела чугунное литье. Круглый набалдашник сверху прокручивался. Повернув его на 180 градусов, я услышала щелчок, и плита отъехала. Там лежала эта папка и еще набросанные сверху тетради.
– А где они? – спросил Сергей, развязывая тесемки.
Жаклин смутилась.
– Понимаешь, тетради очень плохо сохранились. Чернила местами выцвели. И мне пришлось отдать их в реставрацию. Но тебе, чтобы не запутаться, лучше соблюдать хронологическую последовательность. Давай будем идти по порядку?
– Угу! – буркнул он в ответ и раскрыл папку.
Она посмотрела на него с умилением: ему уже больше ничего не нужно было в этом мире. Вспомнила себя, когда залезла в дедовский тайник и потом три дня не выходила из дома, пока не прочла все рукописи и письма до конца. И поняла, что она здесь уже лишняя.
– Еда в холодильнике, ключи от квартиры на столике в прихожей. Замок английский, закрывается сам, достаточно хлопнуть дверью. Поэтому можешь меня не провожать. Да, вот еще, – она достала из сумочки запечатанный конверт. – Это SIM-карта местной сотовой связи. Поставь ее в свой телефон, иначе совсем разоришься на звонках. Мой номер записан на конверте. И не забудь, завтра в семнадцать по местному времени мы приглашены на обед к моей маме. Я заеду за тобой на полчаса раньше.
От доктора Полина вернулась чрезвычайно радостная. Обняла меня и расплакалась.
– Я беременна, Петя. У нас будет ребеночек…
Я расцеловал жену, подхватил ее на руки и закружил по комнате.
– Что ж ты плачешь, глупенькая? Это ведь счастье! – приговаривал я.
– Опусти меня! – приказала Полина строгим голосом.
Я повиновался. Она вытерла платком слезы, поправила платье и пояснила:
– Маленькому можешь повредить.
– А чего же тогда ты ревела?
Она по-детски надула губки:
– Не время сейчас заводить детей. Война идет. Вот-вот грянет революция. Уже сахар и хлеб по карточкам. А что будет следующей зимой, когда ребеночек родится? Чем я его кормить буду?
– Не переживай, дорогая, как-нибудь выкрутимся, – попытался успокоить я жену. – Хочешь, уедем за границу.
– Куда? Вся Европа воюет!
– Ну тогда в Америку. Там спокойно.
– Так далеко я не поеду. Только к маме в Иркутск. И ты должен мне пообещать, что поедешь вместе со мной. Одна я рожать не буду!
– Хорошо, дорогая. В Иркутск, так в Иркутск. Только, пожалуйста, успокойся. Тебе сейчас нельзя нервничать.
В ту ночь я долго не мог заснуть. Полина, свернувшись калачиком, мирно посапывала во сне, но иногда вздрагивала, словно ее что-то пугало. Тогда я гладил ее пушистые волосы, и она успокаивалась.
Мне ж в голову лезли всякие мысли: от ощущения значимости грядущего отцовства до решения сугубо житейских проблем – как и где лучше отоварить карточки на хлеб и сахар. Судьба отечества меня почему-то волновала мало. Надоела только бесконечная война и лишения, которые она принесла в наш дом.
Когда началась война, Полина, переполненная патриотизмом, ждала, что я, как рыцарь, уйду добровольцем на фронт. Но у меня даже в мыслях не было этого. Я не знал, за что мне нужно идти воевать. Если бы моим близким угрожала опасность, я бы, не задумываясь, взял в руки оружие и встал на их защиту. Но за царя и его чиновников умирать как-то не хотелось. И потом я на законном основании, как инвалид, был освобожден от воинской повинности даже в военное время.
Но жену я разочаровал, и она в пику мне устроилась в госпиталь сестрой милосердия. Поначалу ей удавалось совмещать ночные дежурства у постели раненых с дневными занятиями в университете, но первые же экзамены она завалила, и пришлось выбирать между госпиталем и учебой. Ее сострадательная и благородная натура наверняка предпочла бы тернистый путь. Но мне удалось убедить ее не бросать учебу, дескать, как врач она сможет принести гораздо больше пользы обществу, чем как простая госпитальная сиделка. Раньше воскресными утрами она ни свет ни заря бегала на церковные спевки, а теперь – в госпиталь, проведать своих солдатиков.
Рождение ребенка должно было все изменить. Учебу придется отложить. Ухаживать за младенцем и одновременно учиться Полина не сможет. И никакой няньке она не доверит воспитание собственного ребенка.
И жилье придется менять. Наш флигель хоть и уютный, но в лютые морозы здесь бывает прохладно. Маленького можно застудить. Муромский, когда продавал дом, предлагал нам переехать с ним на Нечаевскую улицу в новый каменный особняк, но мы с Полиной тогда отказались, посчитали, что можем стеснить молодоженов. Пётр Васильевич и Софья Ивановна обвенчались только в 1915 году, когда их дочери Зиночке было уже два годика. Чудесная девочка! Умненькая, ласковая, резвая. Вот бы у нас тоже родилась дочка, похожая на Зиночку!
Я тогда только попросил Муромского переговорить с новым хозяином усадьбы, чтобы тот продлил нам аренду флигеля. И мы, как крепостные крестьяне, вместе с имением перекочевали под юрисдикцию нового владельца.
Знать бы тогда, что и в нашей семье будет пополнение, мы бы переехали вместе с Муромскими.
Недостающие на покупку нового дома деньги Муромскому одолжил я. Хотя Пётр Васильевич и зарабатывал большие гонорары, но на жизнь всегда тратил много и скопить серьезное состояние ему не удалось. Щепетильный по отношению к капиталам своих клиентов, свои собственные денежные дела адвокат вел весьма рискованно. При продаже старой усадьбы выяснилось, что она еще четыре года назад была заложена банку за одну ссуду, а в позапрошлом году адвокат еще раз занял под нее денег у одного статского советника, не уведомив об этом банк. Муромскому повезло, что он успел рассчитаться со вторым кредитором до продажи дома, а новый покупатель согласился приобрести усадьбу, обременную долгом банку. Иначе вышел бы громкий скандал.
Узнав эту историю, я предложил адвокату занять денег. Он очень удивился, но деньги взял, правда, настоял, что будет выплачивать мне кредитный процент, как банку.
Неожиданно стала оплачиваться и моя работа у Потанина. Для издания его трудов кооператоры собрали две тысячи рублей. Из этих денег он выделил жалованье и для меня.
Мария Георгиевна давно уже съехала от него и перебралась обратно в Барнаул. Им обоим стало ясно, что супружеская жизнь не сложилась и уже не сложится, ведь оба ожидали друг от друга того, что дать не могли. Выходя замуж, она рассчитывала, что будет пожинать плоды потанинской славы. Но в действительности жизнь с великим человеком оказалась совсем не мед, а, наоборот, тяжкий крест и была связана со многими жертвами, в первую очередь материальными. Потанин же в своей новой супруге хотел обрести вторую Александру Викторовну[82], единомышленницу, помощницу, компаньона в путешествиях. Но тоже ошибся. Сибирская поэтесса оказалась просто женщиной, к тому же нервного склада характера.
Потребности самого Григория Николаевича были минимальны. Такого аскета в своей жизни я более не встречал. Но его жадность к знаниям и работе поражала меня. Совсем недавно он закончил книгу «Ерке: культ сына неба в Северной Азии. Материалы к тюрко-монгольской мифологии» и тут же принялся за продолжение «Воспоминаний». Его нынешняя работоспособность была абсолютно лишена каких-либо меркантильных мотивов. Великий старец боялся только одного: что не успеет передать потомкам все свои жизненные открытия. Он чувствовал, что пришла пора подвести итоги, обобщить прожитое. Но ему так много нужно было всего переосмыслить, что в сутках не хватало времени.
В конторе у Муромского я обычно освобождался в пятом-шестом часу вечера и сразу спешил к Потанину. За день он успевал надумать столько, что стенографировать я заканчивал ближе к полуночи и домой возвращался совсем обессиленный.
Голова моя пухла от переизбытка информации. Ведь в ней приходилось держать и судебные тяжбы, и потанинские умозаключения, подчас весьма парадоксальные.
– В Северном Китае христианство существовало еще в V веке до нашей эры. Туземным именем Ерке монголы называли Иисуса Христа. В бурятских сказаниях его именуют Эрликом. Он сын небесного божества, с которым вместе творил мир, а потом поссорился с отцом и был за то изгнан под землю. Теперь он владыка подземного царства. Небо преследует зверьков, живущих в норах (сурков, хорьков, крыс, кротов), и совсем не за то, что они погубили бога-сына, а за то, что служат ему…
Над этой фразой Григория Николаевича я ломал голову полночи и уже сформулировал почти академическое возражение, что для науки имеет значение не то, что могло бы быть, а то, что было на самом деле. Но вдруг передумал и закричал:
– Но ведь это Сатана! Люцифер! Князь тьмы! А никакой не Иисус Христос!
Но это было уже во сне. И дальше мне снились разные гадости. У подножия огромной горы совершает свой ритуальный танец шаман с черемуховой веткой, к которой привязаны шкурки грызунов. Его развевающийся плащ украшает шкура белки-летяги. Неожиданно животные оживают и набрасываются на человека. Выцарапывают ему глаза, перегрызают горло. Напившись теплой дымящейся крови, зверьки разбегаются в разные стороны. Я приглядываюсь к распластанному на земле телу и вижу, что никакой это не шаман, а Иисус Христос. Тут же из земли вырастает крест, и несчастный взлетает к небу, его руки и ноги приколочены огромными гвоздями к перекладине и столбу. Я падаю перед ним на колени и начинаю судорожно шептать «Отче наш…», ибо, к своему стыду, никаких других молитв не знаю. И только с моих губ срывается последнее «Аминь», как сверху раздается дикий хохот. Я поднимаю глаза и немею от ужаса. Вместо распятого Христа на меня взирает ликующий Сатана на огромном черном коне, изрыгающем пламя. Всадник пришпоривает скакуна, и тот уносит его под землю, а эхо гулко разносит по горам:
– Ха-ха-ха!!!
– Дорогой, ты не забыл, что мы сегодня приглашены на обед к Андреевым? – спросила меня Полина за завтраком.
– Угу, – промычал я с набитым яичницей ртом.
– Что «угу»? Да оставишь ты наконец свою газету? Мы целыми днями друг друга не видим. Домой ты приходишь поздно…
Я отложил «Сибирскую жизнь» и с удивлением посмотрел на жену, ведь прежде склонности устраивать семейные сцены я за ней не замечал. Видимо, беременность так повлияла на ее психику. И все равно не удержался и возразил:
– А по воскресеньям ты дома не бываешь.
– Ну знаешь ли! – вспыхнула Полина. – В госпитале я выполняю свой гражданский долг. В отличие от некоторых!
Перепалка принимала нешуточный оборот. Жена покраснела как рак и надула губы, совершенно не обращая внимания на кипящий чайник.
– Ну хорошо, хорошо, – успокоил я ее. – Я только на минутку заскочу к Григорию Николаевичу и попрошу у него отгул. А хочешь, и его привезу к Андреевым? Александр Васильевич наверняка будет рад видеть своего старого друга. Да и старик хоть в кои веки поест по-человечески. Он уже давно перебивается всухомятку.
Полина задумалось. Мой благородный порыв не мог не найти отклика в ее добром сердце.
– Но как воспримет это Анна Ефимовна? Она приглашала нас на семейный обед. Они и так живут скромно, каждая копейка на счету.
– Да какой же Григорий Николаевич посторонний? – настал мой черед удивиться. – Он такой же член их семьи, как и мы, если даже не больше. А чтобы не объедать хозяев, я куплю в булочной чего-нибудь вкусненького. Чего ты больше хочешь, моя радость, пряников или кренделей?
После обеда вся наша адвокатская контора бурлила. Обсуждали слухи из Петербурга об отречении государя.
– Я вам точно говорю, что царь отрекся от престола, все министры отправлены в отставку и арестованы. Назначен новый кабинет из числа депутатов Государственной думы, – брызжа слюной, кричал один помощник. – Губернатор уже получил телеграммы, но запретил их обнародовать. Но по железнодорожному телеграфу пришли сообщения! Можете сами позвонить в Управление дороги и убедиться в моей правоте.
– Еще одна революция? – переспросил престарелый писарь. – Не верю! Триста лет Романовы правили Россией и так просто не отрекутся. Этого не может быть, господа, потому что этого не может быть никогда.
– Может, Савелий Лукич! – объявил с порога ворвавшийся в контору Муромский. – Свобода, за которую боролось столько поколений революционеров, погибло столько прекрасных и замечательных людей, настала, господа! Нам теперь самим придется управлять страной и строить светлую жизнь без указки помазанника божьего!
Мне позвонила из дома жена и сказала, что занятия в университете закончились раньше обычного, все только и обсуждают столичные события, и что ей уже телефонировала Анна Ефимовна и попросила перенести наш визит на воскресенье по причине большой загруженности Александра Васильевича в редакции. Сослуживцы по адвокатской конторе уже откупоривали шампанское, чтобы поднять бокалы за победу революции. Но я такие вечеринки на службе не любил и незаметно ушел. Потанина дома тоже не застал и домой вернулся рано, чем окончательно убедил жену в исторической значимости случившегося.
На следующий день было тоже не до работы. Весь город бурлил. В Ямском переулке возле редакции «Сибирской жизни» собралась толпа. Люди, отталкивая друг друга, протискивались к доске объявлений, на которой были вывешены телеграммы из Питера: об аресте царских министров, о создании Временного правительства и Совета рабочих депутатов. Митинговали на Почтамтской, в Общественном собрании и в Бесплатной библиотеке.
Меня же мучил другой вопрос: что будет дальше? Все происходящее в городе уж больно напоминало события двенадцатилетней давности. Только тогда я был моложе и все принимал близко к сердцу. Но годы изменили меня. Из активного участника устройства новой справедливой жизни я превратился в стороннего наблюдателя.
Первым делом я отправился в банк и снял со своего счета тысячу рублей, а на оставшиеся деньги дал распоряжение купить швейцарские франки и перевести их в Цюрих.
В воскресенье мы опять не попали в гости к Андреевым. Александр Васильевич как главный редактор «Сибирской жизни» постоянно пропадал на разного рода заседаниях, не зная выходных. А на следующее утро коллеги по адвокатской конторе сообщили мне, что Пётр Васильевич Муромский едва ли вернется теперь к судебным делам. На заседании Комитета общественной безопасности его избрали в бюро губернского комиссариата, возглавившего после отстранения губернатора всю исполнительную власть на половине Западной Сибири.
Новая власть первым делом отменила карточки на печеный хлеб, чем сразу завоевала симпатии публики. Цены немного снизились. Правда, потом они снова взлетели вверх, но это уже было проблемой других руководителей.
А еще комиссариат распорядился освободить из-под надзора политических ссыльных в Нарымском крае. И вскоре Томск наводнился профессиональными революционерами.
В следующую пятницу мы с Полиной отправились на Соборную площадь, чтобы посмотреть парад. Гремела праздничная музыка. На крыльце присутственных мест стояли члены Комитета общественной безопасности. А губернские комиссары – Муромский и два его сподвижника – сидели в самом центре, на губернаторских местах.
У ступеней в толпе освобожденных из ссылки революционеров, облокотившись на палку, стоял единственный сибирский политкаторжанин и пытался разглядеть своими почти ничего не видевшими глазами, как Сибирские Афины[83] празднуют победу революции.
– Это же Григорий Николаевич Потанин! Почему вы не пускаете его на трибуну? Он же более всех этого достоин! – закричали из толпы.
Муромский смутился и отдал распоряжение стоявшему рядом офицеру принести стул для Потанина. Старик даже не понял сначала, чего от него хотят люди в погонах. Наверняка у него промелькнула мысль об аресте. В первую революцию он просидел две недели в тюрьме, почему вторая должна стать исключением? Но, потрогав приставленный стул, улыбнулся и поблагодарил служивых. Едва он присел, как офицеры подхватили его вместе со стулом и на руках вознесли по ступеням на верхнюю площадку, еще выше членов комиссариата.
Мимо трибуны парадным строем проходили войска. Неожиданно из строя вышел знаменосец и склонил российский флаг к ногам сибирского патриарха.
Я уже писал, что всегда чувствую на себе чужой взгляд. На параде меня не покидало ощущение скованности, какое испытываешь, когда знаешь, что за тобой подглядывают в замочную скважину. И только в самом конце торжественного шествия мне удалось определить источник своего волнения.
Это был сильно заросший человек с густой бородой, в которой уже серебрилась седина, он стоял в толпе освобожденных ссыльных и время от времени устремлял на меня пронзительный колючий взгляд. Судя по осанке, человек был совсем не старый, но его внешний вид свидетельствовал о тяжелой жизни. Сильно потрепанная солдатская шинель сидела на нем мешковато, видать, была с чужого плеча. Очки да полицейская папаха без кокарды довершали его наряд.
Внезапно Полина почувствовала приступ тошноты, и мы стали выбираться из толпы. Очкарик последовал за нами. У поворота на Дворянскую было уже не так многолюдно, и до нас донесся крик.
– Пожалуйста, обождите!
Мы остановились и обернулись.
Преследователь явно устал. Он запыхался и кашлял, прикрываясь измятым и серым носовым платком.
– Ты не узнаешь меня, Коршунов?
Я отрицательно покачал головой, хотя его охрипший и прокуренный голос показался мне знакомым.
Он снял папаху и пенсне, поправил растрепанные волосы.
– А теперь? – спросил он еще раз.
Я ударил себя кулаком по лбу и уже хотел вскрикнуть на всю улицу: «Сашка! Чистяков!» – но вовремя спохватился, что я-то для всех немой, и без слов кинулся к нему с объятьями.
– Ну наконец признал франт старого друга. Ну ты и вырядился. Прямо как настоящий буржуй. А это кто? Твоя жена?
Я кивнул.
– Красивая. В такие глаза нельзя не влюбиться.
Привидение из прошлого беззастенчиво разглядывало мою смутившуюся жену и наконец решило представиться:
– Чистяков Александр Владимирович. Бывший однокурсник вашего супруга и его боевой революционный товарищ.
– Тот самый? – всплеснула руками Полина. – Петя мне так много про вас рассказывал!
– Так этот субъект еще и говорить умеет, а что же он со мной словно воды в рот набрал? – поймал на полуслове мою жену Чистяков.
Отпираться было глупо, и мне так хотелось поговорить со своим старым другом, что я открылся и для него.
– Это наша семейная тайна, – заговорщицким тоном сказал я. – Никакие медицинские светила – ни наши, ни заграничные – не смогли меня вылечить от немоты, а любовь Полины вернула мне дар речи. Поэтому я разговариваю только в семье. Для общества я по-прежнему немой.
– Ну ты, брат, даешь! – удивленно протянул Чистяков. – И ты не испытываешь от этого неудобств?
Я пожал плечами.
– А как же гражданский долг? Пропаганда идей революции?
– Я сполна его выполнил еще в девятьсот пятом, – отрезал я.
– Ах вот оно как! Значит, обуржуазился, омещанился, женился и решил пожить тихой семейной жизнью, а революцию пусть другие за тебя делают?
– Какую революцию, Саша? Она и так уже свершилась. Самодержавие пало, теперь будет республика, о которой мы с тобой мечтали.
– Какая республика? – в свою очередь переспросил он. – Буржуазная? Ну уж нет. Настоящая революция, брат, еще впереди. Россия только забеременела ею. Вот когда сломаем хребет всем помещикам и капиталистам, тогда и будет настоящая революция.
Видно было, что он разочаровался во мне и уже собрался идти прочь, но Полина задержала его вопросом:
– А вы где остановились, Александр Владимирович?
Он застыл в растерянности, развел руками и ответил:
– Да, собственно говоря, пока нигде. Я только сегодня приехал с ямщиком из Нарыма. Да вы не переживайте, как вас… Полина, товарищи меня приютят на ночлег.
Я не выдержал и высказался в адрес жены и друга:
– Вы думаете, у меня нервов нет? Если я большей частью молчу, то должен терпеть все ваши выходки? Вот что, Саша, хватит изображать из себя обиженную барышню. Мы с тобой не виделись одиннадцать лет, и каждый из нас шел своей дорогой. Поэтому давай посидим, выпьем и поговорим по душам. А утром, если захочешь, иди на все четыре стороны. Но сегодня ты – мой гость. И я тебя никуда не отпущу!
Наш политический диспут затянулся до самой ночи. Уже кукушка на часах известила о наступлении новых суток, но каждый из нас находил все новые доводы.
Чистяков тоже не сумел доучиться до диплома. Осенью 1907 года он с товарищами принял участие в «экспроприации», как он выразился, кассы технологического института, а точнее, в банальном грабеже и угодил за это на Нерчинскую каторгу. Оттуда бежал. В Москве на марксистской сходке был снова схвачен полицией и этапирован в Сибирь. Перед войной каторгу ему заменили ссылкой в Нарымский край, где он и провел последние пять лет. На поселении мой друг зря времени не терял, а тщательно занимался политическим самообразованием. Он изучил Белинского, Герцена, народников, анархистов, читал даже Ницше, но выбор остановил все-таки на Марксе. Теоретически мой оппонент был подкован весьма основательно и порой своими выкладками загонял меня в угол, и, чтобы выбраться, приходилось напрягать все мозговые извилины.
Даже Полина вела себя на редкость тихо и покладисто, как восточная женщина: подавала на стол закуски, убирала грязные тарелки и не забывала подливать в графин мутной жидкости из большой стеклянной бутыли. Водку в городе уже давно не продавали. Сухой закон был объявлен еще в начале войны. Но в близлежащих деревнях расцвело самогоноварение. Вот и эту бутыль я приобрел у одного крестьянина, когда прошлым летом забирал с дачи Григория Николаевича. Мы с Полиной к спиртному относились равнодушно, потому бутыль и простояла так долго.
Жена впервые за три года супружества видела меня пьяным, но нисколько не перечила. Ее явно заинтересовал наш спор.
– Ну ты же не народник, Чистяков, а марксист. Но несешь бог знает что. Почитай внимательнее своего кумира. У него черным по белому написано, что социалистическая революция возможна только после капиталистической фазы развития. Жили бы мы с тобой в Великобритании или хотя бы в Соединенных Штатах, где уже создана экономическая база для социализма, есть пролетариат, объединенный в профсоюзы! Но мы-то – в России, аграрной и лапотной стране. Где только формируется фабрично-заводской капитал, а народ в подавляющей своей массе безграмотен и невежествен. Нам надо еще минимум сто лет, чтобы догнать Европу и Америку.
Я откинулся на спинку стула, убежденный, что мой визави[84] не сможет достойно ответить на этот выпад.
Чистяков почесал бороду и сказал:
– Опровергнуть выдвинутый тобой тезис чисто логически нельзя.
Я победно улыбнулся.
– Но есть одна закавыка, – неожиданно продолжил он и встал из‑за стола.
Вскоре вернулся со своей котомкой, развязал ее и извлек потрепанную тетрадку.
– В России никакая другая революция, кроме социалистической, невозможна. И я готов тебе это доказать, если ты наберешься терпения.
Я с нескрываемым интересом подвинулся ближе к нему. Полина на кухне перестала громыхать посудой и вернулась к нам в гостиную с полотенцем в руках. Она присела поодаль и тоже приготовилась слушать.
«Горе от ума»
Мартовские тезисы большевика Чистякова
В русской истории было четыре этапных периода. Это Киевская Русь, татарское иго, Московское царство и Российская империя, рожденная Петром I, крах которой мы сейчас наблюдаем. Какой будет новая Россия, этого мы не знаем, а можем только предполагать, исходя из ее потенциальных возможностей.
Что подточило устои предыдущего российского государства – Московского царства? Ослабило его духовную мощь, сделало беззащитным и предопределило появление первого большевика на троне – Петра Великого? Антихриста, заметим! Это раскол Русской православной церкви.
О! Это краеугольное событие русской истории, дающее ключ к пониманию многих процессов, в том числе и современных.
Идеологическая база у московских царей была сильная. Они считали себя наследниками византийских императоров, а Москву называли Третьим Римом. Поразительно малодушие и угодничество собора 1572 года, когда царь был признан наместником Бога на земле. Теперь в его компетенцию входили не только заботы о государстве, но и о спасении души. Божье воздалось кесарю. Не так ли?
Именно народное сомнение в том, что русское царство, Третий Рим, есть истинное православное царство, легло в основу раскола. Раскольники почувствовали измену в церкви и государстве. Они перестали верить в святость иерархической власти вообще. Тогда и родилась русская апокалипсическая утопия. А сейчас она просто видоизменилась.
Пожалуйста, не перебивай меня! Потом выскажешься.
Православное царство уходит под землю. Град Китеж[85] ведь находится под озером. И начинается напряженное искание царства правды, противоположного действующему государству.
Русская революционная интеллигенция прошлого столетия – Белинский, Герцен, Бакунин, Кропоткин – прямая наследница раскола. Эти мыслители в глубине души уверены, что злые силы овладели православным царством, а их долг – избавить его от них.
В России всегда было противостояние: «мы» – интеллигенция, общество, народ, освободительное движение и «они» – государство, империя, власть. И другого пути, извините, господа, нет. Придется выбирать, с кем вы?
Русские – по природе своей в отличие от европейцев не скептики, а догматики. У нас все приобретает религиозный характер и расценивается по категориям ортодоксии и ереси. Наше мышление имеет склонность к тоталитарным учениям и через них ищет совершенной жизни. И потом, в нас всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть.
Мы – революционеры – самый настоящий монашеский орден. Способность к жертве, мученичество, аскеза, уход из мира, лежащего во зле – это ли не черты православного монашества?
Россия – вообще страна парадоксов. И социализм у нас носит религиозный характер. Даже когда он атеистический.
Наш народ никогда не знал римских понятий о собственности. О Московском царстве говорили, что оно не знало греха владения землей. Единственным собственником был царь. Не было свободы, но больше было справедливости. Поэтому именно у русских есть шанс избежать неправды и зла капитализма и сразу перейти к лучшему социальному строю.
Я знаю, что ты мне хочешь возразить: это чистейшей воды народничество. И я полностью с тобой в этом согласен. Но еще я согласен с товарищем Лениным, заявившим, что «марксизм есть не догма, а руководство к действию».
– Казуистика какая-то! А что будет с демократией, правами человека в вашем новом царстве справедливости? – не выдержал я.
– Ну и скажешь же, Пётр Афанасьевич! – искренне удивился Чистяков. – Какая к чертям собачьим демократия, когда на кону стоит справедливость? При капитализме равных выборов не бывает. В них побеждает тот, кто потратит больше денег на избирательную кампанию. Политический либерализм неминуемо ведет за собой торжество буржуазии. У революции одно средство противостоять этому – диктатура пролетариата. Белинскому, кажется, принадлежат слова, что не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы пить вино, бить стекла и вешать дворян. А вот послушай, пожалуйста, что писал о демократии уважаемый тобою Герцен.
Чистяков взял тетрадочку, нашел нужную страницу и зачитал:
«Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, гуманные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех, имеющих деньги». Свобода и равенство, мой друг, перерождаются в мещанство. Такого ли будущего ты хочешь для России? Только она за вами не пойдет, потому что все ищет утерянный град Китеж. Никогда, ты слышишь, НИКОГДА русское царство не было буржуазным! И не будет им!
– И как вы собираетесь построить свой град Китеж?
– За нас давно великий гуманист Белинский все решил: «Люди так глупы, что их насильно нужно вести к счастью». Революция и есть насилие просвещенного меньшинства над невежественным большинством. Мир пластичен, он годен для любых изменений. А Россия – тем паче. Ведь русский народ по натуре своей народ женственный в отличие, скажем, от мужественного германского народа. Не случайно в нем настолько силен культ Богородицы, а не самого Христа. Он вообще сам не может построить никакого государства. Только разинщину и пугачевщину. Если бы не татары и немцы, никакого Третьего Рима, никакой империи и в помине не было.
Наш народ – всего лишь глина, материал, из которого можно вылепить любую статую.
– А куда вы денете отходы? То, что не сгодится для вашего ваяния?
Чистяков ответил не задумываясь:
– Якобинцы же неспроста изобрели гильотину. Террор, мой друг, беспощадный террор.
Полина ахнула. Гость понял, что переборщил с откровениями и попытался подсластить пилюлю:
– Поймите, мы дерзко пытаемся прорваться в новое духовное измерение, обрести не презренный металл, не индивидуальные свободы, а нечто более высокое, наполняющее радостью не тело, а душу. Мы в отличие от христиан обещаем Царство Божие, где нет болезни и печали, не на небесах после смерти, а при жизни – на земле. Это – святая цель. Она оправдывает любые средства.
– Но ведь это жестоко и аморально!
– У революции своя мораль. Все, что ей служит, – морально. Революция – единственный критерий добра и зла!
Я обхватил руками свою пьяную голову и не мог поверить в услышаное:
– Боже мой! Боже мой! Да ты настоящий фанатик! Слышал бы тебя Нордвик и другие наши товарищи, погибшие за свободу.
– Они были мечтателями. А нас жизнь сделала реалистами, – холодно парировал Чистяков.
– Да пойми же ты, не бывает рая без свободы! Вспомни Достоевского, даже всеобщее счастье не стоит слезинки одного ребенка!
– Все это буржуазные условности. Бросай их к черту и давай присоединяйся к нам. Надо ведь закончить, что начали в 1905 году.
– Нет, Александр, это не я, это ты изменил революции. Твоя партия, если она исповедует такую идеологию, никакая не партия, а настоящая секта. Похоже, что теперь свободу, отвоеванную у царя, придется защищать от вас. И никакую вашу будущую гармонию я собою унаваживать не собираюсь.
Чистяков вскочил из‑за стола, схватил котомку, сунул в нее свой революционный молитвенник и выбежал вон.
Глава 2. Духи жаждут
Обет молчания был нарушен. Тайна вышла за пределы нашей семьи, более того – ею овладел человек, которого я отныне вряд ли мог считать своим другом. Таиться от настоящих друзей теперь не было никакого смысла. И, может быть, прав был Чистяков, говоря, что время внутренней эмиграции прошло, пора выходить из подполья и определяться, с кем идти дальше.
К Потанину я пришел на следующий день понурый. Старик совсем разболелся после вчерашнего парада, но все равно сидел за письменным столом и пытался накарябать что-то вслепую. Его зрение почти совсем угасло, да и рука стала не тверда, такие каракули даже мне, привыкшему к почерку старца, разобрать было трудно.
– Я ужасно виноват перед вами, Григорий Николаевич, – попросил я прощения.
– За что, помилуйте, Пётр Афанасьевич? – удивился Потанин, словно мы с ним разговаривали всегда, и добавил: – У вас очень приятный голос.
Я еще больше стушевался. Появился страх, что начну сбиваться и не смогу достойно принести извинения.
– Я долго обманывал вас, притворяясь немым. Из‑за этого мы потеряли столько драгоценного времени. Простите меня, пожалуйста, если сможете.
– Да полноте передо мной расшаркиваться, словно я генерал-губернатор. Ну не говорили, и что из того? Это ваше личное дело. Может, вы зарок какой-нибудь дали. А ежели бы вы меня не устраивали, то я бы давно позвал в помощники кого-нибудь другого.
– Но ведь мы бы быстрее могли работать над рукописями, редактируя их сразу, по ходу диктовки! – возразил я.
Потанин махнул рукой и сказал:
– Если бы вы меня перебивали, то времени это заняло бы гораздо больше. Так что для меня вы были идеальным секретарем, и мне даже чуточку жаль, что вы заговорили.
Я не знал, что ответить, но Потанин снова пришел на помощь.
– Признайтесь, это же любовь излечила вас от недуга?
– Да… Но как вы догадались?
Старик отложил карандаш (чернильными ручками он уже давно не пользовался) и признался:
– Полина наполнила вас светом и теплом. Это сразу почувствовалось…
Он еще что-то хотел сказать, но передумал и переменил тему:
– А мы вообще собираемся нынче работать, Пётр Афанасьевич, или так и будем лясы точить?
Муромскому свое чудесное исцеление я преподнес как реакцию на свершившуюся революцию. От чего член губернского комиссариата пришел в полный восторг и сразу же предложил мне должность своего помощника. Я обещал подумать. Но пока я думал, Пётр Васильевич отошел от кормила власти. Для управления территориями Временное правительство учредило институт губернских комиссаров, полномочия которых приравнивались к губернаторским. И в Томск назначило очень популярного в городе – особенно среди интеллигенции – профессора Зубашева[86]. Его встречали на новом вокзале Томск-1 как настоящего героя. С красными знаменами, «Марсельезой» и торжественным построением местного гарнизона.
Пётр Васильевич очень ревниво отнесся к этому событию и высказывал мысль, что Томску вообще не нужен губернский комиссар, хватит и местного самоуправления. Тем самым он подложил серьезную мину под деятельность петроградского посланника. Дела у Ефима Лукьяновича не заладились с самого начала. И большевики вставляли ему палки в колеса, и местные патриоты не признавали его статуса. В результате на очередном заседании губернского народного собрания комиссар Зубашев объявил о своем уходе, и собрание решило, что Томск может вообще обойтись без опеки из Петрограда.
Но демократическая власть в столице так не считала и заморозила ассигнования на нужды губернии.
Муромскому предложили возглавить городское народное собрание, но он, помня зубашевскую историю, отказался. И правильно сделал. Временное правительство не признало эти выборы, потому что они не соответствовали российскому закону о местном самоуправлении. В строительстве демократии томичи бежали впереди всей России и наделили избирательным правом граждан с 18 лет, а в Петрограде решили, что политически зрелыми подданные могут быть лишь с двадцатилетнего возраста. И депутатов в местные органы власти, оказалось, надо выбирать не персонально, как это сделали в Томске в апреле 1917 года, а по партийным спискам. Пришлось городское народное собрание избирать осенью заново. Только в нем большинство было уже не за демократическими депутатами, а за большевиками, вскоре свергнувшими само Временное правительство. Такая вот ирония истории.
Пётр Васильевич на время вернулся к адвокатской практике. Здесь работы тоже было через край. Законодательство менялось полностью. Местная власть принимала одни законы, Петроград – другие. Суды были завалены всевозможными исками. И разобраться в том, что законно, а что нет, мало кто мог.
Вскоре Муромский получил предложение из Омска возглавить тамошнюю судебную палату. И неожиданно согласился.
Перед отъездом он вернул мне долг со всеми процентами. Хотя инфляция изрядно снизила покупательную способность этих денег, но все же они пришлись нашей семье очень кстати. Жизнь в Томске сильно подорожала. Тысяча рублей, оставленная мною, быстро иссякла, а гонораров едва хватало на пропитание. Переслав все свои сбережения в Швейцарию, я оказался в положении скупого рыцаря. Имея приличный капитал за рубежом, я был вынужден жить в Сибири очень экономно.
Полина переносила беременность тяжело. В начале лета ее состояние ухудшилось, и доктора нашли у нее воспаление, которое, развившись, могло привести к потере ребенка. Месяц она пролежала в университетской клинике. Ее немного подлечили, но при выписке доктор предупредил, что болезнь снова может вернуться, и рекомендовал отдых и полноценное питание.
– Эх, вам бы свозить ее сейчас в Баден-Баден на воды! – вздохнул гинеколог.
К Потанину я пришел чернее тучи. Григорий Николаевич сразу спросил, чем вызвано мое подавленное настроение. Я рассказал все как на духу.
– И сдался вам этот Баден-Баден! В Сибири есть такие целебные места, что и немцы, и швейцарцы позавидуют, – успокоил он и предложил: – Берите-ка вашу драгоценную супругу и отправляйтесь с ней на Алтай. Я напишу письмо своему другу художнику Буркину[87]. Он вас встретит там как родного, разместит со всеми удобствами. У него в горах своя мастерская. Там, кстати, живут самые сильные алтайские шаманы. А ближе – в Белокурихе – есть целебные источники, весьма полезные для женского организма.
Я встал перед выбором. Перспектива провести отпуск вместе с Полиной, особенно если он пойдет на пользу ее здоровью, меня безусловно прельщала, но, с другой стороны, как оставить Потанина одного в такое ответственное время, когда закладываются основы сибирской автономии?
Григорий Николаевич словно прочитал мои мысли.
– Обо мне не беспокойтесь. Сибирский областной съезд мы подготовим и без вас. Шаталов поможет, а стенографировать многие барышни умеют. Вы должны вылечить жену, чтобы она родила вам здорового наследника. Для вас сейчас это важнее любой революции.
До Барнаула мы добрались на теплоходе, а далее на лошадях до Бийска. Затем переехали в Белокуриху, где Полина прошла двухнедельный курс лечения. Эта деревня располагалась у самого начала алтайских гор. Взобравшись на гору Церковка и повернувшись лицом на север, можно было далеко – на добрую сотню верст – разглядеть бескрайние, изрезанные зигзагами речушек просторы Западно-Сибирской равнины. А вот на юге открывался совсем иной пейзаж – горные хребты хаотично уходили вдаль, в сторону Монголии, и терялись в голубой дымке.
Как меня тянуло в эту далекую неизвестность! И когда Полина объявила мне, что лечение ей не помогло, я без малейшего колебания предложил ей поехать дальше на Алтай. Внутренне я больше доверял туземным шаманам, чем дипломированным томским эскулапам.
Коляска под красным знаменем с надписью на непонятном языке, подняв облако пыли, подкатила прямо к грязеводолечебнице. Из нее, потянувшись после продолжительной езды, ловко соскочил высокий худощавый господин со смуглым скуластым лицом, длинными, сползающими вниз усами, короткой стрижкой и азиатским разрезом глаз. Он сразу же направился к регистраторше. Молоденькая розовощекая санитарка из крестьян полистала журнал посещений, а потом радостно показала рукой в нашу сторону. Мы с Полиной как раз сидели на лавочке на берегу маленькой, но стремительной горной речки Белокурихи и под ее журчание размышляли над тем, как нам лучше добраться до Немала.
Приезжий, нахлобучив на голову белую фетровую шляпу, направился к нам.
Подойдя, он с улыбкой представился:
– Буркин, Григорий Иванович.
Мы с Полиной раскрыли рты от неожиданности, и художник сам сказал за нас:
– А вы, как я понял, Полина Викторовна и Пётр Афанасьевич? Очень, очень рад знакомству, – приговаривал он, пожимая поочередно нам руки.
– Я прошу извинить меня, что так поздно нашел вас, – сказал Буркин. – Но даже художников в наше бурное время политика не оставляет в стороне. Я только из Бийска. Там состоялся съезд инородцев Алтая, избравший свою Горно-Алтайскую думу!
– Поздравляю. В парламентаризме вы даже опередили просвещенный Томск, претендующий на звание Сибирских Афин.
Мои слова алтайцу пришлись явно по душе. Он весь буквально расцвел в улыбке.
– И кого же избрали председателем? – поинтересовалась Полина.
Буркин смущенно ответил:
– Наш народ маленький. Всю интеллигенцию можно пересчитать по пальцам. А в России меня одного немного знают. Пришлось взвалить бремя власти на себя.
– Так вы теперь очень большой человек! У вас полно государственных забот, а тут какие-то курортники на голову свалились. Нас развлекать не надо. Мы сами себе развлечения найдем. Только, Григорий Иванович, миленький, пожалуйста, довезите нас до Немала. А то мы не знаем, на чем туда добраться, – взмолилась Полина.
– Какой такой Немал! – воскликнул Буркин. – Вы будете жить у меня! И никаких возражений я не принимаю. Весь цвет томской интеллигенции останавливается в моем доме. Григорий Николаевич всегда ко мне заезжает и живет подолгу. А вы хотите, чтобы я его друзей поселил у чужих? Нет, господа, едемте ко мне!
– Но у вас же в думе дел много! – возразил я.
Григорий Иванович посмотрел на меня изучающе и сказал:
– Я прежде всего художник. И хотя мне больше удаются пейзажи, но упустить возможность написать ваши портреты я не могу! После думских баталий неделя творчества мне нужна как воздух.
До Катуни нас сопровождали альпийские луга с редкими деревьями в ложбинах меж округлых холмов. Красота пейзажей не мешала беседе.
Председатель думы сам правил упряжкой и рассказывал о своем народе.
– Что написано на нашем знамени? «Дьер-су Хан Алтай». Это обозначение родины как совокупности земель и вод. В алтайском фольклоре дьер-су дословно означает сочетание «земля-вода, мать сыра земля». Для нашего языческого народа Алтай – живой дух, щедрый исполин. Мы не сомневаемся в одухотворенности природы и космоса.
– А какая разница между белой и черной верой? Бурханизмом[88], кажется, и шаманизмом? Вы сами какой придерживаетесь? – неожиданно спросила Полина.
Буркин, как и положено государственному деятелю, отвечать стал издалека:
– Алтайцы издревле поклоняются двум божествам: Ульгеню, главе небожителей, и Эрлику, владыке подземного мира. В срединном мире, где живут люди, нет верховного божества. И здесь все держится на равновесной борьбе этих двух начал. Вычленить одно из них невозможно, тогда нарушится баланс. Ульгень – благодетельный, чистый дух, белая светлость, но реальное божество. Он живет в конкретном золотом дворце у Полярной звезды. Олицетворяющий темное начало Эрлик тоже реален. Но его нельзя представить в виде христианского Сатаны. Это просто один из демиургов[89], добровольно взявшийся за черную, неблагодарную, но необходимую работу. Лишь союз Эрлика с Ульгенем гарантирует разнообразное и гибкое развитие мира. А бурханисты, как и православные миссионеры, навязывают алтайцам веру молочной чистоты. Но черно-белый мир – лишь бледная копия яркой языческой Вселенной. Потому я и защищаю шаманизм – черную веру. Ведь, по преданиям, первый шаман был обучен камланию Эрликом.
– Да… – протянула Полина. – Для политика вы весьма откровенны. У нас более популярны демагоги.
– Мир не надо ни приукрашивать, ни специально очернять, его надлежит воспринимать таким, каков он есть, – философски заметил Буркин и рассказал алтайскую легенду:
– Создавая человека, два бога советовались, какую душу в него вложить. Ульгень сказал: «Белую, как лебедь», а Эрлик предложил черную, как ворон. Тогда первый возразил: «Если вложить черную душу, то он будет в ад идти». Но второй тоже нашел веский довод в свою пользу: «Если вложить белую, как он будет резать барашков? Он же с голоду умрет». И оба бога согласились дать человеку душу пеструю, как сорока. По алтайским поверьям, эта птица и есть образ человеческой души.
– Как интересно! – воскликнула Полина.
Я сам много раз попадался на эту ее уловку, а Буркину внимание молодой интересной особы явно льстило, и он увлеченно продолжил:
– Я внимательно прочел Библию и нашел в ней очень мало обращений к природным корням человека. И в этом, как мне кажется, главный изъян цивилизации. У христиан нет морально-этической основы для бережного отношения к матери-природе. Современные люди стали забывать дорогу к природным истокам, им недоступна радость общения с живой одухотворенной Вселенной. Вы по большому счету одиноки на этой Земле. Возможно, где-то далеко и есть ваш бог, очень абстрактный и малопонятный. Но его отделяет целая пропасть. В церквах вас встречают святые с сахарными лицами и блеск позолоты. А для алтайца – всюду храм! Его окружают духи на каждом шагу. Ему есть с кем посоветоваться, к кому обратиться за помощью в трудную минуту. Помощи у духов огня и ветра, хозяев гор и рек может попросить любой человек, ведь они всегда рядом, в одном с нами измерении. Домашние духи охраняют границы жилища, отгоняют все плохое, а впускают только хорошее. Но вокруг всегда кружат злые кермесы в надежде незаметно проникнуть в дом и устроить какую-нибудь пакость. Однако и они не так страшны. Если вы чтите духов и оберегаете природу, они не причинят вам никакого вреда. Главное – жить по правилам, в гармонии с миром. Но если случается болезнь и еще какое-нибудь несчастье, то надо звать на помощь шамана. Он во время камлания сходит к божествам, духам небесного и подземного миров, договорится с ними и отведет беду.
Лошади втащили коляску на перевал и остановились рядом с крестом.
– Здесь кто-то похоронен? – спросила Полина.
Буркин отмахнулся.
– Опять отец Никодим взялся за старое! Сколько можно человеку объяснять, что царский режим пал, что новое правительство объявило свободу совести и вероисповедания!
Алтаец спрыгнул с коляски, подошел к кресту и попробовал его повалить.
Я не очень верующий, но все же мне стало обидно, что символ православия подвергся такому надругательству. И я потребовал от художника объяснений.
– Вон видите березу, украшенную ленточками? – показал он на большое вековое дерево на бугре. – Она – священная. Рядом с ней шаманы проводят свои камлания. Еще по указу какой-то царицы, то ли Елизаветы, то ли Екатерины, православные миссионеры стали возводить такие кресты на перевалах рядом со священными деревьями язычников, а на расстоянии пяти верст от крестов запрещалось устраивать нехристианские ритуалы. Мы его уже дважды убирали. Но настоятель здешней церкви отец Никодим опять со своими прихожанами крест устанавливает.
Шаманы отказываются здесь камлать и настраивают алтайцев против православных. Эх, сильно утрамбовали. Без лопаты никак не справиться. Доедем до аила[90], пошлю людей, чтобы выкопали.
В душе я обрадовался, что Буркин не попросил меня о помощи. Осквернять православную святыню, даже из самой большой любви к инородцам, мне было не с руки. Еще более я опасался, как бы моя взбалмошная жена не попросила меня помочь художнику. Но Полина на этот раз промолчала. Видимо, она испытывала такие же противоречивые чувства, как и я.
– Скажите, Григорий Иванович, а почему власти преследуют шаманов? Ведь они ничего плохого не делают, камлают себе потихоньку, глядишь, кому-то и впрямь помогут?
Полина очень вовремя задала свой вопрос, предполагающий пространный ответ, чем окончательно отвлекла Буркина от креста. Он вспрыгнул на козлы, натянул вожжи, и когда повозка тронулась, продолжил искушать нас язычеством.
– В любой империи правительство пытается низвести своих граждан до роли винтиков в государственной машине, а во время войны – до пушечного мяса. В шаманизме же человек рассматривается как фантастический феномен, ценность которого сравнима лишь со значимостью самой Вселенной, ибо человек есть ее неотъемлемая часть. Он должен быть безупречен только по отношению к своим божествам, но свободен от обязательств перед государством и другими людьми. Ведь духи находятся по ту сторону добра и зла. А какому правителю понравится такая самостоятельность подданных? Еще древнетюркские каганы[91] пытались навязать нашему народу буддизм. Но Будда призывал отказаться от мирской суеты, относиться к жизни как к временному и случайному состоянию в чреде постоянных перерождений. Кочевая жизнь учила алтайцев совсем иному: если сегодня ты жив, то старайся взять от жизни все. Поэтому они отстояли веру предков. Джунгарские ханы[92] огнем и мечом насаждали ламаизм[93] в здешних горах. Шаманов отправляли на костер. По преданиям, после их нашествия на Алтае в живых осталось только три кама. Но наша вера выжила, а Джунгарское ханство давно погибло. Православные миссионеры тоже не жаловали камов, запрещали камлания, сжигали бубны. Но шаманизм жив и поныне.
За перевалом нам открылась чудесная картина. Бирюзовая река извилистой лентой струилась меж исполинских скал и горных хребтов, вдали сливающихся с небом. И от этого пейзажа веяло такой мощью и энергией, что казалось, будто мы вступаем в границы какого-то сакрального, мистического мира.
Усадьба художника располагалась на самой окраине села, у подножия заросшей хвойным лесом горы и состояла из бревенчатого дома на добротном каменном фундаменте и пристроенной к нему мастерской. Рядом с домом стояла алтайская юрта, в ней и обитали домочадцы. Хозяин скороговоркой представил свое семейство: жену, ее сестер, детей и племянников, – так что мы еще долго путались в их диковинных именах.
В доме летом проживали только гости. Из‑за смутного времени отдыхающих не было, и хозяин предложил нам выбирать любую комнату. Полине понравилась маленькая светелка с видом на реку, там мы и обосновались.
Невдалеке стоял сарай, где в морозы держали баранов. Сейчас он тоже пустовал, отара паслась на горных пастбищах. Корову здесь не держали. Только козы мирно щипали сочную травку на лугу.
Мне козье молоко очень понравилось. А вот у Полины оно вызвало тошноту. Она могла пить лишь настоянный на целебных травах чай и студеную ключевую воду. Кормили нас очень сытно. Правда, завтраки были относительно легкими: теплые пшеничные лепешки, душистый мед, домашний сыр, вареные яйца, овощи и зелень с огорода. Обед женщины готовили поздно, когда спадала дневная жара. Мы так успевали нагуляться по горам и проголодаться, что поглощали вареную баранину в огромных количествах. И казалось, что нет на свете ничего вкуснее этой простой еды.
Сам Буркин по хозяйству ничего не делал. Хотя вставал раньше всех и с первыми лучами уходил в горы, иногда с мольбертом, иногда без, и возвращался, когда солнце стояло высоко. Потом он закрывался в своей мастерской и работал над картиной.
Однажды он пришел с прогулки, когда мы еще завтракали, подсел к столу и предложил написать с нас портреты.
– Нет-нет, – категорически отказалась жена. – Я неважно себя чувствую и плохо выгляжу. Не хочу навсегда остаться такой.
– А вы? – спросил меня художник.
Я пожал плечами:
– Не знаю. Я прежде никогда не позировал. Получится ли?
– Получится. Обязательно получится! Он согласен, Григорий Иванович! – ответила за меня Полина, а для меня добавила: – Представляешь, Петя, мы повесим твой портрет в гостиной.
Работать над портретом художник решил в мастерской. Хотя Полина хотела, чтобы он запечатлел меня на фоне горных склонов. Но Буркин сделал вид, что не расслышал ее предложения, и увел меня в свое убежище.
Здесь царил полумрак, единственное узкое окошко выходило на гору, закрывавшую избушку от солнечных лучей. Со стен на нас глядели таинственные пейзажи, словно окна в потусторонний мир. Они дышали заповедной шаманской силой. Будь то озеро, горный хребет или могила шамана. Но это лишь видимость, поверхностный слой, а за ними – сама душа Алтая.
– А вы никакой не пейзажист. Вы пишете портреты духов, – высказал я свое впечатление.
Буркин улыбнулся:
– Может быть, может быть…
– Теперь мне понятно, зачем вы гуляете утром по горам. Пытаетесь поймать душу природы?
Художник не ответил, а предложил присесть.
– Сюда, пожалуйста, – он указал на стул подле окна. – И голову чуть-чуть поверните вправо. Вот так. Просто замечательно.
Он сосредоточенно колдовал за мольбертом, а я боялся пошевелиться, вдруг нарушу позу. Наконец Буркин заговорил:
– Склонность к камланию – это своего рода наследственная, врожденная болезнь. Правда, она не всегда передается по прямой линии от отца к сыну. Бывает, проявляется и у племянников. И тогда ребенок, которому суждено стать шаманом, начинает ощущать зов духов. Он становится болезненным, а временами даже впадает в бешенство. Он может какое-то время воздерживаться от вступления в камы, но все равно рано или поздно станет им. Ибо избранный духами не может не камлать. Иначе он совсем разболеется и скоро умрет. Шайтан[94] задушит. Шаманские способности, как и склонность к любому творчеству, алтайцы считают даром духов. Устами певца говорят духи, они же водят моей кистью. Я потому и ухожу один по утрам в горы. Там я ищу встречи со своим духом. Вместе мы обретаем огромную силу.
Я не выдержал и спросил:
– А сегодня утром вы виделись со своим духом?
– Да.
– И что он вам велел?
– Нарисовать вас.
Интересно, чем моя скромная персона заинтересовала потусторонние силы?
Но Буркин упредил меня.
– Скажите, а вы что-нибудь пишете?
– Только как секретарь Потанина. Стенографирую его мысли.
– Странно, – удивился художник. – И никогда прежде ничего не писали? Ни повестей, ни рассказов, ни романов…
– По юности за границей баловался прозой, когда не мог говорить. Но ничего заметного, в отличие от вас, сотворить не смог. Вы ошиблись, взявшись рисовать мой портрет? Я никогда ничем не прославлюсь.
Художник улыбнулся.
– Я бы на вашем месте не спешил с выводами. Мой дух не ошибается. В вас тоже есть дар творца. Правда, о нем вы пока не подозреваете. Вы еще напишете свою книгу.
Я еще обдумывал сказанное художником, как вдруг он спросил меня:
– Пётр Афанасьевич, вы еврей?
Я оторопел от удивления.
– Это вам тоже дух сказал? – язвительно спросил я художника.
Но Буркин продолжал сосредоточенно водить карандашом по холсту.
– Нет. Просто у вас форма лица, глаза, нос и рот очень характерны для древних иудеев. В вас нет ничего азиатского, что можно отметить у любого русского. Ваши предки определенно были выходцами из Палестины. Но не арабы.
Я был в полном недоумении.
– Действительно, Коршуновы усыновили меня, но мои настоящие родители были выходцами из Европы, а не из Палестины. Мать – немка, а отец чех или словак. И вообще мне еще никто никогда не говорил о моем еврействе. Даже черносотенцы!
– Но с вас же иконы можно писать! У немцев и славян совсем другой тип лица! – воскликнул художник.
Вернувшись в дом, я застал свою жену совершенно больной. Она лежала на кровати и тихо стонала.
– Мне очень плохо, Петя. Будто все внутренности выворачивает, – пожаловалась Полина и расплакалась: – А ребеночек совсем перестал двигаться. Неужели мы его потеряли…
Я выбежал во двор. Буркин седлал лошадь. Он собирался в Немал, в лавку за солью и спичками. Я сказал, что Полине срочно нужен врач.
Он задумался.
– Таких в горах нет. В Чемале жил фельдшер, но после революции сбежал. А нового еще не прислали.
– Но как вы лечитесь? – воскликнул я в сердцах.
– А шаманы на что? Недалеко живет очень известный шаман Мамлый. Он к Эрлику и Ульгеню дорогу знает.
– Да хоть самого черта везите! Только спасите мою жену и ребенка!
Буркин вскочил на коня и унесся со двора.
Я вернулся к жене.
– Григорий Иванович поскакал за доктором? – спросила она.
Я не знал, как сказать правду.
– Здесь нет доктора. Он обещал привезти шамана.
Полина побелела и прошептала:
– О Боже!
Я стал успокаивать ее как мог. Приводил пример из собственной жизни, как меня вылечила от немоты бабка-знахарка, когда доктора расписались в бессилии. Припомнил выступление шамана в Общественном собрании, после которого она согласилась выйти за меня замуж.
– Он же выгнал из тебя злых духов. Ты сама говорила, что после его камлания у тебя словно камень с души свалился. А этот шаман еще сильнее. Он тебя обязательно вылечит.
Полина заплакала.
– Да я не за себя боюсь, а за маленького. Про духов – это никакие не побасенки, а правда. Дядя Саша Андреев однажды поплатился за свое неверие…
Полина осеклась, осознав, что невзначай проговорилась и выдала чужую тайну. Но она так дрожала, а художника все еще не было, и чтобы хоть как-то отвлечь ее от мрачных дум и выиграть время, я стал расспрашивать ее.
Она вначале упиралась, не хотела раскрывать чужой секрет, но, взяв с меня страшную клятву, что я более никому его не выдам, рассказала мне эту историю.
Пропастина
Не медведь-шатун обезобразил моего дядю. Он сам потерял свое лицо, нарушив вековой обычай древней земли.
В своей первой самостоятельной экспедиции в верховья Енисея он как-то встретил похоронную процессию. На волокуше[95] лежала мертвая девушка, а на ее лице зиял глубокий провал, облепленный мухами.
– А ведь это проказа! Смотри, как мухи облепили рану, потом сядут на тебя и заразят, – дядя решил попугать проводника.
Тот смертельно испугался и стал держаться подальше от похоронной команды. Дядя же, бравируя своим бесстрашием, поехал вслед за покойницей. В глухом месте тувинцы[96] сняли труп с волокуши и согласно обычаю положили на землю на съедение зверям.
Вечером путников пригласили в юрту брата умершей девушки на поминки. Вдруг вбежала собака с какой-то костью в зубах, забилась в темном месте и стала ее грызть. Хозяин грозно цыкнул на собаку и отобрал ее добычу. Это оказалась рука его мертвой сестры. Он сел возле костра, положил рядом руку и долго рассказывал, как много хорошего сделала эта рука при жизни. А потом, к изумлению путешественника, вернул добычу собаке и выгнал ее из юрты.
После поминок путники отправились дальше. На душе у каждого было тягостно. Над степью сгущались сумерки, придавая ей зловещий вид. Чтобы хоть как-то развеселить товарища, дядя предложил спеть вместе что-нибудь веселое.
Проводник испуганно отмахнулся:
– Солнышко село. Нельзя. Пропастина погонится.
– Какая-такая пропастина?
– А девка-то.
– Средневековые глупости, – Андреев не внял предупреждению и громко затянул веселую песню.
Проводник с ужасом, пришпорив коня, рванулся вперед, подальше от пришельца.
Насмешка над самой смертью не прошла для Александра Васильевича безнаказанно, он заболел. Причем болезнь развивалась по какому-то странному сценарию. Она уродовала только лицо. Дядя Саша был заядлым фотографом, но после этого вообще перестал фотографироваться. Он не смотрелся на себя в зеркало. Даже борода не скрывала его уродства. На переносице кожа разложилась совсем.
Тогда по настоянию врачей, уже в начале нынешнего века, он решился на пластическую операцию. Она затянулась на полгода. Хирурги срезали с его тела – лба, щек и рук – лоскуты кожи и пересаживали их на нос. Но ты сам видел результаты этой операции. Она явно не удалась.
– Его прокляли духи за то, что он нарушил их законы, и забрали у него лицо! – заключила Полина.
И в унисон поддержал ее незаметно вошедший в комнату художник:
– Это еще малое наказание за такой грех. На закате вообще надо быть очень осторожным. Иначе кермесы[97] могут украсть у человека саму душу!
– Как? – ахнула Полина. – Вы все слышали?
– Не пугайтесь, милая барышня. Эту историю я прочитал на лице вашего дяди еще лет двадцать тому назад, когда впервые увидел его. Он сполна ответил за преступление юности. Но мужчину красит вовсе не физиономия, а благородная душа и мужественное сердце. За эти качества я его и уважаю. И если бы писал его портрет, то сделал бы его настоящим красавцем!
Из‑за его спины выглянул кривоногий и низкорослый алтаец с сильно морщинистым лицом.
– Пожалуйста, познакомьтесь. Это и есть знаменитый кам Мамлый, – представил шамана художник.
Несмотря на жару, кам был одет в овчинную короткополую распашную куртку с рукавами. Она была увешана всякой всячиной: жгутами, подвесками, платками, лентами, кольцами, бляшками, бубенцами… В правой руке он держал бубен, обтянутый шкурой.
Позвякивая колокольчиками и не проронив ни слова, он подошел к кровати моей жены и положил левую руку ей на живот. Так он простоял несколько минут, затем что-то сказал на своем гортанном языке.
– Шаман говорит, что надо камлать. Иначе их не спасти. Нам придется поехать в другое место. До него пара верст, – перевел Буркин и поинтересовался у Полины, по силам ли ей такая поездка.
Моя мужественная жена беспрекословно отдалась в руки судьбы и уже хотела встать, но хозяин ее остановил.
– Не торопитесь. Надо дождаться темноты.
– Почему? – одновременно спросили мы с Полиной.
– Эрлику камлают только ночью, – ответил Буркин и вместе с шаманом вышел из комнаты.
Я последовал за ними. Григорий Иванович подозвал мальчика и шепнул ему что-то на ухо. Тот пулей вылетел со двора, но скоро вернулся, таща на веревке черного козла со сломанным рогом.
Увидев животное, шаман одобрительно причмокнул. Хозяин крикнул мальчишке еще раз, и тот позвал на помощь старших ребят. Они вместе завалили козла на землю и спутали ему ноги веревками.
Потом мужчины сели за стол и с аппетитом поели свежей баранины. Меня тоже позвали, но я отказался и вернулся к Полине, которой было совсем не до ужина.
Когда солнце склонилось за гору, к нам заглянул Буркин и сказал: «Пора». Мы были наготове и сразу вышли во двор. У крыльца стояла запряженная коляска, на месте возницы с важным видом уже восседал шаман. Я первым запрыгнул на пассажирскую площадку и чуть не сорвался вниз, запнувшись о что-то мягкое. Приглядевшись, я увидел в ногах связанного козла, смотрящего на меня с ненавистью обреченного.
Я подал руку Полине, а Буркин поддержал ее снизу. Благодаря нашим обоюдным усилиям она взобралась на сиденье.
– А зачем барашек? – спросила она, не разглядев в темноте.
Я промолчал, хотя уже догадывался о его предназначении.
Художник сел рядом с шаманом и натянул вожжи. Лошади тронулись. Повозка долго тащилась по луговым колдобинам. Сильно трясло. Бедная Полина держалась из последних сил. С правой стороны нависали громады скал, а слева журчала Катунь. Наконец мы поднялись на вершину холма и остановились.
– Приехали, – сказал Григорий Иванович. – Можете пока походить, размяться. Нам еще предстоит развести костер.
Отсюда открывался потрясающий вид. Солнце еще полностью не скрылось за горизонт, и маленький краешек его освещал ущелье, в котором протекала Катунь. Река ослепительно сверкала, как бриллиантовое ожерелье. Освещение и природные краски менялись буквально на глазах. Только что скалы были оранжевыми и вдруг моментально покраснели, а затем неожиданно стали синими, фиолетовыми и, наконец, почти черными. Почернела и береза, чья могучая крона нависала буквально над самой кручей.
Шаман показал на дерево и что-то сказал Буркину. Художник нам перевел:
– Мамлый говорит, что эта береза начала расти здесь в тот самый день, когда он родился. Это его личное дерево. Оно выросло в очень хорошем месте. Ведь река течет вниз, где обитают предки и куда после смерти уходят люди. А береза растет вверх, где живет Ульгень. Поэтому отсюда легко попасть в оба других мира.
Шаман подбросил в костер хвороста и засмеялся. Художник – тоже. Я поинтересовался у Буркина, чем вызвано их веселье.
– Мамлый недавно женился на молодой, но бедной девушке. Она даже не красива. Зато происходит из старого шаманского рода. Единственное приданое – духи ее предков. Это-то и определило выбор шамана. Он говорит, что проверит их сегодня в походе к Эрлику, но подозревает, что они могут испугаться и сбежать по дороге.
Этой туземной шутки я не понял.
– А почему он собирается камлать владыке подземного мира? Неужели Ульгень не может помочь моей жене?
Буркин пожалел, что перевел мои слова шаману. Тот презрительно отвернулся от меня.
Художник взял меня под руку и отвел от костра.
– Вы должны уйти.
– Но почему?
– Поймите, жизнь вашей жены в опасности. Шаман будет камлать ради ее спасения. Ее душу похитили злые духи. Поэтому Мамлый и пойдет к Эрлику. А теперь отойдите, пожалуйста, подальше. Я вас потом позову.
Полина не стала перечить туземцам и тихо произнесла:
– Иди, Петенька, иди. И не переживай. Я чувствую: все будет хорошо.
После костра мои глаза долго привыкали к темноте, и я какое-то время шел наугад. Светлее было на обрыве. Луна, отражаясь в воде, освещала ущелье. Вскоре я отыскал тропинку, ведущую к берегу реки, и стал спускаться по ней.
Дикий вопль накрыл ущелье. Это была агония жертвенного козла. Уже на берегу я услышал раздающиеся с обрыва звуки бубна и понял, что камлание началось.
Большой и гладкий валун у самой кромки журчащей воды стал для меня удобным сиденьем. Он еще хранил солнечное тепло, и мне было совсем не холодно. Я поднял глаза вверх и обмер. Мириады звезд смотрели на меня из Вселенной. Иногда пролетали метеориты. Или, как говорят в народе, падали звезды. Но я не успевал загадать желание. А просто смотрел в эту усыпанную звездами бездну. Подо мной в лунном свете журчала Катунь, черные силуэты исполинских гор обступали со всех сторон, а наверху, на круче, звучал шаманский бубен. И мне вдруг стало так хорошо и спокойно на душе. Казалось, что я слился с ночной гармонией, ощутил себя частью этого великого, загадочного и прекрасного мира. И перестал бояться. За Полину, за себя, за будущего ребенка. Пусть даже мы когда-нибудь умрем, но это звездное небо останется.
Воистину прав был Кант[98], не устававший поражаться двум вещам: звездному небу над головой и моральному закону внутри нас. Только зря он их разделил. Макрокосмос и микрокосмос – единое целое. Их объединяет гармония. Она и есть Бог.
– Пётр Афанасьевич! Господин Коршунов! Ау! Где вы? – послышалось с обрыва. – Поднимайтесь скорее. Скоро рассветет. Надо ехать.
Я быстро вскарабкался по обрыву и возле березы увидел странную картину. Еще тлеющее пепелище костра. Черные полосы на песке от козлиной крови. Шаман, свернувшийся калачиком под священным деревом.
– А где Полина? Где моя жена? Куда вы ее дели? – схватил я Буркина за грудки.
– Тише. Тише, – Григорий Иванович с силой оторвал мои пальцы от своей рубахи. – А то жену разбудите. Она спит в коляске.
Я тут же подскочил к ней. Полина сладко спала на сиденье и улыбалась во сне.
– Как она? – успокоившись, спросил я художника.
– С ней теперь все будет хорошо.
– А с ребенком?
– Тоже.
Буркин вспрыгнул на козлы. Я занял место сзади, рядом со спящей женой. Повозка тронулась, и одновременно прозвучал вопрос художника:
– Скажите, Пётр Афанасьевич, у вас есть враги?
– Не знаю. Может быть, и есть. Одного человека я даже пытался убить. Но это было давно, еще в 1905 году.
– Нет. Этот враг был у вас недавно. Причем, до этого он был вашим другом.
– Чистяков! – вскрикнул я так громко, что чуть не разбудил жену.
– Я не знаю этого человека. Но, по словам Мамлыя, он очень сильный и коварный. Его душа одержима злыми кермесами. Они-то и пытались украсть у вас жену, но мешал ребенок. Сама судьба привела вас ко мне. Кроме шамана, никто бы, ни один доктор не спас вашего сына.
Мамлый долго договаривался с кермесами, чтобы они отпустили и мать, и дитя. Не знаю, чего они потребовали от него взамен. После камлания он упал, совсем обессиленный, только рассказал мне о своем походе к духам и уснул под своей березой.
Несмотря на шок от услышанного, я оставался цивилизованным человеком и не забыл спросить у Буркина, чем мы можем отблагодарить шамана.
– Духи запрещают камам выпрашивать деньги. Но если сами люди дают, то они не отказываются. Это же их работа.
Я отдал сто рублей художнику, чтобы он передал их шаману.
Мамлый погиб через три дня. Он спал под священной березой, когда утес обрушился в ущелье. И река унесла его навсегда в мир духов.
Деньги достались вдове покойного кама. За портрет художник с меня не взял ни копейки. Написан он был густыми мазками в импрессионистской манере. Иисус Христос с бакенбардами Пушкина и рассудочным взглядом. Этот персонаж на Голгофу по собственной воле не пойдет, а будет до последнего вздоха брыкаться, царапаться, цепляться за жизнь руками и ногами.
Глава 3. Красное и бело-зеленое
Весной и летом 1917 года Томск походил на ис тинно столичный город. Он словно магнитом притягивал лучшие умственные и деятельные силы со всей Сибири. Университет, технологический институт, высшие женские и учительские курсы по праву сделали Томск интеллектуальной и образовательной столицей бывшей колонии, настоящими Сибирскими Афинами.
Каких только здесь конференций и съездов не проходило в ту пору! Сюда съезжались для общения и выработки единой политики кооператоры, мусульмане, женщины, инородцы, профсоюзники, партийцы всех мастей и, конечно же, областники.
Для автономистов Томск стал объектом паломничества, подобно Иерусалиму или мусульманской Мекке. Ведь здесь жил Потанин. Даже иркутяне, ревностно отстаивающие права своего города на статус столицы Восточной Сибири, перед авторитетом патриарха сибирского областничества вынуждены были умерить свои амбиции и отдать пальму первенства в строительстве Сибирской автономии Томску.
Вернувшись с Алтая, я застал Григория Николаевича энергичным и даже помолодевшим.
– Поздравьте меня, Пётр Афанасьевич, я окончательно освободился из брачной неволи и теперь снова являюсь женихом, но работа не оставляет мне никакой возможности для устройства личной жизни, – пошутил Потанин и развернул полотнище, разделенное по диагонали на две части – белую и зеленую.
– Это теперь государственный флаг автономной Сибири. Конференция областников утвердила его. Верхняя – зеленая – часть символизирует собой сибирскую тайгу, а нижняя – белая – снега сибирские, – пояснил он и тут же посетовал: – Жаль, в пятом году мне не удалось убедить Римского-Корсакова[99] сочинить музыку для сибирского гимна!
Недоумение появилось на моем лице. Зачем нужен Сибири государственный флаг, если после Февральской революции областники признали демократический республиканский центр в лице Временного правительства, сняли прежние сепаратистские лозунги и приняли участие в автономном и федеративном переустройстве России?
– Разве что-то изменилось за время моего отпуска?
Он насупился, видимо, обдумывая важную фразу.
– Революция уплотняет время. На что раньше требовались годы, даже десятилетия, сейчас происходит за считанные дни. И среди нынешних министров нет единого мнения относительно будущего Сибири. Некоторым покоя не дают Сибирские Соединенные Штаты, мучает страх отпадения какой-нибудь части от бывшей империи. Пока большинство министров – люди вменяемые, с ними можно договариваться, они поддаются убеждению. А вот большевики… – Григорий Николаевич задумался. – Эти – централисты еще похлеще царских чиновников. У них вся партия построена на деспотических началах, и они хотят государство сделать таким же. Представляете, что тогда будет? Целые области, находящиеся на периферии, а Сибирь в первую очередь, лишатся участия в законодательной жизни. В столице создадут одну палату из 600 членов (конечно, большевиков), которая и будет править государственным кораблем. А нам, как обладающим «несовершенным умом», большевики скажут: ваша автономия не простирается дальше тротуаров и уличных фонарей. О выделении каждой области ее доли из государственных финансов можно будет забыть. Все доходные статьи центральное правление заберет себе. Мы как были людьми второго сорта, нищими, выпрашивающими подачки, так ими и останемся. Они готовят такой же строй, как и низвергнутый монархический. Если проекты Ленина осуществятся, то наша жизнь снова окажется в железных тисках. В ней не найдется места ни для самостоятельности отдельных личностей, ни для самодеятельности общественных организаций. Мы только якобы будем строить жизнь своего отечества, на самом деле за нас будет думать кто-то другой, сочинять для нас законы и опекать нашу жизнь даже по мелочам.
Старик вновь ушел в себя, а потом заговорил так же внезапно, как и умолк:
– Какой-то философ предсказывал, что в будущем человечество уничтожит все естественные реки, выпрямит русла и превратит их в каналы, одетые камнем. Большевики хотят так же выпрямить людей. Они ставят доктрину, выработанную человеческим умом, выше жизни. Большевизм не доверяет анархии и многообразию жизни. И этим он ужасен, ибо противостоит самой природе, самой жизни…
Потанин хотел сказать еще что-то. Он вообще любил возвращаться к теме, посмотреть на нее под другим углом зрения, подвести солидную доказательную базу. Но в комнату стремительно вошел редактор «Сибирской жизни».
– Григорий Николаевич! Вы только послушайте, какую резолюцию приняло собрание грузчиков! – обратился он прямо с порога.
Я встал, чтобы поприветствовать Полининого дядю, и он меня наконец заметил.
– Здравствуйте, Пётр Афанасьевич. Как Поленька? Как отдохнули?
Я сказал, что все хорошо. Но Андреев меня уже не слышал, а негодовал по поводу «гнусной клеветы».
– Вот что заявили грузчики: «Требовать немедленно от всех революционных организаций постановления о закрытии преступной, черносотенной, контрреволюционной газеты «Сибирская жизнь» и ареста ее подозрительных агентов. Если же организации этого не сделают, то мы сами с оружием в руках закроем контрреволюционную газету». Вы, конечно же, догадываетесь, под чью диктовку это написано? Но каковы демагоги?! Всё перевернули с ног на голову! За свои социалистические взгляды я заплатил изгнанием с государственной службы, тюрьмой и трехлетней ссылкой. А какие-то неизвестные личности, безликие «представители» разных комитетов и советов, пришпилив на себя красные бантики и завернувшись в тоги демократов, смеют меня обвинять в контрреволюционной деятельности! Господин Ленин и его соратники как-то странно понимают слово «свобода». Для них это свобода совершать убийства, грабежи и кражи, свобода лгать и передергивать в печати, бесчинствовать, арестовывать кого вздумается. Такой анархический большевизм, Григорий Николаевич, до добра не доведет. Он угрожает гибелью нашему отечеству. Если мы их не остановим, то нам грозит обнищание, одичание и застой!
– Сдается мне, что мы еще натерпимся от этих господ-товарищей, – заметил Потанин. – Для Сибири они могут стать страшнее царских опричников. Эти выходцы из Европейской России попали сюда не по доброй воле, а в кандалах и по этапу. Они такие же навозные, как и их предшественники, только еще хуже, потому что обозлены на наш край, ведь натерпелись здесь лиха. Сибирь они воспринимают как страну ссылки и каторги, и в силу своего печального опыта не могут воспринимать ее иначе, – заметил старый провидец и обратился ко мне. – Вот ответ на ваш вопрос, Пётр Афанасьевич. Когда метрополия агонизирует, то колонии вовсе не обязательно повторять ее печальную судьбу. Сибирский областнический съезд надо проводить обязательно.
Потанин задумался. Мы с Андреевым уже собрались уходить, как хозяин неожиданно спросил:
– Как фамилия того следователя, что Сенат прислал в Иркутск еще в XVIII веке? Он еще творил невообразимые бесчинства…
– Крылов, если мне не изменяет память, – ответил редактор.
– Точно, Крылов, – согласился Потанин. – По спирали развивается наша история. Большевики очень напоминают мне того господина…
Предшественник
Наброски к портрету одного царского следователя из архива Г. Н. Потанина
Царским указом 1754 года было ограничено право винокурения одним сословием дворян. Купцам курить вино запрещалось. Но в Сибири дворянства не было, и этот закон сначала на нее не распространялся. В Сибири монополию на прибыльную торговлю вином получил петербургский генерал-прокурор Глебов, снявший в аренду все кабаки и каштаки[100] огромного края.
В Иркутск исполнять его указания прибыл следователь Крылов. Первым делом он укрепился в своей квартире, устроил у себя гауптвахту, окружил себя солдатами, стены своей спальной комнаты увешал разным оружием, спать ложился не иначе, как с заряженным пистолетом под подушкой.
Пока эта домашняя крепость готовилась, Крылов, появляясь в обществе, был очень ласков и приветлив. Но потом внезапно заковал в кандалы и посадил в тюрьму весь магистрат. И стал вымогать с купцов деньги, под пытками и плетями заставлял их признаться в злоупотреблениях по городскому управлению и в противозаконной торговле вином. Фабриковались ложные доносы. Сделать это в Сибири всегда было легко. Стоило только человеку, облеченному властью, показать наклонность выслушивать доносы, как услужливых людей всегда оказывалось в количестве, превосходящем запрос начальства.
В застенках многие не выносили пыток и отдавали все нажитое добро следователю. Устойчивее других оказался купец Бичевин. Это был богатый человек, который вел торговлю на Тихом океане и тем нажил большое состояние. Он вообще не был причастен к злоупотреблениям иркутского магистрата по виноторговле, но богатство его было приманкой для Крылова, и потому его тоже арестовали и подвергли пыткам. Поднимали на дыбу, к ногам привязывали тяжелую сырую колоду. Мученика подтягивали по блоку кверху за веревки, привязанные к кистям рук, а потом быстро опускали, не давая бревну удариться о землю. Затем несчастный с вывернутыми суставами в руках и ногах долго висел, получая удары плетью по телу. Бичевин крепился и отказывался признать за собою вину. Оставив его на дыбе, Крылов уехал к другому купцу на обед. Там он пробыл три часа. Когда следователь вернулся, Бичевин почувствовал приближение смерти и согласился заплатить 15 000 рублей. Его отвезли домой. Но и здесь Крылов не оставил его в покое. Он приехал к нему и перед смертью еще вымучил такую же сумму. Подобным зверским вымогательством он экспроприировал у иркутских купцов и мещан около 150 000 рублей. Под предлогом возмещения убытков казне следователь конфисковал многие купеческие имущества. Драгоценные вещи либо сразу присваивал себе, либо продавал с аукциона, при этом сам был и оценщиком, и продавцом, и покупателем. Все ценное и лучшее переходило в сундуки самого следователя за бесценок.
В заседание Крылов являлся всегда пьяный и неистовствовал. Купцов бил по лицу кулаками и тростью, вышибал им зубы, таскал за бороды. Пользуясь своей властью, он посылал своих гренадеров за купеческими дочерями и бесчестил их. Когда же отцы жаловались вице-губернатору, тот только разводил руками и говорил, что Крылов прислан Сенатом и ему не подчинен. Ни возраст, ни недостаток красоты не гарантировали иркутским женщинам защиты от насилий Крылова. Он хватал десятилетних девочек. Даже старухи не были избавлены от его преследований. Однажды взор сластолюбца упал на одну купчиху. Ее схватили гренадеры, привели к Крылову, жестоко избили, заковали в кандалы, но женщина героически переносила побои и отказывалась от его ласк. Наконец Крылов призвал мужа этой женщины, дал ему в руки палку и заставлял бить свою жену – и муж бил, уговаривая ее нарушить брачные узы и отдаться петербургскому посланнику.
Сибирское купечество вело себя в этой истории невероятно трусливо. Никто не решался пожаловаться и разоблачить перед высшим начальством насилия бешеного человека, которому случайно попала в руки власть над краем вследствие корыстолюбия одного государственного чиновника.
Два года Крылов бесчинствовал в крае. Вице-губернатор молчал. Местный архиерей также затаился, чтобы следователь только не вмешивался в церковные дела. Однажды на собрании пьяный Крылов стал щеголять перед вице-губернатором своим могуществом и распекать его за упущения по службе. А потом отобрал у него шпагу и объявил его арестованным, сам же вступил в управление краем.
Только тогда, испугавшись за свою свободу и жизнь, вице-губернатор решился известить свое начальство о событиях в Иркутске. Архиерей написал донос, а смещенный представитель власти с секретным нарочным отправил его в Тобольск. Из Тобольска последовало приказание арестовать Крылова.
Его захватили спящим, надели кандалы и отправили в тюрьму, а затем по распоряжению высшего начальства – в Петербург, где он должен был предстать перед судом.
Императрица Елизавета, узнав об этом деле, приказала со злодеем поступить по закону. Но Сенат вменил ему в вину лишь арест вице-губернатора и оскорбление государственного герба (следователь имел неосторожность прибить к воротам своей квартиры над дощечкой с собственным именем символ империи), и душегуб был только лишен чинов.
Первый Сибирский областной съезд должен был подвести черту под моей карьерой стенографа. Железнодорожные билеты в купе первого класса были уже куплены. Пока только до Иркутска. Полина категорически отказывалась рожать ребенка за границей. Я же согласился отложить эмиграцию только из‑за опасения, что плавание через Тихий океан для женщины на восьмом месяце беременности будет весьма рискованным и опасным для здоровья ее и ребенка. Выбор Иркутска в качестве места временного обитания привлек меня относительной близостью к границе, особенно к морским портам, а не проживанием там тещи, которая сама нуждалась в уходе и мало чем могла нам помочь.
Европейцы увлеченно истребляли себя в братоубийственной бойне, поэтому единственным прибежищем для людей, уставших от войн и революций, могла быть только Северная Америка – Соединенные Штаты или Канада. Австралию в качестве страны для эмиграции я не рассматривал. Все-таки уж больно она далеко. Такое же захолустье, как Сибирь, только вместо морозов – палящий зной. Но и в Америке я думал задержаться только до окончания войны. Меня тянула старая, добрая Европа, с ее средневековыми замками, мягким климатом и теплыми пирожными на завтрак. Прага, злата Прага! Город моей мечты. Моя настоящая родина. Как я хотел вернуться туда, где родился и вырос, и чтобы мои дети росли, воспитывались, учились, женились, рожали мне внуков в этом самом прекрасном городе на земле!
Перед сном я подолгу рассказывал жене о Европе. Как мы устроимся в Праге на набережной Влтавы, будем гулять с детьми по узким сказочным улочкам, а когда они немного подрастут и на старом континенте установится прочный мир, мы начнем ездить по другим странам. Полина больше всего хотела побывать в Италии, куда наше свадебное путешествие сорвалось. Она почему-то боялась, что Венеция может уйти под воду. Об этом ей говорила ее мама. Я успокаивал жену, что если море когда-нибудь и поглотит столицу Венецианской республики, то случится это еще не скоро, и мы еще успеем насладиться красотами площади Святого Марка и покататься на гондолах по Гранд-каналу, а еще съездить в Рим, Флоренцию, Париж, Ниццу, Мадрид, Лондон, Женеву, Вену, Зальцбург…
Но пока передо мной стоял вопрос, на что я буду содержать семью в Иркутске? Сколько мы будем вынуждены прожить там? Три, четыре месяца или полгода? При нынешней дороговизне, когда цены растут с каждым днем, на это никаких сбережений не хватит. По возвращении с Алтая мне каким-то чудом удалось связаться со швейцарским банком, и я получил оттуда перевод. Я планировал, что денег нам хватит на год жизни в Сибири и на билет до Сан-Франциско. Но не прошло и двух месяцев, как от этой суммы осталась только половина. А мы еще никуда не уехали, лишь купили билеты на поезд. Дальше – еще хуже. Мой банк в Швейцарии прекратил все отношения с российскими банками. И чтобы воспользоваться своими деньгами, я должен был обратиться в иностранный банк, который бы имел корреспондентские отношения с моим банком в Базеле. Ближайший находился в Пекине. Но туда надо было еще добраться.
Оставался один выход – выживать самостоятельно, без подпитки извне. Я рассчитывал на областном съезде завязать знакомства с делегатами от Иркутска.
Съезд открылся в час дня в актовом зале технологического института. Помещение было забито до отказа. Одних только делегатов съехалось со всей Сибири и Степного края почти две сотни, а еще томская общественность, представители прессы. Люди стояли даже в проходах между рядами стульев. Президиум сидел на фоне огромного бело-зеленого полотнища, на котором золотом было вышито: «Да здравствует автономная Сибирь!». С приветственной речью к съезду должен был выступить Потанин. Но накануне он простудился и слег.
Программа предусматривала выработку решения по трем важнейшим в ту пору вопросам: разработке конституции автономной Сибири, ее земельном устройстве и современном экономическом положении.
По первому вопросу вместо Григория Николаевича выступил мой старый товарищ Михаил Шаталов. Его выступление мне даже стенографировать не пришлось, ведь этот доклад я написал заранее под диктовку Потанина.
Отец Бонифаций прочел доклад очень вдохновенно и убедительно, делая театральные паузы в нужных местах, а подчас повышая голос до появления в нем металлических нот.
– Признавая единство Российской республики, мы должны потребовать от Временного правительства автономии для ее частей, как национальной, так и территориальной. Законодательно должны быть обеспечены права национальных меньшинств в местностях со смешанным населением и права наций без территории путем образования экстерриториальных союзов. Сибирь имеет все права на автономию, и в пределах полномочий, определенных центральным парламентом, вся полнота власти в регионе должна принадлежать Сибирской областной думе, избранной на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права с соблюдением начал пропорционального представительства.
Ведению Сибирской областной думы должны подлежать:
– местное бюджетное право;
– народное образование;
– общественная безопасность;
– народное здравие;
– местные пути сообщения;
– почта и телеграф;
– право в установлении тарифов и пошлин;
– распоряжение народным достоянием – землею, недрами и водами;
– дело переселения и расселения;
– изменение конституции Сибири;
– местные предприятия;
– социальное законодательство и развитие общереспубликанских законов.
И вообще – все дела местного характера.
Для обеспечения законности в области внутреннего управления предлагается создать независимый административный суд, обособленный от суда уголовного и гражданского, организованный на выборных началах и имеющий кассационную инстанцию.
– И где, в каком городе будут находиться все эти законодательные и властные органы? Что, на всю Сибирь будет лишь один парламент – в Томске? – выкрикнул кто-то из зала, похоже, иркутянин.
Шаталов был готов к ответу. Потанин его проинструктировал и на этот счет.
– Как автономная единица Сибирь имеет право передать часть принадлежащих ей законодательных полномочий отдельным областям и национальностям, занимающим отдельную территорию, если последние этого потребуют, превращаясь таким образом в федерацию, то есть союз областей и национальностей.
– А где будут проходить границы автономной Сибири? – поинтересовался делегат от Степного края.
– По водоразделу на восток от Урала, с включением всего киргизского края, при свободном на то волеизъявлении занимающего эти пределы населения, – добавил докладчик и продолжил географический экскурс: – До Ледовитого океана на севере, до Тихого – на востоке. На юге – по границам Степного края.
Начались прения по докладу. Выяснилось, что среди делегатов по вопросу автономии Сибири нет единства. Конституционные демократы решительно и однозначно высказались за «единую и неделимую». Один томский кадет великодержавно заявил:
– У нас Россия была великая и единая, и национальности, входящие в состав России, они были с нами и с нами умрут.
Казачий полковник из Омска недвусмысленно предупредил националов:
– Но вы должны помнить, что если вам вздумается отложиться от Российского государства, то вам грозит гибель. Только русский народ, наиболее терпимый ко всем национальностям, сможет дать вам возможность развить и проявить все те дары, какие в вас вложены. Я просил бы не забывать, что сибирское казачество достаточно организованно и крепко. Оно может стать основой для построения дружной сибирской семьи, но при сохранении российского государственного единства.
Иркутский областник Золотев[101] на время примирил спорщиков, выразив общее мнение:
– Утопая в богатствах сибирской природы, наше население даже в мирное время нуждалось в каждом гвозде, куске сахара, аршине сукна или ситца. Богатства Сибири почти даром увозились и увозятся за границу, там перерабатываются и продаются в Сибирь в виде фабричных изделий по высоким ценам. А в условиях хозяйственной разрухи, вызванной войной и революцией, экономическая и финансовая независимость жизненно необходима колонии. Иначе мы просто не выживем в это трудное время!
Иван Иннокентьевич Золотев произвел на меня благоприятное впечатление. Высокий и атлетически сложенный, он сразу расположил к себе своей основательностью и деловитостью. Его короткие седые волосы выглядели как парик и сильно контрастировали с пышными черными усами и густыми бровями, из-под которых смотрели умные серые глаза.
В перерыве я подошел к нему. Представился секретарем Григория Николаевича и от его имени пригласил иркутского областника в гости к Потанину. Золотов очень обрадовался, но сказал, что сможет зайти только вечером, ведь он весь день занят на съезде. Я успокоил его: для Потанина это как раз приемные часы, он никогда не ложится спать раньше полуночи.
Проговорив пару часов, два убежденных областника, встретившиеся впервые, ни слова не произнесли о политике. Потанин выспрашивал гостя о текущей работе Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, в котором Золотов исполнял обязанности правителя дел, вспоминал о своей прежней деятельности на этом поприще. Говорили о теперешнем состоянии исследовательского дела в Сибири. Григорий Николаевич рассказал несколько занимательных историй из своих путешествий по Центральной Азии, не упустил возможности привести свой излюбленный филологический экскурс относительно происхождения легенды о Христе. А на прощание как бы случайно обмолвился:
– Иркутску снова повезло. Такие замечательные люди уезжают от нас в ваши края! Вот Пётр Афанасьевич с супругой на днях покидают Томск и собираются поселиться в вашем городе. Вы уж там им помогите…
– В Сибирском заводском совещании, где я сейчас служу, вакансии пока нет. Да и жалованье там небольшое, – как бы оправдываясь, произнес Золотов, но тут же оптимистично добавил: – Но у меня есть платное поручение от Национальной думы бурятов и монголов Восточной Сибири – составить обстоятельное описание хозяйственного быта и землепользования этих народов для Всероссийского учредительного собрания. В этом деле мне помощник, владеющий стенографией, оказался бы кстати.
Старик обрадовался.
– Вот и славно, что так быстро все устроилось, – он довольно потер руки. – Пётр Афанасьевич еще в финансах неплохо разбирается. Он в Оксфорде учился. И европейские языки знает.
Потанин с трудом приподнялся с кресла и обнял меня на прощание.
Петроградский октябрьский переворот мы вначале всерьез не приняли. Ведь он произошел накануне выборов во Всероссийское собрание, и для нас не было никакой разницы в том, какая власть передаст ему бразды правления измученной страной: изрядно всем надоевшее правительство Керенского или ленинские Советы рабочих и солдатских депутатов.
Обустройство на новом месте нас с женой занимало куда больше, чем политика. Каморка Полининой матушки для нас была мала, пришлось искать новую квартиру. А временно мы поселились в гостинице «Модерн». Получить здесь номер оказалось непросто, потому что многие иркутяне, опасаясь ночных разбоев и грабежей, предпочитали проживать в гостинице. Близость двух каторг – Иркутской и Забайкальской – после освобождения оттуда их обитателей превратила город в настоящий рассадник преступности.
Здесь нас и нашел Иван Иннокентьевич. Он был одет уже по-зимнему, в драповое пальто и меховую шапку.
С Байкала дул холодный ветер. От чая Золотов отказался, сославшись на большую занятость.
– Молодцы, что поселились в «Модерне», – похвалил он нас. – Это самое безопасное место в городе. Центральная улица, люди кругом. Мы с женой одно время тоже здесь жили. Еще недавно грабежи случались каждую ночь. А пока до новой милиции дозвонишься, бандиты из дома все вынесут. Грабители до такой степени обнаглели, что за ночь пытались вломиться несколько раз. Пришлось отвезти часть имущества на склад, часть раздать знакомым на сохранение, а самим переехать сюда. И, знаете, освободившись от лишних вещей, я стал чувствовать себя спокойней. Добро нажить еще можно, а жизнь – одна. Сейчас я снимаю комнаты в одном доме недалеко от военного училища. Там сравнительно безопасно. Юнкера рядом. Могу переговорить с хозяйкой относительно вас. Она сама живет во флигеле. А весь дом сдает внаем. Кажется, на втором этаже у нее есть еще свободные комнаты. Там не так роскошно, как здесь, в «Модерне», но зато гораздо дешевле.
Предложение Ивана Иннокентьевича было принято безоговорочно, и вскоре мы стали с ним соседями. Его супруга Александра Николаевна оказалась милейшей и образованной женщиной. Она получила образование в Санкт-Петербурге, в психоневрологическом институте, но посвятила себя литературе. Работала корреспондентом в газете, корректором, писала стихи, знала китайский язык. Своих детей у Золотовых не было, и Александра Николаевна с особой заботой, как старшая сестра, стала ухаживать за моей беременной женой.
Матушка Полины поселилась в соседней комнате. Она сильно болела и редко вставала с кровати. Жена ухаживала за ней и подолгу рассказывала о Томске, о тете Анне, о дяде Саше, о двоюродных братьях и сестрах, их семьях, ценах на томских рынках, университете и о многом-многом другом.
Старушка оживилась, она с нетерпением ожидала рождения внука.
– Можно ли противостоять этой демагогии?! – сокрушался Иван Иннокентьевич. – Фабрики – рабочим! Земля – крестьянам! Мир – хижинам, война – дворцам! Скажите, Пётр Афанасьевич, какой мужик устоит перед такими соблазнами? Землю выкупать не надо, убей барина или старосту и бери ее, сколько хочешь. Не важно, что потом придут комиссары, и все у него отберут. Но это будет потом, сейчас важно, чтобы этот мужик расправился с прежними собственниками. Так сказать, промежуточный вариант! То же самое и на заводах. Не важно, что без инженеров и технологов все производство встанет, главное – его сейчас захватить чужими руками, а потом разберемся. С войной – вообще казуистика несусветная! Приказывать солдатам оставить фронт и отправляться домой, чтобы грабить и убивать своих же более успешных и образованных сограждан? Да противнику только того и надо!
Я благоразумно промолчал. Золотову собеседник не нужен был сейчас, ему хватало одного слушателя.
– Мировая революция? Интернациональный долг? Бред какой-то! – не понимал этот здравомыслящий человек. – Видите ли, немецкие солдаты – тоже рабочие, у них свои буржуи, которых надо поставить к стенке. И они тоже повернут свои штыки против своих угнетателей. Но зачем им это делать, если уже подарено пол-России? Немец по своей природе в первую очередь бюргер[102], а потом только солдат, и когда он видит бесхозные черноземы, то мечтает вовсе не об экспроприации заводов Kpyппa[103], а чтобы устроить на этих черноземах свою латифундию[104] и помыкать этим глупым славянским стадом. Россия сошла с ума!
Я молчал и все прочнее укреплялся в намерении как можно скорее покинуть эту обезумевшую страну. Статистические справочники по бурято-монгольскому скотоводству, за которые нам в Бурятской думе обещали щедро заплатить, меня заботили в первую очередь, а большевики со своими невыполнимыми лозунгами были далеко. Мои сбережения подходили к концу, денег не было даже на билеты до Сан-Франциско.
– Я давеча ходил на публичную лекцию одного большевика, в прошлом члена ЦК партии социал-демократов. И все ожидал его объяснений, как большевики намереваются привести Россию к социалистической пристани, минуя стадию «вываривания в фабричном котле». Но, к моему удивлению, лектор даже заострил внимание на этом вопросе. И, знаете, как он мотивировал изменение курса своей партии? Дескать, Россия уже пережила буржуазно-капиталистическую ступень развития во время правления Керенского. Услышав такую чушь, я чуть не упал со стула от возмущения. Высшее мастерство демагогии, обмана и лжи! Чтобы за полгода проскочить целый этап социально-экономического развития, да еще в условиях войны и разрухи, – несусветная глупость, но для невзыскательной публики сойдет. Эх, думал ли когда-нибудь Карл Маркс, что мировая социалистическая революция может начаться с России, Китая или Монголии, а не с Великобритании, Германии или Соединенных Штатов?!
Я лишился возможности работать дома. В одной комнате лежала больная теща, в другой уже третий день не вставала с постели жена. Приглашали доктора, он сказал, что можно ускорить роды, но лучше все же обождать пару-тройку дней, чтобы все произошло естественным путем. И хотя Полина старалась лежать тихо, но все равно постоянно отвлекала меня какими-нибудь вопросами или просьбами. В результате статистика по бурятскому скотоводству никак не поддавалась приведению в систему. А Иван Иннокентьевич должен был до нового года отвезти выполненный заказ в Читу и получить гонорар.
Видя, что работа стопорится, Золотов предложил мне днем, пока он заседает в заводском совещании, работать в его домашнем кабинете.
Утром я спускался на первый этаж и получал от Ивана Иннокентьевича перед уходом на службу наставления на предстоящий день, Александра Николаевна же поднималась наверх ухаживать за моей женой и ее матерью.
Однажды днем хозяин пришел на обед на редкость возбужденный.
– В городе готовится нечто ужасное. Большевики собрались разоружать юнкеров, ссылаясь на постановление своего ревкома. А офицеры военного училища отказываются ему подчиниться и признают только власть Комитета защиты родины и революции. Отряды юнкеров приведены в боевую готовность. По дороге мне попался навстречу такой отряд. Мальчишки подготовились основательно. Обуты в валенки, поверх шинелей надеты овчинные полушубки, за плечами винтовки, а на поясе болтаются ручные гранаты. Но вся пехота и артиллерия на стороне большевиков.
Наскоро пообедав, Иван Иннокентьевич наказал нам сидеть дома и не высовываться без крайней нужды, а сам отправился на разведку: разузнать, будет ли сражение или переговоры приведут к миру.
Но стоило ему только уйти, как на улице началась перестрелка. Рядом засвистели пули, и сверху послышался звон разбитого стекла. Я извинился перед Александрой Николаевной, что оставляю ее в опасную минуту одну, и поспешил к жене наверх.
Полина в накинутом поверх ночной рубашки халате, не сходившемся на ее огромном, выпирающем животе, стояла возле разбитого окна, проводя пальцами по линии раскола.
– Прочь от окна! – закричал я страшным голосом.
Она недоуменно посмотрела на меня, ведь я никогда прежде на нее не повышал голоса.
– Ты на меня кричишь? – произнесла она, не веря своим ушам.
Но, сдержав рыдания, отошла вглубь комнаты.
– Петя, нам кто-то разбил камнем окно. И как он умудрился докинуть камень до второго этажа? Это какую силу…
Ее слова потонули в страшном грохоте. Дом содрогнулся. Полина не удержалась на ногах и упала на пол. Я бросился к ней.
– Что с тобой, дорогая? Ты цела? Не ушиблась?
– Нет. А что это было? Землетрясение? Ой, кажется, у меня начались схватки… Боже, я рожаю…
Я подхватил ее на руки и отнес на кровать. Схватил подушку и заткнул ею пробоину в стекле. Снова грохнуло. Но на этот раз снаряд пролетел над домом. Из нашего окна было хорошо видно, как во дворе военного училища вздымаются к небу столбы из комьев снега и замерзшей земли. Снаряды рвались и с другой стороны, возле Русско-Азиатского банка. Даже не специалист в военном деле понял бы, что наш дом оказался меж двух огней. Худшего места для убежища вряд ли можно было найти в воюющем городе.
– Девочка моя родная, пожалуйста, потерпи немного, – уговаривал я жену, словно в ее силах было отложить роды. – Нам нельзя здесь оставаться. Это не землетрясение, дорогая, это война. Гражданская война. Только вот куда нам податься?
– Я знаю, куда! – выкрикнула влетевшая в комнату Золотова. – В военное училище! Там юнкера, они не дадут нас в обиду!
– Вы так полагаете?
Я подвел Александру Николаевну к окну и показал на разрывы снарядов во дворе ее убежища.
– Там еще опаснее. А другого места для укрытия нет?
Золотова задумалась.
– А что так холодом тянет? – она показала на дверь в комнату Полининой мамы.
К своему стыду, в беспокойстве за жену я совершенно забыл о теще и с начала обстрела даже не поинтересовался, как она там. Молчание из смежной комнаты я воспринимал как знак того, что у нее все в порядке. Но я ошибся.
Хорошо, что Полина не увидела этой картины. Даже мне, мужчине, видавшему ужасы первой русской революции, нелегко было сдержать эмоции.
Артиллерийский снаряд пробил стену у самого угла дома, прямо над изголовьем Полининой мамы. Через пробоину виднелась улица и пробегавшие по ней юнкера с винтовками, а ветер задувал снежинки в комнату. Следы от осколков виднелись повсюду. Расщеплен комод, разбито старое зеркало в бронзовой раме. От иконы Богородицы, висевшей в красном углу, осталась только верхняя планка, а обломки вперемешку со стеклами валялись на полу. Сама обитательница помещения лежала на своей кровати с раскрытыми неподвижными глазами, устремленными в потолок, и если бы не пыль от штукатурки, осевшая на ее лице и придававшая ей вид египетской мумии, то можно было подумать, что бабушка просто прилегла отдохнуть и думает о чем-то своем. Всего одна маленькая рана на виске и еще не засохшая струйка крови на подушке. Она была мертва.
Александра Николаевна замерла в дверях, из последних сил подавляя крик. Я приложил палец к губам и медленно покачал головой.
– Все нормально. Матушка заснула. Не будем ей мешать. Я вот только поправлю подушечку, чтобы ей было удобно, и мы ее больше не побеспокоим, – приговаривал я чужим голосом, извлекая окровавленную подушку из-под головы убитой, чтобы заткнуть ею пробоину в стене.
Вернувшись в нашу комнату и закрыв дверь, я попросил Золотову вызвать доктора по телефону.
У нее задергалось левое веко. Она не понимала, о чем я говорю.
«Зачем врач, если человек уже умер?» – вопрошали ее глаза.
– У Полины начинаются роды. Срочно звоните доктору! – я перешел на крик.
Снова прогремел залп, и дом содрогнулся.
– А телефон-то не работает. Как началась канонада, я пыталась дозвониться до Ивана Иннокентьевича, но аппарат молчал. Похоже, провод где-то перебило.
– А доктор далеко живет?
– Два квартала отсюда. Но на улице – настоящий бой.
Я подобрался к окну и выглянул наружу. Недалеко от нашего дома юнкера соорудили баррикаду и отстреливались из винтовок и пулемета от наступающих большевиков.
– Даже если вы доберетесь до врача, он сюда не пойдет, – сказала Золотова.
– Что же делать? – ломал я пальцы на руках.
Полина застонала и позвала Александру Николаевну.
Та подошла к ней, и они пошептались меж собой.
– У нее уже отошли воды. У нас с вами нет другого выхода, как самим принимать роды. Я пошла за чистыми простынями и принесу теплой воды. А вы, пожалуйста, расчистите в чулане топчан и принесите туда керосиновую лампу и свечей. Здесь оставаться опасно, – дала мне указания Золотова.
Напрасно мы причисляем женщин к слабому полу и считаем их психическое устройство более тонким и уязвимым, чем свое. В чрезвычайных ситуациях они осваиваются быстрее мужчин. Видимо, инстинкт самосохранения у них развит сильнее нашего, ведь им исторически приходилось заботиться и о спасении потомства. Это мужчинам свойственна безрассудная храбрость, ведь они никем, кроме самих себя, не рискуют. А женщины живучи как кошки. И если вы попали в беду, слушайтесь женщин, больше шансов будет выжить.
– Но вы же не врач, – промямлил я.
– Я училась на психиатра и прослушала общий курс медицины.
– Но я не акушерка.
– Научитесь. Это же ваш сын просится на свет в такое неподходящее время. И торопитесь. Сумерки сгущаются, а электричества в доме нет. Впотьмах роды принимать еще сложнее.
Я исправно выполнил все указания Александры Николаевны, собрал со всего дома свечи и устроил в чулане освещение не хуже электрического.
Когда Золотова вошла туда, то даже зажмурилась с непривычки и чуть не пролила таз с теплой водой на роженицу. Полина уже лежала на топчане в одной ночной сорочке. Кусала до крови губы и по всему виду терпеть более не могла.
– Пётр Афанасьевич, вы бы отошли ко мне за спину, а то свет закрываете, – велела соседка, а после ласково сказала моей жене:
– Ну что, милая, давай тужься.
Канонада не прекращалась ни на минуту. Рядом строчил пулемет, раздавались винтовочные выстрелы. Дом то и дело содрогался от взрывов. Солдаты и юнкера убивали друг друга и умирали за революцию, которую каждый понимал по-своему. Гибли от шальных пуль случайные прохожие. А здесь, в чулане, при сотне горящих свечей рождался мой сын.
– Головка уже вышла. Ну еще немного, еще потужься, пожалуйста! Ну вот и молодец, вот и умница. Ты посмотри, какой богатырь! Пётр Афанасьевич, ножницы накали над свечой. А теперь иди сюда. Видишь, это пуповина. Быстро перережь ее. И не падай, пожалуйста, в обморок.
Золотова еще поколдовала над красным сморщенным младенцем, потом легонько шлепнула его под зад.
– Уа! Уа! Уа! – неожиданно громко закричал окровавленный комочек.
Она быстро завернула его в полотенце и протянула мне:
– На, папаша, держи своего голосистого наследника! А мы с Полиной по-женски еще посекретничаем.
Она распахнула дверь и выставила меня с младенцем в коридор. Он орал благим матом, а я не знал, что с ним делать. Над крышей пролетали снаряды, и я все крепче прижимал к себе новорожденного, закрывая его от смерти.
Из чулана выглянула Золотова и потребовала вернуть ребенка матери. Ей тут же передали младенца. Она скрылась с ним, а затем снова высунулась и поманила меня пальцем.
Я робко зашел в чулан. Свечи уже догорали. Но в приглушенном свете еще ярче, еще счастливей казался блеск измученных глаз моей возлюбленной. Они буквально лучились счастьем.
– Он такой красивый! Он очень похож на тебя. Я хочу назвать его твоим именем. Ты не будешь возражать, дорогой? – тихо произнесла она. – Петя, пожалуйста, позови маму. Пусть полюбуется внуком.
Мы с Александрой Николаевной утратили дар речи. Полина сама догадалась по нашим каменным лицам, что произошло.
– Мамы больше нет? – спросила она и, не дождавшись ответа, потеряла сознание.
Ночью, уложив тело тещи на салазки, я вывез его на городское кладбище. Мне пришлось пересечь границу между юнкерскими и большевистскими укреплениями. Меня останавливали патрули и тех, и других, но, убедившись, что я везу покойницу, отпускали с миром.
Церковный сторож спал в сторожке мертвецки пьяный. Мне кое-как удалось растолкать его и объяснить цель своего визита.
– Брось свою старуху на подводу. Там ревкомовцы целую кучу мертвяков привезли. И ступай себе с миром. Завтра ее закопаем со всеми, – пробубнил он спросонья.
– Нет. Вы меня не поняли. Я хочу, чтобы мою родственницу похоронили в отдельной могиле и отпели по христианскому обычаю…
Сторож проснулся, достал из-под стола бутыль самогона и налил себе полстакана.
– Сто рублей, – сказал он и выпил мутную жидкость.
– Как сто рублей? За что сто рублей? Это же месячная зарплата квалифицированного рабочего!
– Ну и что? – вопросил сторож. – Не нравится, иди сам долби мерзлоту под пулями. Может, в одну могилу и ляжешь со своей бабкой. Сапоги на базаре уже сто рублей стоят. А мне еще батюшке за отпевание надо заплатить.
Логика в словах пьяного вымогателя присутствовала. Время меня поджимало. Не хотелось встречать рассвет на большевистской территории. И хотя наш и без того скудный бюджет не предусматривал такой траты, я все-таки вынул из кармана измятую сторублевку и протянул ее сторожу.
– Только смотрите, чтобы все культурно было. Крест, могилка…
– Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Устроим все по высшему разряду. Даже табличку, если хотите, латунную прикрепим. Только напишите фамилию, имя и отчество, дату рождения и смерти. И добавьте еще десяточку граверу за работу…
Больше я не торговался. Но и сторож не обманул, сделал все, как и обещал. После Рождества мы с Полиной выбрались на кладбище, и его сменщик сразу отыскал в журнале нужное нам захоронение и объяснил, как его найти. Матушку моей жены похоронили под тонкой кудрявой березкой и крест установили добротный, с латунной табличкой.
Возвращаться по улицам я не рискнул, там снова возобновилась перестрелка, а пошел огородами и кое-как добрался домой с рассветом, весь промокший до нитки.
Бои в городе продолжались уже вторую неделю. А от Ивана Иннокентьевича не было никаких вестей. Александра Николаевна не находила себе места.
– Где он? Что с ним? Может быть, его ранили, и он лежит в больнице? Или большевики его арестовали и посадили в тюрьму? – гадала она, нервно вышагивая по комнате из угла в угол.
У Полины не только пропало молоко, но и развилась лихорадка. Она металась в бреду. Хорошо, что у квартирной хозяйки оказались запасы сухого молока. Я разводил его кипяченой водой, наливал в бутылочку и через соску кормил Петрушу. Вначале он ел эту смесь охотно, но потом у него разболелся животик, начался понос. Он все время плакал и отказывался от еды.
Большевики много раз штурмовали военное училище и Русско-Азиатский банк, где засели юнкера, но всякий раз отступали, оставляя на подступах немало убитых. Однако и юнкера несли потери. Большевистские лазутчики пробирались в квартиры, покинутые хозяевами, и оттуда вели прицельную стрельбу по противникам.
Однажды вечером в наши ворота забарабанили.
– Открывайте! Не то бросим бомбу! – прокричали с улицы.
Я накинул на плечи пальто и пошел отворять. Страх со временем притупился. Я уже почти свыкся с возможной смертью. Единственным моим желанием было спасти жену и сына.
На наше счастье, это оказались не солдаты, а юнкера. Их было трое. Восемнадцатилетние мальчишки были хорошо вооружены: винтовками, револьверами, гранатами.
– Мы должны обыскать ваш двор. В этом квартале где-то прячутся большевистские партизаны, – сказал один из них с усталым и обветренным лицом.
– Пожалуйста, – безразлично сказал я и распахнул калитку.
Они обыскали поленницу, сарай, заглянули во флигель.
– В доме кроме вас есть кто-нибудь?
– Только здешние жители.
– Мы должны всех проверить.
Громыхая сапогами и прикладами, юнкера обследовали первый этаж, чем чуть не довели до обморока квартирную хозяйку, и поднялись по лестнице. Я зашел следом и встал перед входом в чулан. Соседский сынишка смотрел с пола на вооруженных дядей испуганными глазами и старался прикрыть собой маленького серого котенка, успокаивающе поглаживая его. Юнкера осмотрели комнаты и, не найдя подозрительных лиц, уже собрались уходить, но вдруг один из них с маленьким пушком вместо усов спросил:
– А там что?
– Чулан.
– Отойдите.
– Там моя больная жена и новорожденный сын. Вы можете их напугать.
Мальчишка в шинели взвел курок револьвера.
– Послушайте, уважаемый, – сквозь зубы произнес он. – Мы тут не в бирюльки играем. Наши товарищи гибнут от пуль этих бандитов. Отойдите в сторону. Мы только посмотрим и уйдем.
Я понял, что дальнейшее мое сопротивление может привести к трагедии, и отошел в сторону, умоляя их только не шуметь.
Юнкер тихо отворил дверь и, убедившись, что я не соврал, тут же закрыл ее.
– Это ваша жена?
– Да. Она родила в тот день, когда начались бои.
– Ей срочно нужен доктор.
– Я знаю, но где его найти?
– В нашем училище есть врач. Он перевязывает раненых. Пойдемте с нами. Мы лишь досмотрим квартал и вернемся в училище.
Я быстро оделся и пошел вместе с ними.
Нам предстояло осмотреть два дома в конце квартала. Оба стояли с темными окнами и потушенными печами, не подавая никаких признаков жизни.
Узнав, что в Томске я работал у Потанина, юнкера сразу прониклись ко мне доверием, и один из них даже выделил мне свой револьвер.
– Вы обращаться с оружием умеете? – с недоверием спросил он.
– Доводилось, – вздохнул я и с видом знатока проверил наличие патронов в барабане.
Револьвер был заряжен полностью.
– Давайте разделимся, а то ноги совсем замерзли. Мы с добровольцем осмотрим один дом, а вы – другой, – предложил вооруживший меня юнкер.
Товарищи его поддержали.
Нам достался богатый дом директора страхового общества. Чувствовалось, что хозяева бежали отсюда в большой спешке. Прямо из‑за стола. На нем стояли дорогие фарфоровые тарелки с замерзшим супом. Из вещей они тоже почти ничего не взяли. На вешалке висели богатые шубы, а на столике стоял патефон последней модели, стоивший баснословно дорого.
– Здесь пусто. Пойдемте отсюда, – приказал мне юнкер.
Но только мы вышли на крыльцо, как из соседнего дома раздались выстрелы, а черные безжизненные окна вдруг осветились короткими вспышками.
– Они там! – крикнул юнкер и, передергивая на ходу затвор винтовки, ринулся навстречу опасности.
В дверях он столкнулся с вылетевшим из дома человеком с большим мешком. Юнкер размахнулся и ударил мародера прикладом по лицу. Тот упал наземь и выронил туго набитый мешок.
Из темноты дверного проема появился еще один человек с поднятыми вверх руками. Следом шел юнкер с винтовкой.
– Они в Юрия стреляли. Посмотрите, что с ним. Он наверху.
Я зашел в темные сени и споткнулся о груду сваленных у выхода вещей. Здесь было все, что имело хотя бы малейшую ценность: одежда, сапоги, картинные рамы, стулья, даже кастрюли и чайники. Я поднялся по лестнице на второй этаж и сразу же увидел тело юнкера, распластанное посереди разграбленной комнаты. На груди его чернело кровавое пятно. Я нагнулся к нему. Он не дышал.
Я взвалил убитого на себя и вынес во двор.
– Ваш товарищ мертв, – сказал я, опустив труп на снег.
Оба мародера стояли возле поленницы под прицелом юнкеров, ожидая своей участи.
– Братья! Не убивайте! Христом Богом заклинаю, пощадите. У меня семья. Трое малых ребят. Не губите. Мы же с вами одной веры. Православные… – один из мародеров упал на колени и стал ползать по снегу.
Зато второй стоял с волевым, каменным лицом, брезгливо отвернув взгляд от своего трусливого подельника:
– Что ж ты, Петруха, перед буржуями шапку гнешь? Негоже пролетарию слюни так распускать. Пущай, пока их взяла. Но им тоже недолго небо коптить осталось. Всех скоро в Ангару спустим!
– Именем родины и революции за разбой и убийство мы приговариваем вас к расстрелу, – произнес юнкер с обветренным лицом.
Тотчас грянули два выстрела. Тела рабочих остались лежать у поленницы. А убитого Юрия мы по очереди несли до училища.
Врач осмотрел Полину, выписал лекарства и даже помог найти кормилицу для новорожденного. У одной солдатки уже во время боев родился мертвый ребенок, а молоко у нее осталось. Так у нас еще поселилась Лукерья, крестьянка из Верхоленского уезда. Она недавно овдовела, ее мужа убили под Петроградом во время выступления генерала Корнилова[105]. В комнате покойной матушки мы устроили детскую, где ночевала и кормилица.
Иван Иннокентьевич объявился только на девятый день, когда большевики и юнкера заключили перемирие. Он застрял на большевистской половине города в гостях у своего однокашника по гимназии. Вырваться оттуда у него не было никакой возможности, под окнами шел бой. Ему сообщили, что все дома по нашему переулку снесены огнем большевистской артиллерии, и судьба жителей неизвестна. Он молил Бога, чтобы мы успели куда-нибудь эвакуироваться. И его радость не имела границ, когда он увидел почти целым наш дом, а свою жену здоровой и невредимой. Александра Николаевна тоже светилась от счастья, встретив мужа.
Иван Иннокентьевич высказал соболезнования Полине по поводу гибели ее матушки, а затем поздравил с наследником. Молоко кормилицы пошло Петеньке на пользу, он поправился. Полина тоже стала чувствовать себя гораздо лучше. Установившееся в городе перемирие и возвращение Золотова вернули в наш дом покой.
Провожая доктора, возле пепелища сгоревшего дома я встретил большого сенбернара. При каждом взрыве собака забивалась в развалины, но никуда от них не уходила. Но ко мне пес почему-то проникся доверием и увязался за мной. Мы назвали его Барри. Прежнюю кличку его так и не узнали. Во дворе для него сколотили будку, и он стал отпугивать своим громовым лаем всех злоумышленников.
Имея многократный перевес, большевистские части не смогли одолеть юнкеров. После многодневных боев стороны подсчитали потери и пришли к выводу, что лучше все же договариваться. Большевики потеряли убитыми более 400 человек, юнкера – около 50, еще приблизительно столько же погибло мирных жителей.
Большевики уступили и согласились на передачу власти губернскому комитету, построенному на коалиционных началах. Юнкера обязались сложить оружие.
Наивные мальчишки поверили в нерушимость условий переговоров. Они сдали оружие, но никакого губернского комитета не получили. Для большевиков мирный договор не имел ни малейшего значения. Зачем его вообще выполнять, если больше нет вооруженного противника? Участь юнкеров была незавидной.
Глава 4. День независимости
Сергея разбудил звонок мобильного телефона. Спросонья он нажал не ту кнопку, и трубка притихла на минуту, но затем вновь зазвонила с новой силой. Он посмотрел на часы. Они показывали половину восьмого утра.
– И кому охота будить в такую рань? – выругался он.
Но, очухавшись, понял, что в Томске-то уже вечер. Это его проблемы, что он до сих пор не смог адаптироваться к местному времени. Заснул рано, а после полуночи проснулся и всю ночь читал рукопись, только под утро забывшись сном.
– Коршунов! Ты куда исчез? Ты вообще думаешь помогать семье? Мы тут, понимаешь, живем впроголодь, а он по Европам и Америкам гастролирует. Хорошо устроился. Сегодня же вышли мне денег. Пять тысяч долларов. И не меньше. Иначе можешь считать, что у тебя нет семьи…
Людмила еще что-то говорила относительно отцовского и супружеского долга, но эту сентенцию он пропустил мимо ушей, закуривая сигарету.
– Я же оставил тебе денег перед отъездом, трех дней еще не прошло…
Его невинная реплика вызвала настоящий визг:
– А ты сам пробовал прожить на тысячу евро? Разве не знаешь, как дорого всё в Томске? Я почти половину этих денег потратила на коммунальные платежи, заплатила за гимназию.
– А остальные – на что?
Он явственно представил, как она бегает по комнате с трубкой.
– Да, однажды я съездила в дамский клуб. Сделала массаж и прическу. А что, не имею права заняться собой? У меня пока есть муж, который обязан заботиться обо мне!
Она притихла, а потом неожиданно ласково промурлыкала в трубку:
– Ну, Серж, лапонька, не упрямься, пожалуйста, и вышли нам денежек. Мы же все-таки тебя любим.
Он не мог устоять, когда она так подлизывалась. Но сейчас у него с деньгами было совсем туго. Жаклин еще до конца не объяснила цель его прилета в Канаду. Какие-то туманные намеки, недоговоренности. Хорошо, что за квартиру платить не надо, иначе – вообще бы труба. У него оставалась заначка в тысячу долларов, но не было обратного билета, а взаймы у новых родственников просить не хотелось.
– Люд, у меня правда нет денег.
– Так возьми у родичей. Они же у тебя богатенькие. Они тебя вызвали, пусть компенсируют расходы. И что, тебе разве больше ничего не обломится от прадедова наследства?
– Не знаю. Мы об этом еще не говорили.
– А что ты вообще там делаешь?
– Читаю рукописи Петра Коршунова.
– И всё? – удивилась она и выпалила в сердцах: – Короче, читатель, либо ты сегодня же высылаешь мне по «Вестерн Юнион»[106] пять штук баксов, либо я считаю себя свободной от супружеских обязательств и начинаю заново устраивать свою личную жизнь. И моему терпению приходит конец. Я больше не могу жить с мямлей. Если ты не заставишь свою канадскую родню раскошелиться и отдать тебе все наследство, то живи лучше в нищете один. Я к прежней жизни не хочу возвращаться. И вообще, оставайся тогда в Канаде!
– Я подумаю, – ответил он, стараясь сохранить хладнокровие, и только спросил: – А как же Кирюха?
– За него не переживай. У него будет новый папа, который сумеет о нем позаботиться.
Поскольку он промолчал, она снова спросила:
– Так вышлешь мне денег?
– Нет.
– Что ж, тогда прощай, муженек!
Она отключилась. А Сергей еще долго сидел на диване, размышляя о том, какая все-таки странная штука жизнь.
И в бедности они жили не так чтобы душа в душу. Иногда ссорились, случалось, что и по-крупному. Людмила забирала сына и переезжала к своей матери. Он попивал. Мог не прийти ночевать домой. И тогда жена закатывала ему истерики. Она пилила его из‑за нехватки денег, но знала, что взять их ему негде. Сколько мог, он зарабатывал и почти все приносил в семью. Перебивались от зарплаты до зарплаты, занимали у друзей и знакомых. И могли бы еще долго так жить, если бы не золотой дождь в виде прадедова наследства.
Достаток сильно изменил Людмилу. Она стала больше заниматься собой, одеваться в модных магазинах, посещать дорогие косметические салоны, ужинать в ресторанах и тусоваться в ночных клубах. Сергею же светская жизнь не нравилась. Вкуснее домашнего борща и котлет с картофельным пюре для него на свете ничего не было. Изыски японской, мексиканской или китайской кухни он вообще не понимал. Кривляния под кислотную музыку при тусклом свете неоновых огней – тоже. Ему бы забиться дома в кресло да почитать какую-нибудь умную книжку. А тащиться куда-то в ночь-полночь, не спать, заводить нужные знакомства, ухаживать за расфуфыренными дамами – увольте. Людмила же всю жизнь мечтала именно о такой жизни.
– Я наконец-то полюбила себя, – однажды жена ответила на его вопрос, куда она так поздно наряжается.
Новую квартиру выбирала она и оформила ее на себя. Конечно, при разводе он мог бы по закону требовать половину совместно нажитого имущества, но ведь там остается его ребенок. И поэтому никакого раздела не будет. Людмила об этом знала.
Он поскреб растрепанную после сна шевелюру, пошлепал в ванную комнату, глянул на себя в зеркало и ужаснулся. Помятость была изрядной. Он уже включил душ, но потом передумал и завернул краны. Надел купальные шорты, обулся в сланцы и, накинув на плечи махровое полотенце, отправился в бассейн.
Сообщение о разводе не лишило его душевного равновесия и не увлекло в запой, как рассчитывала жена, а наоборот – дало импульс к новой, здоровой жизни.
Несмотря на ранний час, бассейн уже открылся. Прозрачная вода с подсветкой манила его прохладой и чистотой. Он был первым посетителем. Веснушчатая девушка в очках, читавшая за столиком у входа толстую книгу, приветливо ему улыбнулась. Он тоже ответил ей улыбкой. Бросил полотенце на лежак невдалеке от ее стойки. Приглядевшись, он рассмотрел название и автора книги. Это был Марсель Пруст «В сторону Свана»[107] на французском языке. Коршунов с уважением посмотрел на дежурную. Она поправила очки и, напустив на себя еще более умный вид, уткнулась в книгу.
Сергей навязываться не стал, сделал легкую гимнастику на краю бассейна и уже изготовился прыгнуть в воду. Но девушка что-то крикнула. Он недоуменно посмотрел на нее. Она мотала головой из стороны в сторону и скрещивала руки. Он потрогал воду. Она была теплой.
«Наверное, она приняла мои купальные трусы за шорты?» – решил Сергей и стянул их с себя, оставшись в чем мать родила. Девушка от смущения закрыла глаза ладошкой, и он прыгнул в воду. А вынырнув, увидел, как она нервно бегает по кромке бассейна и отчаянно хватается за голову.
И только тут до него дошло, что она имела в виду купальную шапочку, о которой он совершенно забыл.
Он подплыл к ней и посмотрел на нее виноватыми глазами. Любительница Пруста уже была готова сжалиться над ним и разрешить ему в порядке исключения плавать без шапочки, не соверши он роковую ошибку.
Он стал извиняться перед ней на английском языке. Ее лицо тут же окаменело, и она казенным тоном, не терпящим возражений, приказала ему немедленно покинуть бассейн. Несмотря на весьма приблизительное знакомство с французским языком, слово «полиция» Сергей понял прекрасно.
Он не стал дожидаться, пока она дозвонится до полицейского участка, а быстро выбрался из воды, натянул трусы и, не вытираясь, направился к лифту, оставляя за собой мокрые следы.
Февраль оказался короче обычного ровно наполовину. После 31 января наступило не первое, а сразу 14‑е число. Декретом Совнаркома большевики со старого юлианского календаря[108] перевели страну на григорианский, по которому уже давно жили все европейцы. Это было единственное дельное нововведение красных комиссаров, в остальном их политика была бестолковой, непоследовательной и невероятно жестокой.
– Хорошо, что наш Петенька успел родиться в прошлом году, – радовалась жена. – А то мог бы угодить в эту временную дыру и тогда бы не знал точной даты своего рождения. Ведь когда он вырастет, все перетряски забудутся, и никто не вспомнит, как нас лишили целой половины февраля.
Но меня календарные преобразования интересовали мало, больше заботил заработок хлеба насущного. Моей доли в гонораре, полученном Золотовым от Бурятской думы, хватило лишь, чтобы рассчитаться с квартирной хозяйкой. Томские сбережения окончательно иссякли из‑за дикой дороговизны продовольствия, и я уже не гнушался любой возможностью заработать. Даже ходил на товарную станцию разгружать вагоны. С неохотой грузчики приняли меня в бригаду, и потом мы весь день разгружали уголь, даже без перерыва на обед. Но когда вечером пришла пора расчета, мои дневные товарищи мне ничего не заплатили, да еще поколотили для острастки.
– Хоть не убили, – успокаивала меня Александра Николаевна, обрабатывая йодом ссадины. – Это ж форменные бандиты. Грузчикам человека порешить – раз плюнуть. Если уж имели несчастье стать интеллигентом в мужицкой стране, то несите свой крест с достоинством.
Большевики формировали специальный батальон из пленных австрийцев и мадьяр и искали человека, способного обучить волонтеров хоть немного говорить по-русски. Денег они не платили, зато выдавали хороший паек.
Я знал, что иностранцы нужны комиссарам для борьбы с собственным народом, но все равно взялся за эту работу. Иногда в казарму я приходил раньше и вынужден был слушать бредни агитаторов о мировой пролетарской революции, о классовой борьбе, о необходимости уничтожения буржуазии.
Из других сибирских городов вестей доходило мало. Большевистские газеты воспевали триумфальное шествие советской власти. Одно время их пропаганду разбавляли беженцы из Советской России, устремившиеся в Харбин[109], единственный необольшевиченный русский город. Но русские якобинцы и тут оказались начеку. На станции Слюдянка, недалеко от Иркутска, на Круго-Байкальской железной дороге, они организовали контрольно-фильтрационный пункт, где проверяли документы и тщательно досматривали всех подозрительных лиц. Бывших офицеров, царских чиновников и просто буржуев снимали с поезда и расстреливали без суда и следствия, а трупы выбрасывали в Байкал. Рыбаки говорили, что омуль нынче жирный, потому что питается человечиной.
В конце апреля мы получили письмо из Томска от Нины Андреевой и очень ему обрадовались.
Знамя революции
Письмо из Томска Нины Андреевой
«Дорогие мои Поля, Пётр Афанасьевич и маленький Петенька!
Мы все очень рады прибавлению в вашем семействе, но одновременно скорбим по поводу гибели нашей любимой тетушки и выражаем вам свои искренние соболезнования.
Слава Богу, мы пока все живы. Зато неприятностей уже хлебнули от новой власти через самый край, пожалуй, даже больше, чем от самодержавия.
Мы все теперь контрреволюционеры и черносотенцы! Вот так-то большевики оценили заслуги моего отца перед революцией. «Сибирскую жизнь» они закрыли. Вначале пытались задушить ее экономически, запрещали печатать платные объявления. А в начале года провели красногвардейскую атаку на капитал и вообще закрыли газету. Одновременно совдеп национализировал и типографию Сибирского товарищества печатного дела, где она выпускалась, и стал выпускать там свою газету «Знамя революции»[110]. И по шрифтам, и по набору, и по внешнему виду точную копию «Сибирской жизни». Ее даже стали доставлять нашим либеральным подписчикам!
Вы бы видели моего папу, когда он взял в руки эту агитку! Он готов был лопнуть от ярости.
Еще они национализировали все банки, торговый флот, конфисковали театр «Интимный», реквизировали гостиницу «Европа»… А сколько частных домов позабирали для своих нужд – вообще не сосчитать!
Недавно экспроприаторы обложили нашу буржуазию контрибуцией. Собрали всех купцов и заводчиков на товарной бирже и объявили, что те должны выплатить в четырехдневный срок пять миллионов, иначе их отправят на каменноугольные копи. Купцы были в смятении. Имущество реквизировано, прежние займы и процентные бумаги аннулированы. Им, видать, и вправду негде было собрать такую гигантскую сумму! Ты же знаешь, Поля, что я никогда не жаловала богатеев, но тут я им впервые посочувствовала. Но на большевиков никакие уговоры не подействовали! Они оцепили биржу войсками, арестовали всех собравшихся и отправили их в тюрьму.
Пять миллионов, правда, не получили, но половину этих денег из томской буржуазии вытрясли.
Куда исчезает все награбленное ими – я ума не приложу. Фабрики стоят, зарплату рабочим не платят, цены растут, а товаров в магазинах все меньше и меньше. Недавно мы целый день сидели без света. Бастовали рабочие электростанции. Предприятие у бывших владельцев конфисковали, а зарплату рабочим выплатить не смогли.
С наступлением тепла город вообще превратился в непролазное болото. Улицы – настоящая клоака, сплошное месиво грязи, и не только на окраине, но и в центре. На толкучем рынке продавцы и покупатели вязнут в грязи выше колен.
В университете и институтах развернулась чистка преподавательских кадров. Даже профессоров, кто не принял советскую власть, выживают с кафедр. Уволены почти все директора томских гимназий. В школах чехарда, большевики хотят сделать образование доступным для бедняков, но зачем-то ломают его вообще.
Мы уже привыкли к тому, что в городе вводится то исключительное, то военное положение. Проводятся массовые аресты, облавы и обыски. В бильярдной комнате гостиницы «Европа» совдеп устроил каталажку. Туда помещают всех задержанных за нарушение комендантского часа. За ночь таких набирается десятка два человек.
Их комиссар юстиции вообще заявил недавно, что «Советы должны стоять прежде всего на страже революции, а потом только на юридической точке зрения» и «пока существует советская власть, никто из идущих против нее не может быть уверен, ложась спать, что мы не придем к нему». Вот в такой атмосфере страха мы и живем.
А брат говорит, что Ленин – умный. Он с ним еще в Минусинске в шахматы играл, когда тот отбывал ссылку в Шушенском. Но тогда я вообще ничего не понимаю! Неужели он не видит, что страна неминуемо катится к пропасти и хаосу?!
В мою комнату зашел папа и, узнав, что я пишу вам письмо, попросил чиркнуть несколько строчек для Петра Афанасьевича. А если он общается с Иваном Иннокентьевичем Золотовым, пусть и ему расскажет.
В декабре в Томске прошел Второй чрезвычайный Сибирский областной съезд. Он принял резолюцию о создании в Сибири самостоятельной власти в лице Сибирской областной думы и ее исполнительного органа. Часть делегатов была за широкую коалицию всех социалистических сил – от энэсов[111] до большевиков. Однако самих большевиков нисколько не заинтересовала перспектива вхождения в коалиционный орган управления Сибирью. Потанин выступил категорически против союза с большевиками, считая неправильным лишать цензовые элементы права участвовать в построении новой Сибири, ибо прежний режим терзал всех сибиряков, а освобождение провозглашено только для одной их части. В знак протеста Григорий Николаевич даже сложил с себя полномочия председателя областного Совета.
Он вновь оказался провидцем, ведь очень скоро большевики разогнали в Петрограде Учредительное собрание и узурпировали власть в стране. Сибирские депутаты через две недели снова собрались в Томске на первое заседание Сибирской областной думы. Но большевики и тут проявили вероломство и арестовали большую часть депутатов. Их отправили в Красноярскую тюрьму. Но некоторым удалось избежать ареста, и они на конспиративной квартире сумели провести заседание думы и избрали Временное правительство автономной Сибири. Председателем думы избран ваш иркутянин Меркушев[112], а председателем правительства эсер Дербер[113]. Муромский – министр внешних сношений. Миша Шаталов – тоже министр, но без портфеля. А Иван Иннокентьевич Золотев избран министром снабжения.
Передайте, пожалуйста, ему эту новость. Пусть он будет осторожен и до поры до времени не слишком заметен. Вы ведь знаете, насколько беспощадны большевики к своим противникам. Но папа почему-то твердо уверен, что скоро их власти придет конец.
Ну вот и всё. Скомканное какое-то получилось письмо. Все больше о политике. Но, что поделаешь, такая сейчас жизнь.
Берегите себя. Особенно маленького Петеньку. Мы все его очень хотим увидеть. За нас не беспокойтесь.
Ваша Нина.
P.S. Письмо боюсь отправлять почтой. Его вам доставит надежный человек.
Счастье совершенно не зависит от степени свободы, от толщины кошелька, даже от уверенности в завтрашнем дне. Просто приходит его время независимо от переживаемой страной эпохи. И твоя душа начинает петь, не обращая никакого внимания на перипетии истории.
В этом я убедился в Иркутске в 1917 году. Как гражданин я практически был лишен каких-либо прав. Моя семья кое-как сводила концы с концами, чтобы не умереть с голоду. Я мог быть арестован и даже расстрелян без суда и следствия в любое время. Наш дом могли ограбить разбойники, которых после декабрьских боев в городе развелось немереное число. Электричества не было. Улицы были погружены во тьму. Телефон молчал.
Но это было самое счастливое время в моей жизни. Я любил и был любим. С работы меня ждала красавица-жена и очаровательный карапуз – сын, который рос день ото дня вопреки революции.
Даже большевики стали опасаться ночных грабителей и доверили жителям организовать ночную самоохрану. Наш участок патрулирования включал три квартала в длину и один в ширину. Посередине в дворницкой была организована караулка, где ночью сменялись посты и куда «самоохранникам» можно было зайти погреться или вызвать подмогу. К этой повинности были привлечены все взрослые мужчины без исключения. Заранее расписывались очереди дежурств, а перед патрулированием мы получали из отделения милиции очередной пароль и отзыв.
Мы с Иваном Иннокентьевичем охотно исполняли эту повинность. Вооружившись, он – винчестером, а я – подаренным юнкерами револьвером, взяв на поводок Барри для пущей солидности, мы выходили в караул и бродили до утра по улицам нашего участка. Иногда наш наряд усиливал один отставной генерал-майор. Я недавно случайно встретил его в Марселе. Мы просидели весь вечер в кафе на набережной, попивая молодое вино и вспоминая наши ночные прогулки в Иркутске.
Жаклин застала его уже при параде. Вельветовый пиджак с замшевыми нарукавниками, клетчатая рубашка с мягким воротом и брюки цвета хаки свободного покроя придавали ему вид успешного художника. Тетка критически осмотрела его со всех сторон и осталась довольна. Сама же она была одета еще демократичней: в джинсы и ветровку, из-под которой выглядывала белая футболка с какими надписями. На ногах у нее были кроссовки.
По дороге Сергей рассказал ей об утреннем происшествии в бассейне. Она расхохоталась и на светофоре чуть не проехала на красный свет.
Она обозвала его нудистом и сквозь смех пробормотала:
– Представляю, если бы полиция арестовала тебя за сексуальное домогательство!
– Но девушку смутил вовсе не вид моих гениталий, – в оправдание заявил он. – Мне даже вначале показалось, что я ей понравился. А потом вдруг ее отношение ко мне резко изменилось.
Жаклин замешкалась. Она поймала себя на мысли, что ей неприятно, что какая-то посторонняя женщина видела Сергея голым.
– На каком языке ты с ней заигрывал?
– На английском. Ты же знаешь, что я по-французски ни бум-бум.
– И ты хочешь, чтобы честная квебекская девушка стерпела сексуальные домогательства распущенного янки? – она догадалась о причине конфликта в бассейне.
– Я ее не домогался. Это раз. И я – не американец, а сибиряк. Это два, – искренне возмутился Коршунов.
– Вовремя ты сбежал оттуда, иначе бы точно предстал перед судом, – произнесла Жаклин и посоветовала: – Если ты не хочешь впредь оказаться в подобной ситуации, пожалуйста, забудь о своем английском. Говори лучше по-русски. К иммигрантам квебекцы относятся гораздо лояльнее, чем к своим англоговорящим согражданам.
– Но почему?
Жаклин остановилась рядом с цветочным магазином.
– Ты забыл про цветы. Купи лучше хризантемы. Моя мама их любит больше роз. Они долго не вянут.
С мулатом-продавцом Сергей вообще не стал разговаривать. Лишь показал рукой на хризантемы и выставил вперед семь растопыренных пальцев. Мулат ему радушно улыбнулся, сибиряк ему тоже. Так бы они расстались на мажорной ноте, не спроси продавец по-французски, надо ли оформлять букет. Покупатель сразу занервничал, вытащил из кармана брюк ворох мелких американских и канадских купюр, и когда мулат сам отсчитал деньги, Сергей пробурчал: «Мерси», – и быстро выскочил из магазина.
Его прадед все-таки был мудрым человеком, полжизни изображая из себя немого. В самом деле, молчание – золото, а язык до добра не доводит, подумалось ему, пока он пробирался к машине.
– С неграми тоже надо говорить по-французски? – спросил он Жаклин, положив букет на заднее сиденье.
– О боже! – воскликнула она и закрыла лицо руками. – Ну какой же ты дикий! Прямо настоящий Маугли из джунглей! Умоляю тебя: пока ты здесь, забудь слово «негр». Иначе точно нарвешься на штраф или угодишь в тюрьму. «Нигер» – это ругательство, оскорбляющее достоинство темнокожего населения.
– А как их еще называть, если они негры?
– Да как угодно! Афроамериканцы, черненькие, темнокожие… Только не негры. Большинство из них франкоязычные гаитяне. Они патриоты Квебека не меньше французов.
– А китайцы?
– Те тоже в основном говорят по-французски, потому что приехали сюда из Индокитая.
– А евреи? – ему казалось, что он задал вопрос на засыпку.
– В Монреале евреи-старожилы, как правило, знают оба языка. Но быстро растет община марокканских евреев, которые говорят только по-французски. И вообще, к твоему сведению, французский провозглашен единственным официальным языком провинции Квебек, его здесь знают почти все, английский, хоть и считается государственным языком Канады, у нас не котируется.
Жаклин притормозила машину рядом с автобусной остановкой.
– Посмотри на это, – показала она на красочные плакаты на боковинах остановочного комплекса.
На одном симпатичный негритенок протягивал белокурой девчушке ромашку.
– «Волосы курчавые, а сердце квебекское», – перевела Жаклин и проехала чуть вперед, чтобы он смог разглядеть плакат с другой стороны.
На нем красивая арабская девушка, обнажая белоснежные зубы, улыбалась прохожим и автомобилистам.
– «Глаза как миндаль, а смотрят на мир по-квебекски», – перевела тетка очередной слоган. – Понял? По-квебекски, а не по-канадски!
Сергей уже раскрыл рот, чтобы спросить очередное «Почему?», но автомобиль уже въезжал в ухоженный пригород, где в зелени и цветах утопали роскошные одно– и двухэтажные дома.
– Мы уже почти приехали. А на твой вопрос лучше ответит Пьер.
– А кто такой Пьер?
– Друг маминой подруги и большой патриот Квебека.
Дом стоял в глубине сада. Сразу за тротуаром начиналась обширная лужайка с высокими тенистыми деревьями и клумбами. Пели какие-то птицы. А из раскрытых настежь стеклянных дверей лилась спокойная, ласкающая слух музыка.
Жаклин оставила машину на площадке перед гаражом и по мозаичной тропинке повела гостя в дом.
– Мамочка! Ау! Мы приехали! – прокричала она, заходя в гостиную, где уже был накрыт к обеду стол, но людей не было.
Внезапно из глубины дома выпорхнуло белое привидение в легком брючном костюме. Крашеные волосы были завиты в мелкие кудряшки и делали их обладательницу похожей на неостриженного барашка. Она была маленького роста, плотного телосложения, но передвигалась очень быстро, как заводная машинка. Толстый слой тонального крема на лице и большие очки в роговой оправе не позволяли определить возраст этой женщины. Ей можно было дать и сорок, и пятьдесят, и шестьдесят лет. Но Сергей знал, что матери Жаклин скоро исполнится уже семьдесят.
– Ах вот он какой, Серёженька Коршунов! – проворковала она, бесцеремонно разглядывая гостя. – Какой импозантный мужчина! Вылитый Пётр Коршунов!
Наконец хозяйка закончила осмотр, бесцеремонно наклонила его голову и запечатлела на щеке поцелуй из ярко-красной помады.
– Ну, здравствуй, внучек. Я – твоя двоюродная бабушка. Можешь называть меня просто: баба Лена.
Сергей смутился. У него никогда не было бабушки. Мамина мама умерла задолго до его рождения, а про отца он вообще ничего не знал, кроме того, что его звали Николаем, учился он в политехническом институте и был родом из Красноярска, куда сразу же сбежал, узнав, что какая-то уборщица из заочниц должна будет скоро родить от него. Была ли у него в Красноярске бабушка или не была, он не ведал. И появление в зрелом возрасте настоящей бабушки, пусть не родной, пусть из далекой страны, его не на шутку взволновало, на глазах даже заблестели слезы.
От Елены Готье не укрылось его смятение. Она ловко выхватила салфетку из-под столовых приборов и, стерев отпечаток помады на его щеке, предусмотрительно оставила ему салфетку, чтобы промокнуть глаза.
– Можно я буду вас называть Еленой Петровной? – спросил он и аргументировал: – Мне так будет проще. Вдобавок, обращаясь к вам по имени-отчеству, я буду всякий раз отдавать себе отчет, что разговариваю с дочерью незаурядного человека, поистине исторической личности, каким для меня предстает из рукописи ваш отец.
– Конечно, можно, Серёженька, – канадская бабушка расплылась от удовольствия. – Ты даже представить себе не можешь, какое это счастье, когда тебя называют по имени и отчеству. В этой стране так не принято обращаться. Даже к старшим. Как поется в одной русской песне: «Здесь нет отечества и отчеств тоже нет». Жаклин привозила мне из Москвы кассету с песнями этого еврея. Забыла его фамилию… Лина, быстренько подскажи.
– Розенбаум, мама.
– Спасибо, дочка. Точно, Розенблюм. Душевно поет. Лучше любого русского.
Когда первые бурные эмоции от встречи с бабушкой улеглись и слезы высохли, Сергей обнаружил, что в гостиной, кроме его родственников, есть еще люди. Их было трое. Две женщины и один мужчина. Они стояли в сторонке и искусственно улыбались, изображая на своих лицах восторг от сцены воссоединения семьи, разлученной революцией и войнами.
Жаклин первой почувствовала неловкость и сказала:
– Мама, представь, пожалуйста, Сергея своим гостям.
Елена Петровна всплеснула руками.
– Дура старая, так расчувствовалась, что забыла обо всех правилах этикета, – пожурила она себя и перешла к официальной части: – Это моя давняя подруга Люба Кислюк, – первой бабушка представила полную женщину чуть моложе ее, стоявшую под руку с высоким мужчиной. – Дорогуша, а как тебя по отчеству-то?
– Степановна я по батюшке. А ты-то и не знала, – укорила та хозяйку.
– А вас как величать по отчеству, молодой человек? – спросила Любовь Степановна сибиряка.
– Сергей Николаевич. Но для вас можно просто Серёжа.
– Тогда и для вас просто Люба. А то развели, понимаешь, тут церемонии, как при дворе британской королевы. Отчеств здесь нет. Договорились?
– Ладно, – с неохотой согласилась бабушка. – Хотя Любовь Степановна тебе явно идет. Но молчу, молчу… Ты же у нас девушка на выданье. Как ваша Пугачёва. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым.
Кислюк сделала страшное лицо, и подруга осеклась.
– Люба у нас занимается богоугодным делом, Серёженька. Она находит для детей-сирот из Восточной Европы обеспеченных канадских родителей. У ее агентства первоклассная репутация. К ней даже бездетные американцы обращаются за помощью.
Сергей с понимающим видом кивнул головой, хотя ничего хорошего про Кислюк не подумал: нашими детьми торгует, пройдоха.
– Это Пьер Гарден. Ее старинный приятель. Он работает в департаменте иммиграции правительства Квебека. Поэтому, если вдруг надумаешь, Серёженька, перебраться с семьей к нам в Канаду, Пьер обязательно поможет.
Мужчины пожали друг другу руки.
– А это Анна Зайченко, – последней бабушка представила интересную сочную брюнетку лет тридцати пяти с большим бюстом. – Она недавно приехала в Монреаль из Одессы и работает сейчас в агентстве у Любы. Занимается оформлением документов на усыновление детишек.
Брюнетка мило улыбнулась сибиряку и посмотрела на него оценивающе.
Коршунов тоже улыбнулся ей, а потом повернулся к Пьеру и спросил:
– А без семьи я разве не могу иммигрировать в Квебек?
Повисла пауза.
– Нет ничего невозможного, – ответил Пьер и первым делом поинтересовался: – А вы знаете французский язык?
– Пока не знаю. Но скоро выучу! – убедительно заверил Сергей.
– Тогда я вам найду хорошего недорогого адвоката. Анна, сколько с вас взял за оформление документов этот перуанец Хуан?
– Четырнадцать тысяч долларов, – ответила брюнетка нежным и очень женственным голосом. – Но я оформлялась как швея.
– У меня еще с армии есть специальность автомеханика.
– Отлично. Плюс знание французского и немного денег, и вы – гражданин Квебека. Но ваша бабушка говорила, что вы женаты… – Пьер задал вопрос, который вертелся у всех на языке.
– Сегодня утром по телефону жена сказала мне, что у нас все кончено и она подает на развод.
Бабушка, стремясь замять щекотливую тему, пригласила всех к столу.
– Да помиритесь еще. Моя мама говорила: милые бранятся, только тешатся.
– Вряд ли, Елена Петровна. Мне сегодня утром на полном серьезе жена предложила остаться в Канаде. Видимо, нашла более подходящую кандидатуру.
– Ну если так…
Бабушка стала усаживать гостей за стол.
За обедом Сергею наконец удалось спросить Пьера о французском национализме в Квебеке.
Чиновник сморщил нос. Постановка вопроса его явно покоробила. Но иностранцу, тем более родственнику уважаемой им госпожи Елены, он простил некорректность.
– Здесь – не Франция, молодой человек, а Квебек. Прошу вас это запомнить и впредь так не ошибаться. Впрочем, имя существительное вы тоже подобрали не совсем правильно. Термин «квебекский национализм» употребляют наши политические оппоненты, чтобы бросить тень на наше движение. Мы же говорим исключительно о квебекском патриотизме. В соседнем Онтарио все провинциальные службы тоже одноязычны. Только на английском языке, но никто почему-то не кричит об английском национализме в Торонто, а вот «квебекский национализм» стал уже притчей во языцех.
Мсье Гарден пригубил вина из высокого бокала и продолжил просвещение темного сибиряка.
– Вначале появился канадский патриотизм. Как реакция на засилье американской культуры, американского образа жизни в нашей стране. Мы не хотели быть похожими на «большого брата»[114], становиться дополнительными штатами. А Квебек – особенно.
Он сделал еще один глоток, видимо, горло пересохло от множества слов на чужом языке. Хотя по-русски Пьер говорил отменно, почти без акцента.
– Нас называют сепаратистами, и нашей Квебекской партии[115] ставят в укор, что на референдуме 1995 года о суверенитете Квебека мы хотели расколоть Канаду, выделив тем самым нашу провинцию в самостоятельное государство. Но мы не сепаратисты, а суверенисты. Ведь суверенитет провинции вовсе не означает самостоятельную государственность. Возьмем пример из истории вашей страны. 12 июня 1990 года депутаты Верховного Совета РСФСР проголосовали за декларацию о суверенитете Российской Федерации. Но ведь Советский Союз развалился вовсе не от этого.
– А от чего же? – спросил Сергей, чтобы проверить утверждение поэта «большое видится на расстоянии».
– Помилуйте, господин Коршунов. Всему миру известно, что вашу юную конфедерацию развалили путчисты из ГКЧП, стремящиеся реанимировать тоталитарную советскую империю, а вовсе не российские суверенисты.
Сергей улыбнулся. Хотел возразить, что это звенья одной цепи, но промолчал. Интересно было дослушать до конца логические умозаключения квебекского патриота.
– Для победы на референдуме 1995 года нам не хватило всего 0,6 процента голосов. Но заметьте, квебекцы голосовали за политический суверенитет при сохранении экономического союза с остальной Канадой, то есть фактически в рамках Канадской конфедерации[116]. Квебек – это старейшая, наиболее канадская и лучшая провинция. Это украшение всей канадской мозаики, делающее нашу страну уникальной и не похожей на другие государства. Наши жители должны иметь право говорить на своем родном языке и жить по законам, которые сами принимают, а не по указке из Оттавы. Поэтому наш патриотизм и носит лингвистическую направленность, но он полностью лишен какого-либо ксенофобского и расового оттенка.
– А если бы итоги референдума оказались в вашу пользу? На карте мира возникло бы новое государство? – Сергей поставил вопрос ребром.
Мсье Гарден задумался, но, поняв, что здесь все свои, ответил честно:
– Вполне возможно, что так бы оно и случилось.
– И проигравшее меньшинство подчинилось выигравшему большинству, у которого перевес в каких-то полпроцента голосов?
– Я думаю, что да. А зачем же тогда проводятся референдумы? Мы же подчинились, когда проиграли.
– И никто не призвал бы граждан к оружию «за единую и неделимую Канаду»? Не развязал бы войну между красными и белыми?
– Помилуйте, Сергей. Мы же цивилизованные люди, живем в XXI веке и умеем приходить к консенсусу через компромисс! Это же аксиома: чем богаче, чем более экономически развитыми становятся страны, провинции и люди, тем быстрее они избавляются от комплекса неполноценности, и у них возникает потребность самим принимать решения относительно дальнейшего устройства своего будущего.
Настал черед Коршунову призадуматься. Он даже забыл про еду.
«А ведь мы по сравнению с ними точно дикари. Если бы сейчас за Уралом возродилась партия областников и осмелилась поставить вопрос о референдуме по поводу суверенитета Сибири? Центральное правительство никогда бы не признало его итогов. Да оно бы никогда не допустило такого референдума, а новоявленные сибирские областники давно бы все сидели по тюрьмам за какие-нибудь экономические преступления. Поэтому и держать нас надо на голодном пайке, чтобы сидели и не рыпались».
Но вслух он произнес:
– А у нас все наоборот. Мы хоть и говорим с жителями Европейской России на одном языке, но вот экономической свободы Сибири не хватает. Все Москва забирает, а потом делит между областями, львиную долю оставляя себе.
– А куда смотрят ваши депутаты? Почему они принимают такие законы и такой бюджет? Если бы наши депутаты не отстаивали права провинции, мы бы их давно отозвали, – вставила реплику бабушка, но ответить Сергею не дала, а на Пьера цыкнула:
– Ну что ты навалился на бедного мальчика со своей политикой. Дай ему спокойно поесть. А ты, Серёженька, кушай, кушай, а то вон как исхудал в своей голодной Сибири…
Больше о политике за столом не говорили. Бабушка узурпировала право на беседу с внуком и завалила его вопросами о детстве, маме, отце, жене, сыне, работе, доходах, досуге… В общем, к концу вечеринки он уже не мог говорить и от усталости, и от обжорства. В его животе началась какая-то химическая реакция. Он то урчал, то бурлил, в итоге Сергею пришлось поинтересоваться у Пьера, где находится туалетная комната. Бедняга едва успел добежать до унитаза.
К столу он вернулся с зеленоватым оттенком лица. От чая и десерта отказался категорически, чем сильно расстроил бабушку.
– Ты скоро поедешь домой? – спросил он шепотом Жаклин.
Та пожала плечами и тихо ответила:
– Я обещала маме помочь убрать со стола. Она хотела произвести на тебя впечатление своими кулинарными способностями и отпустила прислугу домой. Что с тобой? Ты плохо выглядишь.
– Что-то нездоровится. Тогда, может быть, вызовешь для меня такси?
Неожиданно из‑за спины объявилась Анна и сказала:
– Зачем такси? Я на машине и как раз уже собиралась ехать домой. Могу довезти Сергея Николаевича, если это будет по пути.
Жаклин задумалась, а потом с деланной улыбкой приторно ласково произнесла:
– Как это мило с вашей стороны, Анечка. Но Сергею Николаевичу совсем в другую сторону!
– Как, в другую? – удивилась одесситка. – Он ведь живет на Кот-де-Неж[117], в квартире вашего папы? Я поеду как раз мимо его дома.
Жаклин бросила на нее испепеляющий взгляд и стала убирать посуду.
Хорошо, что у Пьера оказались с собой таблетки от диареи, иначе бы Анне пришлось останавливать машину возле каждого бара, чтобы пассажир мог сбегать в мужскую комнату.
– Ты не будешь возражать, если я закурю? – спросила она, сразу перейдя на «ты», едва они отъехали от бабушкиного дома.
Он сразу принял предложенную игру и ответил двусмысленным вопросом:
– Я-то нет. Главное, чтобы ты не возражала.
– Ты про что?
– Я про сигареты. А ты про что подумала?
Она рассмеялась. Он тоже. Удивительно, но боль в животе сразу исчезла.
– Как говорят у нас в Одессе, рыбак рыбака видит издалека. Я сразу поняла, что ты мачо, – призналась она, развеивая всякие сомнения. – Куда поедем: к тебе или ко мне?
– А куда ближе? – спросил он, опасаясь очередного приступа диареи.
– К тебе.
– Ну тогда я приглашаю тебя в гости. Только надо будет купить что-нибудь выпить и закусить. Ты какое вино предпочитаешь?
– Водку.
– О! Это по-нашему! – воскликнул он и посмотрел на нее с уважением, а затем спросил: – А ты давно уже здесь?
– Полгода.
– Ну и как тебе Монреаль? Больше Одессы нравится?
Анна затянулась дымом и, выпустив изо рта аккуратное колечко, ответила:
– Нормально. По крайней мере здесь можно гулять по вечерам, не боясь, что тебя шандарахнут по башке.
– А я и в Томске не боюсь по ночам шарахаться.
Она сделала вид, что не заметила его реплику.
– И сыну здесь нравится. Он вообще быстро освоился. В их школе и желтенькие, и черненькие дети учатся, и никто никого не унижает, никто ни над кем не издевается.
– А где твой муж?
– Объелся груш.
– Нет. Я серьезно. Он остался в Одессе или вы уже здесь разбежались?
Она еще раз затянулась и крепко сжала руль. Ее длинные накрашенные ногти впились в ладони.
– Поехал в Ванкувер на заработки. Он моряк. Здесь работы не нашел. Ну и схлестнулся там с одной китаянкой. Прислал письмо. Извини, дорогая, но я нашел свою любовь.
– А ты еще не нашла?
– Я в поиске. Здесь мало кто женится. А в нашем возрасте мужчины и женщины даже редко живут вместе. Здесь принято ходить друг к другу в гости. О гостевом браке слышал? Ну вот, здесь большинство так живет. А что? Сфера услуг развита. В магазинах любые блюда в упаковке, любые полуфабрикаты. Бросил в микроволновку – и ужин готов. А захотелось разнообразия – бары, ресторанчики на каждом шагу. Кухни всех народов мира. Здесь даже белье сами не стирают, в прачечную сдают.
Внезапно откуда-то зазвучала песенка Крокодила Гены «А я играю на гармошке у прохожих на виду…».
– Это я на вызов сына такую мелодию установила. Из Интернета скачала. Правда, здорово? – пояснила Анна и ответила на звонок: – Что, милый? Я сегодня задержусь. Много работы. Ты, пожалуйста, ложись спать без меня. И утром, если я не приеду, не волнуйся и иди сам в школу. Значит, я у тети Любы заночевала. Ты все понял, Славик? Смотри, в компьютер долго не играй. Ну, ладно. Спокойной ночи, солнышко.
Коршунов вдруг стало жаль эту одинокую женщину.
– Слушай, Ань, но, если здесь все так здорово, почему у тебя глаза такие тусклые?
Она сверкнула ими, как фарами от встречной машины, и ответила резко:
– А вот переедешь сюда, сам узнаешь! А лучше не переезжай вовсе! Потому что все равно здесь все чужое! И то, что нам в детстве твердили о родине, это не пустые слова. Там, в Одессе, я работала учительницей в начальных классах. Да, получала гроши, но меня любили дети, уважали родители, я сама себя уважала. А здесь я торгую нашими – советскими – детьми, и Люба платит мне в сто раз больше, чем я получала в школе, но мне противно. Я себя презираю. Там я была мужняя жена, а здесь обыкновенная шлюха, готовая переспать с первым попавшимся мужиком, чтобы хоть немного мужской ласки урвать. За что мне себя уважать? Одно успокоение – сын. Он здесь уже освоился и вырастет настоящим свободным человеком. А на себе, на своей карьере я поставила крест, здесь я ничего сама не достигну, живу только ради сына. Я сделала свой выбор, стала удобрением, навозом для следующего поколения. А если ты сюда переедешь один, ты просто с ума сойдешь!
Супермаркет встретился вовремя.
– Слушай, возьми две бутылки водки. А то я чувствую – одной нам залить ностальгию будет мало! – попросила Анна.
Когда он вернулся с покупками, она докуривала вторую сигарету.
– Какой же ты умница! «Столичную» купил. Моя любимая водка! Эх, гульнем же мы сегодня с тобой, Серёга. Если бы не дурацкие канадские законы, я бы прямо сейчас из горла засадила. Так ты мое сердце растревожил. Но нельзя. Полицейский остановит, сразу по компьютеру выйдет на иммиграционное ведомство и заблокирует мне вид на жительство. И прости-прощай Монреаль! Здесь все строго и просто. А вот и твой дом. Кажись, приехали?
Анна припарковала машину на стоянке, и они пошли по темной аллее к подъезду. Она снова закурила. А он нес полиэтиленовый пакет с бутылками и свертками.
Неожиданно с лавочки поднялась черная фигура.
– А я вас уже заждалась! – сказала Жаклин. – Ну что встали, как вкопанные? Пойдемте домой. Или боитесь, что водки на троих не хватит? Так Сергей еще в магазин сбегает. Он по этому делу мастер.
В квартире женщины продолжили пикировку. Водка окончательно развязала им языки.
– А я что-то не помню, чтобы тебя кто-то сюда приглашал, тетушка.
– За здоровье своего племянника опасаюсь. Нравственное и физическое.
– Ты бы лучше за своим последила…
И так далее в том же духе. У Коршунова сложилось впечатление, что он находится вовсе не в далеком Монреале, а в родном Томске. И что ему не за сорок лет, а вдвое меньше. Какая-то студенческая вечеринка, и две девчонки не могут поделить его меж собой.
Он почувствовал себя в родной обстановке. Так легко и свободно ему не было давно. Но глаза начали слипаться. Он едва добрел до дивана в кабинете, рухнул на него и моментально заснул.
Человеческий организм не может сразу приспособиться к такой большой разнице во времени. В Томске уже начинался день.
Проснулся он в тихой и темной квартире. Включил ночник и посмотрел на часы. Они показывали начало третьего. Значит, он проспал добрых пять часов. А время пролетело совсем незаметно. Будто только лег. Но бодрость уже вернулась к нему.
Он пошел в туалет и, проходя через гостиную, увидел неубранный стол. Туалет его вообще разочаровал. Кто-то заблевал унитаз и не смыл его. Зажав нос, он навел порядок.
Включив в гостиной свет, он осознал масштаб бедствия. Грязная посуда с остатками пищи на залитом водкой столе, на ковре пепел с окурками, пустые бутылки…
– Ничего себе девчонки погуляли! – глубокомысленно резюмировал квартирант.
Он заглянул в полуоткрытую дверь в спальню. Две одетые женщины спали по разным сторонам кровати. Жаклин свернулась калачиком. Голова Анны свисала с лежбища. Не включая света, он укрыл каждую отдельным покрывалом. Бережно приподнял голову одесситки и положил ее на подушку. Та пробурчала в ответ что-то нечленораздельное. Он вышел из комнаты и плотно закрыл за собой дверь.
Сна не было ни в одном глазу. Опохмеляться тоже не хотелось. Ведь он вчера выпил-то всего ничего.
Сергей убрал со стола посуду. Составил ее в раковину, но мыть не стал, чтобы шум воды не разбудил спящих красавиц. Сварил себе крепкий кофе. Налил большую чашку и, вдыхая его аромат, прихватив еще плитку шоколада, тихонько удалился в кабинет, где снова засел за прадедову рукопись.
Однажды в июне, простояв целый час в очереди с хлебными карточками перед пекарней и получив два фунта хлеба, я вернулся домой настроенный самым решительным образом.
– Все, Полина, хватит! Давай готовиться к отъезду. Петенька уже ест из бутылочки. До Харбина как-нибудь доедем! Не помирать же здесь с голоду!
Моя своенравная жена на редкость легко согласилась со мной, спросив только:
– Когда едем, Петя?
Удивленный ее покладистостью, все-таки речь шла о расставании с родиной, я сам стушевался и ответил вопросом:
– Тебе недели на сборы хватит?
– Да, милый…
Денег у меня в ту пору не было вообще, но оставались кое-какие ценные вещицы: золотые часы, портсигар, наконец, блокнот с золотым карандашом. По железной дороге на восток продвигались эшелоны с чешскими легионерами, которых по соглашению правительств Антанты с Лениным перебрасывали через Транссиб, Тихий океан, Америку и Атлантику на Западный фронт во Францию. Большевики попробовали разоружить один эшелон с чехами, но те дали им вооруженный отпор, и больше никто в Иркутске таких попыток не предпринимал.
Именно на чехов делал я главную ставку в эвакуации своей семьи. Мой план был чрезвычайно прост. Когда очередной эшелон с легионерами прибудет в Иркутск, все равно он простоит какое-то время на станции. Надо пополнить запас угля, сменить паровозную бригаду, да и солдатам нужно запастись водой и продуктами на дорогу. «Братушки» выйдут на перрон по своим делам, и я незаметно подойду к какому-нибудь офицеру и напрямую по-чешски попрошу его вывезти меня с женой и сыном-младенцем в Харбин. Представлюсь чехом из Праги. Наверняка не дадут пропасть соотечественнику в большевистской Сибири. А в качестве благодарности золотые часы и портсигар сгодятся в самый раз.
План был всем хорош. Только во время революции нельзя так далеко рассчитывать, ибо ситуация может измениться даже в течение суток.
На следующий день в Иркутске вспыхнуло восстание против большевиков. Его подняли бывшие офицеры, недовольные позорным Брестским миром[118] ленинского правительства с немцами. Выступление поддержали и правые эсеры, пополнив ряды восставших представителями местной интеллигенции. Большевики жестоко расправились со своими противниками, развернув настоящий террор. Не щадили даже мальчишек-гимназистов.
Все подступы к вокзалу были перекрыты усиленными нарядами красногвардейцев. По городу ходили слухи, что в Западной Сибири чехи организованно выступили против большевиков и их поддержали местные силы, недовольные существующим режимом.
Наша эмиграция в очередной раз отложилась на неопределенный срок.
Неожиданно заболела Александра Николаевна. У нее обострился аппендицит. Это произошло ночью, когда к городу подошли антибольшевистские войска и на подступах уже велись ожесточенные бои.
Иван Иннокентьевич, рискуя жизнью, отправился за доктором, но привел его только к утру.
Врач осмотрел больную и сказал, что необходима срочная операция. О переезде в больницу не могло идти и речи, на улицах снова раздавалась ожесточенная стрельба. Иногда так грохотало, что, казалось, происходит землетрясение, но это, как потом выяснилось, большевики взрывали пороховые склады.
Какие странные повторы иногда устраивает жизнь! Зимой во время юнкерского восстания моя жена дома рожала Петеньку, а летом при взятии города белыми супруге Ивана Иннокентьевича вырезали аппендицит под грохот канонады.
Доктор закончил операцию и тщательно мыл руки над умывальником, когда на наш двор неожиданно въехал отряд конных мадьяр. Их было хорошо видно из окна золотовского кабинета. Двое сразу направились в сарай, видимо, за фуражом. Еще двое вломились во флигель к хозяйке, куда она перебралась на лето. А три интернационалиста пошли в сторону дома.
Их тяжелые сапоги уже стучали по ступенькам ветхого крыльца.
– Господи помилуй! – перекрестился доктор. – Сейчас нельзя тревожить больную. Послеоперационный период – самый сложный. Она должна лежать неподвижно, чтобы не разошлись швы.
– Что же делать? Что же делать? – занервничал Иван Иннокентьевич. – Они же точно решат, что Саша притворяется, и у нее под подушкой запрятаны бриллианты.
Он уже открыл дверцу шкафа, где хранился заряженный винчестер.
Я на всякий случай тоже положил в карман брюк свой револьвер, но Золотова предупредил:
– Стрелять будем только в крайнем случае. Не забывайте, что их семеро, а нас только двое.
Доктора в расчет я не принимал. Он уже сложил свои инструменты в саквояж и весь трясся от страха.
– Да, да. Вы, безусловно, правы, Пётр Афанасьевич… – растерянно ответил мне Золотов.
И я понял, что из него еще тот боец. Не сможет он выстрелить в живого человека. А у меня одного шансов одолеть семерых практически не было.
Сапоги уже гремели совсем близко. Я вышел в коридор и столкнулся нос к носу с моим бывшим учеником Шандором. Он был родом из Будапешта, из интеллигентной семьи, учился в гимназии и на моих уроках тоже занимался прилежно.
– Господин учитель… – он удивился неожиданной встрече не меньше меня. – Это ваш дом? – спросил он по-венгерски.
– Нет. Мы здесь снимаем комнаты. А вы кого-то ищете, Шандор? Здесь нет никаких контрреволюционеров. Исключительно жители этого дома. За это я вам ручаюсь, – ответил я на его родном языке.
Венгр покраснел. Похоже, Золотов был прав, красные мадьяры просто решили поживиться перед уходом.
– Понимаете, герр Питер… – произнес он почему-то по-немецки, переминаясь с ноги на ногу. – Мы отступаем. И не знаем, где в следующий раз сможем накормить лошадей и поесть сами.
– То есть вы ищете продукты на дорогу? – переспросил я его.
Он радостно закивал головой, довольный, что я сам четко, а главное – не обидно, сформулировал цель их визита.
– Боюсь, что здесь вы ничего не найдете. Мы сами не знаем, что будем есть на ужин. В нашем доме нет богатых людей, у которых были бы запасы продовольствия. Разве что квартирная хозяйка? Она держит кур. Недавно, кстати, забила поросенка.
При этих словах лицо Шандора просветлело.
– Но она живет во флигеле, куда уже пошли ваши товарищи.
Мой ученик приказал подельникам прекратить обыск и, прощаясь, поинтересовался: не опасаюсь ли я преследования со стороны белых за сотрудничество с Советами. Я ответил, что я простой обыватель и в политических играх не участвую, а просто зарабатываю себе на хлеб как могу. Шандор пожелал мне удачи, я ему – того же. На том мы и расстались.
Чехословацкие солдаты маршировали по улицам Иркутска в боевом снаряжении и красивой форме стройными и плотными рядами. Походный оркестр играл марш «Гей, славяне». Толпа встречала их ликованием как освободителей. Женщины бросали цветы легионерам, а те отвечали им благодарными улыбками.
Я пожалел, что оставил Полину дома. Всеобщая радость освобождения от большевистского «рая» захлестнула улицы.
Неожиданно из‑за поворота выплыло огромное бело-зеленое знамя, и от волнения у меня по коже побежали мурашки.
Я стоял в толпе и плакал от счастья, а передо мной проходили ряды сибирских добровольцев. Они не носили погон, но бело-зеленые нашивки красноречиво свидетельствовали, к какой армии они принадлежат. Я не верил своим глазам: в Сибири появилась своя собственная армия! Рассуждения Потанина о суверенитете и резолюции Сибирских областных съездов я воспринимал как нечто далекое и несбыточное. Но живые солдаты с оружием в руках под бело-зеленым знаменем были самой настоящей реальностью.
Среди них мелькали знакомые лица. У меня великолепная память на физиономии, и если я когда-нибудь встречал человека, пусть даже мельком, то все равно его образ откладывался где-то на задворках моего мозга. Вот с этим пареньком мы точно виделись в Университетской роще, он шел к главному корпусу с книжками под мышкой. А вот этот юноша учился в гимназии. А этот работал секретарем в окружном суде. Господи, сколько же среди них томичей!
– А ентот на белом коне – ихний енерал? – прошепелявил стоявший рядом беззубый дедок.
– Да будет тебе врать, сват! Больно молод для генерала! Ему поди и тридцати годков не будет. Генералы все старые, – возразила ему дородная мещанка.
Но дед сказал правду. Я узнал этого всадника. Его трудно было с кем-то спутать. Широкое открытое лицо, пшеничные усы, спадающая на глаза прядь густых русых волос. Это был Анатолий Полыхаев[119]. Я учился на юридическом факультете с его старшим братом Виктором. Мы с ним не очень-то дружили. Его отец командовал томским гарнизоном, и Виктор сторонился революционных кружков. Это потом, после окончания учебы, он уехал в Бийск и стал преподавать в тамошней гимназии. Тогда только всерьез занялся политикой. Вступил в партию кадетов, и его даже избрали депутатом Государственной думы. Анатолий же выбрал отцовскую стезю и поступил в военное училище. Ушел добровольцем на фронт, проявил там чудеса героизма, получил несколько Георгиевских крестов и стал подполковником. О его подвигах я читал в «Сибирской жизни» и там же видел его фото.
Так вот кто командует Сибирской армией! Он моложе меня лет на восемь.
Вечером в Общественном собрании городским головой был устроен банкет в честь освободителей. Ивана Иннокентьевича пригласили по телефону. А я напросился к нему в спутники. Уж больно мне хотелось из первых уст узнать, что творится в Сибири и России.
Но охранники в зал меня не пустили – как личность, не известную в общественных кругах Иркутска, а потому подозрительную. Вступился Золотов. Он представил меня как секретаря Григория Николаевича Потанина. На меня сразу посмотрели с уважением и даже посадили на видное место, рядом с воинами-освободителями.
За соседним столом кроме градоначальника сидели четверо. Из них я знал только одного – Анатолия Полыхаева. Мое внимание привлек чехословацкий офицер. Тоже молодой, одного с Полыхаевым возраста. У него было вытянутое бледное лицо, похожее на маску. И глаза – почти бесцветные. Если бы не две глубокие, упрямые складки по сторонам большого рта, то он, пожалуй, производил бы впечатление человека невзрачного и незаметного. Но они выдавали в нем волевую личность, а пустые глаза сразу напоминали расслабившегося хищника, чьи узкие зрачки боковым зрением выслеживают добычу. Этот господин мне сразу почему-то напомнил пороховую бочку, готовую взорваться в любой момент.
– Это Гайда[120]. Он главный у чехов, – подсказал мне Иван Иннокентьевич, который уже успел днем побывать на заседании городской думы и познакомиться с представителями новой власти.
– А тот молодой человек в штатском рядом с градоначальником – это Фомин[121], член Учредительного собрания от Енисейской губернии и представитель Сибирского правительства. Его сегодняшнее выступление в думе мне понравилось. Похоже, для демократов уроки большевиков не прошли даром. Они теперь согласны сотрудничать даже с цензовыми элементами, чтобы только не допустить возврата красной чумы.
Неожиданно тот, о ком мы говорили, встал и направился к нашему столу.
– Извините. Вы – Иван Иннокентьевич Золотев? – вежливо спросил он.
– Да, это я. А вы можете не представляться. Я знаю, кто вы такой.
– Тем лучше. Значит, я могу говорить напрямую? – Фомин вопросительно посмотрел в мою сторону.
– Извините, забыл представить. Пётр Афанасьевич Коршунов. Из Томска. В прошлом личный секретарь Муромского и Потанина. Он – свой человек, у меня нет от него секретов.
Я встал и поклонился в знак уважения. Лицо представителя вытянулось.
– Как, самого Муромского? Петра Васильевича? – переспросил он.
– Да. А он что-то натворил? – поинтересовался я.
– Нет. Что вы! Просто недавно министры Сибирского правительства, оказавшиеся в наличии в Западной Сибири, избрали его главой кабинета. Он теперь сибирский премьер-министр.
– А кто еще в этом кабинете? – спросил Иван Иннокентьевич.
– Крутовский, Петров, Петушинский[122] и Шаталов.
– Петушинского я знаю. Он толковый адвокат, – заметил Золотев.
– А я близко знаком с Михаилом Бонифациевичем. Мы учились вместе и даже одно время дружили.
Фомин присел за наш стол.
– Ну понятно – знаменитый потанинский кружок! – с некоторой завистью в голосе произнес он.
Но сразу перешел к делу.
– Вам нужно срочно выезжать в Омск. Вы – министр снабжения, и пора приниматься за государственные дела. 4 июля правительство приняло Декларацию о государственной самостоятельности Сибири и провозгласило образование Сибирской республики.
– Значит, Сибирь теперь будет праздновать свой государственный праздник в один день с американцами? Их День независимости – тоже 4 июля, – обратил я внимание на знаменательное совпадение.
Омский представитель чистосердечно признался:
– Наши министры специально приурочили оглашение декларации к этому дню. Ну что, Иван Иннокентьевич, каково будет ваше решение? Вы же патриот Сибири, неужели откажетесь встать у истоков ее государственности?
Золотов молчал.
– Я должен подумать. И мне нужны гарантии, что я не скатаюсь в Омск зазря.
– Запросите по телеграфу Сибирское правительство, – сказал представитель и, сославшись на дела, откланялся.
Иван Иннокентьевич долго тер пальцами свои гладко выбритые щеки.
– Ну и дела! Что посоветуете, Пётр Афанасьевич?
Я пожал плечами:
– Вам решать.
Он еще какое-то время помолчал, а потом стал размышлять вслух:
– Раз судьба предоставляет мне случай принять участие в антибольшевистской борьбе, то его упускать нельзя. Чувство долга обязывает. Может быть, мое пребывание в Омске усилит умеренное направление политики правительства. Человек я свободный, ни от каких партий не завишу и буду работать так, как подскажет мне моя совесть.
Я мысленно поаплодировал.
– А что, Пётр Афанасьевич, может быть, вы тоже со мной поедете? Вот, даже чехи поняли, что до Праги быстрее добраться, разбив большевиков, чем колесить вокруг земного шара. Тем более сам премьер-министр – ваш давний товарищ. Без работы в Омске не останетесь. А заодно и меня ему представите.
Полина, не раздумывая, вместо незнакомого Харбина выбрала Омск. Правда, по дороге попросила заехать в Томск в гости к Андреевым.
Через три дня пришла правительственная телеграмма:
«Председатель Совета министров просит члена правительства Золотова прибыть в Омск».
Глава 5. На всякого мудреца довольно простоты
Человеческая память избирательна. Во всяком случае моя. Порой в нее въедаются какие-то второстепенные, малозначительные детали, а события, имеющие историческое значение, напротив, забываются, уходят на второй план и по прошествии времени кажутся ничего не значащими эпизодами.
Встречу с Андреевыми в Томске я никогда не забуду! Был уже вечер, когда извозчик со станции подвез нас к утопающему в цветах бревенчатому дому. Солнце садилось за лес и золотило верхушки берез, заливая все вокруг красноватым цветом. У меня защемило сердце, когда я увидел знакомые крыльцо, ворота, калитку, возле которых я встретил Полину в ее очаровательном «коровьем костюме» и снова заговорил.
Домочадцы как раз пили чай в гостиной и, увидев нас, гурьбой высыпали на улицу и принялись обнимать и тискать всех троих. Особенно досталось Петеньке. Молодые тетки рвали его из рук друг у дружки, и каждая стремилась прижать его к себе сильней, покружить или подкинуть повыше на руках. Мальчик был напуган такой бурей страстей и разрыдался. Пришлось Полине взять его на руки и быстрее нести в дом. Толпа женщин, как свита у наследника престола, последовала за ними.
Александр Васильевич помогал заносить чемоданы.
– Я так рад, что вы передумали ехать за границу. Здесь сейчас столько работы, Пётр Афанасьевич! Наконец-то победила настоящая революция. Мы теперь сами начинаем строить свою жизнь. «Сибирская жизнь» снова выходит, и я снова ее редактор, – без остановки говорил хозяин дома.
Он даже внешне помолодел. Его глаза блестели задорно, как у мальчишки. И даже шрамы теперь не портили его лицо.
– Я вообще-то проездом. Завтра уезжаю в Омск. К Муромскому и Золотову. Хочу найти там работу. У меня будет к вам большая просьба – пусть Полина и Петенька, пока я не устроюсь на новом месте, поживут у вас.
– Какие проблемы, дорогой Пётр Афанасьевич! – воскликнул Андреев. – Путь живут, сколько захотят. Ведь Поля для меня как родная дочь, а ваш сын как родной внук. Мой дом – это их дом!
– Спасибо, Александр Васильевич! Я вам очень признателен. Вы меня так выручили! А то, знаете, в незнакомом городе с маленьким ребенком, и неизвестно, где жить…
– Вы все правильно делаете, мой друг. Омск теперь столица. Там принимаются решения, вырабатывается государственная политика, и лучшие умы Сибири обязаны быть там. Даже Григорий Николаевич не усидел дома и тоже на пароходе отправился в Омск. А за семью не беспокойтесь, они будут у нас как у Христа за пазухой. Мы никому их в обиду не дадим.
Нина уступила нам свою комнату. Ее светелка мало изменилась за пять лет. Только вместо революционных листовок и плакатов, которые молодая женщина вывешивала на стенах в знак протеста против царского самодержавия, теперь висело одно бело-зеленое знамя.
Спать мы легли поздно. Полину родственницы долго не отпускали из‑за стола и расспрашивали о наших иркутских мытарствах. Петенька тоже на новом месте заснул не сразу. Мне пришлось перепеть все знакомые колыбельные песни, прежде чем его глазки сомкнулись.
Сам же я в ту ночь не заснул. Вначале ждал Полину, потом мы с ней еще долго разговаривали. И даже когда она залезла ко мне под мышку и мерно задышала, сон не пришел. Прокричали первые петухи. Я тихонько встал, оделся и вышел из дома. Утро встретило меня свежестью и птичьим щебетом. Где-то поблизости мычали коровы, уходящие на пастбище. Наперебой, словно соревнуясь, кто голосистей, заливались петухи. Эти мирные звуки так радовали мое сердце, что я готов был слушать их хоть всю жизнь. На вокзал я пошел пешком напрямую через лес. Промочил ноги на утренней росе, зато насладился пробуждением природы.
Омск встретил меня дождем. Я никогда не любил этот город. Он более походил на военное поселение, разросшееся до сотни тысяч жителей. Военные фуражки и казачьи папахи здесь встречались чаще гражданских головных уборов. А чего можно было еще ожидать от столицы Сибирского казачьего войска, усиленного юнкерским и кадетским училищами, школой прапорщиков и еще многими военными и вспомогательными учреждениями?
Я сошел на перрон с небольшим саквояжем в руке и тут же раскрыл зонт. В Совет министров Сибирского правительства ехать было уже поздно, поэтому я сразу отправился в гостиницу «Россия», где мы с Иваном Иннокентьевичем условились встретиться. На мое счастье, оказался один свободный номер. Портье сказал, что министр Золотов живет со мной на одном этаже, но в другом конце коридора, однако сейчас его нет в номере. Я попросил передать господину министру, когда тот появится в гостинице, мои координаты и поднялся к себе.
Номер состоял из двух комнат, обставленных убогой мебелью и давно не знавших генеральной уборки. Но после поезда он показался мне сносным. В дороге мне так и не удалось выспаться, и я, не раздеваясь, прилег на застеленную кровать и моментально заснул.
Меня разбудил стук в дверь. В комнате было уже темно. Лунный луч, пробиваясь сквозь прозрачные шторы, прямоугольником ложился возле кровати. Я раскрыл часы и протянул их к свету. Половина первого. В дверь постучали еще раз и гораздо сильнее прежнего. Я встал и пошел открывать.
Яркий свет из коридора ослепил меня, удалось различить лишь два мужских силуэта.
– Вот он, красавчик. Собственной персоной. Я же вам говорил, что он обязательно приедет, – я узнал голос Золотова.
– Похоже, что мы пришли невовремя, Иван Иннокентьевич. Когда наше правительство решает исторические задачи, этот молодой человек изволит почивать, – сказал его спутник очень знакомым голосом.
Я наконец-то протер глаза и узнал Муромского.
– Здравствуйте, Пётр Васильевич. Я очень рад вас видеть. И вас тоже, Иван Иннокентьевич. Вы уже познакомились?
– Более того, мы уже вместе трудимся в поте лица на благо родной Сибири. Вы давно спите, а мы только возвращаемся с заседания правительства, – с оттенком легкой укоризны заметил премьер-министр.
– Я тоже приехал сюда работать, – с некоторой обидой в голосе произнес я.
Муромский подавил зевоту и устало резюмировал:
– Ваше прошение о приеме на службу рассмотрено. Должность моего личного секретаря вас устроит?
Я согласно кивнул головой.
– Завтра в десять часов утра начнется заседание Совета министров в узком составе. Я прошу вас прибыть за полчаса до него. Иван Иннокентьевич вас проводит. Ну вот, еще один вопрос решен. Теперь можете досматривать свои молодые сны, Пётр Афанасьевич. Нам тоже не мешает отдохнуть. А то груз государственных забот так давит, что сердце может не выдержать. Спокойной ночи, коллеги.
Пётр Васильевич пожал нам на прощание руки и по скрипучей лестнице спустился вниз, где у входа его поджидал автомобиль. Золотов тоже пожелал мне спокойной ночи и направился к себе в номер. Он буквально шатался от усталости.
– Какое у вас образование? – важно надувая пухлые щеки, поинтересовался серый и суетливый человек из канцелярии.
Это был заведующий секретариатом Совета министров. Типичная канцелярская крыса.
«Господи! Ну откуда вылезают эти серые люди с невыразительными глазами, но важным видом? Не успело еще правительство сформироваться, а они тут как тут. Они опутывают всякое живое начинание рутинной канцелярщиной, чтобы без их разрешения даже скрепки не было отпущено, не говоря уже о вооружении и обмундировании для армии».
– Я учился на юридическом факультете, но не закончил его.
Глазенки канцелярской крысы злорадно блеснули.
– Так у вас даже диплома нет! – протянул бюрократ и выпятил губы. – Рассчитываете за счет личных связей, по знакомству, сделать карьеру?
– Вы правы, революция 1905 года помешала мне закончить обучение в Томском университете. И я получил только сертификат. Может быть, он подойдет для моего трудоустройства?
Я небрежно раскрыл папку со своими личными документами и выложил на стол красивую сафьяновую книжку с золотым теснением.
– Что это? – переспросил чиновник.
– Сами посмотрите.
Он раскрыл мой документ и, почесав лоб, ответил:
– Тут не по-нашему написано.
– Как, вы не знаете английского языка? Я думал, что уж служащие секретариата правительства должны знать язык союзников.
Чиновник покраснел.
– Не надо юродствовать, молодой человек, – сказал он примирительным тоном. – Поясните лучше, что это за документ. Я должен правильно записать его название в вашем личном деле.
– Это сертификат Оксфордского университета (не знаю, слышали ли вы о таком?), подтверждающий, что я прослушал там курс лекций по финансам и биржевому делу. У меня есть еще целая папка разных бумаг о владении мною девятью европейскими языками и сертификат из Женевы об успешной сдаче экзаменов по курсу стенографии. Чтобы все их вписать в мое дело при вашей-то расторопности вам понадобиться неделя…
Канцелярская крыса уже изготовилась показать мне зубы, но в комнату неожиданно заглянул председатель правительства.
– Вы уже закончили оформление? Поторопитесь, пожалуйста. Начинается заседание Совета министров, и я хочу, чтобы его стенографировал Пётр Афанасьевич.
Я оставил папку с документами на столе заведующего секретариатом, нарочито вежливо попросив переписать все, что ему необходимо, и сохранить мои документы в целости и сохранности, пока я буду РАБОТАТЬ, и удалился вслед за премьером.
Муромский вел заседание ровно и спокойно, словно имел за плечами большой опыт руководства государством. Правда, порой он совершенно напрасно позволял прениям затягиваться, что совсем не способствовало детальной проработке вопросов, но съедало много времени, которого и так было в обрез.
Кроме самого премьера, министра снабжения Золотова, который вскоре стал его заместителем, в узкий состав входили еще трое министров. Иркутский адвокат Григорий Борисович Петушинский, самолюбивый и вспыльчивый, заведовал юстицией в Сибирской республике. Совсем еще молодой человек с лицом херувимчика, беженец из Петрограда, сын известного народовольца Иван Петров – финансами, хотя, как я понял из прений, никаких практических навыков в этой области не имел. Мой давнишний университетский приятель Миша Шаталов руководил Министерством туземных дел. Прежде на этих заседаниях присутствовал еще министр внутренних дел Крутовский, но он под благовидным предлогом уехал к себе в Красноярск и в правительство не возвращался.
Утром по дороге в Совмин Иван Иннокентьевич успел просветить меня относительно непростой здешней обстановки. Реальная власть в Омске по-прежнему принадлежала военным, кто с оружием в руках сверг большевистское иго и чьи соратники продолжали войну на разных фронтах. В их среде выделялись два лидера: казачий полковник Иванов-Ринов[123] и полковник артиллерии Гришин-Алмазов[124]. Оба офицера умны, деятельны и честолюбивы. Они отчасти соперничают друг с другом, потому военная диктатура Омску пока не грозит. Нет единой кандидатуры. Свергнув большевиков, военные боялись, что власть захватят эсеры из Западно-Сибирского комиссариата, подконтрольного дальневосточному правительству. Благо, его председатель Дербер с министрами-однопартийцами оказался во Владивостоке, иначе в Сибирской республике давно бы уже произошел военный переворот. Военные как чумы страшились эсеровщины и левизны, помня печальный опыт Временного правительства Керенского. Поэтому кандидатура каждого министра проходила жесткий отбор военными.
– Меня встретили чрезвычайно настороженно. До моего приезда в правительстве сложился баланс сил. Муромский и Петров придерживались умеренных взглядов, а Петушинский с Шаталовым – левых. Крутовский сохранял нейтралитет. Он так и не решил, к какому лагерю примкнуть, потому вообще уехал из Омска, – объяснил мне Золотов. – А относительно меня военные успокоились, когда убедились, что я не социалист.
Кроме офицеров на правительство оказывали влияние, лоббируя собственные интересы, торгово-промышленники и кооператоры. Каждая из группировок старалась продвинуть во власть как можно больше своих людей.
– Но это все местные разборки, – резюмировал министр снабжения. – Хуже всего, что зреет конфликт между сибиряками и навозными. Беженцы из столиц быстро осваиваются в Омске и насаждают свои бюрократические порядки, чуждые вольным сибирякам.
С докладом о положении дел на востоке страны выступал уже знакомый мне по Иркутску уполномоченный правительства Фомин.
– Наши войска под командованием генералов Полыхаева и Гайды с боями продвигаются вдоль Круго-Байкальской железной дороги. Их соединение с частями атамана Семёнова[125] является делом недели. Таким образом, Западная Сибирь объединяется с Восточной. Однако там действуют два правительства: Дерберовское во Владивостоке и правительство, сформированное управляющим Китайско-Восточной железной дорогой генералом Хорватом[126] в Харбине. Владивостокцы испытывают значительные финансовые трудности (большевики арестовали больше миллиона рублей, находящихся на их счетах в банке и растранжирили деньги). Это правительство близко к самоликвидации. Однако некоторые его министры не намерены слагать с себя полномочия, и вполне возможно их скорое появление в Омске.
Докладчик отпил воды из стакана и продолжил:
– Но большую опасность, на мой взгляд, для нас представляет комитет генерала Хорвата. Во-первых, у него есть деньги. Один только петербургский заводчик Путилов[127], входящий в состав этого правительства, чего стоит! Во-вторых, его всячески поддерживают бывшие царские генералы. Недавно они ввели в комитет еще одного своего представителя, которого, по некоторым сведениям, готовят на роль российского Бонапарта. Это прославившийся на Черном море контр-адмирал Колчак. Весьма харизматическая личность. Неизвестно, как поведут себя по отношению к нам атаманы Семёнов и Калмыков[128], их всячески поддерживают японцы. В семеновском штабе открыто пребывают два японских офицера. Смущает и позиция чехословаков. Они ведут себя на нашей территории совсем независимо и мало считаются с нашей властью. Особенно вызывающе держит себя капитан Гайда, неожиданно ставший генералом. Он самовольно вводит военное положение в сибирских уездах, учреждает военно-полевые суды с правом вынесения смертных приговоров. Его популярность среди населения, особенно интеллигенции, растет день ото дня. Его фотографии продаются на всех станциях. Слава ему уже вскружила голову, и от него можно ждать любых сюрпризов.
Фомин закончил. Председатель Совмина поблагодарил его за объективную оценку и перешел к прениям.
Первым высказался Петушинский:
– Я не понимаю, почему мы должны препятствовать другим нашим коллегам из Сибирского правительства приступить к исполнению своих прямых обязанностей? Или в России не было никакой революции и власть снова перешла к монархически настроенным реакционным деятелям и буржуазии? Тогда прямо скажите об этом, а не отводите нам роль каких-то марионеток, которых дергают за ниточки. По крайней мере я на должность куклы не подписывался!
Ангельское лицо министра финансов исказила злорадная ухмылка. Он уже изготовился дать бой оппоненту по всем правилам риторики, но вмешался Муромский и как истинный толстовец принялся мирить драчунов.
– Григорий Борисович, ну мы же договорились не касаться классовых противоречий. Не надо раскачивать хрупкую лодку нашего единства. Я вам еще раз повторяю: в Сибири нет, не было и не могло быть никакой классовой борьбы! Метрополия всех сибиряков угнетала одинаково. Из‑за таких надуманных идеологических догм развалилась Российская империя, и я не хочу, чтобы наша молодая республика повторила ее судьбу! Нам надо учиться достигать согласия через компромисс, а не нагнетать напряженность. Видимо, мне самому придется ехать на восток, чтобы договориться со всеми претендентами на власть и объединить наши усилия в антибольшевистской борьбе.
После обеденного перерыва на расширенном заседании Совета министров выступил специально приехавший в Омск казачий атаман Дутов[129].
Он говорил ровно и спокойно, объективно и без прикрас:
– Правительство Оренбургского казачьего войска контролирует ситуацию в крае. Кое-где в станицах еще прячутся большевистские агитаторы, но мы их с помощью населения выявляем. Симпатии казаков на нашей стороне. Из ближайших союзников мы больше склонны доверять сибирякам, чем самарскому Комучу[130]. Хоть самарская армия и сражается вместе с нами против большевиков, но делает это тоже под красным знаменем. Казакам не понятна разница между социалистами и большевиками.
Внезапно атамана перебил доселе молчавший министр туземных дел.
– Так вы, как правитель края, объясните им, что Комитет членов Учредительного собрания пока является единственной легитимной центральной властью. Это было последнее свободное волеизъявление российского народа перед узурпацией власти большевиками. Все другие правительства (и ваше, и наше в том числе) – областные. И если вы не видите разницы между истинной демократией и вооруженным захватом власти, то мой вам совет: купите себе очки!
Дутов удивленно посмотрел на бородатого министра в пенсне и перевел многозначительный взгляд на Муромского. В колючем взгляде атамана читался немой вопрос: «А может быть, я ошибся, приехав к вам?»
Муромскому пришлось извиняться за своего министра, дескать, это частное мнение Михаила Бонифациевича, а официальная позиция Сибирского правительства – совсем иная. Чтобы окончательно успокоить Дутова, премьер тут же объявил Шаталову выговор.
– Мы склонны рассматривать Самару как гнездо эсеровщины, и если судить по прошлому опыту, ее засилье в России не обещает ничего хорошего в борьбе с большевиками. Сибиряки всегда отличались деловитостью, основательностью и взвешенностью своих решений, поэтому нам с вами более по пути, чем с самарцами.
Заключение речи оренбургского атамана зал встретил аплодисментами. И только Петушинский с Шаталовым не хлопали.
Уральцы были на распутье: за кем идти? За Омском или за Самарой? А Сибирское правительство невольно встало перед проблемой распространения своей власти за Урал. Урегулировать эти непростые вопросы Совмин поручил министру снабжения Золотову и командующему Сибирской армией генералу Гришину-Алмазову и командировал их в Екатеринбург.
Командарм сформировал целый бронепоезд, набрал большую свиту из адъютантов и роту солдат для охраны. А Золотов взял с собой только меня.
Отъезд был назначен на вечер. А весь день шли заседания. Внезапно в перерыве премьер-министр вспомнил, что в три часа дня из Тобольска приплывает на пароходе Григорий Николаевич Потанин. И не один, а с бабушкой русской революции Екатериной Константиновной Брешко-Брешковской[131]. Он попросил меня перед отъездом встретить знаменитых стариков и устроить их в гостиницу.
Пароход задерживался. Шофер начал нервничать. Ведь Муромский выделил мне машину всего на час, из которого минула уже половина. У старушки на пристани я купил красивый букет для Брешко-Брешковской и теперь нервно ходил по причалу, не зная, куда засунуть цветы. Со стороны я, видимо, производил впечатление пылкого любовника, не чаявшего скорее встретиться с дамой своего сердца. Кто бы мог подумать, что этой даме уже под восемьдесят лет и она большую часть своей жизни провела в тюрьме и ссылке!
Просвистев и выпустив из трубы последнюю струю дыма, пароход пришвартовался к берегу. Матросы затянули канаты на причальных чугунных тумбах и спустили трап. Пассажиры один за другим потянулись к выходу. Но одна парочка не тронулась с места. Они стояли в сторонке, бережно поддерживая друг дружку, словно боялись, что легкий речной ветерок может сдуть их с палубы, и терпеливо ждали, когда все пройдут. Совершенно седой и совсем заросший старик в походной шляпе и выпуклых очках и старомодно одетая старушка в шляпке с вуалью. Дедушка сибирского областничества и бабушка русской революции.
«Будет ли толк от этого союза? – подумалось мне в ту минуту. – Уж больно они старые и дряхлые. А их молодые последователи никак не могут договориться, как строить новое государство».
Наконец палуба опустела. И Брешко-Брешковская повела слепого, опирающегося на палку Потанина за собой. Трап от речных волн качало из стороны в сторону, и старички переступали по нему очень медленно, а на выходе силы совсем оставили их, и нам с водителем пришлось в буквальном смысле ловить их в воздухе.
Но Екатерине Константиновне такое обращение показалось фамильярным, и она с размаху ударила шофера веером по щеке и обозвала хамом.
Я же нес Григория Николаевича. Он оказался на удивление легким и, несмотря на свою слепоту, сразу узнал меня:
– Это вы, Пётр Афанасьевич? Как я рад, что вы не уехали за границу, остались с нами строить новую Сибирь! А как Поленька? Я слышал, что у вас родился сын. Поздравляю от всей души!
Брешко-Брешковская и слышать не хотела никаких извинений. Она была почти глухой и воспринимала только крик. Букет ей понравился, и она одарила меня жеманной старушечьей улыбкой.
– Екатерина Константиновна, это мой бывший помощник и секретарь Пётр Афанасьевич Коршунов, – прокричал ей Григорий Николаевич.
Старая революционерка окончательно успокоилась и по-товарищески пожала мою ладонь своими цепкими птичьими пальцами.
По дороге в гостиницу Потанин успел пригласить меня на свою лекцию о культе Эрлика в восточной мифологии, которую он намеревался прочесть нынче вечером в зале Общественного собрания.
Я невольно улыбнулся. Свершаются революции, меняются правительства, идет Гражданская война, а он носится со своим Эрликом. Но потом вспомнил гибель шамана Мамлыя, и улыбка исчезла с моего лица. Может быть, хоть духи помогут примирить наш народ?
Григорий Николаевич словно прочитал мои мысли и сказал:
– А вы знаете, что большевики послали на Алтай карательный отряд и разогнали тамошнюю думу?
Я отрицательно покачал головой.
– Хотели арестовать Буркина, но он скрылся. Вот какое самоопределение для национальностей они готовят. Ну как, придете ко мне на лекцию? Я нашел много новых фактов в доказательство своей гипотезы о сибирском происхождении Христа.
– С удовольствием бы прослушал вас, но нынче вечером я уезжаю в командировку в Екатеринбург.
– На фронт?
– Нет. Уже в тыл.
Но Потанин последнюю мою фразу не расслышал и стал рассказывать, как он однажды по юной глупости участвовал в боях в Семиречье, расширяя владения российской короны.
В Екатеринбург мы приехали рано утром. На вокзале нас встретил почетный казачий караул с оркестром. Сибирский главком принял рапорты от здешних командиров и пригласил их вместе с небольшой группой штатских общественных деятелей подняться к нам в вагон на короткое совещание.
Делегацию возглавлял инженер, состоящий в партии кадетов. Он-то и высказал мнение уральцев относительно будущего политического устройства своего края.
– Мы бы хотели, чтобы Урал был выделен в особую автономную область с областным правительством во главе, ведению которого бы подлежали все дела местного значения.
Золотов и Гришин-Алмазов переглянулись, но ничего не сказали.
Тогда уралец, видимо, чтобы раззадорить посланников Сибирского правительства и сделать их более сговорчивыми, вскользь обмолвился, что в Екатеринбург уже прибыли два комиссара Комуча с намерением подчинить Урал власти Самарского правительства, и нынешним вечером совещание представителей партийных и общественных организаций Екатеринбурга будет решать, кому отдать предпочтение.
Военные подали командарму автомобиль, и Гришин-Алмазов пригласил в него нас с Золотовым.
При въезде на соборную площадь Иван Иннокентьевич неожиданно поднялся во весь рост и перекрестился. Он еще в вагоне расспрашивал о Романовых. Теперь я понял, что именно.
– Вот он – дом горнопромышленника Ипатьева, – произнес он трагическим голосом, указывая на закрытую высоким деревянным забором усадьбу. – Здесь 17 июля свершилось мрачное злодеяние. Последний русский царь, его супруга, их невинные дочери и наследник престола были зверски расстреляны большевиками.
Военный министр приказал шоферу остановиться. Мы вышли из машины. Следом за нами остановились две подкатившие коляски. Одна с офицерами, а другая – со штатскими.
– Начальник гарнизона уже распорядился произвести следствие об убийстве государя и его семьи, – отрапортовал молодой штабс-капитан из Академии Генштаба, недавно эвакуированной из Петрограда. – Его ведет судебный следователь Начёткин. Изволите допросить его о результатах?
Гришин-Алмазов утвердительно кивнул. Военные провезли нас по своим заведениям, а после доставили на парадный завтрак к начальнику гарнизона. Мне выделили место за столом с офицерами. В своем штатском костюме я выглядел белой вороной среди военных кителей, пока за наш стол робко не подсел немолодой человек с веснушчатым лицом в мундире судейского следователя. В руках он крепко сжимал картонную папку и все время оглядывался по сторонам, ожидая, что его вызовут для доклада.
За завтраком разговор снова зашел об убийстве царской семьи. Все сразу стихли, слушая речь начальника гарнизона.
– Царственных узников все время держали в доме Ипатьева. Чтобы оградить их от внешнего мира, большевики построили второй деревянный забор высотой более сажени. Снаружи их караулили красноармейцы, а изнутри только чекисты из иудеев и латышей. В окнах верхнего этажа всегда стояли наготове два пулемета, чтобы отразить возможное нападение. А когда стало ясно, что Сибирская армия вот-вот возьмет Екатеринбург, тюремщики получили приказ на уничтожение царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля их всех привели в подвал дома и расстреляли вместе со слугами. Потом трупы вывезли на подводе в лес, рассекли на части, сбросили в ствол шахты, облили бензином и подожгли. Недавно мы обнаружили их останки.
В зале установилась гробовая тишина. Даже у меня, никогда не питавшего к царю теплых чувств, по коже поползли мурашки. Это злодеяние из тирана его сразу превратило в мученика.
– А детишек-то за что? Они в чем провинились? – недоуменно переспросил Золотов.
– Это логика их революции. Если рубить династию, то под корень. От большевиков пощады не жди, – ответил Гришин-Алмазов.
– Цареубийцам удалась сбежать. Кстати, руководил расстрелом томский фотограф Янкель Юровский[132]. Мы арестовали сестру этого чудовища и еще кое-кого из красноармейцев внешней охраны. От них-то и получили первые сведения, – поведал начальник гарнизона.
В этой трагической, поминальной атмосфере было уже не до заслушивания судебного следователя, главное мы уже знали. Нас ждала жаркая схватка с самарскими социалистами за Урал, и о Начёткине сибирские министры забыли. Меня же очень заинтересовало содержимое этой папки, и я сговорился со следователем встретиться вечером у него дома.
– Сибиряки, как никто другой, знают, что такое гнет метрополии, доведенный до абсурда централизм. Поэтому Сибирское правительство не возражает против предоставления Уралу областной автономии и даже приветствует таковую. Как говорит великий сибирский мыслитель Григорий Николаевич Потанин: «Пусть каждая область зажжет свое солнце, и тогда вся земля будет иллюминирована!»
Это высказывание министра снабжения Сибирского правительства зал встретил овацией. Однако Иван Иннокентьевич сразу оговорился:
– Но только при одном условии.
– Каком? – послышался вопрос из зала.
– Верховная власть будет принадлежать Сибирскому правительству.
– И на каком основании? – ехидно полюбопытствовал посланник из Самары. – Вы – такие же областники, и никто вас не уполномочивал брать на себя право образовывать новые областные деления, особенно вне территории Сибири.
Командарм не выдержал и вспылил:
– Вы спрашиваете о наших полномочиях? Кто нам их предоставил? Гражданская война, господин социалист. Сибирские войска освобождают сейчас Урал от большевиков. Этого вполне достаточно для присоединения Урала к Сибири.
В зале повисла тишина. Раздались возгласы об империалистической агрессии Сибири. Спас Золотев, придав дипломатического лоска словам военного.
– Если Приуральское правительство, избранное представителями населения, проявляет желание больше координировать свои действия с Омском, а не с какой-либо другой властью, то объяснение этого, конечно, лежит не в действиях Сибирского правительства, а в объективных фактах.
До квартиры Начёткина я добрался, когда на город спустились густые сумерки. Следователь жил скромно. По аскетической обстановке было видно, что и в лучшие времена здесь мало внимания уделяли комфортному обустройству быта, а в нынешние – и совсем забыли. На кухне, куда меня сразу провел хозяин, даже приличных чашек для чая не было. Кипяток из закопченного чайника он разливал в помятые солдатские кружки. Хотя чая, как такового, у Начёткина тоже не было.
– Прошу извинить меня за скудность угощения. Но это у вас в богатой Сибири все есть, а у нас, в столице красного Урала, чай из магазинов давно исчез. Только на рынке спекулянты продают втридорога. Да и не чай, а труху всякую. Я вообще на травы перешел. Завариваю ромашку, зверобой, мать-и-мачеху. И для здоровья полезней, и для кошелька не накладно. Ну как, попробуете моего отвару?
Суетясь у плиты, следователь бубнил себе под нос:
– Значит, вы у председателя Сибирского правительства личным секретарем служите? Знавал я вашего начальника. Толковый присяжный поверенный был. Однажды на суде от моего обвинения камня на камне не оставил, присяжные единогласно оправдали его подзащитного. А это, к вашему сведению, был отъявленный головорез. Он потом еще трех человек порешил. Но я на Петра Васильевича не в обиде. Сам виноват, что поспешил с передачей дела в суд. Этот его урок я на всю жизнь запомнил. Теперь каждую мелочь, каждую детальку к делу подшиваю. А вдруг именно она станет решающей уликой?
Он закончил с приготовлением отвара и поставил дымящиеся кружки на стол. Из кармана брюк извлек измятую замусоленную бумажку с тремя кусками сахара.
– Вот, угощайтесь. Презент с парадного завтрака.
Я небрежно бросил рафинад в кружку и попросил ложку, чтобы помешать. Хозяин неодобрительно посмотрел на мои действия, но ложечку дал, однако заметил при этом:
– А я привык кушать сахар вприкуску. Так вкус лучше ощущаешь. Значит, интересуетесь убийством царской семьи? Так его превосходительство в точности изложил всю суть дела. Мне и добавить-то нечего.
– Так уж и нечего? – я лукаво посмотрел на следователя. – Никогда не поверю, чтобы у такого опытного сыщика лишних улик в загашнике не осталось.
Начёткин вздохнул.
– Ну, может быть, и остались. Только что из того?
Он взглянул на меня изучающе, словно хотел просверлить глазами мой череп и посмотреть, что у меня внутри, а потом вдруг спросил:
– А вы давно с Петром Васильевичем знакомы?
– С 1905 года.
– Значит, томский черносотенный погром захватили?
– Я чуть не погиб в здании железнодорожной управы во время его.
– То-то я смотрю, глаза у вас еврейские.
Я улыбнулся.
– Вы второй человек в моей жизни, который говорит о моем еврейском происхождении. Боюсь, что разочарую вас: я – словак или болгарин.
– Да мне-то все равно, кто вы. Главное, что не черносотенец, – отпив отвара, произнес следователь.
– Это я вам гарантирую.
Начёткин принял решение, кряхтя, поковылял из кухни, и вернулся с папкой. Совсем не с той, какую я видел у него утром.
– Здесь опись вещей, обнаруженных у убитых, – он протянул мне лист бумаги, исписанный мелким почерком. – Обратите внимание на книги, которые читала царица перед гибелью.
Под номером 1 значилась Библия. Номер 2 – первый том романа графа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Номер 3 – Сергей Нилус «Великое в малом»[133].
– Нилус… Нилус… Где-то я слышал эту фамилию…
Оценив мою реакцию, следователь окончательно проникся ко мне доверием.
– Это так называемые «Протоколы сионских мудрецов» с пометками самой Александры Фёдоровны.
Опасения старого сыщика меня удивили.
– Ах, вот оно что. Но ведь любому умному человеку понятно, что это фальшивка. Я слышал, что это продукт деятельности охранного отделения. Мне некогда было читать подобные глупости, – отмахнулся я.
Начёткин порылся в папке и извлек из нее свежую фотографическую карточку.
– А относительно этого что вы думаете? – спросил он, протягивая мне снимок.
На оконном стекле была выцарапана свастика. Я встречал этот знак в рукописях Потанина, посвященных Индии и Китаю.
– Кажется, это символ счастья и удачи у буддистов, – простодушно произнес я и отложил снимок.
– Этот знак императрица нацарапала на стекле в комнате Ипатьевского дома, которую она занимала вместе с государем буквально накануне казни, – следователь почему-то перешел на шепот, а потом внезапно спросил меня: – Вы не читали произведений австрийского писателя Гвидо фон Листа[134] о германо-арийцах?
– Нет. Вот «Войну и мир» читал. А что, этот господин известен наравне с Толстым?
– Поймите, это вовсе не шутки. Среди членов Союза русского народа его книги, как и творения Нилуса, пользовались большой популярностью. Для них свастика символизирует чистоту германской крови и борьбу арийцев против евреев. А теперь сопоставим факты: свастика на окне, книга Нилуса с «Протоколами» в доме, где расстреляна царская семья под руководством большевика-еврея. Это же прозвучит как откровение, как страшное завещание погибшей императрицы! Начало царствования Антихриста, взрыв сатанинских сил в большевистской революции, уничтожение носителей божественной воли на земле, олицетворение сил зла в еврействе, мировой жидо-коммунистический заговор! Вот какие выводы из этих находок сделают господа офицеры. По всей России прокатится чудовищный погром невиданных размеров. Да что там по России, по всей Европе, по всему миру! И тогда народы надолго забудут о гражданских свободах, демократии. О том, для чего и делалась революция.
Следователь снова вышел из кухни, оставив меня в размышлении.
«Черт побери! А ведь он прав. Бей жидов, спасай Россию в масштабе Вселенной!»
Он вернулся с книгой под мышкой и отдал ее мне со словами:
– Это экземпляр императрицы. Когда я ознакомился с ее купюрами на полях и тем, что подчеркнуто, пришел в ужас и подменил ее на другую такую же книгу, которую одолжил у одного своего знакомого. Изъять ее из царских вещей вообще я не мог, ведь они все были уже описаны. Царица предчувствовала трагедию и решила отомстить. Но что мне делать с этой книгой? Она жжет мне руки, лишила меня сна и покоя. Я знаю: не по Сеньке шапка. Передайте эту книгу лично господину Муромскому. Он теперь глава правительства, ему и решать, что делать с завещанием императрицы.
Протоколы сионских мудрецов
Что волновало последнюю российскую царицу перед казнью? Что подчеркнула ее педантичная рука?
Что людей с дурными инстинктами гораздо больше, чем добрых, поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением, а не академическими рассуждениями.
Что сдерживало хищных животных, которые зовутся людьми? Что ими руководило до сего времени? В начале общественного строя они подчинились грубой и слепой силе, потом закону, который есть та же сила, только замаскированная. Следовательно, по закону естества – право в силе.
Что политическая свобода есть идея, а не факт. Ее надо уметь применять. Идейной приманкой нужно привлечь народные массы к своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти находящуюся. Задача эта облегчается, если противник сам заразится идеей свободы, так называемым либерализмом, и ради этой призрачной цели поступится своей мощью. Идея свободы неосуществима, потому что никто не умеет пользоваться ею в меру. Стоит только народ на некоторое время предоставить самоуправлению, как оно превращается в распущенность.
Что политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководящийся моралью, непрочен на своем престоле. Кто хочет править, должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. Великие народные качества – откровенность и честность – пороки в политике, потому что они свергают с престолов лучше и вернее сильнейшего врага. Таким образом, цель оправдывает средства.
Что нужность и полезность важнее доброты и нравственности.
Что слепой не может водить слепых, он обязательно доведет их до пропасти. Поэтому выскочки из народа, хотя бы и гениально умные, но в политике не разумеющие, не могут выступать в качестве руководителей толпы. Они погубят всю нацию.
Что только с детства подготовляемое к самодержавию лицо может ведать слова, составляемые политическими буквами.
Что пароль сионистов – сила и лицемерие. С помощью этого зла они хотят добраться до добра, поэтому для достижения цели не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством. Ведь в политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний. Ради победы надо держаться программ насилия и лицемерия.
Что администраторы, выбираемые из публики в зависимости от их рабских способностей, не будут лицами, приготовленными для управления, и потому они легко сделаются пешками.
Что роль прессы сводится лишь к тому, чтобы указывать якобы необходимые требования, выражать и создавать неудовольствия.
Сионские мудрецы собираются государства превратить в арены, на которых будут разыгрываться смуты… Создав всеми доступными им путями с помощью золота, которое все в их руках, общий экономический кризис, они бросят на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Эти толпы с наслаждением прольют кровь тех, кому они в простоте своей завидуют с детства и чьи имущества им можно будет тогда грабить. Как это было во Французскую революцию, которая тоже их рук дело. С тех пор они водят народы от одного разочарования к другому, чтобы нации отказались от царей своих в пользу единого царя-деспота сионской крови.
Цель сионистов – подорвать веру, вырвать из уст народов самый принцип Божества и Духа и заменить все арифметическими расчетами и материальными потребностями. Чтобы людские умы не успевали думать и замечать, надо их отвлечь на промышленность и торговлю. Тогда все нации будут искать своей выгоды и в борьбе за нее не заметят своего общего врага. Напряженная борьба за превосходство, толчки в экономической жизни создадут, да и создали уже, разочарованные, холодные и бессердечные общества.
Какую форму административного правления можно дать обществам, в которых подкупность проникла всюду, где богатства достигают только ловкими сюрпризами полумошеннических проделок, где царствует распущенность, где нравственность поддерживается карательными мерами и суровыми законами, а не добровольно воспринятыми принципами, где чувства к родине и к религии заперты космополитическими учреждениями? Какую форму правления дать этим обществам, как не деспотическую?
Только усиленная централизация управления, чтобы все общественные силы были в одних руках. Только величественный деспотизм…
Что все так называемые либералы суть анархисты, если не дела, то мысли. Каждый из них гоняется за призраками свободы, впадая исключительно в своеволие, то есть в анархию протеста ради протеста…
Расчеты мудрецов особенно простираются на провинции. В них они хотят возбудить упования и стремления к самостоятельности, с которыми провинции обрушатся на столицы, умножая смуту.
Нынешние революционеры – это тигры с бараньими душами, а в головах их сквозит ветер. Сионисты посадили их на конька мечты о поглощении человеческой индивидуальности коллективизмом… Они еще не разобрались и не разберутся, что это явное нарушение главнейшего закона природы, создавшей с самого сотворения мира единицу, не похожую на другие, – индивидуальность…
Сионские мудрецы не считают жертв из числа семени скота…
На следующий день генерал Гришин-Алмазов принимал парад сибирских и чехословацких войск, а мы с Иваном Иннокентьевичем отправились на встречу с местными деятелями. По дороге к Общественному собранию наш автомобиль сломался, и пока водитель чинил его, я достал из портфеля адскую книгу, переданную мне Начёткиным для Муромского, и стал ее перелистывать. Министр снабжения нервно расхаживал вокруг авто.
Золотову стало интересно, чем я так увлечен, и он спросил, что я читаю. Я показал ему обложку.
– Тьфу, – сплюнул он на мостовую. – Как вы можете читать подобную глупость?
Я ничего не ответил и вновь погрузился в чтение. Золотев сделал еще пару кругов вокруг автомобиля, постукивая тростью по колесам, пока водитель не объявил, что поломка устранена и можно ехать дальше.
В больнице Иван Иннокентьевич навестил раненых сибиряков, поблагодарил их от лица правительства за проявленную храбрость и пожелал скорейшего выздоровления.
Нас завели в палату одного чудом выжившего при расстреле домовладельца. Большевики захватили его в качестве заложника вместе с другими состоятельными гражданами, посадили в тюрьму и направили сибирскому командованию ультиматум: если начнется штурм города, то все заложники, а их было около сотни человек, будут расстреляны.
Как только сибирские и чехословацкие части приблизились к Екатеринбургу, заключенных отконвоировали в лес и стали расстреливать группами на краю оврага.
– И вот пришла моя очередь. Меня вытолкнули на край братской могилы. Я перекрестился и зажмурил глаза. Раздался залп. И я провалился в обморок. Однако вскоре пришел в себя, услышал голоса, оружейные залпы, крики и мольбы о пощаде несчастных, ни в чем не повинных людей, потом снова выстрелы, и понял, что живой. У меня нигде ничего не болело. Значит, ни одна пуля в меня не попала. И я притворился мертвым. Потом услышал шаги. Это проходили красноармейцы с наганами и добивали выживших. Стреляли в голову, наверняка. Рано я радовался спасению. И тогда снова стал молиться. Уже стемнело. Вот и надо мной склонился палач. Я даже знал, что он целится мне в висок. Но тут его окрикнул командир, и красноармеец отвлекся на секунду. А когда вернулся, то забыл, в кого собирался стрелять, и выстрелил еще раз в лежавшего рядом со мной учителя словесности из гимназии. Да будет земля ему пухом! Мою смерть он тоже принял на себя. Потом вернулись солдаты с лопатами, начали сваливать трупы в овраг и закидывать их землей. Когда поволокли меня, то одному из убийц показалось, что я живой. Он вытащил из кармана спички, зажег одну и стал водить ею по моим щекам. Но я выдержал и эту пытку, ни один мускул не дрогнул на моем лице. Меня бросили в овраг, но засыпать землей не стали. Торопились. В городе уже шел бой. Когда совсем стемнело, я выбрался из-под трупов, вылез из оврага и побежал домой.
Ошеломленные рассказом, мы с Иваном Иннокентьевичем хранили молчание. Наконец Золотов пришел в себя и спросил:
– А в госпиталь-то как попали?
– А я после того сна начисто лишился. Как только закрою глаза, так вижу, как в меня стреляют. Того и гляди совсем умом тронусь.
Больной весь затрясся, и доктор, сопровождавший нас, позвал медсестру, чтобы она сделала ему укол морфия, а нас попросил удалиться.
Не успел я вернуться с Урала, как Муромский уготовил мне новую командировку – на открытие Сибирской областной думы в Томск. Ее я встретил с радостью, предвкушая встречу с женой и сыном.
В вагон мы сели только во втором часу ночи. Пётр Васильевич всю дорогу жаловался на усталость и переутомление.
– Я еще на посту комиссара Томской губернии надорвался, теперь вовсе нет возможности для отдыха. Доктора объясняют мое болезненное состояние переутомлением на почве склероза сосудов. Эх, послать бы подальше все эти государственные дела и махнуть в тайгу с семьей на пару недель!
Я собирался отдать ему царицыну книгу, но, видя его усталый вид, передумал и отложил этот разговор.
Но и на следующий день у меня не было возможности переговорить с Петром Васильевичем с глазу на глаз. В нашем поезде ехали еще два министра – Петушинский и Шаталов, управляющий делами правительства петербургский профессор Гинс[135], а еще управляющие министерствами и их товарищи. Купе Муромского сразу превратилось в рабочий кабинет, в котором не переводились посетители.
Днем поезд долго простоял в Барабинске. Премьер заслушивал доклад здешнего комиссара о положении дел в уезде. А вечером – снова прием представителей власти и общественности в Новониколаевске. В перерывах между встречами министры-социалисты усиленно обрабатывали премьера, чтобы он окончательно порвал с контрреволюционными и монархическими элементами и вернулся на позиции «истинной демократии».
– Народная армия взяла Казань, куда большевики эвакуировали все золото из Петрограда. В распоряжении Комитета членов Учредительного собрания и его исполнительного органа – Совета управляющих ведомствами – находится золотой запас Российской империи. Теперь самарская власть имеет все основания претендовать на статус всероссийской, – размахивая свежей телеграммой, убеждал министр юстиции.
– Да, золото – это хорошо. Оно бы нам сейчас очень оказалось кстати, – потирая виски, философски заметил Муромский. – Но ведь на фронте у самарцев дела обстоят не так блестяще.
– Разве взятие Казани – это не успех? – возмутился Петушинский.
– Конечно, успех. Но, скорее всего, – только временный, – парировал председатель Совмина. – Перед отъездом у меня был долгий разговор с военным министром, и генерал Алмазов доложил, что большевики стягивают на борьбу с Комучем крупные силы. Как бы это правительство в скором будущем не оказалось правительством в изгнании, без подвластной ему территории.
После Новониколаевска к ним присоединился и Фомин. Оказывается, ему стало известно, что военный министр отправил томским властям телеграмму с предупреждением, что если Сибирская областная дума решит заменить нынешнее правительство другим, то войска, верные законному правительству, будут вынуждены оградить его от подобных посягательств.
– Это же прямое и беззастенчивое запугивание, Пётр Васильевич! – нервно заявил полпред. – Как смеет генерал диктовать народным избранникам свою волю? У нас еще демократия или уже диктатура?
Бедный Муромский! У него болело сердце, колотил озноб, а тут эти ревнители народовластия лезли к нему с гамлетовскими вопросами «быть или не быть?». Он на самом деле не знал, что им ответить, ограничиваясь общими призывами к сотрудничеству и разумному компромиссу.
Последней каплей, переполнившей чашу его терпения, была реплика отца Бонифация по поводу переезда правительства в Томск и переноса туда столицы Сибирской республики.
– Ну вы же сами в прошлом социалист-революционер! Разве вы не видите, что в Омске у демократии нет никакой перспективы. Черносотенцы и казаки на корню задушат ростки свободы. Они только и ищут подходящую кандидатуру на роль диктатора. А правительство должно опираться на демократическую общественность и широкие массы. Это единственный путь укрепления государственного порядка, созданного революцией. Если кто еще и пользуется доверием масс и может привлечь к себе их симпатии, то это только Сибирская областная дума. Она одна в состоянии концентрировать вокруг себя интересы сибирского населения и парализовать подпольную работу большевиков. Томск – оптимальное место для сибирской столицы. Это университетский, образованный город. В нем много интеллигенции. Дворцовый переворот в Томске провести гораздо сложнее. Там заседает законодательный орган Сибири. Там живет Потанин. В конце концов, это ваш родной город!
Бледный как смерть Муромский вскочил с дивана и громко закричал:
– Подите вон, господа! Я устал, болен и очень хочу спать!
Я встал первым, пожелал Петру Васильевичу спокойной ночи и вышел в тамбур. Министры-социалисты, не ожидавшие такой бесцеремонности, испуганно попятились из купе.
Муромский грубо захлопнул за ними дверь и закрылся на ключ.
Томичи встречали сибирских министров как героев. На перроне выстроился почетный караул из офицеров. С привокзальной площади напирала толпа празднично одетых обывателей. Многие были с цветами. Радостные лица. Звуки духового оркестра. Ясный солнечный день. И всюду бело-зеленые флаги.
Я давно обнаружил странную закономерность, что особенно здоровым и сильным чувствуешь себя накануне болезни, а счастливым и умиротворенным – в преддверии тяжких испытаний и невзгод. Те десять дней в Томске в августе 1918 года были настоящей идиллией, своего рода апофеозом нашего семейного счастья. Как похорошела Полина за полмесяца нашей разлуки! Она чуточку располнела в гостеприимной семье Андреевых, успокоилась и очень соскучилась по мне. Петенька тоже сразу узнал меня и попросился на ручки.
А когда он произнес по слогам слово «па-па», я был готов умереть от счастья.
«Боже! Как я их люблю! Спасибо тебе за все!» – возносил я молитвы Господу по ночам, когда Полина, свернувшись клубочком, спала рядом.
Ни одной ссоры, ни одного резкого слова, даже намека на какую-то обиду не было промеж нас в эти дни. Мы были молоды, счастливы и любили друг друга, как никогда до и после этого.
15 августа 1918 года был объявлен праздничным днем. Отменены занятия в правительственных, общественных и частных учреждениях. Все здания в центральной части Томска были убраны бело-зелеными флагами. Улицы полны народа. Звонили колокола во всех церквах.
В 11 часов утра в честь открытия сибирского парламента архиерей отслужил молебен в Троицком соборе. Потом состоялся парад сибирских и чехословацких войск.
Муромский и председатель думы Меркушев стояли на самом верху, у губернского правления, как главные виновники торжества.
Премьер-министр, приняв позу древнеримского оратора, торжественно вещал с трибуны:
– Сегодня открывается Сибирская областная дума. Ее состав не полон. А сама она избиралась в ненормальной обстановке, но открытие думы – праздник. Оно показывает, что в стране наступил порядок, и что правительство преследует цели создать демократический строй, где власть действует наряду с народом. Положение о думе будет изменено, состав ее будет расширен, и дума в преобразованном виде будет сотрудником власти на пути к возрождению России и Сибири. Да здравствует великая Россия! Да здравствует свободная Сибирь!
И тут же он обратился к военным:
– Могучим оплотом правительства является славная Сибирская армия. Вместе с нашими доблестными братьями – чехословаками – она освободила Сибирь и будет помогать освобождению России в борьбе с исконным врагом славянства. Да здравствует Сибирская армия! Наздар[136], славные чехословаки!
Когда премьер-министр проезжал по Садовой, дамы из толпы набросали в его автомобиль столько цветов, что авто превратилось в большую передвижную клумбу, а сам Пётр Васильевич больше походил на садовника, чем на государственного деятеля.
Университетскую библиотеку, где вот-вот должна была начать свою работу Сибирская областная дума, осаждали толпы обывателей. Даже членам думы и правительства с трудом удалось протиснуться внутрь здания.
В президиуме – почетный председатель думы Григорий Николаевич Потанин.
Он кое-как, с чужой помощью взобрался на трибуну и своим тихим, но твердым голосом сказал:
– Никакая власть не имеет права одну часть государства превращать в отвал нечистот и отбросов, накопившихся в другой. Человека, убежденного во благе политической свободы личности… коробит взгляд на народную массу как на тесто, как на какую-то мастику, из которой экспериментатор готовится лепить свои фантазии. Сибири нужен такой государственный строй, при котором все люди станут развитыми индивидуальностями. У нее для этого есть все предпосылки. Пожалуйста, не упустите их…
А вечером мы всей семьей гуляли по Почтамтской. Возле театра «Интим» какая-то девочка-подросток, уже снискавшая славу известной прорицательницы, за деньги предсказывала прохожим их судьбу.
– Дорогой, ты хочешь знать, что с нами будет? – спросила меня Полина.
– Нет, – твердо ответил я и крепче прижал к себе сынишку, сидевшего у меня на руках.
– Но почему? – удивилась жена.
И вдруг она заметила шарманщика с обезьянкой на плече. Бородатый седой старик, чем-то похожий на Потанина, накручивал на своем старом, разваливавшемся инструменте какую-то жалостливую мелодию. Гуляющие люди останавливались возле него, бросали в черную, потрепанную шляпу монеты и банкноты, а умная обезьянка вытягивала из вращающегося стеклянного лотка бумажные фанты.
– Ты только посмотри, какой миленький зверек. Он же не может предсказать ничего плохого, – прощебетала Полина и порхнула к шарманщику.
Не успел я и рта раскрыть, как обезьянья волосатая лапка протянула Полине фант.
– Интересно, что там? – приговаривала жена, разворачивая туго закрученную бумажку.
Она прочла предсказание и, пожав плечами, протянула его мне:
– Какая-то странная молитва. Одни общие слова. А ты что думаешь?
«Боже, даруй им разум и душевный покой – принять то, что они не в силах изменить, мужество – изменить то, что возможно, и мудрость – отличить одно от другого. Аминь».
Я ничего не ответил, но настроение у меня почему-то испортилось, и гулять дальше расхотелось.
Еще одна тетрадь рукописи была прочитана. За окном начинался серый монреальский рассвет. Спать совершенно не хотелось, и Сергей отправился на кухню за очередной порцией кофе.
Он включил кофеварку, сел на стул, наблюдая, как душистая жидкость наполняет прозрачную чашу. Вдруг сзади его шею обвили теплые и мягкие руки. И сладострастные губы Анны волнующе зашептали ему на ухо:
– Боже, как я тебя хочу! Как я соскучилась по нормальному русскому мужику!
Проворные пальцы расстегивали пуговицы его рубашки, а пухлые губы искали его губ. И нашли, а потом ее язык встретился с его языком.
– Пойдем скорее к тебе в комнату, я изнемогаю от желания со вчерашнего дня. Я хотела напоить Жаклин, а потом прийти к тебе, но сама напилась тоже, и мы уснули одновременно. Умоляю тебя, Серёженька, возьми меня…
Редкий мужчина устоял бы на его месте. Сергей не стал исключением.
Анна оказалась очень темпераментной женщиной. Она едва сдерживала свои крики, прикрывала рот ладошкой, кусала губы, рычала, но последний прилив страсти сдержать не смогла, и глухой стон облегчения прокатился по всей квартире.
Любовники в изнеможении повалились на диван. Они лежали на спине и не говорили ни слова, с трудом переводя дыхание, когда дверь в кабинет отворилась и на пороге появилась Жаклин.
– С облегчением, племянничек! – юродствуя, заявила она. – И тебя, подруга, с пополнением твоего послужного списка! Ну как он, ничего? Оправдал твои надежды?
– Ну что ты бесишься, Жаклин? Он же все равно твой родственник. Не будешь же ты с ним заниматься кровосмесительством! – парировала Анна.
– А это не твое дело! – отрезала мадемуазель Готье и обратилась к Сергею: – Можешь собираться к себе домой. Я сама куплю тебе билет на ближайший рейс в Москву. Хоть через Париж, Лондон или Амстердам, но, пожалуйста, прошу тебя – улетай быстрее.
– Но ты сама позвала меня сюда! Зачем? – воскликнул он.
– Это была ошибка. Ты не тот человек, кому можно доверять тайны. Собирай свои вещи. Я попрошу Пьера, чтобы он отвез тебя в аэропорт. Прощай.
Этим же вечером Сергей улетел в Париж. Перед отлетом Пьер Гарден вручил ему стопку старых тетрадей.
– Жаклин просила их вам передать. Еще она сказала, что вы имеете право на эти рукописи больше, чем кто-либо. И что если вам когда-нибудь понадобится ее помощь, то вы можете на нее рассчитывать. Но должно пройти время.
Иммиграционный чиновник посмотрел на него с укоризной и от себя добавил:
– Мне кажется, что она влюбилась в вас, Сергей.
Коршунов равнодушно ответил:
– Она мне тоже очень понравилась. Только ведь у нас ничего не получится. Она же моя тетка.
– В русских дворянских семьях даже браки между двоюродными братьями и сестрами считались в порядке вещей, а у вас еще более дальнее родство. Да и есть ли оно вообще?
– На что вы намекаете?
– Придет время – узнаете. А пока счастливого вам полета, мсье Серж. Очень рад был с вами познакомиться. Вам сюда, – Пьер указал на стойку, где шла регистрация на парижский рейс, и протянул Сергею билет. – Всего доброго, – попрощался он холодно и направился к выходу в город.
Книга третья Навоз
Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступлений большевистской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую родину, это был бы не народ, а навоз для удобрений беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с Запада и Востока.
К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу.
Антон Деникин[137]Глава 1. Волки и овцы
В самолете он даже не притронулся к продолжению прадедовой рукописи, а просто напился. На душе скребли кошки, почему-то мучила совесть, и вообще было скверно. Вначале стюардесса, развозившая на тележке напитки, подавала ему очередную порцию виски с вежливой улыбкой, потом с настороженностью, а под конец вообще отказалась приносить ему спиртное, даже за деньги. Бабулька божий одуванчик ретировалась с соседнего кресла, попросив стюардессу пересадить ее куда-нибудь подальше от русской пьяни.
Свинья всегда найдет грязь, а алкоголик – выпивку. Тем более если она в сумке под ногами. Бутылку квебекского кальвадоса он вез коллегам по редакции в качестве сувенира, но не довез.
Если бы Сергей Коршунов ехал на поезде по России, его бы на ближайшей станции снял с вагона наряд милиции. Но он летел самолетом французской авиакомпании через Атлантический океан, садиться лайнеру было негде, а сбрасывать даже очень пьяных пассажиров с борта западные гуманисты в нынешнюю эпоху либерализма еще не додумались. А когда он, упившись, заснул мертвецким сном, стюардесса заботливо накрыла его пледом, дабы не простудился.
Очнулся он лишь в аэропорту Шарля де Голля[138], мгновенно вскочил с кресла и сразу пристроился в хвост выходящим пассажирам. На выходе из самолета топтались два ажана, которых экипаж вызвал явно по его душу, но в толпе его проглядели.
Инстинкт самосохранения подсказал Сергею, что больше хулиганить не стоит. На удивление легко он сам, без посторонней помощи разобрался в сложном устройстве терминалов и отыскал выход на московский рейс.
До вылета оставалось целых три часа и часа полтора до регистрации. Он побродил по магазинчикам беспошлинной торговли и купил макет Эйфелевой башни для сына и бутылку французского коньяка для себя, а потом вдоволь накурился в туалете.
Москва встретила его слякотью и моросью. Тут же подлетел таксист и по-свойски спросил:
– Тебе в город, братан?
– Вообще-то мне в Домодедово. Но мой рейс только поздно вечером. Можно и в центр. А сколько возьмешь?
– С тебя по-свойски. Ты же не иностранец. Это с тех мы три шкуры дерем. Сто баксов устроит?
Для провинциала такса показалась убийственной.
– Нет. Дорого. Я лучше на автобусе или на маршрутке.
– Ну смотри, – предупредил таксист. – Пару часов прождешь. Вон какая очередь!
Очередь на маршрутку была и в самом деле большая.
Водила смерил Сергея оценивающим взглядом. Модный прикид, но видно, что провинциал, с глубокого похмелья и, похоже, жмот, решил он для себя и сделал очередное предложение:
– Вообще-то я могу и за тридцать долларов довезти тебя до метро.
Глаза Сергея сразу оживились.
– Только если попутчиков найдем. А то чего зря машину за гроши гонять. Больше на бензине сожжешь, чем заработаешь. Ты постой здесь. Я поищу кого-нибудь.
Через пару минут он подвел к Сергею франта в коротком кашемировом пальто, благоухающего дорогим парфюмом.
– Павел, – сразу представился он. – Я только что прилетел из Парижа.
– Значит, мы с вами летели на одном самолете, – обрадовался Сергей. – Я тоже оттуда.
Неожиданный попутчик смутился, а потом вдруг подозрительно посмотрел на Коршунова:
– Что-то я вас в самолете не видел…
– Я вас тоже. Правда, я проспал весь полет, – простодушно признался Сергей.
– Возможно, мы летели в разных салонах, – заключил Павел.
– А где ваш багаж? – в свою очередь поинтересовался сибиряк.
– Я путешествую налегке.
– А вы были в Париже по делам или просто поглазеть?
– Вообще-то я был на Лазурном берегу. Ницца, Канны, Монте-Карло…
– Но там сейчас не сезон.
– В казино, мой друг, всегда сезон.
– А-а-а, – протянул Сергей.
Он еще хотел что-то спросить у собеседника по поводу благосклонности Фортуны, но в этот момент таксист подвел к ним еще двоих: узбека в черной кожаной куртке с саквояжем и еще какого-то дорого одетого небритого мужика, от которого попахивало перегаром. Ни у кого из них не было багажа.
Они сели в серую «Волгу», на каких в Советском Союзе возили начальников среднего звена. Узбек занял переднее место, а Сергей оказался зажат на заднем сиденье между небритым и игроком.
Едва машина выехала из аэропорта, как Павел начал сетовать, как чуть не сорвал большой банк в казино.
– Представляете, в Монте-Карло появилась новая игра. Называется короткий покер. Во всех казино даже про рулетку забыли, публика сплошь и рядом рубится в короткий покер.
– Покажи, – хриплым голосом сказал небритый.
– Увы, карт нет, – посетовал Павел.
– У меня есть.
Небритый порылся в карманах плаща и извлек запечатанную колоду.
– Серёга, сумку расправь, чтобы карты не скатывались. На тебя сдавать?
– Я вообще-то не играю. Больше по выпивке прикалываюсь, – признался Коршунов.
– А у тебя есть что выпить? – спросил дрожащим голосом небритый.
– Только коньяк. А посуда найдется?
Водила протянул через спину пластиковый стаканчик.
Освободившись от коробки с коньяком, сумка значительно опустела и стала представлять удобное поле для карточной игры.
Щетинистый мужик и Сергей дважды опрокинули в себя по сто граммов. Павел лишь чуть-чуть пригубил коньяк, а узбек, сославшись на запрет Корана, вообще от выпивки отказался.
– Правила очень простые, – стал объяснить прилетевший из Монте-Карло. – Каждому раздается по две карты. Высшая карта – валет, потом идет девятка, потом – туз. Высшая комбинация – два валета. Но вскрывать карты можно, лишь когда в игре останутся два игрока. Ну как, попробуем?
Павел раздал карты. Сергею пришли десятка и туз одной масти. Двадцать одно очко. Когда все открылись, оказалось, что его комбинация высшая.
– А может быть, на интерес сразимся? – неожиданно предложил Павел. – Чего картами зря шелестеть. Они азарт любят.
Коршунов и сосед слева выпили еще по одному стаканчику.
– Николай Павлович, – представился небритый. – Я директор завода из Подольска. Вчера вечером замминистра в Акапулько на отдых провожали, вот и перепил в ресторане.
– А я Абдулла, – назвался узбек. – Только что семью в Эмираты отправил. У меня свой ресторан на Ленинском проспекте.
– А я Сергей Коршунов. Журналист из Томска.
Его профессия, похоже, разочаровала попутчиков. Ведь они были солидными людьми, а он всего-навсего жалкий писака. Но карты были уже розданы, и надо было играть.
Сергею снова повезло, ему пришли два туза. Николай Павлович дал под него пятьсот долларов. Остальные паснули. Коршунов решился: была не была! Даже в случае проигрыша у него оставалось еще триста пятьдесят долларов, которых бы с лихвой хватило на билет до Томска. Он достал из внутреннего кармана пиджака пять стодолларовых купюр и кинул их на сумку.
– Вскрываюсь. У меня двадцать два!
– Черт возьми! – выругался директор завода и бросил на импровизированный стол две десятки. – Вам явно везет, молодой человек. Может быть, дадите старику отыграться?
– С удовольствием! – ответил Сергей и попросил Павла еще раз сдать карты.
Перед игрой они снова выпили с небритым за победу.
Коршунов посмотрел в карты и чуть не ахнул. У него на руках было два валета – высшая комбинация. Он дал под Палыча сто баксов, тот забил и еще добавил триста под Абдуллу. Узбек подумал, повертел в руках карты и кинул на кон вначале триста, а потом еще тысячу долларов.
Павел сбросил карты, сославшись на отсутствие средств.
Сергей, недолго думая, забил его тысячу:
– Вскрываемся. У меня…
– Спокойно-спокойно, – перебил его директор. – Я пока из игры не вышел. Вы должны что-то дать под меня.
– Но Николай Павлович, у меня почти не осталось денег. А карта! Если бы вы знали, какая у меня карта!..
– Ничего не поделаешь, Серёжа, таковы правила игры. Сколько ты даешь под меня, сынок?
Коршунов порылся в карманах и достал еще три стодолларовых купюры.
– Это мои последние деньги! – бросил он их на кон. – Палыч, пожалуйста, вскройся. Иначе мне не на что будет улететь домой! – взмолился он.
– Не могу, сынок! Игра есть игра. У меня тоже хорошая карта. Я забил твои триста, Серёженька, и еще дал под тебя, Абдулла, двести.
– Я забил твои двести, директор. И даю под тебя, журналист, еще тысячу! – узбек небрежно перекинул на заднее сиденье купюры.
Коршунов заметался:
– Паша, займи мне денег! Мы обязательно у него выиграем! Ты посмотри только на мои карты!
Игрок из Монте-Карло демонстративно вывернул свои пустые карманы.
– Палыч, займи хоть ты! – разгоряченный Сергей повернулся к соседу слева.
– Я же в игре, Серёжа! Ты будешь давать под меня?
– Мне нечего давать!
– А может быть, у тебя есть рубли или евро? Так мы их возьмем по текущему курсу Центрального банка, – исподволь спросил узбек.
– Нет у меня больше никаких денег!
– А золотишко, камушки. Брюлики разные там? – Абдулла не хотел упускать возможность поживиться.
– Только куртка и пиджак! – обрадовался Сергей возможности поставить на кон вещи. – Они тысячу долларов точно стоят!
Он уже стал снимать с себя почти новую фирменную куртку, но узбек ласковым движением руки остановил его порыв:
– Не надо, дорогой, мы же не жулики! Жалко, что ты выходишь из игры…
Сергей сидел красный как рак, и до него только сейчас стал доходить смысл происходящего.
«Это же все постановка! Никакие они не случайные попутчики, а профессиональные шулера. Привокзальные каталы! Раздели меня, как лоха. А куда дернешься, когда и справа, и слева, и спереди четверо бандитов? Ну ты и влип, дружище!»
Актеры из Шереметьева решили довести постановку до конца.
– Слушай, Абдулла. У меня с собой тоже нет таких денег. Но если ты согласишься прокатиться со мной до Подольска, то там я найду их. И мы с тобой сможем сыграть по-крупному. Ну как, согласен?
Узбек, конечно же, принял предложение.
Сергея они высадили, даже не довезя до метро.
– Там за поворотом «Речной вокзал». Дойдешь, – совсем нелюбезно сказал шофер.
Коршунов было потянулся за недопитой бутылкой. Но «директор» притянул ее к себе.
– Тебе хватит пить, Серёжа. Надо еще из Москвы выбраться. А то в вытрезвитель попадешь, – посочувствовал небритый и захлопнул за ним дверцу «Волги».
Авто рвануло с места, обдав незадачливого игрока грязью, и понесло всю четверку якобы в Подольск, а скорее – в аэропорт, на поиски нового лоха.
Вы никогда не оказывались в Москве без денег и без обратного билета домой? Испытавший подобные злоключения знает, насколько тоскливо и одиноко чувствуешь себя в этом огромном бездушном муравейнике, где никому нет до тебя ни малейшего дела. Здесь главное не поддаться панике, а собраться с мыслями и трезво оценить свое положение.
Похмелье с Сергея как ветром сдуло. Он сел на лавочку на троллейбусной остановке и закурил сигарету.
В любой, даже самой хреновой ситуации в первую очередь надо найти плюсы. Пусть их совсем мало, но настрой на позитив все равно рано или поздно поможет отыскать выход.
Хорошо, хоть курево осталось. Один плюс уже есть. Документы тоже на месте. Просто замечательно.
И главное – саквояж. Щелкнув латунными защелками, он открыл его и перекрестился. Сверху, над одеждой и туалетными принадлежностями, веером рассыпалась стопка прадедовых тетрадей, небрежно брошенных им еще в аэропорту Монреаля. Как здорово, что попутчики оказались честными шулерами и не раздели его до трусов! Иначе он никогда не простил бы себе утерю семейной реликвии.
«А где мобильник?» – спохватился он и стал судорожно шарить по карманам. А нащупав в нагрудном кармане пиджака искомую тяжесть, перевел дух. Телефон там пролежал выключенный весь перелет через Атлантику и Европу. Обрадовавшись находке, горе-игрок извлек мобильник на свет божий и включил. Батарея практически не разрядилась. И баланс порадовал – почти сто долларов. Он провел ревизию имеющейся наличности. Восемьсот рублей с хвостиком и десятка канадских долларов. Вот и весь его капитал. Билет на самолет до Томска стоит около десяти тысяч. А еще надо добраться до аэропорта. Да и поесть бы не помешало. Как он ни крутил, но без посторонней помощи эта задача никак не решалась.
Кому звонить? Жене? Так она сама третьего дня трясла с него деньги. На носу развод, а он будет просить ее выслать на билет! Это уже чересчур, на такое унижение он не способен. А если позвонить редакторше? Он все еще ее подчиненный и попал в затруднительное положение в чужом городе. Но тут Сергей вспомнил, что сегодня воскресенье, и отмел этот вариант тоже.
Пребывая в размышлении, у кого бы стрельнуть 500 долларов, он стал перелистывать телефонную книжку на мобильнике. Главным критерием в отборе потенциальных кредиторов было их местонахождение в Москве. Конечно, у Сергея было немало знакомых среди столичных журналистов. И они были первыми, кому он стал звонить. Но всякий раз разговор проходил по одному сценарию. Вначале искренняя радость «Старик, ты в Москве!», а потом пауза и невнятное бормотание типа «Понимаешь, я сейчас сам на мели…». И когда он уже почти совсем потерял надежду на москвичей, фортуна неожиданно улыбнулась ему.
Анатолий Михайлович Юров из‑за своей фамилии, начинающейся на предпоследнюю букву алфавита, стоял в самом конце списка. Честно признаться, Сергей не очень на него рассчитывал. Их связывала двухлетняя совместная учеба в университете, после чего Толян каким-то чудом перевелся в МГУ, и их дороги разошлись. Рассказывали, что он удачно женился на дочери дипломата и вскоре променял аскетическую жизнь философа на более хлебное занятие – внешнюю торговлю. Тесть помог ему проникнуть в самый элитный вуз страны – институт международных отношений, а после окончания учебы устроил зятя на работу в торговое представительство где-то на Ближнем Востоке.
Но года два назад студенческие приятели неожиданно встретились в Томске на брифинге в областной администрации, посвященном освоению новых нефтяных месторождений. Господин Юров представлял крупную нефтяную компанию, сидел рядом с губернатором и обтекаемо отвечал на вопросы журналистов. Сергей спросил важного гостя об объеме инвестиций в экономику области. Анатолий Михайлович тут же обрисовал райские кущи, которые возникнут в Среднем Приобье после прихода сюда представляемой им компании. А когда мероприятие закончилось, сам подошел к журналисту и крепко, по-свойски пожал ему руку. И даже подарил свою визитку с приписанным от руки номером мобильного телефона.
– Будешь в Москве, обязательно позвони. Сходим куда-нибудь, выпьем, поболтаем, вспомним молодость, – бросил на ходу вице-президент и поспешил на другое сборище.
Однако наполеоновским планам Юрова не суждено было осуществиться. Конкурс они проиграли, и больше в Томск он не прилетал.
Однажды, будучи в Москве, Сергей позвонил олигарху, но тот находился на совещании у вице-премьера и переадресовал свой мобильный телефон на секретаря. Перезванивать Коршунов больше не стал. Набиваться в друзья к высокопоставленным людям он не любил.
Но сейчас был форс-мажор. И если бы Сергей был знаком с британской королевой, то позвонил даже ей.
Сработал автоответчик: мол, абонент сейчас недоступен, но вы можете оставить ему сообщение. Что Коршунов и сделал, сказал, что его обокрали, и он не может вылететь домой.
Не прошло и пяти минут, как раздался звонок.
– Сергей, привет, что с тобой случилось? – заботливо поинтересовался сам Анатолий Михайлович.
Журналист без утайки рассказал, как поиграл в короткий покер по дороге из Шереметьева. Олигарх расхохотался и спросил, где он сейчас находится.
– Возле метро «Речной вокзал».
– Будь там. Никуда не уходи. Через полчаса за тобой придет машина.
Коршунов только успел допить банку пива, купленную в ближайшем киоске, и выкурить сигарету, как ему вновь позвонили. Незнакомый мужской голос подробно объяснил, как отыскать на стоянке черный шестисотый «Мерседес».
С невероятным облегчением Сергей запрыгнул на мягкое кожаное сиденье представительского авто и поздоровался с немолодым водителем, одетым, несмотря на выходной день, в черный костюм и белую рубашку с галстуком.
Шофер протянул ему запечатанный конверт и шикарный букет роз.
– Анатолий Михайлович велел передать вам.
По толщине конверта Сергей догадался, что в нем деньги.
– А зачем цветы? – недоуменно спросил он.
– Подарите их госпоже Юровой. Анатолий Михайлович приглашает вас к себе домой на обед.
– А я успею на самолет? У меня билета еще нет.
– Мне приказано вас доставить домой. Ваш рейс только вечером. А билет для вашего спокойствия мы купим сейчас, по дороге на Рублёвку.
Рублёвка, символ богатства и успеха, загородное обиталище миллиардеров и мультимиллионеров с их семействами, любовницами и любовниками, на сибирского журналиста впечатления не произвела. Трехметровые заборы, камеры видеонаблюдения, многочисленные посты с охраной. Стоит ли безмерное материальное благополучие того страха, который почти сроднился с ним и является оборотной стороной богатства, – страха бандитского наезда, обыска, ареста, конфискации имущества, киднепинга, супружеской неверности, революции и прочих неприятностей, от которых богатые плачут гораздо чаще бедных?
Как этот пейзаж контрастировал с монреальским Хэмпстедом[139], где жила мама Жаклин, его приемная бабушка. Такой же район для богатых. Только с открытыми лужайками перед домами. Там ощущались свобода и достаток, а здесь правили бал роскошь и страх.
«Мерседес» остановился перед глухими воротами, которые тут же отворились, открыв вид на дом с колоннами, этакое родовое дворянское гнездо.
Как только машина въехала на территорию, окно в неприступном ограждении, впустившее их, затянулось, и замкнутость периметра была восстановлена.
В парке на каменных постаментах возвышались мраморные фигуры древнегреческих богов и богинь. На берегу искусственного пруда росли плакучие ивы, на которых уже начали набухать почки. Ни ранняя весна, ни ненастная погода не мешали журчать в глубине сада небольшому водопаду.
На взлетно-посадочной площадке стоял компактный, сверкающий чистотой и новизной ярко-красный вертолет.
Охранник подозвал к себе двух рыскающих по территории доберманов с длинными высунутыми языками и посадил их на цепь.
– Можете выходить, – сказал водитель. – Поднимайтесь по парадной лестнице. Вас там встретят.
Домработница в белоснежном фартуке и чепчике приняла у гостя букет с дорожной сумкой и помогла снять куртку.
– Анатолий Михайлович ожидает вас в библиотеке. Я провожу, – проговорила служанка с характерным для жителей северных русских областей ударением на «о».
Хозяин сидел у пылающего камина в огромном кожаном кресле, курил сигару и рассматривал в лупу массивный географический атлас, наверняка, букинистический раритет.
– Ну, здравствуй, игруля! – ласково поприветствовал он гостя и, слегка привстав с кресла, пожал руку и пригласил присесть рядом.
– Значит, по-прежнему азартен? А помнишь, как мы в молодости в общаге рубились в покер до утра?
– Конечно, помню. Мы и сейчас иногда собираемся с друзьями и перекидываемся в картишки.
– Да ты что? – удивился олигарх. – В казино, в отдельный кабинет ходите?
– Зачем в казино? – пожал плечами Сергей. – Дома у кого-нибудь, когда жен и детей нет.
– Ну вы и молодцы! А я уже и забыл, что такое покер в дружеской компании. Теперь мне понятно, почему ты попался на удочку этим шулерам. Никому из чужих нельзя верить. Надо воспринимать всех как потенциальных врагов. Тогда избежишь многих ошибок.
А затем добавил:
– Хотя и своим тоже доверять нельзя.
Коршунов промолчал. Хозяин сменил тему. Отложил сигару в золотую пепельницу и потряс раскрытым атласом:
– А я тут на старости лет картографией увлекся. Занимательная, знаешь ли, штука. Оказывается, еще в конце XVIII века далеко не все европейские картографы признавали принадлежность Сибири к Российской империи. Некоторые даже указывали на наличие за Уралом самостоятельного государства «Тартария» со столицей в Тобольске. Вот посмотри сюда, – Юров подал гостю лупу. – Надпись «Россия» аккуратно закругляется перед Уральским хребтом, а дальше до самого Тихого океана простирается Тартария.
Сергей убедился, что это на самом деле так, и в свою очередь решил поразить олигарха.
– Тебе дата 4 июля о чем-нибудь говорит?
– Как же! День независимости США.
– А ты знаешь, что в этот же день в 1918 году в Омске Сибирское правительство приняло декларацию о независимости Сибирской республики?
Хозяин раскрыл рот от удивления. И Сергей рассказал ему о том, что вычитал в прадедовой рукописи. О сибирском областничестве, о Потанине, о его кружке, о тех людях, которые в смутную годину не побоялись взвалить на себя тяжкое бремя власти.
Они не заметили, как прошло время. Олигарх оказался на редкость благодарным и подготовленным слушателем.
– Слушай, ты обязательно должен написать об этом большой исторический очерк. Я помогу его опубликовать в самых рейтинговых изданиях, – предложил Анатолий Михайлович.
Неожиданно за их спинами зазвучал твердый женский голос.
– А я бы, дорогой, категорически не рекомендовала тебе этого делать.
Мужчины обернулись одновременно.
Облокотившись на дубовую столешницу и подперев подбородок точеной ладонью, за письменным столом сидела ослепительно красивая молодая женщина в бордовом платье. Бриллианты в ее серьгах, колье, браслетах и кольцах таинственно сверкали.
Видимо, она уже давно зашла в библиотеку, просто мужчины, увлеченные беседой, этого не заметили.
– Это моя жена Анастасия, – представил хозяин. – А это мой студенческий приятель Сергей. Он журналист из Томска.
– Очень приятно. Мне передали ваши цветы. Спасибо. Вы угадали мой вкус, – поблагодарила красавица.
А Коршунов тем временем ломал голову: как это жена Юрова смогла так хорошо сохраниться? Двадцать два, ну максимум двадцать три года. Никакая пластическая хирургия и самая дорогая косметика не могли вернуть женщине такую свежесть молодости.
Анастасия встала из‑за стола, и гость смог оценить все достоинства ее фигуры. Она и так была почти одного с ним роста, а на каблуках выглядела еще выше. Проходя по пушистому ковру, женщина заговорила:
– Если власть об этом умалчивает, значит, так оно и нужно. К счастью, мы живем в Москве, а не в Сибири, и не в наших интересах накалять ситуацию в колонии. А что вы на меня так удивленно смотрите? Я вовсе не оговорилась. Сибирь как была, так и остается российской колонией. Как Африка – европейской, а весь мир – экономической колонией США. Какие бы красивые слова по ее поводу ни отпускали наши генсеки и президенты! Я не маленькая девочка, Анатоль, и знаю, что алмазы в Подмосковье не добывают, – она провела своими длинными пальцами с кинжальными ногтями по ожерелью. – И твоя транснациональная компания качает нефть тоже из Сибири. Выходит, что это всё, – она обвела руками вокруг себя, – сибирское. Даже мое платье от Армани и то пахнет сибирской нефтью. Дорогой, я привыкла к этому и не готова всего лишиться!
– Но ведь там тоже живут люди, которые и добывают эту самую нефть. Там гораздо холоднее, чем здесь. Нужно больше тратить на теплую одежду, жилье, еду, – попробовал возразить Коршунов.
Анастасия широко раскрыла золотистые глаза, демонстрируя свое природное превосходство, и холодно констатировала:
– Мир вообще несправедлив. Да, наверное, больно терпеть лишения. Но переделывать его на справедливый лад еще больнее. Извините меня, Сергей, за откровенность, но я вообще считаю, что в Сибири живут одни неудачники. Мне муж рассказывал, что в его компании даже буровые мастера стремятся купить квартиры в Москве. И это, на мой взгляд, правильно. Районы с тяжелым климатом лучше осваивать вахтовым способом. Меньше затрат. Это давно доказано ведущими экономистами.
Сергей хотел не согласиться, но Анастасия поднесла палец с огромным бриллиантом к накрашенным губам.
– Дискуссия окончена, – и обратилась к мужу. – Дорогой, ты не забыл про обед у вице-спикера?
Юров схватился за голову.
– Сергей, пожалуйста, извини. Но у меня из головы этот визит совсем вылетел. Я распоряжусь, тебя накормят и в аэропорт отвезут. Ты чувствуй себя как дома. Отдохни. Посмотри мою библиотеку, почитай что-нибудь. У тебя до вылета еще есть время. Здесь гораздо удобнее, чем в аэропорту. А к самолету тебя отвезут.
– Спасибо, Анатолий. Ты меня очень выручил. А деньги я завтра же тебе вышлю.
– Да брось ты. Для меня это сущая мелочь. Мне было приятно помочь другу в трудный момент. Ну, ладно, бывай.
Анастасия попрощалась едва заметным кивком головы, взяла мужа под руку и повела его к выходу из библиотеки.
До уха Сергея долетели обрывки ее фраз:
– Ты что, в сепаратистов решил поиграть? В Матросской Тишине[140] для недовольных олигархов места еще найдутся. Думай лучше обо мне, чем о политике. Кстати, твоя первая из Лондона звонила, просила выслать еще денег дочери на учебу…
Из Томска Муромский вернулся совсем больным. Переутомление и склероз сосудов свалили его в постель. Поэтому заседание Совета министров пришлось проводить у него на квартире.
Укрытый пледом, больной возлежал на диване, облокотившись на груду подушек, как умирающий Цезарь, и рассеяно слушал отчеты. Огромный пятнистый дог лежал у него в ногах, вздрагивая во сне. Время от времени он поднимал голову, когда его будили слишком громкие реплики министров, обводил собравшихся полусонными глазами, а потом вновь засыпал.
К гневной филиппике командарма собака отнеслась сравнительно лояльно. К военным Кинг, как и большинство омских чиновников, был особенно неравнодушен.
– При молчаливом попустительстве членов правительства в Томске фактически произошел государственный переворот, – неистовствовал командарм. – Состав думы был экспромтом пополнен членами Учредительного собрания от Сибири. В итоге эсеровская фракция настолько усилилась, что теперь может провести любое решение. Вплоть до роспуска нашего правительства. Насущные вопросы Сибирской республики снова отошли на второй план. Члены думы более озабочены созданием всероссийской власти. Они хотят, чтобы правительство отчитывалось перед Учредительным собранием, то есть перед самарским Комучем. Не для того мы освобождали Сибирь от большевиков, чтобы отдать ее социалистам. Это не парламент, господа, а самый настоящий совдеп! Армия вас не поймет!
Сочувствующий эсерам министр юстиции в долгу не остался. Оправдывая свою фамилию, бывший адвокат Петушинский, распушив хвост и перья, ринулся в бой:
– А вы нас не пугайте армией, господин генерал. Не забывайте, что симпатии чехословаков на стороне партии эсеров. А это – очень серьезная сила. Чем угрожать другим, вы бы лучше занялись реформированием сибирской армии. У меня есть достоверные сведения, что там возрождаются царские порядки. Того и гляди, еще и погоны вернете? Брали бы пример с Народной армии Комуча. Там все построено на демократических началах. А успехи на фронтах не меньше ваших. Поймите, что только народная армия, проникнутая идеями демократии, может бороться с армией советской. Войну с большевиками может выиграть только власть демократическая, опирающаяся на широкие массы…
Разбуженный дог грозно зарычал. Петушинский осекся на полуслове, упал в кресло и нервно закрыл руками лицо.
Кингу дебаты окончательно надоели, он лениво сполз с дивана и удалился досыпать в другую комнату.
Гришин-Алмазов побагровел.
– Где была ваша хваленая демократия, когда большевики разогнали в Петрограде Учредительное собрание? – взорвался командарм. – Где она была в Сибири, когда совдеп разогнал Сибирскую областную думу? А разве ваш любимый ультрадемократический Комуч создал в Самаре крепкую и боеспособную армию? Наступление на Москву захлебнулось. Даже Казань отстоять не удалось. Я не удивлюсь, если скоро эта истинно демократическая власть, спасаясь от большевиков, будет просить убежища у нас, в Сибири, чтобы потом разложить и ее, как она уже разложила столицы и Поволжье!
Командарм перевел дух и спросил министров:
– И на какие широкие массы, позвольте узнать, опираться нашему правительству? Рабочие и ремесленники в городах уже обольшевичились, рассчитывая получить собственность бывших хозяев. Крестьяне в деревнях после возвращения фронтовиков начинают обольшевичиваться. И вообще, готова ли Россия к демократии?
Петушинский взвизгнул:
– Вот вы и проговорились, господин генерал. Теперь у вас народ виноват во всех бедах, а не царские чиновники и жадная буржуазия, доведшие страну до революции и развала!
Муромский схватился за голову и умоляюще произнес:
– Пожалуйста, господа, успокойтесь. Сейчас не время сводить счеты. У нас есть только хрупкий союз между бывшим офицерством, цензовыми элементами и представителями интеллигенции, понимающими, к какому хаосу может привести анархия и власть толпы. Не дайте его разрушить!
Здоровье премьер-министра продолжало ухудшаться. Доктора констатировали крайнее истощение организма, грозящее перейти в анемию мозга и последующую инвалидность. Незамедлительный отдых на лоне природы – таково было заключение консилиума врачей.
Министры были вынуждены отпустить председателя кабинета в двухнедельный отпуск. Пётр Васильевич решил поехать с семьей на свою родину, в Краснореченский Завод, недалеко от Ачинска.
Но кого оставить вместо себя на время отпуска – этот вопрос не давал ему покоя. И только после создания Административного совета – своего рода «малого Совмина» и избрания его председателем Золотова, премьер успокоился, что оставляет власть вменяемому человеку, и стал собираться в дорогу.
Тем же вечером премьер-министр с женой, сестрой и дочерью отправился на отдых. Я тоже доехал с ними до Тайги, а затем пересел на другой поезд – до Томска.
Полина не хотела переезжать в Омск.
– Зачем нам с Петей ехать в этот пыльный казарменный город? Лучше попроси Муромского, чтобы он назначил тебя сюда каким-нибудь комиссаром.
– Пойми, дорогая, Пётр Васильевич ценит меня как своего личного секретаря. Более никому он не может доверить свои секреты, – убеждал я упрямицу. – Судьба Сибири, а может быть, и всей России сейчас решается в Омске. Я не могу жить без тебя и сына, но и Муромского оставить сейчас тоже не могу. Мне что, разорваться?
Мы выясняли отношения в гостиной, потому что в Полиной комнате спал Петенька. Воспитанные хозяева разбрелись по своим комнатам, чтобы нам не мешать. Впрочем, было уже поздно. За окном стемнело, и мы зажгли свет.
На лестнице послышались тяжелые шаги. Мы затихли. Это был хозяин. Александр Васильевич, похоже, засиделся за написанием очередной статьи. А когда он интенсивно работал, у него часто просыпался зверский аппетит, и он мог даже среди ночи пойти на кухню и доесть остатки ужина или в крайнем случае выпить кружку молока и закусить увесистым ломтем хлеба.
Громыхание кастрюлями затихло, и мы продолжили разговор, а того не заметили, что хозяин стал его невольным слушателем.
Демонстративно откашлявшись, он привлек наше внимание и вошел в гостиную.
– Дорогие мои, не повторяйте наших ошибок. Не расставайтесь ни при каких обстоятельствах. Вон, Александра Викторовна Лаврская, покойная супруга Потанина, царство ей небесное, во все путешествия с ним ездила. И какую светлую память она о себе оставила! А вспомни, Поленька, жен декабристов. В Сибирь, на каторгу, лишившись всех дворянских привилегий, за мужьями ехали. А Пётр Афанасьевич зовет тебя даже не в тайгу, не в горы и уж совсем не на каторгу, а в губернский город, столицу Сибири.
– Притом я нашел там отличную квартиру, – обрадовался я неожиданной поддержке.
Полина надулась. Примеры с Потаниной и декабристками, прозвучавшие из уст ее горячо любимого дяди, поколебали ее решительность.
– Я просто боюсь туда ехать, дядя Саша, – еле слышно прошептала она. – Какое-то чувство подсказывает, что не надо туда ехать.
– Петенька, дорогой, а давай лучше поедем за границу? – огорошила меня жена. – Вон, в «Сибирской жизни» уже напечатали, что сопротивление большевиков в Забайкалье сломлено и восстановлено движение по железной дороге. Мы теперь можем уплыть на пароходе в Америку.
Я не сразу нашел слова для ответа:
– Хорошо. Мы так и сделаем. Только решение о моей отставке принимает Муромский в Омске. Нам все равно придется ехать туда.
Полина ничего не ответила и вышла в свою комнату посмотреть, как спит сын.
Я пожал руку Александру Васильевичу в знак благодарности, а он снова отправился на кухню за подкреплением для мозговой деятельности.
Утром пришел нарочный с письмом от председателя Сибоблдумы Меркушева: спикер просил срочно зайти к нему. Приглашение это меня совсем не обрадовало. Подвергаться лишний раз эсеровской пропаганде мне совсем не импонировало. Но отказаться от визита тоже было нельзя.
Спикер сибирского парламента занимал кабинет директора Университетской библиотеки. Он сидел за столом, заваленным бумагами, с шерстяным шарфом на шее.
– Ангина, – хриплым голосом пояснил Меркушев и сразу перешел к делу: – Муромский отозван из отпуска. Ему надлежит срочно выехать на Дальний Восток для достижения договоренностей с правительствами Дербера и Хорвата… – спикер закашлялся, а потом добавил: – Но имейте в виду, что дума тоже пошлет свою делегацию.
Вечерним поездом председатель Сибоблдумы выезжал до Тайги, где должен пересесть в особый поезд премьера. Он предложил мне ехать вместе с ним.
В дороге наш попутчик совсем расклеился. Даже через купе от него мы слышали пронзительный кашель. Бледный как тень, он дважды или трижды проходил, шатаясь, в туалет. Видимо, его тошнило. И когда вагон прибыл на узловую станцию, на Меркушева было уже страшно смотреть: лицо зеленое, на губах пена.
Поезд Муромского уже пришел. Несмотря на глухую ночь, председатель правительства не спал. Он как раз вышел на перрон провожать делегацию железнодорожников и увидел нас, с баулами и чемоданами перебирающихся через пути.
Пётр Васильевич наскоро распрощался со своими гостями и поспешил к нам на встречу. Принял из рук Полины спящего Петеньку, а солдатам из охраны приказал затащить на платформу наши вещи.
– Полина Викторовна, голубушка, как я рад вас видеть! Вы так похорошели, расцвели, как нежный бутон, – отпустил комплимент Муромский. – Вы приняли правильное решение, что согласились на переезд. Ведь муж и жена – одна сатана. Все радости и невзгоды надо переносить вместе.
Полина ответила ему усталой улыбкой.
Семейство Петра Васильевича благополучно спало. Дежурный офицер переговорил с проводником, и нам открыли свободное купе в премьерском вагоне.
От чая мы отказались и сразу стали готовиться ко сну. А Меркушев вообще переменил свое решение и, сославшись на плохое самочувствие, вернулся в Томск.
– Дядя Петя, а ты знаешь, сколько мы с мамой и папой набрали костяники? – с важным видом спросила меня Зиночка, пятилетняя дочурка Муромского.
– Сколько? – заговорщицки спросил я.
– Вот такое лукошко! – белокурая принцесса во всю длину своих маленьких ручек охватила воздух перед собой.
– Ого! – воскликнул я, подыгрывая ей. – И кто же набрал больше?
Зиночка выпятила вперед губки и произнесла как взрослая дама:
– Какой ты глупый, дядя Петя! Ну, конечно же, мама. Ведь наш папа – большой лентяй. И у него глаза плохо видят.
Юная барышня наверняка разболтала бы еще много семейных секретов, если бы к нам в купе не заглянула ее мама.
Софья Ивановна поздоровалась, извинилась за дочку и вывела ее из купе.
– Тетя Поля, тетя Поля! – выкрикнула маленькая болтушка уже из коридора. – А когда ваш мальчик вырастет, он станет таким же, как я?
Мы с женой переглянулись с улыбкой.
– Дорогая, тебе определенно придется родить еще дочку. Я не мыслю нашей семьи без такого ангела.
Полина сразу посерьезнела и буркнула:
– Пусть закончится война.
В купе постучали. Это был офицер. Он передал распоряжение премьера, чтобы я немедленно явился в штабной вагон.
Муромский, сцепив руки за спиной, нервно ходил по коврам своего кабинета на колесах. Увидев меня, он страшно обрадовался и бросился навстречу, как будто я мог его спасти.
– Пётр Афанасьевич, как славно, что вы пришли! Мне так нужен ваш дельный совет. Так нужен!
Он усадил меня на мягкий диван и начал издалека:
– Мне давеча приснился замечательный сон. Будто бы на меня напали две безобразные цепные собаки. У одной была отсечена часть черепа. Я, однако, не растерялся, схватил собак за цепи у самых ошейников и стравил их между собой. Когда одна загрызла другую, я задушил выжившую.
После такой преамбулы председатель правительства показал мне телеграмму от иркутского консульского корпуса союзников о некорректном выступлении генерала Гришина-Алмазова на банкете в Челябинске. Иностранные консулы протестовали против выходки нашего военного министра.
– А что он такого натворил? – поинтересовался я.
Муромский тяжело вздохнул:
– Да водка всему виной. Выпил лишнего и выдал союзникам всю правду-матку в глаза. Дескать, русские меньше нуждаются в союзниках, чем союзники в нас, а чехословаки – в особенности, ибо им без свежей русской армии никогда не видать собственного государства.
– Возможно, он и прав! Чехи вообще распоясались, ведут себя как в побежденной стране. Делят военную добычу, вмешиваются во внутренние дела, ставят разные ультиматумы. Это я еще в Томске заметил.
Премьер показал мне еще одну телеграмму – от Чехословацкого национального совета в Сибири: «В политике благодарности ждать не приходится. Когда мавр сделал свое дело, он может уйти. Но чехословацкие воины своего дела еще не сделали. Россия нам нужна в наших интересах. Мы пока останемся, несмотря на ваше любезное гостеприимство».
Муромский бросил телеграмму на стол в кучу подобных.
– Вон их сколько! От французов, англичан, американцев. От Комитета членов Учредительного собрания, Совета управляющих ведомствами и Сибоблдумы! И все дружно выражают протест. Словно кто-то дирижирует ими!
– Чувствуется эсеровский почерк. Так вот зачем Меркушев ехал в Омск. Свалить Гришина-Алмазова. Представляю, как Шаталов с Петушинским сейчас на вас набросятся! – посочувствовал я премьеру.
– И что же мне делать? Уступить им и уволить командующего армией в условиях революции и Гражданской войны?
Я посоветовал Петру Васильевичу не рубить с плеча, а пустить ситуацию на самотек и посмотреть, как будут развиваться события.
Почему, кто хочет добра, тот совершает зло? Нет, это вовсе не про большевиков. Это про нас, правых и левых поборников демократии, не сумевших договориться и проигравших войну. Большевики для меня были и останутся крайними циниками, свободными от веками накопленных ценностей человеческой культуры и морали. Темной и обманутой толпы это не касается. Речь идет о вождях, сознательно творящих зло.
«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов, является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи».
Отдадим должное честности Николая Бухарина[141]. Сказано открыто и без утайки, правда, для своих. Для народа же лозунги были попроще, но понятней, типа «Грабь награбленное!».
Ленин временами был еще откровеннее: «Пусть 90 процентов русского народа погибнет, лишь бы 10 процентов дожили до мировой революции».
После убийства руководителя Петроградской ЧК юным студентом и покушения в Москве на жизнь вождя мирового пролетариата, устроенного одной социалисткой, большевики учинили на контролируемой ими территории настоящий террор. Тысячами расстреливали ни в чем не повинных людей из числа заложников, чтобы повсеместно посеять страх, чтобы каждый знал, что любое сопротивление, даже сама мысль о неповиновении, повлечет за собой тысячи невинных жертв. Офицеров как потенциальных врагов вообще истребляли поголовно. Топили в баржах, рубили шашками.
«Мы не ведем террора против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс», – признавались руководители ЧК.
Большевистские газеты гласили:
«У саботирующей, лгущей, предательски прикидывающейся сочувствующей внеклассной интеллигентской спекулянтщины и спекулянтской интеллигенции должна быть сорвана маска. Для нас нет и не может быть старых устоев морали и гуманности, выдуманных буржуазией…»
Когда во Владивостоке одна эмансипированная американская журналистка в шоферском кожаном шлеме спросила Муромского: «Почему русская интеллигенция борется против самой революционной партии в России – партии большевиков?» – сибирский премьер ответил, что мы защищаем цивилизацию от варваров. Журналистка разочаровано вздохнула, решив, что от нее отделались общими словами.
А что он мог бы ей еще сказать? Что даже русскую интеллигенцию, готовую на самопожертвование ради народного блага, не устраивает роль скота, отправляемого на бойню? Что она просто защищается, чтобы элементарно выжить? Но ведь не поняла бы представительница свободной прессы и все бы переврала в своей статье. Ведь настоящая интеллигенция должна возглавлять революцию!
Из большевистского «Приказа о заложниках»:
«Расхлябанности и миндальничанью должен быть немедленно положен конец. Все известные местным Советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшего движения в белогвардейской среде должен приниматься безоговорочно массовый расстрел».
Так-то, мисс из Нью-Йорка!
И какая в этих условиях возможна была демократия? Когда одни собираются на съезды, совещания, выбирают делегатов и представителей, а другие в это время их беззастенчиво и хладнокровно убивают.
Поиски истинной демократии были обречены. Любые интриги и заговоры со стороны «настоящих левых» приводили лишь к обратным последствиям: свертыванию демократических свобод и расцвету реакции. Ну не умеют русские останавливаться на полпути, а договариваться меж собой, похоже, еще долго не научатся!
Так произошло и с отставкой военного министра. Эсеры скинули правого Гришина-Алмазова, а взамен получили еще более правого Иванова-Ринова, первый приказ которого был о восстановлении погон в Сибирской армии.
Гришин-Алмазов же уехал на юг, к Деникину. Служил военным губернатором Одессы. Выполняя поручение командующего Добровольческой армией[142], был командирован в Сибирь, чтобы согласовать со штабом Колчака план совместного ведения наступательной кампании 1919 года, но на Каспии был перехвачен краснофлотцами и застрелился, чтобы не попасть в плен к врагам.
Глава 2. Да здравствует король!
Для Сергея Коршунова День Победы по значимости был вторым праздником в году после Нового года. Наследие советской эпохи – Первомай, 7 ноября и даже 8 Марта – под тяжестью новых знаний не вызывали прежнего драйва, а современные праздники воспринимались им только как лишние выходные.
Но 9 Мая был особым днем. Какая бы ни была погода – хоть дождь, хоть снег, хоть жара, он всегда покупал две красные гвоздики и относил их к мемориалу павшим воинам. К этому приучила его мама в память о своем отце, геройски погибшем в Праге в мае 1945 года.
По телику умные дядьки спорили меж собой, как обустроить Россию.
– Да, поймите же вы наконец, – вещал бородатый священник, – русский народ – монархистский по самой своей сути. Лучшего строя для державы, чем конституционная монархия, не придумать. Искупить грех цареубийства и снять с себя проклятие мы сможем, лишь проведя собор и выбрав достойного царя. Только так можно покончить с новым Смутным временем!
Известный политолог в дорогом костюме слащаво улыбнулся, поправил на носу прямоугольные очки в тонкой стальной оправе и вымолвил:
– Отчасти я согласен с владыкой, навыков демократического общежития у большинства наших граждан еще не много, но реставрация монархии – это уж чересчур. И в демократических странах бывают исключения. Например, американский народ избирал своим президентом Рузвельта целых четыре раза. Вначале, чтобы он вывел страну из Великой депрессии, а потом выиграл Вторую мировую войну. Хотя это и выходило за рамки двух президентских сроков, установленных конституцией. У нас схожая ситуация…
Сергей понял, к какому выводу придут гости студии, и выключил телевизор. К «ящику» он пристрастился после переезда на новую квартиру, которую снял на окраине Томска. Хотя она и сдавалась как меблированная, но все ее убранство было сосредоточено в основном на кухне, а в единственной комнате кроме старого потрепанного дивана, стола с облезшей полировкой и телевизора на рассохшейся тумбе ничего больше не было. Даже одежду ему негде было развешать, поэтому нераспакованные сумки валялись в углу за спинкой дивана. Засаленный свитер, который он надевал на голое тело, уже изрядно пропах потом, но Коршунов не обращал на это внимания, ибо редко бывал трезвым. На удивление, он стал больше писать, и стиль приобрел еще большую раскованность. Тому способствовало его затворничество. С утра до вечера он сидел в своем кабинете за компьютером, подогревая себя коньяком, а информацию собирал из пресс-релизов и Интернета.
Поздно вечером приходил в свою конуру, включал телик и догонялся коньяком или водкой, чтобы забыться.
Но сегодня напиваться почему-то не хотелось. Наверное, встреча с сыном произвела на него впечатление. Бывшая жена привела мальчика в редакцию, чтобы тот посмотрел, как низко пал его отец. Кирюха выскочил из кабинета как ошпаренный и отказался вернуться.
«Надо останавливаться. Но где найти точку опоры?» – задал себе вопрос Сергей.
И тут под грудой сумок с вещами он увидел сплюснутый саквояж, с которым летал в Канаду. Он отодвинул стакан с водкой и встал из‑за стола.
Прадедовы тетради совсем измялись. И ему стало стыдно. Сергей выложил их на стол, расправил, нашел ту, на которой остановился, а остальные сложил стопкой и прижал их тяжелым энциклопедическим словарем.
Во Владивостоке мы жили в вагоне на станции, на дальнем пути. Здесь-то в один из первых дней с интервалом в несколько часов побывали два совершенно разных и одновременно чем-то похожих человека. Гайда был днем, а Колчак пришел вечером. Я уже привык к известности Петра Васильевича и его многочисленным знакомствам вплоть до Тихого океана. Иностранные дипломаты, местные земцы, министры из Владивостокской части Сибирского правительства, казачьи атаманы, представители начальника КВЖД[143] генерала Хорвата из Харбина, профессиональные шпионы, корреспонденты различных газет и просто знакомые наполняли вагон-салон сибирского премьера, занимая разговорами и переговорами почти все время.
Но эти господа явно выделялись из толпы.
Новоиспеченный чехословацкий генерал, бывший фармацевт, а с недавнего прошлого – освободитель Сибири даже не пытался скрыть своих честолюбивых амбиций. Без лишних церемоний он чуть ли не с порога заявил о своем желании стать командующим Сибирской армией. Муромский даже растерялся от такого напора и ответил не сразу.
– Это весьма ответственное решение, и я не вправе принимать его единолично, без обсуждения с другими членами правительства.
Прямоугольное грубое лицо Гайды покраснело, дыхание участилось, а зрачки, наоборот, побелели. Казалось, еще секунда, и он взорвется.
На омских совещаниях Муромский с лихвой научился гасить проявления гнева и замирять вспыльчивых, поэтому сразу уловил перемену в настроении гостя и доброжелательно произнес:
– Но я могу телеграфировать в Омск о вашем стремлении. Уверен, что, учитывая ваши заслуги перед Сибирью, вопрос о назначении будет решен положительно.
Гайда вскочил, крепко ухватил бледную ладонь премьера своей огромной лапой и затряс ее.
– Извините, пожалуйста, извините, что я плохо подумал о вас. Я уже решил, что вы такой же трус, как и здешние министры. Боитесь сами принимать решения и прячетесь за коллективную безответственность.
Премьера очень интересовала оценка союзниками других претендующих на власть группировок, и он с легкостью вытянул из Гайды необходимые сведения.
Чех был резок в своих оценках, но точен. Досталось от него и самим союзникам.
– Японцы – своекорыстны, американцы – неискренни, настоящими друзьями русского народа могут быть только англичане и французы.
– А ваши соотечественники?
– Они несамостоятельны. Если уж договариваться, то с теми, кто хоть что-то решает!
Гайда ушел в приподнятом настроении, а Муромский еще долго советовался со мной: отправлять в Омск телеграмму относительно нового главкома или нет.
Колчак, несмотря на свой испитой вид, по сравнению с молодым выскочкой выглядел аристократом. Внешне суровый и колючий, в душе он, должно быть, был очень добрым и симпатичным человеком. По крайней мере, такое впечатление производил он на людей при первом знакомстве.
Контр-адмирал только что вернулся из Японии, где, по его словам, поправлял расшатанные нервы. Но курортное лечение не очень-то помогло. Впалые щеки свидетельствовали о недоедании, а поношенный штатский костюм и мягкая широкополая шляпа придавали ему вообще пролетарский вид. Похоже, бывший контр-адмирал испытывал острую материальную нужду.
В его облике мало что напоминало черноморского героя, не спасовавшего перед восставшими матросами. Я силился себе представить, как этот худой, высохший человек отказывается сдать свой кортик одурманенным революционной пропагандой матросам и, сохраняя железную выдержку, хладнокровно бросает именное оружие в волны Черного моря. Но уж больно не вязался облик сегодняшнего гостя с тем легендарным Помпеем, не дрогнувшим перед пиратами[144]. Однако эта двоякость тут же исчезла, стоило ему заговорить.
– Из всех соперничающих сейчас правительств, – сказал Колчак, – я бы поддержал только Сибирское, потому что вам удалось провести мобилизацию. Такое мероприятие нельзя осуществить без поддержки населения.
Муромский благодарно улыбнулся, провоцируя гостя на дальнейшие откровения. Колчак отпустил еще пару нелестных замечаний в адрес опереточного правительства Дербера и пародийного правительства Хорвата и сказал, что больше залезать ни во владивостокскую, ни в харбинскую яму не собирается.
– А что же вы намереваетесь делать? – осторожно спросил его премьер.
Контр-адмирал уклончиво ответил:
– Еще не знаю. Может быть, поеду на юг к генералу Деникину.
Он порекомендовал нескольких своих сослуживцев для определения на службу в Омск, а на прощание пожелал Муромскому дальнейших успехов в насаждении государственности.
Вот он, столь вожделенный мною Тихий океан! Только я здесь один, без семьи и пока не собираюсь уплывать в Америку, а сопровождаю сибирского премьера на прием к британскому послу на крейсер. Наш катер скользит по серой, слегка волнующейся глади залива Золотой Рог, где качаются на рейде военные корабли, в основном – иностранные. Среди них возвышается грозный броненосец, в прошлом русский, а теперь японский, трофей войны 1905 года.
Муромский очень рассчитывает на поддержку англичан. Но на приеме его окатывает ледяной душ британской рассудочности.
– Моя страна прислала сюда войска, чтобы помогать чехам, а не русским, – заявил посол. – У вас так много правительств, что мы не знаем, с каким иметь дело. Почему Великобритания должна признать именно ваше правительство, а не большевиков, не Самарское или Харбинское? Пока вы, русские, сами не определитесь, с кем вы – с немцами или Антантой, ни о какой помощи вам – ни войсками, ни снарядами, ни амуницией – со стороны Соединенного Королевства не может быть и речи.
– Но мы же ваши союзники. У нас общий враг – Германия и ее ставленники – большевики. Мы не признаем позорный Брестский мир и готовы сражаться с общим врагом с оружием в руках – только дайте нам его! – вспылил Муромский.
Посол остался невозмутимым.
– А что мешает вам создать антибольшевистскую коалицию и объединиться? Сколько бы ни было в Англии революций, англичане никогда не забудут своего флага и не бросят своего короля.
Британец недвусмысленно посмотрел на бело-зеленый сибирский флажок, под которым наша делегация прибыла на крейсер.
Муромский уловил его иронию и ответил пламенно:
– Напрасно вы, господин посол, столь скептически относится к моей родине. Сибирь завоевана народом и должна управляться народом. Община Ермака указала дорогу переселенцам. Толпы ринулись в новую землю как в убежище от притеснений Ивана Грозного, а потом от невыносимых немецких реформ Петра. Чтобы избавиться от насилия воевод, от тяжелой подати и бюрократизма. Раскольники шли сохранить свою веру в скитах, охотники – добыть мехов, купцы – свободно торговать с сибирскими инородцами… Русские заложили здесь фундамент для своей новой жизни. Поверьте, в будущем центр тяготения российского государства неминуемо перейдет сюда. Сибирь – это будущая Россия. Свободная и процветающая. Эта земля никогда не знала рабства. Сибиряки более других российских народов созрели для республиканского строя.
На обратном пути море взволновалось не на шутку, начинался настоящий шторм. Огромные волны с белыми барашками на гребнях кидали катер из стороны в сторону, обдавая нас солеными брызгами. Настроение Петра Васильевича соответствовало погоде. Мрачнее тучи стоял он на палубе, промокший до нитки, и отказывался уходить в каюту.
Моторист выдал мне два брезентовых плаща. Один я сразу накинул себе на плечи, а другой отнес на палубу своему начальнику. Как бессловесная кукла, Муромский позволил себя облачить. Я безмолвно встал рядом с ним и крепко уцепился за бортик. Мы смотрели на волнующийся залив и пенный след, остающийся за катером. Неожиданно он сказал:
– Гайда ошибся. Англичане тоже нам не друзья.
Прошла минута, а может быть, и более, и Муромский огласил свое решение.
– Нас загнали в угол. Придется соглашаться на Всероссийскую Директорию и объединяться с Комучем. У самарцев – золотой запас, их поддерживают чехословаки. А нам никто не дает ни одного патрона в долг! Тоже мне союзники!
– А как же Сибирская республика? После победы над большевиками столичные деятели наверняка забудут о своих обещаниях.
Муромский повернул ко мне свое мокрое лицо и взмолился:
– Ну хоть вы, Пётр Афанасьевич, не сыпьте соль на мои раны. У меня у самого не лежит душа к реставрации империи. Но без этого объединения нам никогда не победить большевиков. Зато они нас поодиночке легко уничтожат. Вначале Самару, а потом и Сибирь. Нам нужны деньги для ведения войны, а они сейчас у эсеров из Комуча. И союзники воспринимают их как единственную легитимную власть во всей Российской империи. Другого выхода нет. Как вернемся в вагон, телеграфируйте Золотову в Уфу, чтобы соглашался на Директорию. А мы уж здесь своих доморощенных соперников додавим.
Катер резко наклонился, и огромный вал накрыл всю палубу. После чего Муромский согласился перебраться в каюту.
Ликвидация конкурентов продвигалась с переменным успехом. Если владивостокская группа, состоящая в основном из эсеров, казалось, сложила полномочия почти без боя, и ее министры начали передавать нам дела, то в Харбине генерал Хорват, поддерживаемый представителями крупного капитала, всячески упрямился, выторговывая для себя различные привилегии вплоть до назначения его наместником на Дальнем Востоке и членом сибирского правительства.
Но видимость оказалась обманчивой.
Известие из Уфы об избрании Муромского в состав Всероссийской Директории во многом облегчило нам работу, прежде всего в переговорах с союзниками, сбило с них высокомерие, но самого Петра Васильевича оставило равнодушным и даже больше озаботило, чем обрадовало.
Но затем события стали сменяться с молниеносной быстротой, причем происходили они в разных местах, что мы едва успевали на них реагировать.
В Омске произошел настоящий кавардак. Пользуясь отсутствием Муромского и Золотова, эсеры из Сибоблдумы решили захватить власть в правительстве. Меркушев привез с собой в Омск ранее сбежавших министров Шаталова и Крутовского. В результате левые оказались в большинстве и стали требовать от оставшегося на хозяйстве министра финансов Петрова немедленного ввода в состав кабинета эсера Новосёлова[145], когда-то избранного думой в качестве министра самоуправлений, и требовали распустить Административный совет как «гнездо контрреволюции и реакции». Петров не подчинился их требованиям и в качестве ответного удара обвинил эсеров в государственном перевороте в пользу Самарского Комуча и распорядился арестовать заговорщиков. Шаталов, Крутовский и Новосёлов были посажены в тюрьму, а председателю Сибоблдумы удалось скрыться.
В Томске чрезвычайное заседание думы приняло постановление об упразднении Административного совета, отдаче под суд Петрова и его помощников, а также о восстановлении правительства в полном составе, каким оно было избрано думой первоначально. Для осуществления этого постановления думой был создан специальный комитет.
Но министр финансов не намеревался отступать. Здание Научной библиотеки Томского университета, где заседали думцы, оцепили войска и арестовали всех заседавших. В тот же день в Омске два офицера вывели Новосёлова «погулять» и застрелили его якобы при попытке к бегству.
Эсеры на Государственном собрании в Уфе стали бить в набат, заявляя о контрреволюционном перевороте в Сибири. Сочувствующее им командование чехословацкого корпуса разослало телеграммы об аресте путчистов. В Омске чехи арестовали заместителя министра внутренних дел. И уже сам Петров подался в бега.
Владивостокская группа министров отказалась передавать нам дела.
– Левые определенно решили свалить центр, – подвел итог последним событиям Муромский. – Но как они не понимают, что, поднимая эту бузу, они отталкивают помощь иностранцев и провоцируют монархистов на ответные меры?! Я уже сам начинаю верить, что прекратить этот бедлам может только диктатура!
С Дальнего Востока премьер возвращался в скверном настроении. Хотя и удалось убедить Хорвата признать главенство Омска, и владивостокские министры перестали предъявлять свои претензии на власть. Более того, и союзники сменили гнев на милость и пообещали не только занять миллиард рублей Сибирскому правительству и поставить военную амуницию, но даже направить свои войска на Урал.
Однако Муромский им не верил. Его смущала зыбкость и неопределенность сложившейся ситуации. Он часто замыкался в себе и всю дорогу повторял одну и ту же фразу:
– Никому нельзя верить. Никому!
И только в Чите после встречи с томским купцом Вытновым, дела которого Пётр Васильевич вел, будучи еще присяжным поверенным, он чуточку повеселел, и на щеках его появился румянец.
– Оказывается, одни мои бывшие клиенты продают свои каменноугольные копи японцам за 80 миллионов иен, – радостно произнес он, потирая руки. – Событие обнадеживающее. Если японцы покупают предприятия в Сибири, то надеются на сохранение здесь порядка.
И добавил:
– А ведь это я утверждал их в правах наследства, и они обещали мне особый гонорар в случае продажи копей.
Наш поезд задержали на разъезде перед самым Омском. Прошло полчаса, Муромский не выдержал томительного ожидания и отправил меня выяснить причину у начальника состава.
Старый седовласый железнодорожник с большими усами, как у Тараса Бульбы, недовольно пробурчал:
– Перед нами на первый путь поставили пассажирский из Екатеринбурга. Там много беженцев с большим багажом. Потому высадка идет медленно.
– Пётр Васильевич – человек не гордый. И он так соскучился по семье, что согласен сойти хоть на втором, хоть на третьем, хоть на десятом пути, лишь бы поскорее увидеться с женой и дочерью.
– Ничего не получится, – сердито ответил железнодорожник. – Я уже запрашивал станцию. Они отказали. На втором пути у них живут в вагонах прибывшие из Уфы члены Всероссийской Директории. На третьем стоит воинский эшелон с чехословаками. И его подвинуть нельзя, это, видите ли, охрана Директории. На остальных путях разместились миссии союзников, опередившие нас по дороге с Дальнего Востока. Поэтому остается только ждать, пока выгрузятся беженцы.
Но ждать не пришлось. Я не успел дойти до вагона премьера, как состав резко дернулся, а потом медленно стал набирать ход.
Весь перрон и впрямь был завален чемоданами, узлами и баулами, меж которых подгоняемые казаками под тяжестью поклажи сновали интеллигентного вида мужчины и женщины, вынося вещи за территорию станции.
Среди этого разномастного людского моря под огромным бело-зеленым знаменем возвышался выстроенный в торжественном порядке взвод почетного караула, а большая лысая голова Ивана Иннокентьевича Золотова сверкала на осеннем солнце. Через открытое окно доносились отзвуки торжественного марша, исполняемого духовым оркестром.
Премьер расцвел. Его самолюбию польстила такая встреча.
Он схватил с полки свой саквояж, распахнул дверь купе и внезапно замер на месте. Я испугался, что Петру Васильевичу стало плохо, и бросился поддержать его. Но вскоре понял причину его замешательства.
На соседнем пути, совсем рядом с нами, на расстоянии вытянутой руки, стоял сияющий свежей краской новенький салон-вагон, как у нас, только гораздо роскошнее, под российским бело-сине-красным флагом. А в окне напротив мы увидели настороженное вытянутое лицо с интеллигентской бородкой.
Муромский опомнился и вежливо кивнул. Человек из соседнего вагона на приветствие не ответил, а наоборот, скрылся в глубине и задернул шторку.
Я узнал его. Ведь его портреты печатались во всех газетах. Это был председатель Всероссийской Директории Авксентьев[146]. Муромский узнал его тоже.
Полины на вокзале не было. Меня это сильно задело, ведь всех остальных членов делегации встречали семьи. Я старался не смотреть на чужие поцелуи и слезы радости, а все глядел по сторонам, выискивая свою любимую. А когда понял, что ее нет, спросил разрешения у Муромского на отлучку до завтрашнего утра, поймал первого попавшегося извозчика и поспешил домой.
Картина, которую я застал на съемной квартире, меня смутила еще более. Дома было грязно и неприбрано, чего за своей женой я прежде не замечал. Она всегда любила чистоту и порядок. Я уже решил, что ее вообще нет дома, но вдруг услышал из спальни детский плач. Со всех ног я бросился туда.
Полина склонилась над люлькой и, как заведенная, качала из стороны в сторону плачущего Петеньку. Она повернулась на скрип двери и, увидев меня, отстраненно произнесла:
– Как славно, что ты вернулся. У мальчика скарлатина. Жар не спадает третий день.
– А что говорит доктор? – взволнованно спросил я.
– Доктор сказал, что сейчас кризис. Если малыш не умрет, то пойдет на поправку.
– Что?! – у меня язык прилип к нёбу. – Это не доктор, а шарлатан какой-то. Настоящие врачи так не говорят. Я сейчас же позвоню Муромскому. Он пришлет своего врача.
Полина покачала головой:
– Напрасно. Это и был профессор, консультирующий Петра Васильевича.
Я подошел к сыну. Он забылся и тяжело дышал. Я положил свою ладонь на его красный, нахмуренный лобик и чуть не одернул ее: настолько он был горяч.
– О Боже! – вскрикнул я.
А жена сразу как-то засуетилась, стала куда-то собираться.
– Точно. Это – единственная надежда, – шептала она себе под нос.
– Ты куда?
– В церковь! – отрезала она. – Только Он, – она подняла палец вверх и ткнула им в потолок, – может спасти нашего малыша.
Мне повезло. Петруша не проснулся. Хотя жена отсутствовала часа три. А когда вернулась, жар у ребенка спал. Вскоре он закричал во все горло, требуя еды.
Полина накормила сына через соску из бутылочки жидкой манной кашей, а когда он, сытый, заснул здоровым сном, села на стул возле стола и обхватила свою голову руками.
– Какая же я дура! – запричитала она. – Чуть не убила собственное дитя.
Потом бросила на меня гневный взор и заявила:
– А ведь он занемог в тот день, когда твои сотоварищи убили Новосёлова. Скажи, в чем он провинился перед вами? Милейший, очень воспитанный, образованный человек. Сибирский областник, кстати. Ведь он вместе с нами ходил на журфиксы к Потанину, писал стихи и рассказы. Его беда была лишь в том, что он не сумел, как остальные хамелеоны, вовремя сменить окраску и остался верен идеалам революции. Какие вы белые? На вас уже крови не меньше, чем на большевиках!
– Ты прежде думай, а потом говори! – ударил я кулаком по столу и вскочил.
– Красные ввели террор в систему. Для них это обыденная практика – убивать ни в чем не повинных людей. Для нас это – досадные эксцессы. Поверь, мне так же жалко Новосёлова, как и тебе. Во Владивостоке я даже ходил в церковь на панихиду по нему. Он оказался жертвой политического заговора, пешкой, которой пожертвовали в большой игре. Эсеры хотели повсеместно захватить власть. В Уфе вынудили Золотова признать главенство действующего Учредительного собрания. Спровоцировали Сибирскую областную думу на противоправительственные действия. А Новосёлову с компанией отводилась задача прибрать к рукам исполнительную власть, пока Муромский на Дальнем Востоке, а Золотов на Урале. Чтобы и в Сибири развести новую керенщину.
Полина испуганно посмотрела на меня. Я понял, что перегнул палку, и примирительным тоном сказал:
– Пойми, дорогая, Сибирь прожила все лето без войны, воссозданы государственные институты. В этом огромна роль таких людей, как Муромский. Спокойных созидателей, а не разрушителей – горлопанов типа…
Я хотел сказать «Новосёлова», но вовремя спохватился, что о мертвых надо говорить либо хорошо, либо никак, и произнес вслух:
– …моего старого товарища Чистякова. Ты пойми, что истинными продолжателями дела Потанина являются Муромский и Золотев, а не Шаталов и Петушинский.
Видя, что жена начала успокаиваться, я продолжил:
– Сейчас у Сибири уникальный шанс – обрести свою независимость. Пусть мы пока говорим об автономии, но это вынужденная дань текущей политической ситуации. Все, о чем мечтали Потанин и Ядринцев, может и должно осуществиться.
– И ты всерьез веришь в эту мечту? – скептически произнесла Полина.
– Да, дорогая. Если бы не верил, то давно бы увез вас с Петей отсюда. Но я не могу бросить Муромского и Золотова на полпути, не могу предать потанинские идеалы.
По лицу Полины скользнула виноватая улыбка. Она встала из‑за стола, подошла и обняла меня.
– Прости, – тихо прошептала жена. – Я сильно переживала и за сына, и за тебя. Вот и сорвалось.
– И ты меня прости, дорогая…
Она погладила меня по голове и предостерегла:
– Но эти черносотенцы… Они всюду. Как бы они не подмяли под себя и эсеров, и вас, областников.
– Успокойся, любимая. Ничего у них не выйдет. Сибиряки еще не сошли с ума в отличие от россиян. У нашего народа хватит здравого смысла избежать крайностей. Надо только сохранять выдержку, не лезть на рожон. Пусть левые с правыми разбираются сами.
Мои губы нашли ее губы. Больше слова нам были не нужны.
Омск напоминал разворошенный муравейник. Снять квартиру или комнату было почти невозможно. Все жилые дома были переполнены, а с Поволжья и Приуралья продолжали стекаться беженцы. С востока непрерывно прибывали различные дипломатические и военные миссии союзников. Им нужны были достойные помещения. А где их было взять? Небольшой провинциальный город в бывшей колонии, в котором до революции проживало всего сто тысяч человек, не мог вместить в себя миллион и никак не тянул на роль российской столицы.
Двоевластие только накаляло обстановку. Директория лишь собиралась управлять Сибирью, а Сибирское правительство ею реально управляло. У нас был аппарат и налаженные финансы, пусть и не такие блестящие, ведь приходилось постоянно проводить эмиссию сибирских денег, что обесценивало их, и цены на товары росли. Но у Директории и этого не было. Однако имелся золотой запас и поддержка чехословацкого корпуса.
– Мы готовы подчиниться решениям Уфимского государственного совещания: упразднить Сибирское правительство и передать вам с таким трудом налаженный правительственный аппарат. Но мы должны быть уверены, что этот аппарат получит надлежащее руководство и всё, что создано нами, не погибнет, – настаивал Муромский на совместном совещании членов Директории и Административного совета.
Он был своего рода связующим звеном между сибиряками и навозными, ибо формально входил и туда, и туда, но душой все равно был под бело-зеленым знаменем.
– Не могли бы вы, ваше высокопревосходительство, уточнить свои требования? – спросил Авксентьев.
Он уже давно ввел на своих совещаниях высокий тон и требовал, чтобы к членам Директории обращались официально.
Но Муромский, привыкший к простоте, был шокирован обращением. Он даже поперхнулся.
– Мы хотим принять участие в формировании нового Всероссийского Совета министров, и чтобы без нашего одобрения не был назначен ни один министр.
– У вас нет на это полномочий, – отрезал глава Директории. – Не забывайте, что мы подотчетны только Всероссийскому Учредительному собранию!
Муромский дружески улыбнулся и не без иронии ответил:
– Но мы просим лишь о небольшой уступке, ваше высокопревосходительство. Если вы ее нам сделаете, то мы готовы на весьма большее самопожертвование – упразднение Сибирского правительства.
Директория приняла наши условия и назначила Муромского председателем Совета министров Всероссийского Временного правительства, поручив ему формирование нового кабинета. Но настоящая борьба за власть только начиналась…
Пятнадцать дней бесконечных трений, разногласий и интриг… Сибиряки предлагали своих министров, навозные их отводили и навязывали свои кандидатуры. И никто не хотел отступать.
Противоборство вышло за стены правительственных кабинетов. И справа, и слева раздавались предложения прекратить этот торг с помощью вооруженной силы. Чехи и словаки только ждали отмашки от Авксентьева, чтобы арестовать членов Сибирского правительства и предоставить всю полноту власти Директории. Казаки же, наоборот, хотели пересажать всех заезжих эсеров.
Компромиссы достигались лишь в упорной борьбе. И все равно стороны зашли в тупик. Директория ни за что не хотела видеть на посту министра финансов Каинова, а сибиряки не соглашались на назначение товарищем министра внутренних дел эсера Роговского[147]. Старинная вражда между Омском и Самарой вспыхнула с новой силой.
После очередного трудного и бестолкового дня бесконечных споров Иван Иннокентьевич Золотов пригласил меня к себе в гостиницу выпить чаю и посоветоваться в неформальной обстановке.
Мы долго ждали самовара. Наконец горничная принесла его, а за ней в номер ворвался казачий полковник. Мне его лицо показалось знакомым. Он же, увидев меня, странно ухмыльнулся и по-военному четко представился:
– Полковник Сибирского казачьего войска Вдовин. Прибыл для охраны вас, господин министр, от возможного ареста.
– Но кем? – воскликнул Золотов.
– Не могу знать! Я только исполняю приказ. Получены сведения, что канцелярия Совета министров занята какими-то войсками и что оттуда выступили отряды, чтобы арестовать вас, Муромского и Каинова.
– Больше ничего не имеете сообщить? – спросил Иван Иннокентьевич.
– Никак нет! – отрапортовал полковник.
– Тогда узнайте сейчас же, что за части заняли канцелярию?
– Слушаюсь, господин министр.
Громыхая сапогами, полковник удалился. А я стал ломать голову: где же я его прежде видел?
– Вдовин… Вдовин… Знакомая фамилия… Неужели?!
Я отказывался верить своей догадке. Но потом вспомнил характерную ухмылку, не оставившую никакого сомнения, кто это.
– Это ваш знакомый? – поинтересовался напуганный моей реакцией Золотов.
– Больше чем знакомый. Он – мой крестник, а я – его.
И я поведал Ивану Иннокентьевичу, как мы познакомились с полковником в 1905 году во время черносотенного погрома в Томске.
– Да уж… – многозначительно произнес министр. – Воистину неисповедимы пути Господни.
Чай уже остыл в моей кружке. Я совсем забыл о нем, погруженный в раздумья.
– А ведь Полина предупреждала меня, что я скоро стану дружить с черносотенцами. И вот это случилось: бывший царский сатрап охраняет меня от социалистов! Как такое могло произойти, Иван Иннокентьевич? Может быть, это вовсе не мир сошел с ума, а мы с вами? Большевики и эсеры – истинные революционеры, а мы – самая настоящая контра, прислужники буржуазии и монархии, которых необходимо добить?
Золотов нахмурился и ответил со злостью:
– Ну, положим, вы, Пётр Афанасьевич, относительно своей персоны не обольщайтесь. Полковник прислан охранять меня, а не вас. И если вы устали руководствоваться здравым смыслом и готовы поверить в сладкие байки о рабоче-крестьянском царстве свободы, то вас никто здесь силой не удерживает. Можете переметнуться к эсерам, а то и к большевикам. Я думаю, что переводчики им сейчас тоже нужны.
Я обиделся и встал из‑за стола. Золотов меня остановил:
– Перестаньте дуться как барышня! Кто ж тогда, в девятьсот пятом, и даже летом прошлого года мог подумать, что так оно все выйдет? Что революция принесет нам не долгожданное освобождение от царского гнета, а войну, боль и страдания? Что ее результатами воспользуются враги России? И что часть нашего народа, переметнется на службу к немцам? Что зависть к успеху соседа окажется сильнее православной веры, национальной идеи и даже любви к Сибири? Я понимаю, что вы по рождению не сибиряк, и вам трудно быть патриотом этой земли, но мы, родившиеся здесь, любим ее самозабвенно и не мыслим своей жизни без нее. Вы же хотели уехать? Уезжайте. А мы останемся здесь и будем противостоять всем «измам», идущим с Запада. Будь-то коммунизм, интернационализм, сионизм или другой какой-либо национализм! Это наша земля, и ее обустраивать нам!
Иван Иннокентьевич еще что-то хотел сказать, но в это время в дверь постучали, и в номер вошел Вдовин.
– Ложная тревога, господин министр, – с порога доложил полковник. – Канцелярию заняли наши войска. Это контрмера против кого-то другого. Но на всякий случай мы все-таки останемся на ночь в фойе. Ведь береженого бог бережет.
– Спасибо за заботу, – поблагодарил казачьего офицера Золотов, а когда тот повернулся, чтобы уйти, неожиданно спросил его:
– Скажите, полковник, вы знакомы с господином Коршуновым?
– Доводилось встречаться с господином студентом, – признался тот, покусывая ус.
Золотов сделал шаг вперед и оказался между нами:
– Так вот, господа, что бы между вами раньше ни было, все это осталось в прошлом. Сейчас мы делаем одно общее дело, и не время вспоминать былые обиды. Я прошу вас забыть о них и пожать друг другу руки в знак окончательного примирения.
От такого поворота событий мы с полковником опешили. А Золотов, воспользовавшись нашим замешательством, взял мою правую ладонь и вложил ее в огромную казачью лапу. Вдовин ухмыльнулся, но потом крепко сжал мне запястье.
На следующий день никаких заседаний не проводилось. С членом Директории генералом Болдыревым[148] мы встретились случайно на улице, когда пошли в трактир пообедать.
Иван Иннокентьевич, открытая душа, не преминул рассказать ему о ночном инциденте.
– Мы живем точно в Мексике, – сказал он генералу. – Вчера распространился слух, что Российское правительство собирается нас арестовать…
Болдырев рассмеялся.
– Мы с вами в одинаковом положении, – ответил он. – Третьего дня Директория была во власти слухов, что Сибирское правительство отдало приказ о нашем аресте…
Настал черед Золотова смеяться.
Они еще посмеялись над слухами и разошлись.
На пост военного и морского министра Авксентьев настойчиво продвигал адмирала Колчака. Его привез в своем поезде генерал Гай да по дороге на фронт. Колчак уже успел засветиться в омских салонах и приобрел популярность как харизматическая личность. Сибиряки не возражали против его вхождения во Всероссийское правительство.
Ночные передислокации войск заставили государственных деятелей с обеих сторон стать сговорчивее. Директория сдалась и согласилась с кандидатурой Каинова, а сибиряки закрыли глаза на Роговского.
Казалось, что все разногласия устранены, но не тут-то было. Неожиданно встал в позу доселе молчавший Колчак и заявил, что он никогда не войдет в Совет министров, если там будет Роговский.
Выходка адмирала переполнила чашу терпения председательствовавшего на совещании Муромского. Все эти передряги с формированием всероссийского кабинета так утомили Петра Васильевича, что он более походил на мертвеца, чем на живого человека.
Тихим усталым голосом он доложил совещанию:
– Я вынужден констатировать, что консенсус достигнут быть не может. Когда в переговоры между партиями и общественными группами вмешиваются отдельные личности и выдают свое собственное мнение как единственно правильное, никогда мы не создадим единого правительства. А промедление с нашей стороны подобно смерти. Большевики развивают свое наступление на Урале. Пока мы с вами тут сидим и делим портфели, они возьмут Уфу, Екатеринбург да и сам Омск. Простите, но я не хочу более участвовать в коллективном самоубийстве, я измучен и физически, и морально, потому слагаю с себя миссию по формированию нового кабинета. Прошу меня понять и простить.
В зале повисла тишина. Все сознавали ответственность сделанного заявления.
Раздался скрип. Это Муромский встал из‑за стола и отодвинул председательское кресло. Он лишь попросил Золотова занять его место и, не сказав ни слова, покинул совещание.
Я застенографировал изменения в протоколе.
Все в ожидании смотрели на Колчака. Он же сидел с каменным лицом.
Иван Иннокентьевич без излишних политесов обратился к упрямцу.
– Господин адмирал, меня так же, как и вас, не совсем устраивает присутствие в будущем правительстве нежелательных элементов. Но я примирился с этим ради спасения Отечества и призываю вас к компромиссу. Вашего решения с одинаковым нетерпением теперь ждут целых два правительства: Всероссийское Временное и Сибирское.
Колчак колебался еще пару секунд, а затем вымолвил:
– Ну если вы все так настаиваете, то я согласен.
Вздох облегчения пронесся по залу.
«Тяжкое бремя выпало на долю Сибирского правительства: ему досталось народное достояние разграбленное, промышленность разрушенная, железнодорожное сообщение расстроенное. Заново приходилось строить власть, заново созидать порядок в условиях непрекращающейся борьбы…
Ныне на всем пространстве Сибири действует единая власть. Вновь создана молодая, но сильная духом армия. Учреждено подзаконное управление.
Работы по укреплению новой государственной власти в Сибири еще далеко не закончены, но в помыслах о благе сибирского населения не могут быть забыты интересы истерзанной России.
Наша родина истекает кровью. Она отдана большевиками на разграбление немецким пленным и разнузданным бандам русских преступников.
Приближается конец мировой войны. Народы будут решать свои судьбы, а Великая раньше Россия в этот исключительно важный момент может остаться разрозненной и заполоненною.
Без Великой России не может существовать Сибирь.
В час великой опасности все силы и все средства должны быть отданы на служение одной самой важной задаче – воссозданию единого и сильного Государства Российского.
В сознании священного для всех народов и частей России патриотического долга Сибирское правительство, получив гарантии, что начала автономии Сибири будут восстановлены и укреплены, как только минуют трудности политического положения России, ныне во имя интересов государственности постановило: в отмену декларации 4 июля 1918 года „О государственной самостоятельности Сибири“ сложить с себя верховное управление и всю полноту власти на территории Сибири передать Временному правительству Всероссийскому»[149].
Прощальную грамоту подписали Муромский, Золотев и Петров.
Она была опубликована в омских газетах за 4 ноября, а принята на последнем заседании Сибирского правительства днем ранее.
Так, просуществовав четыре месяца, Сибирское правительство само прекратило свое существование, а вместе с ним исчезла с исторической арены и независимая Сибирская республика.
Особым постановлением Административный совет присвоил Петру Васильевичу Муромскому звание почетного гражданина Сибири за его выдающиеся заслуги по восстановлению государственности, правопорядка и мирного течения жизни в крае, а также за многолетние плодотворные заслуги на разных поприщах на благо и преуспеяние Сибири. Столь высокого звания был удостоен лишь Григорий Николаевич Потанин. Муромский стал вторым почетным сибирским гражданином. Томский меценат Пётр Иванович Макушин вскоре закроет этот список. Больше почетных граждан в Сибири не будет.
Он сидел в своем кабинете за столом, откинувшись на спинку кресла, без света, хотя за окном уже давно стемнело. И только проникающий через незашторенное окно тусклый лунный луч слабо освещал комнату. Перед ним на заваленном бумагами столе лежала раскрытая газета.
– Все, Пётр Афанасьевич, Сибирской республики больше нет. Мы убили ее, – тихим голосом произнес Муромский.
– Чтобы угнетаемая прежде колония поступилась собственной независимостью ради спасения гибнущей метрополии, таких примеров история еще не знала, – сказал я и спросил: – А стоило ли приносить такую жертву?
Муромский тяжело вздохнул.
– Выбора не было, – ответил он трагическим голосом. – К сожалению, идея областничества не пустила еще глубоких корней в толще сибирского населения. Ее разделяет лишь малый слой интеллигенции да горстка здешних капиталистов, которым надоело заискивать перед столицами и чувствовать себя второсортными на родной земле. Еще даже столыпинские переселенцы не освоились на новых местах, не приросли сердцем к Сибири, а теперь вот сюда нахлынуло столько беженцев. Они-то за Россию не хотят воевать, а за Сибирь и подавно. Идея государственности должна вызреть снизу, сверху ее навязать невозможно. Недолговечным будет такое государство, развалится быстро. Сибири нужно еще лет двадцать автономии, прежде чем она дозреет до реальной независимости. А в такое судьбоносное время надо не делиться, а держаться всем вместе. Иначе всю империю растащат по кускам, а потом скушают с потрохами. Вон охотников сколько!
Муромский махнул рукой на флажки союзных держав, стоящие на столе для переговоров.
Не дождавшись приглашения, я сел на стул для посетителя и сказал:
– Не знаю, как вас, но меня не покидает чувство, что мы совершили ошибку. Вы же знаете Некрасова?
– Кого? Поэта?
– Нет. Депутата четвертой Государственной думы от Томской губернии. Он еще какое-то время являлся министром путей сообщения в правительстве Керенского.
– Я с ним близко знаком, – с интересом ответил Муромский.
– Перед нашей поездкой на Дальний Восток он заезжал в Омск. Хотел встретиться с вами, но вы были заняты. И его принял Золотов. Я присутствовал при их разговоре. Интересная выдалась беседа. Оказывается, последним местом его службы была Финляндия. Он был последним российским губернатором этой провинции. И знаете, что он сделал? Вызвал к себе генерала Маннергейма[150] и предложил ему занять пост регента, а сам сложил полномочия. «Только неприступная линия обороны может спасти вашу землю от большевизма», – наказал он генералу. И в Сибирь Некрасов вернулся в надежде встретить такое же желание сбросить колониальные оковы, а увидел двоякость, лицемерие и отсутствие четкой цели. Он зашел к Золотову, чтобы попрощаться. Он уехал в Советскую Россию.
– Полноте, Пётр Афанасьевич! – взмолился Муромский. – Давайте еще вы упрекните меня в мягкотелости и либерализме. Правые и так уже окрестили меня толстовцем за мои постоянные призывы к примирению и согласию. Сибирь – не типичная колония. Ее освоение велось гуманными способами в отличие от тех же Соединенных Штатов, где всех индейцев либо истребили, либо загнали в резервации. А наши инородцы – такие же россияне, как мы. И не забывайте, что за последние тридцать лет центральное правительство много сделало для Сибири. Транссиб – такое чудо построили! Европейским губерниям не додавали, а сюда столько денег вложили. А университет, в котором вы учились, разве не метрополия построила? Нет, Сибирь – не Финляндия. Это – Россия!
– Но другая Россия! Она еще здорова! Ей самой спасаться надо, пока не поздно! – возразил я.
– Нет. Ошибаетесь, мой друг. Кому, как не Сибири, под силу сейчас собрать вокруг себя все здоровые силы для борьбы с поразившим империю недугом! И не забывайте про Японию. Самураи спят и видят, как бы отрезать от нас пол-Сибири, до самого Байкала. Вот закончится война, тогда и поставим вопрос об автономии, а сейчас не время.
– Войну надо еще выиграть, – предупредил я.
Полина вертелась перед зеркалом уже битый час, примеряя наряды, но никак не могла определиться, что ей надеть на банкет.
– Это ужасно, Петя! – огорчалась она всякий раз, когда очередное платье не сходилось на ее талии. – Я растолстела, как деревенская баба. Мне положительно не в чем выйти в свет!
Я недальновидно посоветовал ей надеть сарафан, который носила во время беременности, чем вызвал бурю негодования.
– Ты что! Другие дамы будут сверкать нарядами, а я, как Дунька навозная, явлюсь в сарафане. Да меня же весь Омск на смех поднимет. Там будут жены генералов, министров, капиталистов. Иностранцы. Уж кто-кто, а французы и англичане понимают толк в моде.
– Тогда оставайся дома. Я отмечусь на банкете и мигом обратно с чем-нибудь вкусненьким.
– Ну уж нет, дорогой, – Полина надула губки. – Меня лично пригласил председатель Совета министров, и тебе не удастся так легко избавиться от меня. Лучше помоги мне затянуть корсет.
– А ты не лопнешь, дорогая?
– Не дождешься, дорогой.
Полина оказалась права. Некоторые дамы действительно поражали своими нарядами. Словно пришли не на банкет в омский Коммерческий клуб, а на бал в Зимний дворец. Петербургские, московские, самарские, ярославские красавицы в сопровождении своих угрюмых и настороженных мужей еще блистали дорогими украшениями. Соперничать с ними по яркости одеяний могли лишь представители союзных держав. Каких только мундиров здесь не было! Красные, синие, зеленые, коричневые… С галунами и аксельбантами. Европейские и азиатские лица…
Столы ломились от яств и выпивки.
– Откуда такая роскошь? – спросил я Муромского.
– Это все Директория! – Пётр Васильевич махнул в сторону Авксентьева. – Сибирское правительство вело себя гораздо скромнее и денег зря на ветер не бросало. Да ладно. Они вернули в Сибирь золото, которое из нее прежде выкачивали. Пусть покуражатся…
Муромский чуть не добавил «напоследок», но удержался.
– Главное, что мы сохранили большинство в кабинете. Только четыре министра из четырнадцати не имеют отношения к Сибирскому правительству. И не нам, а им придется подстраиваться под наши порядки.
Он еще хотел сказать что-то важное, но тут к нам подошел французский военный атташе и, отпустив комплимент моей жене по поводу ее прекрасного вида, увел всероссийского премьера к чехословацким офицерам.
Полина и впрямь была одной из самых красивых женщин на банкете. И хотя на ней почти не было дорогих украшений, но я чувствовал, что многие из присутствующих мужчин сверлят ее глазами и втайне завидуют мне. Красотой с ней могла соперничать лишь оставшаяся в Омске супруга бывшего командарма Гришина-Алмазова[151], но она была старше Полины, и красота ее была зрелой, а моя жена только вступала в пору цветения. За одним столом с Гришиной-Алмазовой сидел адмирал Колчак.
– Какой интересный мужчина! – произнесла Полина, глядя на адмирала.
Я критически оглядел военного министра, но не нашел в его облике ничего особенного.
– Ничего ты не понимаешь в мужественности. В его профиле есть нечто классическое, напоминающее бюсты древнеримских императоров. Нос с горбинкой. А почти черные глаза поражают своим блеском и глубиной. Это очень решительный и энергичный человек. Вот только уж больно быстро взгляд его перебегает с одного предмета на другой. Он еще очень нервный и горячий. И это его портит.
Колчак встал, чтобы поприветствовать английского капитана, и вздох разочарования вырвался из груди моей жены. Он оказался невысокого роста и с непропорционально длинными руками.
Весь вечер адмирал общался с англичанами, а затем к их группе присоединился Виктор Полыхаев[152], знакомый мне еще по Томскому университету, брат командарма Анатолия Полыхаева, бывший депутат Государственной думы и известный интриган.
Он играл видную роль в партии кадетов и, по слухам, прибыл в Омск по заданию «Национального центра»[153], московской подпольной антибольшевистской организации, с целью установления в Сибири диктаторской власти.
Извинившись перед женой, я оставил ее одну и подошел к Муромскому.
– Интересный треугольник может сложиться, – намекнул я на союз англичан, кадетов и Колчака.
Премьер отмахнулся.
В глубине зала подвыпившие казачьи офицеры затянули нестройными голосами «Боже, царя храни».
Глава Директории Авксентьев лично поехал в Томск, чтобы убедить членов Сибирской областной думы принять постановление о самороспуске. Сибирская законодательная власть была ликвидирована тихо и безболезненно. Также прекратили свое существование Уральское правительство и киргизская Алаш-Орда[154].
Эсеровское руководство, осевшее в Екатеринбурге, было весьма недовольно соглашательством Директории с бывшими деятелями Сибирского правительства и опубликовало прокламацию:
«В преддверии возможных политических кризисов, которые могут быть вызваны замыслами контрреволюции, все силы партии в настоящий момент должны быть мобилизованы, обучены военному делу и вооружены, чтобы в любой момент быть готовыми выдержать удар контрреволюционных организаторов Гражданской войны в тылу противобольшевистского фронта».
Условия Уфимского соглашения были нарушены, а правые только и ждали повода, чтобы освободиться от обязательств.
Полинину четверть века мы решили отпраздновать с размахом. То есть пригласили Муромских и Золотова, ведь больше в Омске у нас близких людей не было. Жене очень хотелось произвести на гостей впечатление, поэтому она постаралась на славу, целый день не отходила от плиты и наготовила много вкусных блюд.
Иван Иннокентьевич пришел вовремя, к восьми часам вечера, а вот семейство премьера, как всегда, опоздало почти на час. Петру Васильевичу по-прежнему нездоровилось, поэтому Софья Александровна бдительно следила, чтобы он не съел и не выпил лишнего, чем сильно расстроила мою жену. Ведь она так старалась!
Уехали Муромские тоже рано, еще до полуночи. Зато Иван Иннокентьевич засиделся у нас допоздна. После сытного ужина мы пили чай с домашними пирожными и вспоминали былую иркутскую жизнь.
– А я все равно не могу привыкнуть к Омску, – признался Золотов. – Не мой это город. Чужой, ветреный и пыльный. Слишком много военных и слишком мало интеллигенции. А с наплывом беженцев из России он вообще стал походить на пересыльную тюрьму! В каком еще сибирском городе можно жить на ветке? А здесь это даже модно. Даже дипломаты живут в вагонах или снимают помещения поближе к железной дороге, чтобы быстрее убраться отсюда в случае эвакуации. Зыбкая и неопределенная жизнь на колесах. Только дунет ветерок посильней, и весь этот карточный домик рассыплется. Мы-то думали, что из России к нам приедет цвет нации, лучшие люди, профессиональные управленцы и военные. А наехали черт знает кто! Одно слово – навоз. Чинопочитание, карьеризм, прислужничество – худшие имперские явления – пышным цветом расцвели на нашей земле. Мы уже и не хозяева здесь, а словно туземная прислуга новых господ. Я уже всерьез подумываю оставить министерскую службу и вернуться обратно в Иркутск. Там сейчас живая жизнь, создается университет, а здесь так – смердение.
Только во втором часу ночи Иван Иннокентьевич спохватился, что засиделся в гостях, и стал собираться к себе в гостиницу. Я вызвался его проводить.
Ночь выдалась холодная и лунная. С неба падали редкие снежинки, но зимний снег еще не лег на землю. Одновременно мы вспомнили, как бродили по ночному Иркутску в патруле городской самообороны.
Вдруг нас окрикнули казаки из патруля:
– Стойте! Предъявите ваши документы!
Без какой-либо опаски – ведь не чехи нас остановили, а свои – мы предъявили паспорта. Мне тут же вернули мой документ и отпустили, а Ивану Иннокентьевичу приказали следовать за ними.
– На каком основании вы меня задерживаете? Я министр снабжения Всероссийского правительства! – возмутился Золотов.
– Нынешней ночью арестована вся Директория, и всех министров велено препроводить в тюрьму, – ответил ему командир патруля.
– Вы поступаете опрометчиво, – вмешался я. – Господин Золотов не имеет отношения к Директории, он – бывший министр Сибирского правительства.
Из‑за угла появились всадники. Впереди на вороном жеребце гарцевал полковник Вдовин. Он распорядился немедленно отпустить арестованного.
– Приношу извинения. Произошла ошибка. Можете следовать дальше. Пароль – «Ермак». С ним вас никто не остановит.
– Но объясните, пожалуйста, что происходит? – взмолился Золотов.
– Директория арестована. Ее больше не будет.
– Кто же будет во главе власти?
– А будет адмирал Колчак, – радостно прокричал Вдовин, хлестнул коня плеткой и поскакал дальше по ночной улице.
Здание управления железной дороги, где заседало правительство, было загодя оцеплено войсками. У меня в памяти сразу всплыла картина из 1905 года. Железнодорожная управа, солдаты, казаки…
– Эти охранники легко могут превратиться в конвоиров, – заметил Муромский, когда мы, предъявив документы, прошли через оцепление.
На удивление, все министры были в сборе, за исключением Золотова и генерала Болдырева, который был на фронте. Муромский привычно занял председательское кресло и только открыл заседание, как дверь распахнулась и в нее ворвался запыхавшийся министр снабжения. Он извинился за опоздание и занял свое место.
Пётр Васильевич сухо доложил о произведенных ночью арестах эсеров из Директории и правительства и попросил найти выход их создавшегося непростого положения.
Кто-то из товарищей министров предложил сохранить Директорию из трех человек, исключив из нее арестованных Авксентьева и Зензинова[155]. Но это предложение не нашло поддержки. Тогда речь зашла о диктатуре.
На роль диктатора предложили три кандидатуры: Болдырева, Хорвата и Колчака. Из них только адмирал присутствовал на заседании и нисколько не возражал против идеи стать единоличным правителем. Напротив, он выступил с программной речью:
– Путь партийности губителен для России. Только национальная идея спасения отечества может мобилизовать все здоровые силы. Керенщина уже однажды развалила Российское государство. Нынешняя Директория – это слепок с предыдущего эсеровского правления. Она не может создать ничего позитивного: ни организовать, ни обеспечить армию, ни поддерживать в стране законность и порядок. И даже союзники, на словах поддерживающие демократию, предпочли бы иметь дело с одним вменяемым и отвечающим за свои слова человеком, чем с горсткой парламентских резонеров. Не забывайте, что мировая война уже закончилась. Германия капитулировала перед Антантой, и теперь наведение порядка в России – это наше внутреннее дело.
Я слушал адмирала и не верил своим ушам. Доселе постоянно хмурый и нелюдимый, он предпочитал отмалчиваться на заседаниях Совета министров. Тут же его словно прорвало. Он говорил выразительно и сильно, гипнотизируя слушателей убежденностью и искренностью своих слов.
Если бы мне доверили участвовать в этот день в выборах нового царя, я без раздумий отдал бы свой голос за адмирала.
Муромский поинтересовался, где сейчас находятся арестованные члены Директории.
– В надежном месте, – ответил Петров, информированный лучше других.
– И где же это надежное место? Не Загородная роща ли, где убили Новосёлова?
– Нет. Подальше. В сельскохозяйственной школе, в казарме одного войскового старшины, – невозмутимо парировал всеведущий министр финансов.
– А почему этот старшина до сих пор на свободе? Он что, и нас может арестовать? – не унимался Муромский.
Тут слово взял управляющий делами правительства петербургский профессор Гипс. Потрясая козлиной бородкой, он заявил:
– Этот старшина сделал то, что давно надо было сделать. У нас не было сил, чтобы арестовать заговорщиков.
Профессор извлек из своей папочки два документа:
– Мы тут с секретарями позволили себе набросать два проекта.
Каких секретарей Гинс имел в виду, я так и не понял, хотя по должности первого секретаря председателя Совета министров обязан был их знать.
Первым он озвучил проект постановления Совета министров о прекращении деятельности Директории и принятии всей полноты власти Совмином, а следом – Положение о временном устройстве власти в России, по которому вся полнота власти должна была принадлежать Верховному правителю.
Тут Муромский не выдержал и возмутился:
– Я всегда считался с мнением окружающих меня людей. Но это уже чересчур. На роль бессловесной марионетки я не гожусь. Вы уж извините меня, господа, но эти документы я подписывать не буду и заявляю о своей отставке.
Заговорщики, похоже, не рассчитывали на такой поворот. Их план видимой легитимности передачи власти диктатору неожиданно затрещал по швам.
Даже невозмутимый Петров бросился уговаривать Муромского остаться. Что говорить про остальных!
– Как же без вас, Пётр Васильевич? Вы, можно сказать, главный гарант демократии в Сибири… Все это временно… Вот победим большевиков, тогда и вернемся к народоправству…
Сентиментальный премьер расчувствовался и прослезился. Но окончательно убедил Муромского поставить свою подпись Иван Иннокентьевич Золотов.
Он отвел председателя в сторону и прошептал ему на ухо:
– Если мы не примем эти постановления, то окажемся вместе с членами Директории в тюрьме. Только нас спасать будет уже некому. А Колчак все равно станет диктатором.
– Вы так думаете?
– Я в этом уверен!
Когда начались выборы Верховного правителя, Колчака попросили удалиться из зала заседания. Он подчинился и перешел в кабинет премьера, где и дождался подведения итогов. Согласно листу закрытой баллотировки из 14 избирательных записок с именем Колчака оказалось 13. И только одна была подана за генерала Болдырева. Только так Муромский мог выразить свою позицию. За Хорвата не проголосовал никто.
На следующий день газеты опубликовали воззвание Верховного правителя к населению:
«Всероссийское временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу Александру Колчаку.
Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях Гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю, что не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности.
Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.
Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам».
Арестованных членов Директории снабдили крупными суммами денег во французских франках и выслали за границу.
– Убийцы! Убийцы! У вас у всех руки по локоть в крови! И ты такой же. И не оправдывайся. Все твои жалкие доводы не стоят и капли крови этих святых людей, замученных вашими палачами!
Полина металась по комнатам, как дикая кошка, срывая с вешалок свои платья, кофты и блузы и сбрасывая их в огромную кучу на кровати. Тут же лежали раскрытые чемоданы. Испуганный и голодный сын ревел благим матом, но мать не замечала его крика.
– Третьего дня к нам приходили Фомины за советом, как лучше поступить мужу: вернуться в тюрьму или остаться на свободе? И ты что им сказал?
– Я только передал слова Муромского.
– Нет. Я сама слышала, что ты гарантировал Фомину безопасность и неприкосновенность, если он по собственному желанию вернется в тюрьму, и что скоро суд освободит его на законном основании.
– Мне это обещал Муромский, а ему министр юстиции.
– Грош цена вашим обещаниям. Обезображенный, исколотый и изрубленный труп Фомина сегодня обнаружили на берегу Иртыша. А другие… Из них никто не был большевиком. Это были честные люди, настоящие патриоты, борцы за свободу. У них хватило смелости не признать власть тирана. И вот они мертвы!
– Ты ничего не понимаешь, Полина, – пытался я успокоить жену. – Подавлялось восстание, поднятое большевиками. Члены Учредительного собрания пострадали случайно. Или это преднамеренная провокация. Кто-то очень хочет подставить Колчака, уронить его моральный престиж, углубить пропасть между ним и умеренной демократией.
– И кто же это? – презрительно спросила меня жена.
– Не знаю, – признался я честно. – Черносотенцы, монархисты, а может быть, это дело рук самих эсеров, чтобы натравить союзников на правительство.
Она схватилась руками за голову.
– Боже, какой ужас! Ты разве еще не понял, что ты сам стал черносотенцем. Я выходила замуж за героя революции, а теперь живу с настоящим реакционером. Царские жандармы были гораздо гуманнее вас, умеренных демократов.
Она замолчала на минуту, а потом четко и решительно произнесла:
– Я ухожу от тебя, Пётр, и уезжаю в Томск. Поживу пока у Андреевых, а потом что-нибудь придумаю. Извини, но я не могу жить с прислужником палачей.
И стала собирать чемоданы. Петя примолк. Я тоже не знал, что сказать, и стоял, как каменный истукан, посереди комнаты.
Глава 3. За царя и советскую власть
Ночью он снова ходил в психическую атаку. Под звуки бравурного марша, с промасленной винтовкой и сверкающим на солнце штыком, в парадной черной форме в шеренге безусых юнцов, вчерашних гимназистов и студентов, ушедших добровольцами в Сибирскую армию. Вражеские пули зловеще жужжали над головой, рядом падали сраженные товарищи, строй редел, но продолжал неотступно идти вперед под завывание труб и бой барабанов. И не выдержали нервы у державших оборону красноармейцев. Вшивые, одетые в лохмотья солдаты революции в панике бросали свои винтовки и пулеметы и бежали куда глаза глядят. Только бы унести ноги от этой несокрушимой армады.
Проснулся он в холодном поту и понял, что это был только сон, очень похожий на эпизод из виденного в далеком детстве фильма «Чапаев», когда каппелевцы наступали, а Анка с Петькой строчили по ним из пулемета. Но юному пионеру Серёжке Коршунову почему-то было очень жалко этих врагов революции, и его симпатии уже тогда были на стороне белогвардейцев. Видимо, в чем-то все-таки не доработали создатели фильма. Нельзя было так красиво показывать бесстрашие врага.
Теперь, прочитав большую часть прадедовых тетрадей, он доподлинно узнал, что войска генерала Каппеля[156] состояли в основном из волжан и воевали совсем на другом направлении, чем сибиряки. Но картинка из «Чапаева» настолько прочно засела в его подсознании, что продолжала прокручиваться, стоило Сергею заснуть.
Он открыл глаза и посмотрел на часы. 03.25. Еще так долго до подъема. Из городской администрации за ним пришлют машину лишь в половине девятого.
За стеной подступающего к гостинице леса вставало красное солнце. В этих северных широтах оно вообще не заходило за горизонт в начале июля, а как бы устало ложилось на него, как на постель, после дневной работы и, отдохнув часок, поднималось снова.
В Стрежевой его пригласил глава городской администрации, обеспокоенный последствиями скрытой национализации здешней нефтяной компании.
– Поймите, Сергей Николаевич, при частниках нам жилось совсем несладко. Из перечисляемых нефтяниками в казну налогов городу доставалось лишь полпроцента, области – три с половиной, а все остальное уходило в Москву. С какими боями нам удалось убедить прежних владельцев дополнительно помогать городу, участвовать в его развитии и благоустройстве! Ведь здесь живут работники их компании, – рассказывал мэр. – Кое-как нашли взаимопонимание, наладили сотрудничество, и вот на тебе – банкротство. Теперь контрольный пакет акций будет у государства, и если нам перечислят лишь положенные по закону полпроцента от налогов, город не сможет существовать. Новые хозяева собираются перерегистрировать компанию в Москве или Петербурге, тогда область от собственной нефти вообще ничего не получит. Здесь же кругом – болото. Если не проводить мелиоративные и грунтовые работы, не укреплять фундаменты зданий, то в скором времени они все завалятся. И город придется строить заново!
– Не придется, – уверенно ответил журналист. – К тому времени отсюда всю нефть выкачают, и надобность в этом поселении вообще отпадет. С точки зрения западных экономистов, для эксплуатации природных ресурсов Сибири достаточно стотысячного населения в областных центрах вдоль Транссиба, а приполярные территории выгоднее осваивать вахтовым методом. Вон в Канаде львиная доля жителей сосредоточена в стокилометровой зоне по границе с США. Но у Ниагарского водопада, извините, и персики, и виноград растут, а у вас – только клюква с морошкой! Ничего не поделаешь. Таков закон сравнительных издержек, открытый еще Давидом Риккардо[157]. Любой товар надо производить там, где это выгоднее всего, а людям жить – с наименьшими затратами.
– Но позвольте! – возмутился бывший капитан речного буксира, почти полвека проживший на севере. – Россия вообще северная страна, а Сибирь – тем более. У нас просто нет другой земли, и что же – нам от этой отказываться? Для меня это родина, и я хочу, чтобы здесь жилось лучше.
Подумав, он добавил:
– Ерунда это – ваша экономическая целесообразность. Я вот недавно отдыхал в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, и с ответственностью могу заявить, что там жизнь тоже не дешева. У арабов вообще нет пресной воды. Они очищают морскую воду на молекулярном уровне. Представляете, какие это затраты? А выращивание одной только пальмы в безжизненной пустыне обходится в две тысячи долларов в год, однако там ежегодно высаживается двадцать тысяч пальм. Сорок миллиардов долларов государство тратит на одни только пальмы! А какое строительство ведется во всех эмиратах! Самый высокий и роскошный отель мира! Самая высокая башня! Насыпные острова в море… Там воплощаются в реальность самые грандиозные, самые амбициозные архитектурные проекты. Вся страна – сплошная новостройка. Наша Москва отдыхает. Весь мир инвестирует туда, на такое грандиозное строительство никакой нефти не хватит. А почему это происходит? Тамошние шейхи, выросшие в бедуинских семьях, в отличие от нас, имеющих по два-три высших образования, понимают, что это их земля, и другой у них не будет. Слава аллаху, что в ней есть нефть, но она скоро кончится, а вот то, что построено, останется на века, и люди со всего мира будут приезжать в Эмираты и удивляться арабскому чуду!
– У них совершенно другой климат. Многие едут туда покупаться в теплом море и позагорать. А на вашем болоте не сильно-то позагораешь даже летом, комары заедят, – возразил Коршунов.
Но мэр тоже за словом в карман не полез.
– Вот вы сказали про Ниагарский водопад, а что, у нас в Сибири мало таких мест? Туристы бы ринулись сюда толпой, если наши достопримечательности хоть немного благоустроить и разрекламировать. Ведь в норвежские фьорды едут совсем не за загаром, а чтобы увидеть их незабываемую красоту. У нас один Байкал чего только стоит! А Алтай? А Хакасия? А Горная Шория? А Ленские и Красноярские столбы? Вот куда надо вкладывать деньги от нефтяного экспорта, а не тащить их все в Москву, а оттуда разбазаривать по всей планете! Арабы, да и другие умные народы, отовсюду в дом к себе тянут, а мы, как какие-то временщики, приехавшие сюда на шабашку, из дома последнее добро готовы отдать!
Сергею нечего было возразить мэру северного города. Он сам думал так же.
– А если хорошенько поискать, то и в наших краях найдется, чем людей занять. Одно Васюганское болото, кстати самое большое в мире, может дать столько торфа, что его только успевай перерабатывать. Недавно прорвало трубу на городском магистральном водоводе. Когда ремонтники ее раскопали, то ахнули: диаметр трубы был рассчитан на население 250 тысяч человек! Сейчас здесь живет в шесть раз меньше.
Городской глава тяжело вздохнул.
– Если Сибирь не осваивать и не заселять, а использовать ее как сырьевую колонию для Европейской России, где по-прежнему будет проживать основное население, то рано или поздно этот огромный и малозаселенный край отпадет. Его подберут те, кому он действительно нужен.
– Китайцы?
– Они или другие – не все ли равно. Просто в нынешней глобальной экономике мировое сообщество не позволит нам лежать как собаке на сене на такой роскошной природной кладовой и использовать лишь десятую долю ее богатств. Скорее бы в Москве это поняли…
Два месяца от Жаклин не было ни слуху ни духу. И вдруг ему позвонили из офиса DHL[158] и попросили забрать бандероль из Монреаля. Бросив все дела, Сергей помчался в почтовый офис и, получив конверт, в нетерпении разорвал его. Он надеялся, что в нем будет хотя бы коротенькое, в пару строчек, письмо от Жаклин, но его постигло разочарование. Ничего, кроме двух потрепанных тетрадей продолжения прадедовой рукописи, в конверте не было.
Вредная тетка! Она словно испытывала его терпение, очень дозированно, шаг за шагом, открывала перед ним семейные секреты. А еще это почему-то напоминало ему любовную игру, когда девушка долго дразнит партнера, постепенно снимая с себя одежду.
Полина и Петя уехали в Томск перед самым Новым годом, оставив меня одного встречать рождественские праздники. На людях жена сохраняла видимость семейных отношений. Оставив ребенка вместе с кормилицей в купе, она вышла со мной на перрон и даже чмокнула меня в щеку своими ледяными губами, а потом поднялась в тамбур и тихо сказала:
– Прощай!
Я бросился за ней, но поезд тронулся, и проводник, грубо отпихнув меня, закрыл дверь вагона.
На фронте Верховный правитель сильно простудился и подхватил тяжелое воспаление легких. Врачи прописали ему строгий постельный режим. Он не выходил из своего особняка на берегу Иртыша, который забрал у золотовского министерства снабжения, чем кровно обидел Ивана Иннокентьевича. За Колчаком ухаживала приехавшая к нему из Владивостока любимая женщина Анна Васильевна Тимирева[159].
Муромскому тоже нездоровилось, но он держался на ногах благодаря заботам своей жены. И даже ездил и поздравлял с Новым годом союзников.
1919‑й мы встретили с Иваном Иннокентьевичем по-холостяцки вдвоем в его гостиничном номере. Правда, Золотов уже подал прошение об отставке и имел твердое намерение вернуться в Иркутск, к жене, давно его ожидавшей. Меня же со службы никто не отпускал, но я бы все равно с нее не ушел. Из‑за упрямства и уязвленного мужского самолюбия. Не хотел признать правоту Полины.
Поздравительную телеграмму Андреевым с наступающим Рождеством я послал и успел уже получить ответную. В ней, в частности, сообщалось, что мои жена и сын доехали благополучно и радушно приняты Полиниными родными.
Бутыль самогона да нехитрая закуска составили убранство нашего новогоднего стола.
Настроение у обоих было неважнецкое. На душе у каждого скребла своя кошка, и мы не нашли лучшего занятия, как утопить нашу боль и обиду в самогоне.
– Колчак мне не верит, Пётр Афанасьевич, – жаловался Золотов. – Он считает меня социалистом и не может простить мне подписанного в Уфе соглашения с эсерами. Хотя не будь этого соглашения, не было бы Директории, и Верховного правителя тоже б не было. И жили бы мы с вами в своей Сибирской республике. Без их высокопревосходительств. Слышали бы вы, как он орал на меня: «Что же, по-вашему, Верховный правитель должен жить в маленькой проходной комнате, в частной квартире? Это же просто неприлично и небезопасно. Я приказываю завтра же очистить особняк!» Приказ есть приказ. Всю ночь собирались, но уложились в срок. А только переехали на новое место, как явился отряд милиции и все наши вещи выкинули на улицу. Оказалось, что и это помещение выделено одной иностранной миссии. А потом нам предоставили низкие и грязные комнаты в политехническом институте. И после такого отношения к стратегическому министерству он смеет требовать бесперебойного обеспечения армии! Давайте, Пётр Афанасьевич, выпьем, чтобы минули нас и царский гнев, и царская любовь!
Мы чокнулись стаканами и проглотили жгучий самогон.
– Торгово-промышленникам не нравилась моя ориентация на кооперацию, – закусив соленым огурцом, продолжил Иван Иннокентьевич. – Дескать, правительство не должно экономически поддерживать эсеровские предприятия. Мне все равно, кому отдать подряд на поставку сапог: что частникам, что кооператорам. Я руководствуюсь исключительно интересами дела. Какой поставщик надежней и предложит свой товар дешевле, тот и получает подряд. Сколько раз, Пётр Афанасьевич, мне предлагали взятки, но я всегда выпроваживал таких доброхотов ни с чем. Вот и свалили они меня. И какую мудреную комбинацию провернули. Два министерства – снабжения и продовольствия – сливаются в одно ради экономии средств. Один министр – лишний. Им оказался я. Но я не в обиде. Этих дельцов судьба еще накажет. И знаете, работа в правительстве в последнее время доставляет мне гораздо больше огорчений, чем удовлетворения. Особым честолюбием я не страдаю. А материальные блага меня никогда не прельщали, да, в сущности, я таковых и не имел. Едва ли я еще когда-нибудь жил столь плохо, как будучи министром. Я устал. Хочу домой, на свой любимый Байкал. К любимой жене. К статистическим сборникам. Я же по своей натуре все-таки исследователь, а не снабженец.
Как я понимал Золотова и как ему завидовал!
– Мне тоже противны эти озверевшие офицеры и наехавшие бюрократы, своим крючкотворством и волокитой парализующие любое живое дело! Но ведь Муромский терпит! И я не могу бросить его одного. Он – последний оплот сибирской демократии, последняя надежда на автономию нашей страны. Этот навоз не может всегда вонять наверху, когда-нибудь он должен перегнить, перепреть и уступить место молодым, здоровым побегам новой государственности, – высказался я в свое оправдание.
На что Иван Иннокентьевич ответил народной мудростью:
– Дай бог нашему теляти волка поймати.
К утру бутыль опустела. Золотов упал на нерассте-ленную кровать и захрапел. Одному мне стало скучно, и я пошел в ресторан «Кристалл-Палац», где напился в стельку с казачьими офицерами.
Проснулся я в незнакомой квартире на мягкой перине под пуховым одеялом. Металлическая кровать, на которой я лежал, стояла в простенке и была отгорожена от остального пространства занавесью, как это было принято в казачьих избах.
Стены были чисто побелены. И в горнице вкусно пахло распаренной гречневой кашей и луком.
Занавесь распахнулась, и яркий солнечный свет на миг ослепил меня.
– Проснулся, крестничек? Ну ты и мастак дрыхнуть. Почитай, целые сутки проспал, – пожурил меня полковник Вдовин и крикнул в горницу: – Маруся, гость проснулся. Давай накрывай на стол.
В комнату вплыла дородная моложавая казачка. Ее черные волосы были туго затянуты цветастым платком. Брови-стрелы и черно-синие глаза придавали ее лицу выразительность, а нос картошкой, ямочки на пухлых щеках, мягкий подбородок и полная шея наоборот сглаживали его. На вид ей было лет тридцать. В руках она держала чугунок с кашей, обхватив его вышитым полотенцем.
– Милости прошу к столу, – пропела молодица. – Вы уж извяняйте за постный стол, но до Рождества у нас скоромного не будет.
– Вот познакомься, Пётр Афанасьевич, это хозяйка моя, Маруся. Она одна – моя семья. Детей нам Бог не дал. Но я в ней, голубушке, души не чаю. Маруся мне и жена, и мать, и дочь.
Хозяйка поклонилась мне в пояс. Ее лицо просияло в улыбке, а ямочки на щеках стали еще глубже.
Я встал с кровати, отряхивая со своего костюма лебяжий пух от перины, и пробовал выдавить из себя подобие улыбки.
Вдовин представил меня жене:
– А это, Маруся, мой старый знакомый, Пётр Афанасьевич Коршунов. Человек ученый, состоит личным секретарем у самого председателя Совета министров. Только у него с женой нелады.
– Изменила, что ль? – всплеснула руками Вдовина. – Или вы ей изменили?
– Нет. Что вы! – стал оправдываться я. – Просто поссорились. Из‑за политических разногласий.
– Тады помиритесь! – заключила казачка. – Ежели с милым из‑за такой ерунды вздорить, то и на любовь времени не останется.
– Нет. Не помиримся. Она забрала сына и увезла его к родственникам в Томск.
– Ну и дура. Мужика нельзя надолго одного оставлять. Я бы своего Витюшу ни за что б не бросила. Хотя у вас, благородных, все так сложно. Баба должна сердцем жить, а не умом.
Полковник решил, что жена наговорилась, и прервал ее, спросив меня:
– Опохмеляться будешь или как?
Я колебался. Голова сильно болела, но я взял себя в руки и отказался.
– Нет. Лучше чаю.
Маруся обрадовалась и радостно закудахтала:
– Вот и правильно. От водки одно горе. Водка никого еще до добра не доводила.
Мы сели за стол. И я один за другим выпил сразу два стакана горячего чая.
– Ты давай на еду налегай. Тебе сейчас покушать нужно, – научал меня хозяин. – Ты уж извини, Пётр, что я тебя к себе домой принес. Но я не знал, где ты живешь, а оставлять тебя в таком виде в ресторане было не по-людски.
Я понял, что отныне мы с полковником стали на «ты».
Колчак скоро поправился и с присущей ему взрывной энергией принялся за строительство нового государства. Если большевики стремились все переиначить, перекроить на свой псевдореволюционный лад, то Верховный правитель впал в другую крайность. Он решил восстановить все органы власти, какие были при царе. Существовавшие прежде министерства и ведомства с их управлениями и штатными расписаниями, рассчитанные на общеимперский объем работы, воспроизводились с педантичной точностью. Только в отличие от сановного Петербурга в провинциальном Омске они выглядели карикатурно и только плодили разных присосавшихся дармоедов и укрывающихся от войны тыловиков. Серая масса этих безликих людей сползалась «на службу» часам к десяти утра, потом чаевничала, сплетничала, перекладывала бумажки из одних папок в другие, создавая видимость работы, а после полудня разбредалась по домам. Вся тяжесть экстренной государственной работы в условиях войны ложилась на энтузиастов-одиночек, с горем пополам вертевших маховик административной машины.
В силу своей близости к председателю Совета министров и холостяцкого положения я принадлежал к этой малочисленной категории служащих, потому мне приходилось засиживаться в своем кабинете допоздна, а иногда и оставаться там на ночлег.
Мне просто некогда было рефлектировать, заниматься самобичеванием. Сколько указов, постановлений, законов и подзаконных актов прошло через мои руки – не сосчитать! А ведь на мне еще лежали обязанности переводчика, и всякий раз, когда нужно было составить телеграмму союзникам на их родном языке или нанести визит в какую-нибудь иностранную миссию, Муромский в первую очередь обращался ко мне.
За этой бумажной и переговорной волокитой я и не заметил, как наступила весна. Растаял снег, улицы утонули в глубоких лужах, и валенки пришлось сменить на сапоги.
Смена погоды сказалась на здоровье премьера. Его энтузиазм по воссозданию всероссийской государственной машины стал угасать, он все чаще с ностальгией вспоминал прежние добрые времена Сибирского правительства, «когда все было ясно и понятно». Постоянные истерики Верховного правителя – «штормы», как их метко прозвали его адъютанты, просто убивали Муромского.
– У армии нет белья! – в бешенстве кричал адмирал, оглушая членов своей «Звездной палаты»[160]. – Солдаты снашивают рубашки до дыр. Люди завшивели. А интенданты уверяют меня, что все есть, но неумело доставляется до армии. А сами ведь все разворовывают. Буржуазия тоже хороша! Трясется над каждой копейкой. Если бы тут были большевики, они бы не церемонились. Мигом бы обобрали этих разжиревших сибирских купцов, и в Красной армии было бы все. А наши торгаши спекулируют и наживаются, и до армии им нет никакого дела. Не забывайте, что лишь тонкая цепочка замерзающих и мокнущих в окопах людей на фронте отделяет нас от большевиков.
Колчак вскочил. Глаза его лихорадочно блестели. В руке он сжимал раскрытый перочинный нож. Министры испуганно отпрянули на своих стульях от овального стола подальше, на всякий случай.
Адмирал заметил их реакцию, сложил нож и виновато спрятал его в карман френча.
Он вернулся к своему креслу.
Неожиданно встал Муромский.
– Всё! Не могу больше! Или вы, ваше высокопревосходительство, отпустите меня куда-нибудь хоть на пару недель, или вам придется искать другого первого министра по причине моей преждевременной кончины или сумасшествия! – поставил он ультиматум перед Верховным правителем.
Колчак опешил. Он никак не ожидал такой реакции от своего интеллигентного премьера, считая его примиренцем и слабовольным человеком. И согласился.
После шумного и многолюдного Омска улицы города моей юности показались мне тихими и пустынными. Воздух – чистым и прозрачным, а небо – голубым и безоблачным.
И вот я, переполняемый эмоциями, бреду по той же Сибирской слободке, как и шесть лет назад, когда Полинина любовь вернула мне дар речи, а разросшиеся березы под тяжестью набухших почек склоняют передо мной свои раскидистые ветви.
На бледно-голубой эмали, Какая мыслима в апреле, Березы ветви поднимали И незаметно вечерели[161].На ум приходит четверостишие Мандельштама. Или все-таки Бальмонта? Не важно. Все равно красиво. И созвучно моему нынешнему настроению.
А вот и до боли знакомый бревенчатый дом с резными окнами. Я подымаюсь на крыльцо, и сердце бешено колотится в моей груди. Что ждет меня за этой дверью?
Звоню в колокольчик. И слышу глухие шаги на лестнице. Тяжелая дверь отворяется со скрипом. И в меня упирается колючий женский взгляд. Я вначале даже не узнаю, кто это. Но она вскрикивает:
– Боже!
И по голосу я понимаю, что передо мной Нина Андреева, только сильно постаревшая.
– Пётр Афанасьевич! Как неожиданно! А Полина с Петенькой третьего дня уехали. В Иркутск. Полина списалась с подругами своей покойной матушки, и они нашли ей место фельдшера в уездной больнице в Верхоленске. Мы ее отговаривали как могли. Но вы же знаете, какая она упрямица! Не могу, говорит, я на чужой шее сидеть!
– Как, на чужой? Я же высылал ей деньги! – опешил я.
– Так она из них ни копеечки на себя не тратила. Все раздала семьям погибших рабочих. На этой почве у нее с папой настоящий конфликт вышел. Он-то правительство поддерживает, а она – эсеров и даже большевиков. Совсем переругались. Потому и уехала. Горе-то какое! Какая семья рушится! Вы с ней такая чудесная пара…
Нина еще что-то говорила, но я уже не слышал ее слов, а поднял чемодан, развернулся и пошел прочь.
С большим трудом, по личному указанию управляющего губернией, меня поселили в тесном номере с крохотным окном, выходящим во двор, в переполненной гостинице «Европа».
Муромский с семейством поселился на частной квартире. Узнав об отъезде Полины и что я один маюсь в гостинице, он уговорил свою домохозяйку еще потесниться, и она освободила комнату и для меня.
Так и в Томске вместо обещанного отпуска я остался личным секретарем российского премьера.
Пока длился пост, количество визитов было ограничено, и оставалось свободное время. В девять вечера Муромские уже отходили ко сну, а утром просыпались в это же время. Меня же мучила бессонница. Я лежал без сна и терзал себя сомнениями, что совершил непростительную ошибку. Иногда мне хотелось выпросить у Петра Васильевича отпуск, поехать в Иркутск, в Верхоленск, пасть на колени перед женой, вымолить у нее прощение и увезти свою семью навсегда из этой жуткой страны.
Премьер посетил пасхальную заутреню в Троицком соборе. А после обедни принял парад войск местного гарнизона, где произнес пламенную речь.
Затем деловые визиты и просто хождение по гостям не прекращались до самого нашего отъезда. Хлебосольство томичей не знало предела. Даже я, страдающий от семейных неурядиц, набрал в весе, и брюки стали туго сходиться в поясе. А Муромский вообще сильно округлился, но его полнота ничуть не портила, а наоборот, придавала бодрый и свежий вид.
О пользе здорового питания и спокойного образа жизни я еще раз убедился, когда мы были в гостях у Григория Николаевича Потанина. Он наконец-то расстался со своей вздорной и нервной поэтессой и поселился на квартире у своей старинной помощницы.
Сибирский дедушка даже помолодел после нашей последней встречи прошлой осенью. Он был одет в чистый и опрятный халат. Седая грива пышных волос была аккуратно расчесана. Радушная хозяйка угостила нас пасхальным куличом, крашеными яйцами и напоила душистым, настоянным на травах чаем.
Он очень обрадовался, увидев меня вместе с Муромским.
– Это замечательно, что вы держитесь вместе и служите адмиралу Колчаку. Я внимательно следил за его полярными исследованиями, читал путевые дневники и отчеты в Русское географическое общество. Это смелый, отважный и честный человек. Помогите ему спасти Россию. А когда сделаете это, не забудьте напомнить об автономии Сибири. Он должен сдержать свои обещания.
Эти слова вернули мне уверенность в правоте моего выбора, и я решил повременить с поездкой в Иркутск. Правда, тем же вечером я написал пространное письмо Ивану Иннокентьевичу Золотову, в котором просил проследить, как устроилась моя семья на новом месте, и по возможности оказать им посильную помощь. Если потребуется любая материальная поддержка, то я обещал ее тут же предоставить.
«От меня она отказывается принимать деньги, поэтому наша помощь должна быть скрытной и иметь вид ее собственной заслуги», – наказал я своему старому другу.
Товарищ министра внутренних дел давал большой прием. На нем было много гостей. В том числе и дядя Полины – редактор «Сибирской жизни» Александр Васильевич Андреев. Увидев меня, он бросился с рукопожатиями и все сетовал:
– Как жаль, что вы не приехали на неделю раньше. Совместно нам бы удалось образумить упрямицу. Она из Омска приехала сама не своя. Словно в нее черт вселился. Стала ходить на эсеровские сборища, даже большевикам в тюрьму передачи носила. Меня стала называть реакционером и прислужником буржуазии. Однажды ее арестовали за участие в антиправительственном митинге, но потом, узнав, что она моя племянница, отпустили. Когда она заявила, что уезжает, я, честно признаюсь, даже вздохнул с облегчением. Форменная большевичка. Может, хлебнув лиха в уездной глуши, повзрослеет. Мальца только жалко. Но она заботливая мать. Поди не угробит.
В комнату вошел Муромский, и газетчик переключился на него.
– Пётр Васильевич, не могли бы вы дать интервью для читателей «Сибирской жизни»?
– Прямо здесь? – удивился премьер. – А почему бы нет? Делу время, а потехе час. Задавайте ваши вопросы, любезный Александр Васильевич.
– В военное время всех в первую очередь интересует положение на фронте.
– Пока ситуация складывается в нашу пользу. Наступление на южном участке развивается. Скоро наши войска должны выйти к Волге. Только бы не иссяк наступательный порыв. Переход к позиционной войне будет не в нашу пользу. Потому что большевики контролируют территорию с превосходящим населением, и если им дать передышку, то они смогут поставить под ружье гораздо больше солдат. К тому же в их руках находятся промышленно развитые районы. А Сибирь малолюдна, нам неоткуда черпать пополнение для убывающей в боях армии, а в поставках оружия, боеприпасов и обмундирования мы сильно зависим от союзников. Пока мы одерживаем победы, они с нами. А если фортуна перестанет быть к нам благосклонной?
– По имеющимся у редакции сведениям, настроение у воинов Сибирской армии боевое. Такое же впечатление вынес из своей поездки и Верховный правитель. Скоро будет взята Вятка. А оттуда недалеко и до Москвы.
– У меня на этот счет есть иные сведения. Солдаты генерала Полыхаева отважно наступают под обаянием личной храбрости и мужества своего командующего, а в других армиях, действующих на фронте, иные настроения. Очень многим надоела братоубийственная война… Дай нам бог сохранить этот наступательный порыв до полной победы над врагом и достичь ее как можно скорее.
– Скоро ли мировые державы признают ваше правительство?
– Это также зависит от наших военных успехов. По дипломатическим каналам нам стало известно, что Ленин направил американскому президенту Вильсону[162] предложение заключить перемирие на всех фронтах на условии признания де-факто всех существующих правительств. Большевикам, конечно, верить нельзя, для них не существует никаких правовых норм. Они признают только силу. Но союзники не должны игнорировать любую возможность предотвратить насильственное завоевание коммунистами освободившихся областей России. И если мировые державы согласятся признать в первую очередь Сибирское правительство, а лишь потом Всероссийское, то я хоть сейчас поставлю свою подпись под этим документом.
На четвертый день Пасхи Муромский принял в кабинете управляющего губернией еврейскую делегацию. Ее возглавлял старейший мукомол губернии.
– Глубокоуважаемый Пётр Васильевич, еврейская община Томска уполномочила меня передать в распоряжение Верховного правителя собранные среди нашего населения сто тысяч рублей на нужды армии. А еще просим сообщить его высокопревосходительству, что еврейский народ страдает от произвола, чинимого большевиками, не меньше русского. И те евреи, которые выслуживаются у большевиков, не имеют никакого отношения к нам. Это отщепенцы, предавшие свой народ и свое отечество. Когда в Москве еврейская делегация пришла к Лейбе Троцкому[163] с просьбой прекратить красный террор, чтобы не провоцировать белых на антисемитские выступления, знаете, что он ответил?
Муромский пожал плечами.
– Он выгнал их вон с криком: «Я – не еврей, а революционер!» Пожалуйста, перескажите этот случай Верховному правителю. Может быть, хоть он присмирит черносотенцев в рядах Белой гвардии, позорящих святое дело защиты отечества?
То, чего так опасался премьер-министр, произошло. Большевикам удалось остановить наступление Западной армии на южном направлении и нанести ряд чувствительных контрударов. Тем временем на севере Сибирская армия все дальше и дальше углублялась в Европейскую Россию. Взяла Елабугу, Глазов и вплотную приблизилась к Вятке. Разрыв между добровольцами-сибиряками и Западной армией, костяк которой составляли кадровые офицеры, все нарастал, и красные, нащупав эту брешь, стали жестоко бить в стык двух армий. Чтобы не допустить окружения сибиряков, ставка приказала им прекратить наступление. Это распоряжение штабных стратегов привело командующего 1‑й армией генерала Гайду в бешенство, и он поставил перед Верховным правителем и Советом министров ультиматум: либо уходит в отставку начальник штаба Лебедев[164], либо – он. Колчак, инспектируя фронт, в Перми встретился с Гайдой. Они переговорили резко, «на ножах», и прославленного чехословацкого генерала вызвали в Омск.
На встречу со своенравным командармом Колчак пригласил в свою резиденцию и председателя Совета министров, который по привычке захватил меня с собой.
За овальным столом в кабинете Верховного правителя сидели трое: насупленный Гайда, растерянный Муромский и хмурый Колчак. Я занял свое привычное секретарское место за отдельным столом у входа.
Первым заговорил чех:
– Я считаю действия начштабверха Лебедева неправильными, а его директивы – безумными. Он хочет, чтобы мы воевали по учебникам. Но у гражданской войны свои законы. Здесь не столь важна стратегия, сколько напор, внезапный рейд и настрой войск. Я воюю с большевиками, а он – с русским народом. Если наступление моей армии остановить, то она не только покатится назад, но и вообще развалится. Поймите, либо мы победоносно вступим в белокаменную столицу, либо будем эвакуироваться из Владивостока. Третьего не дано. Промедление смерти подобно.
– Вы не годитесь в командующие армией, – внезапно вспыхнул Колчак. – Более того, вы не годитесь быть и простым офицером. У вас не только нет необходимых военных знаний, но даже элементарного военного воспитания. Да и откуда им взяться, когда по специальности вы – простой фармацевт!
Гайда вскочил из‑за стола.
– Вы ошибаетесь, господин адмирал, – не остался он в долгу. – Если бы у меня не было перечисленных вами качеств, вряд ли я когда-нибудь попал бы в русские генерал-лейтенанты, освободил половину Сибирского железнодорожного пути от большевиков, взял Иркутск, привел свою армию к Каме и получил от вас орден Святого Георгия. Вы – тоже по специальности морской офицер, откуда тогда вам взять знания, необходимые для Верховного правителя огромной страны, однако вы им пока состоите.
– Вон! – взревел Колчак. – Вы больше не командующий армией.
Гайда многозначительно ухмыльнулся и ответил с издевкой:
– Готов подчиниться любому приказу вашего высокопревосходительства. Но в таком случае прошу вас в скорейшем времени изготовить мне паспорт для отъезда в Чехословакию.
– Как вам будет угодно, – процедил сквозь зубы адмирал.
Вечером в зале Русского географического общества состоялось памятное собрание, посвященное 25-летию со дня кончины первого сибирского областника Николая Михайловича Ядринцева. Говорились пышные речи об исторической роли сибирского областничества, местные поэты читали стихи. Вспомнили о Потанине. Решили направить первому гражданину Сибири приветственную телеграмму с пожеланием ему скорейшего выздоровления. А второго почетного сибирского гражданина – Муромского – областники приветствовали аплодисментами стоя.
Скоро разразился очередной правительственный кризис. И связан он был с личностью министра финансов Петрова. Самый большой интриган в омском правительстве казался непотопляемым. Многих своих противников удалось ему вытеснить с политического Олимпа, иных даже свести в могилу, но, как оказалось, и на старуху бывает проруха.
В вину ему была поставлена неумело проведенная денежная реформа. В середине мая из обращения были изъяты «керенки». Причем население их должно было сдавать в банки в обмен на именные квитанции. Половина принятой суммы возвращалась сразу сибирскими деньгами, вторую же половину можно было получить лишь через двадцать лет.
Идя на эти непопулярные меры, Петров рассчитывал защитить Сибирь от печатаемых большевиками «керенок», чтобы не финансировать Советы, но получил обратный эффект. «Керенки» были самой ходовой валютой. С их изъятием вся тяжесть инфляции легла на сибирские деньги.
Такую бы «мелочь» Верховный правитель, наверняка, простил «вменяемому» министру, но тут встали на дыбы военные, утверждая, что реформа снизила боевой порыв армии.
– Красноармейцы, набранные из голодных губерний, не щадя жизни, рвутся в сытую Сибирь, где, по словам их комиссаров, булки растут на деревьях. У них полные карманы этих «керенок». Ведь большевики платят своим солдатам достойное жалование. У наших же воинов главным стимулом побеждать были именно эти «керенки» из карманов убитых ими большевиков, их заслуженный трофей. Больше в голодной России поживиться нечем. А вы одним росчерком пера лишили их этого стимула в самый разгар решающих боев! – неистовствовал командующий Западной армией генерал Ханжин[165].
Над головой министра финансов нависли грозные тучи.
Муромский не любил Петрова. И было за что. Финансист заигрывал с военными, лоббировал интересы буржуазии, подсиживал коллег, был одним из организаторов заговора 18 ноября, приведшего к свержению Директории и установлению диктатуры Колчака. И хотя Петров входил в число первых министров Сибирского правительства, собравшихся в Омске, для коренного сибиряка Муромского он все равно оставался чужим, навозным, приехавшим из Петрограда, потому и не пользовался у него доверием.
Но после устроенной у Колчака обструкции премьер зашел в кабинет к подчиненному, чтобы ободрить и успокоить его. Но неожиданно нарвался на нервную отповедь.
Петров был навеселе и не скупился на выражения.
– Что, довольны? Празднуете победу? Отец сибирской демократии! Старое знамя, как вас за глаза называет адмирал. Вас так же скоро выкинут на помойку за ненадобностью. Потому что вы марионетка, как и все ваше бутафорское Сибирское правительство.
Финансист знал, как больнее задеть премьера. Убежденного областника последняя фраза ранила сильно. И он искренне возмутился:
– Вы не смеете так говорить. Вы же сами работали сибирским министром! Были одним из нас. Вас избрала Сибирская областная дума.
– Ха-ха! – громко расхохотался Петров. – Нашли что вспомнить! В вас говорит ущемленное провинциальное самолюбие. В России бы вы дальше председателя уездной земской управы не поднялись, а тут, надо же, глава Всероссийского Совета министров. Как громко и напыщенно звучит! А хотите узнать, как вас избрали сибирским министром? На экстренном заседании думы на конспиративной квартире? Как романтично и таинственно! Все эти красивости оставьте для потомков. Может быть, они их оценят? Я-то знаю, как все было на самом деле. Вы же помните Гутова, заведующего секретариатом Сибирского правительства? Скромный по внешности человек. Такие не запоминаются. Но именно ему вы обязаны своим избранием в министры. Это он на том секретном заседании думы, длившемся меньше часа, продиктовал весь список предлагаемого кабинета, который перепуганные думцы беспрекословно приняли. При обсуждении каждой из предлагаемых кандидатур всякий раз задавался один и тот же вопрос: социалист или нет? И Гутов, не задумываясь, отвечал: «Каинов? – Социалист! Муромский? – Социалист! Гинс? – Социалист!» Он чувствовал, что это единственный способ провести людей, в деловитость которых верил. А ведь это мы с ним и с профессором Гинсом вместе бежали из Петрограда в вашу богом забытую Сибирь с единственной целью, чтобы устроить здесь антибольшевистское движение. Гутов – в Томске, Гинс – в Омске, а я – в Новониколаевске. Вот так-то, господин премьер-министр.
Муромский опешил. Для него слова Петрова были откровением.
– А родной брат вашего Гутова в это же время руководил секретариатом в правительстве Ленина? – тихо спросил Пётр Васильевич.
– О, вы уже и до вселенского заговора против России додумались? – снова рассмеялся Ванька-Каин. – Не думаю, чтобы Гутовы были масонами. Это простая случайность.
– Такая же, как мы с вами?
– Пожалуйста, не равняйте меня и себя. Я отличаюсь от вас тем, что реально участвую в принятии решений, вы же только делаете вид. Прощайте, старое, ветхое знамя. Я-то в этой жизни не пропаду, а вас точно скоро выкинут и вообще забудут о том, что вы когда-то существовали.
Избавившись от одного кукловода, правительство приобрело другого. Еще до отставки Петрова Верховный правитель назначил министром внутренних дел Виктора Полыхаева. Одного из главных вдохновителей переворота 18 ноября. Муромский противился этому назначению, но переубедить Колчака не смог.
Нескончаемая чехарда с министрами, интриги и закулисные игры вновь чуть не довели премьера до удара. Он ослабел, стал быстро уставать. Пётр Васильевич уже не мог сам читать газеты.
Видя крайнюю утомленность премьера, Колчак сдался. Несмотря на нескончаемые правительственные кризисы и военные неудачи, он отпустил Муромского в месячный отпуск.
Бензина нам хватило доехать до Борового. Есть такое курортное местечко на севере Степного края, недалеко от Кокчетава. Такой же горный оазис среди бескрайней степи, как и Баян-Аул, где я бывал с Потаниным, только гораздо обширнее. Но на объезд местных достопримечательностей и тем более на обратную дорогу горючего не было. И спирт тоже кончился. Пробовали заправлять авто самогоном, но двигатель на нем только лениво пофыркивал, но никак не заводился. Тогда пришлось отправить казаков за бензином в Кокчетав. Пока они ездили, прошло три дня, на которые мы с профессором Гинсом, вызвавшиеся проводить председателя Совета министров до места отдыха, застряли на курорте.
Но нет худа без добра. Несмотря на дожди, мы объехали верхом на лошадях каскады водопадов, таинственные пещеры и красивейшие заливы. Природные красоты, чистый, напоенный сосновой смолой воздух заставили нас ненадолго забыть омское «болото».
Но вскоре привезли бензин, и мы с управляющим делами стали собираться в дорогу. Муромский остался один на попечении местного доктора.
Пока начальник отдыхал, я решил осуществить свою давнюю мечту и побывать на фронте. Мне очень хотелось познакомиться с командиром 2‑го Уфимского корпуса генерал-майором Войцеховским[166]. В глубине души я лелеял надежду, что он может приходиться мне родственником и что с его помощью я смогу навести справки о своем родном отце, живущем в Праге. Ведь прежде генерал возглавлял штаб Чехословацкого корпуса.
По дороге до Кокчетава профессор Гинс пел дифирамбы в адрес Муромского. Дескать, он единственный в правительстве, кто по-настоящему популярен в Сибири. Все остальные – люди навозные, чуждые сибирской общественности. И как здорово работалось в правительстве до переворота 18 ноября.
– Сейчас центр тяжести переместился в военные круги. Адмирал и его генералы приняли на себя слишком много ответственности. А при Сибирском правительстве все мы были другими, контролировали военных.
Неожиданно управляющий делами перешел на личность Верховного правителя.
– Да, Бонапарт не может появиться среди моряков, – многозначительно произнес мой попутчик. – Вождь армии и вождь флота – люди совершенно разные. Адмирал командует флотом из каюты, не чувствуя людей, играя кораблями. Он совершенно не понимает сложности политического и административного устройства государства. Вносит в управление лишь сумбур и путаницу. Да и как политик он – так себе. Я недавно узнал, что Маннергейм готов был поддержать наступление Юденича[167] на Петроград при условии признания независимости Финляндии, но наш полярный идеалист отказался. Он, видите ли, не уполномочен торговать российскими землями! Будущее устройство России, мол, прерогатива Национального собрания, которое соберется после победы над большевиками. Только удастся ли нам дожить до этой эпохи прекрасной с такой дальновидной политикой?..
Я не поддержал разговора, и вскоре профессор замолк и стал рассматривать скучные степные пейзажи.
Хорошо, что мой приемный отец Афанасий Коршунов обучил меня верховой езде. Из‑за дождей все дороги размокли, и даже на коляске по ним было проехать весьма сложно, не то что на автомобиле. Не знаю, как Гинс добрался до Омска, но мне пришлось проскакать верхом верст 150.
К новому командующему Западной армией генералу Сахарову[168] меня привели как арестанта – со связанными руками и под ружьем. Мне повезло, что мы встречались с Константином Вячеславовичем в Омске, когда он служил генералом для поручений при Верховном главнокомандующем. Это спасло меня от тюрьмы, а может быть, и от расстрела.
Он велел конвоирам развязать меня, усадил за стол и приказал ординарцу подать чаю.
– Отважный вы человек, Пётр Афанасьевич, одному в такое время отправляться на фронт просто из праздного любопытства! Уральцы запросто могли шлепнуть вас где-нибудь в кустах. Ночью красноармейские офицеры пришли сдаваться, но их почти всех перестреляли. А они состояли в подпольной организации и только ждали случая, чтобы перейти к своим. Вот так бывает на войне, господин секретарь!
Я ответил генералу, что вырос в казачьей семье, поэтому знаю, как разговаривать с казаками.
Сахаров поморщился и перевел беседу на другое:
– Значит, хотите встретиться с генералом Войцеховским? Что ж, вам снова повезло. Я как раз намеревался посетить его корпус. Могу вас подвезти.
Переезжая через гать, генеральский автомобиль завяз всеми четырьмя колесами. Шофер и его помощник старались изо всех сил вытащить машину. Пришлось и нам вылезти. Я уже направился на помощь к автомобилистам, но генерал остановил меня. Вначале брезгливо показал на хлюпающую болотную жижу, потом на мой сравнительно чистый костюм, а после махнул в сторону серевшей вдалеке деревушки с возвышавшимся над ней минаретом магометанской мечети. Оттуда с шумом и гамом быстро приближалась к нам большая толпа, вооруженная дубинами и кольями.
– Боюсь, что для нас сейчас найдется занятие, более достойное мужчин. Кстати, у вас есть оружие?
Я достал из внутреннего кармана сюртука револьвер.
Сахаров одобрительно посмотрел на меня и сказал:
– А я такую тяжесть носить не смог, отдавал ординарцу. А потом Колчак меня отчитал: шесть пуль – для врагов, а последнюю – для себя. Нам даваться живыми красным нельзя. Адмирал всегда носит с собой маленький браунинг, а мне подарил карманный испанский парабеллум.
Но стрелять не пришлось. Толпа хоть и производила устрашающее впечатление, но оказалась настроенной к нам мирно. Впереди бежал исполинский богатырь, таща большое бревно. Он размахивал им над головой, как прутиком. За ним с дрекольем – татары-крестьяне, а следом, стараясь не отстать от взрослых, рассыпались по полю, как горох, маленькие татарчата.
Мы едва успели спрятать оружие, как аборигены, словно муравьи, облепили наш автомобиль, и в мгновение ока он оказался на твердой почве.
Радостный шофер завел двигатель и в благодарность обдал татар едким облаком гари.
Генерал одернул мундир и, выпятив вперед грудь, с важным видом направился к богатырю, левой рукой доставая из кармана сибирские деньги.
Но мусульманский Илья Муромец отвел вельможную руку и добродушно улыбнулся, оскалив свои ровные белые зубы:
– Не надо, бачка, не надо, моя не надо!
И затараторил дальше что-то по-своему.
На помощь подоспел старик в тюбетейке, по виду деревенский старшина:
– Не давай, ваше благородие, наша не возьмет. Сами виноваты, что дорогу не чиним. А ты военный человек, царский начальник, от большевиков нас защищаешь. С тебя деньги брать – грех.
Но и генерал был непреклонен. Достоинство не позволяло класть деньги обратно в карман.
– Для бедных женщин возьмите, для детей, – настаивал он.
Старшина обвел взором собравшийся народ, словно испрашивая у него разрешения, и с поклоном взял ассигнации.
Сахаров облегченно выдохнул и уже собрался уезжать, как неожиданно из толпы вышел совсем дряхлый и совершенно седой старик.
– Это наш мулла, – представил его старшина.
– Дозволь, ваше благородие, ему, – мулла показал на великана, – собрать отряд и к тебе в армию идти. Большевиков не пускать.
Растроганный генерал пообещал прислать офицера для записи новобранцев.
– Вот это настоящие россияне! – восклицал он, продолжая еще долго переживать случившееся. – Хоть и не православные, хоть и магометане, но знают, что, если погибнет Россия под натиском «интернационала», их участь тоже будет тяжкой. И правильно, у нас один враг – юркие жидки с горбатыми носами и бердичевским акцентом. Они для Руси горше татаро-монгольского нашествия! Все учение социализма пропитано завистью к чужому успеху, способностям, таланту и богатству. Их безграничная зависть переходит в дьявольскую ненависть. Начиная от их мессии Карла Маркса и кончая озверевшими комиссарами. Это книжники и мудрецы древнего Сиона придумали социализм и потопили в морях крови распятую ими Русь! Белые русские армии – это новые крестоносцы, призванные вырвать из хищных когтей современного синедриона Родину и христианскую культуру…
Я отвернулся, чтобы скрыть свои эмоции. Сахаров замолк на полуслове.
– А вы, Пётр Афанасьевич, сами-то, часом, не социалист? – смерил он меня испытывающим взглядом.
– А что, похож? – невозмутимо ответил я вопросом на вопрос.
Генерал не ожидал такого нахальства.
– Нет, просто я подумал, что раз ваш начальник господин Муромский когда-то состоял в партии эсеров, то и вы…
– Я вырос в казачьей семье, – еще раз, чуть ли не по слогам, повторил я.
Собеседник мой успокоился и продолжил свои излияния:
– Наш народ еще не дорос до европейского парламентаризма и, возможно, никогда не дорастет. Вся эта говорильня чужда верноподданнической природе русской души.
И в доказательство своих слов он достал из нагрудного кармана походной гимнастерки аккуратно сложенный листок.
– Вот какой любопытный документ доставила контрразведка. Это приказ бывшего штабс-капитана Щетинкина[169], поднявшего большевистский мятеж в Минусинском районе, – он развернул бумагу и с выражением зачитал отрывок из нее: – «Пора кончать с разрушителями России, с Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского. Надо всем встать на защиту поруганной святой Руси и русского народа. Во Владивосток приехал уже великий князь Николай Николаевич[170], который и взял на себя всю власть над русским народом. Я получил от него приказ, присланный с генералом, чтобы поднять народ против Колчака… Ленин и Троцкий в Москве подчинились великому князю Николаю Николаевичу и назначены его министрами… Призываю всех православных людей к оружию. ЗА ЦАРЯ И СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!..»
Сплошная большевистская демагогия и откровенная ложь разволновали генерала:
– Все слои русского народа думают только о восстановлении монархии, о призвании на престол своего народного вождя, законного царя.
– И кого вы видите в этой роли? – спросил я.
Сахаров разочарованно ответил:
– Я предлагал Верховному правителю внять чаяниям народа и объявить себя царем, но он отказался. Испугался, что скажут иностранцы, союзники, что скажут его министры. А зря… Только это движение может иметь успех в нашей стране…
Штаб Северной группы войск, которой командовал генерал-майор Войцеховский, располагался в дивном месте на самом берегу заросшей густым ивняком тихой речушки. Стояла жара. И командир 20-тысячной группировки встретил нас у входа в штабную палатку в свежей белой рубахе и сильно полинявших армейских брюках. Он был со мной приблизительно одного возраста. Глубоко посаженные глаза, большой рот с плотно сжатыми губами и острый раздвоенный подбородок выдавали в нем волевой характер.
Увидев своего начальника, Войцеховский стушевался, пробормотал слова извинения и скрылся в глубине палатки. Но очень скоро появился вновь, застегивая на ходу пуговицы своего мундира, позвякивавшего двумя Георгиевскими крестами.
Командующий армией представил меня Войцеховскому. Но только мы пожали друг другу руки, как он попросил меня выйти из штаба, чтобы не мешать обсуждению военными плана предстоящей операции. Я повиновался и пошел на берег реки, где и просидел на бревне около часа, глядя на зеркальную, заросшую кувшинками водную гладь. Из палатки же доносились обрывки фраз, господа офицеры сильно спорили.
На воздух они вышли раскрасневшиеся и недовольные.
– …Челябинск должен стать мышеловкой для красных. Это приказ. Извольте его выполнять, – продолжал выговаривать подчиненному Сахаров.
– Слушаюсь, ваше превосходительство, – сквозь зубы ответил Войцеховский.
Я встал и направился к ним.
Командарм наконец-то вспомнил, что у меня было какое-то дело к генерал-майору.
– Это личное, – уточнил я.
Сахаров с явной неохотой оставил нас наедине.
– У вас пять минут. Более я ждать не могу, – уведомил он и направился к автомобилю.
Сергей Николаевич Войцеховский пригласил меня к себе в штаб, на что я ответил приглашением присесть на бревно. Он согласился.
Генерал расстегнул верхнюю пуговицу мундира и тихо сказал мне:
– Передайте Муромскому и Колчаку, что ответственность за Челябинскую операцию полностью лежит на генерале Сахарове. Если мы сдадим город и запустим в него красных, то это вовсе не означает, что у нас хватит сил захлопнуть кольцо. Противник усиливается с каждым днем. Разведка донесла, что есть секретный приказ Троцкого о переброске всех сил большевиков на Восточный фронт. После крушения Венгерской республики они разочаровались в Европе и теперь хотят перекинуть революционный пожар на Азию. А на их пути в Индию и Китай стоим мы. Но о чем вы хотели со мной поговорить?
Я поинтересовался у Сергея Николаевича, нет ли у него родственников в Праге. Его ответ меня разочаровал:
– Откуда? Я же родом из Витебской губернии. Сын потомственного офицера. Константиновское артиллерийское училище, академия Генштаба. Я и в Праге-то никогда не был, просто по заданию командования принимал участие в формировании чехословацкого корпуса. А вы думали, что я тоже чех?
Генерал-майор заливисто, по-мальчишески рассмеялся.
Сражение под Челябинском было проиграно. И хотя Сахаров пытался переложить вину за провал на нерасторопность подчиненных генералов – Войцеховского и Каппеля, но всем, даже Верховному правителю, было понятно, что главный виновник – командарм. После этого поражения наступление Красной армии сдерживали лишь бескрайние сибирские просторы. Наши попытки укрепиться по правому берегу Тобола, ввести в бой в качестве ударной силы для контрнаступления специально созданный казачий корпус не принесли ожидаемых результатов. Войска продолжали откатываться все дальше на восток. Угроза сдачи нависла над временной столицей белой России.
За время отпуска премьера многие министры отправили свои семьи на Дальний Восток. Пётр Васильевич подумал-подумал, посоветовался с женой и тоже решил отослать своих домашних подальше. Неожиданно он выбрал Читу.
– Там сравнительно немного беженцев, – объяснил он. – Хороший, здоровый климат. Недорогая жизнь. И главное – Чита за Байкалом. Не думаю, чтобы атаман Семёнов и японцы пустили большевиков туда.
Еще в середине лета благоразумные люди стали говорить о запасном центре, куда правительство могло бы переехать в случае опасности. В сентябре уже и генералы открыто настаивали на начале организованной эвакуации столицы в Иркутск. Но Верховный правитель, поддерживаемый злым гением – генералом Сахаровым, вещавшим о Мининых и Пожарских[171], был непреклонен. Он боялся потерять контроль над правительством, если оно покинет Омск. И с перевозом золотого запаса медлил тоже поэтому. И только когда союзники стали эвакуировать свои дипломатические миссии, Колчак издал приказ о частичной разгрузке столицы.
Муромский смотрел глубже многих и видел причину военных неудач в непопулярности среди сибирского населения проводимой политики диктата. Он не раз выговаривал Колчаку и о самоуправстве военных и зажиме демократических свобод. На что адмирал упрямо отвечал ему одно и то же:
– Вы слишком считаетесь с мнением разных общественных организаций, безответственных в государственной работе. На их требования нельзя обращать большого внимания. Они умеют только хорошо критиковать, но никогда не предлагают ничего полезного. Идти теперь навстречу притязаниям общественности – значит показать свою слабость.
Петра Васильевича возмущала такая недальновидность, но он продолжал нести свой крест. Хотя и выговаривал:
– Во Владивостоке генерал Гайда при поддержке чехов и американцев готовит восстание против нашего правительства, а бывшие члены Учредительного собрания провели свой съезд и обратились к населению Сибири с призывом прекратить братоубийственную войну, воссоздать Сибирскую республику, заключить мир с Советской Россией и провести референдум, что для сибиряков лучше: Учредительное собрание или Советы депутатов? Наши противники перехватывают наши же лозунги. А мы со своей неповоротливостью с каждым днем теряем популярность в народе и рискуем вообще лишиться всякой поддержки.
И вот настал час расплаты. Шапкозакидательская политика Колчака и Сахарова дорого обошлась несчастной Сибири и белому движению. Красные взяли Тобольск и грозили окружением Омску. Только тогда Верховный правитель отдал сильно запоздавший приказ о спешной эвакуации. В итоге она превратилась в стихийное бегство.
Совет министров заседал почти без перерыва, пытаясь хоть как-то упорядочить разгрузку Омска. Из‑за чего Муромский сам чуть не опоздал на поезд. Лишь за полтора часа до отъезда он хватился, что совершенно забыл собрать свои вещи. Я стал названивать в комендатуру, чтобы за министром-председателем прислали автомобиль, но дежурный ответил, что все машины забраны военными. Пришлось на улице ловить извозчика.
Это тоже оказалось непростым делом. Неожиданно ударивший мороз многих ямщиков застал врасплох. На колясках по наледи ездить было скользко, а для саней еще недоставало снега. Вдобавок многие подводы были уже заняты. Под грузом всякого скарба они тянулись со всех концов города в сторону вокзала.
Наконец мне удалось на базаре сговориться с одним возницей по баснословной цене, и вскоре санная повозка подлетела к зданию Совмина. Пётр Васильевич уже мерзнул на крыльце, кутаясь в свое серое осеннее пальто.
Поданное средство передвижения его ничуть не смутило, он ловко запрыгнул в сани и, укрывшись овчинным тулупом, скомандовал:
– Домой!
Мы зашли в квартиру, и хозяин стал вспоминать, где у него лежат чемоданы. К отъезду здесь еще не думали готовиться. Никакой прислуги в доме не было.
Пётр Васильевич заглянул в кабинет и вышел оттуда расстроенным:
– Значит, кооператоры струсили взять мою библиотеку. А при большевиках были смелее.
Взор премьера наткнулся на бронзовый бюст Потанина, и он сразу сник. Изготовившийся к бегству второй гражданин Сибири почувствовал укор от первого.
Пётр Васильевич выглянул на лестницу и крикнул дворника.
– А что, Степан, никто не приезжал из географического общества?
– Никак нет, ваше благородие, никто. В субботу, еще при вас, приходил ихний хранитель. Вы еще с ним отбирали карты, книги и вот ентот памятник, – бородатый дворник махнул на бронзовый бюст. – Но никто так и не приехал.
Муромский совсем растерялся.
– Жалко, как жалко оставлять все это на произвол судьбы, – бормотал он себе под нос.
– Да уж, добра-то у вас много, – посочувствовал Степан. – Два самовара только, одной посуды – на многие тысячи, а еще картин сколько! Но за сохранность не переживайте, я пригляжу. Когда большевиков снова выгоним и вы вернетесь, все будет стоять на своих местах, как стояло.
Премьер-министр дал дворнику сто рублей.
– Пригляди, голубчик, пригляди. На тебя теперь одна надежда. Но если все-таки приедут из географического общества за экспонатами, ты уж, пожалуйста, отдай им, что выберут. Хорошо?
– Не извольте беспокоиться. Сделаем в лучшем виде, – пообещал громкоголосый дворник и зашаркал валенками в калошах вниз по лестнице.
Муромский, как сомнамбула, ходил взад-вперед по комнатам с пустыми руками.
Я посмотрел на часы. До отхода поезда оставалось меньше часа. Свой саквояж я собрал загодя, и он уже лежал в санях. Но с такой расторопностью моего начальника мы рисковали опоздать на поезд. И мне пришлось руководство сборами взять на себя.
– Чемоданы, должно быть, в кладовой. Вы там смотрели? Одежду, обувь, белье не забудьте. И шубу обязательно наденьте. В Иркутске холодно.
Но Муромский первым делом принес из кабинета свой личный архив и дневники, положил их на дно чемодана, а потом стал небрежно скидывать в него вещи.
До Новониколаевска поезд шел очень медленно, подолгу стоял на каждом разъезде, но все равно быстрее, чем поезда с беженцами, которые мы обгоняли десятками. Они являли собой мрачное зрелище. Составленные большей частью из старых, наверное давно уже списанных, пассажирских вагонов четвертого класса и обыкновенных теплушек, в которых до войны перевозили скот, они скапливались на маленьких станциях и полустанках, забивая под завязку все запасные пути. Закутанные в одинаково серые пуховые платки женщины, что чиновничьи и офицерские жены, что простые казачки, тащили дымящиеся котелки и чайники с кипятком в свои застывшие вагоны. А мороз все усиливался, особенно по ночам.
– Бедные, несчастные люди! – воскликнул стоявший у замерзшего окна Муромский. – Почему мы не начали эвакуацию раньше? – корил он себя. – Сейчас бы они не страдали, а жили в теплых квартирах.
– Вы сами знаете, кто в этом виноват! – не выдержал я.
– Да, конечно. Но ведь и ему тоже генералы обещали отстоять Омск.
– Кто? Сахаров? Розанов[172]? Эти бывшие черносотенцы, жалкие выскочки и карьеристы, как мухи, со всех сторон облепившие адмирала! Они способны только устраивать еврейские погромы и пытки в казематах контрразведки. Даже партизанские банды оказались им не по силам, что уж говорить о регулярной армии, которую создали большевики, пока наши стратеги составляли свои грандиозные планы.
Муромский согласно кивнул головой.
В Новониколаевске мы простояли целый день. Обычная церемония встречи правительства. Рота почетного караула, делегации от земства и общественных организациях. Все было как обычно. Словно правительство просто выехало на очередное заседание на восток, а не бежало под натиском наступающего врага. Здесь мы узнали, что у Деникина сорвался поход на Москву.
Командир расквартированной в городе дивизии Сибирской армии полковник Ивакин[173], молодой и подтянутый, подкупал своей искренностью и непосредственностью.
Оставшись наедине с первым министром, он огорошил его неожиданным предложением:
– А давайте, я арестую Колчака, задержу золотой эшелон, и вы снова станете полноправной властью в Сибири?
Муромский не знал что ответить.
– Я? – переспросил он молодого полковника.
– Конечно. Вы же бывший эсер. А вся Сибирь – это эсеры. У нас есть своя, сибирская, армия, попытаемся защитить родину. Но без этих навозных «ваших благородий». У меня хватит сил одолеть адмиральскую охрану. Вся моя дивизия против него настроена! Восстановим Сибирскую республику, заключим мир с красными. Ошибки нужно исправлять. Соглашайтесь, Пётр Васильевич, пока еще не поздно.
Премьер удрученно вздохнул и произнес усталым голосом:
– Поздно, молодой человек, слишком поздно. Стар я, чтобы возглавить заговор, и рвения того, что было год назад, у меня уже нет. И потом, с чего вы взяли, что большевики согласятся на перемирие? Я бы на их месте настаивал на полной и безоговорочной капитуляции.
Ивакин ушел в задумчивости.
В Иркутске нас ждали две новости. Одна хуже другой. Во Владивостоке Гайда совместно с бывшими сибирскими думцами в годовщину колчаковского переворота поднял свой мятеж. Он был подавлен штатным карателем генералом Розановым и японцами. Юнкера арестовали Гайду. Но за него вступились американцы и горой встали чехи. Пришлось его освободить.
– Вот такие у нас союзнички! – с грустью констатировал Муромский. – Того и гляди, вонзят нож в спину.
Но более всего министра-председателя задело, что Гайда поднял свое восстание под сибирским знаменем. Правда, белый и зеленый треугольники теперь разделяла красная полоса как символ революции, но от этого Муромскому было не легче.
– Они украли у нас знамя, – тихо прошептал он.
– Но разве мы сами не отказались от него? Они только подобрали его, как бесхозную вещь.
Мой начальник обреченно кивнул:
– Да, вы правы.
Второй новостью был меморандум к представителям союзных держав, подписанный представителями Чехословацкой республики в России. Он гласил, что под прикрытием легионеров русские власти «позволяют себе действия, перед которыми ужасается весь цивилизованный мир».
– «Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление…»
На этом месте премьер вырвал из моих рук газету, словно сам хотел убедиться, не перевираю ли я документ.
– Да, лихо союзники закрутили. Они, значит, в белых ризах, а во всех грехах повинны мы. Но не они ли первыми вешали «представителей демократии» на телеграфных столбах?
Муромский заложил руки за спину и нервно заходил по своему новому кабинету, расположенному на втором этаже Русско-Азиатского банка.
Потом нацепил пенсне и сам дочитал до конца чешский меморандум.
– Значит, домой захотели? Но это не новость! Они никогда не блистали храбростью и уже год отсиживаются в тылу, пока наши солдаты проливают свою кровь на фронте. Новость – другое, – Муромский снова поднес к глазам газету и зачитал: – «…должна быть предоставлена свобода к воспрепятствованию бесправию и преступлениям, с какой бы стороны они ни исходили…». Это равносильно объявлению нам войны. У правительства больше нет друзей.
Он упал в кресло и обхватил голову руками.
– Нет. Я этого больше не выдержу. Я старый, больной человек. Я не могу возглавлять правительство, ибо уже сам запутался, где друзья, а где враги.
Неожиданно в его голосе появился металл.
– С меня хватит! Я подаю в отставку! – тоном человека, принявшего решение, произнес Пётр Васильевич. – Пусть адмирал делает со мной что хочет, но я ухожу. Пусть даже посадит меня в тюрьму. А лучше пусть вышлет из страны, как членов Директории. Их же снабдили деньгами на дорогу. Так почему бы правительству не выплатить и мне сумму, достаточную для проезда через Суэцкий канал в Европу и на скромное прожитье в Швейцарии хотя бы на год? Разве я не заслужил покоя за эти полтора года адовой работы?
Мне было неловко видеть этого уважаемого мною человека в таком смятении чувств. Я привык к истерикам адмирала, но Муромский всегда служил для меня образцом интеллигентности, выдержки и терпения. Когда у всех министров сдавали нервы, один председатель оставался невозмутимым. Все сомнения он переваривал внутри себя, поэтому так часто и болел, ведь накопленная в нем отрицательная энергия не имела выхода.
– Могу ли я удалиться в город по личным делам? – спросил я.
– Да, конечно, Пётр Афанасьевич, вы можете быть на сегодня свободны, – произнес Муромский и добавил: – А очень скоро у нас с вами будет много свободного времени. И всё – для личных дел.
Несложно догадаться, куда я направил свои стопы. Конечно же, к своему старому доброму другу Ивану Иннокентьевичу Золотову.
Проходя по заснеженным улицам вечернего города и натыкаясь на вооруженные патрули, я невольно вспоминал, как два года назад почти в это же время года ходил по воюющему Иркутску за доктором для рожающей жены. Как это было давно! Как изменился мир и как изменились мы!
Тогда, два года назад, переживаемые тяготы казались временными издержками революции, и в каждом из нас жила надежда, что скоро жизнь вернется в свое нормальное русло. Особенно когда чехи помогли нам избавиться от власти большевиков, и над Сибирью воссияла звезда независимости. Какими же мы оказались глупцами, что не смогли использовать свой шанс! Как истинно русские люди не пожелали мириться с синицей в руке, а погнались за журавлем в небе. Хотели большего – в итоге лишились всего.
Я же пострадал вдвойне. Потерял не только родину, но и семью. Непомерно высокая цена за самонадеянность!
Иван Иннокентьевич и Александра Николаевна встретили меня радушно. Хозяйка стала собирать на стол нехитрую закуску, а хозяин тем временем провел меня в свой кабинет.
На столе горела лампа, освещая тусклым светом письменный стол и стены маленькой коморки.
– Вот, по старость лет подался в издатели, – бывший министр кивнул на незаконченную рукопись. – Мы ведь с женой теперь служим в штабе Иркутского военного округа. Она литературным сотрудником, а я заведую осведомительным отделом. Выпускаем стенные газеты, листовки, агитационные плакаты, воззвания. Даже издаем большую еженедельную газету «Великая Россия». Платят немного, но с голоду не умираем. А вы как?
Я ответил, что по-прежнему служу личным секретарем у Муромского и что мы только сегодня приехали в Иркутск.
– Я об этом уже информирован. Не забывайте, в каком отделе я теперь служу, – пошутил Золотов.
Но по моему виду понял, что мне не до шуток, и сам заговорил о моей семье.
– В общем, от ваших денег Полина Викторовна отказалась. Она сразу раскусила наш маневр, и когда из губернии ей стали выплачивать повышенное жалованье, она осведомилась, сколько получают фельдшеры в других уездах, и отказалась от надбавки.
– Я завтра же уезжаю в Верхоленск. Я должен поговорить с ней. Извиниться, упасть на колени, умолять о прощении! Только бы она согласилась вернуться ко мне! И тогда мы вместе с сыном уедем отсюда навсегда! – на одном дыхании выпалил я.
Но Иван Иннокентьевич охладил мой пыл.
– И напрасно время потратите. Во-первых, вашей семьи уже нет в Верхоленске.
– А где она?
– В Черемхово.
– Так еще лучше, – обрадовался я. – Туда есть железная дорога.
– Но есть еще одна причина, по которой вы должны крепко подумать, прежде чем отправиться в путь.
– И что же это за причина, которая может остановить меня в стремлении увидеться с женой и сыном?
Золотов задумался, закурил трубку и начал издалека:
– Видите ли, Пётр Афанасьевич, официально, деюре, Полина по-прежнему остается вашей женой. А дефакто она живет уже полгода с другим человеком, к которому, собственно говоря, и переехала в Черемхово.
У меня во рту пересохло. Мой язык одеревенел и прилип к небу. Единственное, что я сумел выдавить из себя:
– Кто он?
Золотов опять ушел от прямого ответа:
– Лично я с ним не знаком. Это вообще человек чужой в нашей губернии. Знаю только, что большевик. Сидел в тюрьме, потом его освободили. Сейчас работает на угольных копях. Агитирует рабочих против власти.
– Но почему его не арестуют?
– Эх, если бы все так было просто. Наша губерния кишмя кишит большевиками. Стоит отъехать от Иркутска верст на двадцать, и правительственной власти нет. Каждый житель если не эсер, то большевик. Разве всех пересажаешь? А в самом Иркутске немногим лучше. Третьего дня встретил на рынке богомольную и благочестивую старушку. Она меня спрашивает: «Когда же большевики Колчака-то свалят?» Я и поинтересовался, мол, чем ей Колчак не угодил. А она и отвечает: «Где уж угодить?
Поди-ка на базар да спроси, что теперь четверть молока стоит?» Вот она – народная логика. И что, прикажете эту бабушку тоже арестовать?
Золотов специально заговаривал меня, чтобы отвлечь от мрачных дум. Но ему это не удалось.
– Как его фамилия? Вы знаете?
– Кого?
– Этого большевика!
– Самая обыкновенная. Мало кому известная. Чистяков, кажется.
Шатаясь, я вышел из кабинета Ивана Иннокентьевича. Александра Николаевна позвала к столу, но я извинился за причиненное беспокойство, попрощался и ушел в ночь.
Я еще долго бродил по спящему Иркутску, пока окончательно не замерз и ноги сами не принесли меня к зданию Совмина.
Начальник караула знал меня, поэтому пустил в помещение среди ночи. Я поднялся по лестнице на второй этаж, упал на кожаный диван в канцелярии и забылся тревожным сном.
Глава 4. Земля Санникова
Я еду в Черемхово! Я обязательно еду в Черемхово!
Я Я немедленно еду в Черемхово!
Эта мысль, зародившаяся в моей голове в ту морозную ночь, когда я ушел от Золотовых, не оставляла меня ни на минуту. Как испорченная пластинка, застрявшая в патефоне, она всякий раз возвращалась на один и тот же припев.
Демоны снова украли душу моей жены. Но я верну ее, как это сделал на Алтае погибший шаман Мамлый. Возможно, мне тоже придется заплатить своей жизнью. Но я готов к такой жертве. Ведь Полина оказалась во власти демонов и по моей вине. А может быть, она права, и это мою душу похитили слуги Эрлика? Тогда тем более надо ехать. Раскаяться в своих грехах. Пусть увидит, что я не совсем еще пропащий. И вдруг в ней осталась еще капля любви ко мне, и она сможет растопить лед моего сердца? Бедная Полина, бедный наш сын, бедный я! Мы все оказались жертвами этого ужасного, дикого времени.
– Чешский меморандум, возмутительный по форме, по сути своей соответствует истинному положению дел в стране. Гражданские свободы унижены, царит произвол отвратительной военщины. Население отвернулось от нас. Авторитет правительства, а также ваша личная популярность падают с каждым днем.
Я никогда прежде не слышал, чтобы Муромский говорил в таком тоне с Верховным правителем.
Но на другом конце телеграфного провода решение приняли быстро. Пётр Васильевич явно не ожидал, что его отставка будет настолько легкой. В глубине души он надеялся, что, даже несмотря на столь открытый демарш против адмирала, его снова начнут уговаривать остаться на посту.
Муромский покраснел, тяжело задышал и сухо сказал:
– Я готов незамедлительно предать все дела министру внутренних дел Виктору Николаевичу Полыхаеву. Считаю его кандидатуру достойной. Имею честь кланяться, ваше высокопревосходительство. Да хранит вас Бог!
Он отошел от телеграфного аппарата и с облегчением произнес:
– Финита ла комедиа[174]. Теперь я свободный человек.
В тот же вечер с его квартиры сняли караул.
Однако Петру Васильевичу не суждено было уехать в Швейцарию. Колчак назначил его председателем Комиссии по выработке положения о выборах в Учредительное собрание.
Мою отставку Виктор Полыхаев также не принял.
– Вы же, Коршунов, не предатель и не дезертир, чтобы бросать родину в трудную годину. Только крысы бегут с тонущего корабля. А мы еще повоюем. Создадим новое коалиционное правительство. Созовем Сибирский земский собор. Заручимся поддержкой населения. Нужна только крепкая воля, и фортуна еще нам улыбнется. Столько работы впереди. Все только начинается.
Новый премьер явно намекал на слабовольного, по его мнению, Муромского. Я уже собрался духом сказать, что я служил конкретному человеку, которого уважал и которому доверял, чего не испытываю к новому руководству. Но Полыхаев упредил меня:
– Завтра я отправляюсь на фронт. Хочу встретиться с Верховным правителем и заставить его пойти на уступки общественности. А если он заупрямится, то ради родины и свободы мы с братом готовы пойти до конца. Вы меня поняли, Коршунов?
Чего тут было не понять? Полыхаевы решили убрать Колчака. Солдаты Сибирской армии, подчиненные генералу Анатолию Полыхаеву, с радостью выполнят приказ об аресте адмирала. Тогда Виктор Полыхаев станет полновластным главой правительства. Одна только беда – поздновато братья спохватились. Да и на роль сибирского Вашингтона[175] старший Полыхаев не очень-то годился. Я критически оглядел очередного претендента на корону. Поросячьи глазки, заплывшее лицо, бульдожий подбородок. За таким спасителем нация не пойдет!
Но поехать на запад я согласился. Исключительно из личных соображений. Ведь поезд пойдет через Черемхово. А дезертиром я уже не боялся прослыть. Присягу на верность я никому не давал, да и служить, честно говоря, было уже некому.
– Мы сейчас как древние римляне во времена нашествия Ганнибала[176], – вещал новому кабинету министров профессор Гинс. – Когда Рим оказался на грани падения, то все представители враждующих партий забыли о своих мелких противоречиях и обидах и, чтобы защитить честь и права граждан, взялись за оружие. В борьбе с врагом пали смертью храбрых 80 сенаторов и 23 консула, но Рим устоял.
Я стенографировал эти напыщенные речи, а сам ловил себя на мысли, что наши министры совсем другие. Ни один из них, включая самого профессора Гинса, никогда не пойдет на передовую. Взывать к самопожертвованию граждан и самому идти на смерть – совсем разные вещи. Одна правда – для народа, поставляющего пушечное мясо, и совсем другая – для себя, вершащего историю.
Я просчитался. Предсовмина настолько спешил на встречу с братом на станцию Тайга, что приказал машинистам проехать Черемхово без остановки. Запас угля пополнили на маленьком разъезде, а перрон проскочили на полном ходу. С замиранием сердца я смотрел на удаляющееся здание вокзала и успокаивал себя, что смогу сойти здесь на обратной дороге.
Навстречу прошел чехословацкий военный эшелон. На семафоре красный цвет сменился на зеленый, и, скрипя замерзшими колесами, наш поезд тронулся на узловую станцию, откуда отходила ветка к северу, на Томск.
Ночь неохотно переходила в студеное, завьюженное утро. Поземка заметала рельсы. Все пути были до отказа забиты вагонами.
Полыхаев нервничал, грыз ногти и постоянно дул на замерзшее окно, пристально всматриваясь в темноту. Увидев бронепоезд под бело-зеленым знаменем, облегченно перекрестился.
– Слава богу! Анатолий уже здесь!
Едва вагоны остановились, как в железную дверь тамбура забарабанили чем-то металлическим.
Проводник пошел открывать, и вскоре, запустив в натопленный вагон изрядное облако морозного пара, вошли трое.
Премьер-министр забился в угол своего купе и дважды спросил меня, кто пришел. Поначалу я решил, что это большевики. Взлохмаченные фигуры в засаленных полушубках, небритые лица, револьверы в длинных кобурах напоминали героев Февральской революции. Но самый высокий стянул с головы папаху и улыбнулся белозубой улыбкой. Это был легендарный сибирский командарм Анатолий Полыхаев.
– Где министр-председатель? – пробасил он.
Виктор Николаевич, услышав знакомый голос, ринулся из купе и сразу попал в могучие братские объятия.
– Ну ты и пройдоха, Витюша! Подсидел-таки старика Муромского. Только не знаю, поздравлять тебя с новым назначением или сочувствовать? Развал ведь полный. Войска деморализованы. Как им вернуть боевой настрой, ума не приложу!
Анатолий осекся и подозрительно посмотрел в мою сторону.
– Это Пётр Афанасьевич Коршунов, мой секретарь. – Он наш сибиряк, томский. У самого Потанина стенографировал. Можешь его не стесняться.
Командарм крепко сжал и мою ладонь.
– Он уже здесь! – обернувшись к брату, заговорщицки произнес Анатолий.
– Кто?
– Колчак! – чуть ли не шепотом ответил генерал. – Я кроме бронепоезда захватил еще бригаду егерей и артиллерийскую батарею. Если не согласится уйти по-хорошему, силой заставим.
Они удалились в премьерский салон обсуждать детали очередного переворота, а меня попросили напоить ординарцев командарма чаем.
Полыхаевы секретничали с четверть часа. Затем дверь салона со скрипом открылась, и первым, облачившись в короткое, едва сходившееся на животе пальто и профессорскую шапку-пирожок, вышел премьер-министр, а за ним вывалился его верзила-брат. Вместе они выглядели несколько комично. Высокий и низкий, худой и толстый, открытый и скрытный. Как клоуны в цирке. Только они не шутили.
– Ну, с богом, брат! – старший Полыхаев осенил крестным знамением командарма, и они обнялись.
Короткий декабрьский день проскочил незаметно, за окном стало смеркаться, но братьев все еще не было. Видимо, заговор по какой-то причине провалился. Может быть, Полыхаевы были уже арестованы, а то и расстреляны, но меня их судьба волновала мало. Ни тот, ни другой никогда не были мне близки, а к новому министру-председателю я испытывал стойкую антипатию. Мне не терпелось скорее попасть в Черемхово. Хотя обаятельного командарма было все-таки жаль.
Когда совсем стемнело, братья вернулись. Эмоции переполняли их, и перепалка началась сразу.
– Почему ты не сказал ему, что он арестован? – предъявил претензию младший брат старшему.
– Ну, увольте, Анатолий Николаевич, кто из нас генерал: я или вы? – от возмущения премьер перешел на официальный тон. – Я и так провел всю подготовительную работу. Открыто обвинил его в узурпации власти, поставил ультиматум: либо он созывает Сибирский земский собор, либо мы готовы пойти на все. А он приказ о смещении Сахарова с поста главнокомандующего даже не подписал.
– Ничего, еще подпишет. На станции моих солдат больше, чем у него. Вагон Верховного правителя находится под прицелом моей батареи. Через час Ивакин выступит в Новониколаевске. Это послужит сигналом и для нас.
– Ну-ну, – Виктор Николаевич с большим сомнением покачал головой. – А мочи-то хватит? Ведь стоит ему только заговорить, как ты замираешь перед ним, как кролик перед удавом. Тоже мне заговорщик! Еще пара-тройка часов промедления, и Колчак отбудет с золотом на восток, и тогда наш план лопнет как мыльный пузырь. Без золота с нами никто не станет договариваться, а большевики – тем более. Или ты не уверен в своей армии? Тогда вообще нечего огород городить. Если войска не смогут удержать фронт на линии Новониколаевска и Томска, то красные просто скажут нам спасибо и в благодарность поставят к стенке.
– Томск мы никогда не сдадим. Там родилась Сибирская армия. Там живет Потанин. Ты читал, с каким обращением он выступил в газете: «К оружию, граждане! Враг у ворот!»? Да на такой призыв сибирского патриарха откликнется каждый томский мальчишка и встанет в ряды моего войска.
Командарм раскраснелся и приказал ординарцам принести самогона. Виктор Николаевич брезгливо сморщил свой мясистый нос и отвернулся к окну.
Телеграф молчал. Из Новониколаевска не было никаких известий. Зато явился адъютант Колчака и передал приказ Верховного правителя: обоим братьям немедленно явиться к нему.
– Ну вот и всё. Дождались. Из охотников сами превратились в дичь, – пробрюзжал председатель правительства.
Командарм ничего не ответил, а натянул на себя тулуп и взгромоздил на голову папаху.
– И вы, Коршунов, тоже собирайтесь. Засвидетельствуете перед историей, как погибла сибирская государственность, – нарочито пафосным тоном объявил мне начальник.
Я презрительно усмехнулся, потому что знал, когда была совершена роковая ошибка. А это был просто жалкий фарс.
У Верховного правителя находился главнокомандующий Восточным фронтом генерал Сахаров, при виде которого лица у братьев вытянулись. Меня Колчак воспринимал как тень Муромского и теперь, увидев без бывшего патрона, почувствовал некоторую неловкость. Адмирал кивнул мне в знак приветствия, главком в точности повторил его жест. Я ответил легким поклоном.
– Господа, я пригласил вас за тем, чтобы ознакомить с приказом, подготовленным генералом Сахаровым, о переформировании 1‑й Сибирской армии в неотдельный корпус и подчинении его генералу Войцеховскому.
В роскошном, обитом красным бархатом салоне Верховного правителя воцарилась тишина. Первым ее нарушил Анатолий Полыхаев.
– Но это невозможно. Моя армия этого не допустит…
Сахаров резко перебил командарма, вскочил со стула и стал выговаривать ему, как мальчишке:
– То вы докладывали, что ваша армия взбунтуется, если ее заставить драться под Омском, теперь – новое дело. Это вы развратили вверенные вам войска, я не могу оставить вас во главе их.
Сибирский командарм вспыхнул:
– Тогда уж точно взбунтуется! Я устал сдерживать своих солдат, устал служить таким… – Анатолий Николаевич явно собирался выругаться, но в последний момент осекся и язвительно произнес: – Таким выдающимся стратегам.
Сахаров побелел, его рука непроизвольно скользнула в карман галифе, где он хранил подаренный адмиралом парабеллум.
Но Колчак опередил его:
– Думайте, что говорите, генерал Полыхаев. Я призвал вас, чтобы заранее устранить недоговоренности. Эта мера необходима для успеха плана контрнаступления, подготовленного главнокомандующим. Я нахожу, что он прав.
Анатолий Николаевич задыхался от возмущения и не находил слов. На помощь пришел брат. Он тоже тяжело ворочал языком, говорил медленно и тягуче.
– Главнокомандующий и вы, ваше высокопревосходительство, забрали себе слишком много власти. Общественность недовольна…
– Кого вы подразумеваете под общественностью? – воскликнул Сахаров.
– Ну вот хотя бы земство, кооперативы, Закупсбыт, Центросоюз да и другие, – невнятно ответил министр-председатель.
Главнокомандующий победно усмехнулся, словно он выиграл решающее сражение:
– Сплошные эсеровские организации, в которых заправляют юркие жидки. Да, я считаю их вредными, более того – врагами русского дела.
Последние слова были произнесены с такой явной и неприкрытой угрозой, что даже кадет Полыхаев испугался за судьбу кооператоров и поспешил уточнить, что надзор за этими организациями осуществляет подчиненное ему Министерство внутренних дел, а не армия.
– Общественность требует ухода генерала Сахарова и замены его снова генералом Дитерихсом[177].
Колчак поморщился и сказал:
– Я уже говорил с Дитерихсом по этому поводу. Он поставил невыполнимое условие.
– Какое? – в один голос спросили братья.
Верховный правитель с большой неохотой признался:
– Мою немедленную отставку.
Полыхаевы облегченно выдохнули.
Неожиданно в салон вошел адъютант и обратился к Колчаку:
– Срочная телеграмма из Новониколаевска.
Адмирал, нацепив на глаза очки, стал вчитываться в ленту. Собравшиеся, затаив дыхание, уставились на него. Телеграфная лента выпала из рук Колчака на пушистый ковер.
– В вашей армии бунт, генерал Полыхаев. Дивизия полковника Ивакина повернула свое оружие против правительственных войск. Этот мальчишка осмелился оцепить поезд генерала Войцеховского и пытается его арестовать. В городе создана организация с громким названием «Комитет спасения родины». Он уже обратился к населению с воззванием о переходе власти к земству, а большевикам предложил перемирие. Я жду от вас объяснений, как такое могло произойти?
Удачней момента для ареста Колчака и Сахарова не было. Сибирскому командарму оставалось только стукнуть кулаком по столу и сказать всю наболевшую правду в глаза горе-диктатору или просто произнести: «Вы арестованы, ваше высокопревосходительство», и дело было бы сделано. История пошла бы по другому руслу. Но ни Анатолий Николаевич, ни Виктор Николаевич не сказали этих последних слов.
Колчак стоял, заложив руки за спину, как Наполеон при Ватерлоо, посреди роскошного салона-вагона и гневно буравил заговорщиков своими черными глазами. Невысокий, болезненно худой, испитой, он все же источал какую-то магическую силу, заставляющую людей подчиняться ему.
Выступление полковника Ивакина было подавлено отступающими польскими частями. Осада с поезда командарма Войцеховского снята, а сам Ивакин арестован. Генерал Полыхаев попробовал еще надавить на Верховного правителя, угрожая самочинным бунтом сибиряков, если полковник Ивакин не будет освобожден. Но Колчак не стал в тот вечер ни реформировать Сибирскую армию, ни казнить, ни освобождать новониколаевского смутьяна, сославшись на поздний час.
Утром меня разбудил страшный крик из премьерского салона. Это кричал генерал Полыхаев. Стенка, за которой я спал, была тонкой, и все сказанное у премьер-министра было отчетливо слышно в моем купе:
– Он сбежал! Ночью его эшелоны перевели на следующую станцию.
– И золотой тоже? – испуганно переспросил Виктор Николаевич спросонья.
– В первую очередь.
– Но твои егеря успели хоть что-то с него снять?
На этот вопрос брата командарм ответил уклончиво:
– У стен тоже бывают уши.
Послышался шорох, как будто заскрипело перо по бумаге.
– Да, не густо! На золотой запас республики не потянет.
– Зато хватит выплатить жалованье солдатам, перед тем как отправлять их на смерть! – выпалил генерал.
– Ну не нервничай ты так, Анатолий, что сделано, то сделано. Будет еще Красноярск. Там уж генерал Зиневич[178] адмирала не упустит. А Сахаров? Он тоже уехал?
– Нет. Его состав еще на станции.
– Так чего же мы медлим! Прикажи своим офицерам срочно арестовать этого черносотенца! – распорядился председатель правительства.
Днем Виктор Николаевич поручил мне составить телеграмму Верховному правителю с требованием немедленного созыва Сибирского земского собора и формирования нового правительства, опирающегося на широкие народные массы. Телеграмма заканчивалась ультиматумом: если требования не будут удовлетворены до 24 часов 9 декабря, то правительство и верные ему войска во имя Родины пойдут на все. Да рассудит их Бог!
Но уже к вечеру из Новониколаевска пришло сообщение, что полковник Ивакин убит при попытке к бегству. Анатолий Полыхаев отбыл со своим бронепоездом в Томск. А прибывший в Тайгу командарм Войцеховский распорядился освободить смещенного генерала Сахарова из-под ареста.
Глава правительства сразу сник, замкнулся в себе и отправился на восток, вдогонку за адмиралом.
Через неделю в Нижнеудинске он уже оправдывался перед Колчаком за резкий тон телеграммы: дескать, его высокопревосходительство неправильно истолковал содержание.
Здесь, на въезде в Иркутскую губернию, эшелоны Верховного правителя и пристроившийся к ним поезд министра-председателя застряли надолго.
Чехи не давали паровозы, юлили, чего-то недоговаривали, постоянно консультировались с командующим союзными войсками в Иркутске французским генералом Жаненом[179].
Колчак чувствовал их двойную игру, но, оторванный от армии, он ничего не мог сделать. Части генералов Войцеховского и Каппеля остались далеко позади, а Сибирская армия генерала Полыхаева была рассеяна красными и практически перестала существовать. Верховный правитель оказался заложником у иностранцев. Он сам и сопровождаемый им золотой запас России стали разменной монетой в политической игре, сдав его, союзники рассчитывали откупиться от большевиков, чтобы самим унести отсюда ноги.
– Виктор Николаевич, это правда, что ваш секретарь свободно говорит и по-чешски, и по-словацки? – спросил как-то премьера адмирал.
Радуясь возможности вернуть расположение Верховного правителя, Полыхаев передал меня в распоряжение Колчака, даже не спросив моего согласия. При этом долго нахваливал мои таланты, словно речь шла о какой-то полезной вещи, а не о человеке.
– Пётр Афанасьевич и польским, и венгерским, и румынским языками владеет. Об английском, немецком и французском я вообще не говорю.
– А японским? – неожиданно спросил меня адмирал.
Я отрицательно покачал головой.
– Жаль. Очень жаль, – произнес Колчак. – Скоро японцы останутся нашими единственными союзниками.
Так я снова сменил начальника и стал личным секретарем Верховного правителя. И нисколько не жалел об этом. Все-таки после Потанина и Муромского масштаб личности Полыхаева был так себе. Общение с ним доставляло мне мало удовольствия. Да и работы он давал немного. На словах деятельный, он робел перед официальными документами. Виктор Николаевич мечтал сделать карьеру, но предпочитал, чтобы за него жар загребали другие. Для этого плел самые разнообразные интриги. Его отставка для адмирала была вопросом решенным. Только бы добраться до «Большой земли» – Иркутска.
Другое дело – Колчак. Полярный исследователь, герой Русско-японской войны, инженер по минному делу, адмирал. Харизматическая личность. Я стенографировал некоторые заседания его «Звездной палаты», много читал о его полярных приключениях в географических журналах, слышал лестные отзывы о нем других людей, но своего мнения еще не составил.
– Переведите на чешский язык это письмо и отправьте его президенту Чехословакии профессору Масарику[180], – дал мне первое задание Колчак.
Я ознакомился с рукописью и, не таясь, как привык делать это, работая у Муромского и Потанина, сделал ряд замечаний.
– В дипломатической переписке столь оскорбительный тон неуместен. Он приведет лишь к большему осложнению отношений между странами.
Колчак задумался, а потом резко ответил:
– Ничего не меняйте. Переведите всё как есть. Они первые разослали свой меморандум.
– Но приказ атаману Семёнову взорвать тоннели на Кругобайкальской железной дороге равносилен объявлению войны! – воскликнул я.
Лицо Колчака стало серым.
– Пусть знают, что если они сдадут меня красным, то и сами останутся в Сибири навечно.
Адмирал подошел к столику, налил в стакан из графина коричневатой жидкости и выпил ее одним глотком.
Откашлялся. Подошел к стене вагона, где висела коллекция холодного оружия, и снял длинный меч. Полоска холодной стали, как змея, ярко блеснула при тусклом электрическом свете.
– Правильно говорил подаривший мне этот самурайский меч японский полковник, что демократия – это власть толпы, и она неизбежно ведет к хаосу вследствие закона глупости числа…
Он всунул меч обратно в ножны и взял со стола раскрытую книгу.
– Здесь написано то же. Эх, перехитрили меня сионские мудрецы! Слабым оказался я на поверку. Глупец! Еще заигрывал с представителями демократии. Останавливал генералов, чтобы не переусердствовали в карательных акциях. А надо было брать пример с большевиков и каленым железом, огнем и мечом выжигать их коммунистическую, сионистскую заразу, как они безжалостно истребляют цивилизацию.
Я узнал эту книгу. «Великое в малом» Сергея Нилуса. Именно этот потрепанный томик с пометками покойной императрицы я привез Муромскому из Екатеринбурга. Но как он оказался у Колчака? Видимо, Пётр Васильевич поставил в известность Верховного правителя.
– Истинного народоправства не существует в природе. Это красивая сказка, мечта. Но во время войны она превращается в грозное оружие, чтобы лживой агитацией развалить фронт и подорвать тыл противника, – резюмировал Колчак.
Возражать против этого утверждения, подкрепленного такими наглядными вещами, как самурайский меч, «Протоколы сионских мудрецов» и графин с шотландским виски, было сложно. И я воспользовался первым попавшимся мне на глаза предметом. Это была висевшая на перегородке карта России, размалеванная стрелками боевых действий и утыканная красными и белыми флажками. Причем красных флажков было несоизмеримо больше, чем белых.
– Да, вы правы, ваше высокопревосходительство, – начал я издалека, – для демократии в первую очередь нужны граждане. А откуда им было взяться в царской крепостнической России! Честные и благородные дворяне? Вы сами на своем омском опыте убедились, что они уже выродились. Остались лишь единицы, белые вороны. Но только с ними выиграть войну было невозможно.
Я вплотную подошел к карте и обвел пальцем территорию Сибири от Уральских гор до Тихого океана.
– Вам ведь повезло, что вы оказались именно здесь, в Сибирской республике, а не на юге России у генерала Деникина. Здесь никогда не было крепостного права. Здесь живет совсем другой народ, который даже перековывать в граждан не надо было. Оставалось только запустить демократические институты…
– Ну-ну, – усмехнулся адмирал. – И народилась бы новая керенщина! Ваши эсеры любое государственное строительство заболтали бы, а потом бы легли под большевиков, как это делается сейчас повсеместно.
– А вот для этого и нужны были военные! Что вам мешало укрепить границы по Уралу, как это сделал генерал Маннергейм в Финляндии, добиться признания Сибирской России от союзников, наладить промышленность. Ведь сколько богатства кругом! Обустроить Сибирь, сделать ее привлекательной для жизни. Тогда бы этот край мог принять всех беженцев из европейской части, стать для них вторым домом. Поверьте, Сибирь для этих целей подходила лучше других частей империи. Но вместо того, чтобы защищать новую Россию от врагов, вы взялись реставрировать старую, которая всем сибирякам опостылела. Вот и бежите теперь отсюда, как Наполеон когда-то бежал из России. Вы так и не стали здесь своим. Сибирь не приняла вас и ваши порядки.
Он нахмурился, выпил еще виски и хриплым голосом ответил:
– Ерунда. Я просто не смог увлечь местное население белой идеей. Вы знаете, Коршунов, когда в 1904 году я отправился в Арктику на поиски пропавшей экспедиции барона Толля[181], то случалось самому править собачьими упряжками. Так вот, в холод, в пургу, когда собаки валились с ног от усталости, их надо было подбадривать. И я кричал им по-якутски (они привыкли к этому языку): «Вперед, черти! Еще немного! Там впереди много вкусной еды и теплый ночлег. А здесь только холод и смерть». И как только я переставал кричать, собаки тут же останавливались и валились на снег от изнеможения. Таковы и люди. Пока их погоняешь, они слушаются тебя и тянут из последних сил. Но стоит только ослабить вожжи…
Я снова повернулся к карте и стал очерчивать примерный путь полярной экспедиции Колчака.
– Насколько мне известно, барон Толль стремился открыть загадочную Землю Санникова, которую кто-то когда-то видел вдали в хорошую погоду. Забрался далеко на север, в полярную глушь, на одинокий остров Беннета, где и погиб.
– Да, вы верно осведомлены. Читали журнал Русского географического общества?
– Я долго работал с Григорием Николаевичем Потаниным, а он всегда тщательно отслеживал маршруты всех исследовательских экспедиций, – заметил я и продолжил: – Вам ведь тоже хотелось открыть Землю Санникова, это полярное Эльдорадо[182]? Спасение Толля было лишь поводом? Признайтесь, ваше высокопревосходительство!
– А какому исследователю не лестно стать первооткрывателем новых земель? – ответил вопросом на вопрос адмирал.
Я продолжал очерчивать на карте маршрут экспедиции Колчака.
– Итак, вы обогнули Таймырский полуостров вдоль береговой линии и отправились дальше на северо-восток искать барона и неведомую Землю Санникова?
Колчак кивнул головой.
– Я представляю, как вам было обидно, что вы не взяли от Таймыра чуточку севернее. Тогда бы лавры открытия Северной Земли, целого островного архипелага, по площади сопоставимого с Сахалином, остались бы за вами, а не за Вилькицким[183].
Я попал в точку. Адмирал побледнел и вцепился своими сухими длинными пальцами в спинку кресла. Мне казалось, что я слышал треск сокрушаемого дерева.
Мне же хотелось добить оппонента, разрушить его мировоззрение до основания, камня на камне не оставить от его философии.
– Погнавшись за призрачной мечтой, вы прошли мимо нового архипелага, а барона так и не спасли. И сами чудом остались в живых.
Колчак молчал, только его черные глаза злобно сверкали, как у затравленного зверя.
– Я не такой знаток восточной философии, как вы. Но знаю, что в китайском языке иероглиф «кризис» состоит из двух значков. Первый означает «угрозу», второй – «шанс». Судьба дала вам такой шанс, Александр Васильевич, на новой обетованной земле (ведь Сибирь ничем не хуже Америки) создать демократическую Россию, но вы его упустили, снова погнавшись за мифической Землей Санникова – облагороженной империей.
Он, стиснув зубы, стоически хранил молчание.
– Нет, никакой вы не Наполеон. Поражения на фронтах тому подтверждение. Вы и не Вашингтон, потому что не смогли создать новое государство. Вы более похожи на несчастного генерала Монка[184], утопившего в крови английскую революцию и вернувшего на трон Стюартов. Только и здесь вас постигла неудача. Хаос революции оказался сильнее реставрации вами прогнившего самодержавия, чиновничьего и военного произвола. И теперь большевистские варвары превратят нашу прекрасную Сибирь еще в худшую каторгу, чем при царе.
Он вскочил с кресла и стал нервно ходить по салону.
– Еще не все потеряно. Мне помогут японцы. Они единственные оказались верны союзническому долгу.
Я горько усмехнулся.
– Утопающему свойственно хвататься за соломинку. Только даже в случае успеха этой авантюры Сибирь окажется потерянной для России навсегда, она станет Японией.
Верховный правитель встал и ледяным тоном произнес:
– А вы не боитесь, господин Коршунов, что я прикажу вас расстрелять?
– Сделайте одолжение, ваше высокопревосходительство. Это не самый худший выход из моего положения.
После этих слов я отвесил дерзкий поклон и повернулся к двери. Но она сама распахнулась мне навстречу, и в салон вошла очень бледная женщина с благородными чертами лица и гордой осанкой. Это была гражданская жена адмирала Анна Васильевна Тимирева. Рассказывали, что она оставила во Владивостоке мужа и сына, чтобы быть рядом со своим возлюбленным.
Почему настоящие благородные женщины влюбляются в фанатиков и героев, принося свою жизнь на алтарь служения сомнительным идеям? Ведь Полина тоже полюбила меня, когда я был героем революции, а когда стал служить государству, бросила и нашла нового бунтаря.
Адмирал стушевался и смущенно произнес:
– На сегодня вы свободны, господин Коршунов.
А когда я уже был в дверях, добавил:
– И спасибо за откровенность.
На подъезде к Нижнеудинску наш поезд остановился у семафора. Утопая по колено в сугробах, к вагону адмирала пробрался человек в валенках и в надвинутой на лоб шапке с завязанными на подбородке ушами. Солдаты конвоя не сразу признали в нем чешского офицера, но, приглядевшись к форме, впустили в тамбур.
Вытряхнув из валенок снег и отдышавшись, майор сообщил адъютанту адмирала, что в городе установлена новая власть, и поезд Колчака по распоряжению штаба союзных войск задерживается «до дальнейших распоряжений». Он также обмолвился о своем намерении разоружить конвой, но ему со смехом в этом было отказано.
Отогревшись, чех пошел на станцию за новыми инструкциями. Вернулся он через пару часов. И его слова уже ни у кого не вызвали улыбки.
– Чехословацким войскам поручено охранять поезд адмирала и эшелон с золотом на станции Нижнеудинск, территория которой объявлена нейтральной зоной. Вы пока можете оставить при себе оружие, но в случае вооруженного столкновения с местными властями мы будем вынуждены разоружить обе стороны…
Наш поезд отогнали на дальний путь, и чехи сразу оцепили его, направив дула своих пулеметов и в сторону вокзала, и на нас.
Время работало против Колчака. За две недели сидения в Нижнеудинске из Верховного правителя России он превратился в свергнутого диктатора, от которого отвернулись почти все его прежние друзья.
В мемуарах белых эмигрантов адмирал зачастую предстает в образе великомученика, погибшего за родину и идею. Как последний русский царь Николай II. Некоторые современники даже сравнивают Колчака с Иисусом Христом, также преданным последователями и взошедшим на свою Голгофу. Советские же историки считают участь сатрапа закономерной местью восставшего народа. Но и те, и другие почему-то замалчивают главное – кто сверг Колчака? Мифический Политцентр, эсеры, большевики?..
Полковник Ивакин в Новониколаевске, генерал Зиневич в Красноярске, генерал Гайда во Владивостоке и, наконец, могильщик колчаковского режима штабс-капитан Калашников[185], которому удалось-таки довести вооруженное восстание в Иркутске до победы и восстановить народовластие на территории Сибири… Все они служили в Сибирской армии и поднимали своих солдат против диктатора под сибирскими бело-зелеными, а вовсе не красными знаменами.
Они осознали, что переворот 18 ноября 1918 года в Омске, сделавший из завезенного англичанами контр-адмирала всероссийского Верховного правителя, как, впрочем, и уфимские соглашения, лишившие Сибирь независимости ради жертвенного спасения империи, были ошибками. Бесстрашные патриоты хотели вернуть Сибирскую республику, наивно полагая, что если они избавятся от диктатуры, то наступающие большевики согласятся сесть с ними за стол переговоров и признают, как они еще полгода назад обещали союзникам, суверенитет Сибири. Но ужасы Гражданской войны не изменили идеологов большевизма, и даже напротив – сделали их еще более жестокими и коварными. Давать невыполнимые обещания они были мастерами еще до октябрьского переворота, а добивать поверженного противника их научила война. И вовсе не вина, а беда сибирских повстанцев, что они, избавившись от одной диктатуры, не сумели противостоять наступлению другой, как показало время, более страшной и кровавой. Они не достойны порицания, как предатели, переметнувшиеся к врагу, им можно только посочувствовать. Безжалостное время разбило их прекрасные идеалы. Горячо любимая ими Сибирь в скором времени была превращена в еще худшую каторгу, чем была при царях. Такая вот гримаса истории.
Итак, власть правительства в новой столице – Иркутске – пала. От штаба союзных войск чехословацким подразделениям в Нижнеудинске пришли новые инструкции. Их огласил майор Новак, ставший для нас чуть ли не родным за две недели переговоров.
– Пропуск поездов и даже одного поезда с вооруженными людьми невозможен. Относительно эшелона с ценностями будут даны дополнительные указания. Если адмирал желает, то он может быть вывезен из Сибири в одном вагоне под охраной чехословацких войск.
Колчак тихо возразил:
– Но мой конвой насчитывает свыше пятисот человек. Неужели я должен бросить их на растерзание толпы? Об их судьбе ваши верховные комиссары не подумали. Я лучше разделю участь со своими подчиненными, какой бы страшной она ни была, чем сбегу один. Так и передайте своему начальству, господин майор.
Новак учтиво откланялся и скрылся в морозной мгле.
Едва за чехом захлопнулась металлическая дверь, как в адмиральском салон-вагоне началось бурное обсуждение ситуации. Благо, все офицеры и старшие чиновники находились уже здесь и своими ушами слышали новый ультиматум союзников.
Первым высказался премьер-министр:
– Войскам атамана Семёнова пришлось бесславно отступить из Иркутска. Его казаки в очередной раз оказали нам медвежью услугу. На пароходе при переправе через Байкал они учинили расправу над арестантами иркутской тюрьмы, которых захватили с собой. Их связывали веревками попарно, оглушали колотушками и сбрасывали в воду. Хоть бы над большевиками издевались! Так нет же! Нахватали, как всегда, первых попавшихся, чтобы выместить на них свою злобу. А среди них оказались и эсеры, и меньшевики, и даже первые члены Западно-Сибирского комиссариата, с которого и началось Омское правительство. После этого дикого избиения общественное мнение окончательно отвернулось от нас…
– Да перестанете вы когда-нибудь носиться с этим общественным мнением! – Колчак резко оборвал Полыхаева и спросил у начальника своего походного штаба, есть ли сведения от генерала Каппеля.
– Никак нет, ваше высокопревосходительство. С ним нет никакой связи!
Адмирал до хруста заломил пальцы.
– Значит, мы в мышеловке. Сзади – красные, впереди – новая демократическая власть, которая нас тоже не пощадит, – заключил он. – Как из нее выбраться? Ваши предложения, господа.
И хотя я никогда не был большим поклонником адмирала, но крови его никак не желал. Ее и так уже пролились реки на сибирской земле.
– В «Очерках Северо-Западной Монголии» Потаниным хорошо описаны эти места, – начал я издалека. – Там упоминается о заброшенном старом тракте длиной в 250 верст, который ведет отсюда до границы с Монголией. Правда, через Восточные Саяны высокие перевалы. Они зимой едва ли проходимы. Но и после них путь до монгольской столицы Урги[186] будет пролегать по гористой местности…
Колчак прервал меня:
– Так что же вы раньше молчали, Коршунов? Разве меня, полярного исследователя, могут испугать трудности перехода, заснеженные перевалы, мороз и ветер? Это же ведь счастье – преодолевать природные трудности! Вновь почувствовать себя молодым, испытать себя на прочность. Стихии противостоять проще, чем людям.
Адмирал распорядился собрать весь конвой. Стоя на подножке вагона, без шапки, с горящими глазами, он старался перекричать завывания вьюги:
– Я не еду в Иркутск, не хочу полагаться на милость союзников. А остаюсь здесь. И мы с вами, мои верные соратники, будем готовить новый поход. В Монголию! Кто сомневается, может уйти. Я никого не неволю. А кто верит в меня и хочет разделить со мной мою судьбу, пусть останется. Я предоставляю каждому свободу выбора!..
В жизни этого сильного, неординарного человека, пожалуй, не было дня горше, чем этот. Он еще продолжал говорить, а толпа стала редеть. Солдаты начали разбредаться в разные стороны. И через минуту-другую из пятисот человек перед вагоном осталось не более десятка.
– Эх, ваше высокопревосходительство, не надо было вводить солдат в искушение. Получили бы приказ, пошли б без разговоров, – попрекнул адмирала кто-то из штабных генералов.
Но Колчак ему не ответил. Он продолжал смотреть в темноту, куда за чехословацкое оцепление ушли его солдаты, и его коротко постриженные волосы седели буквально на глазах.
Но это было только началом его разочарования в людях. Решено было идти с одними офицерами, хотя теперь отход становился гораздо опаснее. Наверняка противник будет преследовать отряд. И когда в штабе старшие офицеры получали последние инструкции и уже собирались расходиться, чтобы рано утром выступить в сторону Монголии, неожиданно один моряк обратился к адмиралу:
– Ваше высокопревосходительство, ведь союзники соглашаются вас вывезти?
Колчак утвердительно кивнул.
– Так почему бы вам, ваше высокопревосходительство, не уехать в вагоне? А нам без вас гораздо легче будет уйти. За нами одними никто гнаться не станет. Да и для вас так будет легче и удобнее.
Верховный правитель побледнел. От кого-кого, а от морского офицера он не ожидал такого удара.
– Значит, и вы меня бросаете?
– Никак нет. Если прикажете, мы пойдем с вами.
Адмирал задумался, а потом громко объявил:
– Совещание закончено. Каждый волен поступать, как ему велит его совесть.
Офицеры разошлись. Колчак упал в кресло и с горечью произнес:
– Все меня бросили. Делать нечего, надо ехать.
А потом помолчал и прибавил:
– Продадут меня эти союзнички.
Адмиралу был предоставлен вагон второго класса, в котором с трудом разместились шестьдесят человек – генералы, верные офицеры и чиновники. В каждом купе ехало по восемь-десять штатских и военных. Спали на верхних полках по очереди. Одно купе целиком занял Колчак вместе с Анной Васильевной. Вагон разукрасили флагами Великобритании, США, Франции, Чехословакии и Японии и прицепили в конец чешского состава. Следом под совместной охраной – русской и чехословацкой – шел эшелон с золотым запасом империи.
На всех станциях к вагону ломились вооруженные люди, требуя выдачи Колчака, но чехам удавалось сдерживать их натиск.
А вот и Черемхово. Я надел пальто, шапку и вышел в тамбур. Дальше наши дороги с Колчаком и Полыхаевым расходились. Я поставил в известность министра-председателя о своем уходе, и он не стал удерживать меня, а только безразлично махнул рукой, мол, поступай как знаешь.
Те же злые и черные люди, как и на предыдущих станциях. Как и черносотенцы в 1905 году. Почему они всегда и везде, при любой бойне, неважно под какими лозунгами она началась, в первых рядах? Порода что ль такая особенная в роду человеческом? Питающаяся падалью? Они издалека чувствуют запах крови и, как гиены, собираются в стаи, чтобы легче было добивать умирающую жертву.
На второй путь подошел эшелон с золотом.
– Странно, – заметил провожавший меня офицер. – А где же наша охрана? Одни чехи.
Меня уже не интересовали интриги и хитросплетения вокруг золотого запаса, поэтому я попрощался и стал спускаться на перрон, но не успел коснуться замерзшей земли, как чьи-то крепкие руки подхватили меня и с силой затолкнули обратно в вагон.
– Куда прешь, сволочь? Драпать удумал, колчаковщин прихвостень? Не выйдет. Хозяину без тебя скучно будет помирать, – протянул высокорослый детина в черной путейской шинели и загоготал над собственной шуткой.
Он ловко, как цирковая обученная обезьяна, подтянулся на поручнях и запрыгнул в вагон. Висевшая у него на плече винтовка лязгнула о металлический пол. Следом за ним взобрались его товарищи. Они заполнили весь тамбур, затолкнув меня вовнутрь пассажирского отсека. От них воняло углем, потом и самогоном.
Услышав шум, из первого купе вывалились офицеры, и наставили дула своих револьверов на непрошеных гостей. Я оказался меж враждующими сторонами как раз на линии огня.
Рабочие, наткнувшись на сопротивление, остановились, перекрыв проход. Их командиру в кожаной тужурке пришлось с большим трудом пробраться во главу колонны. Он внезапно появился передо мной из‑за спины шутника-верзилы, и я опешил. Впрочем, он тоже.
Передо мной стоял мой прежний друг, а ныне самый лютый враг, отбивший у меня жену, Александр Чистяков.
– Ба! Какая встреча! – театрально протянул он, и его рука скользнула к кобуре.
Я тоже запустил свою ладонь во внутренний карман пальто и нащупал ребристую рукоятку револьвера.
Мы поняли друг друга без слов и, зная, как каждый умеет обращаться с оружием, оставили эту глупую затею. Если бы начали стрельбу, это бы неминуемо привело к большой перестрелке, и тогда бы наверняка беснующаяся толпа на станции снесла чешское оцепление и разорвала всех находящихся в вагоне на куски.
Чистяков это тоже понимал, поэтому убрал руку с кобуры и, словно, не видя меня перед собой, крикнул вглубь вагона:
– 12 января на станции Тыреть из следующего за вами эшелона было похищено 13 ящиков с золотом. Я должен обыскать вагон, чтобы убедиться, что здесь нет украденных у народа ценностей.
– Вы не имеете на это права. Наш вагон находится под охраной союзных держав! Здесь – благородные люди, поищите лучше воров среди своих! – выкрикнул безусый мичман.
Из тамбура снова послышался шум и чешская речь. Это был комендант поезда. Узнав, в чем дело, он миролюбиво пояснил товарищам рабочим, что спешить им некуда, вагон можно будет обыскать и в Иркутске.
– Хорошо, – согласился Чистяков и добавил: – Только у нас есть еще один приказ. Мы должны проконтролировать обещанную чехословацким командованием выдачу адмирала Колчака революционным властям в Иркутске.
Комендант поезда приложил палец к губам и зашептал:
– Тише. Не провоцируйте конфликт раньше времени. Я прошу вас перейти в соседний вагон. Там вам будет удобнее. Он менее заполненный. Все равно адмирал никуда не денется.
Чистяков злорадно улыбнулся.
– Что ж, подождем до Иркутска. До встречи, друг!
Они направились к выходу. Я за ними. Ведь там, за вокзалом и оцеплением, были Полина и Петенька. А мне так много нужно было им сказать!
– А ты куда? – остановил меня вопросом внезапно обернувшийся Чистяков.
– Ты сам знаешь.
– Она тебя не ждет. Ты отказался от нее, выбрав свой путь. Мы теперь с тобой по разные стороны баррикад. Только ты изменил идеалам нашей молодости, а я – нет. Сам стал палачом революции. Поэтому Полина со мной, а не с тобой.
– Я не палач.
– Зато служишь палачам! – огрызнулся вожак пролетариев.
– Разве ты не видишь, Чистяков, что я жертва. И они, – я махнул в сторону спального отсека, – тоже жертвы. А палачи теперь вы! И все карьеристы, казнокрады, садисты теперь переметнутся на вашу сторону. Ваша идеология жестока по своей сути, поэтому я ее не приемлю. Она окончательно развяжет им руки, и они будут творить такие преступления, каких еще не знала история. Я не завидую тебе, Александр, хоть ты сейчас и победитель. Ты попал в самый последний круг ада, еще хуже меня. И станешь настоящим палачом. И тогда Полина тебя обязательно бросит, непременно бросит, она не может жить с человеком, чьи руки запятнаны в крови. И вернется ко мне. Ты понял, Чистяков, она вернется ко мне. Обязательно вернется!
Я бросился к выходу, но он опередил меня и захлопнул передо мной железную дверь.
А потом страшным, полным злобы и ненависти голосом заявил коменданту поезда:
– Если хотя бы один человек выберется из этого вагона до Иркутска, клянусь, именем революции лично вас расстреляю.
К Иркутску мы подъезжали в конце дня. Смеркалось. За окном свинцовые тучи сливались с грязным снегом, образуя серую мутную массу. Перрон со всех сторон окружали вооруженные люди. По внутреннему периметру стояли чехи, а по внешнему – солдаты местного гарнизона, правда без погон, и вооруженные штатские.
Кто-то из чехов шепнул нашему проводнику, что в семь часов вечера состоится выдача адмирала местному революционному правительству, и если до этого кто-нибудь из окружения под покровом темноты покинет вагон, чешская охрана закроет на это глаза. Вначале тихо вышли офицеры из первого купе, потом несколько чиновников из Министерства внутренних дел. За ними вышел я.
Меня никто не окрикнул, не арестовал.
– Не ходите на вокзал. Там у всех проверяют документы. Лучше к Ангаре. Меньше патрулей, – посоветовал чешский офицер.
Я поблагодарил его на родном языке. Возле депо меня остановил революционный патруль. Спросили документы. Я им ответил по-чешски, и они меня пропустили.
Глава 5. Монашеский орден
Стоял жаркий августовский полдень. Солнце палило неумолимо. Горло пересохло, и он был готов отдать полжизни за живительный глоток влаги. Пробравшись сквозь заросли колючего кустарника, он вскарабкался на сопку и оторопел от величия увиденной картины. Под ним простирался синий и бескрайний Байкал. Он рванулся к нему из последних сил. То бегом, то кубарем. Не обращая внимания на занозы и ссадины, он летел по изрезанному буераками склону, как дикий зверь, и в его голове свербела только одна мысль: «Вода! Вода! Вода!»
Перед самым озером проходил автобан, по которому проносились скоростные машины. Но ему было не до них, уж очень хотелось пить. Он почти перебежал шоссе, как вдруг раздался страшный скрежет тормозов. Вынырнувшую из‑за поворота спортивную «Тойоту» цвета крови развернуло поперек дороги, и она застыла буквально в метре от него.
Ругаясь на непонятном языке, из машины вылезла пожилая японка в темных очках, с профессиональной фотокамерой на шее и дико замахала руками, как недорезанная курица крыльями.
Он отмахнулся и перескочил через балюстраду на ухоженный песчаный пляж. Озеро было совсем рядом, и он ринулся к нему, ломая хрупкие шезлонги, попадавшиеся на пути. Не раздеваясь, со всего хода бултыхнулся в живительную прохладу. Как насос, он жадно и долго всасывал в себя байкальскую воду. Организм, потребовавший воздуха, заставил вынырнуть.
На берегу скопились какие-то люди. Японка с фотоаппаратом показывала на него другим японцам. Коротышка в шортах и цветастой рубашке наверняка был смотрителем пляжа. А два крепыша, похожие на Брюса Ли, в белых облегающих футболках и парусиновых штанах – охранники. Реплики, которые они отпускали в его адрес, не обещали ничего хорошего, поэтому он плюнул на них и поплыл подальше от берега. Японцы стали кричать сильнее, но расстояние между ними увеличивалось, и вскоре ветер перестал доносить их тарабарскую речь.
Отплыв подальше, он позволил себе немного отдохнуть. Перевернулся на спину и осмотрелся. Взору открылась невероятная картина. Вся береговая линия была усеяна маленькими и большими гостиницами, по форме напоминавшими пагоды. Ухоженные пляжи перемежались с изысканными парками. У причалов покачивались дорогие яхты, парусники и катера. С одного из них отчалил и направился в его сторону катер. Состязаться с ним в скорости было бесполезно, он продолжал лежать на воде и смотрел, как летит чудо иностранной инженерной мысли.
Это был полицейский катер, и на нем развевался белый флаг с красным кругом посередине, символизирующим восходящее солнце. Положение было безнадежным, но без боя сдаваться врагу не хотелось.
Нервы японцам он потрепал изрядно: подныривал под их катер и появлялся всякий раз с неожиданной для полицейских стороны. Их самурайскому терпению пришел конец, и один из полисменов сунул в воду какую-то трубу, в тот же миг его так шандарахнуло, что он тут же отключился.
Очнулся уже на палубе. Узкоглазый врач проверил пульс и, убедившись, что он еще жив, выругался и брезгливо откинул руку.
– Кто вы и откуда? Как вы оказались на территории заповедника? Из какого лагеря сбежали? Вы имеете вид на жительство на территории Японской империи?
Полицейский в солнцезащитных очках склонился над ним и продолжал сыпать вопросами. От них он был не в меньшем шоке, чем от электрического разряда. Он не знал, что отвечать.
– Вам лучше самому во всем признаться. Это ваш последний шанс уменьшить себе наказание. Нам достаточно снять отпечаток вашего пальца, и мы сами узнаем все про вас, но тогда можете не надеяться на милость императора.
– Я, правда, ничего не знаю, – выдавил он из себя.
– Хорошо, – согласился говорящий по-русски японец. – Вы сами выбрали свой путь.
Он поднес указательный палец его правой руки к какому-то прибору, и тотчас на мониторе замельтешили колонки цифр, но в итоге компьютер выдал огромный знак вопроса.
– Странно… – удивился полицейский. – Неужели вы к нам пожаловали из‑за Уральских гор? Но и это не проблема. С высокого позволения канцлера Третьего рейха у нас есть доступ и к германской информационной базе на неграждан. Сейчас пошлем ваши отпечатки в Кенигсберг и через минуту получим ответ. Я вам не завидую. Депортация в Третий рейх для вас гораздо хуже, чем японский концентрационный лагерь. Так бы хоть послужили науке. На вас провели бы какой-нибудь опыт по испытанию нового лекарства. Могли бы даже стать донором для хороших людей: отдать почку или печень, если, конечно, они у вас здоровы. А немцы только называют себя европейцами, в своем развитии они застыли на уровне великой войны. Кроме топки крематория они больше ничего не придумали…
Сергей Коршунов не дождался ответа из Третьего рейха. Укол медсестры вернул его в реальную жизнь. Он открыл глаза и чуть не заплакал от счастья, увидев перед собой милое веснушчатое личико молоденькой медсестры с носом-картошкой и туго заплетенными в косу русыми волосами.
– Где я? – прошептал он пересохшими губами.
– В очень хорошей клинике, – ответила медсестра, подсоединяя его к капельнице. – Здесь лучшие в области наркологи.
– Так, значит, это была только белая горячка? – облегченно произнес больной.
– Ничего себе – «только»! – возмутилась медсестра. – Вас, можно сказать, с того света вернули. Это же надо было столько пить! Если б не родственница, заплатившая кучу денег за ваш перевод сюда, вы б точно в диспансере уже умерли и жарились бы, как все алкоголики, в аду на сковородке. Тут-то вас выходили. Только вот надолго ли?
– Какая родственница?
– Ну эта, из Канады. Молодая такая, пробивная. Каждый день вас навещала, пока вы были в коме. Сядет возле кровати и плачет. Ох как мне жалко было ее, горемычную… – запричитала девчушка, а потом добавила по секрету. – А еще мне показалось, что это она нарочно назвалась вашей родственницей, а на самом деле никакая не родственница, а ваша тайная поклонница. Однажды я видела краем глаза через щелку, как она вас целовала, когда в палате никого не было. Родственницы так мужчин не целуют. Только я одного не могу понять – зачем такой молодой, красивой, богатой иностранке сдался старый и больной русский алкаш?
Разговорчивая сестричка умолкла на полуслове. Дверь в палату отворилась, и в нее вошли мужчина в белом халате, по всему виду лечащий врач, и Жаклин. Она тоже была в белом, только не в больничной одежде, а в тонком летнем костюме из дорогого хлопка. Увидев, что Сергей пришел в сознание, она просияла, но по-родственному сдержанно произнесла:
– Ну слава богу! Оклемался, племянничек. Будешь теперь знать, как водку без меры пить. Вот даже доктор говорит: еще бы чуть-чуть, и современная медицина была бы бессильна.
– Да-да, – подтвердил ее слова нарколог. – Интоксикация организма достигла предела. Летальный исход был весьма возможен.
Но Коршунов не слушал его. Он зачарованно смотрел на Жаклин.
– А я и хотел умереть, – прошептали его пересохшие губы. – Мне было очень плохо без тебя. Плохо и стыдно.
– Пустое! – небрежно отмахнулась тетка. – Как говорят у вас в России, кто старое помянет, тому глаз вон.
Она подошла к его изголовью, нагнулась и поцеловала его в горячий лоб. А потом прошептала в самое ухо:
– Если еще раз увижу тебя с какой-нибудь теткой, сердце тупой ложкой выну, балда.
Потом еще раз поцеловала. Теперь в небритую щеку.
– Как ты здесь оказалась? – спросил он.
– Прилетела на самолете.
– А виза? Как ты получила российскую визу?
– Я приехала на стажировку в ваш университет. А преподаватель из Томска улетел в Монреаль. Это обычная университетская практика – обмениваться научными сотрудниками.
– А я подумал, что ты прилетела ко мне, – разочарованно прошептал Сергей.
– Ты самый настоящий балда! – она вновь употребила понравившееся словечко. – Да, я специально организовала этот обмен, чтобы увидеть тебя. Сердце ныло. Как видишь, не зря. Вовремя успела. И я должна была привезти тебе окончание рукописи!
– Сколько ты здесь еще пробудешь? – спросил Коршунов повеселевшим голосом.
– Выходить тебя успею.
Но тут в их разговор вмешался врач:
– Прошу вас заканчивать свидание. Больной еще слишком слаб.
Жаклин послала Сергею воздушный поцелуй и вместе с доктором удалилась из палаты. А медсестра еще долго ломала голову: кем же приходится алкоголику эта прекрасная иностранка?
Сергей быстро пошел на поправку, и уже через три дня заговорил о выписке. Доктор вначале упрямился, но, видя, что больной выздоравливает, согласился.
Жаклин приехала за ним на такси с огромным букетом роз и большущим пакетом из непрозрачного полиэтилена. На удивление Сергея, цветы она вручила не врачу и даже не медсестрам, а ему. Врач довольствовался коньяком, а медсестры – конфетами. За его лечение она еще заплатила реабилитационному центру кругленькую сумму.
Она сняла для него номер в самой дорогой гостинице. Ее номер был рядом.
– Но ведь это стоит уйму денег! – поразился Сергей роскошеству своих апартаментов. – Я и не думал, что у нас есть такие отели.
Жаклин озорно тряхнула своей челкой и ответила:
– Ну не к тебе же в халупу ехать? Хуже Раскольникова[187] устроился. Это ж надо было так опуститься!
Теперь он и сам не понимал, как умудрился докатиться до такой скотской жизни, и ему очень не хотелось вспоминать свое падение.
Он поежился и виновато произнес:
– Ты же сама предлагала не вспоминать старое.
Больше на эту тему Жаклин не заговоривала. Она по-хозяйски прошла вглубь номера, отыскала в серванте вазу, налила в нее воды и поставила розы.
– Красиво, правда? – любуясь букетом, спросила она.
– Да. Очень красиво. Но зачем такие траты? – не унимался он.
– Ты есть не хочешь? А то я чертовски проголодалась. Здесь рядом есть чудесный ресторан. Там очень вкусно готовят мясо на гриле.
Он сразу почувствовал дикий голод.
– Да, мяса я бы поел.
– Так чего ж мы стоим! – радостно воскликнула она. – Тебе на сборы пять минут. Одежда в шкафу, я купила ее на свой вкус. Встречаемся внизу в фойе.
Он не узнал ее в вечернем платье. Черное, с блестками, похожее на хвост пролетевшей в ночном небе кометы, оно было ей очень к лицу. Темный цвет выгодно подчеркивал белизну и нежность ее точеной шеи. Сзади большой вырез открывал половину ее спины, и очаровательные лопатки притягивали взгляды всех мужчин. Так и хотелось стиснуть ее в объятиях!
– О-го-го! – присвистнул он. – Ну ты прямо собралась на бал в Букингемский дворец[188], не меньше!
– Нравлюсь? – игриво поинтересовалась она.
– Еще бы! Ты настоящая королева!
Официант провел их на второй этаж и усадил за столиком на балконе, откуда хорошо просматривался танцевальный зал, где в ритме медленного танго двигалась одинокая пара. Музыканты играли душевно. Особенно выделялся немолодой скрипач, чей инструмент был настолько пронзителен, что задевал за живое даже самое черствое сердце.
– Как здесь славно! – признался Сергей. – Я никогда прежде не был тут трезвым. Да еще с такой очаровательной женщиной. Даже когда у меня водились деньги. Это очень дорогой ресторан.
Она улыбнулась и сказала:
– Я хочу, чтобы ты почувствовал вкус настоящей жизни. Без водки. Поверь, в мире так много интересного, а времени нам отпущено так мало, что просто глупо тратить его на пьянство.
– Наверное, ты права, – согласился он.
Они сделали официанту заказ. По овощному салату и две порции мяса. Жаклин заказала себе мартини со льдом, а он – только минеральную воду с газом.
– Ты совсем не хочешь спиртного? – задала она провокационный вопрос.
– Нет. С тобой мне совершенно не хочется пить. Меня одолевает совсем иное желание, – признался он и покраснел.
Она еще раз смерила его изучающим взглядом и, глубоко вздохнув, сказала:
– Ты мне сразу понравился. А когда отказался от претензий на наследство, я увидела в тебе настоящего Коршунова. Бедный человек из бедной страны легко расстается с миллионами. Так поступают только очень благородные люди.
Она замолкла. Официант принес салаты и напитки. Но к еде они не притронулись. И она продолжила:
– Дело в том, Сережа, что моя мама, с которой ты познакомился в Монреале, вовсе не моя родная мать. Жак и Элен Готье удочерили меня в двухлетнем возрасте. Мои настоящие родители были их друзьями. Отец – француз из Квебека, а мать – гаитянка. Вот откуда у меня такие черные глаза, а вовсе не от вас, Коршуновых. Мои родители погибли в автомобильной катастрофе. И семейство Готье взяло меня на воспитание. Бабушка Тереза сразу влюбилась в меня. Она сама призналась мне однажды, что у меня такой же взгляд, как у ее покойного мужа, твоего прадеда. Я привезла окончание его рукописи.
Пораженный Сергей не знал, что сказать. Жаклин тоже тяжело далось признание. Она осушила бокал с мартини.
– Я не Коршунова – по крови, но Коршунова по духу. Бабушка постаралась вложить в меня все ценности, лучшие качества вашего рода. Сделала из меня русскую интеллигентку в квадрате, сама никогда не будучи такой. Вот так, наполовину француженка, наполовину гаитянка стала потомственной эмигранткой из Сибири. Представляешь, как сложно с такими запросами и комплексами мне было найти мужчину? Все оказывались мелковатыми. И тут появился ты. Бедный, неухоженный рыцарь. Настоящий Коршунов. У меня просто не было шансов устоять: я влюбилась в тебя, как глупая девчонка, при первом же общении!
Он сидел с открытым ртом и ничего не ел. Кусок не лез ему в горло.
– А я… думал… мы… просто… родственники… Вот идиот! Не мог понять, почему ты так взбесилась из‑за этой Анны? Почему заигрывала со мной? Слепец! Прости меня, Жаклин. Пожалуйста, прости. Ты на меня тоже сразу произвела ошеломляющее впечатление. И вовсе не как родственница, а как женщина! Мне хотелось с первой же минуты обнять тебя, целовать твою белую шею, губы…
Настал ее черед покраснеть. Она стыдливо потупила взор и стала небрежно ковырять вилкой в салате.
Затем вскинула на него свои томные тропические глазищи и недвусмысленно предложила:
– Пойдем потанцуем?
Неведомая сила, которая притягивала их друг к другу на Карловом мосту, нахлынула вновь, только теперь ее не сдерживали никакие табу, и превратилась в страсть.
Среди ночи Сергей бесшумно, стараясь не разбудить Жаклин, встал с кровати. У него до сих пор дрожали коленки и сердце клокотало в груди от счастья.
Он с трудом открыл балконную дверь и вышел в теплую августовскую ночь. В парке стрекотали сверчки, шелестя крылами, пролетали какие-то птицы. Веселились студенты, приехавшие с каникул.
Он закурил сигарету.
Как, оказывается, все просто. Правы ученые, утверждающие, что после занятия любовью у человека в крови выделяются специальные гормоны счастья. Эндорфины, кажется. И это состояние может сохраниться надолго. Только как вот отличить настоящую любовь от подделки? От дешевого секса или приевшейся супружеской обязанности? Наверное, кому как повезет – найти свою половину. На своем пятом десятке он доселе не знал таких счастливчиков. А вдруг это и есть его единственная настоящая любовь?
Нежные пальцы прикоснулись к его спине.
– Почему ты не спишь? – спросила заспанным голосом Жаклин.
Сергей ничего не ответил, выбросил вниз тлеющую сигарету, обнял ее, и они снова вернулись в постель.
Утром она разбудила его.
– Милый, мне пора уходить. Истекает срок моего пропуска в архив. Ты уж позавтракай, пожалуйста, без меня. Можешь спуститься вниз в кафе или заказать завтрак в номер. А обедать мы будем вместе, – она чмокнула его в шершавую щеку, обдав ароматом дорогих духов деловой женщины, и добавила: – На столе лежит продолжение рукописи. Если будет скучно, почитай. Ну, пока. Я тебя очень люблю.
Сон как рукой сняло. Едва за Жаклин захлопнулась дверь, он тут же вскочил с кровати и побежал к столу – проверить, на месте ли сокровище. Естественно, ни на какой завтрак он не пошел и в номер его не заказал, а вскипятил чайник, насыпал в кружку с кипятком две полные ложки растворимого кофе и, отыскав в мини-баре какое-то печенье, уселся за чтение.
Пыльная буря накрыла поезд на подъезде к китайской столице. И на перроне тоже песок слепил глаза. Я различал только силуэты и крепко сжимал в руке саквояж, наслышанный о проворных пекинских воришках. И едва не выхватил из кармана пистолет, когда за него кто-то потянул. Но это был никакой не вор, а обыкновенный китайский кули, то есть носильщик.
– Бэйгуань, – громко и четко произнес я китайское название Русской духовной миссии в Пекине.
Кули утвердительно закивал головой, дескать, знает, где это. Но он меня обманул. Саквояж уложил на телегу, а меня заставил идти пешком. Зная, что Северное подворье (так переводится с китайского Бэйгуань) находится далеко от вокзала, я недоумевал: неужели мне придется всю дорогу тащиться за телегой? Но идти пришлось недолго. Минут через десять носильщик остановился у высоких ворот. За белым мазаным забором виднелись европейские здания.
– Это Бэйгуань? – подозрительно спросил я.
– Бэйгуань, Бэйгуань! – клялся носильщик.
На мое счастье, мимо проходил хорошо одетый китаец, немного знавший русский язык, и разъяснил нам, что это никакое не Северное подворье, а русское посольство, до Бэйгуаня еще далеко. Кули сразу сник, но быстро опомнился и стал требовать с меня денег. Я не хотел ему платить, потому что он завел меня не туда. Но потом он громко свистнул, и, откуда не возьмись, перед нами появился рикша. Китайцы немного поспорили меж собой, а потом вместе начали со мной торговаться. Усевшись на рикшу, я выплатил им половину, а другую обещал отдать только на месте. Кое-как они согласились. Рикша выделил своему горемычному товарищу несколько монет и покатил меня совсем в другую сторону.
Тишина посольского квартала сменилась шумной торговой улицей. Непрерывные ряды магазинов и лавок, украшенных экзотическими вывесками, снующие туда-сюда разносчики, уличные торговцы-зазывалы, рекламирующие свой товар во весь голос, и обилие рикш, заполонивших собой всю проезжую часть нескончаемой улицы. Настоящая человеческая река, а моя повозка – ничтожный челнок, снующий по ее волнам.
Торговые ряды закончились, а рикша все продолжал бежать. Вскоре мы оказались в узеньком переулке, с обеих сторон зажатом стенами унылого серого цвета. На всякий случай я проверил, на месте ли мое оружие – компактный автоматический браунинг, купленный мной в оружейном магазине Сан-Франциско перед возвращением в Азию. Во внутреннем кармане сюртука я нащупал ребристую рукоятку. Буря уже закончилась, небо из серого превратилось в синее, и солнце стало палить беспощадно. Я сильно вспотел, но сюртук не снял.
А вот и городская стена. Куда же нам дальше ехать? Внезапно за поворотом блеснул золотом православный крест. Я невольно перекрестился и облегченно выдохнул.
В Русской духовной миссии меня уже ждали. Об этом позаботился Иван Иннокентьевич Золотов, которому я заранее телеграфировал о своем приезде. Услужливый китаец провел меня через фруктовый сад в мужское общежитие. Донеся саквояж до кельи, служка оставил меня одного.
Я осмотрелся. Никогда прежде мне не доводилось останавливаться в духовной миссии. Деревянная кровать, стол, стул, вешалка и умывальник составляли все убранство кельи. Узкое окно выходило на веранду, за ней виднелись часовня и домовая церковь. Дверь утыкалась в дверь такой же кельи по другую сторону узкого и длинного коридора.
Я умылся, переоделся в чистую рубаху и брюки и лег на постель. Расслабился и заснул.
Проснулся я от громкого возгласа.
– Вот он, Саша! Я же говорил тебе, что Пётр Афанасьевич обязательно приедет, а ты не верила. Мы ожидали вас до обеда, ведь поезд приходит утром. А потом ушли к себе. Мы живем теперь в другом месте, тоже в доме миссии, на квартире одного знакомого, недалеко отсюда.
– Меня носильщик завел не туда, а потом еще рикша долго возил по городу, – объяснил я свою задержку.
– И сколько вы заплатили этим бандитам?
Я назвал сумму.
– Боже мой! – воскликнул Иван Иннокентьевич. – Вы переплатили им втрое!
Мой друг наконец понял, что не мешало бы поздороваться, и ринулся ко мне с распростертыми объятиями. Мы обнялись и трижды по русскому обычаю расцеловались.
За полтора года разлуки Золотов сильно изменился. Он еще более полысел и как-то усох, хотя энергия по-прежнему била из него ключом.
Александра Николаевна внешне осталась прежней, только стала еще задумчивей.
Она протянула мне руку, но не для поцелуя, а для пожатия. И я поприветствовал ее как старого товарища.
– А вы, Пётр Афанасьевич, совсем не походите на русского эмигранта. Прямо вылитый европеец. Судя по вашему виду, у вас все в порядке. Но что тогда побудило вас вернуться в эту дикую Азию?
Я сцепил руки и хрустнул пальцами, а потом резко ответил:
– Семья.
– Что? – переспросил меня Золотов, словно ослышался.
– Семья. Жена и сын, – четко повторил я.
– Так что же, вы собираетесь ехать за ними туда? – он махнул рукой на север. – К Советам?
Я кивнул.
– Вы самоубийца! – вскрикнул Иван Иннокентьевич. – Не знаете, на что идете. На верную смерть! Пытки и мучения! Неужели вам мало примеров несчастного Колчака, Полыхаева, других министров Сибирского правительства? У большевиков теперь разговор короткий. Если враг, то сразу к стенке. Их ЧК страшно лютует. Почитайте здешние газеты, и вы узнаете, что население сибирских городов сократилось вдвое. Все уехали за границу? Но здесь нас малая толика, а большинство честных и благородных людей погребено по оврагам в братских могилах без крестов. Массовые расстрелы без суда и следствия, безжалостное подавление крестьянских восстаний, поругание церквей, доносительство, битком забитые тюрьмы и тотальный страх – это и есть диктатура пролетариата! Мой вам совет – забудьте о ваших родных. Вы еще молодой человек, сможете устроить жизнь заново. А так только навредите своим близким. Ведь ваша жена сама выбрала их жизнь.
– Она уже передумала и признала свою ошибку. Полина не может жить с палачом.
– Ладно, ладно, – пробормотал Золотов. – Если вас не смог убедить я, так, может быть, послушаете совета других знакомых вам людей. Знаете, приходите завтра к нам на ужин. Специально для вас я соберу гостей… Значит, договорились. Без четверти семь я пришлю за вами кого-нибудь.
Запах мелко изрубленного мяса с луком и чесноком, запах муки и только что раскатанного теста, в общем, всего того, из чего готовят самое знаменитое сибирское блюдо – пельмени, резко контрастировал с постной едой, какой кормили в миссии. И я сразу почувствовал приступ дикого, первобытного голода.
– А вот и Пётр Афанасьевич, – радостно поприветствовал меня хозяин. – А у меня для вас сюрприз!
Он распахнул дверь в залу:
– Вот, господа, полюбуйтесь, каким франтом стал господин Коршунов! Не чета нам, азиатам.
С дивана поднялся седой старик с взлохмаченными поредевшими волосами. Поправив пенсне, он, щурясь, протянул мне дрожащую руку.
– Вы не представляете, голубчик, как я рад видеть вас живым, здоровым и таким молодцом, – сказал он.
Я узнал его только по голосу. Пётр Васильевич Муромский сильно постарел.
Он заплакал. Я тоже чуть не пустил слезу, но сдержался.
– А мне, как видите, так и не довелось уехать в Швейцарию. Правительство снабдить деньгами мою поездку не успело по причине его низвержения. А моих скромных сбережений едва хватило, чтобы осесть в Китае. Да и они, честно признаться, уже иссякли. Приходится браться за любую работу, чтобы прокормить жену и дочь. Вообще-то мы живем сейчас в Тяньцзине, до этого – в Шанхае, а в самом начале эмиграции, как и все, жили в Харбине. Но оттуда пришлось уехать – китайцы могли нас арестовать и выдать большевикам. Здесь это теперь часто случается. Из Шанхая же мы уехали по причине слишком жаркого климата. Мои девочки, Сонечка и Зиночка, очень тяжело переносили жару и высокую влажность. Сейчас снова думаем перебраться в Харбин. Все-таки там больше русских, легче устроиться на работу. Да и аресты вроде бы прекратились. Хотя, наверное, везде хорошо, где нас нет, – грустно пошутил Муромский.
– А здесь я в командировке, – продолжил он свой монолог, – по делам типографии миссии. Я теперь служу юрисконсультом в этом предприятии. Иван Иннокентьевич тоже причислен к типографии, но пока без определенной должности. Так что мы с ним снова в одной лодке. А супруга его трудится корректором здесь же. Правда, жалованье платят небольшое. Да и дела у товарищества идут не слишком удачно. Только книгу профессора Гинса «Сибирь, союзники, Колчак» быстро распродали, а другие издания залеживаются…
Муромский, наверное, говорил бы еще. Чувствовалось, что ему хочется поведать новому человеку о своем нелегком житье. Но Золотов, извинившись, прервал речь своего бывшего патрона, взял меня за руку и повел на балкон.
– Можно нарушить ваше уединение, Виктор Николаевич? – спросил он у стоящего на балконе.
В ответ снаружи шире распахнули дверь. Золотов подтолкнул меня к балкону.
– Идите один. Я не хочу вам мешать.
Я вышел на воздух и невольно зажмурился. Настырное солнце никак не хотело уходить с небосклона и, несмотря на вечер, палило с дневной силой.
Он стоял на фоне светила. И хотя он сильно похудел, осунулся, сбрил усы, и поэтому выглядел каким-то особенно одиноким, я узнал его сразу. Это был казачий полковник Виктор Вдовин. Только теперь он был одет в простую льняную рубаху и больше не был для меня врагом. А кем? Другом? Наверное, все-таки нет. Просто – еще одним собратом по несчастью.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Как вы здесь оказались?
– Долгая история.
Больше я не знал, о чем его спрашивать, боялся затронуть какую-нибудь личную трагедию. И как потом оказалось, правильно сделал. Он же сам о себе ничего не говорил. Так мы и простояли в полном молчании, глядя на пекинский закат.
Александра Николаевна позвала нас к столу. Под пельмени мы распили бутылку русской водки, выпущенной в Китае. И даже от малого количества спиртного все захмелели. Видимо, из‑за жары. Пельмени получились очень вкусные, и все быстро наелись.
Чтобы заполнить время перед чаем, хозяйка предложила гостям сыграть в лото, но не нашла поддержки. Тогда Иван Иннокентьевич, верно угадав общую потребность, сказал:
– А давайте, господа, каждый расскажет, какими судьбами он оказался здесь.
Всеобщее молчание бывший министр снабжения воспринял как согласие и начал рассказ первым.
Эмигрантские судьбы
И. И. Золотов
В смутные январские дни 1920 года, когда в Иркутске шли повальные аресты деятелей Омского правительства, я встал перед выбором: остаться на родине, отдавшись на милость победителей, или же эмигрировать на чужбину и попытаться начать там новую жизнь. Как ни старался я отыскать в большевистском царстве положительные черты, но ничего, кроме беспросветного рабства и беспрерывного угнетения человеческой личности, в их «светлом» будущем не видел. Потому мы с женой и решили обратиться за помощью к чехам, чтобы выехать на восток.
Они нам помогли. Прислали автомобиль к дому, привезли на станцию и в пассажирском вагоне четвертого класса, прицепленном к интендантскому эшелону, супруге и мне выделили по спальному месту. В нашем купе ехал еще чешский офицер с русской женой. Так что поговорить было с кем. Мне тоже выдали френч и брюки защитного цвета, в них я выглядел как настоящий чешский доброволец, а также сапоги, шапку и шинель. Нас приняли на полное довольствие. Кипяток, обед, ужин, консервы, чай, кофе, сахар, мыло и папиросы. В общем, мы получали все, что полагалось чешскому солдату.
Однажды красноармейцы хотели осмотреть наш вагон, но чехи их внутрь не пустили, заверив, что посторонних в нем нет.
До Харбина мы добирались больше двух месяцев. Наши гостеприимные спасители предлагали нам проследовать с ними дальше, до Владивостока, чтобы затем на пароходе отправиться в Европу, но мы с женой отказались и предпочли остаться в Китае, чтобы быть поближе к любимой Сибири, в надежде, что советская власть окажется недолговечной, и можно будет скоро вернуться на родину.
Мы сдали вещи в камеру хранения на вокзале и отправились на поиски дешевой гостиницы. Оказалось, что денег, которые у нас были при себе, хватает только на четыре дня проживания в самом захудалом номере. А еще надо было на что-то питаться!
Озабоченный своим нищенским положением, на следующее утро я отправился на поиски более дешевого жилья один. Но везде цены были еще выше, чем в нашей гостинице. Удрученный, я случайно зашел в Русско-Азиатский банк, чтобы отдохнуть на этом малом островке родины. И неожиданно встретил своего старого знакомого по Иркутску, когда-то занимавшего должность главного бухгалтера в Ленском золотопромышленном товариществе. Я поведал ему о своих проблемах, и земляк пригласил меня в гости. Он с женой и дочерью занимал целых пять комнат в благоустроенной квартире, аренду которой оплачивало Лензолото. А на следующий день они всей семьей уезжали отдыхать на море на все лето.
– Вы можете спокойно пожить здесь до самого сентября. Отопление, освещение и даже прислуга оплачены товариществом на год вперед. А к тому времени, глядишь, подыщете себе какую-нибудь работу, – предложил мне мой знакомый.
Я готов был расцеловать его от счастья и еще долго тряс ему руку в знак благодарности.
Так само провидение пошло нам навстречу в начале эмиграции и скрасило первые тяготы.
Затем я много ездил по Китаю в поисках хорошего места, но нигде ничего постоянного не нашел. До сих пор с женой перебиваемся случайными заработками и, как видите, проживаем в бесплатной квартире Русской духовной миссии.
Правда, возможно, к осени наша жизнь изменится. В Тяньцзине создается общественное коммерческое училище, и моя кандидатура рассматривается на должность его директора. Но это пока только прожекты.
– Хороши прожекты. Мне б такие! – позавидовал Пётр Васильевич и попрекнул своего бывшего министра: – Вы, Иван Иннокентьевич, можно сказать, еще хорошо устроились, а все равно прибедняетесь. У вас одних случайных заработков больше, чем у чиновника жалованья. Один только гонорар за книгу профессора Гинса о союзниках и Колчаке сколько составил? Молчите. Ну и правильно. Вам ли, голубчик, знать, что такое настоящая нищета! Это когда домой идти не хочется, потому что там жена с дочерью голодными сидят, а у тебя в кармане ни гроша. Когда доченька, моя ласточка, моя кровиночка, мечется в болезненном бреду, а ни врача вызвать, ни лекарств купить не на что.
Золотов покраснел. Ему было жаль бывшего премьера, но он не знал, как ему помочь. Ведь в том горестном положении, в каком оказалось семейство Муромских, была и доля вины самого Петра Васильевича. (Об этом мне поведал Иван Иннокентьевич по секрету, когда вечер откровений закончился.) Глава семьи не смог освоиться в изгнании. Никто его не сторонился, наоборот, многие пытались помочь, чем могли. И зачастую Пётр Васильевич получал высокооплачиваемую работу, только на ней долго не задерживался. И виной тому было его пристрастие к спиртному и азартным играм. Фортуна, похоже, окончательно отвернулась от Муромского. Он перестал выигрывать вообще, а его страсть к игре превратилась в манию.
– Да какие у нас гонорары! – попробовал отшутиться Золотов. – Вот у профессора Устрялова[189], вот у того гонорары, а у нас так, слезы.
Хозяин успешно перевел разговор. Выбор объекта для обсуждения оказался чрезвычайно удачным, все собравшиеся тут же поспешили выразить свое отношение к этому господину.
– Это отъявленный негодяй и проходимец. Человек без убеждений. Флюгер. Идеолог колчаковской диктатуры теперь пресмыкается перед большевиками! – взорвался Муромский.
– Нет, вы ошибаетесь, Пётр Васильевич, – не согласился с ним Золотов. – Как раз Устрялов последователен, как никто другой. Мы с вами – областники, исповедуем принцип децентрализации власти, а он, наоборот, ярый центрист. И для него нет разницы, под каким флагом осуществляется эта централизация: под имперским романовским штандартом или красным знаменем революции. Он искренен, полагая, что советская власть выполняет чисто русские национальные задачи, собирает единую Россию наподобие Ивана Калиты[190], и потому заслуживает всяческой поддержки. Его поэтому и называют «сменовеховцем», ведь содержание, по сути, осталось прежним.
Мне понравился комментарий Золотова. Иван Иннокентьевич всегда славился своим умением разглядеть подноготную любого, даже самого сложного, явления, каким бы словоблудием его ни прикрывали. И я рассказал о своей встрече с одним русским человеком на Гавайских островах.
– Это старый революционер, эмигрант прежних времен, доктор. Его фамилия Руссель. Одно время он был даже президентом Гавайской республики. Так вот, он считает, что большевизм у нас вырос на почве темноты и невежества русского народа, а также вследствие неумеренного его пристрастия к алкоголю. На мой взгляд, весьма точное наблюдение!
Мне никто не возразил, и о своем пути в эмиграцию поведал председатель Сибирского правительства.
П. В. Муромский
Меня должны были арестовать одним из первых. Так, в сущности, и произошло. Еще 5 января днем, когда я отправился хлопотать о вагоне, чтобы выехать из Иркутска в Читу, прямо на улице ко мне подошел офицер и наставил на меня револьвер.
– Вы гражданин Муромский?
– Да, я.
– Именем Политического центра[191] я вас арестую на квартире.
Я не стал сопротивляться и послушно пошел за ним. По дороге к нам присоединился еще один солдат.
– А в какую квартиру вы меня ведете? – поинтересовался я у конвоиров.
– В вашу! – ответил офицер.
– Ну тогда нам надо идти в другую сторону, – сказал я и повел конвой к себе домой.
– У вас есть оружие? – спросил меня офицер.
– При себе нет, но дома есть.
Страж революции задумался, он никак не ожидал от главы реакционного правительства такой покладистости.
– Если вы добровольно отдадите нам оружие, то мы освободим вас от ареста. Пока нам нужно только оружие.
На квартире я безропотно отдал два своих пистолета: большой казенный кольт и личный малый браунинг.
Стражники были удовлетворены и отправились дальше по своим делам, а я – по своим.
Но вскоре после Рождества Политическим центром был выпущен манифест, в котором наше правительство однозначно трактовалось как реакционное, призвавшее на службу прежних жандармов, расхитившее золотой запас и ставившее своей целью реставрацию монархического строя. Всех его ответственных руководителей предлагалось предать суду присяжных.
Что я мог возразить против этих нелепых обвинений? Оправдываться перед демагогами с винтовками, особенно когда на их стороне право сильного, было бессмысленно. А сидеть сложа руки и ждать, когда за тобой придут и отведут в тюрьму, было глупостью.
Я дошел даже до главнокомандующего союзными войсками генерала Жанена, но он меня не принял. И я понял, что ни от французов, ни от чехов помощи мне ждать не придется. Тогда я обратился в японскую военную миссию, и там мне помогли. Оставили на ночлег, возвращаться на квартиру мне было уже опасно. Все колчаковские министры подлежали аресту. На следующий день переправилась на лодке через Ангару с вещами моя жена. Нас разместили в вагоне третьего класса, где уже нашли себе приют семейства Гинса, Гаттенбергера[192] и Устрялова. Тогда профессор-перевертыш сильно переживал за собственную жизнь, потому был нем как рыба. Это сейчас он поет дифирамбы советской власти. Иуда! Иезуит! А тогда трусил больше всех.
Революционные рабочие тоже пытались обыскать наш вагон, но японцам удалось отстоять честь своего флага, и они никого внутрь не пустили. Правда, по дороге до Верхнеудинска проводник разморозил трубы, и потом целую ночь пришлось ехать в совершенном холоде.
В Чите мы побывали у атамана Семёнова, который встретил нас очень любезно и обещал всякое содействие при пересечении границы. Японцы снова предложили свои услуги и совершенно бесплатно вывезли нас из Читы в Харбин, более того, снабдили двумя ящиками сахару и дюжиной бутылок хорошего вина. Очень воспитанные и любезные люди. Напрасно я настороженно относился к ним во время своего премьерства. Если бы мы сделали ставку на Японию, а не на Антанту, нам бы наверняка удалось отстоять Сибирь.
Вначале мы остановились в Харбине. Я снял две комнаты в русской части города за достаточно умеренную цену в романовских рублях. Тогда еще российские деньги не обесценились и не было огромного наплыва беженцев.
Но вскоре и сюда стали приходить тревожные вести. Новость о расстреле Колчака и Полыхаева всколыхнула весь Харбин. На панихиде по убиенному адмиралу собралось много народа. Но чехов и представителей демократии не было.
В харбинских газетах началась травля членов правительства Колчака. Вдобавок из Владивостока прибыла делегация от пробольшевистской Приморской земской управы с требованием к китайским властям выдать ей трех министров-реакционеров: Гаттенбергера, разогнавшего Сибирскую областную думу в Томске в сентябре 1918 года, профессора Гинса и меня.
Мы вынуждены были бежать в Дайрен, потом в Шанхай, потом в Тяньцзинь. И вот теперь, когда все более или менее успокоилось, думаю обратно перебраться в Харбин. Все-таки здесь осталось хоть немножко России.
Пётр Васильевич умолк, а после некоторой паузы добавил лично для меня:
– Вы представляете, Пётр Афанасьевич, эти наглецы-большевики еще смеют клеветать на меня, что, дескать, я перед самым падением Омского правительства сам себе выписал из государственного казначейства 25 тысяч золотых рублей и теперь шикарно проживаю в Харбине. Вы видите этот потертый сюртук, эту застиранную манишку, эти засаленные манжеты? Разве я когда-нибудь так одевался? В Томске я заказывал костюмы у лучшего портного и даже выписывал их из Санкт-Петербурга. В Омске у меня не было времени ходить к портным, выручал прежний гардероб. А сейчас я выгляжу как оборванец! В Сибири мои собаки питались лучше, чем моя семья питается сейчас. Боже! Как мне вынести все это! Я не могу, не могу больше так!
Муромский забился в истерике, ударяясь головой о стенку. Вдовин и Золотов навалились на него с двух сторон и придавили его к дивану. Но Пётр Васильевич разбил-таки себе голову, из-под редкой седой шевелюры стекала струйка крови.
Хозяйка обвязала полотенцем голову несчастного. Постепенно припадок прошел, тело обмякло, а губы зашептали извинения.
В такой гнетущей атмосфере мне пришлось начать свою историю.
П. А. Коршунов
У меня все было гораздо прозаичнее, господа.
Оставив Верховного правителя и премьер-министра в вагоне на станции Иркутск накануне их ареста, я без проблем прошел через оцепление. Помогло знание чешского языка.
Оказавшись на свободе, я направился к незамерзшей еще Ангаре, сел на занесенную снегом перевернутую рыбацкую лодку и задумался: куда идти?
Вернуться в Черемхово и попытаться, пока Чистяков в Иркутске, увезти семью? Но ведь наверняка Полина со мной не поедет. Не успел еще ее новый избранник из героя-революционера превратиться в душегуба-палача. Для этого нужно время. Идти к вам, Иван Иннокентьевич? Но зачем вам нужна лишняя обуза? А своим появлением я мог скомпрометировать в глазах новой власти кого угодно. Ваши дороги с диктатором разошлись уже давно, а моя только что. Искать вас, Пётр Васильевич? Но я не знал, на свободе ли вы и живы ли вообще?
– И правильно сделали, что не искали, мы уже подъезжали в это время к Верхнеудинску[193], – подал голос лежащий на диване с мокрой повязкой на лбу Муромский.
Поэтому я не стал создавать ни для кого лишних трудностей, а просто подошел к коменданту первого чешского эшелона, рассказал ему по-чешски свою историю, сделав упор на то, что я родился и вырос в Праге. Тот выслушал перипетии моей судьбы и без всяких условий принял меня на довольствие в свой эшелон.
Так я оказался во Владивостоке и на первом же пароходе уплыл с чехословацкими легионерами на их родину.
Я тщательно следил за событиями в России, а особенно в Сибири. Меня потрясли зверства чекистов в сибирских городах. А когда Красная армия потопила в крови крестьянское восстание в Тобольской губернии, я понял, что пора. Большевики сполна проявили себя, показали народу свое истинное лицо. И теперь двух мнений на их счет быть не может.
Я добрался до английского Портсмута, там сел на пароход до Нью-Йорка. Потом через всю Северную Америку на поезде до Сан-Франциско. Затем пароход до Иокогамы. И вот я у вас, в Пекине.
– Да, хорошее у вас путешествие! – высказался молчавший доселе Вдовин. – И вы что, всерьез собираетесь сунуться прямо в пасть к большевикам?
Я утвердительно кивнул головой.
– Вы не представляете, на что вы идете, какой опасности вы подвергаете себя и своих близких. Если вам безразлична ваша жизнь, то подумайте хотя бы о жене и сыне. Я бы сейчас отдал всё, только бы не быть одному на этом свете. Не повторите моей ошибки, Пётр Афанасьевич.
И он рассказал свою жуткую историю.
В. Н. Вдовин
Казачий корпус, к которому я был прикомандирован, прикрывал отступление на восток наших войск и союзников вдоль Сибирской железной дороги. После мятежей в частях Сибирской армии в Новониколаевске, Томске и Красноярске фронт для нас оказался со всех сторон. И даже отступление зачастую походило на наступление.
Союзники стремились первыми унести ноги из вздыбленной Сибири. Чехи, охранявшие железную дорогу, в первую очередь пропускали свои эшелоны, а поезда с нашими беженцами и ранеными застревали на станциях и полустанках без топлива и продовольствия, превращаясь в братские могилы. У кого оставались силы, те уходили из холодных и голодных вагонов пешком в тайгу. Иным удавалось добраться до какой-нибудь деревни, и они выживали. А кто оставался в поездах, дожидался только смерти.
Если бы вы знали, господа, сколько таких эшелонов, занесенных снегом, осталось на сибирской магистрали. Не десятки, а сотни! И все были битком набиты женщинами, калеками и детьми! Вечная им память. Пусть Господь успокоит их страдальческие души.
Меня магнитом тянуло к этим поездам, потому что на одном из них я оправил из Омска свою Марусю. В надежде, что хоть она спасется из этого ада. Но когда я увидел, что творится на железной дороге, то понял, что она в гораздо большей опасности, чем я. Подо мной был крепкий конь, я был хорошо вооружен, и под моим началом находилась сотня лихих казачков, которые просто так, без боя никакому врагу б не сдались. А она, горемычная и беззащитная, одна в остывающем вагоне посреди глухой тайги. Я проверил много поездов и все-таки отыскал ее на станции Болотной. Она сидела перед замерзшим окном, вся продрогшая, и ждала меня.
Весь вечер я отпаривал ее в бане, отпаивал горячим чаем с целебными травами, а на ночь смазал ей тело чистым спиртом. И она отошла, моя голубушка. Правда, сильно кашляла, но жизнь в нее вернулась.
На другой вечер был жуткий бой на подступах к станции Тайга. Там скопилось много эшелонов, не успевших уйти на восток. И даже не все союзники еще эвакуировались. Это были польские части.
Им пришлось выгрузить с платформ свои броневики и бросить их в бой. Но силы красных намного превосходили нас, и через два часа все было кончено. Осколком снаряда меня ранило в плечо, но я продолжал держаться в седле, успел заскочить в землянку, усадил Марусю впереди себя и галопом помчал на станцию.
Еще бы минута, и мы бы не успели. Под артиллерийскую канонаду и крики бегущих к станции рабочих уходил на восток последний польский эшелон. Его осаждало много народа. Но на каждой вагонной площадке стояли часовые и штыками отгоняли толпу. Я пришпорил коня и поравнялся с набирающим ход вагоном. Часовой и в мою сторону направил штык: дескать, не вздумай запрыгнуть. Но стоящий рядом с ним офицер, с которым мы полчаса назад сражались против красных плечом к плечу, приказал ему по-польски, и солдат, отставив винтовку, помог вначале взобраться на подножку моей жене, а потом и мне. Воронок еще долго скакал за поездом, пока не увяз по грудь в снежной целине.
Но другая картина больше поразила меня. Она до сих пор стоит перед моими глазами. Поезд еще шел медленно, и за нашей площадкой семенил старый полковник, а за ним его жена и дочь. Он упрашивал, молил поляков пустить их в вагон, но получил отказ.
И тогда произошло невероятное. Старый служака резко остановился, вынул из кобуры револьвер, перекрестился и на глазах у всех убил вначале жену, потом дочь и застрелился сам. Их тела так и остались лежать на рельсах, с разбросанными вокруг узлами и чемоданами, пока не набежали красногвардейцы и не стали разворовывать багаж и раздевать еще не остывшие трупы.
Мое ранение хотя и не вызывало опасности для жизни, но все равно требовало лечения. И меня положили в поездной госпиталь. Маруся дневала и ночевала возле моей постели. Я часто бредил, терял сознание, поэтому, как мы доехали до Читы, я не помню.
Оказавшись на территории, подконтрольной атаману Семёнову, я без всяких раздумий остался там и пошел к нему на службу. Читинская власть представлялась мне незыблемой. С одной стороны, это была наша, казачья, власть, без всяких там интеллигентских выворотов, а с другой – поддержка японцев гарантировала защиту от большевиков. Да и какие Советы рабочих депутатов возможны в чисто казачьем крае!
Но уже в середине лета японцы объявили об эвакуации Забайкалья. Командир нашей дивизии (ее еще называли Азиатской за обилие в ней монголов и бурят) барон Унгерн[194] быстро осознал, что без японцев этот огромный край не удержать, и со станции Даурия походным порядком двинул свои полки в пределы Внешней Монголии.
Он намеревался образовать Великое монгольское государство, в которое кроме Внешней и Внутренней Монголии[195] вошла и часть русского Забайкалья. Было даже создано временное правительство, которое возглавил живой бог одного из монгольских монастырей. Себе же барон отвел скромную роль главнокомандующего армией, но фактически стал диктатором. Своей столицей он наметил город Ургу.
Только китайцы были против этих его планов. Еще осенью 1919 года они попытались ликвидировать автономное положение Внешней Монголии и ввели туда свои войска.
Таким образом, в русскую Гражданскую войну оказались вовлечены кроме Антанты еще и азиатские государства, а для нас кроме красных врагами стали еще и китайцы.
Барон Унгерн был очень суеверным человеком, всегда общался с ламами и ворожеями, верил в сверхъестественные и потусторонние силы. Он был настоящим фанатиком самодержавия. Хотел восстановить все павшие монархии мира. Бордо-Гегенов в Монголии, династию Цин – в Китае, Романовых – в России, а Гогенцоллернов[196] – в Германии. Своим злейшим врагом он считал Запад, породивший социалистов и коммунистов. Европа одержима безумием революции, а спасение к ней придет из Азии. Именно здесь должен появиться современный Аттила[197], который под лозунгом «Азия для азиатов» соберет несметные полчища и как новый Чингис-хан пройдет по старому, больному континенту, вразумив обезумевших европейцев.
Он беспощадно истреблял большевиков и евреев. Был чрезвычайно жесток и со своими подчиненными. За малейшее неповиновение – казнь. Китайцы боялись его и называли демоном. Ему вначале везло. Из Урги удалось выкрасть монгольского живого бога, а потом с войском, в десять раз меньше, чем у державших оборону китайцев, захватить и саму монгольскую столицу. Если бы не предательство монгольских князей, хитростью пленивших барона и выдавших его красным партизанам, он бы еще долго сеял ужас на бескрайних монгольских просторах.
После его пленения монголы и буряты разбрелись по домам, а нам, русским, идти было некуда.
В нашей группе таких же, как я, безродных и бездомных насчитывалось вместе с женщинами и детьми 150 душ. Одни предлагали идти назад в Россию, покаяться перед красными, авось, простят. Но мало кто из казаков верил в большевистскую милость. Другие советовали идти на юг, через пустыню Гоби и китайскую провинцию Ганьсу, к Гималаям, в Индию, уверяя, что только там мы найдем спасение. Я был сторонником похода на восток, по слухам, в Приморье власть перешла к белым.
Дело дошло до жаркого спора, а потом и до перестрелки. Похоронив погибших товарищей, наш отряд разделился. Первые пошли на север, сдаваться красным. Вторые – на юг, в Индию. А мы через безводную пустыню Гоби – на восток, в Приморье, к своим.
Без всяких дорог, по мрачной пустыне, переходы совершали только по ночам, чтобы нас не обнаружили красные. Пили мутную солоноватую воду из пересохших колодцев, забивали лошадей и ели сырое мясо, варить его было не на чем.
Измученные длительным, изнурительным переходом, мы наконец-то вышли к китайской границе. Но китайцы встретили нас неприветливо. Они потребовали от нас сдать оружие. Мы отказались.
Нас окружили восемь эскадронов китайской конницы общей численностью полторы тысячи сабель.
Я скомандовал своим казакам:
– Шашки вон! В атаку!
И мои изможденные кавалеристы на усталых лошадях понеслись на китайцев, имевших двадцатикратное преимущество. Те растерялись от такой наглости и в панике бросились врассыпную.
Нам оставалось дойти до железной дороги всего 150 верст[198]. Там бы мы сами сложили оружие. Но китайцы сильно обозлились на нас и, собрав еще больше сил, стали преследовать с боями наш отряд.
У нас была одна трехдюймовая пушка, четыре пулемета и винтовки. У одной деревни китайская армия взяла нас в кольцо, и нам пришлось дать сражение. Мы потеряли 15 человек убитыми и 20 ранеными, но вырвались. Заночевали в одной деревушке, а когда проснулись, то оказались окруженными со всех сторон китайцами. Противнику удалось захватить наш обоз, и они перерезали всех наших раненых. Лишь немногим удалось вырваться живыми из деревни. Китайцы их преследовали и безжалостно добивали.
Мы засели на вершине холма. Пулеметчик с перебитыми ногами, Маруся и я, раненный в живот. Прячась за тушами убитых лошадей, мы отстреливались до последнего патрона. Шансов на спасение у нас не оставалось никаких. Патроны заканчивались, а осмелевшие китайцы уже шли по направлению к нам, не сгибаясь, в полный рост.
И тогда я посмотрел на жену и сказал:
– Маруся! Мое ранение смертельно…
Моя умная жена поняла с полуслова и попросила пулеметчика застрелить меня. И когда казак уже поворачивал дуло «максима»[199] в мою сторону, Маруся выкрикнула мне:
– Виктор, ты же не оставишь меня на поругание китайцам!
И я выстрелил, господа, прямо ей в сердце. Она улыбнулась как ангел и упала на пропитанную кровью землю.
А пулемет заклинило, и китайцы оглушили нас прикладами.
И я не умер. Два месяца провалялся в тюремном лазарете. Китайцы нас не расстреляли и не выдали красным, а отправили в Харбин, а оттуда во Владивосток, к нашим.
А Маруси нет. Я сам убил ее своими руками. Как еще многих и многих людей. Русских, евреев, монголов, китайцев… Мои руки по локоть в крови. А Господь меня спас. Только для чего мне нужна такая жизнь? Все мирское мне чуждо. Остается только служение Господу. Это он послал мне наказание за все мои прегрешения. Покаяние и смирение – вот теперь мой единственный путь. Посему, господа, я решил постричься в монахи.
А тебе, мой крестник (спасибо Господу, что ты выжил, Пётр Афанасьевич), настоятельно советую, если любишь жену и сына, то откажись от них. Это твой крест и твое раскаяние.
– Но я не могу этого сделать. Я сердцем чувствую, что должен поехать за ними в Россию.
– Что ж, ты упрям, безрассуден, значит, еще живой. И ты еще не насытился кровью. Тогда поезжай в Харбин, отыщи там Анатолия Полыхаева. Говорят, что командарм набирает добровольцев в новый поход против красных. Кажется, в Якутию, – сказал Вдовин.
– И точно! – согласно закивал Иван Иннокентьевич. – Как же я забыл про господина Полыхаева. Только вам стоит поторопиться, потому что они уже зафрахтовали во Владивостоке теплоход и вот-вот отплывут.
Глава 6. Дороже золота
Жаклин задерживалась. Время обеда уже давно прошло, а ее все не было. За окном моросил мелкий осенний дождик, и, выглянув на улицу, сложно было определить, который сейчас час.
О времени Сергей задумался, когда закончил читать оставленные ему прадедовы тетради, и сразу почувствовал, что голоден. Он посмотрел на часы. Так и есть. Четверть шестого.
«Странно, – подумал он. – Неужели она так долго может сидеть в архиве?»
Он позвонил ей на сотовый телефон. Ласковый женский голос ответил ему что-то по-французски, типа «Абонент выключил свой телефон». Сергей еще больше удивился и уже начал немного волноваться: не случилось ли чего с ней? Но потом отогнал страхи, решив, что Жаклин просто засиделась в архиве или в библиотеке, обнаружив что-то очень интересное, и потеряла счет времени. С ним такое тоже случалось, когда он с головой уходил в работу.
Но делать-то все равно было нечего! Он попробовал посмотреть телевизор, но на пятидесяти каналах кабельного телевидения так и не нашел ничего, достойного внимания.
«Стоп! – поймал он себя на мысли. – Ведь Жаклин говорила, что привезла окончание рукописи. Но ведь я не дочитал ее до конца. Значит, у нее еще есть тетради!»
Рыться в чужих вещах некрасиво, но ему так хотелось узнать, чем закончится трагическая и одновременно увлекательная история любви и скитаний его предка!
Вначале он тщательно осмотрел стопки бумаг на столе, затем внутри его. Подбор документов его немного насторожил: копии постановлений ВЧК по Томской губернии, план старого Томска, на котором красными крестиками были отмечены некоторые дома, и целые папки различных справок, донесений, реестров, актов и постановлений относительно передвижения по Сибири золотого запаса бывшей империи, его расходования белыми и собирания остатков красными.
Пронзительный звонок телефона заставил его вздрогнуть. Словно его застали на месте преступления.
Это звонила Жаклин.
– Серёженька, милый, извини, пожалуйста. Но я вынуждена задержаться. Меня пригласил на ужин ваш вице-мэр. Сам понимаешь, от такого предложения нельзя отказаться. Родной, ты уж поешь без меня. Сходи в ресторан или закажи еду в номер. Только не сиди голодным. А я, как только смогу, сразу вырвусь. Я по тебе сильно соскучилась.
А потом добавила особенно ласково:
– Я тебя люблю.
– Я тоже, – ответил он и вздохнул.
Ни в какой ресторан он, конечно же, не пошел, зато окончание рукописи стал искать с еще большим упорством. Внизу платяного шкафа стоял ее огромный пластиковый чемодан. Сергей вытащил его на середину гостиной и вначале обшарил карманы и застегнутые на молнию внешние отделения, но без результата.
Сам же чемодан был закрыт на трехзначный кодовый замок. Комбинация из трех нулей, установленная изготовителем, которую незатейливые туристы, как правило, не меняют, не сработала. Как и другие три одинаковые цифры. Код Жаклин не содержал ни дату ее рождения, ни ее матери.
«Что же она могла зашифровать? – ломал он голову. – Может быть, какой-нибудь год?»
Он набрал 920, год краха Омского правительства, но чемодан не открылся. 918 (год провозглашения Сибирской республики) – тот же результат. 922 (возвращение Петра Коршунова в Азию) – нет. 917 – замок не поддался. Тогда он набрал на замке годовщину первой русской революции, черносотенного погрома в Томске, когда его прадед познакомился с его прабабушкой, и раздался щелчок.
Две пожелтевшие тетради лежали на самом дне под грудой целлофановых пакетов с вещами. Одна большая в твердом переплете, как и все предыдущие, а другая – маленькая, ученическая, в клеточку. Эта последняя тетрадь явно была написана его прадедом. Тот же почерк, те же завитушки на концах букв, только вот писал он, похоже, в большой спешке. Иногда строки наползали одна на другую, часто встречались чернильные кляксы и даже орфографические ошибки, чего за профессиональным секретарем Петром Коршуновым прежде не замечалось.
Сергей оставил тоненькую тетрадку в чемодане, потому что из беглого ознакомления с ней понял, что там речь идет о Праге времен Второй мировой войны. Зато в толстой тетради продолжалось описание китайских встреч. Открыв вторую пачку печенья, он вновь улегся на диван и погрузился в грозные годы Гражданской.
Бывший командарм сидел на месте кучера, подперев подбородок кулаком, сжимавшим кнут, и в задумчивости выслушивал рассказ о моих злоключениях. Внезапно хлынул дождь, и он легко перепрыгнул ко мне на пассажирское сиденье.
Отряхивая со своей пышной русой шевелюры дождевые капли, как большой и добрый пес, Анатолий Полыхаев лукаво улыбнулся в усы и сказал:
– Так ваша семья ныне проживает в Томске? Товарищ Чистяков теперь большая шишка у большевиков. Начальник губернского ЧК – у них почти бог. Он карает и милует. Хотя больше все-таки карает. И вы собираетесь увести у него из-под носа жену?
– Мою жену, – поправил я Анатолия Николаевича.
– Ваше мнение там ничего не значит. Главное, что он считает ее своей.
Он покачал головой.
– Вы – не просто отважный. Вы – безрассудный человек… Впрочем, мне такие и нужны. Только отъявленные авантюристы могут свергать царей и создавать новые государства. Если бы большевики не были такими, ничего бы у них не вышло. А вон гляди – царствуют. Только и на старуху бывает проруха. Рано они победу празднуют. Скоро их кровавое пиршество закончится. Терпение у народа не железное. Сейчас якуты поднялись, потом, глядишь, и до бурят черед дойдет, да и у русского мужика когда-нибудь терпение лопнет.
Он еще раз испытующим взглядом смерил меня и переспросил:
– Значит, деньги вам не нужны? В эмигрантской среде это большая редкость. Почти все наши соотечественники на чужбине задыхаются от безденежья и готовы взяться за любую работу, чтобы выжить.
Видите, даже я, бывший командарм, тружусь простым извозчиком.
Он вновь хитро посмотрел на меня.
– Иные и на преступление готовы, даже на убийство ради золота.
Я презрительно скривил губы – мне этот разговор начал надоедать – и уже взялся за шляпу, чтобы откланяться, ибо не привык навязываться кому-либо. Но Полыхаев остановил меня:
– Полноте, Пётр Афанасьевич, обижаться. Извините меня за проверку. Дело, какое я хочу вам предложить, весьма щекотливое, связано с очень большими ценностями и потому требует от исполнителя кристальной честности и порядочности. Я понял, что лучше вас мне человека не найти, поэтому предлагаю сотрудничество. Я обеспечу вас самыми надежными документами, чтобы вы смогли беспрепятственно добраться до Томска. Только за это вам придется выполнить очень ответственную и рискованную миссию. От ее успеха будет зависеть в итоге весь мой якутский поход. Ну как, по рукам?
Я согласился.
– Только вы должны пообещать мне, даже поклясться самым святым для вас, что никогда, ни при каких обстоятельствах вы не откроете этой тайны. Скорее умрете, чем раскроете ее врагам.
Пётр Афанасьевич Коршунов растворился на земных просторах, а вместо него из Владивостока в Москву в пассажирском вагоне отбыл в служебную командировку депутат Дальневосточного народного собрания, член партии большевиков с 1904 года, закаленный революционер, прошедший царские тюрьмы и ссылки, Сергей Сергеевич Ленский.
Полыхаев снабдил меня и впрямь надежными документами. Такой общественный деятель во Владивостоке реально существовал, и народное собрание накануне своего роспуска командировало его в Москву для переговоров с правительством Ленина о сохранении автономии края после падения белых. Во Владивостоке уже говорили открыто, что дни демократии в Приморье сочтены. Японцы вот-вот должны были объявить о своей эвакуации. Между тем красные сосредоточивали на границе с Приморьем все новые силы и уже имели двукратное превосходство, а к ним все прибывало подкрепление из Забайкалья.
Настоящего Ленского похитили прямо из вагона на станции Владивосток. Он только успел занести свой багаж в пустое купе, когда подкупленный полыхаевцами проводник за какой-то надобностью пригласил его пройти в задний тамбур. Там его оглушили, забрали все документы и билеты и под вином пьяного в надвинутой на глаза шляпе вывели под руки из соседнего вагона. Я же как ни в чем не бывало занял его место. Благо, по годам, росту и комплекции я почти не отличался от Ленского. Но для пущего сходства с ним мне заранее пришлось отрастить бороду и покрасить всю растительность на голове в рыжий цвет. Теперь различить подмену могли только очень близкие для Сергея Сергеевича люди.
Документы у всех пассажиров красногвардейцы и чекисты в кожаных тужурках проверяли на каждой большой станции, но всякий раз с уважением возвращали их мне, желали приятной дороги до Москвы, а иногда даже просили передать привет товарищу Ленину.
Только на станции Слюдянка произошел инцидент. Здесь был организован особый досмотр. Всем без исключения мужчинам от шестнадцати лет красногвардейцы приказали выйти из вагона и построиться в линию вдоль состава. Латыш в очках долго сверлил глазами мои документы, даже приказал своим подчиненным телеграфировать обо мне в Иркутск, и когда с вокзала прибежал запыхавшийся паренек и доложил, что есть такой Ленский, проницательный чекист с явной неохотой вернул мне паспорт.
Больше десятка мужчин увели под ружьем за здание вокзала на берег Байкала. И вскоре раздался залп, потом еще один, а затем одиночные выстрелы. Видимо, добивали выживших.
Поезд стоял в Слюдянке еще долго, около часу. По вагону взад-вперед шныряли неряшливо одетые рыбачки, предлагая пассажирам купить омуля.
– Лучший байкальский деликатес. Холодного копчения до самой Москвы довезете. А вкуснее омулька горячего копчения ничего на свете нет. Омуль нынче идет отменный. Жирный. Горячего! Кому горячего?
И некоторые пассажиры покупали рыбины и ели с вареной картошкой, луком и хлебом. И их даже не тошнило.
Хотя билет у меня был до Москвы, на станции Тайга я вышел якобы прогуляться и отстал от поезда. На базарной площади легко сговорился с местным крестьянином, согласившимся за тридцать советских рублей довезти меня на своей телеге до Томска.
Ехали больше суток. Крестьянин сделал крюк верст в двадцать и заехал в родное село, для чего пришлось переправляться на другую сторону реки. Там мы заночевали, а поутру с первыми петухами тронулись дальше.
Возница оказался человеком малоразговорчивым. Вероятно, опасался меня. И в начале пути обмолвился, что время сейчас такое, что лучше держать язык за зубами. Потом у телеги подломилось колесо, и мы долго устраняли поломку. И к Томску подъезжали в густых сумерках.
Своего перевозчика я обрадовал, что решил сойти раньше, мол, заночую у родственников в деревне. И он тут же развернул свою подводу и отправился в ночь восвояси.
Полыхаев посоветовал мне в город сразу не соваться, а остановиться в какой-нибудь пригородной деревеньке. Здесь прежде квартировали многие бывшие офицеры, но потом ЧК раскрыла их подпольную организацию, и всех расстреляли. Однако местные жители продолжали сочувствовать белым, потому здесь легче было укрыться и не попасть сразу в лапы чекистов.
Дед Макар из села Тахтамышева, чьи два сына служили под началом Анатолия Полыхаева, оказался жив, здоров и принял меня как родного. Расспрашивать меня ни о чем не стал, попарил в баньке с дороги, накормил жареной картошкой с грибами и уложил спать в бывшей сыновней комнате.
Утром он скептически осмотрел мой внешний вид:
– А волосы-то придется сбрить. А то от корней они черные, а сверху рыжие. Бороду – тоже.
Делать было нечего. Краску для волос я с собой не захватил. И чтобы не бросаться в глаза первому встречному своей разноцветной шевелюрой, пришлось сбрить ее наголо. Я разглядывал свою яйцеобразную гладкую голову в зеркало и не узнавал себя. Совершенно безликий мужичок, каких в ту пору было много по Сибири. Некоторые переболели тифом, другие брили череп, чтобы избавиться от вшей, а третьи просто стриглись под ноль из экономии, чтобы реже ходить к цирюльнику. Облачившись в наряд, презентованный дедом Макаром, я превратился в местного жителя.
Довольный моим преображением, дед сказал:
– Добре. Теперь и в город на базар можно ехать. Картошки нынче урожай. Лучше ее пораньше выкопать да молодую продать, чем дожидаться, пока новая власть даром заберет. Ты же, поди, грамоте обучен, вот и подсобишь мне, старику, деньги считать. А то совсем на глаза слаб я стал. Того и гляди обманут. Теперь не то что в прежние времена, закону нет, вор на воре сидит да вором погоняет.
Лучший для меня способ незаметно попасть в Томск вряд ли можно было придумать.
На следующее утро дед Макар разбудил меня рано, едва забрезжил рассвет.
– Вставай, сынок. На переправу надо поспешать. А то простоим в очереди на паром до обеда, и вся торговля мимо нас пройдет.
Старик хотел поспеть на нижнюю переправу, чтобы сразу выехать поближе к рынку. Но когда мы приблизились к городу, передумал.
– Тьфу ты, нелегкая! – выругался он. – Уж на верхний паром – очередь, а что внизу тогда творится! Будем здесь переправляться. Глядишь, на второй заход успеем.
Дед оказался прав. На первую баржу, которую тащил маленький буксир, мы не попали. Пришлось ждать полчаса, пока он сплавает к другому берегу, разгрузится и вернется обратно. Зато на втором рейсе мы оказались одними из первых и въехали в город еще до семи утра.
Но мой возница все равно сильно переживал, что опаздываем. Мол, лучшие места на рынке без нас займут. Потому то и дело подстегивал своего мерина, чтобы тот прибавил ходу.
После трехлетнего отсутствия в Томске я вертел головой по сторонам и не успевал удивляться, насколько изменился город за короткое правление большевиков.
В Лагерном саду, одном из самых излюбленных мест для прогулок, откуда открывался потрясающе красивый вид на реку и заливные луга, теперь паслись козы. На обочине Садовой возле технологического института в грязной луже барахтались свиньи. Роскошные лужайки в Еланской роще, куда мы студентами любили ходить на пикники, теперь все были распаханы под огороды.
На пересечении с Бульварной улицей дорогу нам перегородила праздничная колонна демонстрантов. Подростки, одетые в одинаковую форму – белые рубашки и темные брюки, и юные барышни такого же возраста в белых блузах и длинных юбках браво маршировали и пели «Интернационал».
В первых рядах шли знаменосцы с красными флагами, а за ними двое крепких ребят несли транспарант во всю ширину улицы: «На испуг Советы не возьмешь, мировой пожар даешь!».
– Ишь, чертовы дети! – снова выругался дед Макар. – Малые бесенята! У этих вообще ничего святого нет. В церковь не ходят, креста не носят, в Бога не верят. В храмах свои клубы устраивают. Куда катится Россия? Видать, и впрямь конец света скоро.
Проехав через Ленинский проспект, бывшую Почтамтскую улицу, и миновав переулок неизвестного мне Нахановича[200], прежний Ямской, мы выехали на Базарную площадь.
Напрасно переживал дед Макар, что не будет хорошего места для торговли. Хотя иные крестьяне приехали гораздо раньше нас, но городских торговцев, как, впрочем, и покупателей, на рынке еще не было. Большевистский Томск просыпался поздно.
Торговля шла ни шатко ни валко. Дед Макар уже стал переживать, что придется возвращаться домой с нераспроданным урожаем, но ближе к вечеру народ повалил. Возвращались из учреждений советские служащие, другие торговцы, распродавшие свой товар и бывшие теперь в состоянии побаловать себя молодой картошечкой, рабочие с заводов и мастерских, ремесленники и просто засидевшиеся дома хозяйки.
Рядом с нами один нэпман на чугунной печке варил конфеты. Белый ирис. Ему помогала белокурая девочка лет семи, очень похожая на дочку Муромского. Она завертывала еще теплые конфеты в бумажки и, чтобы они не расклеивались, слюнявила края фантиков своим розовым язычком. Может быть, поэтому эти конфеты назывались «Дамские язычки», и торговля ими шла бойко.
Мой фермер вначале завидовал кондитеру, но когда и к нему потянулся народ, перестал, потому что мы едва успевали насыпать из мешков ведра и принимать деньги от покупателей.
Содержимое подводы уже подходило к концу, когда ко мне подошла дородная женщина средних лет в легкой кофточке, с коротко стриженными черными волосами, в которых уже проглядывалась седина.
– Свешайте мне, пожалуйста, четверть пуда, – попросила она меня очень вежливо.
Я не мог не узнать этот голос. Нина, двоюродная сестра моей жены и дочь Александра Васильевича Андреева, друга и соратника Потанина, последнего редактора «Сибирской жизни».
– Пожалуйста, Нина Александровна, – ответил я ей, подавая хозяйственную сумку с покупкой.
– Вы меня знаете? Но откуда? – удивилась она.
Тогда я снял с головы соломенную шляпу и улыбнулся.
– Боже мой! – вскрикнула она. – Пётр Афанасьевич! Но как? Какими судьбами?
Она тут же осеклась и опасливо посмотрела по сторонам, не услышал ли кто. Но все вокруг было спокойно, никто не обращал на нас внимания. Обыватели, воры и милиционеры были заняты своими делами.
Она приблизилась ко мне вплотную, принимая из рук сумку, и прошептала:
– Нам надо обязательно увидеться. После расстрела папы большую часть дома конфисковали, но две комнаты на первом этаже нам пока оставили. Я живу там же, где жила, и сейчас сразу пойду домой. Вы сможете прийти сегодня?
– Конечно. Я очень рассчитываю на вашу помощь.
– Хорошо. Я буду ждать, – она улыбнулась, выхватила из моих рук тяжелую сумку и быстро пошла с базарной площади.
Мне и впрямь везло. Всего второй день в Томске, и сразу так приблизился к своей семье. Ведь Нина с Полиной всегда были близки. Больше чем сестры, как самые верные подруги.
Ни о какой торговле я больше думать не мог. Просыпал картошку мимо сумок, не пересчитывал выручку. И когда дед Макар поймал меня на недостаче, то понял, что держать такого работника будет себе дороже, и отпустил на все четыре стороны.
– Гляди, сынок, не задерживайся. Переправа только до девяти вечера работает. Опоздаешь – пеняй на себя. Придется в городе ночевать. А здесь чекисты каждую ночь проводят облавы. Лучше не рискуй, – предупредил меня добрый старик.
И вот я снова в Сибирской слободке. Так же утопает в зелени деревянный дом с резными ставнями. В палисаднике цветут цветы, жужжат пчелы, и слышится мирный звонок колокольчиков. Это коровы возвращаются с пастбища.
Нина стояла возле калитки, дожидаясь свою буренку, вместе с соседками. Она издали заприметила меня и пошла навстречу.
– Здравствуйте, Кузьма Иванович! – нарочито громко обратилась она ко мне, чтобы соседки слышали, а тихо прошептала: – Вы пасечник из Калтая, приехали мед предлагать. Соседи ко мне относятся как к классово враждебному элементу. Того и гляди, вызовут ЧК, при них ни слова лишнего.
Вслух она добавила:
– А где же ваш знаменитый гречишный мед?
– Так рано же, милейшая. Хороший мед только в августе бывает. А ежели вам кто раньше мед будет предлагать, то это не мед вовсе, а сахарный сироп, заправленный для запаху прошлогодним медком. От такого меда никакой пользы организму, а только растрата для кошелька. Я сейчас пока пустой приехал, на разведку. Узнать, сколько меда в город везти, чтобы наверняка продать.
– А что, и впрямь хороший у вас мед? – спросила меня худая женщина с желтым лицом.
– Лучше не бывает, уважаемая.
– Вот что, вы Ниночке привезите своего товара, а мы у нее попробуем, и если понравится, то и сами приобретем. Вы, кстати, почем медом-то торгуете?
Я назвал цену из головы.
– Ох и дорого же. Моему мужу в исполкоме столько не платят. Но все равно везите. Хорошо, Ниночка?
Андреева вынужденно согласилась.
Та же комната, что и девять лет назад, где жили Нина и Полина. Та же гитара на стене. Только революционных плакатов ныне нет. Да и обитательница комнаты сильно постарела, из девицы на выданье она превратилась в пожилую и усталую женщину.
Угощая меня травяным чаем с прошлогодним медом, купленным у пресловутого калтайского пасечника, за которого она выдала меня своим подселенным соседкам, Нина тихо рассказывала мне в наступающих сумерках, как умирала ее семья.
– Когда в город вошли красные, «Сибирскую жизнь» закрыли. А на следующий день папу арестовали. Через два месяца его расстреляли в числе активных противников советской власти. Представляете, Пётр Афанасьевич, опубликовали в «Знамени революции» список расстрелянных, и папа стоял там первым, его назвали «бывшим редактором черносотенно-провокаторской газеты „Сибирская жизнь“». Это моего-то папу, который столько всего натерпелся от Союза русского народа…
Нина заплакала. Я молчал, не зная, как ее утешить. Когда она вытерла платочком слезы и немного успокоилась, я спросил ее:
– А что Потанин? Как Григорий Николаевич перенес гибель своего друга и соратника?
Рассказчица тяжело вздохнула.
– Большевикам повезло, он совсем слег в ту пору. Они поместили его в университетскую клинику, окружили показным вниманием, даже назначили особую пенсию от ревкома как одному из первых борцов с царизмом. А вскоре он умер.
Нина внезапно юркнула под стол. Скрипнула половица, и хозяйка достала перетянутую веревочкой связку бумаги.
– Вот оно, это воззвание, – она взяла один из листков и торжественным шепотом стала зачитывать: – «Граждане! Банды большевиков у ворот! Нет, они уже сломали ворота и озверевшие, озлобленные, беспощадные, в крови и огне ворвались в родную Сибирь!.. Сдержать или умереть?.. Иного выхода нет… Я дряхлый старик, но я с радостью пойду туда, куда признают возможным меня взять, чтоб остаток дней и сил своих отдать на защиту горячо любимой мною родины… Враг безумен и беспощаден, гибель и горе на его пути!»
– Это последнее, что продиктовал Григорий Николаевич моему папе и поставил свою подпись под публикацией в «Сибирской жизни». Это его завещание!
Мое лицо запылало, словно его обдали огнем, а на глаза навернулись слезы:
– Значит, я был все-таки на правильном пути? Это Чистяковы ошиблись и извели пол-России, а вовсе не мы? Как мне важно было это узнать, Ниночка! Как важно!
– Конечно, Пётр Афанасьевич. Это циничные садисты, каких еще не знавала история. Столько безвинных людей расстреляли. Они даже создали, как писали в газете, специальную комиссию по уборке трупов. В страшных рвах на Каштаке[201] лежат эти несчастные, и наш папа, наверное, тоже там…
Меня волновало сейчас одно: поняла ли Полина свою ошибку? То, что представлялось ей белым и светлым, на поверку оказалось грязным, черным и кровавым.
Я спросил об этом Нину напрямик. Она равнодушно пожала плечами и с презрением ответила:
– А меня как-то господская жизнь никогда особо не волновала. О чем они там себе думают? Уж точно не о том, как прокормиться. Им специальные пайки по разнарядке привозят. А если захотят и меня расстрелять, то пусть приходят. Вот она я. Никуда не сбежала. Доживаю век в родительском доме. А с Полиной мы теперь вообще не встречаемся. Не о чем нам с ней говорить. Правда, говорят, что она вышла на работу. Кажется, в хирургическое отделение университетской клиники. Ее даже хвалят. Говорят, что хороший хирург.
– А сына моего Петеньку видели?
– Издалека. Его отчим на чекистской машине катал. Красивый мальчик. Только вот кто из него вырастет?
– А где они живут, Нина? Не знаете?
– А где господам жить, как не в экспроприированных хоромах? В бывшем купеческом доме на Соборной площади. Как раз в тех комнатах, где последний раз командарм Полыхаев останавливался. Теперь вот чекистское начальство проживает. А что, удобно. Мужу на работу далеко ходить не надо. Зашел в соседний подъезд, и уже на службе. А через дорогу – тюрьма. Стало скучно, перешел через улицу, спустился в подвал и стреляй сколько душе угодно по живым мишеням. Супруге тоже недалеко до клиники…
– Послушайте, Нина, – перебил я хозяйку. – Мне срочно нужна ваша помощь. Умоляю, помогите мне встретиться с женой!
Нина опешила.
– Но как? – воскликнула она. – Их дом под круглосуточной охраной!
– А в больнице?
– Но уже поздно. У врачей рабочий день уже закончился.
– Но ведь у них бывают ночные дежурства? Давайте позвоним в клинику и узнаем, не дежурит ли нынче хирург… Чистякова?
– Она Коршунова. Но у нас уже давно нет телефона. Еще перед папиным арестом сняли. Я позвоню от соседей.
Нина вернулась через четверть часа. На улице уже совсем стемнело. На паром я явно опоздал.
– Вы провидец. Хирург Коршунова точно дежурит сегодня до утра.
Только она сказала это, как я вскочил со стула, быстро натянул выданные мне дедом Макаром истоптанные сапоги, попрощался и пулей вылетел из дома.
От Сибирской слободки до университетской клиники обычной ходьбы полчаса, но я одолел это расстояние минут за десять. Запыхавшись, я как вихрь ворвался в приемное отделение и огорошил дежурившую медсестру и санитара вопросом: «Где найти врача Коршунову?»
– Хирургическое отделение в дальнем конце здания на втором этаже. Там ее спросите, – объяснила медсестра и в свою очередь поинтересовалась у меня, не с мужем ли Полины Николаевны что-то случилось.
– С мужем, с мужем! – прокричал я ей на ходу, скрываясь в темном больничном коридоре.
В темной ординаторской ее тоненькая фигурка в распахнутом белом халате казалась призрачной. Она сидела за столом, не включая света, и смотрела через раскрытое окно, как колышется листва на деревьях в теплой темноте Университетской рощи.
На скрип двери она едва повернула голову. Ее распущенные волосы колыхнулись в мою сторону. И хотя я стоял против света, облаченный в нелепую длинную рубаху и соломенную шляпу, без усов, она сразу узнала меня.
– Слава богу, живой! – произнесла она уставшим голосом. – Александр говорил, что тебя застрелили в Иркутске, но я ему не верила.
Она продолжала сидеть на стуле, не шелохнувшись.
Я не понял по ее поведению, то ли она рада мне, то ли нет, но все равно сказал:
– Я пришел за тобой. И сыном.
– Долго же ты за нами шел, – в ее словах звучал явный упрек.
Я бросился к ней, упал на колени к ее ногам и навзрыд стал приговаривать:
– Милая! Любимая! Единственная! Прости меня, что не увез тебя отсюда до наступления этого хаоса. Прости, что отпустил тебя и Петю из Омска. Что не отыскал тебя ни в Верхоленске, ни в Черемхово. Но я боялся быть отвергнутым тобой.
– А сейчас не боишься?
– Я больше ничего не боюсь, родная. Даже смерти. На нее я насмотрелся за эти годы, не дай бог кому-либо столько увидать. Хотя нет, вру. Одного все ж боюсь. Потерять тебя и сына.
Она сняла с меня шляпу. Провела по бритой голове с уже отрастающими, короткими, колючими волосами, а потом неожиданно сползла сама со стула и тоже бухнулась передо мной на колени.
– И ты, пожалуйста, прости меня, Пётр. Моей вины перед тобой больше, чем твоей передо мной. Прости, что не поверила тебе. Прости за гордыню и за измену, если, конечно, сможешь.
Я обнял ее и, осыпая мокрое от слез лицо поцелуями, бормотал:
– Да какая измена? О чем ты, Поля? Я сам спровоцировал тебя на нее. Значит, мы виноваты оба.
– Но он, он… после нашей ссоры в Омске показался мне настоящим героем, а в тебе я тогда сильно разочаровалась. Я правда не знала, что так оно все выйдет, и не понимала тебя. А оказалось, что ты видел гораздо дальше моего. Боже мой, Петенька, любимый мой, солнышко мое ясное, прости меня, дурную бабу!
– Это ты меня прости, Поленька! Все в прошлом! Главное, что мы снова вместе…
В этот момент дверь отворилась, и заглянувшая в ординаторскую медицинская сестра громко закашляла. Наголо бритый мужчина в крестьянской робе и дежурная докторша стоящие на коленях друг перед другом, оба в слезах, представляли собой весьма экстравагантное зрелище.
– Ой, Полина Николаевна, пожалуйста, извините, – промямлила дежурная сестричка и уже собиралась захлопнуть дверь, но моя жена опередила ее.
– Ольга Александровна, зайдите ко мне на минуточку.
Медсестра стыдливо проскользнула в ординаторскую.
Полина встала с пола и подняла меня за руку следом.
– Этой мой муж, Пётр Афанасьевич Коршунов, – представила она меня своей подчиненной.
– А как же товарищ Чистяков? – пробормотала пораженная медсестра.
– А товарищ Чистяков – это моя ошибка.
– А он-то об этом знает?
– Пока еще нет.
– Ох и не завидую же я вам, Полина Николаевна.
Жена повернулась ко мне и объяснила:
– Мужа Ольги Александровны чекисты расстреляли прошлым летом. Он был офицером и служил в Сибирской армии. Ей можно доверять, – а медсестре сказала: – Я вас очень прошу: прикройте меня сегодня. Зовите только в экстренных случаях. Мы ведь так долго с Петей не виделись!
– Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь. Сама со всем управлюсь, – заверила Ольга Александровна и вышла из кабинета, оставив меня наедине с женой.
Такой близости между нами никогда прежде не было. Здесь было все: и любовь, и раскаяние, и страсть, и радость встречи, и просто осознание того, что мы оба живы и что мы вместе. Наверное, это и зовется счастьем.
Я рассказал Полине, каким образом и зачем прибыл в Томск. Она поначалу обиделась, что кроме нее у столь опасного путешествия была и другая цель. Но потом поняла, что иначе мне добраться в центр большевистского государства не было никакой возможности. Ее поразила задача моей миссии и то потрясающее совпадение…
Следующая страница из тетради была вырвана, но Сергей не обратил на это никакого внимания. Поглощенный чтением, он даже забыл о времени и о Жаклин.
…Я простукал молотком внешнюю стенку комнаты и определил участок, где мне предстояло выдолбить ряд кирпичной кладки. Несведущему человеку вряд ли когда-нибудь удалось бы определить месторасположение тайника, и я бы никогда его не обнаружил, если бы не подробное описание Анатолием Полыхаевым этой комнаты.
Полина уже собрала в чемоданы все вещи – свои и Петеньки, а также принесла саквояж с необходимым мне инструментом.
И только я щелкнул его замками, как в комнату с наганом в руке ворвался начальник губчека.
– Попались, белогвардейские недобитки. Провести меня вздумали, сволочи. Да я с первого дня знал, что Коршунов в Томске, и поручил следить за ним и за тобой. Твоя доверенная Ольга Александровна – моя осведомительница. Хоть мужа и нет, но дети-то остались. А ради собственных чад какой гадости не сделаешь? Верно я говорю, Петруша? Всё, Коршунов, отбегался. Крышка тебе. На этот раз никакие чехи тебя не спасут. Ты сам притащился сюда на погибель.
Он обернулся к застывшей как статуя Полине и продолжал зло торжествовать:
– И тебя, дуру, угораздило вляпаться в это дерьмо! Я подозревал, что ты всегда любила только этого полиглота, а со мной спала так, из необходимости. Мне будет очень трудно выгородить тебя из этого дела. Очень трудно, – он замялся. – Но если ты сейчас скажешь, что ты меня хоть немного любишь… Я тебя спасу. Пожертвую всем: должностью, карьерой, положением, но тебя не расстреляют и даже в тюрьму не посадят. Ну же! Говори!
– Ненавижу! А себя презираю, что связалась с таким кровопийцей, как ты. И если ты меня сейчас не застрелишь, то однажды среди ночи, когда ты будешь спать в пьяном угаре после очередного расстрела, я искромсаю твое поганое сердце кухонным ножом. Ну, стреляй же! Тебе не привыкать убивать женщин… – выкрикнула она полным ненависти голосом.
– Ты забыла добавить про детей. Их мне тоже не привыкать расстреливать. Пожалуй, мне лучше начать исполнение приговора с детской?
Не отводя с нас дула нагана, начальник губернского чека направился в комнату, где спал наш сын.
– Нет! Только не это! – исступленно закричала Полина. – Ты не посмеешь!
– Ты же знаешь, что я могу убить любого, – холодно произнес Чистяков. – Ну как – любишь меня или нет?
Полина жалобно посмотрела на меня. Я едва заметно закрыл глаза: мол, делать нечего, лги во спасение нашего ребенка.
И она выдавила из себя:
– Я люблю тебя, Чистяков…
И упала без чувств.
– Так-то лучше! – удовлетворенно констатировал чекист и кликнул из коридора своих подручных. – Этого, – он показал на меня, – посадить в одиночную камеру. Я лично буду допрашивать его.
Два дюжих бугая в однотипных кожанках заломили за спину мне руки и повели к выходу.
«Как же им не жарко носить такую робу летом?» – подумал я.
Камера располагалась в полуподвальном помещении. Узкое окошко под потолком выходило в выложенный красным кирпичом колодец, сверху закрытый массивной чугунной решеткой. За ней шумела обыденная жизнь самой оживленной улицы города. Цокали лошадиные копыта, скрипели колеса повозок, ревели и пыхтели моторы редких авто, весело стучали по мощенному камнем тротуару каблучки дамских туфель.
Но воспринимать эту закрытую для меня жизнь я мог только слухом, ибо ничего, кроме кирпичной кладки да краешка неба, разглядеть не мог.
Ежедневно меня водили на допрос. Чистяков не сдержал своего обещания и со мной общался простой следователь – молодой еврей, в очках и со щегольской бородкой.
Он был чрезвычайно вежлив и предупредителен, чем располагал к откровенности.
Долго расспрашивал меня о Потанине, Муромском и Сибирском областном союзе. Искренне сожалел, что революция не победила в 1905 году.
– Сколько ужасов и напрасных трагедий нам удалось бы избежать, не будь мировой и Гражданской войн! Тогда вы не сидели бы сейчас в тюрьме, а занимались бы, к примеру, юридической практикой, и я бы стажировался у вас, как некогда вы обучались у Муромского. А сам Пётр Васильевич возглавлял бы правительство автономной Сибири, а не голодал сейчас в Харбине. Скажите, он никаких поручений не давал вам перед отъездом?
– Нет, Аркадий Исаакович, не давал.
– А Полыхаев? Вы же с ним встречались в Харбине. Неужели и от него не получили никаких особых заданий?
– Нет. Не получал. Я еще раз повторяю вам, что я прибыл сюда исключительно как частное лицо. Чтобы забрать своих жену и сына.
– И куда вы их планировали отвезти? В голодный Китай?
– Нет. В Европу. Я планировал поселиться в Праге.
– Как же! Как же! Понимаю вас, – следователь покачал головой. – Чехи поделились с вами русским золотом!
Эту издевку я не оставил без ответа:
– Пропагандистские байки придержите лучше для фабричных собраний. Пролетариат, возможно, в них и поверит. А меня на это не купишь. Я – обеспеченный человек. Был им еще до первой революции и остаюсь поныне. Я служил не за жалованье, а за идею, верил, что в Сибири можно построить демократическое государство, в котором свято будут оберегаться права личности, а не мифические догмы.
В комнату для допросов влетел начальник губернской чк.
– Шварц, вы свободны. Подите перекурите, пока я со старым товарищем покалякаю по душам.
Сегодня Чистяков выглядел гораздо спокойнее, чем три дня назад при моем аресте.
– Значит, про права человека вспомнил? Ишь как глубоко копнул! Значит, ради торжества прав человека лютовала колчаковская контрразведка? Ради свободы и демократии вы призвали на родину иностранных интервентов и разбазарили им половину золотого запаса империи? Ты говори, да не заговаривайся, бессребреник. Лучше колись быстрее, что тебе Полыхаев говорил про спрятанное им золото? За ним же он тебя сюда отправил?
Я презрительно скривил губы:
– А что, и коммунистам нужны деньги? Вы же намеревались обойтись без них.
– Вот мне они точно не нужны! Что мне рабоче-крестьянское государство дает, того хватает. Но молодой советской республике нужно золото, чтобы закупать за границей станки и оборудование для новых заводов и фабрик. И я из тебя всю душу выну, а узнаю, зачем тебя сюда послал Полыхаев!
Его угрозы мне были безразличны.
– Мое золото – семья, остальное не имеет значения.
И тогда он мне сделал такое предложение:
– Слушай, а давай меняться: ты говоришь мне, где спрятано золото, украденное командармом у Колчака, а я отпускаю тебя, Полину и сына на все четыре стороны. Снабжу такими документами, что ни один патруль не остановит. Хоть завтра садитесь в поезд – и ту-ту до самого Владивостока. Может быть, успеете на какой-нибудь корабль. А то по радио передали, что японцы уже эвакуируются. Ну как, по рукам?
Меня так и подмывало пожать его руку и послать к чертям всю эту братоубийственную вакханалию с бесконечными заговорами, интригами. Ведь все равно якутский поход Полыхаева обречен. Никакое золото не может спасти эту авантюру. Просто Россия уже не та, какой она видится ему из Харбина. Запал борьбы у народа иссяк. Люди устали. Им по большому счету безразлично, под каким знаменем жить: российским триколором, имперским штандартом, сибирским бело-зеленым или красным советским. И воевать ох как надоело!
Но какая-то сила удерживала меня от заключения этой сделки: то ли данное Полыхаеву честное слово хранить до гроба его тайну, то ли элементарный инстинкт самосохранения. Ведь все равно Чистяков никогда бы не отпустил Полину. А меня расстрелял бы за ненадобностью. Зачем ему отработанный материал и живой соперник?
Я не подал руки Александру Владимировичу, а только сказал устало:
– Мне наплевать на вашу политику. Ты знаешь, зачем я приехал в Томск. Если в тебе осталась хоть частица порядочности, то ты не будешь принуждать женщину жить с тобой под страхом. Сам отпустишь. Я же прекрасно понимаю, какая участь меня ждет. И не боюсь ее. Пусть она тоже останется на твоей совести.
Чистяков помолчал, теребя в руках кожаную фуражку, а потом резко встал из‑за стола и заявил:
– Жаль. А я думал, что мы договоримся. Что ж, видать, не судьба. Ты и впрямь донкихот. И большой дурак. О каких-то правах человека мечтаешь. Ерунда это. Лапотная Россия до европейской демократии еще не доросла. И неизвестно, дорастет ли когда-нибудь вообще. Мы тоже хотели построить совсем другое государство, но в нашей стране возможно только такое. Русский народ понимает лишь одно – страх. Его он и получил. Я сам не знаю, куда эта дорога выведет. Но на собственном опыте убедился, что страх – это жуткая сила. С помощью его можно горы свернуть, реки пустить вспять, растопить Северный океан, построить новые города, заводы, электростанции, как в фантастических романах. Нельзя быть добрым с инакомыслящими. Царь, небось, перед смертью-то пожалел, что нянчился с революционерами. Надо было выжигать наше племя огнем и мечом. Но его подвел европейский гуманизм. Мы не повторим его ошибок. И вечером тебя, Пётр, расстреляют как врага советской власти.
Он уже подошел к двери, когда я крикнул ему в спину:
– А ты не боишься, что когда-нибудь придет и твой черед? И тебя самого отправят на закланье, как ты сейчас отправляешь меня?
Он обернулся и ответил мне с какой-то странной ухмылкой:
– Все когда-нибудь в землю ляжем. А унавозить собой светлое будущее – тоже неплохой исход.
За мной пришли с наступлением темноты. Два красноармейца с винтовками. Штыки зловеще блестели в тусклом свете фонарей, освещающих коридор подвала.
Несколько шагов вверх по каменной лестнице, и на меня дыхнула теплом июльская ночь. После холодного и сырого подвала я наслаждался свежим воздухом, теплом и ночными шорохами.
Но меня далеко не повели. Завернули за угол тюрьмы и поставили на краю обрыва.
Красноармейцы встали в линию, изготовившись к стрельбе. Следователь Шварц скороговоркой зачитал приговор революционного трибунала и скомандовал: «Готовьсь!» Красноармейцы дружно вскинули винтовки.
Внезапно из темноты появился начальник губернской ЧК и сказал:
– Товарищ Шварц, вы не будете возражать, если я лично приведу приговор в исполнение.
– Пожалуйста, товарищ Чистяков. Личная месть всегда приятна. Только не промахнитесь.
Мой бывший друг попросил у солдата винтовку и прицелился.
– Да уж постараюсь…
Он выстрелил.
Дикая боль пронзила мою грудь, и я покатился на дно оврага, теряя сознание.
Свет. Много света. Белые фигуры склонились надо мной. Неужели это и есть рай? Но если это ангелы, то почему они в масках? И, словно прочтя мои мысли, один из них снимает марлевую повязку со своего лица, и я узнаю в нем Полину. Ее лицо серьезно и сосредоточенно.
– С возвращением. Живучий же ты, Коршунов! Дважды убивали тебя, а ты все воскресаешь. Смотри, третий раз тебя не спасут.
Счастливый, что рядом со мной Полина, я закрываю глаза и слышу голос Ольги Александровны:
– А все-таки товарищ Чистяков – настоящий снайпер. Все посчитали грудную рану смертельной. А вот на тебе – ни один жизненно важный орган не задет. Куда его теперь, Полина Николаевна?
– В общую палату.
– А под какой фамилией?
Полина задумалась лишь на минуту:
– Петров. Лекарств не жалейте. Хоть наркотиками накачайте, но чтобы через два дня он был на ногах.
Через день я уже смог вставать с кровати, а через два сам дошел до туалета. Об этом сразу сообщили Полине, и она вызвала меня к себе в ординаторскую на осмотр.
Пожилого хирурга и медсестру, помогшую мне дойти, она попросила ненадолго выйти из кабинета.
– Тебе надо уходить, Пётр, – сказала она казенным тоном.
Я попробовал спросить у нее, как мне это сделать, но вместо слов из моей гортани вырвалось какое-то мычание.
– Неужели снова? – воскликнула она. – Ты не можешь нормально говорить?
Я знаками показал, что нет.
У нее буквально подкосились ноги, и она опустилась на кушетку.
– Боже мой, боже мой! – обхватив руками голову, произнесла Полина. – Все вернулось на круги своя. Но все равно, Пётр, ты должен уйти. У тебя есть знакомые? Отлежись у них. А потом уезжай по своим документам назад во Владивосток.
«А ты?» – промычал я, показывая на нее пальцем.
– Я не могу поехать с тобой. И Петю ты тоже не возьмешь. Я дала слово, и должна его выполнить. Уезжай! Молю тебя! Уезжай! Ради нашего с Петей блага. Так надо, Пётр. Я люблю, я очень люблю тебя. Но судьба нас разлучила. Чистяков специально промахнулся, потому что я упросила его спасти тебе жизнь. А взамен поклялась, что до гробовой доски останусь с ним. Поэтому уезжай один. Найди за границей себе нормальную женщину. Женись на ней. Заведите детей. А за нас не беспокойся. Мы как-нибудь выживем. И за золото тоже. Никто о нем не узнает. Ну, с богом, любимый, пусть дорога твоя будет удачной. Я буду молиться за тебя. Уходи.
Сдерживая слезы, она быстро вышла в коридор.
Больше Полину я никогда не видел.
Дед Макар очень обрадовался, увидев меня живым. Еще две недели я отлеживался у него, а потом он на своей подводе довез меня до Тайги и купил мне билет на поезд до Хабаровска.
Благо, документы Ленского сохранились у него в целости и сохранности, поэтому в поезде патрули меня не трогали. Даже у чекистов немой большевик вызывал жалость.
От Хабаровска до Владивостока мне пришлось добираться на перекладных. Местами меня подвозили местные крестьяне. Однажды я даже прокатился на тачанке красного командира. Отступал с белыми частями. Много верст прошел один лесными дорогами.
Но на пароход я все-таки успел.
Стоял солнечный октябрьский день. Хотя было уже довольно прохладно, но в полдень солнце прогревало воздух, и он становился особенно прозрачным. Казалось, его можно было пить. Прогудев, пароход отшвартовался от берега и, оставляя за собой пенный след, устремился к выходу из бухты Золотой Рог в открытый океан. Последнее, что уловил мой взгляд на удалявшейся родине, было белозеленое сибирское знамя. Огромное полотнище, под которым четыре с половиной года назад начиналось антибольшевистское движение в Сибири, лениво колыхалось на ослабшем ветерке и словно провожало проигравших изгоев на чужбину.
Жаклин приехала затемно. Черная иномарка подвезла ее к самому гостиничному крыльцу. Она выпорхнула из машины веселой стрекозой и, послав водителю воздушный поцелуй, скрылась в отеле.
За этой картиной Сергей наблюдал с балкона. Он уже дочитал тетрадь и жадно курил сигарету.
«Значит, она лгала. Вся ее любовь – игра! Только средство, чтобы добраться до золота Полыхаева. Использовать меня втемную, а потом кинуть, как лоха, – накручивал он себя, пока она поднималась на лифте в номер. – Ну и поделом. Тебе преподнесли любовь, а ты и развесил уши, чтобы на них навешали лапшу!»
Теперь ему стало понятно, почему эффектная, успешная иностранка выбрала такого неудачника. Интеллектуал, простофиля и алкоголик в одном лице – идеальный помощник в поиске клада. Он будет довольствоваться малым, а влюбленный – и вовсе бесплатно.
Жаклин открыла дверь своим ключом и, увидев насупленное лицо Сергея, проворковала нежным голоском:
– Милый, пожалуйста, извини. Но я не могла отказаться от ужина с вице-мэром. Его помощь очень важна в моей работе.
– Это в поиске золота, что ли? – без всяких прелюдий выдал он ей правду.
Она замерла, снимая босоножку, а потом как ни в чем не бывало спросила:
– Ты ел что-нибудь?
– Какая к чертям собачьим разница, ел я или нет! – взорвался он. – Будь добра вначале ответить на мой вопрос: в Томск ты прилетела, чтобы найти клад командарма?
– И за этим тоже, – холодно ответила женщина и добавила: – Только маловероятно, чтобы он до сих пор сохранился.
– Это почему же? Будь любезна – просвети невежду.
– Долго рассказывать. И вообще, я не люблю, когда меня допрашивают. Да еще таким тоном!
Сергей не ожидал встречного выпада. Наивный, он полагал, что у него на руках все козыри. Однако не в объяснении с женщиной.
– Я тебя сюда не звал и не просил меня спасать, – надулся он. – А тем более – признаваться мне в любви и затаскивать меня к себе в постель.
– Это я тебя затащила в постель?! – прошипела она. – Ну ты и нахал, Коршунов! Я просто сказала, что ты мне нравишься, вернее, нравился, пока не лазил по чужим вещам. Я думала сама отдать тебе окончание рукописи. Но я ошиблась в тебе!
Она заплакала.
Он нервно заходил по номеру, а затем выбежал на балкон и закурил.
– Но почему ты мне сразу не дала ее прочитать? – выкрикнул он с балкона. – Ты же наверняка нашла ее в пражской квартире сразу, целиком?
Жаклин, всхлипнув, ответила:
– Вначале я не знала, можно ли тебе доверять. Хотела проверить тебя, увидеть твою реакцию. А потом мне ужасно захотелось самой разгадать эту головоломку и выложить тебе готовый результат. Сработал своеобразный инстинкт исследователя. Я вовсе не собиралась тебя обижать, а тем более – воровать твое наследство. Ты же знаешь, что для меня, как и для тебя, деньги – не главное в жизни. Пожалуйста, не злись. Дай мне лучше сигарету.
– Ты же не куришь?
– Сегодня можно.
Он подвинулся, и она встала рядом с ним, а потом и вовсе прильнула к его плечу. Два дымка струились над балконом, растворяясь в звездном небе.
– Так ты расскажешь мне историю этого золота? – спросил он уже без всякой злобы и обиды.
– Ну если тебе интересно, то слушай, – она начала издалека, причем очень аргументированно и четко, приводя по памяти точные даты, фамилии и прочие детали. – В ночь на 12 января 1920 года на станции Тыреть…
– Какой-какой? – переспросил он.
– Тыреть, – ответила она, не понимая подвоха.
Сергей заливисто рассмеялся:
– Просто в русском языке глагол «тырить» в просторечии означает то же самое, что и воровать. Усекла?
Жаклин улыбнулась и согласилась:
– Точно. Знаменательное совпадение.
– Слушай, а где находится эта станция? Что-то я о такой никогда не слышал.
– В Иркутской области, недалеко от современного города Усолье-Сибирское.
– А при чем здесь Томск? Дотуда полторы тысячи километров!
– Пожалуйста, не перебивай меня. А то я сама запутаюсь в вашей географии! – взмолилась она и продолжила рассказ: – Так вот, на этой станции чиновник государственного банка заметил, что у одного из груженных золотом вагонов повреждены пломбы. При вскрытии обнаружилась недостача 13 ящиков с золотом. Вместо 200 там оказалось 187. Вопрос: куда они подевались?
– Да, куда? – переспросил Сергей и чмокнул Жаклин в щечку.
Они вернулись в комнату. Сергей уселся в кресло, а она запрыгнула к нему на колени.
– Чехословацкая охрана сваливала вину на русскую, те, в свою очередь, обвиняли чехов. В общем, 13 ящиков, каждый из них в среднем два с лишним пуда, около 34 килограммов, как ветром сдуло. Я проштудировала массу мемуаров и могу ответственно заявить, что ни русские охранники, ни чешские рук к золоту не прикладывали, ведь кто выжил в этой мясорубке, потом влачили бедное существование. Ближайшие окрестности Усолья-Сибирского на сотни километров перерыли кладоискатели, но ничего не нашли. Кто же тогда взял золото? И главное – где он его спрятал?
– Резонные вопросы, – согласился Сергей. – Кто и где?
– Будем рассуждать логически. Если золота под Тыретью до сих пор не нашли, значит, его там нет.
– Или плохо искали…
– Это вряд ли. Люди в вашей стране жили так бедно, буквально умирали с голоду, поэтому перекопали там каждый ярд[202] земли.
Сергей промолчал.
– Значит, его украли из вагона раньше, а в Тырети только инсценировали кражу. Кто и когда мог это сделать?
Коршунов недоуменно пожал плечами.
– А события 8 декабря 1919 года на станции Тайга тебя не наталкивают ни на какую мысль? – спросила Жаклин.
– Постой, постой! – спохватился он. – Ведь братья Полыхаевы готовили мятеж против Колчака. Они хотели арестовать его, но побоялись, а потом взяли под стражу только командующего войсками Сахарова.
– А еще учти, что на станции их бронепоезд стоял как раз рядом с золотым эшелоном, а еще егерская бригада, артиллерийская батарея. Братья всерьез готовились. Положим, государственный переворот у них по каким-то причинам не удался. Но принудить банковского контролера вскрыть один вагон с золотом, перегрузить часть ящиков из него в бронепоезд, а потом вновь его опечатать им было в ту пору вполне по силам. И заметь, когда Колчак вместе с золотым эшелоном отбыл на восток, то командарм Полыхаев для чего-то вернулся в Томск, а старший, премьер-министр, зачем-то бросился догонять Верховного правителя.
– То есть ты считаешь, что золото Анатолий Полыхаев перевез на своем бронепоезде в Томск, а Виктор Полыхаев на станции Тыреть, выйдя прогуляться, просто сбил с вагона пломбу, – осенила Сергея догадка.
Его глаза заблестели. Азарт поиска захватил и его.
– Верно мыслишь, Серёжа, – похвалила Жаклин. – А за каким золотом тогда мог посылать бывший командарм нашего прадеда?..
– Моего прадеда, а твоего деда, – поправил ее Сергей.
Жаклин вопросительно посмотрела ему в глаза и сказала:
– Но если ты, как подобает честному человеку, на мне женишься, то автоматически Пётр Коршунов станет для меня прадедом. Дедом-то он мне был не родным.
И пока мужик, на коленях у которого она сидела, переваривал сказанное, она чмокнула его в щечку и вернулась к золоту:
– Об этом ты еще успеешь подумать, дорогой. Итак, мы знаем, что Анатолий Полыхаев привез золото в Томск. Кстати, на эти деньги он собирался набрать новое войско, чтобы остановить красных. Но стремительный марш-бросок Пятой армии большевиков не позволил ему этого сделать, и он сам едва унес ноги на своем бронепоезде из восставшего Томска. Потом он заболел тифом, и его, полуживого, чехи вывезли в своем поездном госпитале в Харбин. Никакого золота при нем не было. Спрашивается, где оно?
– А ты разве еще не знаешь, дорогая? – ехидно спросил ее Сергей. – Ты же сегодня сама намеревалась выдать мне готовый результат. Иначе для чего ты ужинала с вице-мэром?
Жаклин заерзала на его коленях от удивления и лукаво произнесла:
– А мне интересно, догадался ли ты?
– В мэрии, конечно, – спокойно ответил Сергей. – И скорее всего в кабинете вице-мэра, с которым ты только что ужинала.
Она удивленно прошептала:
– Мне на разгадку этого ребуса понадобился почти год, а тебе – всего полчаса. Как?
Журналист сделал умное лицо и тоном снисходительного превосходства, каким знаменитый сыщик Шерлок Холмс общался со своим менее сообразительным коллегой, произнес:
– Элементарно, Ватсон. Из‑за вашего эгоизма и амбиций мы потеряли уйму времени. Если бы вы открылись бедному родственнику раньше, то дело пошло бы куда быстрее. Ведь я вырос в этом городе. Еще мама водила меня совсем маленького по улицам и, остановившись возле какого-нибудь старинного здания, долго рассказывала его историю. Кто его и когда построил, кто в нем прежде жил и какое учреждение здесь когда-то располагалось. Поэтому гастроном «Верхний» на площади Революции, где в подвальчике до позднего вечера продавали водку и кооперативное грузинское вино, для меня был всегда домом купца Гадалова. И о том, что на втором этаже этого дома когда-то квартировал прославленный белый командир, мне мама тоже рассказала. Она дружила с какой-то дальней родственницей того самого редактора Андреева, о котором написал в своей рукописи наш прадед. Правда, фамилию этого командира мама мне не называла, или я ее не запомнил. Но теперь-то я знаю, что это был Анатолий Николаевич Полыхаев.
Жаклин потянулась и взяла с подоконника пачку сигарет.
– Будешь? – спросила она Сергея.
Тот отрицательно покачал головой.
– А я с твоего позволения закурю.
Она чиркнула зажигалкой и выпустила изо рта струйку дыма, не вставая с его колен.
– Продолжай. Мне очень интересно, – подстегнула она рассказчика.
– И хотя ты вырвала из прадедовой тетради страницу, в которой описывался дом, откуда Пётр и Полина намеревались извлечь золото, но в других местах рукописи есть косвенные упоминания о нем. В частности, в разговоре с Ниной Андреевой. И потом – взбешенный Чистяков рвался в детскую, чтобы застрелить сына Коршуновых. Значит, семейство начальника губернской ЧК проживало в тех же самых комнатах, которые занимал в последние белые дни Полыхаев. А учитывая твой интерес к персоне вице-мэра, беру на себя смелость заключить, что сейчас это помещение занимает человек, с которым ты сегодня ужинала.
Она загасила в пепельнице недокуренную сигарету и демонстративно захлопала в ладоши.
– Браво, Холмс. С такими способностями вам надо служить в отделе расследований, а не прозябать в газете. Могли бы сделать карьеру.
И, хитро прищурив глаза, спросила:
– Но если ты такой умный, скажи, как нам убедиться, что золото до сих пор замуровано в той самой стене, не привлекая к себе излишнего внимания раньше времени? Ведь не будем же мы взламывать кабинет вице-мэра среди ночи?
– А что, есть основания полагать, что золота может там не оказаться? – в свою очередь спросил он.
– Да, более чем! – воскликнула Жаклин и спрыгнула с его колен.
– Во-первых, дом купца уже несколько раз капитально ремонтировался, и золото должны были обнаружить ремонтные рабочие, – она загнула палец.
– Ерунда! – парировал Сергей. – Ты не знаешь, как у нас проводят ремонты. Если стена не трескается, ее никогда не станут перебирать.
– И даже проверять не будут?
– А зачем? Она же стоит.
– Но перекрытия же меняли! – не верила Жаклин.
– А при чем здесь они? Если клад замурован в какую-нибудь нишу внешней стены здания, то он вполне может лежать там до сих пор.
– Ладно, – согласилась канадка. – Угрозу ремонта пока отложим. Но, во-вторых, Пётр Коршунов рассказал о золоте Полине. Ты думаешь, она сумела сохранить эту информацию в секрете от своего мужа-чекиста?
– Уверен! Эта женщина не могла выдать чужой тайны.
– Ты слишком хорошего мнения о людях. Не забывай, что она закончила свои дни в тюрьме.
– Тогда тем более она здесь ни при чем. Если бы выдала сокровища властям, ей бы наверняка скостили срок, – возразил Сергей.
Жаклин остановилась посреди комнаты и, уставив в него неподвижный взгляд, обреченно произнесла:
– Но тогда у нас точно нет никаких шансов.
– Почему?
– Чтобы купить себе свободу, золото большевикам выдал другой человек.
– Из моих родственников этого сделать не мог никто. У всех трагическая судьба, – упрямо стоял на своем Коршунов. – Кто же тогда это сделал?
– Тот, кто и замуровал золото в стену! – выпалила Жаклин.
– Командарм Полыхаев? Но его же тоже расстреляли большевики! – он не поверил ее словам.
– Якутский поход генерала закончился полным фиаско, – исследовательница вновь продемонстрировала свою осведомленность. – В июне 1923 года измученные белогвардейцы сдались в плен красным. В январе 1924‑го в Чите военный трибунал приговорил их всех к расстрелу. Однако затем начались интересные странности. Неожиданно советское правительство заменило главному контрреволюционеру высшую меру наказания на 10 лет лишения свободы. Все эти годы Анатолий Полыхаев просидел в Ярославском следственном изоляторе в весьма неплохих по тем временам условиях. Он имел возможность переписываться с семьей, проживавшей за границей, прогуливаться по тюремному двору, столярничать. А в 1937‑м, в самый разгар сталинских репрессий, его неожиданно выпускают из тюрьмы, и он целых 13 месяцев проводит на свободе. Живет в Воронеже. Работает в конном парке на руководящей должности. Спрашивается: за что такая милость?
Сергей раскрыл рот от удивления.
– Но ведь его же все равно потом расстреляли? – промолвил он.
– Да, в 38‑м, в Новосибирске.
– Вот видишь! Значит, его просто обхаживали. А он, как умный человек, своих тюремщиков долго водил за нос, тянул время, выторговывал для себя разные поблажки, вплоть до свободы. А потом они раскусили его игру и шлепнули. По-моему, все логично.
Она еще раз пристально посмотрела на него.
– И ты всерьез думаешь, что золото хранится в вашей мэрии?
– Теперь, после твоего рассказа, даже больше, чем до него.
– И как же мы до него доберемся? – заговорщицки произнесла Жаклин.
– Мне видятся три способа решения проблемы, – менторским тоном продолжил он. – Первый – чисто криминальный. Это ночная кража со взломом. Как ты и предлагала. Плюсы: мы можем заполучить все золото.
– А минусы? – поинтересовалась женщина.
Дух авантюризма ей тоже не был чужд.
– Четыре с половиной центнера золота мы вдвоем с тобой, пожалуй, не унесем. А если учесть, что для извлечения сокровищ придется долбить стену и наделать много шума, то нас стопудово схватят на месте преступления и посадят в кутузку.
Она скривила губки:
– Меня такая перспектива не прельщает.
– Меня тоже. Тогда рассмотрим законопослушный вариант. Мы идем с тобой в милицию и заявляем, что нашли клад. И в официальном порядке в присутствии сотрудников правоохранительных органов долбим эту стену, вытаскиваем сокровища и… отдаем их государству. За это оно выплачивает нам вознаграждение в сумме одной четвертой от стоимости клада. То есть из четырех центнеров золота, три забирает себе, а один отдает нам.
– Не густо, – разочарованно произнесла Жаклин.
– А сколько сейчас стоит центнер золота? – поинтересовался журналист у более осведомленной особы.
– Гораздо дешевле, чем во времена Колчака. Тогда на эти деньги можно было купить целый квартал в Париже, а теперь даже на хорошую квартиру в Москве не хватит. Земля и стена, в отличие от банка, процентов не платят.
– Ты шутишь? – удивился он.
– Нисколечко. Нам с тобой на двоих выплатят три с половиной миллиона долларов. Еще наверняка налоги какие-нибудь сдерут.
– Лина, но это же немало за полтонны золота?
– Да? – вскинула она бровки кверху. – А кто у нас, интересно, полмиллиона евро спустил за считанные месяцы?
Он смутился и покраснел.
– Но я же не знал, как обращаться с деньгами. У меня же до этого их никогда не было. Сейчас я бы не повторил прошлых ошибок, а положил бы все деньги в банк и жил бы на проценты.
– Да мне не денег жалко. Бабушка мне оставила гораздо больше в наследство. Понимаешь, эта идиотская власть истребила всю твою родню. Ты сам вырос в нищете, практически сиротой. А теперь она еще претендует на три четверти того, что по праву принадлежит только твоей семье. Это не компенсация за те издевательства, каким подверглись твои предки в этой стране. Они заплатили за это золото своей кровью. Разве я не права?
– Да, доля правды в твоих словах есть, – согласился Сергей. – Но ведь и у Полыхаевых, и у Андреевых остались потомки. Они тоже имеют моральное право на часть золота Колчака. О них ты не подумала?
– Для всех мил не будешь, – огрызнулась Жаклин. – Если бы они нашли этот клад, то о нас с тобой точно не подумали бы. Поэтому выкладывай третий способ.
– Как знаешь, – с явной неохотой сказал он. – Только предупреждаю тебя, что я предпочел бы предыдущий. О нем ты и сама додумалась. Рассказываешь своему вице-мэру о кладе в его кабинете. Учитывая его искреннюю любовь к денежным знакам, он с радостью примет твое предложение. И легко согласится на половину, даже на треть. И сам все устроит в лучшем виде. Найдет время и людей, которые ему выдолбят стену, достанут золото. Только потом эти люди по странному стечению обстоятельств исчезнут куда-нибудь. Как когда-то исчезли ординарцы генерала Полыхаева, замуровавшие сокровища.
Жаклин занервничала. Она явно не задумывалась о таких последствиях.
– Но это такой приятный, обходительный, интеллигентный человек, – возразила она.
– И в мэрии он отвечает за строительство и отвод земельных участков?
– Да, именно.
Он рассмеялся.
– Ты знаешь, что такое коза ностра?
– Итальянская мафия, что ли?
– У нас она не хуже. С каждого землеотвода этот человек имеет от 5 до 10 процентов рыночной стоимости участка. В городе горят даже памятники деревянного зодчества. Кто-то специально поджигает эти дома, чтобы расчистить площадки.
– Но какое отношение к этому имеет вице-мэр?
– Ходят слухи, что самое прямое. А его противники внезапно умирают. Вот спикер местной думы, кативший на него бочку, например. Поехал отдыхать в Египет. Нырнул с аквалангом и не вынырнул. Говорят, несчастный случай. А сколько автомобильных катастроф, внезапных инфарктов и инсультов у абсолютно здоровых людей! У меня нет такого положения и здоровья, но я бы не хотел потерять даже то, что имею.
Она ближе наклонилась к нему и спросила:
– Неужели и ты его боишься?
– Да, боюсь. За тебя боюсь, – признался журналист.
Она закрыла лицо ладонями:
– О боже! Что же я натворила!
Дежурный офицер ФСБ внимательно выслушал сбивчивый рассказ журналиста, но под конец все-таки не сдержал ироничной улыбки:
– Значит, в здании мэрии спрятано золото Колчака?
– Есть ли оно там или нет, это можно проверить, лишь раздолбив стену. Проблема сейчас в другом: человеку, который донес эту информацию до названного лица, угрожает реальная опасность. Поэтому я делаю официальное заявление о возможном местонахождении клада и прошу вас как можно быстрее отреагировать на него. Иначе может быть поздно.
– Не беспокойтесь. С вами скоро свяжутся. Вы указали номер своего мобильного телефона?
Звонок раздался и впрямь очень быстро. Сергей едва успел вернуться в гостиничный номер, где его в растрепанных чувствах дожидалась незадачливая искательница кладов.
– Это Сергей Николаевич Коршунов? – поинтересовался волевой мужской голос.
– Да, он самый.
– Относительно вашего сегодняшнего заявления… – звонивший не стал распространяться, куда. – Вы бы не могли сейчас подъехать в мэрию и подняться в тот кабинет, где могут быть спрятаны ценности.
– Разумеется.
Фээсбэшник отключился.
– Они просят приехать в мэрию, – виновато произнес Коршунов.
– Я с тобой, – вызвалась Жаклин и набросила на себя плащ.
Прямо перед входом в мэрию, наехав колесами на тротуар, под знаком «Остановка запрещена», стояли автобус с милицейскими номерами, «Газель» областной прокуратуры и две «Волги»: черная и белая.
Зайдя в здание, наследники наткнулись на двух омоновцев в камуфляже, с автоматами и в устрашающих черных масках с прорезями для глаз.
– Мэрия закрыта. Приема нет, – один из них преградил им дорогу.
– Мы заявители, – дрожащим голосом ответил Сергей.
Омоновец спросил его фамилию и по рации связался со своим начальством.
– Проходите. Вам на второй этаж, по коридору налево. Там вас встретят, – он отвел ствол автомата в сторону, освобождая проход.
Перед приемной вице-мэра толпились телевизионщики с камерами. Как они сюда проникли, одному богу известно.
– Серёга! – окрикнул его коллега с независимого телеканала. – Здорово, что ты сюда тоже пробрался. Тут такое творится! С утра по всей мэрии шмон. Прокуратура и ФСБ обыскивают кабинеты всех чиновников, причастных к отводу участков под строительство.
Представляешь, даже в кабинете самого мэра изъяли документы!
Но он не успел сообщить все новости, потому что дверь из приемной вице-мэра приотворилась, и из‑за нее выглянул невзрачный мужик в штатском.
– Кто тут Коршунов? – выкрикнул он.
– Я! – откликнулся Сергей.
– Проходите. Вас ждут.
– Ни фига себе! – присвистнул телевизионщик. – Ну, Коршун, у тебя и связи! Расскажешь потом, что видел. Лады?
– А вы куда, девушка? – человек в штатском остановил Жаклин.
– Она со мной. Мы вместе делали заявление, – пояснил Сергей.
– А! Ну тогда проходите.
Кто-то из журналистов хотел воспользоваться случаем и проникнуть в запретную приемную, но страж был начеку и грубо захлопнул дверь перед любопытным носом.
Судя по всему, следователи уже заканчивали обыск. На стульях стояли три большие коробки, доверху наполненные бумагами.
– Это можете уносить, – распорядился человек в черном свитере с колючими глазами.
Его помощники дружно подхватили коробки и направились к выходу.
Желтый от никотина вице-мэр продолжал смолить одну сигарету за другой у приоткрытого окна. Появлению корреспондента областной газеты и канадской подданной он очень обрадовался.
– Вот, Сергей Николаевич, обязательно напишите в своей газете, что репрессии добрались и до нашего города. Эта гнусная провокация приурочена специально к визиту нашего мэра на заседание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Она направлена на окончательную ликвидацию местного самоуправления и встраивание мэров крупных городов в пресловутую президентскую вертикаль власти.
Коршунов закашлялся, будто это он сам, а не вице-мэр, выкурил целую пачку.
– Извините, – сказал он заместителю градоначальника, – но вы мне сейчас напоминаете городничего из гоголевского «Ревизора», жалующегося на ущемление демократии.
Старший опергруппы рассмеялся.
– Верно подмечено. У нас каждый казнокрад, когда его прищучат, любит изображать из себя правозащитника.
И спросил оставшихся следователей и понятых:
– Ну что, товарищи, если по первому пункту ни у кого больше вопросов не осталось, может быть, перейдем ко второму?
И, не дожидаясь ответа, поинтересовался у Сергея:
– В какой стене спрятано золото?
Вице-мэр укоризненно посмотрел на Жаклин. Та отвела взгляд и уставилась в паркетный пол, словно намеревалась пересчитать все дощечки.
– Мне кажется, что в этой, – Сергей показал на широкий проем между окном и балконом.
И посмотрел на Жаклин, чтобы получить подтверждение.
Та, не поднимая глаз, молча кивнула.
Позвали сапера с металлоискателем. Едва тот поднес свою машинку к простенку, как она противно запищала.
– Здесь определенно есть что-то металлическое. Причем очень много металла, – заверил сапер.
Его тут же отослали обратно. И стали дожидаться рабочих с отбойными молотками.
Вице-мэр отвлекся от своих проблем и, поправив на мясистом носу очки в дорогой оправе, как строгий учитель, спросил не находящую себе места иностранку:
– Неужели золото Колчака и впрямь все это время находилось у меня за спиной?
– Сейчас узнаем, – пробормотала она в ответ.
– И сколько там его?
– Должно быть четыреста пятьдесят килограммов.
Чиновник быстро произвел расчет на калькуляторе:
– Господи, но это же всего каких-то четырнадцать миллионов долларов! И вы из‑за такой мелочи натравили на меня ФСБ! Да я бы вам сам выплатил эти деньги, только бы войти в историю. Это же такой пиар! На всю страну! Эх, ничего вы не понимаете…
– Будет вам пиар, и даже на всю страну, но только другой! – заверил вице-мэра человек в черном свитере.
– Послушайте, вы… – высокомерно произнес чиновник. – Я вашего звания не знаю, но не думаю, что оно выше полковничьего. Вы даже не представляете, на кого вы руку подняли! Да у меня и у мэра есть такие покровители в Москве, что вам и не снилось. Вас просто подставили, как марионетку. Теперь можете на своей карьере поставить жирный крест! Не на тех напали!
Черный свитер промолчал.
Пришли рабочие, и заработали отбойные молотки. Весь кабинет сразу наполнился ужасным грохотом и пылью. Отслоилась штукатурка, а за ней стали отваливаться обломки старинных кирпичей. И вдруг среди этой строительной пыли блеснул ярко-желтый металл.
Рабочие отбросили отбойники, в образовавшийся проем просунули ломы и налегли на них. Раздался страшный треск. Поднялось еще одно – большущее – облако пыли. А когда оно осело, присутствующие долго не могли поверить в увиденное. Кто-то ахал, кто-то протирал глаза, кто-то стоял, как завороженный, взирая на эту сверкающую красоту.
Восхититься на самом деле было чем. Весь простенок от пола до потолка сверкал и переливался золотом. Между аккуратно сложенными слитками в пустотах были уложены золотые монеты, звонко позвякивая, ручейками стекавшие на пол. Золотой дождь!
Жаклин подошла к черному свитеру, который от пыли стал серым, и спросила его:
– Господин полковник, а мы с моим родственником можем написать заявление, чтобы все это богатство осталось в этом городе? Например, чтобы на эти деньги построили школу или дом для престарелых людей и присвоили ему имя нашего предка Петра Коршунова, благодаря запискам которого мы и нашли это сокровище?
– Конечно, можете, – радостно отозвался полковник, уже видевший себя в генеральских погонах. – Свою премию в размере 25 процентов вы можете пожертвовать на любую благотворительность. Но остальная часть принадлежит Российскому государству, и ее мы обязаны отправить в Москву.
На лице Жаклин отразилось разочарование, и она тихо вышла из разгромленного кабинета. Сергей последовал за ней.
Погода вконец испортилась. Еще вчера стояло настоящее лето. А сегодня с утра ветер откуда-то нагнал темные тучи и вместе с ними осеннюю прохладу.
Когда они вышли из мэрии, накрапывал мелкий холодный дождь. Но зонта никто из них в спешке не захватил. Так они и пошли вниз по бывшему Университетскому проспекту, ныне носящему имя вождя мирового пролетариата, с непокрытыми головами.
Они брели рядом на расстоянии вытянутой руки друг от дружки, но врозь, каждый погруженный в собственные думы.
Кто они? Родственники? В их жилах нет ни капли общей крови. Любовники? Еще вчера они были ими. И Жаклин даже поговаривала о замужестве. Но сейчас что-то надломилось в их душах, и былое чувство куда-то исчезло.
Так в полном молчании, подставляя лица холодным каплям дождя, они дошли до Научной библиотеки университета.
– Здесь в большом читальном зале я писал сочинение на вступительных экзаменах, – первым прервал мучительную тишину Сергей.
– Здесь когда-то заседала Сибирская областная дума, – грустно ответила Жаклин. – Но на здании об этом нет никакой мемориальной таблички.
Тяжело вздохнув, она добавила:
– И, похоже, никогда уже не будет.
Чтобы переключить разговор на другую тему, он предложил:
– А в роще за библиотекой могила Потанина. Давай туда сходим?
Она отвела рукой свисающую на глаза мокрую челку и ответила голосом под стать погоде:
– Знаешь, Серёжа, сходи туда один, если хочешь. А я лучше пойду в гостиницу.
– Ты чего? Постой! – он схватил ее за руку. – Ты обиделась, что ли?
Она настойчиво разжала его пальцы. Он ухватил ее еще с большей силой.
– Пожалуйста, отпусти. Мне больно.
– Нет. Ты вначале объясни, в чем я опять перед тобой провинился?
– Ни в чем. Просто я ошиблась.
– Как это?
Она высвободила свою руку и произнесла свой приговор:
– Три поколения хранили и оберегали эту тайну. Их пытали, расстреливали. А ты вот так просто взял и сдал ее чекистам.
– Я беспокоился за тебя! За твою жизнь! – воскликнул он в свое оправдание.
– Не надо, Сережа. Ты же видел, что вице-мэру сейчас было не до нас.
– Но кто знал, что ФСБ распутывает его коррупционные дела. Это случайное стечение обстоятельств. Не более.
Она посмотрела ему в глаза и с еще большей твердостью сказала:
– Человечество вымирает. Раньше были люди, а теперь людишки. Боятся каждого шороха. Ради сытой жизни готовы пожертвовать любой, даже самой святой идей. К сожалению, Коршуновы не оказались исключением.
– Ну знаешь ли? – взорвался он. – Ты уж говори, да не заговаривайся. Ты что, хотела, чтобы я вытащил из небытия бело-зеленое знамя областников и стал призывать к отделению Сибири от России?
– Пожалуйста, не передергивай! – взмолилась она.
Но он уже не мог остановиться. Нес какую-то ахинею. И сам все это прекрасно понимал, отчего выглядел еще глупее.
– Нет. Признайся: ты этого хотела? Для этого тебя натаскивало ЦРУ в твоем Станфордском университете? Чтобы насадить раскол в России и развалить ее, как вы недавно развалили Советский Союз? Ничего у вас не выйдет! Сибирь была и останется частью России. А не Соединенных Штатов или Китая. Мы сами, без вашей помощи, разберемся в своих проблемах и заставим центр уважать права провинции.
Она еще раз смерила его взглядом, словно перед ней стоял незнакомый человек, и тихо произнесла:
– Как я понимаю твою прабабку. Я, наверное, тоже могу любить только героев. Ты к их числу не относишься.
Она повернулась и пошла прямо по лужам по направлению к гостинице.
Он какое-то время еще постоял под дождем, а потом махнул рукой и побежал обратно в мэрию. Ужасно хотелось поведать коллегам правду о золоте командарма. Это для него сейчас было ценнее всего в жизни.
В гостиницу его привезли только вечером. Усталого, охрипшего от интервью, но счастливого. Оказавшись в центре внимания, он поверил в свои силы и совсем избавился от хандры. Оставалось только помириться с Жаклин, попросить прощения, сказать, что его словно укусила какая-то муха, и он стал нести всякую чушь. Она, конечно, поймет. Она же умная и родная. И простит. Обязательно простит. Не может не простить.
Он уже представлял себе, как они вместе с Жаклин будут смотреть вместе вечерние новости с его участием, пить шампанское и навсегда забудут о дневной ссоре.
– Извините, вы к госпоже Готье? – окликнула его дежурная.
– Да, – бросил он на ходу, направляясь к лифту.
– А она уже выехала.
Он остановился посреди холла.
– Когда?
– Часа три назад. Я сама вызывала ей такси в аэропорт. Она торопилась на вечерний рейс в Москву.
Он повернулся и понуро направился к выходу.
– А ваша фамилия не Коршунов? – окликнула его дежурная.
– Да. Это я.
– Госпожа Готье просила передать вам это.
Девушка положила на стойку большой пакет.
Он сразу раскрыл его в надежде увидеть весточку от Жаклин, но в конверте ничего, кроме желтой ученической тетради с окончанием прадедовой рукописи, не было.
Глава 7. Отцы и дети
Видит Бог, я не собирался писать продолжение своих мемуаров. По ночам меня долго мучили кошмары, и по настоянию доктора я дал честное слово своей жене Терезе никогда больше не садиться за письменный стол. И десять лет я свято выполнял его.
Но сейчас Терезы нет со мной. Слава богу, они с Леночкой успели выехать в Париж. А я остался доделывать дела. Покупателя на фабрику и магазины я, естественно, не нашел. Никто не захотел рисковать. Ведь до последнего дня было неясно, кто займет Прагу – союзники или советские войска.
Не повезло. Чехословакию оккупировала Красная армия. Мне надо было скорей уносить ноги. Ведь красные меня по головке не погладят. Но события развивались столь стремительно, что я оказался заложником, боясь высунуться из квартиры.
Еще вчера я съездил на фабрику и рассчитал последних рабочих. На обратном пути мой автомобиль попал в уличную перестрелку между немцами и чешскими повстанцами, и шальной пулей мне зацепило плечо. Врач осмотрел рану и заверил, что ничего опасного нет, но посоветовал пару дней отлежаться.
Утром я проснулся от грохота и металлического лязга. Словно находился не в своей квартире, а на каком-нибудь заводе или того хуже – в аду.
Спросонья я вскочил с кровати, раздвинул шторы и выглянул в окно. По улице шла танковая колонна под красными знаменами.
Какое-то время я провожал громыхающие железные машины недоумевающим взглядом. А потом, когда до меня дошел смысл происшедшего, обессиленный, я рухнул обратно на кровать.
«Ну вот и всё. Добегался. Четверть века я стремился убежать от красной чумы, но она все-таки настигла меня в моем родном городе», – констатировал горькую истину уставший старик, живущий во мне.
Но тот, ДРУГОЙ, который всегда так отчаянно цеплялся за жизнь и не раз спасал меня, казалось бы, из самых безвыходных ситуаций, еще до конца не сдался.
«Вставай! Бери документы и деньги и любой ценой пробирайся к швейцарской границе. Ты должен выжить. Если тебе самому безразлична твоя жизнь, то подумай хотя бы о жене и дочери».
Инстинкт жизни почти победил, я уже вознамерился побежать и дальше, но не смог. Тело отказалось повиноваться рассудку. В таком оцепенении я пролежал еще долго. Пока не сдался.
На самом деле у меня не было выбора. Судьба давно все решила. И когда я это осознал, паралич тут же отпустил мои конечности. И я почувствовал удивительную свободу.
Я все-таки нашел своего отца. Вернее, двух.
В 31 году, после очередного курса лечения в швейцарской клинике, где меня более или менее научили разговаривать по слогам, я вернулся в Прагу и решил-таки нанести визит Павлу Петровичу Войцеховскому, фамилию которого носил в раннем детстве.
Он проживал всего в двух кварталах от меня.
Дверь мне отворила еще не старая, но сильно потрепанная дама в замусоленном халате и с дымящейся папиросой в длинном мундштуке.
– Вам, собственно говоря, кого? – поинтересовалась она хриплым голосом по-немецки.
– Па-вел Петро-вич Вой-це-хов-ский… – заикаясь, выдавил я из себя.
– Пауль, к тебе пришел какой-то господин.
– Если он не из муниципалитета, гони его в шею! – прокричал из глубины старческий голос.
– Фу, какой ты стал грубиян, Пауль! – дама сморщила нос. – Вы проходите, не стесняйтесь. Его сильно мучит подагра. Вот он и злится. Как вас представить?
– Кор-шунов Пётр Афа-насьевич.
– Так вы из России? – удивилась женщина. – Неужели Советы решили оценить заслуги моего мужа перед вашей страной?
– Воз-можно, – уклончиво ответил я, опасаясь сказать правду, чтобы меня не выгнали раньше времени.
Хозяйка сразу переменилась в лице. Если вначале стареющая красотка больше по привычке строила глазки незнакомому мужчине, то теперь, когда возник корыстный интерес, ее словно подменили, и она стала сама любезность, правда, чересчур приторная.
– Вы уж нас, пожалуйста, извините, что не убрано. Понимаете, скудность пенсиона, который выплачивает Чехословакия моему мужу, не позволяет нам содержать прислугу. Все приходится делать самой. Считать каждую крону.
Дама даже уронила слезу для большей убедительности.
– Пауль, этот господин из Советской России.
– И что ему надо? – грубо выкрикнул старик.
– У него к тебе дело, которое может принести нам доход.
– Что ж ты раньше не сказала! – голос мигом подобрел, и из комнаты на инвалидной коляске выехал растрепанный, обрюзгший старик.
Я снова представился, уже почти не заикаясь.
– И что вас привело к старому инвалиду? – спросил Войцеховский по-русски.
Я тем временем изучал его лицо, стараясь отыскать черты сходства, но так ничего общего между нами и не обнаружил. У него были водянистые навыкате глаза и сплющенный нос. Этот человек никак не мог быть моим отцом.
Но на всякий случай я спросил его:
– Вы никогда не работали на Змеиногорском руднике?
Старик изменился в лице, побледнел, подбородок у него затрясся, и из уголка рта вытекла струйка слюны.
– Так вы из полиции? – произнес он дрожащим голосом.
И, не дождавшись от меня ответа, добавил:
– Ведь столько лет прошло! А вон, глядите-ка, докопались. Неужели коммунистам больше делать нечего, как распутывать старые семейные преступления?
Я не понимал, о чем он. Его жена, судя по ее растерянному виду, тоже.
Инвалид лепетал то по-русски, то по-немецки какие-то обрывки фраз:
– Она мне изменила… Я уехал на край света, чтобы забыть позор… Но она нашла меня… и мальчонку с собой притащила… Копия этого музыкантишки… Я не мог смотреть на него… Какой позор! А она требовала развода… Хотела выйти замуж за своего еврея… Невыносимо… А этот дрянной обходчик по пьяному делу предложил помощь… Я не помню, пьян был… Но я просил не убивать их… Но разве в степи на морозе выживешь?
– Ничего не понимаю! – всплеснула руками жена Войцеховского.
Зато я прекрасно понял, в каком преступлении признался этот наказанный богом старик.
– Как фамилия этого музыканта? – как следователь на допросе спросил я.
– Гофман. Хаим Гофман… – теряя сознание, прошептал старик.
– Знаменитый пианист? – воскликнул я.
Но чувства уже покинули инвалида. Он откинул голову на спинку кресла и судорожно хрипел.
– Врача! Надо срочно вызвать врача! – причитала его жена.
Но я не стал ей помогать. Молча оделся, взял трость и, не попрощавшись, ушел.
Место жительства пианиста Гофмана выяснить было несложно. Вся Прага знала, где он живет. Проблемой было застать его дома. Ведь он постоянно разъезжал с гастролями по всему миру. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан, Вена… Наконец я прочитал в газетах, что маэстро после продолжительного турне вернулся в Прагу и намеревается открыть собственную школу. В заметке указывались место, дата и часы, когда будет прослушивание молодых дарований.
Я подошел к окончанию вступительных испытаний. Но в приемной его большого дома было еще многолюдно. Мамы, бабушки со своими вундеркиндами, просто юноши и девушки с задумчивыми глазами послушно дожидались своей очереди.
Меня поразила белокурая девушка с нотной папкой, стоявшая возле окна. От нее словно исходило сияние доброты и внутренней гармонии. И внешне она была весьма привлекательна, но ее душевная красота была божественной.
Я долго любовался ею. И очень огорчился, когда настала ее очередь идти на прослушивание. Через стенку я слышал ее проникновенную игру. Некоторые претенденты, заслышав ее исполнение, ушли сами. А остальных, упрямо дожидающихся своей очереди, попросил удалиться сам маэстро, выглянувший в приемную.
– Приходите завтра в это же время. Сегодня я никого больше слушать не буду. А лучше послезавтра.
Толпа рассосалась. И я остался в холле один.
– Вы тоже на прослушивание? Но я же сказал…
Музыкант не договорил. Вглядевшись, он подошел ко мне ближе.
– Скажите, мы с вами никогда прежде не встречались? – растерянно произнес он, продолжая разглядывать меня.
– Нет. Никогда.
– Но ваше лицо мне очень знакомо. Я определенно его видел раньше.
Он совсем не выглядел на свои шестьдесят лет. Энергичный, воодушевленный. Прямая противоположность старой развалине Войцеховскому.
– Я не имею никакого отношения к музыке. А играть я умею только на бирже, но никак не на фортепиано.
– Для этого тоже нужен талант, – сказал он и совсем уже по-дружески добавил: – Это очень хорошо, что вы ко мне зашли. Мы как раз сейчас собираем деньги на гонорар самым лучшим адвокатам Европы, чтобы они в суде развенчали одну фальшивку, которая может иметь для нас, евреев, ужасные последствия. Пойдемте, я вам ее покажу. Вас, кстати, как зовут?
Я представился. Он провел меня в свой кабинет. Кроме белого рояля и вертящегося стула здесь более ничего не было.
Белокурая девушка растерянно собирала с рояля свои ноты.
– Вот, познакомьтесь, пожалуйста. Это Пётр, он биржевой игрок. А это Тереза, очень талантливая пианистка. Ее ждет большое будущее, если она, конечно, будет много работать, – маэстро представил нас друг другу.
– Мой отец – тоже деловой человек. У него фабрика и несколько магазинов, – сказала Тереза, поддержав общий разговор.
Похоже, что я тоже произвел на нее впечатление.
– Вот она, эта фальшивка, которую мы хотим публично развенчать!
Я узнал бы эту книгу из тысячи. Гофман держал в руках «Протоколы сионских мудрецов».
– Но как вы это собираетесь сделать? – с неподдельным интересом спросил я.
– Очень просто. У нас есть и факты, и свидетельские показания. Важно лишь их умело обобщить и подать в суде.
И он рассказал, что «Протоколы» были написаны по указанию агента российской тайной полиции Петра Ивановича Рачковского[203] в Париже в 1895 году. С их помощью он намеревался укрепить антиеврейскую политику династии Романовых. Они получили широкое распространение, и большая часть европейской интеллигенции восприняла их как подлинный документ.
Сами же «Протоколы» основаны на запрещенной и позднее сожженной книге французского сатирика Мориса Жоли[204] «Диалоги в аду». В этой работе представлен вымышленный разговор между Монтескье[205] и Макиавелли[206]. Она должна была стать критикой жесткого правления Наполеона III, а в итоге довела Жоли до тюрьмы.
– Мне удалось заполучить экземпляр этой книги, и я обнаружил, что огромные куски «Протоколов» попросту списаны с «Диалогов». Следовательно, они не могли быть действительным отчетом о встрече еврейских мудрецов. Ведь первая конференция сионистов состоялась в Базеле лишь в 1897 году. А Жоли написал «Диалоги» за 33 года до этого, – огорошил меня Гофман.
Я не сказал Гофману, что я его сын. Сразу не случилось, а потом побоялся, что маэстро может заподозрить меня в какой-то корысти.
Ведь столько всего сошлось в один вечер! Знакомство с отцом, с Терезой, которая через год стала моей женой, и эти ужасные «Протоколы», из‑за которых столько было пролито крови!
На гонорар адвокатам, взявшимся за дело «Сионских мудрецов», я перевел внушительную сумму.
Наши адвокаты выиграли процесс в Бернском суде. Но это не помешало Гитлеру использовать «Протоколы» как обоснование для уничтожения евреев.
А в 39‑м я в последний раз увидел своего отца. Он скрывался от немцев на квартирах друзей. И однажды вечером пришел к нам с Терезой. Леночке еще годика не исполнилось. В ту пору облавы на евреев проходили каждую ночь. И Тереза из‑за дочери не разрешила мне оставить музыканта на ночлег. Она так и не узнала, кем он был для меня.
Мы накормили Хаима ужином, дали ему денег и попросили уйти. Я никогда не забуду его прощального взгляда. Он спустился по лестнице на пару ступенек, а потом обернулся и сказал с улыбкой:
– Будьте счастливы, дети мои.
В эту ночь его арестовали. Он погиб в Освенциме еще в начале войны.
Ко мне пришел советский офицер. В погонах с одной большой звездой.
– Чем обязан вашему визиту, господин майор? – поинтересовался я у нежданного гостя.
Молодой человек, на вид ему не было еще и тридцати, замялся, а потом, смущенно улыбнувшись, спросил:
– Извините меня, пожалуйста, но вы не Пётр Афанасьевич Коршунов?
Я сомневался, открываться мне или нет? Если этот майор из НКВД и пришел за мной, то почему он тогда такой вежливый и стеснительный?
Да и глупо было отпираться, даже если б меня пришли арестовывать, ведь любой сосед мог подтвердить, кто я такой.
– Да, это я. А с кем имею честь общаться?
Майор еще больше смутился и покраснел:
– Понимаете, – ответил он сбивчиво, – я тоже Коршунов. Пётр Петрович. Ваш сын.
Тут мои ноги подкосились.
– Петя… Петенька… Сынок… – успел я сказать и потерял сознание.
Очнулся я уже в кресле от едкого запаха спирта.
Первое, что я увидел, придя в чувство, открытая улыбка моего сына. Так умела улыбаться только Полина.
Прежде чем завинтить крышку фляжки, он спросил, не желаю ли я выпить за встречу.
Я, конечно же, желал. Только предложил вместо спирта выпить коньяку.
– Как тебе удалось найти меня? – спросил я сына, доставая рюмки.
– Мама мне дала адрес и подробно объяснила, как найти твой дом. Ты же сам ей об этом рассказывал в свой последний приезд.
– Да, конечно.
– Это ничего, что я вот сразу на «ты»?
– Это здорово. Обращайся ко мне и дальше так. Я же твой отец. А как мать?
Пётр нахмурился и стал мять в руках фуражку.
– Маму расстреляли в 37‑м. Чистякова – тоже. Как врагов народа.
Рюмка выскользнула из моей руки и разбилась.
– Прости, я не знал.
Я предложил помянуть их.
Мы выпили, не чокаясь.
– А тебе как удалось спастись? Ведь детей врагов народа они тоже не щадили.
– Мне повезло, – ответил Петр. – Я служил в это время на Дальнем Востоке и был тяжело ранен в стычке с японцами. Лежал в госпитале. Вот до меня и не добрались. Потом сразу попал на финскую, после – на войну с немцами.
– В каких войсках служишь, сын?
– Я танкист, папа.
– Молодец. У тебя столько наград, видать, воевал на совесть?
Тут он спросил меня:
– Слушай, а правду матери рассказали в НКВД, что ты якобы женился на капиталистке и у вас родилась дочь?
– Правда. Твою сестру зовут Елена. Ей сейчас семь лет.
– А где она?
– В Париже. Я ее с матерью отправил туда.
– Правильно сделал. Тебе тоже надо уходить.
– Теперь можно. Мы же увиделись. А ты женат, сын?
– Да, папа. У меня тоже дочь. Правда, ей всего четыре года, родилась через месяц после моей мобилизации. Я ее еще не видел. Большая, наверное.
В дверь позвонили. Я встал, чтобы открыть, но Пётр опередил меня. Он достал из кобуры пистолет и передернул затвор.
Звонок гудел настырно и пронзительно.
Сын посмотрел в дверной глазок и отпрянул. Там были военные.
– Особисты сволочи! Все-таки выследили! – выругался Пётр. – Вот, отец, возьми, – он протянул мне пистолет, – мама говорила, что ты хорошо стреляешь.
Сам же он сдернул с вешалки автомат и приготовился к стрельбе.
В дверь уже барабанили изо всех сил. Похоже, колотили прикладами. И вскоре выломали замок. В проем ворвались двое автоматчиков, но тут же полегли скошенные очередью Петра. Третий из нападавших целился в моего сына. Но я выстрелил раньше. Он упал.
Пётр выскочил на лестничную площадку и стал поливать свинцовым дождем отступающих вниз особистов.
– Им нельзя дать уйти. Иначе они вернутся с подмогой, – прокричал он, спускаясь по лестнице.
Я выбежал на балкон и увидел, что перед домом стоит целый грузовик, затянутый брезентом.
«Бедный мальчик! Как же он справится со всеми?»
Из подъезда выбежали двое солдат. Один еле передвигался. Видать, был ранен. Следом появился Пётр. Его автомат продолжал изрыгать пламя. Оба преследуемых упали на мостовую.
Тогда он отстегнул с ремня гранаты и бросил одну в кузов грузовика, а другую в кабину. Машина загорелась. Сын посмотрел вверх, увидел меня на балконе и весело помахал мне рукой, мол, все нормально, не переживай, отец.
В конце квартала показался еще грузовик. Он затормозил у первого подъезда, и из него, как муравьи, стали выпрыгивать вооруженные солдаты.
Сопротивление было бесполезно, и мой танкист бросился в ближайшую подворотню, уводя за собой преследователей. Их было человек десять. Четверть часа еще колодцы окрестных домов оглашались автоматными очередями. Но затем выстрелы стихли. И вскоре я увидел, как на плащ-палатке несли окровавленное тело моего единственного сына.
Офицер выспрашивал случайных прохожих. Но никто не знал, откуда началась стрельба.
Я вытащил трупы из квартиры и столкнул их вниз.
Потом закрыл дверь на оставшийся засов.
Уже снова ломают двери. Как я устал убегать от красных! Пусть забирают. Может быть, хоть умереть дадут на родине.
Прощайте, дорогие мои, все, кому доведется прочитать эти записки. И не судите нас слишком строго. Время было такое…
Февраль 2006 года – ноябрь 2008 годаСноски
1
«Патриотам Сибири» – публикуется по сборнику документов «Дело об отделении Сибири от России» (Томск: Изд‑во Том. ун-та, 2002. С. 92–95). // Четкого авторства этой прокламации не установлено. Сам Потанин считал, что ее написал иркутский купец С. С. Попов. Существует версия, что он был агентом III отделения. Но в прокламации практически нет тезисов, которые бы шли вразрез с идеями Потанина. Отчасти поэтому он взял на себя вину на следствии за ее появление.
(обратно)2
Ядринцев Николай Михайлович (1842–1894) – публицист, исследователь Сибири, общественный деятель, один из основоположников сибирского областничества. Самый значительный его труд – «Сибирь как колония» (1892). Горячо пропагандировал идею создания Томского университета, необходимость земского самоуправления в Сибири. В 1868 году был признан виновным в намерении отделить Сибирь от России и приговорен к ссылке в Архангельскую губернию. Участвовал в научных экспедициях на Алтай и в Минусинский край. Сотрудничал с «Томскими губернскими новостями», «Камско-Волжской газетой», журналами «Дело» и «Отечественные записки». Редактировал газету «Восточное обозрение». Жил в Томске, Омске, Санкт-Петербурге, Иркутске. // Умер и похоронен в Барнауле.
(обратно)3
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – общественный и государственный деятель времен Александра I и Николая I, реформатор, законотворец, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения.
(обратно)4
Батька – простонародное прозвище президента Белоруссии А. Г. Лукашенко.
(обратно)5
Exchange (англ.) – пункт обмена валюты.
(обратно)6
Стиль позднего модерна – направление в европейском и американском искусстве конца XIX – начала ХХ века. В архитектуре характеризуется свободной планировкой, необычностью, своеобразным декором, подчеркнутой индивидуализацией элементов зданий при подчинении единому орнаментному ритму и образно-символическому замыслу.
(обратно)7
Габсбурги – династия, правившая в Австрии. Присоединив в 1526 году Чехию и Венгрию (где титуловались королями) и другие территории, стали монархами обширного многонационального государства (в 1867–1918 годах Австро-Венгрия). Габсбурги были императорами «Священной Римской империи» (постоянно в 1438–1806 годах, кроме 1742–1745), а также королями Испании (1516–1700). Наиболее известные представители: Карл V, Филипп II (испанский), Мария Терезия, Иосиф II, Франц Иосиф I.
(обратно)8
Архив Гуверовского института – Гуверовский институт войны, революции и мира Станфордского университета (Калифорния), носит имя Герберта Кларка Гувера (1874–1964), 31‑го президента США (1929–1933).
(обратно)9
Чайльд Гарольд – романтический герой поэмы английского поэта Джорджа Байрона (1788–1824) «Паломничество Чайльд Гарольда». // Жюльен Сорель – герой романа французского писателя Стендаля (Мари-Анри Бейль (1783–1842)) «Красное и черное».
(обратно)10
Пражский Град и Малая Страна – исторические районы Праги.
(обратно)11
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – русский религиозный философ. Выслан из СССР в 1922 году. Жил и умер во Франции. От марксизма перешел к философии личности и свободы. // Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) – историк революции и Гражданской войны в России. В 1922 году выслан за границу. Автор книг «Красный террор в России», «Трагедия адмирала Колчака» и др.
(обратно)12
«Очерки Северо-Западной Монголии» и «Тунгуто-Тибетская окраина Китая» – развернутые отчеты об исследовательских экспедициях Г. Н. Потанина в Монголию и Китай.
(обратно)13
No problems, miss (англ.) – Нет проблем, мисс.
(обратно)14
Строки из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
(обратно)15
Киргизцы (здесь и далее) – имеются в виду казахи, которых до революции в России не выделяли в отдельный народ.
(обратно)16
Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге – высшее учебное заведение для женщин, готовило врачей и учителей с 1878 по 1917 год. Названо по имени их официального руководителя историка К. Н. Бестужева.
(обратно)17
Alma mater (лат.) – дословно «кормящая, благодетельная мать», старинное неформальное студенческое название университетов, дающих духовную пищу.
(обратно)18
Четверостишие А. А. Блока из «Стихов о Прекрасной Даме».
(обратно)19
Малиновский Иоанникий Алексеевич (1868–1932) – юрист, профессор. Изучал проблемы Сибири с юридической точки зрения («Ссылка в Сибирь»), выступал за отмену смертной казни. В 1907 году был выдвинут кандидатом в депутаты 3‑й Госдумы, но отказался в пользу профессора Томского технологического университета Н. В. Некрасова.
(обратно)20
Соболев Михаил Николаевич (1869–1945) – русский ученый-экономист, ординарный профессор по кафедре политической экономии и статистики Императорского Томского университета (1902). Активный член томской организации Партии народной свободы (кадетов).
(обратно)21
Сибирский социал-демократический союз – отделение РСДРП в Сибири.
(обратно)22
Союз социалистов-революционеров – организация партии эсеров. Программа: ликвидация самодержавия, создание демократической республики, введение политических свобод, социализация земли и др. Использовала легальные и нелегальные методы. В тактике значительное место отводила террору.
(обратно)23
«Искра» – газета социал-демократов, последователей В. И. Ленина (большевиков)
(обратно)24
Эсдеки – социал-демократы.
(обратно)25
Отрывок из стихотворения А. Н. Некрасова «Свидетель».
(обратно)26
Муромский Пётр Васильевич – прототипом послужил Вологодский Пётр Васильевич (1863–1925), председатель Совета министров Сибирской республики, премьер-министр Всероссийской Директории и правительства А. В. Колчака (до ноября 1919 года), почетный гражданин Сибири.
(обратно)27
Ефремовская улица – ныне улица Бакунина в Томске, на ней до сих пор сохранился дом, где проживал с семьей П. В. Вологодский. Здание находится в аварийном состоянии.
(обратно)28
Полицмейстер – начальник полиции города, ему подчинялись участковые и городские приставы, полицейские надзиратели и городовые.
(обратно)29
Фемида – древнегреческая богиня правосудия, изображалась с повязкой на глазах, рогом изобилия и весами в руках.
(обратно)30
Королёвский театр – театр, построенный в 1884–1885 годах на частные пожертвования купца Е. И. Королёва, располагался за зданием Управления Сибирской железной дороги (ныне Томский университет систем управления и радиоэлектроники), сгорел во время черносотенного погрома 1905 года.
(обратно)31
«Г. О.» – городская охрана.
(обратно)32
Черносотенцы – собирательное название представителей консервативных, антисемитских, монархических, православных кругов, активно выступавших против русской революции 1905 года. Термин «черная сотня» вошел в широкое употребление в значении ультраправых политиков и антисемитов.
(обратно)33
Троицкий собор – Троицкий кафедральный собор, православный храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Строился с 1845 по 1900 год. Общая высота с установленными крестами составляла около 60 метров. На стенах собора было выполнено около 150 священных изображений и 14 икон. Большой колокол весил почти 340 пудов. В 1930 году храм был закрыт, а в 1934‑м по приказу советских властей взорван и разобран до основания.
(обратно)34
Дантов «Ад» – сцены изображения мук грешников в аду в поэме Данте Алигьери (1265–1321) «Божественная комедия».
(обратно)35
Партия народной свободы – конституционалисты-демократы (кадеты) – одна из основных политических партий в России в 1905–1917 годах. Программа: конституционно-парламентарная монархия, демократические свободы, принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп, законодательное решение «рабочего вопроса». После Октябрьской революции партия запрещена. В ноябре 1918 года кадеты оказывали поддержку колчаковскому перевороту в Сибири.
(обратно)36
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия.
(обратно)37
Вий – сказочное существо в восточнославянской мифологии, предводитель гномов с вытянутыми до земли веками на глазах.
(обратно)38
Статский советник – высокий гражданский чин 5‑го класса в дореволюционной России. Лица, его имевшие, занимали должности вице-директоров департаментов, вице-губернаторов и т. д.
(обратно)39
Андреев – прототипом послужил Адрианов Александр Васильевич (1854–1920) – исследователь Сибири, публицист. Участвовал в экспедиции Г. Н. Потанина в Северо-Западную Монголию. Совершил два самостоятельных путешествия на Алтай и Саяны. Находясь на акцизной службе в Восточной Сибири, вел большую исследовательскую работу – раскапывал и изучал древние курганы, составлял археологические коллекции, гербарии, собирал этнографический материал. Первооткрыватель енисейских писаниц. В 1913 году был сослан вначале в Нарымский край, а затем в Минусинск. С 1 июня 1917 года до конца декабря 1919 года – редактор газеты «Сибирская жизнь». Вел активную полемику с большевиками. С приходом их к власти был арестован, а в марте 1920 года расстрелян.
(обратно)40
«Альпийские гномы» – швейцарские банкиры.
(обратно)41
Homo sapiens (лат.) – человек разумный.
(обратно)42
Макушин Пётр Иванович (1844–1926) – предприниматель, общественный деятель, меценат. Открыл первый крупный книжный магазин в Сибири, частную публичную библиотеку в Томске. Был инициатором создания газеты «Сибирская жизнь» и одним из первых ее редакторов, а также открытия Общества попечения о начальном образовании. На собственные средства выстроил здание и открыл Народный университет. Почетный гражданин Сибири.
(обратно)43
Шаталов Михаил Бонифациевич – прототипом послужил Шатилов Михаил Бонифатьевич (1882–1937) – исследователь, общественный деятель. В 1914–1917 годах редактировал и издавал в Томске журнал «Сибирский студент». Был учеником и последователем Г. Н. Потанина, сторонником идеи автономии Сибири. После Февральской революции вступил в партию эсеров. Был избран депутатом Всероссийского Учредительного собрания. Выступал с докладами на Сибирских областных съездах. Министр туземных дел в составе правительства Сибирской республики. В сентябре 1918 года под давлением правых написал прошение об отставке. Работал в Томске уполномоченным Сибирского союза земств и городов. При советской власти был инициатором создания, а затем директором Томского краевого музея. Арестован в 1933 году, осужден на 10 лет. Дата, место и обстоятельства смерти неизвестны.
(обратно)44
Крюгеровское пиво – пиво, сваренное предпринимателями, прусскими подданными Крюгерами. В 1913 году крюгеровский пивоваренный завод был крупным предприятием фабричного типа с производительностью более 50 тысяч ведер пива в год.
(обратно)45
Поэтесса из Барнаула Павлова – прототипом послужила вторая жена Г. Н. Потанина Васильева Мария Георгиевна (1863–1943).
(обратно)46
Саша Чёрный – поэтический псевдоним русского поэта А. М. Гликберга (1880–1932). Известен ироническими и сатирическими стихами. Здесь цитируется его стихотворение «Недоразумение».
(обратно)47
«Сатирикон» – еженедельный журнал сатиры и юмора, издавался в Санкт-Петербурге в 1908–1914 годах.
(обратно)48
Кринолин – нижняя юбка из волосяной ткани, надевавшаяся на каркас из стальных полос или китового уса для придания платью формы колокола.
(обратно)49
Бурнус – род старинной верхней русской одежды.
(обратно)50
Щапов Афанасий Прокофьевич (1831–1876) – историк, профессор Казанского университета и духовной академии. Изучал старообрядчество, церковный раскол, историю Сибири.
(обратно)51
Градчаны, собор Святого Вита, Золотая улочка, Карлов мост – исторические достопримечательности Праги.
(обратно)52
Мелкашка – мелкокалиберная винтовка.
(обратно)53
Штирлиц между Мюллером и Шелленбергом – имеются в виду герои многосерийного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».
(обратно)54
«ЧП районного масштаба» – художественный фильм, снятый режиссером С. Снежкиным в 1988 году по мотивам одноименной повести Ю. Полякова.
(обратно)55
«Сампьючайство» – личностный термин Г. Н. Потанина, означает бахвальство (сам пью чай и себя нахваливаю).
(обратно)56
Герцен Александр Иванович (1812–1870) – русский писатель, публицист, философ, революционер. С 1847 года в эмиграции. В издаваемой им газете «Колокол» обличал российское самодержавие, требовал освобождения крестьян с землей. Разочаровался в возможностях Запада и разработал теорию «русского социализма». Умер в Париже. Автобиографическое сочинение «Былое и думы» (1865–1867) – один из шедевров мемуарной литературы.
(обратно)57
Кошева (казач.) – повозка, сани.
(обратно)58
Кошевой атаман – глава войскового управления в Запорожской Сечи. Избирался сечевой радой.
(обратно)59
Фараон – карточная игра.
(обратно)60
Союз русского народа – общественная организация монархического типа. Программа базировалась на формуле «Самодержавие. // Православие. Русская народность». С 1908 года Томский губернский отдел союза признавался центральным для всех монархических организаций Сибири. Поддерживал переселение крестьян из Европейской России в Сибирь и закрепление здесь православной культуры. Ревностно относился к соблюдению российских законов по еврейскому вопросу, предлагал выселять евреев за черту оседлости, то есть из пределов Сибири вообще. Закрыт после Февральской революции распоряжением Временного правительства.
(обратно)61
Гласный городской думы – депутат.
(обратно)62
Сибирский областной союз – политическая организация, ставившая своей целью предоставление широкой автономии Сибири. Создан в 1905 году.
(обратно)63
Вытновы – купеческое семейство. Владели винокуренными и водочными заводами в Томской губернии. Меценаты и общественные деятели.
(обратно)64
Каркаралинская степь – обширная слабохолмистая территория, окружающая Каркаралинский гранитный массив в центральном Казахстане.
(обратно)65
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – русский мыслитель, революционер, анархист, панславист, один из идеологов народничества.
(обратно)66
«Отечественные записки» – русский ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1839–1884 годах (до 1867 А. А. Краевским, затем Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Г. З. Елисеевым), до 1859 года как «учено-литературный», затем как «учено-литературный и политический».
(обратно)67
Великий князь Константин Николаевич (1827–1892) – второй сын императора Николая I. Председатель Государственного совета (1865–1881). Особенное покровительство оказывал Русскому географическому обществу, также состоял председателем Русского археологического общества, президентом Русского музыкального общества.
(обратно)68
Домбра – струнный щипковый музыкальный инструмент у народов Средней Азии и Восточной Европы.
(обратно)69
Куяндинская ярмарка – ярмарка, организованная в 1848 году на торговом пути из Сибири в Среднюю Азию близ города Каркаралинска. Проводилась с 25 мая по 25 июня – перед весенней перекочевкой казахов. В 1913 году учтенные обороты месячной ярмарки достигали 5 миллионов рублей. Просуществовала до 1928 года.
(обратно)70
Джайляу (тюрк.) – летнее горное пастбище.
(обратно)71
Халзан, карым – метис.
(обратно)72
Царство Польское – название части Польши, вошедшей в состав Российской империи в 1815 году по решению Венского конгресса. Столица – Варшава. В 1914–1915 годах оккупировано германскими войсками. На его основе в 1918 году было возрождено Польское государство.
(обратно)73
Мамона – черное божество богатства и обжорства, противопоставляемое светлым богам.
(обратно)74
Клирос – возвышение по обеим сторонам алтаря, место в христианской церкви для певчих во время богослужения.
(обратно)75
Мучить, как Ахматова Гумилёва – поэт Н. С. Гумилёв (1886–1921) был женат на поэтессе А. А. Ахматовой (1889–1966). В этой творческой семье случались кризисы, после которых муж уезжал в дальние путешествия.
(обратно)76
Скеттинг-ринг (англ.) – каток для роликовых коньков.
(обратно)77
Кам – шаман.
(обратно)78
Эрлик – высший правитель царства мертвых, владыка подземного мира в алтайском шаманизме.
(обратно)79
Стихотворение А. А. Блока «Девушка пела в церковном хоре».
(обратно)80
O! Niagara falls! The best! (англ.) – О! Ниагарские водопады! Прекрасно! В русском языке принято говорить «ниагарский водопад», но правильнее употреблять во множественном числе, потому что водопадов два, хотя они и расположены очень близко друг от друга. Один целиком находится на канадской территории, другой – на границе Канады и США.
(обратно)81
Воланд – персонаж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», олицетворяющий сатану.
(обратно)82
Потанина Александра Викторовна (1843–1893) – первая жена Г. Н. Потанина, дочь священника В. Н. Лаврского. Сопровождала мужа в путешествиях, собирала этнографические и другие материалы. Во время четвертого путешествия в Китай заболела и скончалась по дороге в Шанхай. Погребена в Кяхте.
(обратно)83
Сибирские Афины – до 1917 года Томск был культурным и образовательным центром Сибири. Императорский университет, технологический институт и другие учебные и культурные заведения позволяли томичам именовать свой город столь высокопарно.
(обратно)84
Визави (фр.) – собеседник.
(обратно)85
Град Китеж – мифический древнерусский город, находившийся, по легенде, в северной части Нижегородской области на реке Люнде. На месте, где, по преданию, некогда стоял Большой Китеж, теперь располагается озеро Светлояр. По легенде, только те, кто чист сердцем и душой, найдут путь в Китеж. Его еще называют Русской Атлантидой.
(обратно)86
Зубашев Ефим Лукьянович (1860–1928) – профессор, первый директор Томского технологического института (1899–1907), создатель первой в Сибири научно-технической библиотеки. В 1912 году избран членом Государственного совета. В марте 1917 года назначен комиссаром Временного правительства в Томской и Енисейской губерниях. В 1922 году выслан из СССР. Преподавал в Берлинском университете и Пражском политехническом институте. Умер в Праге.
(обратно)87
Художник Буркин – прототипом послужил Гуркин Григорий Иванович (1870–1937), живописец и график, по национальности алтаец. Учился в Петербурге у художника И. И. Шишкина. Его мастерская в селе Анос на Алтае являлась своеобразным культурным центром, куда на лето съезжался весь цвет сибирской интеллигенции. Вел большую просветительскую работу среди местного населения. В своих картинах воспевал величественную природу Алтая («Хан-Алтай» (1912), «Корона Катуни» (1910), «Озеро горных духов» (1910) и др.). После революции 1917 года избирался председателем Алтайской горной думы. В 1920–1925 годах находился в эмиграции в Монголии, затем вернулся на Алтай. Был репрессирован и расстрелян.
(обратно)88
Бурханизм – новая религия алтайцев, появившаяся всего 100 лет назад. Представляет собою осколки буддизма и монгольского ламаизма. Его последователи стали поклоняться всемогущему богу Бурхану и враждебно относиться к злым духам, почитаемым в шаманизме. Культ владыки подземного мира Эрлика, которому прежде шаманы приносили многочисленные жертвы, был подорван.
(обратно)89
Демиург (греч.) – дословно – мастер, ремесленник, в античной философии персонифицированное непосредственно-творческое начало мироздания, создающее космос из материи сообразно с вечным образцом.
(обратно)90
Аил – селение.
(обратно)91
Древнетюркские каганы – главы государств у древних тюркских народов (авар, печенегов, хазар и др.) в VIII–IX веках, соответствуют русскому титулу «князь».
(обратно)92
Джунгарские ханы – властелины Джунгарского ханства – государства ойратов (одна из народностей монголов) в Северо-Западном Китае, сложившегося в 30‑х годах XVII века. В 1757–1758 годах завоевано китайской династией Цин.
(обратно)93
Ламаизм – тибето-монгольская форма буддизма. Возник в Тибете в VIII веке. Признает все основные догматы буддизма, но особая роль в спасении приписывается ламам, без помощи которых рядовой верующий не может попасть в рай. Характерны пышное богослужение и театрализованные мистерии. С конца XVI века ламаизм распространился среди монголов, а в XVII веке проник на территорию России. В настоящее время имеет последователей главным образом в Бурятии, Калмыкии и Туве.
(обратно)94
Шайтан – черт.
(обратно)95
Волокуша – особое приспособление для перевозки на лошади тяжести по бездорожью – две длинные волочащиеся по земле оглобли, скрепленные на концах поперечиной, к которой привязывалась кладь.
(обратно)96
Тувинцы (сойоны, сойоты, урянхайцы, таннутувинцы) – нация, проживающая на юге Сибири и в Монголии. Говорят на тувинском языке. Верующие – ламаисты, шаманисты. По антропологическому типу – монголоиды.
(обратно)97
Кермесы – в алтайской мифологии похитители душ. Есть добрые и злые кермесы. Одни служат небесному божеству Ульгеню, а другие подземному владыке Эрлику. Последние особенно активны во время заката солнца.
(обратно)98
Кант Иммануил (1724–1804) – родоначальник немецкой классической философии, профессор Кенигсбергского университета. По его философии, идеи Бога, свободы, бессмертия теоретически недоказуемы, но являются предпосылками нравственности, необходимыми постулатами практического разума.
(обратно)99
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908) – композитор, педагог, дирижер. Классик русской музыки, создатель композиторской школы. Автор 15 опер: «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста» и др. Г. Н. Потанин, похоже, встречался с ним в ноябре 1905 года в Москве.
(обратно)100
Каштаки – здесь: винокурни.
(обратно)101
Иркутский областник Золотов – прототипом послужил Серебренников Иван Иннокентьевич (1882–1940) – исследователь истории и этнографии Сибири, правитель Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (1917 –май 1918), один из руководителей иркутской организации сибирских областников, писатель. Заочно был избран Сибирской областной думой министром снабжения и продовольствия Сибирского правительства. Затем возглавил Административный совет правительства. В кабинете министров занимал правые позиции. Руководил делегацией Сибирского правительства на Уфимском государственном совещании. Министр снабжения во Всероссийском Совете министров. В конце декабря 1918 года подал Колчаку прошение об отставке. Вернулся в Иркутск, где занимался научной и литературной деятельностью. В 1920 году эмигрировал в Харбин. В 30‑е годы перебрался в США. Автор книг «Великий отход» и «Мои воспоминания».
(обратно)102
Бюргер (нем.) – буржуа.
(обратно)103
Крупп – немецкий сталелитейный магнат.
(обратно)104
Латифундия – крупное землевладение, в Древнем Риме обрабатывалось трудом рабов.
(обратно)105
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) – российский военный и политический деятель, один из вождей Белого движения, верховный главнокомандующий (июль 1917). Сторонник твердой власти. Намеревался занять столицу, обезоружить рабочих и разогнать Петроградский Совет. Поход на Петроград окончился неудачей. Корнилов был объявлен мятежником и арестован. Октябрьскую революцию встретил враждебно. В декабре 1917 года прибыл в Новочеркасск. Принял активное участие в организации Добровольческой армии. Погиб в бою.
(обратно)106
«Вестерн Юнион» – мировая система денежных переводов.
(обратно)107
«В сторону Свана» – модернистский роман французского писателя Марселя Пруста (1871–1922), написанный в стиле потока сознания.
(обратно)108
Юлианский календарь – старый стиль – солнечный календарь, разработанный еще при участии Юлия Цезаря. Отстает от природных явлений приблизительно на одни сутки за 128 лет. В 1918 году разница между старым и новым стилем (григорианским календарем), принятым в большинстве стран, составляла 13 суток.
(обратно)109
Харбин, единственный необольшевиченный русский город – хотя и расположен на территории Китая, но в то время находился в полосе отчуждения КВЖД, считающейся собственностью России. В Харбине находились гражданское управление полосой отчуждения КВЖД и штаб охранной стражи.
(обратно)110
Газета «Знамя революции» – с 1 июня 1917 года была изданием Томского Совета рабочих и солдатских депутатов. Выступала с общедемократических позиций, а с ноября 1917 года – с большевистских. С июня 1918 года по декабрь 1919 года газета не выходила, Томск был занят белыми. Ее издание возобновилось 20 декабря 1919 года на базе типографии газеты «Сибирская жизнь». С 1 октября 1921 года газета переименована в «Красное знамя». До 1991 года – орган Томского обкома компартии. В настоящее время – коммерческое издание.
(обратно)111
Энэсы – национал-социалисты. Одно из течений в российском революционном движении. Ничего общего с немецким национал-социализмом (фашизмом) не имеет.
(обратно)112
Иркутянин Меркушев – прототипом послужил Якушев Иван Александрович (1884–1935) – политический деятель, эсер, председатель Сибирской областной думы. Стремился поставить под контроль эсеровской Сибоблдумы правительство Вологодского. Под нажимом Директории Сибирская областная дума была распущена. Находился в оппозиции колчаковскому режиму. При его активном участии во Владивостоке был создан Комитет содействия созыву Земского собора. Поддержал антиколчаковское восстание во Владивостоке под руководством Гайды. Эмигрировал вместе с чехословацкими легионерами. Обосновался в Праге, где вместе с томским профессором Е. Л. Зубашевым создал Общество сибиряков в Чехословакии. Издавал журналы «Вольная Сибирь» и «Сибирский архив», где на примере Сибири пропагандировал идеи местного самоуправления и децентрализации власти.
(обратно)113
Дербер Пётр Яковлевич (1888–1938) – политический деятель, представитель правого крыла партии эсеров, левого течения сибирских областников. В 1917 году член Сибирской областной думы и Сибирского областного совета. С января 1918 года глава Временного Сибирского правительства. Бежал в Харбин. В июне 1918 года во Владивостоке объявил себя главой Временного правительства автономной Сибири, которое в октябре самораспустилось, передав власть Сибирскому правительству в Омске. Вернулся в Томск. После колчаковского переворота был арестован и направлен в Семипалатинскую тюрьму. После освобождения восставшими солдатами местного гарнизона стал сотрудничать с советской властью. В 1922 году арестован и осужден на 5 лет. В 1924 году освобожден. Работал в Госплане и наркомате торговли в Москве. В 1938 году репрессирован и расстрелян.
(обратно)114
«Большой брат» – здесь имеются в виду США.
(обратно)115
Квебекская партия – политическая партия во франкоязычной канадской провинции Квебек, пропагандирующая идею независимого квебекского государства. В 1995 году провела в провинции референдум о независимости и проиграла его с отрывом в 1 процент.
(обратно)116
Канадская конфедерация – по своему политическому устройству Канада является конфедерацией по типу СССР, где каждая из провинций имеет право на отделение вплоть до образования самостоятельного государства.
(обратно)117
Кот-де-Неж – район Монреаля.
(обратно)118
Брестский мир – мирный договор Советской России с Германией и ее союзниками в мировой войне 1914–1918 годов, по которому от России отторгалась территория в 1 млн кв. км (Прибалтика, большая часть Украины и Белоруссии), Россия обязывалась демобилизовать армию и флот, а также уплатить Германии контрибуцию 6 млрд марок.
(обратно)119
Полыхаев Анатолий – прототипом послужил Пепеляев Анатолий Николаевич (1891–1938) – командующий Сибирской армией, генерал-лейтенант. В мае 1918 года возглавил антисоветский мятеж в Томске. Вместе с чехословацкими легионерами под командованием Гайды освободил от большевиков всю Транссибирскую магистраль до встречи с частями атамана Семёнова. С августа 1918 года командовал Среднесибирским корпусом. Взял Пермь, Глазов, вел наступление на Вятку. В 1919 году назначен А. Колчаком командующим 1‑й Сибирской армией, получив звание генерал-лейтенанта. В декабре 1919 года предпринял попытку вооруженного антиколчаковского выступления (в Томске, Новониколаевске, Красноярске). Эмигрировал в Харбин. В 1922 году вернулся во Владивосток и в составе Сибирской добровольческой дружины отплыл в Аян для поддержки якутского антисоветского восстания. В июне 1923 года с остатками отряда капитулировал перед советскими войсками. Приговорен судом к расстрелу, замененному 10-летним заключением. Расстрелян в 1938 году.
(обратно)120
Гайда Радола (настоящее имя и фамилия – Рудольф Гейдель) (1892–1948) – чехословацкий военный деятель. С весны 1918 года командир 7‑го полка Чехословацкого армейского корпуса. Один из инициаторов и руководителей антибольшевистского выступления Чехословацкого корпуса в России. С сентября 1918 года генерал-майор, командующий 2‑й Чехословацкой дивизией, с октября – Екатеринбургской группы. С января 1919 года генерал-лейтенант, командующий Сибирской армией. В июле (после провала наступления) смещен Колчаком с поста и «вычеркнут из списков русской армии». В ноябре 1919 года во Владивостоке возглавил выступление оппозиционных Колчаку либеральных группировок, затем выехал на родину. Был одним из руководителей чешской фашистской организации. В 1945 году арестован. Умер в заключении.
(обратно)121
Фомин Нил Валерианович (1890–1918) – эсер, депутат Учредительного собрания, начальник военного отдела Западно-Сибирского комиссариата, уполномоченный Сибирского правительства на Дальнем Востоке.
(обратно)122
Крутовский Владимир Михайлович (1856–1938) – врач, публицист, общественный деятель Сибири, один из лидеров позднего сибирского областничества, губернский комиссар Енисейской губернии. В октябре 1917 года был председателем Первого Сибирского областнического съезда в Томске, провозгласившего автономию Сибири. После падения советской власти занимал пост министра внутренних дел Сибирского правительства, заместителя председателя Совета министров. В августе 1918 года вышел из правительства и уехал в Красноярск. В сентябре вернулся в Омск и замещал премьера правительства. В ночь на 21 сентября 1918 года был арестован, под угрозой расстрела вышел в отставку и уехал в Красноярск. После восстановления советской власти в Сибири занимался медицинской практикой, был преподавателем и директором фельдшерской школы, руководил врачебным обществом. Арестован в 1938 году. Умер в тюремной больнице.
(обратно)123
Петров – прототипом послужил Михайлов Иван Адрианович (1891–1946) – сын известного народовольца. Родился на каторге. В 1917 году состоял управляющим делами Экономического совета при Временном правительстве Керенского. Член Учредительного собрания от партии эсеров. Затем переехал в Омск, где заведовал финансовым отделом крупнейшего сибирского союза кооператоров «Центросибирь». Министр финансов Сибирского правительства, затем – колчаковского. Прозван Ванькой-Каином за измену эсерам, постоянные интриги в сферах власти и чрезмерный карьеризм. Один из главных заговорщиков против Директории. В августе 1919 года был отправлен Колчаком в отставку за развал финансов. Эмигрировал в Китай, проживал в Харбине, служил в правлении КВЖД. В 1930‑х годах служил в японской военной миссии. В 1945 году арестован на территории Маньчжурии советской контрразведкой. Расстрелян в августе 1946 г.
(обратно)124
Петушинский – прототипом послужил Патушинский Григорий Борисович (1873–1931) – областник, иркутский присяжный, прокурор Красноярского окружного суда, общественный деятель, член Сибирского правительства, министр юстиции. Находился в конфликте с группой Михайлова, поддержав Сибирскую областную думу. 21 сентября в результате правительственного кризиса был смещен с поста министра и, вернувшись в Иркутск, занялся адвокатской деятельностью. Один из главных участников подготовки Иркутского эсеровского восстания в декабре 1919 года – январе 1920 года. Член «Политического центра», управляющий его ведомством юстиции. Был арестован большевиками, но смог избежать репрессий. Умер в Москве.
(обратно)125
Иванов-Ринов Павел Павлович, настоящая фамилия – Иванов (1869 – после 1927) – войсковой атаман Сибирского казачьего войска. Военный министр Сибирского правительства после ухода в отставку Гришина-Алмазова. Возрождал в армии старорежимные традиции. Один из главных виновников бессудных расправ над членами Учредительного собрания в конце декабря 1918 года. Японофил. Эвакуировался в 1922 году из Владивостока в Корею. Жил в Китае. Состоял в Совете войсковых атаманов. Установил контакт с советской разведкой. Осенью 1925 года был разоблачен своими соратниками по Белому делу, бежал в СССР, где вскоре был репрессирован.
(обратно)126
Гришин-Алмазов Алексей Николаевич, настоящая фамилия Гришин (1880–1919) – один из руководителей антибольшевистского подполья в Сибири. Военный министр и командующий Сибирской армией, генерал-майор. Уехал в Добровольческую армию на юг России. Зимой 1918–1919 годов военный губернатор Одессы. В мае 1919 года возглавлял военную делегацию к Колчаку. На Каспии был захвачен краснофлотцами и покончил с собой.
(обратно)127
Семёнов Григорий Михайлович (1890–1946) – военный деятель. После Октябрьской революции поднял мятеж, положив начало Гражданской войне в Забайкалье, был вынужден уйти в Маньчжурию. В 1918 году с помощью японских войск установил в Забайкалье режим военной диктатуры. В 1921 году был вынужден эмигрировать. Живя в Корее, Китае, Японии, Семёнов не прекращал борьбы с советским режимом. Написал мемуары «О себе. Воспоминания, мысли и выводы» (1938). Был захвачен советскими властями в Маньчжурии и повешен.
(обратно)128
Хорват Дмитрий Леонидович (1858–1937) – генерал-лейтенант (1912). С 1902 года управляющий Китайско-Восточной железной дорогой (Маньчжурия). Возглавил в Харбине Дальневосточный комитет защиты Родины. Глава администрации «отчужденной (оккупированной японцами) зоны» на Дальнем Востоке. Провозгласил в Гродекове (Приморье) образование Всероссийского правительства. Глава «Делового кабинета» в Харбине. В августе 1918 года во Владивостоке объявил себя Временным Верховным правителем России. Верховный уполномоченный Временного Сибирского правительства по Дальнему Востоку с 31.08.1918, затем представитель Омского правительства адмирала Колчака в Маньчжурии. В эмиграции с 1920 года в Китае. Советник Маньчжурского правительства по КВЖД. Умер в Пекине.
(обратно)129
Дутов Александр Ильич (1879–1921) – атаман Оренбургского казачества, полковник (1917), генерал-лейтенант (1919). По своим политическим взглядам Дутов стоял на республиканских и демократических позициях. В ноябре 1918 года части Дутова вошли в состав армии Колчака. Оренбургские казаки с переменным успехом вели борьбу с большевиками, но в сентябре 1919 года были разбиты Красной армией под Актюбинском. Атаман с остатками войска отошел в Семиречье, а в мае 1920 года перешел в Китай. Убит большевистскими агентами.
(обратно)130
Самарский Комуч – Комитет членов Учредительного собрания – эсеровское правительство, созданное в Самаре в июне 1918 года после захвата города чехами. Комитет существовал нелегально еще при советской власти, с приходом чехов объявил себя до созыва Учредительного собрания «временной властью», соединяющей законодательные, исполнительные, судебные и военные функции на территории Самарской губернии, затем стал претендовать на управление всей территорией, контролируемой чехословацкими легионерами. Комуч отменил декреты Советского правительства, возвратил бывшим владельцам национализированные советской властью промышленные предприятия, денационализировал банки, восстановил городские думы и земства, разрешил свободу частной торговли, сформировал Народную армию. В июне – августе 1918 года власть Комуча распространялась на Самарскую, часть Саратовской, Симбирскую, Казанскую, Уфимскую губернии. После создания Уфимской Директории был переименован в Съезд членов Учредительного собрания. 19 ноября 1918 года Съезд членов Учредительного собрания был арестован частями Колчака, часть членов была расстреляна, часть – отпущена. В декабре 1918 года Съезд был упразднен.
(обратно)131
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934) – одна из организаторов и руководителей партии эсеров, принадлежала к ее крайне правому крылу. После Февральской революции поддерживала буржуазное Временное правительство. После Октябрьской социалистической революции боролась против советской власти. В 1919 году эмигрировала в США, затем жила во Франции. Участвовала в издании парижского белоэмигрантского альманаха «Дни».
(обратно)132
Юровский Яков (Янкель) Михайлович (Хаимович) (1878–1938) – партийный и советский деятель. Из семьи ремесленника. Учился в Томске портняжному и часовому делу. Имел фотографическую мастерскую. В июне 1918 года комендант Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где содержалась царская семья. В ночь на 17 июля 1918 года руководил расстрелом этой семьи. Работал в Московской и Екатеринбургской ЧК. В дальнейшем – на советской и хозяйственной работах в Москве.
(обратно)133
Нилус Сергей Александрович (1862–1929) – русский духовный писатель. «Протоколы сионских мудрецов» впервые появились в 1905 году как приложение к его многотомному труду «Великое в малом».
(обратно)134
Лист Гвидо фон (1848–1919) – австрийский писатель и оккультист, основоположник ариософии. На основании расшифровки древних рун выстроил особую мистическую систему – аналог каббалы.
(обратно)135
Гинс Константин Георгиевич (1887–1971) – юрист, профессор Петербургского университета. В конце 1917 года уехал в Омск, где летом 1918 года был привлечен на службу Сибирским правительством. Управляющий делами вначале Сибирского, а затем и Всероссийского правительства в Омске. Товарищ министра народного просвещения и товарищ министра иностранных дел. После падения режима Колчака эмигрировал в Харбин. Автор мемуаров «Сибирь, союзники и Колчак» (1921). В 1941 году переехал в США.
(обратно)136
Наздар – дружеское приветствие по-чешски.
(обратно)137
Деникин Антон Иванович (1872–1947) – военный деятель, писатель, генерал-лейтенант. Один из руководителей Белого движения, главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 года возглавил вооруженные силы юга России. После расстрела Колчака – Верховный правитель Российского государства. С апреля 1920 года в эмиграции. Автор книг «Очерки русской смуты» и «Путь русского офицера».
(обратно)138
Аэропорт Шарля де Голля – крупнейший аэропорт Парижа, названный в честь руководителя французского Сопротивления во Второй мировой войне, президента Франции (1959–1969).
(обратно)139
Монреальский Хэмпстед – престижный пригород, где в частных домах проживают зажиточные монреальцы. Район с таким же названием есть и в Лондоне.
(обратно)140
Матросская Тишина – следственный изолятор МВД России в Москве.
(обратно)141
Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – политический деятель, лидер левых коммунистов, редактор большевистской газеты «Правда» (1918–1929). Член бюро ЦК большевистской партии. Расстрелян при сталинских репрессиях.
(обратно)142
Добровольческая армия – белогвардейское воинское формирование на юге России в Гражданскую войну. Создана в декабре 1917 года в Новочеркасске. Первоначально комплектовалась на добровольной основе, а затем путем мобилизации. Максимальная численность – до 50 тысяч военнослужащих. В конце 1919 года была разбита Красной армией. Остатки эвакуированы в Крым, где вошли в состав Русской армии под командованием барона П. Н. Врангеля.
(обратно)143
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога. Построена Россией в 1897–1903 годах по договору с Китаем. Собственность Российской империи. Управление дорогой располагалось в Харбине, в полосе отчуждения. С 1924 года совместное советско-китайское коммерческое предприятие. В 1935 году СССР продал КВЖД маньчжурским властям.
(обратно)144
Помпеем, не дрогнувшим перед пиратами… – здесь имеется в виду стихотворение Н. М. Гумилёва «Помпей у пиратов».
(обратно)145
Новосёлов Александр Ефремович (1884–1918) – писатель, этнограф, политический деятель. Активный сторонник сибирского областничества, эсер. Комиссар Временного правительства по Акмолинской области, член Сибирского областного совета (1917). На нелегальной сессии Сибирской областной думы в январе 1918 года в Томске был избран министром внутренних дел Сибирского правительства. В сентябре 1918 года оказался в эпицентре конфликта между Административным советом и эсеровской Сибирской областной думой. Был арестован, а затем убит якобы при попытке к бегству.
(обратно)146
Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) – политический деятель, один из лидеров партии эсеров. Министр внутренних дел Временного правительства. Председатель Уфимской Директории. С 1919 года в эмиграции.
(обратно)147
Роговский Евгений Францевич (1888–1950) – член партии эсеров, член Комуча. Директорией назначен товарищем министра внутренних дел и заведующим милицией. В ночь на 18 ноября 1918 года арестован и затем выслан за границу.
(обратно)148
Болдырев Василий Георгиевич (1886–1933) – генерал-лейтенант (1917). В 1918 году член контрреволюционных организаций «Национальный центр» и «Союз возрождения», член Уфимской Директории и главком ее войск. После переворота Колчака выслан в Японию. В 1920–1922 годах занимал военные посты в белогвардейских правительствах Дальнего Востока. После падения Владивостока арестован, в тюрьме заявил о своем желании служить советской власти, в 1926 году амнистирован. Автор ряда работ по военной истории.
(обратно)149
Публикуется из книги И. И. Серебренникова «Гражданская война в России: великий отход» (М.: АСТ, 2003. С. 424–425).
(обратно)150
Маннергейм Карл Густав (1867–1951) – генерал-лейтенант Российской армии, регент Финляндии, маршал, главнокомандующий финской армией в войнах с СССР. Президент Финляндии (1944–1946).
(обратно)151
Гришина-Алмазова (Захарова) Мария Александровна – супруга военного министра Сибирского правительства и командрама Сибирской армии генерала Гришина-Алмазова, хозяйка одного из самых видных омских салонов. После восстановления в Сибири советской власти подверглась аресту, в Иркутске содержалась в одной тюрьме с Колчаком, вместе с бывшими министрами колчаковского правительства оказалась в мае 1920 года на скамье подсудимых, но была оправдана.
(обратно)152
Полыхаев Виктор – прототипом послужил Пепеляев Виктор Николаевич (1884–1920), партийный (кадет) и государственный деятель. Выпускник Томского университета. Депутат 4‑й Государственной думы. С 1917 года член ЦК Партии народной свободы, комиссар Временного правительства в Кронштадте. Участник Корниловского выступления. После октябрьского переворота член Московского отделения «Национального центра», по поручению которого в августе 1918 года выехал в Сибирь для установления связи с антибольшевистскими силами и командованием Чехословацкого корпуса. Один из организаторов переворота в Омске (18 ноября 1918) и провозглашения А. В. Колчака Верховным правителем России. Директор департамента милиции, товарищ министра, министр внутренних дел, с 23 ноября 1919 года председатель Всероссийского Совета министров. Арестован и расстрелян вместе с А. В. Колчаком в Иркутске.
(обратно)153
«Национальный центр» – ведущая общественно-политическая организация либеральной оппозиции большевистскому режиму в годы Гражданской войны.
(обратно)154
Алаш-Орда – центральный орган власти Алашской автономии (декабрь 1917 – март 1920), созданной на территории нынешнего Казахстана со столицей в Семипалатинске, также обиходное название ее правительства. Инициирована членами партии «Алаш» и учреждена Общекиргизским сьездом в Оренбурге в декабре 1917 года. От контактов и компромиссов с советской властью алаш-ординцы перешли к союзу с Омском для борьбы с Советами. Однако Колчак отказал Алаш-Орде в признании. Ликвидирована большевистским Военно-революционным комитетом по управлению Киргизским краем 5 марта 1920 года.
(обратно)155
Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) – политический деятель, эсер, член Учредительного собрания, Комуча, Уфимской Директории. В ноябре 1918 года после военного переворота в Омске был вместе со своими коллегами по правительству выслан из Сибири адмиралом Колчаком в Китай. В январе 1919 года через Америку прибыл в Париж. С 1940 года проживал в Нью-Йорке, где и скончался.
(обратно)156
Каппель Владимир Оскарович (1883–1920) – генерал-лейтенант (1919). Командовал войсками Комуча в июне – августе 1918 года в Поволжье, а затем в армии Колчака – Волжским корпусом. В июле – октябре корпус Каппеля действовал в районе Челябинска и на реке Тобол. Во время отхода белогвардейцев на Омск возглавлял так называемую Московскую группу войск. С ноября 1919 года командующий 3‑й армией. В декабре 1919 года был назначен Колчаком главнокомандующим Восточным фронтом. Погиб во время Ледяного похода под Иркутском. Остатки колчаковских войск в Забайкалье и на Дальнем Востоке называли себя каппелевцами.
(обратно)157
Рикардо Давид (1772–1823) – английский экономист. Ему принадлежит первая четкая формулировка количественной теории денег, разработка теория ренты, трудовой теории стоимости (положенной впоследствии в основу теории прибавочной стоимости К. Маркса), заработной платы, исследование процессов движения товаров и денег, а также системы налогообложения.
(обратно)158
DHL – всемирная почтовая сеть, занимающаяся экспресс-доставками.
(обратно)159
Анна Васильевна Тимирева (Книпер) (1893–1975) – гражданская жена А. В. Колчака. Поэтесса, художница и мемуарист.
(обратно)160
«Звездная палата» (по Г. К. Гинсу) – Совет Верховного правителя. Выделился из Совета министров весной 1919 года. Фактически его главой был министр финансов Михайлов. Также были представлены министр иностранных дел Сукин, министр юстиции Тельберг, председатель Совмина Вологодский, министр внутренних дел В. Пепеляев. Министры, не вошедшие в него, обвиняли Совет Верховного правителя в олигархии. Задумывался первоначально для обсуждения вопросов незаконодательного характера. Собирался три раза в неделю на 1–2 часа в неофициальной обстановке и зачастую проводил заседания в форме беседы. В августе 1919 года после ухода в отставку Михайлова и Тельберга совет распался.
(обратно)161
Герой цитирует четверостишие Осипа Мандельштама из сборника «Камень» (1909).
(обратно)162
Вильсон Томас Вудро (1856–1924) – политический и государственный деятель США. Президент США в 1913–1921 годах, демократ. Профессор юриспруденции. Став президентом, Вильсон выдвинул программу социальных и экономических реформ. После начала Первой мировой войны провозгласил нейтралитет США, в то же время поддерживал тесные связи с Антантой. В апреле 1917 года объявил о вступлении США в войну против Германии. Автор «14 пунктов», предусматривающих заключение мира без аннексий и контрибуций и создание Лиги наций.
(обратно)163
Троцкий Лев Давидович (Лейба Бронштейн) (1879–1940) – советский партийный и государственный деятель, один из организаторов Октябрьской революции, один из создателей Красной армии.
(обратно)164
Лебедев Дмитрий Антонович (1882–1928) – генерал-майор, военный министр в правительстве Колчака (1919). В Сибирь послан генералом Корниловым как представитель Добровольческой армии. Участвовал в деятельности офицерского подполья, затем служил в Сибирской армии. В ноябре 1918 года был активным участником прихода к власти адмирала А. В. Колчака. С 21 ноября 1918 года – начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего. Вместе с генералом К. В. Сахаровым был автором плана Челябинской операции. После ее неудачи был смещен с постов начальника штаба и военного министра. Назначен командующим Отдельной Степной группой войск на правах командующего армией, затем командиром Уральской группы войск. В 1922 году – помощник генерала М. К. Дитерихса и начальник вооруженных сил Владивостока. Эмигрировал в Китай, жил в Шанхае, основатель и редактор газеты «Русская мысль»
(обратно)165
Ханжин Михаил Васильевич (1871–1961) – участник Белого движения, генерал от артиллерии (1919). В июле 1918 года поступил на службу в войска Сибирского правительства, командовал 3‑м Уральским армейским корпусом. После установления власти А. В. Колчака занимал пост командующего Западной армией. После сдачи Уфы ушел с этого поста. В октябре 1919 года был назначен военным министром Омского правительства. После падения Колчака эмигрировал в Китай. Арестован советской контрразведкой в 1945 году в Дайрене. Приговорен к 10-летнему тюремному заключению. В 1954 году по амнистии вышел на свободу. Умер в Казахстане.
(обратно)166
Войцеховский Сергей Николаевич (1883–1951) – генерал-лейтенант. С февраля 1918 года командир полка Чехословацкого корпуса, полковник. Руководил выступлением Чехословацкого корпуса в мае 1918 года в Челябинске. Командовал сначала Челябинской, затем Екатеринбургской группой войск в чине генерал-майора. В июле 1919 года возглавил 2‑ю армию. После смерти генерала Каппеля стал главнокомандующим колчаковских войск в период Сибирского Ледяного похода. Эмигрировал в Китай. Затем уехал в Чехословакию, где командовал Моравским, затем Чешским военными округами, бригадой, дивизией. Арестован советской контрразведкой в Праге в 1945 году. Умер в лагере в районе Тайшета.
(обратно)167
Юденич Николай Николаевич (1862–1933) – российский военачальник. Был назначен А. В. Колчаком главнокомандующим Северо-Западной армией, сформированной русскими эмигрантами в Эстонии, и вошел в состав Северо-Западного правительства. В сентябре 1919 года армия Юденича прорвала фронт большевиков и подошла к Петрограду, но была отброшена. Эмигрировал в Англию, впоследствии переселился во Францию, где и умер.
(обратно)168
Сахаров Константин Вячеславович (1881–1941) – генерал-лейтенант. Участник Корниловского выступления 1917 года, в Добровольческой армии с декабря 1917 года по март 1919 года. Прибыл к Колчаку как генерал для поручений. В штабе Колчака с апреля по май 1919 года. Занимал посты начальника штаба Западной армии, ее командующего, а также главнокомандующего Восточным фронтом. Разработал и руководил Челябинской операцией в июле 1919 года, закончившейся полным поражением белых. Снят за сдачу Омска, арестован генералом Пепеляевым на станции Тайга. Освобожден от ареста генералом Каппелем. Эмигрировал сначала в Японию, затем в Германию. Придерживался крайне правых политических, националистических взглядов. Автор книги «Белая Сибирь» (1923).
(обратно)169
Щетинкин Пётр Ефимович (1884–1927) – один из руководителей партизанского движения в Сибири во время Гражданской войны, штабс-капитан. После Октябрьской революции активно участвовал в установлении советской власти в Ачинске. После прихода к власти белых – на подпольной работе, руководил созданием партизанских отрядов. В начале 1919 года соединился с партизанским отрядом А. Д. Кравченко (Енисейская губерния) и стал начальником штаба партизанской армии. В 1920 году член Чрезвычайного ревтрибунала, судившего бывших колчаковских министров. Воевал против войск генерала П. Н. Врангеля в Крыму. В 1921 году участвовал в ликвидации войск генерала Унгерна в Монголии.
(обратно)170
Великий князь Николай Николаевич Романов (1856–1929) – внук Николая I, женат на Анастасии Николаевне, принцессе Черногорской, детей не имел. При отречении от престола Николай II назначил его Верховным главнокомандующим. Великий князь прибыл в Ставку, но, посоветовавшись с генералами, отказался от этого поста. Среди белой эмиграции считался претендентом на российский престол. В эмиграции с апреля 1919 года. Жил в Италии, с 1922 года – во Франции.
(обратно)171
Минин Козьма (умер в 1616) и Пожарский Дмитрий (1578–1642) – руководители народного ополчения, освободившие Москву от польских интервентов.
(обратно)172
Розанов Сергей Николаевич (1869–1937) – генерал-майор (1914). В Красной армии с 1918 года. Перешел на сторону белых. В Белом движении: начальник штаба Народной армии Комуча и начальник штаба Российской армии Уфимской Директории при главкоме генерале Болдыреве. Особый уполномоченный адмирала Колчака в Красноярске (генерал-губернатор Енисейской области). Вел жесточайшую борьбу с просоветскими выступлениями и партизанскими отрядами (март – июнь 1919). Командующий войсками и главный начальник Приамурского края (июль 1919 – сентябрь 1922). В эмиграции с 1922 года. Жил в Маньчжурии, затем – во Франции.
(обратно)173
Ивакин Аркадий Васильевич (1893–1919) – полковник, командир 2‑го Сибирского стрелкового Барабинского полка, убит при попытке антиколчаковского восстания в Новониколаевске.
(обратно)174
Финита ла комедиа (ит.) – комедия окончена.
(обратно)175
Вашингтон Джордж (1732–1799) – первый президент США (1789–1797), главнокомандующий армией колонистов в Войне за независимость в Северной Америке (1775–1783). Председатель Конвента (1787) по выработке Конституции США. Выступал за сохранение Соединенными Штатами нейтралитета в отношении соперничества между европейскими державами. Отказался баллотироваться на президентский пост в третий раз.
(обратно)176
Ганнибал (247 – около 182 до н. э.) – карфагенский военачальник и государственный деятель, главнокомандующий карфагенской армией во 2‑й Пунической войне (218–201 до н. э.), которую Карфаген вел против Рима.
(обратно)177
Дитерихс Михаил Константинович (1874–1937) – русский военный деятель, генерал-лейтенант (1918). Начальник штаба Чехословацкого корпуса. В отсутствии командира корпуса Я. Сыровы отправил эшелон с золотом в Омск в распоряжение Директории. В октябре 1918 года – январе 1919 года был начальником штаба Западного фронта, затем его главнокомандующим, позднее исполнял особые поручения при Ставке. В частности, руководил расследованием обстоятельств убийства членов царской семьи. С июня 1919 года командующий Западной армией, а с июля по конец ноября 1919 года главком Восточного фронта и одновременно начальник штаба Верховного главнокомандующего, исполнял обязанности военного министра в правительстве А. В. Колчака. После конфликта с последним выехал в Харбин. В июне 1922 года Земским собором Приморья избран единоличным правителем и воеводой Земской рати. Эмигрировал в Китай.
(обратно)178
Зиневич Бронислав Михайлович (1874–1920) – генерал-майор (1918). Командир отряда добровольцев в районе Златоуста, Енисейского стрелкового полка, 1‑й Сибирской стрелковой дивизии, 1‑го Среднесибирского корпуса. Начальник гарнизона в обороне Красноярска. Ратовал за созыв Земского собора. Возглавил восстание против режима Колчака в Красноярске. Расстрелян большевиками.
(обратно)179
Жанен Пьер Шарль Морис (1862–1946) – французский генерал. В августе 1918 года был назначен командующим войсками Антанты в России. Основной его задачей была эвакуация войск Чехословацких легионов во Владивосток и отправка их в Европу для пополнения войск союзников на Западном фронте. В декабре 1918 года прибыл в Омск. Однако Колчак отказался подчиняться Жанену и предпочитал советоваться с английским генералом Ноксом. Жанену осталось командовать чехословацкими войсками, контролирующими Транссиб. В январе 1920 года при молчаливом согласии Жанена Колчак был выдан революционным властям Иркутска, а затем расстрелян. Вскоре Жанен вернулся во Францию.
(обратно)180
Масарик Томаш Гарик (1850–1937) – чехословацкий государственный и политический деятель, профессор философии. Один из организаторов восстания Чехословацкого корпуса. В ноябре 1918 года избран первым чехословацким президентом (переизбирался в 1920, 1927, 1934). Во внешней политике ориентировался на западные державы, проводил антисоветский курс, содействовал устройству в Чехословакии эмигрантов из России.
(обратно)181
Толль Эдуард Васильевич (1858–1902) – полярный исследователь. Участник экспедиции А. А. Бунге на Новосибирские острова в 1885–1886 годах. Руководитель экспедиции в северные районы Якутии, исследовал район между нижним течением рек Лены и Хатанги (1893). Возглавил экспедицию на шхуне «Заря» (1900–1902). Пропал без вести в 1902 году при переходе по неокрепшему льду в районе острова Беннетта.
(обратно)182
Эльдорадо (исп.) – дословно – золотой. Мифическая страна золота и драгоценных камней.
(обратно)183
Вилькицкий Борис Андреевич (1885–1961) – русский гидрограф, геодезист, исследователь Арктики. В 1913 году командир ледокола «Таймыр», его экспедиция открыла Землю Императора Николая II (Северную Землю), остров Цесаревича Алексея (Малый Таймыр) и остров Старокадомского. В 1914–1915 годах совершил первое сквозное плавание по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск, открыв новые острова Новопашенного (ныне – острова Жохова). Контрадмирал (1919). Руководил эвакуацией войск Северной армии генерала Миллера из Архангельска в Норвегию в феврале 1920 года, после чего привел свои корабли в Черное море, передав их в Крыму генералу Врангелю. Эмигрировал в Англию. Затем переехал в Африку и трудился гидрографом в Бельгийском Конго. Умер в Брюсселе.
(обратно)184
Монк Джордж (1608–1670) – известный британский полководец и флотоводец. Архитектор реставрации монархии в Англии после республиканского правления.
(обратно)185
Калашников Николай Сергеевич (1888–1961) – бывший штабс-капитан, командовал войсками Политцентра во время Иркутского восстания (декабрь 1919) против режима Колчака.
(обратно)186
Урга – столица Монголии, нынешний Улан-Батор.
(обратно)187
Хуже Раскольникова устроился – Жаклин имеет в виду героя романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова.
(обратно)188
Букингемский дворец – резиденция английских королей.
(обратно)189
Устрялов Николай Васильевич (1890–1937) – русский правовед, философ, политический деятель, основоположник русского национал-большевизма. Кадет. Во время Гражданской войны Устрялов был на стороне белых, но позже пришел к выводу, что большевики были единственной силой, способной восстановить могущество России, и стал поддерживать Советский Союз. Как диссидент-радикал, был насильно выслан из страны и провел некоторое время в Китае и Франции, но продолжал поддерживать русскую революцию, СССР, в особенности Сталина и его стиль правления. В ссылке основал журнал «Окно», а вместе с другими диссидентами в 1921 году опубликовал ряд статей под названием «Смена вех», в которых развивал свои националистические идеи. Потом работал в качестве советника на КВЖД. В 1937 году был обвинен в шпионаже, контрреволюционной деятельности и казнен.
(обратно)190
Иван Калита (1288–1340) – московский князь, известен как собиратель земель русских. Сыграл большую роль в усилении Московского княжества и Золотой Орды.
(обратно)191
«Политический центр» – эсеро-меньшевистская организация, созданная в ноябре 1919 года в Иркутске под лозунгом «Долой Колчака и его правительство». Ставила целью организацию временной революционной власти в демократическом буферном государстве, не зависимом от большевистской России.
(обратно)192
Гаттенбергер Александр Николаевич (1861–1939) – один из лидеров сибирских областников. Служил в Томске мировым судьей. Томский губернский комиссар (1918). Противник Сибирской областной думы, разогнал ее в сентябре 1918 года. Видный деятель правительства Колчака, министр внутренних дел, член Совета Верховного правителя. В феврале 1920 года эмигрировал в Китай и проживал с перерывами в Харбине, с 1922 года – в США.
(обратно)193
Верхнеудинск – ныне Улан-Удэ, столица Бурятской Республики.
(обратно)194
Унгерн фон Штернберг Роман Фёдорович (1886–1921) – барон, русский генерал, участник Белого движения. Восстановил независимость Монголии. Автор идеи реставрации Срединной монархии в границах империи Чингисхана. Расстрелян в Новониколаевске.
(обратно)195
Внешняя и Внутренняя Монголия – маньчжурские завоеватели покоряли Монголию по частям. Северная часть страны была завоевана ими в конце XVII века и названа Внешней Монголией, в отличие от южной, завоеванной ранее. В 1921 году на территории Внешней Монголии возникло независимое государство, тогда как Внутренняя Монголия продолжает находиться в составе Китая в качестве автономного района.
(обратно)196
Бордо-Гегены, Цин, Романовы, Гогенцоллерны – свергнутые правящие династии.
(обратно)197
Аттила – вождь варваров, разрушивших Древний Рим.
(обратно)198
Верста – русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или 1 066,781 метра.
(обратно)199
«Максим» – станковый пулемет, разработанный американским оружейником Хайремом Максимом в 1883 году. Стал родоначальником всего автоматического оружия, широко использовался в Первую мировую и Гражданскую войну в России.
(обратно)200
Наханович Исай Леонтьевич (1889–1919) – революционер-большевик. В 1915 году после побега из ссылки нелегально поселился в Томске, где работал в типографии П. И. Макушина. В 1917 году принимал активное участие в установлении советской власти. Участвовал в работе 1‑го и 2‑го съездов Советов в Петрограде. С октября 1917 года – комиссар юстиции Томского губисполкома. После падения советской власти был арестован. Умер в заключении от тифа.
(обратно)201
В страшных рвах на Каштаке – здесь Каштак – наименование пригорода Томска.
(обратно)202
Ярд – британская и американская единица измерения расстояния, равная 0,9144 метра.
(обратно)203
Рачковский Пётр Иванович (1853–1910) – в 1885–1902 годах заведующий заграничной агентурой департамента полиции. Был одним из организаторов еврейских погромов. В 1906 году вышел в отставку и к политической деятельности не возвращался.
(обратно)204
Жоли Морис (1829–1879) – французский адвокат, публицист и сатирик. Автор политического памфлета, впоследствии положенного в основу «Протокола сионских мудрецов».
(обратно)205
Монтескье Шарль-Луи (1689–1755) – французский философ и литератор эпохи Просвещения, известный своей защитой принципа разделения исполнительной, законодательной и судебной власти.
(обратно)206
Макиавелли Никколо (1469–1527) – итальянский мыслитель, писатель, политический деятель (занимал во Флоренции пост государственного секретаря). Выступал сторонником сильной государственной власти, допускал использование любых средств для ее укрепления. Автор трактата «Государь» (опубликован в 1532).
(обратно)


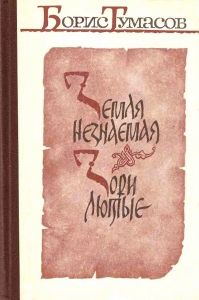


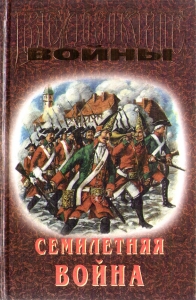



Комментарии к книге «Сибирская трагедия», Дмитрий Викторович Барчук
Всего 0 комментариев