Кейт Аткинсон Боги среди людей
Посвящается Ройбену
Человек — это рухнувшее божество. Когда люди вернутся к невинности, жизнь станет дольше и будет переходить в бессмертие так же незаметно, как мы пробуждаемся ото сна.
Ральф Уолдо Эмерсон. Природа[1]«Искусство призвано нести истину о предмете, а не быть истиной».
Сильви Бересфорд-ТоддОднажды [св. Георгий] пришел в город Салем, близ которого жил змей, каждый день пожиравший кого-нибудь из жителей, выбираемых по жребию согражданами.
В тот день, когда пришел св. Георгий, жребий пал на королевскую дочь Клеолинду. Св. Георгий решил, что она не должна умереть, отправился на болота, где обитал змей, сразился с ним и убил его.
Оказываясь перед лицом препятствий или опасностей, даже самых серьезных, даже принявших обличье змея, он не уходил в сторону и не робел, но бросался вперед, не щадя ни себя, ни своего коня. Вооруженный одним лишь копьем, он вступал в битву, сражался не за страх, а за совесть и в конце концов одолевал врага, коего другие убоялись.
Именно так должен вести себя скаут перед лицом препятствий и опасностей, даже самых серьезных и пугающих, невзирая на скудость своего оснащения.
Роберт Баден-Пауэлл. Руководство по скаутингу для мальчиков30 марта 1944 Последний вылет Нейзби
Он дошел до живой изгороди у кромки летного поля.
Обход территории. Ребята говорили «ежедневный моцион» и не находили себе места, если это правило нарушалось. Суеверные. Все как один — суеверные.
За живой изгородью тянулись распаханные под зиму голые поля. Он не загадывал увидеть алхимию весны — преображение темно-бурой поверхности в зеленую, а потом в бледно-золотую. Жизнь лучше измерять урожаями. Их он насчитал предостаточно.
Аэродром окружали плоские фермерские угодья. Сама ферма, квадратная и незыблемая, находилась в левой стороне. Чтобы самолеты не снесли дом, на коньке крыши по ночам зажигали красный маячок. Если при заходе на посадку конек оставался позади, ребята понимали, что это перелет и надо принимать меры.
Отсюда он видел дочку хозяина, которая во дворе кормила гусей. Какой-то был детский стишок… Нет, то было про хозяйку, которая оттяпала хвосты мышам. Жуткая картина. Бедные мышата, сокрушался он в детстве. Да и сейчас тоже. Детские стишки бывают на редкость кровожадными.
На дворе, в траве шурша, Жили три слепых мыша. А хозяйка ночью встала — Всем хвосты поотрубала.С дочерью фермера он так и не познакомился, даже не выяснил, как ее зовут, но, вопреки здравому смыслу, испытывал к ней самое сердечное чувство. Она всегда махала им вслед. Иногда к ней присоединялся отец, пару раз появилась мать, но ни один боевой вылет не обходился без прощания этой девушки.
Завидев его, она и сейчас помахала. Вместо того чтобы ответить тем же, он взял под козырек. Решил, что это ей понравится. С такого расстояния она могла различить не более чем военную форму. Девушка понятия не имела, кто этот человек. Тедди был всего лишь одним из многих.
Он свистнул, подзывая собаку.
1925 «Алуэтта»
— Гляди! — встрепенулся он. — Жаворонок! Полевой жаворонок. — Скосив глаза, Тедди заметил, что тетка смотрит в другую сторону. — Да нет же, вот там, — указал он пальцем.
Одна морока с ней.
— А-а, — в конце концов протянула она. — Вон где, вижу! Странно… что он там делает?
— Парит, а потом, наверное, опять улетит к небу.
Жаворонок взмыл на волне своей удивительной песни. Трепетный полет птицы и чудо ее музыки неожиданно растопили ледок в душе Тедди.
— Слышишь?
Театральным жестом тетушка приложила ладонь к уху. Расфуфыренная как павлин, она была здесь совершенно не к месту, особенно в этой затейливой, красной, как пожарный сигнал, шляпе с двумя пышными фазаньими перьями, колыхавшимися от малейшего движения. Не ровен час — охотники подстрелят такую дичь; он бы не удивился. И поделом будет, подумал Тедди. Время от времени ему разрешались — не кем-нибудь, а его собственной волей — варварские мысли: естественно, неозвученные. («Хорошие манеры, — наставляла мама, — это доспехи, которые следует надевать каждое утро».)
— Что я должна слышать? — переспросила наконец тетка.
— Песню. — Он запасся терпением. — Песню жаворонка. Все, уже смолкла, — добавил он, поскольку тетка упорно делала вид, будто прислушивается.
— Может, сейчас опять начнется.
— Вряд ли. Жаворонок улетел. Тю-тю. — Для пущей убедительности Тедди захлопал руками, как крыльями.
Ее знакомство с миром птиц ограничивалось фазаньими перьями. Да и от мира животных она была очень далека. Кошку и то не держала. К дворняжке Трикси, которая сейчас бежала впереди, с азартом обнюхивая пересохшую канаву, тетушка относилась с полным равнодушием. Трикси, самая верная его спутница, всегда была рядом, буквально со щенячьей поры, когда умещалась в кукольном домике его сестер.
Неужели тетушка ждет, что ее будут просвещать? — спрашивал себя Тедди. А иначе зачем они сюда тащились?
— Жаворонка узнают по его пению, — назидательно сообщил он. — По прекрасному пению.
Просвещать тетку в вопросах прекрасного было, разумеется, гиблым делом. Прекрасное — это данность, которую ты либо воспринимаешь, либо нет. Его сестры, Памела и Урсула, воспринимали. А старший брат Морис — нет. Братишка Джимми для прекрасного был еще слишком мал, а отец, как видно, слишком стар. У отца, Хью, была граммофонная пластинка «Взлетающий жаворонок»,{1} которую они слушали дождливыми воскресными днями. Но та чарующая музыка и близко не стояла к настоящей песне жаворонка. «Искусство, — говорила, точнее, внушала ему мать, Сильви, — призвано нести истину о предмете, а не быть истиной». Покойный дед Тедди по материнской линии был известным художником, и такое родство позволяло маме выносить авторитетные суждения об искусстве. Равно как и о прекрасном, считал Тедди. Все эти понятия — Искусство, Истина, Прекрасное — в маминых устах будто бы начинались с прописной буквы.
— Если жаворонок летает высоко, — без всякой надежды продолжал он, обращаясь к Иззи, — значит погода ясная.
— Ну, знаешь ли, ясную погоду видно безо всяких птичек: достаточно посмотреть вокруг, — сказала Иззи. — Сегодня, к примеру, погодка чудная. Люблю солнце, — добавила она, закрыв глаза и воздев к небу наштукатуренное лицо.
«Кто ж не любит солнца?» — подумал Тедди. Исключение составляла разве что его родная бабушка, жившая затворницей в Хэмпстеде: у нее в гостиной всегда были задернуты тяжелые бархатные шторы, чтобы не впускать в дом солнечный свет. Или чтобы не выпускать мрак.
«Рыцарский устав», затверженный наизусть из «Руководства по скаутингу»,{2} которое помогало ему в минуты растерянности (даже теперь, когда он по своей воле отошел от скаутского движения), гласил: «Рыцарство требует, чтобы юноши радостно и с доброй волей выполняли самую тяжелую и черную работу и чтобы они делали добро другим».
Видимо, к такому разряду обязанностей относилась и прогулка с Иззи. Как ни крути, это была тяжелая работа.
Заслонив глаза от солнца, он поискал в небе жаворонка. Тот больше не появлялся; пришлось довольствоваться маневрами ласточек. Ему вспомнился Икар: каким, интересно, выглядел он с земли? Наверное, огромным. Но ведь Икар — это миф, правда? После летних каникул Тедди предстояло отправиться в школу-интернат, но прежде нужно было многое разложить по полочкам. «Учись быть стоиком, дружище, — советовал ему отец. — Тебя ждет испытание — в этом, по моему разумению, и заключается весь смысл. Советую тебе держаться ниже парапета, — добавлял он. — Не тонуть, но и не высовываться, а барахтаться, так сказать, посередке».
Эту школу, по словам бабушки (той самой, из Хэмпстеда, единственной, поскольку мать Сильви давным-давно умерла), окончили «все мужчины у нас в роду»; можно было подумать, это закон, соблюдаемый с незапамятных времен. Тедди подозревал, что и сына его ждет та же участь, хотя сын еще только маячил где-то в невообразимо далеком будущем. На самом деле даже и не маячил — в его будущем имелась лишь дочка Виола, а сыновей не предвиделось. Об этом оставалось только сожалеть (не вслух, естественно, и уж тем более не в присутствии Виолы, которая ответила бы возмущенной отповедью).
Тедди поразился, когда Иззи вдруг запела и, что совсем уж невероятно, стала приплясывать. «Alouette, gentille alouette».{3} Французского он, считай, не знал, но словечко «gentille» звучало красиво.
— Слышал это? — спросила Иззи.
— Нет.
— Песенка военного времени. Ее распевали французские солдаты. — По теткиному лицу пробежала мимолетная тень… печали, наверное; и тут Иззи с радостью — столь же внезапной — сообщила: — Слова в ней — сущий кошмар. Про то, как ощипывают бедную птичку. Выкалывают ей глаза, выдергивают перья, ножки и так далее.
На той непостижимой и при этом неизбежной войне, которая близилась не по дням, а по часам, на войне Тедди, Четыреста двадцать пятая франко-канадская эскадрилья носила имя «Алуэтта». В феврале сорок четвертого, незадолго до последнего боевого вылета, Тедди совершил вынужденную посадку на канадской базе в Толторпе, с горящими двигателями: их подстрелили над Ла-Маншем. Ребята из Квебека дали их экипажу хлебнуть бренди — жуткого горлодера, который тем не менее все выпили с благодарностью. На эмблеме их эскадрильи была изображена птица, а под ней девиз: «Je te plumerai»,[2] и он вспомнил тот давний день с Иззи. Воспоминания будто бы принадлежали кому-то другому.
Иззи сделала пируэт.
— «Жаворонки заливались в вышине»? — сквозь смех выговорила она.
Не это ли, подумал Тедди, имел в виду его отец, называя Иззи «на редкость неуравновешенной»?
— Что, прости?
— «Большие надежды». Неужели не читал?{4} — (На миг ему, как ни странно, послышался голос матери.) — Шучу, шучу. Его ведь больше нет. Жаворонка. «Улииител. Тю-тю», — передразнила она дурашливым говорком кокни и легко добавила: — Я, между прочим, жаворонков пробовала. В Италии. Там их подают как деликатес. А в них и есть-то нечего. Так, на один укус.
Тедди передернуло. Мысль о том, что небесную птаху подстреливают в вышних сферах, что ее восхитительную песню прерывают на излете, повергала его в ужас. Через много-много лет, в начале семидесятых, Виола, поступив на отделение американистики, открыла для себя Эмили Дикинсон. Корявым, небрежным почерком дочь переписала первые строки стихотворения, которое, как ей казалось, должно было понравиться отцу (но скопировать короткий стих целиком поленилась).
Вскройте Жаворонка! Там Музыка скрыта — Лепесток в лепестке из серебра.{5}Удивительно, что дочка о нем подумала. Такое случалось редко. По его мнению, поэзия была одним из немногих увлечений, которые их сближали, хотя литературные беседы велись у них нечасто. Он решил отправить что-нибудь ей в ответ — стихотворение или хотя бы отрывок в несколько строк, просто чтобы поддержать переписку.
Здравствуй, дух веселый! Взвившись в высоту, На поля, на долы, Где земля в цвету, Изливай бездумно сердца полноту!{6}Или:
Чу! Слушай песни птиц — в них расцвела Влюбленным похвала.{7}Или:
Небесный пилигрим и менестрель! Иль кажется земля тебе нечистой? Иль, ввысь взлетев и рассыпая трель, Ты сердцем здесь с гнездом в траве росистой?{8}(Только ленивый не писал о жаворонках.) Наверное, дочка подумала бы, что он смотрит на нее свысока. По какой-то причине черпать у него знания было для нее неприемлемо, и он, поразмыслив, просто написал: «Спасибо за твое внимание».
Не успев прикусить язык — кольчуга хороших манер соскользнула, — он сказал:
— Поедать жаворонков стыдно, тетя Иззи.
— Это почему же? Ты ведь ешь курочку и прочую живность, правда? Какая разница?
В Первую мировую Иззи водила санитарный фургон. Зажаренная птица вряд ли могла разбередить ее чувства.
Разница огромная, ответил про себя Тедди, хотя невольно задумался, каков жаворонок на вкус. Хорошо, что Трикси заливистым лаем отвлекла его от этих мыслей. Он наклонился, чтобы приглядеться.
— Ты смотри-ка, медяница, — с видом знатока заговорил он сам с собой, на время забыв о жаворонках, осторожно взял свою находку двумя руками и предъявил Иззи.
— Змея? — скривилась тетушка. Видимо, змеи ничуть ее не привлекали.
— Да нет же, медяница, — ответил Тедди. — Это не змея. И не червяк. На самом деле это ящерица.
Золотисто-бронзовые чешуйки поблескивали на солнце. В этом тоже была красота. А что в природе не отмечено красотой? Даже слизни заслуживали определенного восхваления, но только не от его матери.
— До чего же ты смешной малыш, — сказала Иззи.
Тедди не считал себя малышом. С его точки зрения, Иззи, самая младшая из отцовских сестер, разбиралась в детях еще хуже, чем в зверях и птицах. Он не имел представления, с какой целью она его похитила. Как-то в воскресенье после обеда, когда он слонялся в саду и запускал вместе с Джимми бумажные самолетики, на него спикировала Иззи и заманила «на природу», под которой подразумевалась тропа, ведущая от Лисьей Поляны до железнодорожной станции, а вовсе не «горный кряж, речные воды». «Устроим себе маленькое приключение. Поболтаем. Это же здорово, правда?» И она сделала его пленником своих причуд, шла впереди и сыпала нелепыми вопросами: «Тебе доводилось проглотить червяка?», «Любишь играть в индейцев и ковбоев?», «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». (Нет. Да. Машинистом поезда.)
Он бережно вернул медяницу в траву и, чтобы утешить Иззи после недоразумения с жаворонком, решил порадовать ее колокольчиками.
— В лес придется идти лугом, — предупредил он, с сомнением глядя на ее туфли.
Похоже, они были сделаны из крокодиловой кожи, выкрашенной в ядовито-зеленый цвет, от какого открестился бы любой уважающий себя крокодил. Новехонькие, они явно не годились для походов по лугам. День клонился к вечеру, и молочное стадо, привыкшее считать этот луг своим, уже, к счастью, покинуло выпас. Крупные, тучные коровы с добрыми любопытными глазами были бы озадачены появлением Иззи.
Она порвала рукав, зацепившись за изгородь, а потом умудрилась вляпаться зеленой крокодиловой туфлей в коровью лепешку, которая бросилась бы в глаза кому угодно, только не Иззи. Немного реабилитировало ее перед племянником лишь то, что эти происшествия ничуть не омрачили ее завидной беззаботности. («Как я понимаю, — говорила позже его мать, — она просто возьмет перепачканные туфли и выкинет».)
Колокольчики, к сожалению, ничуть ее не заинтересовали. В Лисьей Поляне их ежегодное цветение воспринимали с таким же восторгом, какой у иных вызывают картины старых мастеров. Гостей торжественно вели в лес, чтобы они полюбовались бескрайним облаком голубизны. «Вордсворт писал о нарциссах, — говорила Сильви, — а у нас колокольчики».{9} Колокольчики им не принадлежали, отнюдь нет, но собственничество было у матери в крови.
Когда они возвращались по тропе, у Тедди почему-то начался трепет в груди, похожий на ликование сердца. До сих пор звучавшая в ушах песня жаворонка и терпкий травяной аромат необъятного букета колокольчиков сплавились воедино, чтобы подарить ему миг чистого упоения, какой-то эйфории, которая будто намекала, что все тайны вот-вот откроются. («Где-то есть мир света, — твердила его сестра Урсула, — только его заслоняет мрак». — «Манихеянка наша»,{10} — любовно приговаривал отец).
Та школа была ему, конечно, знакома, хотя и понаслышке. Морис, брат Тедди, теперь учился в Оксфорде, но когда он еще был школьником, Тедди часто сопровождал маму («мой маленький опекун»), когда та приезжала на вручение наград и юбилеи учредителей, а раз в семестр — на какое-то мероприятие под названием «день открытых дверей», когда родителей допускали (хотя и не поощряли) к общению с отпрысками. «Не школа, а исправительный дом!» — фыркала мама. Вопреки поверхностному впечатлению Сильви отнюдь не была горячей сторонницей образования.
При всей своей верности родной школе отец всячески отнекивался от любых посещений этого места. Сильви объясняла отсутствие Хью разными причинами: большой загруженностью в банке, важными встречами, претензиями акционеров. «И так далее и тому подобное», — вполголоса заканчивала Сильви. «Возвращаться всегда тяжелее, чем идти вперед», — добавляла она в часовне под стоны органа, заводившего «Господь, Отец наш небесный».
Было это два года назад — вручение грамот в последнем семестре учебы Мориса. Морис был заместителем префекта, причем словечко «заместитель» злило его до невозможности. «Второй по старшинству, — кипел он в начале выпускного класса, когда ему дали это поручение. — Я вижу себя на первых ролях, а не на вторых». Он считал, что создан быть героем, который ведет других на бой, хотя в годы грянувшей войны буквально отсиживался за начальственным столом в Уайтхолле, где павшие в бою были для него всего лишь обременительными цифрами в таблицах. Тогда, в школьной часовне, жарким июльским днем тысяча девятьсот двадцать третьего года, никто бы не поверил, что новая война разразится так скоро. Еще не потускнела позолота на именах («наши выпускники, с честью выполнившие свой долг»), вырезанных на дубовых мемориальных досках в часовне. «Что им проку от этой чести», — гневно шептала Сильви на ухо Тедди. Первая мировая превратила Сильви в пацифистку, хотя и воинствующую.
В школьной часовне было душно; под нудные директорские речи дремота слоем пыли опускалась на передние скамьи. Сквозь витражи пробивалось солнце, которое падало на пол ромбами ограненных самоцветов, каких не сыскать за церковными стенами. Вскоре судьба должна была привести сюда и Тедди. Мрачная перспектива испытаний.
Впрочем, когда дошло до дела, школьная жизнь оказалась, вопреки его ожиданиям, не столь уж страшной. Тедди легко заводил друзей и делал успехи в спорте, а эти качества всегда способствуют определенной популярности. Вдобавок он, добряк по натуре, не давал спуску задирам, и это тоже добавляло ему популярности, но тем не менее после выпуска, уже поступив в Оксфорд, он заключил, что в школе царили жестокость и варварство и что он нипочем не принесет своих детей в жертву беспощадной семейной традиции. Ему хотелось иметь много сыновей — веселых, преданных, сильных, но вместо этого он получил одну Виолу — в качестве дистилляции (а может, редукции) своих надежд.
— Расскажи о себе, — попросила Иззи, выдернув из живой изгороди стебель дягиля и тем самым разрушив очарование момента.
— А что обо мне рассказывать? — удивился Тедди, и эйфория тут же улетучилась, а тайны вновь затянуло пеленой.
Потом, уже школьником, он прочел стихотворение Руперта Брука «Голос»:{11} «…и голос, оскорбляющий молчанье. Ключа я не нашел» — точное описание подобного момента, но к этому времени (ибо такие ощущения по сути своей эфемерны) оно, как видно, улетучилось у него из памяти.
— Да что угодно, — ответила Иззи.
— Ну, мне одиннадцать лет.
— Вот глупыш, это я и сама знаю. — (Порой он в этом сомневался.) — Что делает тебя таким, каков ты есть? Какие у тебя любимые занятия? Есть ли у тебя такая штуковина… как ее… — (Иззи пасовала перед незнакомым вокабуляром.) — …Давид и Голиаф… праща, что ли?
— Рогатка?
— Вот-вот! Чтобы в людей пулять, убивать зверушек и так далее.
— Убивать зверушек? Нет уж! Я такими делами не занимаюсь. — (Такими делами занимался его брат Морис.) — Валяется где-то. Я раньше из нее каштаны с дерева сбивал.
Похоже, тетушку разочаровал его пацифизм, но прервать допрос оказалось невозможно.
— А какие-нибудь передряги? Без них у мальчишек не обходится, верно? Передряги, заварушки.
— Передряги? — Он не без содрогания припомнил историю с зеленой краской.
— Ты же состоишь в рядах бойскаутов, правильно я понимаю? — Вытянувшись по стойке смирно, Иззи с шиком вскинула руку в салюте. — Могу поспорить, ты бойскаут. «Будь готов!»
— Состоял когда-то в младшем отряде.
Ему совершенно не хотелось обсуждать с ней эту тему, но врать он не мог физически, как будто с рождения носил на себе какое-то заклятие. Обе его сестры — и даже Нэнси — при необходимости виртуозно лгали, Морис и вовсе был едва знаком с правдой (или с Истиной), а в Тедди как назло засела честность.
— Тебя исключили из бойскаутов? — оживилась Иззи. — Вышибли? Со скандалом?
— Нет, что ты!
— Ну-ка, выкладывай. Что там было?
Был «Клан Киббо Кифт»,{12} подумал Тедди. Но если заговорить об этом вслух, то придется слишком долго объяснять.
— Киббо Кифт? — переспросила она. — Какое-то клоунское имя.
— Ну а как насчет сладкого? Ты ведь до конфет сам не свой, правда? Какие твои любимые? — Она извлекла откуда-то блокнотик; Тедди встревожился. — Да ты не обращай внимания, — поспешила успокоить она. — В наше время все берется на карандаш. — Стало быть… конфеты?
— Конфеты?
— Конфеты, — подтвердила она и со вздохом добавила: — Видишь ли, милый Тедди, у меня нет знакомых мальчишек, кроме тебя. Мне интересно, из какого теста они сделаны, помимо улиток, ракушек и зеленых лягушек.{13} А ведь мальчик, — продолжала она, — это будущий мужчина. В каждом мужчине — мальчик, в каждом мальчике — мужчина и все такое. — Последнюю фразу она произнесла рассеянно, изучая при этом сорванный дягиль. — Вот ты, например, вырастешь похожим на папу?
— Надеюсь.
— Послушай, не стремись быть как все. Бери пример с меня. Ты должен вырасти настоящим пиратом!
Она принялась рвать стебель дягиля на кусочки.
— Мужчины говорят, что женщины — загадочные создания, но я думаю, это лишь уловка, чтобы напустить туману и не дать нам разглядеть их собственную абсолютную непостижимость.
Последние два слова прозвучали громко и с явным раздражением, как будто она говорила об определенном человеке. («Возле нее вечно крутится какой-нибудь мужчина», — нередко слышал Тедди от своей матери.)
— А как насчет девочек? — спросила Иззи.
— При чем тут девочки? — удивился он.
— У тебя есть подружка? Ну, ты меня понимаешь: девочка, которая тебе нравится больше всех? — Она состроила глупую гримасу, пытаясь намекнуть (с его точки зрения, безуспешно) на влюбленность и прочие глупости.
Его бросило в краску.
— Мне птичка на хвосте принесла, — не унималась Иззи, — что ты втюрился в одну из соседских девочек.
Что еще за птичка? — призадумался он. Нэнси и весь выводок ее сестер — Уинни, Герти, Милли, Беа — жили неподалеку от Лисьей Поляны, в доме под названием «Галки». В окрестных лесах гнездилось множество этих птиц; они облюбовали лужайку Шоукроссов, где миссис Шоукросс по утрам крошила для них остатки подсушенного хлеба.
Тедди ни за что не выдал бы Нэнси, даже под пытками, которые, между прочим, уже начались. Еще не хватало, чтобы тетушка издевательски трепала ее имя. С Нэнси они были друзьями не разлей вода, а вовсе не слюнявой влюбленной парочкой, на что намекала Иззи. Естественно, в будущем он собирался взять Нэнси в жены и любить, это да, но чистой, рыцарской любовью. Вообще-то, никакой другой любви он не признавал. Ему, конечно, случалось видеть, как бык покрывает корову; Морис болтал, что примерно тем же занимаются и люди, причем, с ухмылкой добавлял он, папа с мамой — не исключение. Тедди считал, что это вранье. Хью и Сильви были слишком достойной парой для такой акробатики.
— Ой, а что это мы так покраснели? — заворковала Иззи. — Не иначе как я докопалась до твоих секретов, а?
— Грушевые леденцы, — отрезал Тедди, рассчитывая покончить с этой инквизицией.
— Какие еще леденцы? — не поняла Иззи (она легко отвлекалась).
Растерзанный стебель дягиля валялся под ногами. Иззи не отличалась бережным отношением к природе. Шагая по лугу, она, со свойственной ей беспечностью, поддевала ногами гнезда чибисов, распугивала мышей-полевок. Ей был привычнее городской, механистический мир.
— Мои любимые конфеты, — ответил Тедди.
Свернув за угол, они встретили стадо коров, которые, толкаясь и теснясь на тропе, возвращались после дойки. Уже, наверное, поздно, мелькнуло в голове у Тедди. Оставалось только надеяться, что он успеет к чаю.
— Ах, какая прелесть — колокольчики! — воскликнула мама, когда они переступили через порог.
Она уже была нарядно одета и сама выглядела чудесно. В школе, где ему предстояло учиться, у мамы, по словам Мориса, было полно воздыхателей. Тедди гордился, что его мать — признанная красавица.
— Чем же можно было заниматься столько времени? — спросила Сильви.
Вопрос был обращен к Тедди, но адресован Иззи.
Сильви, в мехах, изучает свое отражение в зеркале спальни. Подняла воротник короткой пелерины, чтобы оттенить лицо. Критический осмотр. Когда-то зеркало было ей другом, а теперь оставалось равнодушным наблюдателем.
Она подняла руку к волосам — к своей «роскошной короне», гнезду шпилек и гребней. Теперь такая прическа не в моде — это клеймо матроны, отставшей от времени. Не сделать ли стрижку? Хью не переживет. У нее перед глазами промелькнуло нежданное воспоминание — набросок углем работы ее отца, сделанный им незадолго до смерти. «Сильви в облике ангела» — назвал он этот портрет. Шестнадцатилетняя, застенчивая, в длинном белом платье (если уж совсем честно — в ночной сорочке, причем совсем легкой), она сидела вполоборота к отцу, чтобы во всей красе продемонстрировать изумительный каскад волос. «Сделай скорбный вид, — требовал отец. — Думай о грехопадении рода человеческого». Сильви, перед которой маячила прекрасная, неведомая жизнь, с трудом проникалась подобными мыслями, но тем не менее прелестно надувала губки и рассеянно сверлила взглядом дальнюю стену необъятной отцовской студии.
Сидеть в такой позе было неудобно; ей до сих пор помнилось, как у нее ныли бока, — она страдала во имя папиного искусства. Великий портретист Льюэллин Бересфорд, обласканный богатыми и знаменитыми, оставил после себя одни долги. Сильви по сей день ощущала эту потерю — нет, не отца, но той жизни, которую он построил, как оказалось, на песке.
«Что посеешь, — тихонько причитала ее мать, — то и пожнешь. Только вот сеял он, а нам и пожинать-то нечего».
За его смертью последовали унизительные торги по распродаже имущества, и мать затащила Сильви на аукцион, как будто поставила своей целью проводить глазами каждую вещь, которая уплывала из их рук. Неузнанные (как им хотелось надеяться), они сидели в заднем ряду и смотрели, как их добро выставляют на всеобщее обозрение. Под конец этого оскорбительного действа на продажу выставили этюд к портрету Сильви. «Лот сто восемьдесят два. Выполненный углем портрет дочери художника», — объявил аукционист; по всей вероятности, ангельский облик Сильви был совершенно неочевиден. Пусть бы отец пририсовал ей нимб и крылья, чтобы прояснить свой замысел. А так с портрета смотрела миловидно-сердитая девочка в ночной сорочке.
При каждом объявлении цены какой-то потрепанного вида толстяк поднимал вверх свою сигару, и «Сильви» в конце концов ушла с молотка за три фунта десять шиллингов и шесть пенсов. «За бесценок», — сокрушалась ее мать. Сейчас, наверное, и этого бы не дали, подумала Сильви. После войны отцовские работы напрочь вышли из моды. Где же теперь этот портрет? — подумала она. Хорошо бы его вернуть. От этой мысли ее отражение в зеркале сделалось сердитым. Когда торги ни шатко ни валко подошли к завершению («Сборный лот: парные бронзовые подставки для каминных дров; серебряная ступка, с патиной; медный кувшин»), они, зажатые в толпе у выхода, случайно услышали, как тот неряшливый толстяк, не понижая голоса, заявляет своему спутнику: «Хотя бы расслаблюсь под этот свеженький персик». Мать Сильви вскрикнула — негромко, поскольку закатывать сцены было не в ее привычках, — и потащила свою невинную ангелицу в сторону.
Все прахом, говорила себе Сильви, все идет прахом. С начала начал, с момента грехопадения. Она поправила воротник пелерины. Для такого наряда сейчас было слишком жарко, но она считала, что меха красят ее, как ничто другое. Голубой песец; думать об этом было грустно: Сильви с нежностью относилась к лисам, которые забегали к ним в сад, — от них и пошло название поместья. Сколько же их потребовалось на эту пелерину? — задумалась она. Уж всяко меньше, чем на шубу. В шифоньере у нее висела норка — подарок от Хью на десятую годовщину их свадьбы. Пора отдать ее в переделку, чтобы выглядела более современно. «Как и меня», — сказала она зеркалу.
У Иззи была новенькая шубка-баллон. Из соболей. Как Иззи обзаводилась мехами, не имея ни гроша? «Это подарок», — отвечала она. Естественно, от мужчины, а мужчины не дарят шубки за просто так. Мужья, конечно, не в счет: тех устраивает самая скромная благодарность.
Дрожащей рукой Сильви, не склонная к излишней нервозности, облилась духами до полуобморочного состояния. Ей предстояло провести вечер в Лондоне. В поезде будет жарко и душно, а в городе — и того хуже; мехами придется пожертвовать. Как песцы пожертвовали ради нее своей жизнью. Получилась, с позволения сказать, шутка из разряда тех, что мог бы отпустить Тедди, но не Сильви. Сильви не обладала чувством юмора. Такова уж была ее натура.
Почему-то ее вниманием завладело фото на туалетном столике: студийный портрет, сделанный после рождения Джимми. Сильви позировала сидя. Новорожденный, в просторном платьице, в котором крестили всех Тоддов, будто переливался через край ее объятий, а весь остальной выводок, призванный изображать благоговение, был со знанием дела рассажен вокруг. Сильви провела пальцем по серебряной рамке, желая найти нежность, но нашла только пыль. Надо будет отчитать Бриджет. Девчонка стала филонить. («От прислуги рано или поздно жди гадостей», — поучала свекровь, когда Сильви вышла замуж за Хью.)
Шумная суета у входа могла означать только одно: возвращение Иззи. Сильви неохотно сменила меха на легкую вечернюю накидку, ради которой пожертвовали жизнью лишь трудолюбивые гусеницы шелкопряда.
Потом надела шляпку. Старомодная прическа лишала ее возможности носить популярные ныне аккуратные «менингитки», шлемики и береты, поэтому она до сих пор ходила в шляпке-капюшоне. Внезапно ей в палец впилась длинная серебряная шляпная булавка. (Можно ли шляпной булавкой убить человека? Или только ранить?) У Сильви вырвалось проклятие, отчего умытые, невинные личики ее детей на фотографии приобрели укоризненное выражение. Ничего удивительного, подумала она. Вскоре ей предстояло разменять пятый десяток, и эта перспектива вызывала у нее недовольство собой. («Еще большее недовольство», — подкусывал Хью.) Ей в спину дышала раздражительность, а впереди маячило безрассудство.
Она окинула себя последним критическим взглядом. Сойдет, подумалось ей, хотя останавливаться на таком суждении было совсем не обязательно. Вот уже два года они с ним не виделись. Сочтет ли он ее красавицей, как прежде? Ведь именно так он ее и называл. Есть ли в целом мире хоть одна женщина, равнодушная к такому обращению? Но Сильви не поддалась и сохранила свою честь. «Я замужняя женщина», — чинно повторяла она. «Тогда, радость моя, не нужно играть в эти игры, — говорил он. — Последствия могут слишком больно ударить по тебе… по нам обоим». От этих слов он смеялся, будто находя в них некую притягательность. В самом деле, она его поманила, а потом обнаружила, что зашла в тупик.
После долгого отсутствия — в интересах Империи его направили с важной миссией в одну из колониальных стран — он вернулся, жизнь Сильви стала утекать как вода у нее между пальцев, и охота к чопорности пропала напрочь.
Ее встретил необъятный букет колокольчиков.
— Ах, какая прелесть — колокольчики! — обратилась она к Тедди.
К своему мальчику. У нее было еще двое сыновей, но те как-то не считались. А дочери порой не столько вызывали нежность, сколько доставляли неприятности, с которыми приходилось разбираться. Из всех детей только один сжимал ее сердце в кулачке, грязноватом притом.
— Беги умойся перед чаем, милый, — сказала она Тедди. — Чем, интересно, ты занимался?
— Нам нужно было получше узнать друг друга, — сказала Иззи. — Замечательный мальчуган. А ты, между прочим, шикарно выглядишь, Сильви, и аромат такой, что веет за сотню ярдов. Прямо femme seduisante.[3] У тебя что-то намечается? Ну-ка, признавайся.
Сильви испепелила ее взглядом, но была избавлена от необходимости отвечать, потому что увидела грязные крокодиловые туфли и грязно-зеленую цепочку следов на дорогой ковровой дорожке в прихожей.
— Прочь! — потребовала она, подталкивая Иззи к порогу, и повторила: — Прочь!
— Чертовка, — проговорил себе под нос Хью, появившийся из своей «роптальни»,{14} когда Иззи уже бежала по тропинке. Повернувшись к Сильви, он заметил: — Прелестно выглядишь, дорогая.
Они услышали, как ожил двигатель принадлежащего Иззи «санбима», и автомобиль с душераздирающим ревом сорвался с места. Машина у нее летела, как у жабы по имени мистер Тоуд: стремительно и оглушительно.{15}
— Рано или поздно она кого-нибудь задавит, — сказал Хью, образцовый водитель. — Кстати, я думал, у нее в карманах пусто. Каким же способом она изыскала средства на новую машину?
— Не самым пристойным, будь уверен, — ответила Сильви.
Тедди наконец-то избавился от гнетущего пустословия Иззи, но теперь страдал от обычного допроса, который всякий раз учиняла мать, желая убедиться, что никого из ее детей не развратило тем или иным образом общение с Иззи.
— У нее во всем своя корысть, — туманно добавляла Сильви.
В конце концов он был отпущен, чтобы выпить чашку чая и подкрепиться кое-как приготовленным бутербродом с сардинами на подсушенном хлебе — миссис Гловер отпросилась на весь вечер по своим делам.
— Она жаворонка съела, — сообщил за чаем Тедди своим сестрам. — В Италии. Хотя какая разница где.
— Жаворонка подобьешь — добрых ангелов спугнешь,{16} — сказала Урсула и, когда Тедди ответил ей непонимающим взглядом, пояснила: — Блейк.
— Хоть бы ее саму кто-нибудь съел, — жизнерадостно пожелала Памела.
Она поступила на физико-математический факультет Университета Лидса. Ей не терпелось уехать «к бодрящему северу», «к реальным людям».
— А мы, выходит, нереальные? — пробурчал Тедди Урсуле, которая со смехом сказала: «А что вообще есть реального?» — и Тедди, у которого не было оснований ставить под сомнение феноменологический мир, счел, что это дурацкий вопрос. Реально то, что можно увидеть, распробовать, потрогать.
— Ты упускаешь из виду как минимум два чувства, — заметила Урсула.
Реальное — это лес и колокольчики, сова и лисица, игрушечный поезд, который нарезает круги по рельсам в детской комнате, запах пирога из духовки. Жаворонок, взмывающий на нити своей песни.
Отчет о событиях того вечера в Лисьей Поляне: Хью отвез Сильви на станцию и снова удалился к себе в «роптальню» с рюмкой виски и наполовину выкуренной сигарой. В своих привычках он проявлял умеренность, скорее инстинктивную, нежели сознательную. Сильви нечасто уезжала в город. «Сходить в театр и поужинать с подругами, — сказала она. — Вернусь утром». Такая непоседливость — плохое качество для жены, но приходилось во всем ей доверять, иначе здание их брака давно бы рухнуло и рассыпалось.
Памела сидела в утренней гостиной, зарывшись в учебник химии. Провалившись на вступительном экзамене в Гертон, она, в общем-то, не стремилась к «бодрящему северу», но нужда, как повторяла с досадной настойчивостью Сильви, заставляла. Памела прежде надеялась (втайне) на сверкающие медали и блистательную карьеру, а теперь опасалась, что не сумеет стать дерзновенной натурой, какой себя видела.
Растянувшись на ковре у ног Памелы, Урсула спрягала неправильные глаголы из латыни.
— Одно радует, — сказала она Памеле, — после этого жизнь покажется медом.
А Памела рассмеялась и ответила:
— Смотри — сглазишь.
Перед тем как пойти спать, Джимми сидел в пижаме за кухонным столом и с наслаждением пил молоко, заедая его печеньем. Кухарка, миссис Гловер, не допускала никаких пустых россказней, зато Бриджет, которая сейчас драила кастрюли, в ее отсутствие тешила Джимми жуткими страшилками, даром что путаными, про «Буку». Сама миссис Гловер в тот вечер сидела у себя дома со стаканчиком портера, грея ноги на каминной решетке.
Между тем Иззи мчалась по безлюдному шоссе и, отчаянно фальшивя, распевала «Алуэтту». Привязался же к ней этот мотив. Жуткая песенка, лучше бы не вспоминать. Иззи отслужила в медсанбате. Нелепое, как ей казалось, сокращение. Медико-санитарный батальон. Никогда в жизни не сидевшая за рулем, она добровольно ушла на фронт, чтобы управлять санитарным транспортом, а обязанности ее оказались просто ужасающими. Она не могла забыть, как вечерами отмывала санитарные автомобили от крови, рвотных масс и нечистот. Не могла забыть увечья, обгоревшие скелеты, разрушенные деревни, оторванные конечности, торчащие из земли и грязи. Ведра грязных, гнойных бинтов, кошмарные, незаживающие раны бедных мальчишек. Неудивительно, что людям не хотелось об этом вспоминать. Бога ради, хоть бы немного отвлечься. Ее наградили Военным крестом. Дома она о нем даже не заикалась. Убрала в ящик, вернувшись с фронта, — и все. Если вспомнить, через что прошли те молодые парни, этому кресту была грош цена.
На войне она дважды заключала помолвку; оба ее избранника погибли, сделав ей предложение; Иззи даже не успела написать родным, что ей засветило счастье. Один из тех парней, второй, умер у нее на руках. По чистой случайности она нашла его в полевом госпитале, куда доставляла раненых. Он был до такой степени изувечен, что она не сразу его узнала. Ввиду нехватки медсестер и санитарок начальница госпиталя сама предложила Иззи остаться с ним. «Все пройдет, все пройдет», — успокаивала Иззи своего жениха, сидя у его смертного одра при маслянистом свете керосиновой лампы. Он — как и все остальные — звал маму. Иззи в страшном сне не могло бы присниться, что перед смертью она станет звать Аделаиду.
Расправив простыню, она поцеловала ему руку, потому как лица почти не осталось, и доложила санитарке о его смерти. Экивоков там не признавали. Потом снова села в свою машину и отправилась дальше собирать раненых.
Получив предложение в третий раз, она уклонилась от ответа. Застенчивый молоденький капитан — звали его Тристаном — хотел обвязать ей вокруг пальца веревочку. («Прости, ничего другого сейчас предложить не могу. Вот кончится эта заваруха — и будет тебе роскошный бриллиант. Нет? Ты хорошенько подумала? А могла бы осчастливить человека».) Она поняла, что приносит беду, и решила его пощадить с несвойственным ей самоотречением — глупость, конечно, если учесть, что все эти младшие офицеры были, по сути, обречены независимо от нее.
Отказав Тристану, Иззи больше его не видела и считала погибшим (она всех их считала погибшими), но через год после окончания войны, листая страницы светской хроники, с удивлением наткнулась на его фото у дверей Сент-Мэри-Андеркрофт. Тристан стал членом парламента и баснословно разбогател, унаследовав семейное состояние. На фотографии он, сияя, держал под руку совсем юную невесту, у которой на пальце играл (если разглядывать через лупу) бриллиант — надо думать, и вправду роскошный. Иззи полагала, что это она спасла Тристана, а себя, к сожалению, спасти не сумела. В конце Первой мировой ей исполнилось двадцать четыре года; она поняла, что ее поезд ушел.
Первый из ее женихов носил имя Ричард. Больше она о нем почти ничего не знала. Кажется, увлекался охотой на лис. Подчинившись какому-то внезапному порыву, она ответила ему согласием, но на самом деле без памяти любила второго, того, который скончался у нее на руках в полевом госпитале. Она к нему прикипела, и, что еще прекраснее, он прикипел к ней. В те краткие минуты, что были отпущены им судьбой, они рисовали безоблачное будущее: конные прогулки, катанье на лодке, танцы. Вкусная еда, веселье, солнце. Шампанское, тосты за удачу. Ни грязи, ни этой бесконечной резни. Звали его Августом. Приятели говорили ему «Густи». Через несколько лет она обнаружила, что беллетристика может и воскрешать, и охранять.
— Когда все идет прахом, остается искусство, — сказала она Сильви во время следующей войны.
— По-твоему, «Приключения Августа» — это искусство? — спросила Сильви, высокомерно вздернув бровь. И ни намеком не обозначив прописную букву в имени Август.
У Иззи, естественно, понимание искусства было шире, чем у Сильви.
— Искусство — это то, что создается одним человеком для удовольствия другого.
— Хотя бы и Август? — рассмеялась Сильви.
— Хотя бы и Август, — подтвердила Иззи.
Несчастные ребята, сложившие головы в Первую мировую, были ненамного старше Тедди. Сегодня, когда они с ним остались наедине, ее вдруг захлестнула нежность к племяннику. Если бы только она могла оградить его от беды, от боли, которую (неизбежно) готовил ему этот мир. У нее, конечно, был собственный сын, рожденный ею в шестнадцать лет и поспешно отданный на усыновление, которое провернули так четко и стремительно, что она больше не вспоминала этого малыша. А раз так, оно, возможно, и к лучшему, что ее рука зависла в воздухе вместо того, чтобы погладить Тедди по голове, когда он внезапно нырнул вперед и сказал: «Смотри-ка, тетя Иззи: медяница». — «До чего же ты смешной малыш», — выговорила она и на мгновение увидела обезображенное лицо Густи, умирающего на больничной койке. А следом — рядами уходящие все дальше в бесконечность лица тех несчастных парней. Мертвецов.
Она поспешила отогнать от себя эти воспоминания и успела вывернуть руль, чтобы не сбить велосипедиста, который резко вильнул на обочину и разразился бранью вслед удаляющемуся бамперу наглого черного «санбима». «Arduis invictus» — таков был девиз медсанбата. «Противостоящий тяготам». Жутко унылая сентенция. Большое спасибо, Иззи была по горло сыта тяготами.
Машина летела по дорогам. В голове у Иззи уже проклевывались ростки «Августа».
Морис, отсутствующий в этом перечне, сейчас повязывал белый галстук-бабочку и облачался во фрак, готовясь к ужину в оксфордском клубе «Буллингдон». Перед окончанием вечера ресторан, в соответствии с традицией, полагалось разгромить. Под этим накрахмаленным панцирем сторонний наблюдатель вряд ли разглядел бы мятежное, ранимое создание, терзаемое сомнениями и болью. Для себя Морис твердо решил, что это создание никогда не выберется на свет, а в скором будущем и вовсе срастется со своим панцирем, как улитка.
«Тайное свидание». Само это выражение отдавало грехом. У него было заказано два номера в «Савое». Они встречались там и до его отъезда, но в общественных местах держались (относительно) невинно.
«Смежные номера», — сказал он. Персонал гостиницы, конечно же, не мог не понимать, что кроется за словом «смежные». Какой стыд! Когда Сильви брала такси от вокзала до отеля, сердце ее готово было вырваться из груди. Она стояла на грани грехопадения.
Искушение Хью.
«Небесный луч весьма могуч — он светит горделиво», — напевал Хью в саду. Он вышел из «роптальни», чтобы немного прогуляться после ужина (если это можно было назвать ужином). Из-за живой изгороди из остролиста, отделявшей Лисью Поляну от «Галок» до него донесся ответный напев: «А вот луна — хотя бледна владычица ночная».{17} Наверное, этим и объяснялось, что он, проскользнув сквозь лазейку, давно проделанную детьми в живой изгороди, оказался в саду Шоукроссов, а если совсем точно, то в их оранжерее, где сжал в объятиях Роберту Шоукросс. (Они с миссис Шоукросс участвовали в местной постановке «Микадо», удивив и самих себя, и друг друга страстным исполнением ролей Ко-Ко и Катиши.)
Солнце и Луна, пришло в голову Хью, мужское и женское начало. А что бы он подумал, узнав, что это имена его будущих правнуков?
— Миссис Шоукросс, — выдохнул он, изрядно расцарапавшись в узкой лазейке. Нужно было учитывать, что дети куда субтильнее, чем он.
— Просто Роберта, умоляю, Хью.
До чего же интимно прозвучало в ее устах его имя. В устах мягких и влажных, привыкших раздавать только похвалу и ободрение.
Тело ее оказалось теплым. И без корсета. Одевалась она богемно, да к тому же слыла вегетарианкой и пацифисткой, а еще ратовала за избирательное право для женщин. Эта дама хранила потрясающую верность своим идеалам. Такой личностью невозможно было не восхищаться. (Во всяком случае, до определенной степени.) Ее убеждения и страсти выплескивались наружу. Страсти Сильви бушевали исключительно внутри.
Он чуть крепче сжал в объятиях миссис Шоукросс и почувствовал ее отклик.
— Господи, — прошептала она.
— Да уж… — отозвался Хью.
Ценным качеством миссис Шоукросс… Роберты… было понимание войны. Нельзя сказать, что Хью собирался завести разговор на эту тему — нет-нет, боже упаси, — но до чего же приятно находиться рядом с той, которая понимает. Хоть сколько-нибудь. У майора Шоукросса, вернувшегося с фронта, начались какие-то недомогания, но у своей жены он всегда находил только сочувствие. А ведь не он один видел те ужасы, о каких в семье обычно не заговаривают; но у Сильви, естественно, не возникало ни малейшего желания беседовать о войне. В ткани их супружества это было заметной прорехой, которую она кое-как залатала раз и навсегда.
— Ах, как метко сказано, Хью! — восхитилась миссис Шоукросс… Роберта… — Но если не наложить умелые, невидимые стежки, рубец все равно останется, правда?
Он уже был не рад, что приплел сюда метафору шитья. В раскаленной на солнце оранжерее висел запах герани, причем, с точки зрения Хью, совершенно удушающий. Миссис Шоукросс бережно приложила ладонь к его щеке, словно к хрупкой вещице. Он приблизил свои губы к ее губам. Ну и дела, подумал он. Его занесло на неизведанную территорию.
— По правде говоря, Невилл… — застенчиво начала она («Что еще за Невилл?» — удивился про себя Хью), — Невилл теперь… ничего не может. После фронта, понимаешь?
— Майор Шоукросс?
— Да-да, Невилл. А кому охота быть… — Она зарделась.
— Вот оно что, — выдавил Хью.
От запаха герани к горлу подступала легкая тошнота. Воздуха не хватало. Нарастала паника. В отличие от некоторых своих приятелей, Хью серьезно относился к брачным обязательствам. Считая супружество компромиссом, он все же не преступал границ дозволенного. Но миссис Шоукросс… Роберта… она ведь просто соседка, в самом-то деле. У них в общей сложности десять детей — сомнительное основание для внебрачной страсти. Нет, думал он, надо как-то выпутываться из такого положения; а губы его неумолимо приближались к ее лицу.
— Господи! — воскликнула она и неожиданно отпрянула. — Неужто уже время?
Хью огляделся в поисках часов, но безуспешно.
— Сегодня же «Киббо Кифт», — объяснила она.
— «Киббо Кифт»? — Хью совсем растерялся.
— Ну да, я побегу, а то дети ждут.
— Конечно-конечно, — сказал Хью. — Дети. — И попятился к выходу. — Если когда-нибудь захотите перемолвиться словом, вы знаете, где меня искать. По соседству, — уточнил он без особой надобности.
— Да, разумеется.
Хью ретировался, выбрав окольный путь по тропе и через калитку, чтобы не продираться сквозь коварный лаз в живой изгороди.
Негоже сейчас уединяться в оплоте целомудрия — «роптальне», думал он, однако нужно как-то прийти в себя. Хью принялся насвистывать «В школе учились мы все втроем».{18} Его не покидало бодрое расположение духа.
А что же Тедди?
Тедди стоял в кружке на близлежащем лугу, куда любезно пустила детей владелица «Холла», леди Донт. Малыши — они составляли большинство — водили хоровод и при этом откалывали диковинные коленца, отвечавшие представлениям миссис Шоукросс об англосаксонских танцах. («Разве англосаксы танцевали? — удивлялась Памела. — Обычно считается, что им было не до танцев».) В руках у каждого был деревянный посох — украдкой выломанная в лесу ветка, и время от времени все останавливались, чтобы постучать этими палками о землю. Тедди пришел в «униформе», которую составляли короткие штаны, камзол и шапка-капюшон; в этом костюме он представлял собой нечто среднее между эльфом и (не самым) веселым соратником Робин Гуда. Капюшон сидел криво: Тедди из-под палки сшил его своими руками. В «Киббо Кифте» поощрялось рукоделие. Миссис Шоукросс, мать Нэнси, вечно заставляла их вышивать эмблемы, нарукавные повязки и знамена. Унизительное занятие. «Все моряки шьют», — подбадривала его Памела. «А рыбаки вяжут», — подхватывала Урсула. «Большое спасибо», — мрачно фыркал Тедди.
Миссис Шоукросс, направлявшая своих юных танцоров, стояла в середине круга. («Подпрыгиваем на левой ножке и киваем партнеру справа».) В «Киббо Кифт» его затащила миссис Шоукросс. Переманила, ссылаясь на Нэнси, как раз в ту пору, когда он уже рассчитывал на переход из детского отряда в настоящий скаутский. («Мальчики вместе с девочками?» — встревожилась Сильви.)
Миссис Шоукросс была горячей сторонницей «Клана Киббо Кифт». Это общедоступная, пацифистская организация, объясняла она, в противоположность милитаристским скаутам, от которых отошел лидер «Клана». («Ренегат?» — заподозрила Сильви.) Эммелин Петик-Лоренс,{19} на которую молилась миссис Шоукросс, тоже состояла в этой организации. Сама миссис Шоукросс была суфражисткой. («Это какое мужество надо иметь», — любовно повторял майор Шоукросс.) Ориентирование на местности, летние лагеря и походы никто не отменял, растолковывала миссис Шоукросс, но во главу угла ставится «духовное возрождение английского юношества». Сильви это понравилось, а Тедди — не слишком. Как правило, Сильви встречала в штыки любую идею, исходившую от миссис Шоукросс, но сейчас решила, что «это пойдет на пользу» Тедди. «Что угодно, лишь бы не ратовали за войну», — сказала она. Тедди вовсе не считал, что скауты ратуют за войну, но его протесты повисли в воздухе.
А ведь миссис Шоукросс обошла молчанием не только шитье, но и танцы, народные песни, хороводы в лесу и бесконечную трескотню. Детей разделили на общины, племена и ложи, потому что к индейским (якобы) традициям примешивались англосаксонские (якобы) ритуалы, образуя немыслимую мешанину. «Не иначе как миссис Шоукросс обнаружила одно из затерянных колен Израилевых!» — смеялась Памела.
Все участники «Клана» выбрали себе индейские имена. Тедди звался Лисенком («Естественно», — фыркнула Урсула). Нэнси превратилась в Волчонка (на языке племени шайенов — Хониахаку, подсказала, сверившись с какой-то книгой, миссис Шоукросс). Сама миссис Шоукросс была Большой Белой Орлицей («Ну и ну! — говорила Сильви. — Какое самомнение»). Нет, что-то хорошее тоже, конечно, во всем этом было. Например, возможность находиться рядом с Нэнси. Кроме того, они учились стрелять настоящими стрелами из настоящего лука, а не из такого, который делается кое-как из гнутой ветки. Стрельбой из лука Тедди даже увлекся, считая, что это умение может ему пригодиться: к примеру, если он решит стать разбойником. Но поднимется ли у него рука выпустить стрелу в оленя? У него не поднялась бы рука даже на кролика, бобра, лису или белку. Ну разве что перед лицом смертельной опасности или голодной смерти. Хотя всему есть предел. Собаки, жаворонки.
— В этом сквозит нечто языческое, — поделился Хью своими сомнениями с миссис Шоукросс («Умоляю: просто Роберта»).
Разговор этот состоялся еще до того «инцидента» в оранжерее, когда Хью и не помышлял о соседке как о женщине.
— Скорее, утопическое, — возразила она.
— Вот оно что, утопия, — томно протянул Хью. — Крайне малопродуктивная идея.
— А у Оскара Уайльда сказано: «Прогресс есть претворение утопий в жизнь».
— Лично я не стал бы ориентироваться на такую личность в выборе моральных ценностей.
Хью совсем разочаровался в миссис Шоукросс; впоследствии это служило ему сдерживающим фактором, когда мысли сами собой возвращались к дурману тепличных цветов и отсутствию корсета.
Задумай Тедди нарисовать себе Утопию, в ней бы не оказалось места для «Киббо Кифта». А для чего бы там нашлось место? В первую очередь — для собаки. А еще лучше — для нескольких. Туда перенеслась бы Нэнси со своими сестрами… наверное, мама… и все бы они поселились в уютном сельском доме, среди зелени, и каждый день ели бы пироги. Собственно, он примерно так и жил.
Между тем от «Киббо Кифта» отделилось еще одно движение, не столь эксцентричное, «Лесное племя», но к тому времени Тедди удалось отвертеться от подобных организаций. В школе он записался в отряд военной подготовки и наслаждался здоровым отсутствием пацифизма. В конце-то концов, он был мальчишкой. Вот бы его поразило, узнай он, что на седьмом десятке, когда внуки станут приезжать к нему в Йорк, сам будет несколько месяцев в году мотаться в холодный зал церковных собраний, чтобы только Берти и Санни, состоявшие в «Лесном племени», могли посещать еженедельные сборы. Тедди полагал, что ребятишкам не вредно поддерживать семейные традиции, а Виола, их мать, в этом отношении не смогла им предложить ровным счетом ничего. Его взгляд приковывали невинные личики внуков, протяжно выводивших оптимистичное «кредо» перед началом каждого собрания: «Мы с песней зашагаем в новый мир».
А однажды он даже отправился с ними в летний лагерь и удостоился похвалы вожатого (молодого чернокожего здоровяка, который чем-то неуловимо напоминал миссис Шоукросс) за умение ориентироваться на местности. «Я же скаутом был», — ответил Тедди, даже по прошествии стольких лет не признавая, что почерпнул нечто полезное от «Киббо Кифта».
Сильви расплатилась с таксистом, и швейцар подскочил к автомобилю, чтобы открыть ей дверцу, бормоча непременное «мадам». На тротуаре она замешкалась. Другой швейцар уже придерживал для нее дверь:
— Мадам…
Опять.
Едва заметно, шажок за шажком подбиралась она к супружеской измене.
— Мадам? — вновь произнес, не затворяя дверь, швейцар, озадаченный такой медлительностью.
Отель манил к себе. Перед ней открылся вестибюль, оформленный в насыщенной гамме. Как обещание роскоши. Ей уже виделись искры шампанского в бокалах богемского хрусталя, фуа-гра, фазаны. Приглушенный свет, кровать с крахмальными гостиничными простынями. У Сильви горели щеки. Он, должно быть, ожидал в номере, прямо за дверью. Увидел, наверное, как она подъехала, и вскочил, чтобы ее встретить. Она вновь помедлила, взвешивая то, что вот-вот получит, и то, что отдаст. Но возможен и худший исход: если все попросту останется как было. И тогда она обратилась мыслями к детям, к Тедди, своему любимцу. Ради чего рисковать статусом его матери? В угоду интрижке? Пламя греховности угасло под холодными струями ужаса. А ведь и вправду, подумалось ей, только в угоду греховности. Не обязательно верить в Бога (Сильви была тайной атеисткой), чтобы проникнуться идеей греха.
Она взяла себя в руки (с трудом) и высокомерно сказала швейцару:
— Ах, извините. Совсем забыла: у меня назначена важная встреча в другом месте.
И решительно удалилась с гордо поднятой головой — целеустремленная женщина, которую ждут благопристойные, интеллигентные дела: заседание благотворительного комитета, а то и политическая встреча — да что угодно, только не любовное свидание.
Концерт! Впереди светился огнями вход в Уигмор-Холл: добрый маяк, надежная гавань. Музыка зазвучала почти сразу: посвященный Гайдну моцартовский струнный квартет «Охота». Как по заказу, подумала Сильви. Она — лань, он — охотник. Но сейчас лань оказалась на свободе. Пусть даже с некоторыми оговорками: на весьма скромном месте в последнем ряду ее с двух сторон зажали изрядно пообносившийся молодой человек и какая-то старушка. Но свобода имеет свою цену, правда же?
Вместе с отцом она частенько посещала концерты и хорошо знала квартеты Гайдна, но сейчас была в слишком сильном душевном смятении, чтобы расслышать Моцарта. Сильви и сама неплохо музицировала, но в последнее время избегала ходить на фортепианные концерты: слишком мучительными были воспоминания о несложившейся жизни. В юности она постоянно слышала от своего педагога, что при условии серьезного отношения к занятиям сможет «выступать на профессиональном уровне», но потом, как известно, грянуло это позорное банкротство, и «бехштейн» бесцеремонно уволокли в неизвестном направлении, как только на него нашелся покупатель. Обосновавшись в Лисьей Поляне, она первым делом приобрела «бозендорфер» — считалось, что это подарок от Хью. Значительное утешение в семейной жизни.
После антракта исполняли квартет «Диссонанс». Когда зазвучали еле слышные вступительные аккорды, она беззвучно зарыдала. Старушка протянула ей носовой платок (слава богу, чистый и глаженый), чтобы утереть слезы. Сильви одними губами произнесла «спасибо». Этот обмен немыми репликами слегка поднял ей настроение. После окончания концерта соседка настояла, чтобы Сильви оставила платочек себе. А пообносившийся молодой человек вызвался проводить ее до такси. Насколько добры бывают незнакомцы, подумалось ей. Она вежливо отказалась от сопровождения, о чем вскоре пожалела, так как от расстройства пару раз свернула не в тот переулок и попала в неблагополучный район, где защитой ей могла служить только шляпная булавка.
Когда-то Сильви чувствовала себя в Лондоне как рыба в воде, но город давно стал ей чужим. Грязный, мрачный, кошмарный; и все же она по доброй воле спустилась в этот круг ада. Какое-то помешательство. Ей хотелось немедленно перенестись домой, но она брела дальше как безумная. Когда впереди замерцала оживленная Оксфорд-стрит, у Сильви вырвался возглас облегчения. Вскоре, домчавшись на такси до вокзала, она уже скромно сидела на перронной скамье, будто утомилась после хождения по магазинам и обеда с подругами.
— Вот так раз, — сказал Хью. — Я уж думал, к нам грабители ломятся. Ты же собиралась заночевать в городе.
— Ой, там скука смертная, — ответила Сильви. — Я решила не задерживаться. А здесь мистер Уилсон, начальник станции, подвез меня на бричке.
От внимания Хью не ускользнул яркий румянец жены и диковатый, как у загнанной скаковой лошади, взгляд. Миссис Шоукросс, полная противоположность Сильви, была не столь чистых кровей — этакая покладистая кобылка. Что, с точки зрения Хью, порой оказывалось предпочтительнее. Легко поцеловав Сильви в щечку, он сказал:
— Жаль, что у тебя сорвались планы на вечер, но как славно, что ты вернулась.
Когда Сильви уселась перед зеркалом и вытащила из пышных волос все шпильки, на нее вновь нахлынуло отчаяние. Она проявила малодушие и теперь намертво приковала себя к нынешней жизни. Приблизившийся сзади Хью положил руки ей на плечи.
— Красотка, — прошептал он, запуская пальцы в копну ее волос; Сильви стоило больших усилий не отшатнуться. — В постель? — с надеждой спросил он.
— В постель, — живо согласилась она.
Дело не просто в одной этой птахе, правда ведь? — спрашивал себя Тедди, лежа без сна; блуждающие мысли отгоняли привычную вечернюю дремоту. Дело не в одном жаворонке, которого заставила навсегда умолкнуть Иззи («на один укус»). Дело в том, что она уничтожила многие поколения птиц, даже не появившихся на свет. Уничтожила все чудесные песни, которые никогда не зазвенят в небе. В старших классах он узнал выражение «в геометрической прогрессии», а еще позже — «экспоненциально», однако сейчас у него перед глазами мелькала птичья стая: она ширилась и улетала в будущее, которому не суждено наступить.
Урсула, заглянувшая к нему перед сном, застала его за чтением «Руководства по скаутингу».
— Не спится? — спросила она с небрежным сочувствием товарища по несчастью; к сестре Тедди относился почти так же незамысловато, как и к Трикси, которая, свернувшись у него в ногах, тихонько скулила в своем собачьем сне. — Кролики приснились, не иначе, — сказала Урсула.
И завздыхала. В пятнадцать лет она была склонна к пессимизму. Таким же характером отличалась и мама, хотя та с негодованием отвергла бы это утверждение. Присев на краешек кровати, Урсула вслух прочла:
— «Будь всегда наготове, в доспехах и латах, за исключением того времени, когда спишь ночью». — (Не отсюда ли, подумал Тедди, мамино изречение о том, что «хорошие манеры — это доспехи»?) — Метафора, наверное, — прокомментировала Урсула. — Рыцари не могли день-деньской бряцать доспехами. Как подумаю о рыцарях, сразу вспоминаю Железного Дровосека из «Волшебника страны Оз».
У них в семье все любили эту повесть, но Тедди был недоволен, что ему навязали картинку, которая тут же заслонила и «Королевские идиллии»,{20} и «Смерть Артура».{21}
Где-то заухала сова, громко, почти враждебно.
— Кажется, на крыше, — предположил Тедди.
Они с сестрой прислушались.
— Ладно, пока-пока, — сказала вскоре Урсула и чмокнула его в лоб.
— Пока-пока, — отозвался Тедди, убирая под подушку «Руководство по скаутингу».
Забыв про сову, которая не прерывала своей богомерзкой колыбельной, он почти сразу провалился в глубокий и невинный сон оптимиста.
Приключения Августа
— Ужасные последствия ~
Начиналось все довольно невинно, — во всяком случае, так считал Август.
— Все всегда начинается невинно, — вздохнул мистер Свифт, которого между тем не оставляли сомнения: тот ли смысл вкладывает Август в понятие невинности, что и все остальные?
— Я не виноват! — с жаром возразил Август.
— Эти слова, милый мой, будут высечены на твоем надгробье, — промолвила миссис Свифт, оторвав взгляд от рукоделия: она штопала носок. Носок, разумеется, принадлежал Августу. («Нарочно он их дырявит, что ли?» — часто недоумевала она.)
— Всякий поступок влечет за собой определенные последствия, — провозгласил отец. — Лишь недальновидные люди не задумываются о том, какими последствиями чреваты их поступки.
— Да и вообще, откуда я мог знать, что будет дальше? — продолжал Август.
Мистер Свифт был прокурором; целыми днями он обличал злоумышленников и с жаром выступал на судебных процессах.
Стоит ли удивляться, что его профессиональный пыл нет-нет да и прорывался в семейном кругу, что, по мнению сына, давало отцу незаслуженное преимущество.
— Человек считается невиновным, пока не доказано обратное, — пробурчал Август.
— Так ведь у тебя все красной краской на лбу написано, — мягко заметил мистер Свифт. — Это ли не доказательство твоей вины?
— Ничего у меня на лбу не написано, — в сердцах заспорил Август. — И вообще, краска была зеленая. Вашчесть, — добавил он для верности.
— Ох, не продолжай, — тихо промолвила сыну миссис Свифт. — У меня от тебя уже головная боль.
— И каким же образом у тебя может быть головная боль от меня? — разгорячился Август, задетый этим новым обвинением. — Чтобы у тебя была головная боль от меня, нужно, чтобы вначале головная боль возникла у меня. Но голова не может болеть у обоих сразу, коль скоро у одного она не болит. А у меня голова не болит. Ergo, — это словцо он произнес особенно весомо, нашарив его в дальнем уголке школьной памяти, — голова болит только у тебя, и я тут ни при чем.
Однако от такого заградительного огня логики головная боль у миссис Свифт не прошла. Устало поведя рукой, она будто отмахнулась от докучливой мухи, чтобы вернуться к своему рукоделию.
— Удивляюсь порой, — вполголоса сказала она, — за что мне такое наказание.
Август, напротив, остался собою весьма доволен. Он стойко и вдохновенно оборонялся. Он был подсудимым, который оклеветан и вынужден отстаивать свое доброе имя. Его сестренка Филлис, которую мама называла «синим чулком», вечно разглагольствовала о правах простых людей. «Ну а я-то кто? — размышлял Август. — Уж кто меня проще?»
— Я свои права знаю, так-то вот, — твердо заявил он и важно добавил: — Меня бессовестно используют. — Эту фразу он позаимствовал у своего брата Лайонела (Филлис называла его «хлыщ»), когда тот говорил об одной девушке, в которую глупейшим образом втюрился.
— Бога ради, — сказал отец, — не строй из себя Эдмона Дантеса.
— Кого-кого?
— У меня такое чувство, что ты ни о чем не думаешь, — продолжал отец. — Любой, у кого есть хоть капля здравого смысла, мог бы предвидеть, чем все закончится.
— Я думал только о том, что может оказаться на другой стороне, — ответил Август.
— Интересно, в который раз эта фраза звучит как прелюдия к очередной катастрофе? — воскликнул мистер Свифт, адресуя свой вопрос одновременно всем и никому в отдельности.
— И что же оказалось на другой стороне? — не в силах сдержать любопытства, спросила миссис Свифт.
— Ну, этот… как его… — начал Август, перекатывая во рту грушевый леденец и соображая, что ответить.
— Случайно, не парик ли миссис Брустер? — спросил мистер Свифт тем судейским тоном, который ни у кого не оставляет сомнений, что ответ уже известен.
— Откуда я мог знать, что она носит парик? Смотрю — обыкновенный старый парик. Лежит себе, никому не нужен. Почем мне было знать, что миссис Брустер лысая? Ты ведь, например, не лысый, а парик носишь.
— В суде. Я ношу парик только в суде, — вконец расстроился мистер Свифт.
— Быть может, по чистой случайности тебе все же известно, куда собака могла утащить злополучный парик? — спросила сына миссис Свифт.
В этот самый момент Джок, слегка перемазанный вышеупомянутой зеленой краской, с заливистым лаем ворвался в комнату, и миссис Свифт…
— Господи! — простонал Тедди и швырнул книгу на пол.
Иззи украла его жизнь. Что за наглость! (В случае с краской он был вообще ни при чем.) Она сплела его жизнь заново, сделав из него совсем другого мальчишку, причем глупого, вечно попадающего в дурацкие истории. И была у него глупая, глупая, глупая шавка, уэст-хайленд-уайт-терьер, с ничего не выражающими глазами-бусинами. Картинки в книге были как из комиксов, что лишь усугубляло и без того скверное впечатление от повести.
Сам же Август был неряхой и оболтусом: ходил в кепке, нацепленной задом наперед, в глаза вечно лез длинный чуб, из кармана торчала рогатка. Книга вышла в твердом зеленом переплете, на котором золотыми буквами было напечатано: «Приключения Августа», а дальше имя: Дельфи Фокс, — такой вот Иззи придумала, с позволения сказать, псевдоним. Внутри красовалась дарственная надпись: «Моему племяннику Тедди. Горячо любимому и единственному Августу». Что за бред!
Но больше всего он досадовал на эту шавку. Вины ее в том не было — просто она напоминала ему о большой его потере, о собачке Трикси, которая умерла под Рождество. У Тедди и в мыслях не было, что она может умереть раньше, чем он, и крушение веры стало для него не меньшим ударом, чем сама утрата. Когда, окончив первый семестр, он приехал из школы-пансиона домой, Трикси уже не было: ее похоронили под яблонями, рядом с Боцманом.
— Мы хотели, дружок, чтобы она дожила до твоего приезда, — сказал Хью, — но уж очень она ослабела.
Тедди казалось, он не переживет эту потерю, и в каком-то смысле он ее так до конца и не пережил, однако через пару недель после выхода в свет «Приключений Августа» Иззи принесла ему в подарок точную копию «уэсти», на чьем дорогом ошейнике была выгравирована кличка: Джок.
Изо всех сил Тедди старался не привязываться к новому питомцу: в противном случае он бы не просто предал Трикси, но позволил бы окончательно превратить свою жизнь в бесконечный кошмарный вымысел. Все его старания, конечно же, оказались напрасными, и вскоре собака нашла дорожку к его сердцу.
Тем не менее Август навсегда остался источником тягостных переживаний.
В комнату вошла Урсула, подняла с пола книжку и принялась с выражением читать вслух:
— «„Это ведь Август?“ — шепнула мисс Сли на ухо мистеру Свифту. Шепот у нее получился весьма громкий: если так шептать, то люди, сидящие рядом, обычно оборачиваются и вопросительно на тебя смотрят».
Из чего был сделан Тедди? Не из улиток, ракушек и зеленых лягушек, но — что греха таить — из того, что копилось поколениями Бересфордов и Тоддов, чтобы среди зябкой осенней мглы слиться в одной заветной точке, на прохладной постели, когда папа ухватил золотистый канат маминых волос и не отпускал до тех пор, пока не переправил обоих на дальний берег. (Для этой истории у них было много эвфемизмов.) Очнувшись на палубе изрядно побитого супружеского парома, они были слегка ошарашены неожиданным пылом друг друга. Хью слегка откашлялся и пробормотал: «Как там глубоко». Сильви не ответила: морскими метафорами она была уже сыта по горло.
Однако песчинка уже попала в ракушку (эту фигуру речи Сильви придумала сама), жемчужина Эдварда Бересфорда Тодда начала расти — и росла до тех пор, пока он не появился на свет в преддверии Великой войны. Младенец блаженствовал в коляске, и единственным развлечением его был подвешенный к ее куполу серебристый зайчик.
Мама, подобно величавой львице, тихой поступью ходила по дому, охраняя благополучие своих домочадцев.
В отце таилась для Тедди какая-то загадка; каждый день он уезжал по делам, связанным с неведомым, чужим миром («Банк»), а однажды его призвали дела мира еще более значительного и далекого («Война»). Сестры любили Тедди, укачивали на руках, подбрасывали, целовали. Брат, который уже учился в школе и к тому времени успел много чего набраться, косился на него с ухмылкой, приезжая домой на каникулы. А мать, бывало, прижималась щекой к его щечке и шептала: «Ты из всех мой самый любимый», и он знал, что так оно и есть, и испытывал неловкость перед остальными. (Как хорошо: наконец-то узнать, что такое любовь, думала Сильви.)
Все были счастливы, — по крайней мере, так ему казалось. Потом пришло понимание, что не так все просто. Счастье, как и сама жизнь, сравнимо с едва уловимым биением сердца птицы, с быстротечным цветением лесных колокольчиков, но пока оно длилось, Лисья Поляна оставалась упоительной аркадией.
1980 «Дети Адама»
— Кушать хочу, мамуль.
Любуясь морскими далями, Виола не обратила внимания на эти слова. Разомлевший от зноя день клонился к закату.
— Отправляемся на пляж! — с воодушевлением объявил утром Доминик.
С таким воодушевлением, будто отдых на море способен каким-то непостижимым образом преобразить всю твою жизнь. Без его затей и дня не проходило, а осуществлять их чаще всего должна была Виола. («У Доминика столько идей!» — восхищенно смеялась Дороти, как будто в этом было что-то похвальное.) По мнению Виолы, без всего этого обилия идей людям жилось бы гораздо лучше. Она уже начинала уставать от жизни, хотя ей было только двадцать восемь лет. Двадцать восемь — этот возраст казался ей каким-то особенно бестолковым. Юной она уже вроде бы не считалась, однако и за взрослую ее никто не держал. Она выходила из себя оттого, что все учили ее жить. Но сама могла влиять только на собственных детей, да и то с постоянными уговорами.
Пять миль до пляжа они решили проехать в пикапе, взятом у Дороти, и, когда до места назначения оставалась всего миля, он благополучно сломался.
Им взялся помочь проезжавший на своем «моррис-майноре» пожилой, тщедушный человечек, который, склонившись над капотом, что-то подкрутил, и вот пикап завелся. Избавителем оказался их сосед, местный фермер: как и «моррис-майнор», он продемонстрировал прыть, которой от него никто не ожидал. Узнали его только дети, но, одурев от жары и досадуя на пикап, уже третий раз за этот месяц застревавший на полпути, они остались к фермеру совершенно равнодушными.
— Вам все равно придется отогнать машину в автосервис, — предупредил фермер. — Это я только так, временно.
Доминик тут же решил поделиться мудростью со своим спасителем:
— Все в этой жизни временно, брат.
Перед глазами фермера возник хоровод звезд, бегущий над недвижными горами, и даже как будто лик Божий, однако у него не было склонности к философским словопрениям. Он задумчиво глядел на растрепанных ребятишек (эхо викторианской нищеты), угрюмо жавшихся на обочине, и на их мать, сидевшую рядом, — юную Деву Марию со спутанными волосами, одетую будто на маскарад.
Все свое псевдоцыганское облачение — пестрый платок, высокие кожаные ботинки «Доктор Мартенс», длинную бархатную юбку, кожаную индейскую куртку, расшитую узорами и крохотными зеркальцами, — Виола надела впопыхах, не отдавая себе отчета в том, что они едут на пляж, что уже сейчас жарко и прохладнее точно не станет.
Нужно было столько всего собрать для этой вылазки — еду, питье, полотенца, купальные костюмы, еще немного еды и еще полотенец, сменную одежду, ведерки, лопатки, еще чуть-чуть еды, что-то еще из одежды, сачки, мячик, еще немного питья, большой мяч, крем для загара, панамки, влажные салфетки в пластиковой сумочке, плед в качестве подстилки, — что ей еще оставалось, кроме как нацепить на себя первое, что попалось под руку.
— Славный выдался денек, — обратился старичок-фермер к Виоле, приподняв свою твидовую кепку.
— Славный? — переспросила она.
В это время не сведущий в механике глава семьи с клоунской важностью фланировал вдоль дороги, играя, по всей видимости, роль блаженного, а может, и просто прикидываясь дурачком. На нем были футболка и джинсы, пестревшие заплатками даже в тех местах, где заплатки не требовались, и это было особенно досадно — ведь Виола их сама и пришивала. Если говорить о стиле, то вся семья выглядела безнадежно старомодно — даже фермер это понимал. Ему довелось уже соприкоснуться с нынешним бунтарством: он видел, как местная молодежь расхаживает в рванье на булавках, видел и пришедших на смену малолетних гедонистов, разряженных как пираты, разбойники и роялисты времен гражданской войны. В их возрасте фермер подражал в одежде отцу и никогда не задумывался об ином.
— Мы — дети шестидесятых, — любила по прошествии лет говорить Виола, словно это само по себе придавало ей шарм. — Дети-цветы!
Но и когда шестидесятые остались позади, Виола по-прежнему была упакована в ладную серую униформу квакерской школы, а если и носила цветы в волосах, то разве что венок из полевых ромашек, сорванных на краю школьной площадки для игры в лакросс.{22}
Она закурила тонкую сигарету и погрузилась в тягостные размышления о своей недоброй карме. Сделав глубокую затяжку, она проявила трогательную материнскую заботу, когда запрокинула голову, чтобы выпустить струю дыма поверх детских макушек. Уже нося под сердцем своего первенца, Санни, она не имела ни малейшего представления об уходе за детьми. Да и младенцев вблизи не видела и уж тем более не держала на руках; она думала, что завести ребенка — это примерно то же самое, что взять кошку или, на худой конец, щенка. (Оказалось, это ни то ни другое.) Когда, спустя год, она неожиданно забеременела снова, на этот раз дочуркой Берти, единственной причиной тому была простая сила инерции.
— Благодетель наш! — просиял Доминик, услышав, как двигатель с кашлем и хрипом вернулся к жизни.
Молитвенно воздев руки к небу, он рухнул перед фермером на колени и коснулся лбом шершавой дороги. Виола даже подумала, что он, наверное, под дурью, — понять истинную причину его состояний подчас было нелегко: вся его жизнь казалась одним нескончаемым трипом: то улет, то отходняк.
До Виолы только потом дошло, что он страдал маниакально-депрессивным психозом: но тот жизненный этап был уже позади. Термин «биполярное расстройство» получил распространение позже. Доминика к тому времени уже не было в живых. «Вот что бывает, когда бежишь впереди паровоза», — как-то раз беззаботно сказала она своим подружкам, с которыми вместе играла на ударных в соул-группе во время учебы в Лидсе, на очно-заочном отделении гендерных исследований, где писала магистерскую диссертацию на тему «Феминизм в эпоху постальтернативной культуры». (Тедди не переставал удивляться: «Как-как?»)
— Самодовольный кретин, — бросил жене фермер, вернувшись домой. — Да ко всему еще и мажор. А я-то думал, богачи — люди сметливые.
— Куда там, — рассудительно заметила жена фермера.
— Мне хотелось их всем скопом сюда привести, чтоб они хоть яичницы с ветчиной наелись и горячую ванну приняли.
— Из коммуны, как видно, — предположила фермерша. — Деток жалко.
Пару недель назад, когда «детки» появились у ворот фермы, хозяйка сначала хотела их шугануть, приняв за попрошаек-цыганят, но потом опознала в них соседских ребятишек. Она радушно пригласила их в дом, угостила молоком с коврижкой, дала покормить гусей и даже разрешила посмотреть доилку.
— Я слыхал, они накачиваются дурью, а потом танцуют под луной нагишом, — сказал фермер. (Все так и было, только звучит это гораздо более интригующе, чем оно есть на самом деле.)
Фермер уехал по своим делам, не заметив Берти. Девочка осталась сидеть на обочине, вежливо махая рукой вслед удаляющемуся «моррис-майнору».
Берти мечтала, чтобы фермер забрал ее с собой. Ей давно нравилось стоять у ворот в заборе, ограждающем фермерские угодья, и сквозь перекладины любоваться ухоженными полями, на которых паслись лоснящиеся гладким ворсом коровы и пушистые овечки, такие белые, будто только что выкупанные. Она подолгу смотрела, как фермер в своей жеваной шляпе, сидя в красном тракторе, который словно сошел со страниц книжки, объезжает эти аккуратные поля.
Как-то раз, оставшись без присмотра, они с Санни забрели на фермерский двор, где фермерша угостила их коврижкой с молоком, все время приговаривая: «Бедные детки». Она показала им, как доят крупных буренок (чудеса, да и только!), потом, не выходя из доилки, они пили парное молоко, а потом фермерша дала им покормить большущих белых гусей, которые окружили их шумно гогочущей ватагой, — Берти и Санни чуть не визжали от восторга. Все было чудесно до тех пор, пока за ними не пришла мрачная как туча Виола, которую при виде гусей бросило в жар. По какой-то неведомой причине она на дух не переносила гусей.
Берти ухитрилась заполучить перышко и принести его домой как талисман. Было для нее что-то сказочное в той прогулке, и ей ужасно хотелось отыскать дорогу к волшебному дому фермера. А еще лучше — приехать туда на стареньком «моррис-майноре».
— Я правда кушать хочу, мамуль.
— Ты всегда хочешь кушать, — с живостью в голосе ответила Виола, стараясь этим показать, что хныкать вовсе не обязательно. — Попробуй иначе: «Мама! Я проголодался, скажи, пожалуйста, мы можем перекусить?» Что о тебе подумает Господин Этикет?
Этот неведомый Господин Этикет ревностно следил за Санни, особенно когда дело касалось еды.
Санни не умел разговаривать без нытья. «Тоже мне Солнышко», — сокрушалась Виола.[4] Она всячески старалась привить ему толику веселья, живости. «Искорку добавь!» — говорила она, делая энергичный жест руками и преувеличенно счастливую мину. Когда Виола училась в Йорке, так поступал ее педагог по сценическому мастерству. Ее подружкам такая манера казалась чудачеством, а Виола, наоборот, вскоре поняла, что умение весело щебетать даже тогда, когда тебе этого совсем не хочется, может сослужить добрую службу. Во-первых, так у тебя больше шансов добиться желаемого. А во-вторых, у мамы не будет повода каждые пять минут к тебе придираться. Хотя, по правде сказать, сама она этому завету не особенно следовала. Она уже давно ни к чему в своей жизни не добавляла искорку. Да и прежде не слишком этим увлекалась.
— Хочу кушать! — еще настырней заныл Санни.
Когда он сердился, у него появлялся на удивление неприятный оскал. А когда входил в раж, мог и укусить. Виола до сих пор с содроганием вспоминала прошлогоднюю поездку к отцу по случаю дня рождения Санни. Доминик, само собой, с ними не поехал — всякие семейные дела интересовали его крайне мало.
— Как же так? — в недоумении допытывался ее отец. — Как его могут не интересовать «всякие» семейные дела? Ведь он семейный человек. У него есть ты. Дети. У него, в конце концов, есть кровные родственники.
С родителями Доминик почти не общался, что для Тедди было непостижимо.
— Нет-нет, я хотела сказать, всякие там традиции, — поправилась Виола. (Слово «всякие» она и вправду повторяла слишком часто.)
Не будь Доминик отцом ее детей, Виола, возможно, даже восхищалась бы той непринужденностью, с которой он освобождал себя от любых обязанностей простым напоминанием о своем праве на самореализацию.
Санни уже вот-вот готов был разразиться пронзительным ревом, но его отвлек вовремя подоспевший дед, предложив сообща задуть свечки на торте. Этот торт приготовила утром на отцовской кухне Виола и разноцветными глазированными шоколадными пастилками выложила на нем слова «С днем рождения, Санни», но надпись получилась такой кривой, что отец подумал, будто украшение торта доверили малышке Берти.
— Ну когда же будет торт? — заныл Санни.
Ему, как и всем, пришлось давиться невыносимо клейкой Виолиной запеканкой из макарон с сыром, которой, по его мнению, на именинном столе вообще было не место. А торт, между прочим, испекли специально для него.
— Господин Этикет не любит, когда дети капризничают, — сказала Виола.
«Откуда взялся этот Господин Этикет?» — недоумевал Тедди.
Ясно было одно: господин этот успел прочно обосноваться на отцовском месте.
Виола отрезала кусок торта и положила на тарелку перед Санни, но тот внезапно ринулся вперед и, как змея, укусил мать в предплечье. Она машинально залепила ему пощечину. Ничего не понимая, Санни притих, повисла долгая пауза, и все замерли в ожидании истеричного вопля. Иного и быть не могло.
— А что я? Мне же больно! — стала оправдываться Виола, увидев, как отец изменился в лице.
— Виола, побойся бога, ребенку всего пять лет.
— Вот и пусть учится себя сдерживать.
— Тебе тоже не вредно этому поучиться, — сказал Тедди и взял на руки Берти, словно опасался, что мать вот-вот доберется и до нее.
— А чего ты ждал? — резко обратилась Виола к Санни, пытаясь спрятать жалость и стыд.
Визг перешел в вой, и слезы отчаянного, безграничного страдания крупными градинами покатились по лицу Санни, смешиваясь в однородную массу с шоколадным кремом. Виола попробовала посадить сынишку себе на колени, но он тут же напрягся, превратившись в прямую твердую доску, и удержать его оказалось невозможно. Мать опустила его на пол, и он сразу принялся ее пинать.
— Если будешь брыкаться и кусаться, не рассчитывай, что это сойдет тебе с рук, — сказала Виола суровым тоном старой няньки, ничем не выдавая бури охвативших ее чувств.
В нее буквально вселился бес. В таких случаях она частенько цедила слова сквозь тонкие, поджатые губы Строгой Няньки. Господин Этикет в этих случаях робел и отходил в сторону, предпочитая маячить у Строгой Няньки за спиной.
— Все равно буду! — ревел Санни.
— Нельзя, — сдержанно ответила Строгая Нянька, — потому что придет дядя полицейский, заберет тебя в тюрьму, и ты будешь долго-долго сидеть за решеткой.
— Виола! — ужаснулся ее отец. — Ради бога, опомнись. Это ведь ребенок! — Он протянул руку Санни. — Ну, полно, давай-ка лучше поищем, где у нас конфетка прячется.
Его устами всегда говорил голос разума, разве не так? Или этим голосом наделила отца сама Виола, и даже слово «отец» в ее сознании писалось с большой буквы, как в Ветхом Завете. Отец всегда на нее ворчал. И ей не хотелось признавать, что она тоже собой недовольна.
Оставшись за столом в одиночестве, Виола расплакалась. Почему всегда все заканчивается одним и тем же? И почему она всегда виновата? А ее собственные чувства хоть кого-нибудь волнуют? Ей, например, никто на день рождения торты не печет. Во всяком случае, теперь. Раньше это делал папа, но его кулинарные способности она ценила не слишком высоко — ей хотелось полакомиться одним из тех шедевров, что красовались в витринах кондитерских «Терриз» и «Беттиз» — обе находились на улице Сент-Хелен и таращились друг на друга, как повздорившие возлюбленные.
На свой пятидесятилетний юбилей Виола заказала себе торт от «Беттиз», чья конкурентка «Терриз» к тому времени уже давно покинула поле брани. На белой глазури выделялись изящно выведенные лиловым кремом слова: «С днем рождения, Виола»; несмотря на прозрачные намеки, Берти так и не поняла, чем же столь значителен для матери переход через пятидесятилетний рубеж. А к тому времени Виола пережила свою мать на три года с лишним: не самая желанная победа. Образ матери в ее памяти успел уже померкнуть, отойти в прошлое, и ничто не могло его воскресить. Забывая мать, Виола тосковала все сильнее.
Об этом своем юбилейном торте она никому не сказала и смаковала его в одиночестве. Несколько недель; под конец он уже совсем зачерствел. Бедная Виола!
Она сковырнула с торта Санни все пастилки оранжевого цвета. Их — не только эти оранжевые кругляши, но и вообще все лакомства — выпускала фабрика на другом конце города. Виола ездила на фабрику «Раунтри» еще с классом: она запомнила похожие на бетономешалки емкости из сияющей меди, куда загружали разные красители. В конце экскурсии каждый получил по коробке конфет. Виолины конфеты так никто и не попробовал, потому что, придя домой, она запустила ими в отца. Теперь ей уже было не вспомнить, почему она так поступила. Может, потому, что он не смог заменить ей маму?
Она принесла на кухню тарелки из-под торта и составила в раковину. Из окна, выходящего в сад, ей было видно, как дед показывает Санни и Берти бледно-желтые нарциссы. (С восторгом вбежав в дом, Санни воскликнул: «Их там миллион!») Виола наблюдала, как сын с дочерью, стоя на коленках, разглядывают цветы и детские лица озаряются золотистым отсветом. Ребятишки смеялись и весело болтали с ее отцом. Ей стало очень грустно. Подумалось, что вся жизнь прошла у нее по ту сторону счастья.
— Кушать! — вопил Санни.
Не отводя глаз от моря, как смотритель на маяке, — не терпит ли бедствие какой-нибудь корабль? — Виола запустила руку в рюкзак, висевший у нее за плечом, пошарила в его недрах и извлекла на свет бумажный пакет с сэндвичами, которые остались еще с прошлого раза: застарелые ржаные хлебцы домашней выпечки, с размякшими огурцами и соусом «Тартекс». Увидев эту неаппетитную снедь, Санни рассвирепел.
— Не хочу! — закричал он и швырнул сэндвичем в маму.
Метатель из него был никудышный, и сэндвич достался случайно пробегавшему мимо лабрадору: приятно удивленный такой удачей, пес поймал неожиданное угощение на лету и жадно слопал.
— Прости, — сказала Виола, хотя по голосу было ясно, что извиняться по-настоящему она не собирается.
— Вкусненького хочу, — канючил Санни. — Ты никогда нам вкусненького не покупаешь.
— Кто волшебных слов не знает — ничего не получает, — сказала Виола.
(Врешь ты все, лабрадор не знает, а получил, подумал Санни.) Строгая Нянька, видно, увязалась за ними на пляж. Она предложила такой же сэндвич Берти, которая копала ямки в песке. Берти сказала: «Спасибо, мамочка», потому что всегда подлаживалась под мать. «На здоровье», — ответила Виола. Санни нахмурился от этого фальшивого спектакля, разыгранного, как он понимал, только чтобы его пристыдить. Это как в игре «Ты да я — счастливая семья» (иронию этого названия Санни еще не понимал): кто не говорит по любому поводу «спасибо» и «пожалуйста», тот теряет фишку с мышонком или с малиновкой. А если человек просто забыл?
— Ненавижу тебя, — прошипел он Виоле.
Почему от нее никогда не дождешься хорошего? «Хорошее» было для Санни идеалом. С годами его словарь утопических терминов обещал расшириться, но сейчас сгодилось и «хорошее».
— Ненавижу тебя, — повторил он, разговаривая скорее с самим собой, нежели с матерью.
— Ля-ля-ля, — пропела Виола. — Ни-че-го не слы-шу.
Набрав побольше воздуха, он заорал что есть мочи:
— Я тебя ненавижу!
На них стали оборачиваться.
— По-моему, кто-то из купальщиков этого не расслышал, вон там, подальше. — Виола напустила на себя полное безразличие, отчего Санни захотелось ее изничтожить.
Против такого подлого оружия, как клинок материнского сарказма, у Санни защиты не было. В его порывистом сердце закипала буря. А вдруг он сейчас взорвется? Будет знать тогда маменька.
«Да уступи ты ей, Санни, — думала Берти. — Тебе же все равно ее не одолеть. Нипочем».
Сестра безмятежно копала ямки, держа в одной руке совок, а в другой — сэндвич, который не собиралась даже надкусывать. Через некоторое время она передвинулась на ягодицах чуть дальше и стала копать новую лунку, словно по задуманному плану, хотя задумала она только одно: выкопать как можно больше лунок до наступления сумерек.
При крещении — нет, не при крещении, а при «наречении» (этот обряд, придуманный Дороти, проходил в ночном лесу, за домом, в присутствии всей общины) Берти получила имя Луна. Виола передала мирно спящую новорожденную дочь с рук на руки Дороти, которая воздела ее к Луне, как будто готовясь к жертвоприношению, и на миг у Виолы мелькнула мысль: а не принесут ли сейчас в жертву ее малышку? Берти выпала «честь» — так говорила Дороти — стать первым ребенком, появившимся на свет в коммуне. «Даруем тебе наше будущее», — обратилась она к Луне, ничуть не растроганной таким даром. Потом стал накрапывать дождь, Берти проснулась и расплакалась.
«А теперь причастимся тела!» — объявила Дороти, когда они входили в дом. Причаститься предлагалось не детской плоти, нет-нет, но плаценты, которую Жанетт поджарила с луком и петрушкой. Виола отказалась от своей порции: в этом обряде ей виделось нечто людоедское и попросту омерзительное.
Да, Луна и Солнце — таковы были их настоящие имена.
К счастью, Берти получила второе имя в честь бабушки.
— Луна Роберта? — уточнил в телефонном разговоре Тедди, стараясь ничем не выдать своего отношения. — Как-то необычно.
— Ну, знаешь, не называть же девочку избитым именем, — возразила Виола. — Куда ни плюнь — всюду Софи да Сандры. Хочется, чтобы она выделялась.
У Тедди было прямо противоположное мнение, но он оставил его при себе. Безумство продолжалось недолго. Солнце превратился в Санни, а Берти просто не отзывалась ни на «Лунатика», ни на прочие лунные версии своего имени; вскоре окружающие в большинстве своем забыли, что записано у нее в метрике, которую с большой неохотой оформил Доминик, не признававший «тоталитарного бюрократизма» и по этой же причине отказавшийся от регистрации брака с Виолой.
Берти разрешала вспоминать родительское чудачество только деду, который изредка называл ее Берти-Луна; как ни странно, внучку это согревало.
Закончив очередную ямку (если ямку в принципе возможно закончить), Берти бросила туда сэндвич.
Виола протянула Санни рюкзак и сказала:
— Там мандарин завалялся. Где-то.
При упоминании мандарина сын оскалился.
— Может, хватит ныть? — пробормотала Виола, слишком увлеченная морем, чтобы всерьез раздражаться.
(«Зачем ты вообще завела детей? — спросила у нее, повзрослев, Берти. — Или просто поддалась зову плоти, инстинкту продолжения рода?»
«Именно поэтому люди и заводят детей, — ответила Виола. — Но скрывают истинную причину под маской сентиментальности».)
Она пожалела, что не захватила бинокль. Солнце, отражавшееся в морских водах, не позволяло отчетливо разглядеть происходящее. В море купалось множество отдыхающих, и с расстояния все они были практически неразличимы — какие-то существа, подрагивающие в синеве, будто ленивые тюлени. У Виолы была сильная близорукость, но тщеславие не позволяло ей носить очки.
Взяв передышку в битве, Санни вернулся к сбору голышей. Камни были его слабостью: обломки скальной породы, валуны, гравий, но превыше всего — отшлифованная морем галька. Ему даже не верилось, что здесь лежит под ногами такое богатство. Всего и не соберешь.
— А папа где? — спросила Берти, внезапно оторвавшись от очередной ямки.
— Плавает.
— Где?
— В море, где же еще.
Рядом с тем местом, где они сидели, Виола заметила принесенную морем щепку, тонкую, белую, как торчащий палец скелета. Вытащив ее, Виола принялась лениво чертить на песке символы: пентаграмму, рогатый полумесяц, почем зря оклеветанную свастику. В последнее время она занималась чародейством. Ма-а-а-агией.
— Что имеется в виду? Распиливание женщины пополам? — Тедди был озадачен.
— Обрядовые действа. Шаманство, оккультизм, язычество. Таро. Это не фокусы — это глубинная суть мира.
— Ворожба?
— Время от времени. — Виола скромно пожала плечами.
Как раз прошлой ночью она в компании Жанетт гадала на картах Таро. Подряд выпали Солнце, Луна, Шут: ее семья. Верховная жрица: не иначе как Дороти. Башня — беда, начало? Звезда — еще один ребенок? Боже упаси, хотя Звезда — милое имя. Сколько же времени отсутствует Доминик? Он хорошо плавает, но не до такой же степени, чтобы полдня бултыхаться в море.
Солнце палило вовсю. Для магии требовалась ночь, мерцающая в темноте свеча, а не слепящая лавина света. Отбросив щепку, Виола завздыхала от жары. Ботинки, куртку, юбку и платок она сняла сразу, но все равно на ней осталось больше одежды, чем на других отдыхающих. Старинная нижняя юбочка и совершенно не подходящий к ней корсаж с длинным рукавом — манерные, с оборочками, с ажурной вышивкой, купленные в секонд-хенде. Виола этого знать не могла, но нижняя юбочка некогда принадлежала умершей от чахотки продавщице, которая была бы потрясена и возмущена, что на пляже в Девоне ее нижнее белье выставляют на всеобщее обозрение.
Виоле надоело вглядываться в морские дали; она свернула очередную самокрутку. Пляжи вызывали у нее отвращение. В детстве, когда у них еще была настоящая семья, ее каждое лето вывозили на летний отдых — туда, где непременно был холодный, сырой пляж. Для Виолы — ад кромешный. Не иначе как это было отцовское решение. Мама наверняка предпочла бы теплые, солнечные края, где можно понежиться, но в отце говорило какое-то пуританство, твердившее, что ребенку полезен берег Северного моря. Виола яростно затянулась самокруткой. Ее детство было изуродовано отцовской правильностью. Она легла на песок, уставилась в безоблачное небо и задумалась о своей невыносимо скучной жизни. Но и это ей вскоре наскучило: она села и достала из бездонного рюкзака книгу.
Сколько Виола себя помнила, долго обходиться без книги она не могла. Таков удел единственного ребенка в семье. Литература подпитывала ее детские фантазии, внушая, что в один прекрасный день она станет героиней собственной повести. Еще подростком она жила в девятнадцатом веке, бродила по вересковым пустошам с сестрами Бронте, томилась в душных гостиных Джейн Остин. Диккенс был ей сентиментальным другом, Джордж Элиот — строгим. Сейчас Виола перечитывала «Крэнфорд». Элизабет Гаскелл было бы неуютно в Адамовом Акре, где имелось чтение в пределах от Хантера С. Томпсона{23} до сутр Патанджали, между которыми, собственно, почти ничего другого и не было. Сидя на горячем песке, Виола накручивала на палец прядь волос — старая привычка, раздражавшая всех, кроме самой Виолы, — и раскаивалась, что в университете валяла дурака, связалась с Домиником и пристрастилась к травке. А ведь могла бы уже преподавать. До профессора дорасти. Солнце жгло ярко-белые страницы Элизабет Гаскелл; Виола чувствовала подступление головной боли. Мама, в сущности, умерла от головной боли.
Краткое перемирие нарушил Санни, который передумал насчет мандарина, но есть не стал, а запустил им в Берти, что вызвало двусторонние вопли, которые удалось заткнуть только отвлекающим маневром: выдав деньги на мороженое. Тележка мороженщика стояла на променаде; Виола провожала глазами детей, шлепавших по песку, пока не потеряла их из виду. Она закрыла глаза. Пять минут покоя — неужели это слишком?
Когда Виола училась на первом курсе бруталистского, сплошь бетон и стекло, университета, она познакомилась с Домиником Вильерсом, который бросил факультет искусств, но все еще топтался на обочине академического мира. Он представлялся эпигоном (Виоле пришлось посмотреть это в словаре) какого-то полуаристократического рода.{24} Репутация искушенного наркомана, выпускника дорогой частной школы и сына богатых родителей, с которыми он порвал, чтобы жить в бедности, как подобает художнику, создавала вокруг него некий ореол. Эта сомнительная слава и привлекла Виолу — хотя бы в силу того, что ей самой давно хотелось взбунтоваться и сбросить провинциально-буржуазные оковы.
Ко всему прочему, Доминик отличался невероятно эффектной внешностью, и Виола была польщена, когда он, с месяц походив кругами, все же спикировал (правда, летаргически, если такое в принципе возможно) на нее и спросил: «Ну что, ко мне?» В его убогой квартирке не оказалось ни одного эстампа — только множество холстов, будто бы облитых красками основных цветов.{25} «Сечешь?» — спросил он, польщенный, что она распознала его технику. Воспитанная на правилах лицемерия, Виола только подумала: так и я могу.
— Их покупают? — невинно спросила она — и прослушала размеренную лекцию о «подрыве товарно-денежных отношений между производителем и потребителем».
— То есть ты отдаешь их просто так? — удивилась Виола.
Единственный ребенок в семье, она не понимала, что значит отдавать просто так.
— Ого! — кратко высказался он, когда, обернувшись после восхищенного созерцания собственной живописи, увидел, что Виола лежит голышом на его несвежей постели.
Жил он на пособие, что было, по его выражению, круто, ведь получалось, что его занятия искусством оплачивает «сталинистское государство».
— В смысле, налогоплательщики? — уточнил Тедди.
Виола долгое время не приводила своего «кавалера» (это словечко выдал Тедди, он специально искал что-нибудь нейтральное) в дом, боясь, что мирные консервативные взгляды отца и сдержанная аккуратность его жилья в Йорке обернутся против нее. Она с отвращением думала про отцовский сад с ровными рядами сальвии, алиссума и лобелии красного, белого и синего цветов. Может, сразу высадить британский флаг? «Дело не в патриотизме, — возражал отец, — просто мне кажется, что эти цвета хорошо гармонируют».
— Сад, — выговорил Доминик.
Тедди ждал продолжения, которого не последовало.
— Тебе нравится? — подсказал он.
— Да, супер. А у моих родичей лабиринт.
— Лабиринт?
— Ага.
Доминик, к его чести, гордился своей «уравнительной политикой». «Герцоги или мусорщики — не вижу разницы», — заявлял он, хотя Виола подозревала, что герцогов среди его знакомых куда больше. Его, как он выражался, «родичи» жили в глуши Норфолка, происходили из охотничьих, стрелецких и рыбацких кланов и каким-то образом были связаны со знатью «по ту сторону одеяла». Виола ни разу с ними не встречалась: отчуждение никуда не исчезло даже после рождения Санни и Берти.
— Неужели они не хотят увидеть внуков? Грустно это, — сказал Тедди.
Виолу такое положение дел устраивало. Она сильно подозревала, что никогда не сможет соответствовать вкусам «родичей». Почему же Доминик, спросил у него Тедди, разорвал с ними отношения?
— Да так, дело житейское: наркота, живопись, политика. Они держат меня за прожигателя жизни, я держу их за фашистов.
— Ну что ж, он весьма и весьма недурен собой, — сказал Тедди, с трудом подыскивая хоть какие-то лестные слова, когда они с Виолой мыли посуду из-под салата с ветчиной и яблочного пирога, испеченного утром.
На кухне Тедди был мастером на все руки; Доминик тем временем после обеда прикорнул.
— Устал, наверное? — спросил Тедди.
Своего отца Виола никогда не видела ни спящим, ни дремлющим — ни даже просто лежащим — в шезлонге.
Когда Доминик проснулся, Тедди, не в силах придумать другое занятие (не предлагать же поиграть в настольные игры), достал фотоальбомы, в которых неуклюжесть его дочери была представлена в разные годы и во всех возможных проявлениях. Виола всегда плохо получалась на фотографиях.
— В жизни она гораздо милее, — сказал Тедди.
— Это точно: сексушка. — Доминик бросил на Виолу озорной взгляд.
Виола просияла. Она заметила, как скривился при этом отец, и подумала: «Привыкай. Твоя дочь давно уже не ребенок».
«Я трахаюсь, следовательно, я существую», — написала она когда-то, любуясь своим бунтарством, на титуле «Рассуждения о методе» Декарта.
В длинной веренице подружек Доминика она просто шла следующим номером и никак не могла понять, почему он остановился на ней. Ну что значит «остановился». Просто задержался, как выяснилось.
— Но ведь именно к тебе я всегда возвращаюсь, — сказал он.
«Вот кобель», — подумала Виола, впрочем не без удовлетворения. По большому счету оба они были слишком ленивы, и оставаться вместе им было проще, чем разбежаться.
Виола кое-как сдала выпускные экзамены, получив довольно низкие баллы по философии, истории Соединенных Штатов и британской литературе. «Это все равно никому не нужно, — говорила она. — Жизнь нужна для того, чтобы жить, а не шуршать справками». В ту пору она никому не сказала, как сильно переживала из-за своих результатов и как решила не ходить на выпускной, «чтобы не прогибаться перед бюрократами».
— Наверняка будешь потом локти кусать, — сказал тогда Тедди.
— Ты просто хочешь повесить на стенку мою фотографию в мантии и шапочке, чтобы похваляться перед кем попало, — раздраженно ответила она.
— Что же в этом плохого? — недоумевал Тедди.
— То есть оформлять отношения вы, как я понимаю, не собираетесь? — нерешительно спросил Тедди, когда Виола сообщила ему о первой беременности.
— В наше время никто не оформляет отношения, — снисходительно бросила она. — К чему эти устаревшие буржуазные условности. Чего ради мне приковывать себя наручниками к другому человеку только лишь в угоду авторитарному обществу?
— Это не зазорно, — сказал Тедди. — К «наручникам», как ты выразилась, рано или поздно привыкаешь.
Когда родился Санни, они жили в лондонском сквоте, бок о бок с десятком других обитателей. Помимо общей кухни и ванной, в их распоряжении оказалась одна комната, которую они условно считали своей; там было не повернуться от картин Доминика и предметов детского обихода, которые купил Тедди, когда понял, что никто другой и не почешется. Его тревожило, что Виола не имеет ни малейшего представления о материнских обязанностях.
— Малышу понадобятся кроватка и ванночка, — говорил он дочери.
— Спать будет в ящике комода, — отвечала Виола, — а купать можно в раковине. («И это правильно, — поддакивал Доминик, — беднота всегда жила именно так».)
Спать будет в ящике? Кто, ее родное дитя? Тедди залез в свои сбережения и приобрел кроватку, детскую коляску и ванночку.
Доминик не завершил, по сути дела, ни одной картины. Время от времени он, несмотря на свое демонстративное презрение к экономике капитализма, выставлял что-то на продажу, но его искусство и даром было никому не нужно. Виола спрашивала себя: не завалит ли их в один прекрасный день груда холстов? Денег, естественно, у них не было. Доминик не желал одалживаться у своей родни.
— Он не поступается принципами, и это очень благородно, — поделилась Виола с отцом.
— Очень, — согласился Тедди.
Дочь попыталась ему втолковать, что решение жить в сквоте было вполне логичным:
— …считать, будто земля может находиться в частной собственности, хотя это общий для всех природный ресурс…
На этом аргумент (и притом чужой, даже не ее собственный) увял. Она неделями не высыпалась. По ночам Санни орал как оглашенный, словно от неизбывного горя из-за потери былой славы. (Между прочим, от этой потери он так и не оправился.) Как-то раз Тедди появился на пороге сквота со словами:
— Извини, что без приглашения, а иначе неизвестно, когда бы я наконец увидел малыша.
Это явно было ей упреком за то, что она не притащила ребенка к нему на смотрины, хотя сама еле передвигала ноги. Тедди привез букет цветов, коробку шоколада и комплект ползунков.
— Магазин товаров для матери и ребенка, новый, вы туда еще не наведались? Жаль, что в твоем детстве такой одежды не было — одни распашонки да пинетки. У нас это называлось «детское приданое». Может, позволишь мне войти?.. Так это и есть сквот, да? — уточнил он, протискиваясь по коридору среди велосипедов, по большей части сломанных, и картонных коробок.
(«О, я была радикалкой, даже анархисткой, — заявляла Виола годы спустя. — Жить в лондонском сквоте — чудесное было времечко», хотя на самом деле она постоянно мерзла, хандрила и томилась от одиночества, не говоря уже о том, что материнство связало ее по рукам и ногам.)
Тедди уехал домой обратным поездом и всю ночь не спал, беспокоясь и о своем единственном чаде, и о ее единственном чаде. Виола в свое время была прекрасной, просто идеальной дочуркой. Но в детстве все были прекрасны, подумал он. Даже Гитлер.
— Сельская коммуна? — переспросил Тедди, когда Виола рассказала ему о своих планах.
— Да. Совместное хозяйство. Попытки оградить себя от пагубного влияния капиталистической системы и найти новый образ жизни, — пела она с голоса Доминика. — И антиистеблишментаризм, — добавила она после паузы.
Это было самое длинное из всех известных ей слов. В университетские годы смысл его оставался для нее размытым. («Секта, что ли?» — удивился Тедди.)
— Обыватели — моральные и материальные банкроты. А мы живем плодами земли, — с гордостью вещала она.
— «Истинная свобода — там, где человеку обеспечены питание и безопасность, то есть в пользовании землей»,{26} — процитировал Тедди.
— Что-что?
(«Я, конечно, извиняюсь, — подумал Тедди, — но это проходят в школе».)
— Джерард Уинстенли, — пояснил он вслух. — «Истинные уравнители». «Копатели». Разве нет?
Ему оставалось только гадать, сколько еще всего не усвоила его дочь. Тедди всегда интриговали эти радикальные утопические течения вокруг гражданской войны, и он еще не решил, присоединился бы сам к одному из них или нет, живи он в те времена. «Смотри, как перевернут мир»{27} («Это сетование, а не ликование», — подколола его Урсула много лет назад). Не исключено, что люди тогда точно так же разглагольствовали, не вникая в суть, как сейчас Виола. Молодежная организация «Киббо Кифт» — это их прямые наследники, предполагал Тедди.
— Мирное царство и все такое, — сказал он Виоле и настойчиво продолжал: — Жажда восстановления рая на земле. Милленаризм.
— А, вот ты о чем, — протянула она, услышав нечто знакомое. У кого-то на книжной полке она видела «Поиски миллениума» Нормана Кона; ее задевал объем знаний отца. — Мы заинтересованы в космическом эволюционном развитии, — беззаботно бросила Виола, не имея ни малейшего представления о смысле своих слов.
— Но тебе же никогда не нравилось жить в деревне, — удивился Тедди.
— Мне и сейчас не нравится, — ответила Виола.
Ее действительно убивали новые условия жизни, но все равно это было лучше, чем полуразрушенный сквот.
Община занимала старый просторный фермерский дом в Девоне. Почти все прилегающие угодья были распроданы, но земли все же оставалось достаточно, чтобы выращивать свои овощи, держать коз и кур. По крайней мере, в теории. Со времен Средневековья эта ферма звалась Долгой Рощей. Когда Дороти «почти за бесценок» приобрела ее на торгах, здесь было болото (хорошую землю откупил сосед-фермер — да-да, тот самый, у которого был автомобиль «моррис-майнор» и полный двор гусей), и она переименовала усадьбу в Адамов Акр. Вывеску, намалеванную от руки всеми цветами радуги, прибили гвоздем к главным воротам. Но никто во всей округе не желал знать нового названия — ни одна живая душа.
К моменту их переезда в здешние края коммуна существовала на этом месте пять лет. Там уже поселились три другие молодые пары: Хилари и Мэтью, Тельма и Дейв (шотландцы), Тереза и Вильгельм (голландцы). Виола с трудом запомнила их имена. Помимо Дороти, в общине состояли еще трое одиночек: американка лет тридцати с небольшим по имени Жанетт, подросток Брайан — судя по всему, сбежавший из дома. («Круто!» — восхитился Доминик). И конечно, Билл, старик лет пятидесяти. Когда-то он служил механиком в ВВС Великобритании, и Виола сообщила:
— Да-да, в войну мой отец тоже служил в авиации.
— Да что ты говоришь? В какой эскадрилье?
— Без понятия. — Виола пожала плечами. Они с отцом никогда не беседовали о войне, да и потом, столько воды утекло.
Видимо, Билла покоробило такое равнодушие.
— Просто я пацифистка, — заверила Виола.
— Все мы пацифисты, дорогуша, — ответил он.
Но я-то настоящая пацифистка, сердито подумала она. Посещала квакерскую школу, между прочим, и ходила на митинг против войны во Вьетнаме, делая все возможное, чтобы угодить за решетку. Годы ее славы были еще впереди: Гринэм-Коммон, Аппер-Хейфорд, — но она уже давно вступила на путь праведного гнева. Ее отец летал на самолетах и сбрасывал бомбы на людей. Возможно, на нем лежит ответственность за бомбежку Дрездена: в их университетской программе значилась «Бойня номер пять». («Дрезден бомбили только „ланкастеры“», — сказал Тедди. «Ну и что? Нет, ты ответь! Думаешь, это тебя оправдывает?» — наседала дочь. «Я не ищу для себя оправданий», — сказал Тедди.) Война — это зло, думала Виола, но не могла смириться с отсутствием у Билла интереса к ее мнению. Очевидно, он тоже не искал оправданий.
Доминик был счастлив: у него наконец-то появилась студия — старый оштукатуренный коровник на заднем дворе, а Виола радовалась, что им больше не придется спотыкаться о холсты.
По выходным количество людей в общине увеличивалось за счет неиссякаемого потока туристов, главным образом из Лондона. Какие-то незнакомцы вечно спали на полу и на диванах или сидели без дела, покуривали травку и разговаривали. И разговаривали. И разговаривали. Предполагалось, что они должны помогать в саду или по дому, но такое случалось редко.
Разумеется, Дороти оставалась, так сказать, королевой улья. Притом что в коммуне все было общее, на ферме заправляла именно Дороти; пикап (единственное средство передвижения) тоже принадлежал ей, да и то сказать, без нее не было бы самой общины. Сейчас, в возрасте лет шестидесяти, она носила восточные халаты и убирала волосы под длинные шелковые головные шарфы, а ходила всегда с такой блаженной улыбкой, что с легкостью выводила из себя тех, кто не ведал блаженства. Старуха, примерно ровесница отца Виолы. Когда-то она была актрисой, правда безвестной, но затем «последовала за мужчиной» в Индию; вернулась без него, но зато с «просветлением». («Где это просветление? — прошептала Виола Доминику. — Не вижу ни одного признака. Она такая же, как все, только хуже».)
Перед вступлением в общину Доминик выдержал допрос с пристрастием, а Виола познакомилась с Дороти лишь после вселения в дом. Она отметила, что Дороти любит звук собственного голоса, и рядом с ней вновь почувствовала себя студенткой.
— Адамов Акр, — напыщенно возвестила Дороти. — Место, где происходит все, что только способно произойти. Здесь мы исследуем нашу творческую природу и помогаем другим открывать в себе таланты. Мы непрестанно движемся к свету. Чаю? — внезапно спросила она с видом герцогини, отчего Виола, уже задремав, что частенько случалось с ней на лекциях, даже вздрогнула.
Дороти протянула ей массивную кружку с какой-то мутной, горькой жижей.
— Сдается мне, это не такой чай, к какому ты привыкла, — сказала Дороти, и Виола подумала: уж не хотят ли ее отравить?
(«У тебя паранойя», — сказал на это Доминик.) Но когда Дороти предложила ей черствую как камень плюшку, Виола помотала головой. Пока Дороти грызла такую же каменную плюшку, образовалась пауза.
— Ты узнаешь, — наконец продолжила она, — что мы — свободные, мощные индивидуальности, коим посчастливилось двигаться в одном направлении. К пониманию трансцендентности.
— О’кей, — осторожно сказала Виола, не имея ни малейшего понятия, о чем толкуют облепленные хлебными крошками губы Дороти.
Понятно, что существует трансцендентальная медитация — этим она занималась и даже изучала трансцендентализм в американской литературе, осилила «Уолдена» Торо и «Природу» Эмерсона, но все это, похоже, не имело отношения к сжиганию шалфея по системе Дороти и ее дурным (голосом недовольной гориллы) песнопениям.
— Залог успеха в том, чтобы каждый вносил свою лепту в общее дело, — изрекла Дороти.
«Неужели?» — устало подумала Виола. Она тогда носила под сердцем Берти и была на последнем сроке беременности, да еще таскала на руках Санни.
Ей, не обладавшей никакими особыми умениями, поручили черную работу: готовить, убирать, печь хлеб, пропалывать грядки, доить козу — «и так далее». «В основном занята по дому», — говорила Виола. Студенткой она участвовала в марше за повышение оплаты труда домработниц, хотя никакого отношения к этому роду деятельности не имела, да и сейчас не слишком его жаловала. Как и необходимость горбатиться на других, а не на себя, хотя жизнь в общине это предполагала. Выпадали ей и «несложные садовые работы»: перекопать на заднем дворе заросший репейником тяжеленный краснозем по краям лужайки. От «сельскохозяйственных работ», как Дороти называла выращивание чахлых корнеплодов и червивой капусты, ее освободили.
«Копатели», — думала под дождем несчастная Виола, перекапывая расшатанной лопатой толщу грязи. Она сама стала «копателем», и, похоже, единственным, — по всей видимости, никто, кроме нее, не занимался этой бесполезной, нескончаемой работой.
Да и обретались они неизвестно где, в глуши без конца и края. Виоле никогда не нравилось жить в деревне: холодно, грязно, удобств никаких. В пору ее детства их семья тоже занимала старый фермерский дом, окруженный только пейзажем, и отец без конца заставлял ее выходить на улицу «подышать свежим воздухом», сопровождать его на прогулках, разглядывать птиц, деревья, гнезда, «горные породы». Какой интерес глазеть на горные породы? Она вспоминала, как радовалась переезду в Йорк, в двухквартирный дом с центральным отоплением и ковровым покрытием. Мимолетная радость, конечно, — ведь что такое дом без матери?
На ежемесячном городском базаре у членов общины было постоянное место для торговли своей продукцией: тяжелыми буханками хлеба, похожими на камни, какие впору метать из катапульты; зловонными цветными свечками, которые растекались неаппетитными лужицами; торговали даже керамикой: у Вильгельма была печь для обжига, производившая тяжелые кружки и тарелки для нужд общины; кроме того, все приложили руку к плетению корзин. Как слепцы, думала Виола, когда ее заставили учиться этому ремеслу. Ее существование смахивало на жизнь прислуги восемнадцатого века, работавшей за кров и стол, да еще вынужденной плести корзины. К тому же Виолу никто не освобождал от присмотра за детьми: несмотря на вечные разговоры о разделении труда, вся община недолюбливала Санни, за что Виола никого не могла винить. Деньги ее шли в общую копилку, и она не имела права запускать туда руку, не объяснив, зачем ей понадобились деньги. В один прекрасный день, мечтала Виола, она сбежит и прихватит с собой всю кубышку, чтобы растранжирить деньги на кока-колу, шоколадки, одноразовые подгузники и все прочее, что осуждалось общиной.
Сама Дороти бо́льшую часть времени «чистила чакры» (везет же некоторым, думала Виола) и заставляла Жанетт гадать ей на картах Таро. Виола ни разу не видела, чтобы Дороти плела корзины, а тем более доила строптивую тоггенбургскую козу, которую Виола, не без взаимности, ненавидела.
В Адамовом Акре Виола оставалась наедине с собой лишь тогда, когда выходила во двор якобы искать яйца. К ее возмущению, куры неслись где попало. Ее отец тоже держал кур, однако те были воспитанными и приходили нестись в гнезда. Но если яиц и не находилось, Виола не могла укрыться от надзора Дороти (которая возникала ниоткуда, как летучая мышь).
— Виола Тодд, правильно я помню? — спросила однажды Дороти, зловеще возникнув у нее на пути, как мисс Джессел из «Поворота винта».{28}
Берти спала в своей коляске фирмы «Макларен», не годившейся для такого рыхлого грунта: колеса вечно отваливались. Санни был оставлен с Домиником, то есть полностью заброшен.
Берти заворочалась во сне и подняла ручонку, словно защищаясь от непрошеного явления Дороти. Виола, которая в это время бродила вдоль изгороди, грезя о горячих тостах с маслом и о капитане Уэнтворте из джейн-остиновских «Доводов рассудка», перепугалась до смерти.
— Да, я Виола Тодд, — осторожно подтвердила она. (Больше года живя с нею под одной крышей, Дороти по сей день не знала ее по имени?) — Виновна по всем статьям.
— Имя твоей матери — Нэнси? Нэнси Шоукросс?
— В некотором смысле, — еще осторожнее сказала Виола.
Ей не понравилось, что кто-то мусолит имя ее матери. Мать была для нее неприкосновенной.
— Так да или нет? — переспросила Дороти.
— Да, — сдалась Виола.
— Значит, она — из сестер Шоукросс, точно?
— Да. — Виолу даже подкупило, что о ее матери говорят как о живой.
— Я так и знала! — драматически воскликнула Дороти. — Мы дружили с ее сестрой Милли. Вместе играли в студенческом театре. Но с тех пор не виделись. Как поживает твоя тетушка?
— Она умерла, — с готовностью сообщила Виола, обрадовавшись, что о Милли можно говорить в прошедшем времени.
Лицо Дороти исказилось гримасой страдания. Ладонь легла на лоб.
— Ушла!
— Я ее почти не знала, — сухо продолжила Виола. — Кажется, она постоянно жила за границей.
— Хм… — фыркнула Дороти, словно обидевшись на эти известия, и нахмурилась. — Кстати, а что ты тут делаешь?
— Ищу яйца, — с легкостью солгала Виола.
Здесь всегда приходилось делать вид, что ты занимаешься чем-то полезным. На это уходило столько сил!
— Где у этого ребенка головной убор? — (Она всегда говорила только так: «этот ребенок» или «эти дети»).
— Головной убор? — переспросила Виола, удивившись такому старинному выражению: будто ей подмигнул сам капитан Уэнтворт. — Сейчас принесу. И пойду дальше собирать яйца.
Когда Виола забеременела вторично, Дороти ратовала за «естественные роды» в Адамовом Акре. Для Виолы не было ничего хуже такой перспективы. Санни родился в Лондоне, в большой, многолюдной университетской клинике, где Виола кайфовала под петидином. По ночам новорожденных забирали в детскую палату, а матерям давали снотворное. Это было счастье. Рожениц там держали целую неделю, вкусно кормили, приносили молочные продукты и, кроме пеленания, ничего от них не требовали, хоть вообще не вставай с постели. Кто бы отказался от этой благодати в угоду мучительному ритуалу, придуманному Дороти (к слову сказать, бездетной)? Виоле невольно вспоминался «Ребенок Розмари».{29} Она чувствовала себя почти пленницей: телефона на ферме не было, а самостоятельно добраться до клиники она бы не смогла, разве что кто-нибудь подвез бы ее на пикапе. Теперь она раскаивалась, что в свое время не проявила должной старательности, когда еще жила дома и отец учил ее вождению. Она попросту не желала находиться с ним в одной машине, пока он учил ее тому, что умел сам, тогда как она не умела ничего. Отец был до противного терпеливым инструктором. Виола вдруг припомнила кое-что еще: как отец целый год каждую субботу с утра пораньше занимался с ней математикой, чтобы она не провалила экзамен. Весь год отцу служил один и тот же сточенный мягкий карандаш, а Виола что ни день теряла либо карандаш, либо ручку. Ее тошнило от одной мысли об алгебре и уравнениях, но отец оставлял ее в покое лишь тогда, когда у нее хоть что-то укладывалось в голове (ненадолго). Разумеется, сейчас алгебра уже забылась — так ради чего были те мучения? Она с грехом пополам окончила школу, получила низкие баллы по всем предметам, кроме английского, и поступила только в заштатный университет, который тоже окончила, хоть и по самой дрянной специальности. А толку-то: где она теперь? Где-где… Здесь. Ни денег, ни работы, двое детей, у сожителя ветер в голове. Лучше бы она бросила школу в пятнадцать лет и выучилась на парикмахера.
В итоге, конечно, она родила Берти в клинике, и черт не пришел за ее малюткой. Да и зачем — ему уже принадлежал Санни.
Виола, должно быть, задремала, но вздрогнула и проснулась, почувствовав, как саднит обгоревшее на солнце лицо. Лишь через несколько мгновений она вспомнила о детях. Давно ли они убежали за мороженым? С трудом поднявшись, оглядела пляж. Детей нигде не было. Похищены, утонули, упали с обрыва? Любой драматический исход выставлял ее плохой матерью.
Закончилось все благополучно: дети безропотно, хотя и понуро ждали ее в «детском уголке для потеряшек». Виола даже не знала, что такой существует.
— Ты нарочно это подстроил? — спросила она Санни, когда они спасали от наступающего прилива свои мокрые, облепленные песком вещи и запихивали их в рюкзачки. (Вот поэтому мы и не ходим на пляж, думала она.)
У Санни от возмущения отнялся язык. Он перетрусил, сообразив, что не может найти обратную дорогу от тележки мороженщика. Пляж без конца и края, все люди такие большие… он воображал, как их всех смывает в море или как они с сестрой всю ночь стоят на песке одни-одинешеньки. К тому же он понимал, что в отсутствие мамы ответственность за Берти ложится на его плечи, и от этого трусил еще сильнее, а когда к ним подошла добрая на вид тетя и по-матерински заботливо спросила: «Что вы тут бродите? Маму потеряли?», он разревелся. И сразу же всем сердцем потянулся к той женщине.
— Никогда больше так не делай, — сказала Виола.
— Ничего я не подстраивал, — выдавил Санни.
Весь его задор испарился, а ведь с утра он был как заведенные часы — сейчас они едва тикали.
— Где папа? — спросила Берти.
— Купается, — резко ответила Виола.
— Он весь день купается.
— Это верно, — сказала Виола.
Часов у нее не было. После экзаменов Тедди подарил ей симпатичные часики «Таймекс», но она их давно потеряла. Хоть бы Доминик утонул, подумалось ей.
Случись такое на самом деле, она бы начала жизнь с чистого листа. Самый простой способ разорвать отношения, куда проще, чем собирать свои пожитки и хлопать дверью. Да и куда идти? А деньги? У Доминика был трастовый фонд. Виола точно не знала, что это такое, но деньги некоторое время тому назад упали с неба. И тогда возникла, по его словам, какая-то юридическая закавыка, из-за которой он не мог отказаться от этих средств, как отказался от своих «родичей». Но выделил ли он хоть какую-то часть Виоле и детям? Нет, он жертвовал деньги общине, переводя их на имя Дороти! И что еще хуже (хотя нет, не хуже, но и не многим лучше), Виола нашла письмо от его матери, которая с помощью частного сыщика разыскала адрес сына, чтобы упросить его преодолеть «возникшую пропасть» и позволить ей увидеть внуков, а также «их маму, которая, сомнений нет, прелестна».
Если Доминик утонет, его трастовый фонд перейдет не к Дороти, а к Виоле, и она сможет уехать, поселиться в приличном доме и начать жизнь сначала. Зря она не зарегистрировалась с Домиником: тогда бы уж точно унаследовала его имущество и жила безутешной молодой вдовой, окруженная всеобщим сочувствием. А то еще можно было бы нагрянуть к этой охотничьей, стрелково-рыбацкой родне гражданского мужа. В конце-то концов, ее же там считают «прелестной». Конечно, при личном знакомстве их мнение наверняка изменится, но кто знает, быть может, со временем они примут ее в стан «родичей» и дадут свою фамилию. Виола Вильерс — немного вязко, как упражнение на дикцию, зато звучно, как у тех актрисок восемнадцатого века, что выскакивали замуж за аристократов и становились герцогинями.
Санни, вероятно, в любом случае причиталось какое-никакое наследство, и воображение уже рисовало ей озеро с лебедями и лужайку с павлинами. Да будь родичи Доминика и в самом деле фашистами — не все ли равно, коль скоро у них есть и центральное отопление, и сушильный шкаф, и белый хлеб вместо кислого ржаного, и мягкие матрасы вместо брошенной на пол циновки.
Не пора ли бить тревогу? Но и она, и дети слишком устали, чтобы выдержать ту суматоху, которая последует за сообщением о пропавшем человеке. Но как же им добраться до дому? Водить она не умела. У Виолы вырвался тяжкий вздох.
— Мама! — окликнула Берти.
Девочка всегда тонко чувствовала настроение матери.
Они снова поплелись в детский уголок. Та заботливая инспекторша все еще была на месте. Санни бросился к ней, обхватил за пояс и намертво на ней повис.
— Еще кого-то потеряли? — весело спросила она Виолу.
Санни, Берти, Виола и двое здоровяков-полицейских втиснулись в небольшую патрульную машину, которая отвезла их в Адамов Акр. («То есть в Долгую Рощу, да?» — переспросил один из полицейских.) Дети, устроившиеся с Виолой на заднем сиденье, тут же уснули. Их кожа лоснилась от старого крема для загара, а на босые ноги (Виола не нашла в себе сил обуть детей) налип мокрый песок. От сандаликов уже шел прелый запах.
Без нее детям, возможно, было бы лучше. Ей стоило оставить их с женой того фермера, думала Виола, умело превращая свой эгоизм в альтруизм. Ни с того ни с сего ей вспомнился двор, кишащий гусями; она даже вздрогнула. В детстве ей случилось спасаться бегством от гуся, который чуть не защипал ее до смерти, и с тех пор она жутко боялась гусей. Родители — тогда еще мама была жива — только посмеялись. Гуси всегда чувствовали в ней слабину, налетали целой стаей, брали в кольцо, щипали, гоготали. «Ты, главное, сама не будь гусыней, Виола», — любил повторять ей Тедди. Вечно поучал, кем ей быть и кем не быть. (Глас Разума.) «Гусятница»{30} — такую сказку читала ей мама. Виола помнила, что там, в частности, упоминалась отрубленная конская голова.
Зря она не попросила полицейского продолжить путь и отвезти их в Йорк, где жил ее отец. К своему удивлению, она поймала себя на том, что скучает по дому. Не только по узким улочкам и средневековым церквям, городским стенам и Йоркскому собору, но и по двухквартирному дому, в котором, исходя желчью, провела полжизни.
— Миссис Тодд?
Виола уже втолковывала полицейским, что она «миззззз», но те не признавали новомодных обращений. А вдобавок у нее были дети, так что сам бог велел обращаться к ней «миссис».
— Приехали, миссис Тодд. Вот вы и дома.
Скажешь тоже, подумала она.
Когда Виола поделилась опасениями с сотрудницей детского уголка, та немедленно взяла дело под контроль: подняла по тревоге береговую охрану, вызвала спасательный катер и полицию, да еще привлекла к поискам случайных прохожих: они заинтересовались происшедшим, но огорчились отсутствию зрелищ. Казалось, ради одного-единственного пропавшего в море человека таких мер более чем достаточно.
Виола изложила факты. Их оказалось совсем немного: Доминик сказал: «Пойду искупаюсь», побежал к воде, окунулся, заработал руками и ногами, поплыл, а обратно так и не вернулся. Больше ничего из этого сообщения выжать не удалось, и двое здоровяков-полицейских отвезли семью пропавшего обратно в Адамов Акр. Санни раскапризничался и как клещ вцепился в сотрудницу детского уголка — пришлось отрывать силой.
— Бедный малыш, — сказала женщина-инспектор.
Виола ответила:
— Хотите — оставьте себе.
Женщина, разумеется, приняла это за шутку.
Когда у ворот остановилась патрульная машина, дверь фермерского дома распахнулась и на пороге возникла Дороти. Она просверлила Виолу взглядом:
— Как ты посмела навести на меня легавых?
Полицейских задело такое хамство, исходившее от женщины, которая, даром что в восточном халате, явно разменяла седьмой десяток и, по идее, давно могла набраться ума-разума.
— Без ордера никого не впущу, — воинственно заявила Дороти.
— Мы и не планировали заходить, — отозвался полицейский, демонстративно втягивая носом воздух, притом что единственным источником запаха была вовсе не травка, хотя в доме ее хватало с лихвой, а туалетная вода с удушающим запахом пачули, которой обильно полилась Дороти.
Дороти, к этому времени уже спустившаяся во двор, стояла подбоченясь, словно на страже своих владений:
— Никто не пройдет! — Можно подумать, она сражалась на баррикадах.
— Ой, да бросьте, — сказала Виола. Она слишком устала, чтобы сносить всю эту чепуху.
— Где, черт возьми, ты пропадала, Виола? Доминик весь извелся. Он в студии, приехал несколько часов назад.
— Доминик вернулся? Он здесь? — не поняла Виола.
— А где ж ему быть?
— То есть мистер Вильерс? — вклинился один из полицейских. — Мистер Доминик Вильерс?
— Тот джентльмен, которого мы усиленно ищем с воздуха? — присоединился второй. — Ради которого мы подняли вертолет ВВС?
— Выходит, он искупался и, не найдя вас на пляже, просто взял да поехал домой? — не поверил своим ушам фермер.
— В одних плавках? — уточнила его жена, недоверчиво покачивая головой.
Виола явственно видела, что супружеская чета исчерпала все возможности своего воображения. Они бы никогда не поступили, как Доминик, — это же вменяемые люди.
Она упаковала сумку, тайком выгребла из общей копилки все деньги и ушла на соседнюю ферму. Никто даже не заметил ее отсутствия. Виола готовилась к отражению атаки гусей, но, похоже, те уже спали.
— А, это вы, — сказал фермер.
Утренние события отодвинулись бесконечно далеко.
Жена фермера искупала детей, и они, закутанные в полотенца, появились из ванной комнаты, чистые и благоухающие, а потом их одели в пижамы, которые фермерша хранила для приезжавших в гости внуков. Она разогрела мясное рагу с картошкой, и Виола заключила с детьми негласное соглашение: не признаваться в том, что они, все трое, — вегетарианцы. Виола прикинула, что уже сыта по горло (ха!), и решила не касаться этой этической проблемы (они же на ферме, успокаивала она себя). А когда хозяйка подала деликатес из телячьего ливера со сметаной, Виола не стала кричать: «Не ешьте! Это сделано из желудков телят!», хотя обычно говорила нечто подобное, к примеру, про сыр. Вместо этого она молча двигала челюстями. Уж очень было вкусно.
Потом их уложили спать на ветхие, но чистые простыни; детям отвели двуспальную кровать. С ранних лет Берти разговаривала во сне (еще с тех пор, когда даже не умела толком говорить), но на сей раз, к облегчению Санни, не проронила ни звука. Привезенный с пляжа камень Санни спрятал под подушку. И наутро первым делом нащупал свою находку.
— Ой, я тебя умоляю, — сказала Виола, когда за завтраком он положил камень рядом со своей тарелкой.
На завтрак был омлет из оранжевых, как солнце, яиц. Потом фермерша извлекла из своих закромов свежую одежду: теперь Санни щеголял в аккуратных коротких штанишках и эртексовой футболке,{31} а Берти — в ситцевом платье с оборками, корсажем и белым воротничком фасона «Питер Пэн». Никто бы не поверил, что это дети Виолы.
Фермер отвез их на станцию, они сели на поезд до Лондона, а там с вокзала Кингз-Кросс отправились в Йорк.
— Привет, — сказал Тедди, открыв парадную дверь и увидев на пороге троицу беглецов. — Вот так сюрприз.
1947 Неумолимая зима
Февраль
Подснежник чистый расцветет сегодня, свечой Марииной в знак Сретенья Господня{32}
Я едва не проглядел их островок возле канавы у живой изгороди. В канаве все еще «как гранит вода»{33} — точно так же, как во всех прудах и сельских водоемах на этом острове, и я не ожидал, что «храбрые предвестники весны», как называл их Вордсворт, появятся нынче в срок. Как правило, подснежники зацветают к Сретенью (2 февраля) и даже именуются кое-где «сретенскими колокольчиками», но в эту суровую, нескончаемую зиму их, конечно же, не стоит укорять за небольшое промедление.
Нэнси подавила зевок; Тедди заметил, но промолчал. В тусклом свете лампы жена не отрывалась от вязанья. Из-за штормовых ветров подача электроэнергии сократилась по всей стране, но их это не коснулось — прежде всего потому, что у них в сельском доме электричества не было. На первом этаже — керосиновые и парафиновые лампы, на втором — свечи. Садились поближе к камину, который служил супругам единственным источником тепла, не считая самих себя. Тедди наклонился и взбодрил затухающее полено, пошевелив его кочергой, а затем перевел взгляд на Нэнси и подумал: при таком свете она себе глаза испортит. Нэнси вязала для него безрукавку со сложным узором. Тут нужен точный математический расчет, сказала она. Всюду требуется точный расчет. Все на свете поверяется математикой — так говорила Нэнси.
— А разве не любовью? — усомнился однажды Тедди.
— Ну разумеется, любовью, — небрежно бросила Нэнси. — Любовь превыше всего, но это абстракция, а цифры непреложны. Цифрами невозможно манипулировать.
Неправильный ответ, подумал Тедди. Ему казалось, что именно любовь непреложна и перевешивает все остальное. Так ли это? В его случае?
Поженились они еще в Челси осенью сорок пятого — просто зарегистрировали брак. На регистрации присутствовало только по одной сестре с каждой стороны: Урсула и Беа; они же выступили свидетельницами. Тедди был в военной форме, но без орденов, а Урсула выклянчила у Иззи (без объяснения причин) довоенное парижское платье, которое с помощью Беа немного переделала, чтобы смотрелось не столь вызывающе и больше отвечало суровым реалиям времени. Утром Беа съездила в Ковент-Гарден и купила несколько лохматых, ржавого цвета хризантем, из которых соорудила элегантный букет. Цветы идеально гармонировали с бежевым шелком французского платья. До войны Беа, самая художественная натура (Милли с негодованием отвергла бы такое мнение) из всех девочек Шоукросс, училась в Сент-Мартине.{34} Про себя Тедди всегда называл их «девочками», хотя Уинни, самой старшей, уже стукнуло сорок.
Ни Тедди, ни Нэнси даже помыслить не могли о пышной свадьбе, когда еще слишком свежа была память о войне.
— Да и кто поведет меня к алтарю? — говорила Нэнси. — Без отца будет совсем не то.
Майор Шоукросс скончался — что ни для кого не стало неожиданностью — примерно за месяц до бракосочетания.
Тедди думал, что знает Нэнси (до войны он действительно ее знал), но теперь она не переставала его удивлять. Он воображал, что в браке они прилепятся друг к другу и станут — в туманном библейском смысле слова — одной плотью, но на деле постоянно ощущал, какие они разные, и нередко терял опору, когда рассчитывал… надеялся… что Нэнси поможет ему, напротив, укорениться.
О них с детства говорили «жених и невеста».
— Терпеть не могу это прозвище, — вспылила Нэнси накануне их скромной свадьбы.
Они сидели в дешевом, почти пустом пабе неподалеку от Пиккадилли; это заведение было выбрано по причине близости к колледжу, где они оба занимались на ускоренных педагогических курсах.
Учительство мыслилось ими как неотъемлемая часть оздоровления послевоенной жизни. Точнее, так мыслила Нэнси; Тедди просто соглашался, поскольку ничего лучшего придумать не сумел. Возвращаться в банковскую сферу, которая еще до войны встала ему поперек горла, он не планировал, а оставаться летчиком не мог. Военно-воздушным силам не требовались десятки, а возможно, и сотни мужчин, которые хотели бы продолжить службу и летать. Страна поставила на них крест. Они отдали ей все — и в одночасье остались не у дел. Ни о какой благодарности даже речи не было. В этих условиях преподавание выглядело не лучше и не хуже любого другого занятия. Поэзия, драматургия, классические романы — когда-то все это его влекло. А разжечь в себе искру прежнего интереса, чтобы передавать его другим, совсем не сложно, так ведь?
— Думаю, да, — с увлечением подхватила Нэнси. — Мир сейчас, как никогда, требует искусства. Оно может нас многому научить, когда люди бессильны это сделать.
— А математика?
— Нет, математика ничему научить не может. Она просто существует. Сама по себе.
Тедди не считал, что искусство («Искусство», беззвучно поправился он из уважения к матери) должно чему-то учить: оно должно радовать, успокаивать, возвышать, рождать понимание. (В сущности, «само по себе».) Для него дело когда-то обстояло именно так. Но Нэнси тяготела к дидактике.
Добросовестный школьный учитель, дающий знания, говорила Нэнси, горячо увлеченная этой идеей. Именно ему суждено внести свой вклад, пусть и скромный, в строительство лучшего будущего. Сама она вступила в Лейбористскую партию и неукоснительно посещала затяжные, унылые собрания. «Киббо Кифт» дал ей хорошую закалку.
В паб они зашли потому, что Нэнси хотела убедиться, не начался ли у Тедди предсвадебный мандраж и не пропало ли желание вступать в брак. Тедди заподозрил, что дело обстоит как раз наоборот и что это она надеется в последнюю минуту развязать себе руки. Коньяк на удивление оказался отменным: хозяин паба, узнав, что к нему заглянули без пяти минут молодожены, достал из-под прилавка бутылку «в честь влюбленных». О ее происхождении можно было только догадываться. Порой Тедди приходило в голову, что от войны выгадали все, кроме тех, кто воевал.
— Courage, mon ami,[5] — провозгласила Нэнси, воздав должное происхождению коньяка. Неужели у нее было чувство, что им недостает мужества?
— За будущее, — чокаясь, ответил Тедди.
На войне он долго не верил в будущее — сама мысль казалась ему нелепой, а теперь, когда наступило «потом» — так он на фронте называл про себя послевоенное время, — нелепость почему-то лишь выросла.
— И за счастье, — добавил он для порядка, потому что так было заведено.
— Выходит, «он женился на соседской девушке», — проворчала Нэнси. — Как будто у нас не было выбора, как будто мы просто покорились судьбе.
— Но ты действительно жила по соседству, — заметил он, — и я действительно на тебе женюсь.
— Да, — терпеливо подтвердила она, — но мы как-никак делаем выбор. И это важно. Мы не просто бредем вслепую, как лунатики.
Тедди подумал, что он-то вроде как бредет вслепую.
Они вместе провели детство: если не как влюбленные, то, по крайней мере, как лучшие друзья. Когда Тедди уехал из Лисьей Поляны в частную школу-пансион, Нэнси была единственной, не считая его родных, за кого он перед сном молился. Храни мою мать и моего отца (оказалось, в школе никто не называл родителей «мама» и «папа», даже в немых молитвах), и Урсулу, и Памелу, и Джимми, и Нэнси, и Трикси. Когда Трикси не стало и ее место занял Джок, Тедди стал говорить «…и Джока, и Трикси на небесах». В самом деле, собаки были членами семьи. Тедди обычно добавлял их к общему списку как-то виновато, а иногда и вовсе пропускал.
— Ты не обязана идти под венец, — сказал Тедди. — Я тебя не принуждаю. В конце-то концов, когда была война, все спешили заключить помолвку.
— Ну ты и гусь, — сказала она. — Естественно, я выхожу за тебя по доброй воле. Но уверен ли ты сам, что хочешь на мне жениться? Вот в чем вопрос. Отвечай просто «да» или «нет». Без околичностей.
— Да, — быстро ответил он, причем так громко, что двое других посетителей — древний старичок и с ним еще более древняя собака — даже вздрогнули.
Война стала бездонной пропастью: к прежней жизни, к прежним самим себе возврата не было. Это касалось не только их двоих, но и всей обнищавшей, разрушенной Европы.
— Невольно приходят в голову, — говорила его сестра Урсула, — поверженные шпили и башни, старинные города с узкими мощеными улочками, средневековые здания, ратуши и соборы, крупнейшие университеты — превращенные в кучи мусора.
— Мною, — сказал Тедди.
— Нет, Гитлером, — возразила Урсула, привыкшая клеймить позором Адольфа, а не огульно всех немцев. Она бывала в довоенной Германии, завела там друзей и до сих пор не оставляла надежды кого-нибудь из них разыскать. — Немцы тоже стали жертвами нацизма, просто об этом не принято говорить вслух.
В конце войны Урсула совершила тур от фирмы Кука и воочию увидела разоренную Германию в дымящихся руинах.
— А потом невольно приходят в голову крематории, — продолжала она. — Вспоминается бедная Ханни. Все доводы разбиваются о концлагеря, ты согласен? Освенцим, Треблинка. Страшное зло. Мы были вынуждены сражаться. И все же нужно идти вперед. Движение назад вообще невозможно, вне зависимости от войны. — У них в семье Урсула выступала в роли философа. — Нам остается только идти в будущее, проявляя свои лучшие качества и все такое.
Это было в ту пору, когда люди все еще верили в надежность времени, где есть настоящее, прошедшее и будущее — каркас западной цивилизации. На протяжении последующих лет Тедди пытался, насколько это доступно рядовому обывателю, вникнуть в положения теоретической физики: читал статьи в «Телеграф», а в тысяча девятьсот девяносто шестом героически пытался совладать со Стивеном Хокингом, но, дойдя до теории струн, вынужден был сдаться. После этого он принимал каждый наступивший день как данность, час за часом.
Урсулы не стало несколькими десятилетиями раньше — ее будто вычли из времени. Но в сорок седьмом время все еще представляло собой четвертое измерение, которое исправно формировало повседневную жизнь, сводившуюся для Урсулы к государственной службе, которой она отдала последующие двадцать лет, и к достойному, размеренному существованию незамужней работающей женщины в послевоенном Лондоне. Театры, концерты, выставки. Тедди всегда думал, что у сестры появится какая-нибудь страсть: профессиональное призвание, мужчина, непременно ребенок. Даже собственного потенциального отцовства (которое, если честно, его тревожило) не ждал он с таким нетерпением, как появления на свет ребенка Урсулы; но сестре было уже под сорок, и он полагал, что ее шансы стать матерью ничтожно малы.
Жена и сестра представлялись ему двумя сторонами блестящей монеты. Нэнси — идеалистка, Урсула — реалистка; Нэнси — оптимистка, живая душа, а над Урсулой довлеет вселенская скорбь. Урсула, пережив изгнание из рая, по мере сил старалась приспособиться к новой жизни, тогда как Нэнси, неунывающая и несгибаемая, настойчиво искала обратную дорогу в Эдем.
Тедди припомнил схожие образы: например, у Билла Моррисона было: «как гончая ищет лису».
Оторвавшись от вязанья, Нэнси поторопила:
— Ну же. Давай дальше про свои подснежники.
— Тебе интересно? — Он не заметил с ее стороны достаточного энтузиазма.
— Да, — подтвердила она с решимостью, хотя и мрачноватой.
На юге Англии мои знакомые еще должны хорошенько поискать, а у нас, как ни странно, в этом суровом северном краю, «первенцы радостей года», как назвал их Кебл,{35} уже высунули свои хрупкие венчики из-под снежного одеяла. (Perce-neige,[6] метко прозвали их французы.) Но мне, пожалуй, ближе всего другое имя подснежника: «февральская красавица».
Сам он взял себе nom de plume[7] Агрестис:{36} этим псевдонимом подписывались его «Заметки натуралиста» — небольшая колонка в «Ежемесячном краеведческом журнале Северного Йоркшира», который в обиходе именовался просто «Краевед». Это скромное малоформатное издание ориентировалось исключительно на местную публику; лишь считаные экземпляры каждый месяц отправляли за границу, в страны Британского Содружества, а один (как приходилось слышать) — даже в Милуоки, где жила невеста погибшего на войне солдата. Все зарубежные читатели, по мнению Тедди, были эмигрантами: их забросило на чужбину из тех мест, где люди читают результаты аукционов по продаже овец и доклады Женского института.{37} Сколько должно пройти времени, размышлял Тедди, пока невеста-вдова не поймет, что до родины ей дальше, чем до Луны?
Какая-то женщина из Норталлертона — в редакции она не появлялась — присылала в журнал рецепты, полезные советы, а иногда и образцы для вязания на спицах. В каждом номере можно было найти кроссворд (незамысловатый, конечно), письма читателей, статьи об исторических памятниках и живописных местах края, а также сплошные страницы рекламы местных предпринимателей. Журнал был из тех, что месяцами, а то и годами залеживаются в приемных врачей и дантистов. Если не считать корреспондентку из Норталлертона, над выпуском «Краеведа» трудились четверо: фотограф (на полставки), сотрудница, ведавшая организационными вопросами, включая объявления, рекламу и подписку, редактор Билл Моррисон, а теперь еще и Тедди, на которого возложили все остальные обязанности, в том числе и сочинение «Заметок натуралиста».
Переезд в Йоркшир объяснялся тем, что Нэнси сочла здешние места подходящими для добродетельной, простой жизни, какую и должен вести человек — не только мужчина, но и женщина. Опять же не обошлось без влияния «Киббо Кифта». Им обоим претил мрачный, изрезанный военным шрамами лик столицы, а Йоркшир, по словам Нэнси, находился где-то далеко-далеко и меньше был изуродован механизацией и войной.
— Пожалуй… — ответил Тедди, а сам подумал о бомбардировках Гулля и Шеффилда, о монолитных закопченных фабриках Уэст-Райдинга, но главное — о продуваемых свирепыми ветрами аэродромах, куда его забрасывало в годы войны и где прошла — в холодном, грохочущем чреве бомбардировщика «галифакс» — более счастливая, а возможно, и самая счастливая пора его жизни.
— Тебе ведь понравился Йоркшир, правда? — небрежно спросила Нэнси, как другая могла бы спросить: «Не съездить ли нам нынче на озера? Тебе ведь понравился Озерный край, правда?»
Сам Тедди вряд ли выбрал бы слово «понравился» применительно к тому отрезку жизни, когда каждый день был хрупок и мог оказаться для него последним, а единственным временем было настоящее, поэтому будущее перестало существовать, хотя они сражались за него не на жизнь, а на смерть. Очертя голову они бросались на врага, и каждый новый день становился для них новыми Фермопилами. («Самопожертвование, — говорила Сильви, — это такое слово, которое придает массовым убийствам оттенок благородства».)
Хотя да, в самом деле, Йоркшир ему понравился.
Одно время они думали об эмиграции. Либо в Австралию, либо в Канаду. В Канаде Тедди проходил курс начальной летной подготовки и сдружился с приветливыми, простыми в обращении ребятами. Нынешней зимой он вспоминал как дивный сон их совместную поездку за персиками. Перед войной он успел побывать и во Франции, еще более эфемерной, чем любой сон, но Франция годилась для фантазий молодняка, а не для проживания женатого англичанина в сорок седьмом. В конце концов было решено, что сражался он как-никак за Англию («за Британию», поправила его Нэнси), а потому неправильно будет покинуть свою страну, когда она оказалась в бедственном положении. Видимо, такое решение было ошибочным, думал он по прошествии долгих лет. Лучше бы они купили два билета по пять фунтов и уехали вместе с другими разгневанными отставниками, которые поняли, что Британия мрачной послевоенной поры вышла из войны не победительницей, а скорее побежденной.
В долине, у кромки торфяника, Нэнси сняла старую фермерскую хибару под названием «Мышкина Норка» («Придумают же!» — бросила Сильви), хотя за все время они, к своему удивлению, не увидели там ни единой мыши. Наверное, сказала Нэнси, дом так назвали из-за крошечных размеров.
В хибаре были дровяная чугунная плита с духовкой и черный котел для нагрева воды («слава богу», часто повторяли молодожены, стуча зубами от холода). На ужин им приходилось довольствоваться хлебом с кусочком нормированного масла: держа хлебный ломтик на медной вилке перед открытым огнем, они только радовались, что не нужно бежать навстречу ледяному ветру в тесный чулан, пристроенный в незапамятные времена к задней стене дома. А у этого чулана тоже была пристройка, более похожая на сараюшку, чем на комнату, хотя там имелись раковина и сидячая ванна с почерневшими латунными кранами и ржавыми потеками трещин. Ни радио, ни телефона — и удобства во дворе, что в такую погоду, понятное дело, заставляло их, как это ни унизительно, пользоваться ночным горшком. Таково было их первое жилище, и Тедди понимал, что впоследствии они будут вспоминать о нем с нежностью, вопреки всем нынешним тяготам.
Дом был полностью обставлен, и это их устраивало, потому что собственным скарбом они еще не обзавелись, если не считать пианино, втиснутого в комнату нижнего этажа. Нэнси неплохо играла, хотя с Сильви соперничать не могла. Предыдущий съемщик, по-видимому, жил в доме до самой смерти, и они вовсю пользовались чашками и блюдцами, подушками и лампами неведомого бедолаги, не говоря уже о бронзовой вилке для тостов. По мнению Тедди и Нэнси, до них здесь обитала женщина: хотя выношенные льняные занавески и накидки на кресла были украшены елизаветинской вышивкой, которая пришлась бы по душе жильцам обоего пола, в доме на каждом шагу попадались вязанные крючком одеяла, плетеные коврики, вышитые крестиком картины с изображениями садов и дам в кринолинах — все это выдавало старушечий вкус. Ту старушку они считали своей незримой благодетельницей. Спасибо еще, постельные принадлежности достались им не из-под трупа — миссис Шоукросс выудила для них из своего шкафа запасной комплект.
Договор аренды вступал в силу в мае, когда близ дома благоухали цветы и бередил душу благословенный бальзам небес. («У тебя сплошные „бэ“, дружище, — указал ему Билл Моррисон. — Готов поспорить, для такого изыска есть специальное название». — «Аллитерация», — сообщил Тедди. «Ну, знаешь, хорошенького понемножку», — распорядился Билл.)
— Бог мой! — ужаснулась Сильви, приехав к ним погостить. — Здесь первобытные условия, вы не находите?
Они сделали сэндвичи с колбасным фаршем, а Сильви привезла яйца из-под домашних несушек и маринованные огурцы; яйца были тут же сварены вкрутую, на запущенной лужайке в саду расстелили старый ковер и устроили недурной пикник.
— Вы пятитесь назад, — изрекла Сильви. — Скоро будете жить в пещере и купаться в ручье.
— А что в этом плохого? — Нэнси облупила яичко. — Мы вообще можем жить по-цыгански. Я буду собирать ягоды на продажу, торговать вразнос прищепками для белья и талисманами, а Тедди — рыбачить да стрелять кроликов и зайцев.
— Тедди не будет стрелять, — решительно возразила Сильви. — Он не убийца.
— Нужда заставит, — сказала Нэнси. — Передайте, пожалуйста, соль.
Нет, убийца, подумал Тедди. Убил многих. Ни в чем не повинных людей. И приложил руку к разрушению несчастной Европы.
— Я, между прочим, здесь, — сказал он вслух, — сижу рядом с вами.
— К тому же, — продолжила Нэнси, которая определенно прониклась этой идеей, — волосы у нас пропахнут дымом, а детки будут бегать голышом.
Разумеется, это было сказано только назло Сильви. Как и следовало ожидать, Сильви разозлилась:
— Ты же всегда была синим чулком, Нэнси. Как видно, замужество кое-что в тебе изменило.
— Нет, во мне кое-что изменила война, — сказала Нэнси.
Последовала короткая пауза: каждый из троих размышлял, какой смысл несет в себе это «кое-что».
Во время войны Закон о государственной тайне вбил клин между Тедди и Нэнси. Нэнси не имела права разглашать род своей деятельности, а Тедди не находил в себе сил (просто потому, что не хотел) сказать ей, чем занимается он сам, и отношения их дали трещину от испытания неведением. Нэнси поклялась открыть ему все начистоту после войны («Потом расскажу. Обещаю»), но после войны ему расхотелось вызнавать. «Криптология, шифры и прочее», призналась она, хотя он и сам давным-давно это понял — чем же еще могла она заниматься?
Никто из бывших сотрудников Блетчли{38} не болтал о своей службе, но Нэнси готова была нарушить подписку о неразглашении, лишь бы «между нами ничто не стояло». Утайки способны разрушить любой брак, говорила она. Чушь, отвечала ей Сильви. Как раз наоборот: утайки могут спасти любой брак.
Если Нэнси жаждала распахнуть сердце мужу, то у Тедди были дверцы, которые он никогда не отворял. В вопросах своей собственной войны он не был до конца честен: ужасы и насилие, а тем более страх представлялись ему сугубо личным делом. К этому примешивалась его супружеская неверность. Нэнси признала, что «занималась сексом» (Тедди покоробила эта фраза) с другими мужчинами, когда, не зная, что он в плену, считала его погибшим, но он-то изменял ей без всякого благовидного предлога.
Она не задавала лишних вопросов, и в этом ему виделось ее несомненное достоинство. А сам он считал, что откровения ничего хорошего не принесут. Накануне бракосочетания, сидя в тесном, обшарпанном пабе, он вернулся к этой мысли. У него еще оставалась возможность чистосердечно признаться, но по большому счету его грешки и слабости ничего не значили; Нэнси рассудила бы точно так же, и это, наверное, было хуже всего.
Сильви привезла еще кекс: довольно закалистый, с тмином, застревавшим в зубах. Сама испекла. Готовить она научилась лишь в зрелые годы и все еще не постигла до конца всех тонкостей этой науки. Отрезав от кекса аккуратные ломтики, Нэнси подала их на разномастных старушкиных блюдцах.
— Вот сыграли бы свадьбу как положено, — упрекнула Сильви, — так получили бы подарки: к примеру, фарфоровый сервиз, чтобы для гостей стол накрыть по-человечески. В семейной жизни много разной утвари требуется.
— Ой, да мы и без утвари прекрасно обходимся, — сказала Нэнси.
— Вся в матушку пошла, — бросила Сильви, а Нэнси ей ответила:
— Спасибо. Будем считать, что это комплимент.
От этого Сильви вскипела еще сильнее. Она затаила обиду, когда Тедди и Нэнси лишили ее удовольствия присутствовать на свадебных торжествах. «Отвертелись», как говорила Сильви. «Такие фото даже в серебряную рамочку не вставить», — сокрушалась она, разглядывая мелкие изображения на снимках, которые Беа сделала своей допотопной камерой в день регистрации.
— Кекс — объедение, — сказала из вежливости Нэнси, но тут же отвлеклась на большую пчелу, которая в изнеможении упала на ковер и запуталась среди ворсинок. Взяв ее на ладонь, Нэнси пошла к живой изгороди, где присмотрела тенистый уголок.
— Не поможет, — обратилась Сильви к сыну. — Пчела уже не оправится. Ослаблена тяжким трудом. Если бы в царстве насекомых возникла религия, пчелы были бы методистами.
— Но первый порыв — спасти, — сказал Тедди, с нежностью глядя на жену, которая спасала пчелу, не играющую заметной роли в общем устройстве мира.
— Вероятно, не всегда следует ему поддаваться, — изрекла Сильви. — Ну и жара, — добавила она и стала обмахиваться салфеткой. — Пойду в дом. А кекс — отнюдь не «объедение». Нэнси всегда была виртуозной лгуньей.
Поселившись в «Мышкиной Норке», они даже не подозревали, что ждет их зимой. Все разговоры по-прежнему были о том, что неплохо бы прикупить несушек-леггорнов, научиться обращению с пчелами, перекопать заброшенный огород и «для начала» посадить картошку, чтобы окультурить почву. «Освоение Эдема!» — смеялась Нэнси. Они даже подумывали завести козочку. Но эти планы так и повисли в воздухе, а время шло, подступала тьма. Увлечение друг другом заслоняло все остальное. Каждого можно было уподобить стрекозе, которая наслаждается теплом, а не муравью, который готовится к зиме. Оба только радовались, что не завели козочку.
Первые летние вечера теперь вспоминались с трудом: как под стрехой копилась дневная жара, как лениво колыхалась на распахнутом окне ветхая ситцевая занавеска. Они ласкали друг друга при свете дня, потом проваливались в блаженный сон и просыпались на рассвете, чтобы снова предаться любви. Тьма подкралась незаметно. Завесив окно старой серой попоной, они со страхом ожидали сквозняков. На оконных переплетах, что снаружи, что изнутри, намерзала ледяная короста.
«Здесь у нас нисколько не лучше», — писала из Лондона Урсула. Почту они забирали из сколоченного на скорую руку ящика, прибитого к столбику в конце тропы. Письма доставляли после их ухода на работу, а потому они так и не стали свидетелями героизма почтальона и могли только гадать, чего ему стоило к ним пробиться. Их слишком поглощала собственная эпопея. Они купили на торгах видавший виды армейский «лендровер», воспользовавшись (очень щедрой) суммой, которую презентовала им Иззи ко дню бракосочетания. Ее стандартным свадебным подарком родне служили наборы ножей и вилок для рыбы, но когда настал черед Тедди, она вручила ему солидный чек; дело было за чаем в ресторане «Браунз», и она сказала: «Должок от Августа». От Августа, который, в отличие от Тедди, не повзрослел, оставшись безответственным и кругом виноватым. Тедди порой задумывался, чем бы стал заниматься Август, доведись тому повзрослеть. В его воображении этот вымышленный двойник, Густи, ошивался бы в истоптанном грязными следами войны Сохо, став завсегдатаем сомнительных пабов и клубов. Сюжет куда более увлекательный, чем «Август и фокус с исчезновением» — новейшее продолжение саги об Августе, доставленное пару дней назад сквозь снежные заносы и забытое на крышке пианино. «Теперь Август вступил в местное общество иллюзионистов и, как всегда, творит свои проказы», — говорилось на последней странице суперобложки.
— Даже этой вечной зиме когда-нибудь придет конец, — сказала Нэнси. — И доказательство тому — подснежники. Ты же их видел своими глазами, правда? Или выдумал для этой колонки?
Он даже удивился, как такое могло прийти ей в голову.
— Зачем мне выдумывать? — сказал он, пожалев, что набрел на эти клятые подснежники, да еще и сделал их темой своих заметок.
Ему не терпелось дождаться мая, буйства птиц и цветочных бутонов. Весной у Агрестиса не будет недостатка в темах. Тедди достал из корзины полено и подкинул в огонь. На коврик брызнул сноп шипящих искр. Тедди и Нэнси с интересом смотрели, не полыхнет ли хоть одна пламенем, но нет: искры поплевались и, не причинив никакого вреда, умерли.
— Что ты умолк? Продолжай, — сказала Нэнси.
— Тебе интересно?
— Да.
Ее взгляд не отрывался от вязанья. (Нэнси всегда была виртуозной лгуньей.)
Одни утверждают, что подснежник был принесен в наши края римлянами; другие считают, что его вывели монахи (а возможно, монахини). Даже у Шекспира «бледный край небес»{39} частенько взирает на их щедрую весеннюю россыпь. А вот поди ж ты: чувство такое, что цветок этот живет здесь с Сотворения мира, являя взору самую суть всего английского.
Согласно одной из легенд о происхождении подснежника, Адам и Ева после изгнания из райских кущ были отправлены туда, где вечная зима, и узрели в этом кару; но сжалившийся над ними ангел превратил одну снежинку в подснежник и тем самым показал, что в этот мир скоро вернется Весна.
Нэнси опять зевнула, уже почти не таясь.
— Ты просто укажи мне на огрехи, — попросил Тедди. — Я не рассчитываю, что тебе это понравится.
Подняв глаза от вязанья, она сказала:
— А мне нравится! Зря ты обижаешься. Я просто устала, вот и все.
Те, кому выпало испытать нрав этой неумолимой зимы, вероятно, с готовностью посочувствуют нашим библейским предкам. В католическом календаре Сретенье — это праздник Очищения Богородицы…
— Как-то многословно, тебе не кажется?
— Многословно? — переспросил Тедди.
До войны он воображал себя, можно сказать, поэтом и даже пару раз печатался в малоизвестных литературных журналах, но, приехав на побывку в Лисью Поляну, перебрал свои довоенные опусы, хранившиеся в обувной коробке под его детской кроватью, и понял, как мало они стоят — эти любительские вирши, плоды незрелого ума. Их стиль изобиловал туманными, вымученными метафорами, которые по большей части выражали его отношение к природе. Его привлекали величественные вордсвортовские масштабы холмов, долин и водных просторов. «Душой ты язычник», — как-то сказала ему Нэнси, но он не согласился. Душой он был сельским пастором, утратившим веру. Но теперь это не играло никакой роли, поскольку великий бог Пан умер,{40} а война давно отбила у Тедди всякую охоту сочинять стихи.
После окончания Оксфорда он подал заявление в аспирантуру по курсу филологии, оттягивая момент выбора профессии. В глубине души он все еще лелеял мечту стать машинистом поезда, но догадывался, что этому не бывать. Он бы несказанно изумился (и обрадовался), если бы узнал, что через пять лет пойдет учиться на летчика.
В качестве темы исследования он выбрал поэзию Блейка — за то качество, которое про себя именовал «непрозрачной простотой» («Как прикажешь это понимать?» — спрашивала Сильви), но когда дошло до дела, его охватило неодолимое беспокойство, и он, поставив крест на Блейке после первого семестра, вернулся в Лисью Поляну. Анализировать и препарировать литературу ему надоело («Я же не прозектор», — сказал он отцу, когда тот пригласил его к себе в «роптальню», чтобы за стаканчиком виски «чуток потолковать» о будущем).
— Мне бы хотелось, — задумчиво проговорил Тедди, — попутешествовать, как следует узнать страну. Если выйдет, немного познакомиться и с Европой.
Под «страной» он понимал не всю Британию, а только Англию, а под «Европой» — Францию, но признаваться в этом не стал: французы вызывали у Хью странную неприязнь. Тедди попытался объяснить, что хочет соприкоснуться с миром напрямую.
— Пожить чувствами, так сказать. Поработать на земле, заняться поэзией. Одно не исключает другого.
— Конечно, конечно, — живо откликнулся Хью. — Вергилий с его «Георгиками» и так далее. «Поэт-землепашец». Или «землепашец-поэт». — Сам Хью был банкиром и определенно жил не чувствами.
С двенадцати лет Тедди во время каникул работал в соседнем имении Эттрингем-Холл — не ради денег (порой ему вообще не платили), а просто из любви к физическому труду под открытым небом. («Что может быть хуже?» — возмущалась Иззи. Однажды, приехав в Лисью Поляну, она застала его в доилке, где ее чуть не задавила корова.) «По натуре я не интеллектуал», — признался Тедди отцу, догадываясь, что Хью придется по нраву такое заявление; и впрямь, тот сочувственно кивнул. А тяга к земле, продолжил Тедди, — это же исконная связь, верно? Из нее рождаются произведения, выверенные чувствами, пульсом, а не сухой рассудочностью (еще один кивок от Хью). Возможно, получится целый роман. (Какая наивность!)
— Роман? — переспросил Хью, невольно вздернув брови. — Всякие выдумки?
Это Сильви питала слабость к романам; Хью — никогда. Хью шел в ногу со временем. Он предпочитал факты. Но Тедди был в числе его любимцев. И у Хью, и у Сильви была секретная табель о рангах; правда, у Сильви не столь уж секретная. Во многом их привязанности совпадали: Памела посередке, Морис — в конце, но Урсула, самая близкая отцовскому сердцу, котировалась у Сильви невысоко. На первом месте у нее стоял Тедди, любимый сын. Тедди пытался угадать, кого она выделяла до его появления на свет. И подозревал, что никого.
— Но ты же не хочешь увязнуть? — спросил Хью.
Неужели отец считал, что сам увяз? Не по этой ли причине он предложил Тедди двадцать фунтов, чтобы сын «хоть немного пожил своей жизнью»? От денег Тедди отказался — ему хотелось самостоятельно себя обеспечивать, куда бы ни повел его жизненный путь, но отцу он был безмерно благодарен за поддержку.
Мать, естественно, не одобрила его решения.
— Чем-чем ты надумал заняться? — переспросила она. — Мы увидим, как выпускник Оксфорда в наряде трубадура бродит по дорогам с гитарой?
— «И, надев наряд простолюдина, по дорогам бродит с мандолиной»,{41} — поправил Хью, верный поклонник Гилберта и Салливана.
— Пусть так, — подхватила Сильви. — По дорогам бродят в поисках работы только лишенцы. А Бересфорды — никогда.
— Между прочим, его фамилия — Тодд, — вставил Хью, но не нашел отклика. — Откуда в тебе такой невероятный снобизм, Сильви? — добавил он, что и подавно не нашло отклика.
— Это ведь не на всю жизнь, — сказал Тедди. — Максимум на год, пока не определюсь.
У него не шло из головы брошенное матерью слово «трубадур» — как некая (совершенно сырая) идея.
И он пошел своим путем. Сеял семена капусты в Линкольншире; когда ягнились овцы, задержался в Нортумберленде; выходил на жатву в Ланкашире, поработал на сборе садовой земляники в Кенте. Фермерские жены кормили его за массивными столами и, пока было холодно, отправляли на ночлег в сарай, на сеновал или в какую-нибудь хибару, а летом он спал в своей старой, слегка отдающей плесенью палатке, которая верой и правдой служила ему и в младшем отряде скаутов, и в «Киббо Кифте». Но самое памятное приключение она засвидетельствовала в тридцать восьмом году, когда Тедди и Нэнси решили провести каникулы на лоне природы, в Озерном крае, где (наконец-то) перешли от дружеских отношений к любовным.
— А бывает и то и другое сразу? — Тедди растерялся.
— В принципе бывает, — ответила Нэнси, и Тедди понял: его знакомство с Нэнси было слишком долгим и слишком близким, чтобы он мог вот так, в одночасье, «влюбиться». Нет, конечно, он ее любил, но «влюбленность» не наступила — ее и прежде не случалось. «Придет ли это чувство в будущем?» — задумался он.
Но до будущего было еще далеко. А сейчас он сидел наготове в овчарне и при свете керосиновой лампы читал Хаусмана и Клэра.{42} Он и сам когда-то пописывал стишки (в обувную коробку), почти сплошь о погоде и природе, но даже на его собственный взгляд получалось скучно. А овцы — и, кстати, ягнята — и вовсе не настраивали на поэтический лад. («Разинув рты, детеныши дрожат» — у него всегда вызывали отторжение «Грасмерские ягнята» Кристины Россетти.) От коров и вовсе никакого толку, кроме молока. Тедди не волновало хопкинсовское «рябых небес коровий пестрый бок».{43} «Я боготворю Хопкинса, — писал он Нэнси, находясь где-то к югу от Адрианова вала.{44} — Мне бы научиться так писать!» В письмах он всегда выдерживал бодрый тон сродни хорошим манерам, хотя в действительности был убит неуклюжестью своих виршей.
К нему ненадолго заехала Иззи: она поселилась в гостинице на озере Уиндермир, угостила племянника роскошным ужином, подпоила и засыпала вопросами, чтобы «добиться определенной меры правдоподобия» в книжке «Август становится фермером».
Год пролетел незаметно. Ранний урожай яблок в Кенте вызвал к жизни оду осени, которая посрамила бы самого Китса{45} («Яблоки, яблоки, нежно румяны, / Пальцы мороза не тронули вас…»). Тедди был еще не готов оторваться ни от поэзии, ни от земли; в Дувре он сел на паром, захватив с собой новенькую, неначатую общую тетрадь. Достигнув берегов Франции, он отправился прямо на юг, туда, где шел сбор винограда, а сам вспоминал «кубок южного тепла румяней настоящей Иппокрены»,{46} хотя Иппокрена была не во Франции, а в Древней Греции, так ведь? Грецию он даже не рассматривал и теперь корил себя за такое (серьезное) упущение: как можно было не включить в свой маршрут колыбель современной цивилизации? Позднее он упрекал себя еще не раз, что упустил чудеса Венеции, Флоренции и Рима, но в ту пору довольствовался Францией, а остальную Европу спокойно обошел стороной. В тридцать шестом году там было неспокойно, а Тедди не имел ни малейшего желания соприкасаться с политическими пертурбациями. Впоследствии ему приходило в голову, что он, возможно, был не прав, закрывая глаза на подступающее зло. Иногда бывает достаточно усилий одного порядочного человека, сказала ему как-то Урсула во время войны. Они попытались найти примеры из истории, но не смогли. «Разве что Будда, — предположила Урсула. — В существовании Христа я не уверена». Зато есть множество примеров, когда было достаточно усилий одного негодяя, мрачно сказал Тедди.
Кстати, для Греции еще могло остаться время. В конце-то концов, длительность своего отъезда («максимум на год») установил он сам.
Когда закончился сбор позднего «сотерна», Тедди был «по-крестьянски загорелым и сильным», как сообщалось в его письме к Нэнси. Грубоватый крестьянский колорит приобрел и его французский. После дневных трудов на Тедди нападал зверский аппетит, и он подчистую уминал сытный ужин, который предоставляло сезонным рабочим винодельческое хозяйство. С наступлением темноты он ставил в поле свою неизменную брезентовую палатку. Впервые после детских лет, проведенных в Лисьей Поляне, он спал без сновидений, как спят только мертвецы и праведники. Этому способствовало вино, которое рекой лилось за столом. Иногда он встречался с женщинами. И не написал ни строчки.
В последующие годы ему достаточно было закрыть глаза, чтобы вызвать в памяти вкусы и запахи тех блюд, с которыми он познакомился во Франции: его пленяли масляно-чесночные нотки рагу, листья артишока, которые полагалось обмакивать в сливочное масло, oeufs en cocotte — яйца, запеченные внутри крупных помидоров «бычье сердце». Седло барашка с дольками чеснока и веточками розмарина — произведение искусства. С точки зрения англичан, воспитанных на преснятине, это были во всех отношениях чуждые изыски. Пахучий, кисловатый сыр; десерты — flaugnarde с персиками, clafouti с вишнями, tarte aux noix и tarte aux pommes, а также Far Breton — род пирожного с заварным кремом и черносливом, которое Тедди до конца своих дней мечтал попробовать вновь, но понапрасну.
— С черносливом и заварным кремом? — недоверчиво переспрашивала миссис Гловер, когда он вернулся.
Миссис Гловер уехала из Лисьей Поляны вскоре после возвращения Тедди; наверное, умаялась готовить по его особому заказу блюда региональной французской кухни.
— Не говори глупостей, — отрезала Сильви. — Она ушла на покой и поселилась у сестры.
А чего стоили завтраки, которые, естественно, тоже подавались за большим столом в общей кухне. Ничего похожего на жидкую овсянку, которую в частных школах зачерпывают половником, или на тривиальную яичницу с беконом, как в Лисьей Поляне. Вместо этого Тедди взрезал ножом свежеиспеченный багет, щедро намазывал на него камамбер и макал в мисочку с обжигающим крепким кофе. По возвращении домой ему пришлось забыть такое начало дня, но через несколько десятилетий, когда его домом стал пансионат гостиничного типа в «Фэннинг-Корте», эти воспоминания всколыхнулись с новой силой, и тогда он пошел в «Теско», где купил багет («Печем сами» — допустим; но из чего?) и маленький кругляш незрелого камамбера, а утром налил кофе не в привычную кружку, а в миску для хлопьев. Но по вкусу получилось совсем не то. Близко не стояло.
С приближением зимы его потянуло к югу («как стрижа», написал он Урсуле), и остановился он только на побережье, где снял комнату над кафе в рыбацкой деревушке, пока не испорченной туристами. Что ни день он надевал куртку, заматывал шею шарфом (зимы на Ривьере такие, что ничего большего и не требовалось), садился за столик в этом единственном кафе, закуривал «житан» и, потягивая эспрессо из белых фаянсовых чашечек, раскрывал перед собой общую тетрадь. Когда наступало обеденное время, он переходил к вину, заказывал хлеб и поджаренную на деревянной решетке свежевыловленную рыбу, а ближе к вечеру созревал для аперитива. Пытался убеждать себя, что живет чувствами, но в глубине души понимал, что просто отгораживается от жизни, а потому — как-никак англичанин — терзался угрызениями совести.
«L’Ecrivain Anglais»,[8] любовно говорили о нем местные жители: в этих краях он оказался первым заезжим поэтом, притом что художников там было — как собак нерезаных. На сельчан произвели впечатление его непринужденный французский и неразлучность с общей тетрадью. Он был только рад, что никто не может прочесть эту жалкую писанину — его бы перестали уважать.
В подходе к Искусству (с прописной буквы, как у Сильви) Тедди решил придерживаться определенного метода. Стихотворения — это конструкты, а не просто слова, по своему хотенью выплывающие из его головы. «Наблюдения» — такой заголовок он с самого начала вывел на первой странице тетради, а пустые листы исписывал образами, посетившими его во время пеших прогулок: «Небо сегодня по-особому синее… Сапфировое? Лазурное? Ультрамариновое?» Или: «Солнце разбивается о морскую гладь на тысячи алмазов». Или так: «Берег будто сложен из монолитов цвета и горячих ломтиков солнца». (Последним он остался особенно доволен.) И еще: «Madame la proprietaire[9] вышла сегодня в забавном зеленом жакетике». Но сочинить ли стихотворение про Madame la proprietaire? В поисках других образов он припоминал увиденные поля лаванды и подсолнечника, теперь уже опустевшие. «Царственные пики», «золотые диски Гелиоса молитвенно поворачиваются к своему божеству». Ему бы стать живописцем: краски казались более податливыми, чем слова. «Подсолнухи» Ван Гога, решил он, дались художнику малой кровью.
«Над головой с воплями кружат чайки, взволнованные возвращением рыбацких лодок», — тщательно вывел он, прежде чем в очередной раз закурить «житан». Солнце опустилось, как сказал бы его отец (мыслимо ли не любить Францию?), «ниже мачты» (почти); близилось время пастиса. Тедди почувствовал себя бездельником, сибаритом. Отложенных денег ему бы вполне хватило, чтобы перезимовать на Лазурном Берегу, а потом, возможно, двинуться на север и посетить Париж. «Умереть, не увидев Парижа, непростительно», — говорила Иззи. А вот ему как-то удалось.
Незадолго до Рождества пришла телеграмма. Его мама попала в больницу. «Пневмония, состояние тяжелое, приезжай», — скупо написал отец.
— Легкими в свою матушку пошла, — сказал Хью, дождавшись возвращения сына.
Свою бабку Тедди не знал, но помнил, что ее, согласно семейной легенде, убили именно легкие. Впрочем, Сильви поправилась на удивление быстро и до Нового года уже выписалась. Болезнь ее оказалась не столь уж серьезной. Тедди был далеко не уверен в необходимости той телеграммы и на протяжении некоторого времени подозревал какой-то семейный сговор, но Хью виновато сказал: «Она все время тебя звала». «Блудный сын» — любовно назвал его отец, когда встречал с поезда.
Если честно, перестав строить из себя поэта, Тедди вздохнул с облегчением, а после душевного рождественского ужина в Лисьей Поляне отправляться назад во Францию казалось уже нелепостью. (Чего ради? Чтобы еще пожить сибаритом?) Вместо этого он устроился работать в банк, на вакантное место, которое присмотрел для него отец. В первый день, оказавшись в бесшумных коридорах, отделанных красным деревом, он почувствовал себя заключенным, отбывающим пожизненный срок. Ему подрезали крылья, навек пригвоздили к земле. Неужели это все? Жизнь кончилась?
— Знаешь, Тед, — обратился к нему Хью, — я всегда верил, что ты со временем себя найдешь.
С началом войны у него упала гора с плеч.
— Признайся, о чем задумался, — получишь пенни, — сказала Нэнси, достала из корзины для рукоделия портновскую мерную ленту и набросила ему на плечо.
— Мои думы на пенни не потянут, — ответил он.
И вернулся к злосчастным подснежникам:
Формой подснежник напоминает сережку: нетрудно представить, как этот изящный цветок дрожит в ушке какой-нибудь елизаветинской красавицы.
— Если придираться: разве может серьга дрожать в ухе? — перебила Нэнси, опуская спицы на колени и хмуро изучая свое вязанье. Она потянула изящную мочку собственного уха и показала, как плотно сидит небольшая серая жемчужина. — Вот если бы она свисала, тогда другое дело.
У Нэнси был ум криминалиста — прямо хоть сейчас судьей в Верховный суд. Она умела изложить любое мнение без эмоций и при этом в самой подкупающей манере.
— Ты меня совсем не щадишь, — рассмеялась она.
Нэнси в очередной раз намекала на «рыхлость» его стиля. Да ведь это журналистика, молча восставал Тедди, инертная форма письма. Но Нэнси любила, чтобы каждое дело выполнялось с блеском.
Когда они переехали в Йоркшир, Тедди стал учительствовать в посредственной гимназии для мальчиков, находившейся в закопченном, обшарпанном, тихо умиравшем городке при ткацкой фабрике, и на первом же уроке (тема: «Ромео и Джульетта». «Молодцов в сторону, а девок по углам и в щель»{47}) под гогот тринадцатилетних оболтусов понял, что совершил ошибку. Он увидел, как перед ним разворачивается будущее, день за унылым днем. Увидел себя, безропотного кормильца Нэнси и еще не рожденных детишек, которые уже давили на него грузом ответственности. А потом увидел себя разочарованным старичком-пенсионером. Чем это лучше банка? Тедди был стоиком, это вбили в него со школьной скамьи; преданный, как пес, он понимал, что выдержит и это, пусть даже в ущерб себе.
— На войне ты проливал кровь ради этих мальчишек, — сказала, приехав их навестить, Урсула, — ради их свободы. Они этого достойны?
— Нет, какое там, — ответил Тедди, и они в унисон рассмеялись, потому что это клише уже навязло в зубах, а им было известно, что свобода, равно как и любовь, — это абсолютные сущности, которые невозможно дозировать по собственной воле или прихоти.
А Нэнси, напротив, полюбила свою профессию. Она преподавала математику в гимназии для хорошо воспитанных, умненьких девочек в милом городке на водах. Ей нравилось делать их еще умнее, еще воспитаннее, и они платили своей учительнице любовью. В заявлении о приеме на работу она солгала, что не состоит в браке (и даже не вдова), решительно вычеркнув Тедди из своей биографии. Она вновь превратилась в мисс Шоукросс.
— К замужним учительницам относятся с предубеждением, — объяснила она мужу. — Они берут отпуск по беременности и родам, отвлекаются на свои семейные дела, на мужей.
— Отвлекаются?
Естественно, Нэнси планировала уйти с работы, когда у них наметится прибавление в семействе, но такое происходит по милости судьбы, а судьба, похоже, не спешила их облагодетельствовать.
Она знала, как Тедди тяготится учительством. У Нэнси была масса достоинств: в частности, она считала, что люди не должны страдать без причины. (Тедди всегда поражался, сколь многие считают иначе.) Она убеждала мужа снова взяться за перо:
— Давай-ка пиши сразу роман.
Нэнси перечитала весь ворох стихов из обувной коробки, и Тедди подозревал, что мнение жены совпадает с его собственным.
— Роман, — повторила она. — Роман для изменившегося мира, нечто новое, свежее, что могло бы поведать, кто мы такие и кем должны быть.
Тедди не считал, что мир так уж сильно изменился; мир виделся ему старым и унылым (каким был в собственных глазах и он сам), и он сомневался, что сможет сказать этому миру нечто стоящее, но Нэнси, похоже, усмотрела в нем дарование.
— Хотя бы сделай попытку, — говорила она. — Чтобы узнать свои возможности, нужно сделать попытку.
И он, поддавшись на льстивые уговоры, стал по вечерам и в выходные садиться за портативный ремингтон, который Нэнси откопала в комиссионном магазине. Больше никаких «Наблюдений», сказал себе Тедди. Никаких общих тетрадей. К делу.
Заглавие для своего литературного дебюта, «Испытанный кров», он позаимствовал из «Эндимиона» Китса:
Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь. Никогда Не впасть ему в ничтожество. Все снова Нас будет влечь к испытанному крову С готовым ложем и здоровым сном.{48}— Да, ему, наверное, очень не хватало готового ложа и здорового сна, — заметила Урсула. — И он понадеялся, что, сказав об этом в стихах, приблизит свою мечту.
Его сестра всегда рассуждала о Китсе с грустью, как будто о новопреставленном. Впрочем, заглавие оказалось не слишком удачным, не хлестким.
— И так сойдет, — сказала Нэнси. — Во всяком случае, на первое время.
Ход ее мыслей был ясен. Она считала, что мужа необходимо исцелить и что занятия литературой вполне способны это сделать. «Арт-терапия» — он ненароком подслушал, как она употребила это выражение в разговоре с миссис Шоукросс. От своей матери он не ждал ничего, кроме насмешек. Первая строка «Эндимиона» — «Прекрасное пленяет навсегда» — выражала кредо Сильви. Вероятно, для заглавия оно подошло бы лучше. «Прекрасное пленяет навсегда».
К своему сожалению, Тедди обнаружил, что каждый новый персонаж или с трудом придуманный поворот сюжета оказывается невнятным или банальным. Великие мастера слова так высоко подняли планку, что его собственные находки неизбежно оказывались жалкими потугами. Он не чувствовал своей причастности к надуманным, одномерным судьбам. Если писатель — это бог, то Тедди видел себя мелким, второразрядным божком, который копошится у подножия Олимпа. Нужно проявлять заинтересованность, внушал он себе, но не находил ничего такого, о чем интересно писать.
— Может, про войну? — предложила Нэнси.
«Про войну?» — подумал он и втайне поразился: как она вообще могла подумать, что столь оглушительную в реальности тему возможно столь быстро преобразовать в литературу.
— Ну или про жизнь, — добавила она. — Про твою жизнь. Bildungsroman.{49}
— Думаю, свою жизнь лучше проживать, — сказал Тедди, — нежели делать из нее беллетристику.
Да и о чем было писать? Если вычесть войну (а это было бы, по его мнению, гигантским вычетом), ничего особенного в его жизни не оставалось. Детство в Лисьей Поляне, короткие, в сущности одинокие и бессмысленные, скитания поэта-батрака, а нынче рутина семейной жизни: подкинуть в огонь полешко, сделать выбор между овалтином и какао — и смотреть на закутанную в шерстяные кофты жену. Впрочем, насчет последнего он не жаловался: ему еще повезло, у других и этого не было.
«Так посоветуй, как мне бросить думать»,{50} — монотонно читал ученик, чью фамилию он так и не запомнил, но тут прозвенел звонок, и мальчишек, будто стаю воробьев, так и подняло с мест; толкаясь в дверях, они ринулись прочь из класса, хотя он не объявил, что урок окончен. («Похоже, дисциплина — ваше слабое место, — сказал ему разочарованный директор. — Я считал, что бывший офицер военно-воздушных сил…»)
Тедди сидел за учительским столом в пустом классе, ожидая, когда придут на урок английского и литературы ученики второй ступени. Он обвел глазами грязноватое помещение, где пахло стирательными резинками и немытыми шеями. В окна проникал мягкий свет утреннего солнца; в его лучах плясала меловая и мальчишечья пыль. За этими стенами находился какой-никакой мир.
Резко отодвинув стул, Тедди широким шагом пошел к дверям, где столкнулся с ленивым встречным потоком одиннадцатилетних школяров.
— Сэр? — обратился к нему один из них, встревоженный таким нарушением внутреннего распорядка.
Он удрал в самоволку и ехал домой по проселочной дороге, подумывая, где бы остановиться и побродить на природе, чтобы сосредоточиться. Ему грозило превращение в скитальца, в перекати-поле. Не в пример братьям, которые прочно стояли на ногах. Джимми ухал в Америку, где вел ураганную, гламурную жизнь и «заколачивал баксы»; Морис сидел китайским болванчиком в Уайтхолле и являл собой образец респектабельности. А сам он не справлялся даже с жалкими учительскими обязанностями. На фронте он дал себе клятву: если выживет — не дергаться и не роптать. Клятва эта была обречена. Но он не мог понять, что же с ним не так.
Спас его незнакомый водитель, у которого сломалась машина. Тедди остановил свой «лендровер», чтобы предложить помощь. Допотопный лимузин «хамбер» застрял на обочине, и водитель, подняв капот, беспомощно, как все профаны, разглядывал двигатель, будто мог завести его одной лишь силой мысли.
— Ага, рыцарь с большой дороги, — сказал он, приподнимая шляпу, когда Тедди вышел из «лендровера». — Этот чертов рыдван выдохся. Как и я. Билл Моррисон, — представился он, протягивая мясистую руку.
Пока Тедди возился с генератором, они побеседовали о кустах боярышника, обильно цветущих как раз на этом участке дороги. «Петушья шпора», уточнил Билл Моррисон. И добавил: сердце радуется. Впоследствии Тедди не смог бы подробно воспроизвести эту беседу — разговор поворачивал «куда кривая вывезет», как выразился Билл: от роли боярышника в английском фольклоре (гластонберийские тернии{51} и прочее) до «Королевы мая»{52} и майского дерева. Тедди рассказал, что у кельтов боярышник знаменовал переход в потусторонний мир, а у древних греков был непременным атрибутом свадебных процессий.
— В университетах обучались, как я понимаю? — поинтересовался Билл Моррисон. Скорее восхищенно, нежели сардонически, хотя, пожалуй, с толикой иронии. — А писать не пробовали?
— Да как вам сказать… — замялся Тедди.
— Может, пообедаем тогда, дружище? С меня причитается, — сказал Билл Моррисон, когда старичок-«хамбер» с кашлем вернулся к жизни.
Колонной из двух автомобилей они прибыли в скиптонскую гостиницу, где заказали ростбиф и как следует накачались пивом; по ходу дела Билл Моррисон подробно ознакомился с биографией Тедди.
Тучный, нагловато-добродушный человек с нездоровым цветом лица, Билл Моррисон когда-то давно «натаскивался» в газете «Йоркшир пост», а теперь превратился в старомодного тори. «Фамильярный, но проницательный», — впоследствии доложил Тедди жене. Его идеал — бодрый англиканин, уроженец Йоркшира, который, вероятно, играет в крикет за сборную графства, когда не вещает с амвона. С течением времени Тедди понял, что у Билла щедрое сердце и мягкая, хотя и грубоватая натура. Билл хвалил Тедди за приверженность законному браку («естественное состояние мужчины») и подтрунивал над его военным прошлым (сам он «выжил на Сомме»).
Он был редактором «Краеведа». А по совместительству и владельцем, о чем Тедди, как ни странно, узнал очень не скоро.
— Знакомо тебе такое издание, Тед?
— Да, — вежливо кивнул Тедди.
А если честно? Было какое-то смутное воспоминание о приемной дантиста, где он томился, ожидая неминуемого удаления больного зуба — в лагере для военнопленных с пациентами расправлялись запросто.
— Я почему интересуюсь: мне нужен человек, который будет вести колонку «Записки натуралиста», — объяснил Билл Моррисон. — Ерунда, черкнуть пару строчек в неделю — даже на хлеб не хватит, не говоря уже о масле, да его и не достать. Был у нас человечек, подписывался «Агрестис». По-латыни. Догадываешься небось, что это означает?
— Селянин, деревенский житель.
— Ну вот видишь.
— А куда он делся? — спросил Тедди, переваривая это неожиданное предложение.
— От старости помер. Из прежних времен селянин был. Упрямый, чертяка, — любовно добавил Билл Моррисон.
Тедди застенчиво огласил свой список сельскохозяйственных заслуг, куда входили нортумберлендские ягнята, кентские яблоки, любовь к долам и горам и водным просторам. А еще радость при виде желудя — чашки с блюдцем, и папоротника, что разжимает свой кулачок, и узорчатого пера ястреба. И необыкновенной прелести рассветного хора в английском лесу, где зацвели колокольчики.
О Франции он умолчал: и о монолитах цвета, и о горячих ломтиках солнца. Все это вряд ли пришлось бы по вкусу тому, кто сражался на Сомме.
Тедди произвел впечатление человека здравого, хотя и был родом с юга.
— Встречаются двое мужиков, — изрек Билл Моррисон, приступая к сыру «стилтон»; Тедди не сразу понял, что это — довольно тяжеловесная преамбула к анекдоту. — Один — родом из Йоркшира, благословенного края. Второй — не йоркширец. Тот, который не йоркширец, и говорит йоркширцу — (на этом месте Тедди расхотелось слушать): — «Повстречал я тут одного йоркширца», а йоркширец и говорит: «А как ты, паря, допер, что он йоркширец?» — (на этом месте Тедди расхотелось жить), — а тот, который не йоркширец, и говорит: «Да по его говору», а йоркширец и говорит: «Не, паря, кабы тот был йоркширец, он бы перво-наперво те похвалился, что йоркширец».
— Такой текст впору поместить в рождественскую хлопушку, — сказала вечером Нэнси, когда Тедди сделал попытку пересказать ей этот анекдот, ввалившись домой навеселе («Ой, как от тебя пивом несет. Но мне даже нравится»). — Правильно я понимаю: у тебя теперь новая работа, в газете?
— Нет, не в газете, — сказал Тедди, а потом добавил: — Да и какая это работа? Так, пара шиллингов в неделю.
— А как же школа? Ты не собираешься увольняться?
Школа, задумался Тедди. Сегодняшнее утро кануло в прошлое. («Так посоветуй, как мне бросить думать».)
— Я позорно сбежал, — признался он.
— Ох, бедненький мой, — рассмеялась Нэнси. — Дальше хуже будет, я знаю, просто нутром чувствую.
Так и вышло. Октябрь принес осенние краски, грибы, каштаны и запоздалое бабье лето. Ноябрь — «те дни, когда Природа-Мать своих детей укроет одеялом», а декабрь — какой же декабрь без остролиста и малиновки.
— Придумай что-нибудь трогательное, — попросил Билл, и Тедди придумал написать, почему у малиновки красная грудка.
Заметки получились довольно примитивными, но Билл Моррисон, который «не гнался за ученостью», остался доволен.
Еще один обед с возлияниями — и Тедди предложили должность «разъездного репортера». Его предшественник погиб на войне. «Ходил с арктическими конвоями», — кратко пояснил Билл, но в подробности вдаваться не стал, добавил только, что и сам долго не протянет, если будет надрываться, вкалывая за двоих.
— Теперь ты доволен? — спросила Нэнси, когда они развешивали принесенные из леса ветки остролиста и омелы.
— Да, — ответил Тедди, подумав, вероятно, чуть дольше, чем того требовал вопрос.
Будь они неладны, эти подснежники.
Некоторые считают, что сорвать этого храброго провозвестника весны, а тем более внести в дом — дурная примета. Возможно, это объясняется тем, что они во множестве произрастают на погостах.
В Лисьей Поляне Сильви всегда набирала букет первых подснежников. И напрасно: слишком уж быстро они сникали и умирали.
Белизна подснежника, которая ассоциируется с непорочностью, всегда создавала вокруг этого скромного цветка ореол невинности (кто нынче помнит девичий ансамбль «Подснежники», популярный в прошлом веке?).
Согласно германскому поверью…
— Господи, — пробормотала себе под нос Нэнси.
— В чем дело?
— Петлю потеряла. Давай дальше.
— …когда Бог создал все сущее, Он отправил снег к цветам, чтобы попросить у них красок. Все цветы ему отказали, кроме доброго подснежника, и в награду снег дозволил ему стать первым цветком Весны.
Великая музыка обладает даром исцеления. Германия теперь не является нашим врагом; похвально, что мы не забываем ее богатое наследие мифов, легенд и сказок, не говоря уже о наследии высокой культуры: музыка Моцарта…
— Моцарт — австриец.
— Ну конечно же, — спохватился Тедди. — Не понимаю, как я мог перепутать. Тогда возьмем Бетховена. Брамса, Баха, Шуберта. Шуберт, надеюсь, немец?
— Нет, тоже австриец.
— А Гайдн? — рискнул Тедди.
— Австриец.
— Сколько же их, а? Тогда… «о наследии высокой культуры: Бах, Брамс, Бетховен…»
Нэнси молча покивала, как учительница, похвалившая троечника за работу над ошибками. Впрочем, не исключено, что она просто считала петли.
— «Бетховен из них…»
— Мы уклоняемся от подснежников. К чему эти экскурсы о немцах?
— В продолжение темы германского поверья, — ответил Тедди.
— А получается, что ты призываешь простить немцев. Или так оно и есть? Ты сам-то простил?
Как сказать? Теоретически, наверное, да, но сердце-вещун говорило «нет». У Тедди не шли из головы мысли о погибших однополчанах. Мертвым, как демонам и ангелам, имя легион.
Для него война закончилась три года назад. Последний год он провел hors de combat[10] в лагере для военнопленных вблизи польской границы. Выбросившись с парашютом из горящего самолета над территорией Германии, он сломал лодыжку и не смог избежать плена. Самолет его, нащупанный лучом прожектора, был сбит зенитным огнем в ходе того жуткого налета на Нюрнберг. Тогда он еще этого не знал, но для бомбардировочной авиации это была самая скверная ночь войны: потери составили девяносто шесть самолетов и пятьсот сорок человек убитыми — больше, чем во всей битве за Британию. Но к тому времени, когда он добрался до дому, все это было уже далеко и не ново; Нюрнберг практически никто не вспоминал.
— Ты проявил большое мужество, — сказала Нэнси все с тем же ободряющим равнодушием (по крайней мере, на слух Тедди), с каким могла бы поздравить его с зачетом по математике.
Теперь война свелась для него к хаосу разрозненных образов, приходивших к нему во сне: залитые лунным светом Альпы, рассекающая воздух лопасть пропеллера, бескровное лицо в воде. «В добрый час». Откуда-то всплывал то удушливый аромат сирени, то милый танцевальный мотивчик. И как завершение каждого сна — неизбежный конец: пламя и мерзкий свист падения. Обычно в ночных кошмарах дело не доходит до ужасающего финала — до удара о землю, но Нэнси приходилось будить мужа: она шикала или успокоительно поглаживала ему руку; потом он долго лежал, уставясь в темноту, и раздумывал, что с ним случится, если когда-нибудь она его не разбудит.
На войне он примирился со смертью, но когда война вдруг закончилась, чудом настал другой день, и еще один, и еще. Часть его существа так и не приспособилась к мысли о будущем.
— «Бетховен…» — упрямо продолжал он.
Вряд ли Бетховен в ответе за эту войну. У Тедди мелькнуло внезапное озарение: они с Урсулой в Королевском Альберт-холле… когда, году в сорок третьем?.. слушают Девятую симфонию Бетховена, «Хоральную», и Урсула почти что вибрирует от эмоциональной мощи музыки. Эта потусторонняя мощь, за пределами мелочной повседневности, передалась и ему. Он встряхнулся, как мокрый пес.
— Все в порядке, милый?
Все нормально. Просто нужно выбить из себя войну, весь этот ужас, эту неизбывную тоску. Но словами он этого сказать не мог.
— Кстати, знаешь что, — продолжала Нэнси, блаженная душа, — по-моему, читатели, которые погружаются в заметки Агрестиса, вовсе не жаждут вспоминать о войне. Скорее, как мне кажется, наоборот.
— Сварить какао? — предложил он, чтобы сменить тему. — Или тебе овалтина?
— Овалтина, пожалуйста.
— Зрение испортишь, — сказал Тедди, наливая в кастрюльку полузамерзшее молоко и ставя на плиту рассекатель пламени.
— Сейчас сделаю перерыв, — ответила Нэнси, аккуратно сматывая разноцветные клубки.
Молоко поднялось как-то неожиданно; Тедди в последний момент успел подхватить кастрюльку, чтобы оно не убежало. Лицо, разгоряченное от огня, напомнило об ожоговых шрамах на шее. Сморщенная, розово-глянцевая кожа наводила на мысль о других шрамах в не столь заметных местах.
— Ну что ж, подполковник Тодд, — сказала Нэнси, — наверное, пора на боковую.
Его воинское звание она всегда произносила с легкой иронией, как будто он строил из себя невесть что. Тедди не понимал, откуда такое отношение, но каждый раз внутренне содрогался.
Они поднялись в «Ультима Туле» — так звалась у них промерзающая чердачная каморка.{53} Тедди, дрожа от холода, снимал с себя одежду слой за слоем и в конце концов нырнул в постель, как в ледяные воды Северного моря.
После первого шока арктических простыней и морозного воздуха они согрели друг друга. В таком холоде любовь получалась не столько романтической, сколько неистовой. («С мужем не замерзнешь, — написала Милли, сестра Нэнси, из засушливой аризонской жары. — Особенно с таким красавцем, как твой!»)
Разыгралась метель, да такая, что им стало казаться, будто кто-то обстреливает их окна снежками. Они сделались Адамом и Евой, исторгнутыми в вечную зиму.
Чмокнув его в щеку, Нэнси сказала:
— Спокойной ночи, родное сердце.
Но Тедди уже спал.
Нэнси задула свечу на тумбочке и стала ждать, когда у Тедди начнутся кошмары.
Ребенка пора завести, подумала она. Нужно завести ребенка, чтобы исцелить Тедди, чтобы исцелить этот мир.
1939 Война Тедди Неведение
Радиотрансляцию, в которой Чемберлен сделал свое невеселое заявление, Тедди не слышал: в это время он выгуливал по переулку принадлежавшего Шоукроссам старого пса по кличке Гарри. Неторопливая, неспешная из-за собачьей подагры прогулка — на большее этот золотистый ретривер уже был не способен. Зрение сгубила катаракта, некогда мощное тело исхудало, мышцы усохли, тут и там выпирали кости. Ко всему прочему он еще и оглох, как сам майор Шоукросс. Долгими летними вечерами тридцать девятого хозяин и собака, запертые в своем безмолвном мире, дремали рядышком: майор Шоукросс — в старом плетеном кресле, а Гарри — на траве у его ног.
— Смотрю на него — и сердце разрывается, — говорила Нэнси.
Она имела в виду Гарри, хотя это в равной степени относилось и к отцу. Тедди понимал, какое это мучение — видеть, как подходит к концу жизнь собаки, которую ты знал еще щенком.
— «Намеки на смертность», — переиначивая Вордсворта, говорила Урсула.{54} — Почему собачий век такой короткий? Мы уже стольких похоронили.
Сестры Шоукросс бесконечно обожали своего «старенького папу», и майор Шоукросс тоже души в них не чаял. Хью, естественно, любил и Памелу, и Урсулу, но Тедди всегда поражало, что майор Шоукросс так свободно проявляет нежные чувства: целует и обнимает своих «крошек», от одного их вида умиляется чуть ли не до слез. («Война. Это она его так изменила», — говорила миссис Шоукросс.) А Хью по натуре был сдержан, и Первая мировая, если уж на то пошло, только усилила эту черту. Мечтал ли майор Шоукросс о сыне? Конечно мечтал, как любой мужчина. А Тедди?..
Тедди намеревался сделать предложение Нэнси. Может, сегодня? Сегодня — день большой исторической драмы, и впоследствии Нэнси сможет говорить детям (которые у них, разумеется, будут): «Ваш папа сделал мне предложение в день начала войны». Ему казалось, что он и так затянул с этим делом… пожалуй, непозволительно затянул. Сначала ждал, пока Нэнси сдаст экзамены по математике в колледже Ньюхэм и получит свой бакалаврский диплом с отличием, а теперь — пока она дорастет до магистра. Ее диссертация была как-то связана с натуральными числами. Ничего натурального Тедди в них не находил. Не ждать же окончания войны: кто знает, на какой срок она затянется?
Ему стукнуло двадцать пять лет; по мнению матери — почти «закоренелый холостяк». Она жаждала внуков, хотя уже давно стала бабушкой благодаря Памеле, родившей троих сыновей — «будут и еще», — и Морису, отцу сына и дочки. «До чего тупые», — говорила про его детей Урсула. Тедди почти не знал отпрысков Мориса, но Сильви тоже считала их «весьма неразвитыми».
Женитьба на Нэнси казалась делом решенным. Да и с чего бы ему на ней не жениться? «Любовь с детства», — таяла миссис Шоукросс; мать Тедди такого восторга не испытывала.
Что свадьба не за горами, понимали все, даже Сильви, считавшая, что «от брака тупеют, а Нэнси для замужества слишком умна».
— Да и вообще, кто бы устоял перед Нэнси? — говорил Тедди Урсуле. — Она ведь лучше всех на свете. И милее всех.
— И ты действительно любишь ее. Мы все тоже, не сомневайся.
— Конечно я ее люблю, — сказал Тедди. (Разве могли быть сомнения?)
Но знал ли он, что такое любовь? Любовь к отцу, сестре, даже к собаке — да, но любовь между мужем и женой? Две жизни, неразрывно сплетенные в одну. Или запряженные в одну упряжку. («А как же? — говорила Сильви. — Иначе мы бы все одичали».)
Тедди подумал об Адаме и Еве, подумал о Сильви и Хью. Не лучшие примеры.
— Брак родителей Нэнси, — подсказала Урсула. — Чем не идеальный пример? Майор Шоукросс и его жена счастливы. По крайней мере, с виду.
Но с виду и на самом деле — разные вещи, правда? И кто наверняка знает секреты брака?
Тедди полюбил Нэнси еще с раннего отрочества, но это была другая любовь — возвышенная и чистая, по-детски невинная. Ибо теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло.{55}
— Важно вот что, — продолжила Урсула. — Каково тебе будет, если ты на ней не женишься?
Так что да, решил Тедди, конечно, надо жениться на Нэнси. Они переедут в красивый пригород, непременно заведут детей, он будет работать, причем работать в банке, и когда-нибудь сотрудники, вероятно, его зауважают, как уважают его отца. А может, этого и не случится.
Не только жена — даже острое лезвие может затупиться от брака. Будущее почему-то виделось ему клеткой. Но разве сама жизнь — не ловушка, только и ждущая, как бы за тобой захлопнуться? Напрасно он вернулся из Франции. Вместо того чтобы слоняться где попало и мнить себя поэтом, лучше было бы сразу объявить себя искателем приключений и отправиться на Восток или на окраины империи — хотя бы в Австралию. Куда-нибудь в дикую глушь, где только и можно стать настоящим мужчиной, а не истуканом, которого лепят из тебя окружающие. Но сейчас уже поздно. Пускай теперь его закаляет не география империи, а громада войны.
К этому времени они уже дошли до луга, где паслось молочное стадо. Тедди сорвал несколько длинных травинок и попытался привлечь внимание коров, однако те, едва удостоив его косыми взглядами, остались совершенно безучастны. Тедди закурил сигарету и прислонился к изгороди. Гарри, тяжело дыша от усталости, неуклюже распластался на земле. Тедди наклонился и потрепал пса за мягкое ухо:
— Бедняга!
Мысли Тедди сейчас занимал отец. В коридорах банка они с ним никогда не сталкивались, но Хью время от времени приглашал его пообедать в своем клубе на Пэлл-Мэлл. В бесстрастном мире финансов Хью чувствовал себя как рыба в воде, но для Тедди это отупляющее однообразие порой превращалось в сущую каторгу.
Отец, конечно, скоро уйдет на пенсию, будет возиться в саду, дремать над страницами журнала «Уизден» — в саду или в «роптальне» — и действовать на нервы Сильви. Всего лишь год спустя его так и нашли: в садовом кресле с раскрытым журналом на коленях. Он уснул. Навеки. Но даже такая — наиболее, казалось бы, благостная — кончина раздосадовала Сильви:
— Он попросту исчез, не сказав ни слова! — жаловалась она, как будто муж чего-то ей недодал. Возможно, так оно и было.
«Папа никогда не суетился», — напишет Урсула Тедди в Канаду на тонкой голубой папиросной бумаге, с въевшимися кляксами в тех местах, куда, видимо, падали капли чернил.
Тедди затушил окурок о подошву ботинка и позвал пса:
— Пойдем, Гарри, шевелись, а то без обеда останемся.
Гарри его не услышал; не шевельнулся он и тогда, когда Тедди легонько его подтолкнул, испугавшись, что совсем загнал беднягу. Может, от пса и остался один мешок с костями, но тяжеленный, и Тедди был совсем не уверен, что сумеет дотащить на руках до дому бездыханную собаку, хотя куда деваться: нужда заставит. К счастью, Гарри, сделав героическое усилие, поднялся на все четыре лапы и медленно побрел вместе с Тедди к дому Нэнси.
— Ой, не заходи, не заходи! — воскликнула миссис Шоукросс, увидев, как Тедди идет к черному ходу ее дома, и даже замахала на него полотенцем, словно отгоняла муху.
Нэнси приехала домой на летние каникулы, но слегла: оказалось, у нее коклюш («В моем-то возрасте!»); от нее не отходила миссис Шоукросс, знавшая, что Тедди, как и ее дочь, в детстве не переболел коклюшем.
— Я не допущу, чтобы ты заразился, — сказала она. — Взрослые переносят эту болезнь чрезвычайно тяжело.
— Не подходи к этой девочке, — предостерегла Сильви, когда Тедди сказал, что вызвался выгулять Гарри, поскольку своей собаки в Лисьей Поляне тогда не было. «Поздно», — ответил он про себя.
«Этой девочке» он собирался сделать предложение, но, видимо, уже не сегодня.
— Ей очень плохо, — сказала миссис Шоукросс, — но я, конечно, передам от тебя сердечный привет.
— Пожалуйста, передайте!
Из кухни миссис Шоукросс долетал целый букет запахов воскресного обеда. Хозяйка дома, с выбившимися из наспех заколотой кички прядями, раскраснелась и запыхалась, но Тедди по опыту знал, что именно так действует на женщин воскресная стряпня. Имение «Галки», как и Лисья Поляна, недавно лишилось кухарки, а миссис Шоукросс, по всей видимости, еще хуже, чем Сильви, владела кулинарным искусством. Майор Шоукросс даже не появился. Миссис Шоукросс была вегетарианкой, и Тедди гадал, что же она ест, пока майор уминает бифштекс. Яйца?
— Боже правый, конечно нет! — ответила она. — От одной мысли о яйцах мне делается дурно.
На кухонном столе Тедди приметил початую бутылку мадеры и стаканчик с темным содержимым.
— Война, — сказала миссис Шоукросс.
Глаза ее подернулись слезами, и, забыв про опасный вирус, она притянула Тедди к себе и заключила в теплые, влажные объятия. От нее пахло мадерой и дегтярным мылом — странное, довольно неприятное сочетание. Рослая и пышнотелая, миссис Шоукросс всегда была немного печальной. Если Сильви злилась на расхлябанность этого мира, то миссис Шоукросс сносила его терпеливо, как ребенка. Тедди полагал, что война сделает эту ношу тяжелее.
— Боже, никак опять мигрень? — приложив руку к виску, произнесла миссис Шоукросс и со вздохом добавила: — Слава богу, что у нас девочки. Невилл не пережил бы отправки сына на фронт.
Тедди сильно подозревал, что уже заразился коклюшем. Нэнси, втайне от миссис Шоукросс, на прошлой неделе ездила к нему на свидание в Лондон, где под испепеляющим взглядом квартирной хозяйки проскользнула в его съемную комнату, и они провели ночь вместе, устроившись на узкой кровати и до слез смеясь над стонами пружин. В постели они еще были новичками.
— Уровень: начальный, — шутила Нэнси.
Между ними вспыхнула страсть, но «порядочная», спокойная. (Наверное, кое-кто сказал бы, что это уже по определению никакая не страсть.) У Тедди была пара девчонок в Оксфорде и пара во Франции, но близость с ними оказалась сродни физическим упражнениям: она приносила ему только досаду и немалое смущение. Грубым животным совокуплением он бы это не назвал, но нечто дикое все же сквозило в тех историях, и, надо думать, он был благодарен Нэнси, которая его «одомашнила». «Необузданное желание», «жажда любовных похождений» — все это штампы из беллетристики. Тедди был сыном своего отца; война изменила это сходство, как изменила и все остальное, и подтолкнула его к менее цивилизованным отношениям. Однако Тедди так и не научился свободно говорить о сексе. Он и сам не знал, что было тому причиной: то ли чрезмерная стыдливость, то ли сдержанность. У его дочери, напротив, проблем со словарем не было. Виола — та и совокуплялась, и сношалась, и трахалась, да еще и охотно разглагольствовала на эту тему. Тедди даже почувствовал некоторое облегчение, когда в пятьдесят пять лет дочка приняла обет безбрачия.
Съемная квартира Тедди находилась недалеко от Британского музея; жилье было довольно запущенным, но он не возражал и даже перестал замечать квартирную хозяйку, которая могла бы дать фору самому Чингисхану. Тедди даже не подозревал, что в неумолимых условиях войны тайное ночное свидание с Нэнси окажется редчайшей возможностью побыть с нею наедине.
— Как там бедняжка Нэнси? — спросил Хью, когда Тедди вернулся в Лисью Поляну.
— Держится, надо полагать, — ответил Тедди. — Но меня к ней не пустили. Кажется, мы вступили в войну?
— К несчастью, да. Пойдем в «роптальню», Тед, выпьем чего-нибудь.
«Роптальня» служила для Хью местом уединения и защищенности; попасть туда можно было только с его ведома.
— Да поживее, — добавил Хью, — пока мама тебя не увидела. Наверняка разволнуется. Она тяжело восприняла последние новости, хотя и знала, что война неизбежна.
Тедди толком не понимал, почему предпочел не выслушивать объявление войны. Может, просто потому, что солнечным воскресным утром куда приятнее было выгулять собаку.
Из тяжелого хрустального графина, который хранился в «роптальне», Хью налил два стакана хорошего виски. Чокнувшись с сыном, он провозгласил: «За мир!», хотя Тедди ожидал, что тост будет за победу.
— Ты уже решил, как поступишь? — спросил Хью.
— Нет еще. — Тедди пожал плечами. — Скорее всего, на фронт пойду.
— Надеюсь, не в пехоту? — нахмурился отец.
При мысли об окопах его черты исказились невыразимым ужасом.
— Я подумываю насчет авиации, — сказал Тедди.
Если честно, до разговора с отцом он ни о чем таком не думал, но теперь ощутил, что дверца клетки распахнулась и тюремная решетка рассыпается в пыль: он был практически свободен от оков банковского дела. А кроме того, свободен (и только что это осознал) от перспективы жить в пригороде и растить детей, которые могут оказаться «весьма неразвитыми». Свободен даже от упряжки семейной жизни. Ему представились золотые подсолнуховые поля — монолиты цвета, горячие ломтики солнца.
Тедди переживал: неужели Франция поддастся злым чарам Гитлера? Но успокаивал себя: нет, ни за что.
— Буду пилотом, — сказал он отцу. — Хочу летать.
Из-за объявления войны задержался воскресный обед. Сильви была в саду, где ее и нашел Тедди: она все еще рвала мяту для приправы к ягненку. Мать показалась ему мрачной как туча, но не слишком взволнованной.
— Ты пропустил Чемберлена, — сказала она, выпрямляясь и растирая поясницу. (Мама тоже стареет, подумал Тедди.) — И надо думать, тебе тоже придется воевать, — добавила она, обращаясь к растерзанному пучку мяты, который сжимала в руке.
— Надо думать, придется, — ответил он.
Сильви повернулась на каблуках и в облаке мятного аромата прошествовала обратно в дом. У двери черного хода она помедлила и бросила через плечо, обращаясь к Тедди:
— Обед запаздывает.
— Мрачная? — чуть позже спросила по телефону Урсула.
— Как туча, — ответил Тедди, и оба рассмеялись: Сильви яростно ратовала за политику умиротворения.
Целый день все члены семьи перезванивались между собой, и Тедди уже начал всерьез уставать от вопросов о том, что он намерен делать: словно разрешение военного конфликта целиком легло на его плечи.
— Но ты у нас — единственный, кто годен к воинской службе, — сказала Урсула. — Что думаешь делать?
— Запишусь в ВВС, — лаконично ответил он. С каждым разом его ответ на этот вопрос звучал все тверже. («Как поступил бы на моем месте Август?» — думал он. Взрослый, его сверстник, а не Питер Пэн из опусов Иззи.) — Да и потом, я не единственный. А Морис, а Джимми?
— Морис увильнет от любой опасности, вот увидишь, — сказала Урсула. — Но Джимми, думаю… О боже, не могу представить Джимми с оружием в руках — для меня он еще ребенок.
— Ему уже почти двадцать, — с нажимом проговорил Тедди.
Обед прошел вяло. За столом их было всего трое (вместе с кухаркой Бриджет — четверо, но она не считалась). Ели ягненка с картошкой и каким-то вязким гарниром из стручковой фасоли со своего огорода, а потом Бриджет грохнула перед ними овальное блюдо с рисовым пудингом:
— Спасибо этим чертовым немцам — пудинг пересох.
— Зато теперь Бриджет сможет винить за все свои промахи кого-то еще, кроме мамы, — сказала Урсула, когда Тедди в телефонном разговоре передал ей эту фразу. — Знаешь, будет много крови, — с грустью прибавила сестра.
Казалось, ей стало известно очень многое. У нее, разумеется, «были источники», включая «мужчину из Адмиралтейства».
— Как твой коммодор?{56} — спросил Тедди, понизив голос: Сильви находилась поблизости.
— Да все так как-то… Женат, — беззаботно сообщила Урсула.
«Не судите, да не судимы будете», — сказала она Тедди, когда посвятила его в свой роман. Тедди был поражен при мысли, что его сестра — гулящая, женщина на стороне. К концу войны ни мужчины, ни женщины его больше не поражали. Равно как и все остальное. Здание цивилизации, как выяснилось, было построено на зыбкой почве из песка и фантазий.
После обеда Хью и Тедди снова долго пили виски, а потом еще — перед ужином, и у обоих вид был весьма помятый, а ведь Тедди еще предстояло ехать в Лондон. «Утром опять в банк», — подумал он, но решил в обеденный перерыв найти военный комиссариат, чтобы записаться добровольцем, и этот мир, возможно, будет «перевернут», как пелось в старинной балладе, но уж точно сдвинется с места.
— Эта «баллада» выражала сетование, а не ликование, — сказала Урсула. Иногда она могла быть педанткой почище Нэнси. — Рождество погибло в битве при Нейзби. — Сестра на тот момент еще не стала пуританкой, но впоследствии на нее повлияла война.
Перед расставанием Сильви прохладно чмокнула Тедди в щеку и отвернулась, сказав, что не собирается говорить «прощай»: это звучало бы «слишком безнадежно»; впрочем, Тедди отлично знал, какую драму может разыграть его мать — ей только дай волю.
— Я еду поездом в девятнадцать двадцать, и всего лишь на Марлибон,{57} а не в преисподнюю, — сказал он ей.
— Это пока.
Хью примирительно похлопал Тедди по спине:
— Не обращай внимания. Береги себя, Тед.
Это отцовское прикосновение стало последним.
Тедди в сумерках поплелся переулком на станцию и, только заняв свое место в вагоне второго класса, сообразил, что не из-за отцовского виски его так тошнит и лихорадит, а из-за коклюша Нэнси. Из-за проклятой болезни его потом с месяц не брали в армию, и даже когда он пошел на поправку и решил тут же завербоваться, ему велели выждать. Лишь в разгар весны сорокового года он наконец обнаружил на тумбочке в прихожей адресованный ему конверт. Тускло-желтый бланк министерства ВВС предписывал ему прибыть на собеседование, которое будет проводиться на лондонском крикетном стадионе. Однажды летом перед началом учебы в Оксфорде отец взял его с собой на стадион посмотреть первый показательный матч со сборной Индии. Тедди удивило, что из всех возможных мест именно это выбрали для его отправки на войну.
— Англия выиграла со счетом сто пятьдесят восемь ранов, — припомнил отец, когда Тедди рассказал ему о предписании.
«Интересно, сколько же ранов нужно, чтобы выиграть войну?» — гадал Тедди, склонный даже на этом этапе жизни к причудливым метафорам. Хотя на самом деле понадобилось ровно семьдесят два нот-аута (по количеству его боевых вылетов к концу марта сорок четвертого).
Когда Тедди возвращался на работу, в его походке чувствовалась какая-то новая легкость. Он остановился погладить греющуюся у стены кошку, приподнял шляпу перед элегантной женщиной, явно очарованной и улыбнувшейся в ответ (весьма заманчиво, особенно с утра). Остановился еще раз, чтобы понюхать гроздья поздней сирени, нависшие над садовыми оградами в Линкольнс-Инн-Филдс. Все-таки «слава и мечта» Вордсворта не совсем еще забыты, думал Тедди. При входе в банк на него внезапно повеяло знакомыми запахами полированного дерева и меди. «Нет, только не это», — подумал он.
Без малого два года спустя, когда на его форме появилась пара «крылышек»{58} и обучение в Канаде по программе подготовки летного состава для войск Британского Содружества закончилось, Тедди вернулся из Нью-Йорка на борту «Куин Мэри».
— Потрясающе, — сказала, узнав об этом, Иззи. — Я тоже пару раз великолепно отдохнула на этом лайнере.
Тедди не стал объяснять, что этот лайнер стал теперь американским военным транспортом, где еле-еле нашлось для него место («на самой нижней палубе, чуть ли не в трюмной воде!»), и что людей (из которых половина всю дорогу блевала) туда набилось больше, чем пресловутых сельдей в бочку. И ощущение уязвимости такое же: они пересекали Атлантику в шторм, без каравана сопровождения, поскольку считалось, что бывший лайнер достаточно быстроходен, чтобы уйти от немецких подлодок; но Тедди не питал напрасных иллюзий.
— И кормили превосходно, — съязвил Тедди (хотя так и было, если сравнивать с нормированным пайком).
Он не понял, уловила Иззи его тон или нет. Тетушку порой бывало трудно раскусить.
В промежутке между возвращением из Канады и зачислением в учебную часть боевой подготовки у него образовалась пара свободных дней. Сестре удалось вырваться из Лондона в Лисью Поляну на обед. Иззи тоже «нагрянула», причем, по словам Сильви, без приглашения. Итак, по состоянию на осень сорок второго: Памела эвакуировалась неизвестно куда, но обещала скоро вернуться; Морис, работавший в Уайтхолле, бо́льшую часть времени отсиживался в бункере; Джимми отбыл на армейские учения в Шотландию. Хью умер. Как такое возможно? Разве мог отец умереть?
Тедди получил внеочередной отпуск по семейным обстоятельствам, и флот (в лице того самого бойфренда Урсулы, о чем Тедди так и не узнал) подыскал ему место на торговом судне, отправлявшемся с караваном, однако в последний момент отпуск отменили.
— Ничего страшного, ты бы все равно не успел на похороны, — сказала Сильви.
— Я удивлен, — вставил Морис, — что в разгар войны кто-то счел похороны веским основанием.
— Морису, — сказала Урсула, — доверяют шлепать — или не шлепать — печати и перечеркивать красным бланки заявлений. Именно такие люди и способны отменить отпуск по семейным обстоятельствам.
В любое другое время Мориса сильно задело бы предположение, будто он стоит в иерархии настолько низко, чтобы шлепать печати. Он вздохнул. Один беглый, небрежный росчерк фирменной серебряной ручкой. Ладно, в другой раз.
Того, кто отменил отпуск, следовало лишь поблагодарить: караван атаковали немецкие подлодки, и судно, на котором должен был прибыть Тедди, затонуло вместе со всеми, оказавшимися на борту.
— Спасен для высшей цели, — прокомментировала Урсула.
— Ты ведь в такое не веришь, правда? — Тедди забеспокоился, не подхватила ли сестра религиозную бациллу.
— Нет, — ответила она. — Жизнь и смерть — вещи случайные, вот что я усвоила.
— В точку. Проверено на предыдущей войне. — Иззи закурила сигарету, хотя не съела почти ни кусочка тушеной курицы, которую Сильви подала на обед.
Сильви забила птицу с утра по случаю «возвращения блудного сына». (Ну вот, опять, подумал он. Это что, его удел? Вечный блудный сын?)
— Блудный — это напрасно, — уверенно сказал Тедди. — Я учился воевать.
— И тем не менее, дорогой, в честь твоего возвращения мы забили откормленную курочку, — заметила Урсула.
— Не такую уж откормленную, — вставила Иззи.
— Кто даже не попробовал, пусть лучше помолчит. — Это, конечно, было замечание Сильви.
Иззи отодвинула тарелку, но Сильви не унималась:
— Доедай. Эта курица лишилась жизни ради тебя.
Урсула насмешливо хихикнула; Тедди ей подмигнул. Но веселиться не приходилось: ведь с ними не было Хью.
Когда объявили войну, Иззи уже жила по другую сторону Атлантики, но к тому времени, когда Тедди прибыл в Ливерпульскую гавань, тетушка вернулась, объявив «патриотизм» более важным принципом, нежели безопасность.
— Патриотизм, — уничижительно сказала Сильви, — рифмуется со словом «идиотизм». Ты вернулась домой потому, что твой брак развалился.
Как говорила Сильви, муж Иззи, известный драматург, крутил в Голливуде шашни «направо, налево и по центру». При слове «шашни» Тедди бросил взгляд через видавший виды обеденный стол на Урсулу, но та уставилась в стоявшую перед ней тарелку с жертвенной птицей.
У Сильви теперь был целый выводок несушек; она развернула в деревне успешную бартерную торговлю яйцами. Куры, которые переставали нестись, заканчивали свои дни на обеденном столе Лисьей Поляны.
— Эн-эм-эс, — сказала Урсула и, заметив непонимающий взгляд Сильви, пояснила: — Недостаток моральных сил. Колебания. Когда даже у лучших военных начинают сдавать нервы. Таких называют «цыплятами» и «трусами».
— В окопах я видела много подобного, — отметила Иззи.
— Ты не была в окопах, — отрезала Сильви.
Ее (как и всех) раздражало, когда Иззи заговаривала о своем участии в минувшей войне. Только Хью на удивление снисходительно относился, по его собственному выражению, к «войне Иззи». Как-то раз он столкнулся с сестрой во время кровавой битвы на Сомме, в перевязочном пункте близ линии огня. При виде родной сестры он растерялся. Иззи куда уместнее смотрелась в Хэмпстеде, где, расфуфыренная, заигрывала с каким-нибудь безответным собеседником. Если Иззи, как думал Хью, и впрямь была по молодости лет «нескромной», вступила в скандальную связь с пожилым женатым мужчиной и родила внебрачного ребенка, то грязь окопов успела выбить эти подробности у него из головы. В конце-то концов, перед ним возникла совсем другая Иззи: грязный фартук поверх незнакомой формы, на щеке кровь, а в руке — эмалированное ведро с чем-то кошмарным. Завидев Хью, она ахнула:
«О, ты жив, как здорово! Целовать не буду, я вся в крови».
В ее глазах стояли слезы, и в этот момент Хью простил сестру за все ее грядущие, покуда не совершенные ошибки.
«Что ты здесь делаешь?» — спросил он ее с нежностью и тревогой.
«Да я тут в Корпусе медсестер, — небрежно сказала она. — Просто на подхвате, как бы так».
— В окопах были мужчины, — настаивала Сильви, — а не светские дамочки-волонтерши.
— Корпус медсестер скорой помощи — это не светские дамочки, — спокойно возразила Иззи. — Мы утопали в грязи. А обзывать мужчину трусом — это непростительно, — добавила она вполголоса.
— Что правда, то правда, — согласилась Урсула, — а вот цыпленочком — еще куда ни шло.
Тедди засмеялся, обрадовавшись шутке. Он боялся, что, взвешенный на весах войны, окажется очень легким.{59}
— Ага, испугалась! Сама ты цыпленок! — сказал он, указывая на нетронутую тарелку Иззи, и они с сестрой согнулись пополам от смеха.
— Как дети! — сварливо пробормотала Сильви.
Ну-ну, подумал Тедди. Ведь это им двоим вскоре предстояло встать и уйти — защищать Сильви, ее цыплят, Лисью Поляну, последние остатки свободы.
Когда Тедди был в Канаде, сестра писала ему совсем короткие письма («Закон о государственной тайне и все такое»), но между строк Тедди прочитал, что Иззи приходится несладко. Он был еще необстрелянным, а сестра уже хлебнула лиха.
Война, без преувеличения, была кровавой. В уютной и теплой плюшевой безопасности канадских кинотеатров он хрустел попкорном и с ужасом смотрел сводки новостей о стремительном наступлении на Британию. И на Роттердам. И на Варшаву. Франция все-таки сдалась. Тедди так и представлял себе поля подсолнухов, вмятых в грязь тяжелыми танками. (Но нет, подсолнухи не вмяли, подсолнухи никуда не делись.)
— Да, ты много пропустил, — сказала Сильви так, будто он всего лишь опоздал в театр.
Теперь мать, конечно, была в полном курсе боевых действий и держалась на удивление воинственно, что, предположил Тедди, оказалось несложно в относительном спокойствии Лисьей Поляны.
— Ее испортила пропаганда, — сказала Урсула, словно Сильви рядом не было.
— А тебя — нет? — спросил Тедди.
— Я предпочитаю факты.
— Ты у нас прямо как Грэдграйнд.{60}
— Это вряд ли.
— А что говорят факты? — вклинилась Иззи, и Урсула, чья подруга работала в министерстве ВВС, не стала говорить, что шансов на выживание в первом же боевом вылете у Тедди будет крайне мало, а на то, чтобы дослужить до конца свой первый срок, — и вовсе почти нисколько. Вместо этого она оптимистично сказала:
— Что это справедливая война.
— Тогда хорошо, — сказала Иззи, — а то в несправедливой воевать неохота. Ты будешь на стороне ангелов, дорогой.
— Выходит, ангелы — британцы? — спросил Тедди.
— Несомненно.
— Очень тяжело было? — спросил он Урсулу в то утро, встретив ее с поезда.
Сестра побледнела и осунулась, как будто долго не выходила на воздух. Или побывала в бою. Интересно, встречается ли она еще с тем «мужчиной из Адмиралтейства»?
— Давай хотя бы сейчас не будем о войне. Ну да, было тяжело.
Первым делом они сходили на могилу Хью. Из церкви доносились высокие голоса прихожан, которые явились к воскресной заутрене и усердно вытягивали «Благослови, душе моя, Господа».
Надгробие Хью с избитой на первый взгляд надписью «Любящему отцу и мужу» все еще резало взгляд своей новизной. В прошлый свой приезд Тедди видел отца живым человеком из плоти и крови, а теперь эта плоть разлагалась под землей у его ног. «Избегай мрачных мыслей», — наставляла Урсула; совет, который сослужил ему добрую службу в последующие три года. А если вдуматься, то и до конца жизни. Тедди думал про себя, насколько добрым был его отец — лучшим из всех в семье. Как смириться с этой утратой?
— «Любящему отцу и мужу» — это печально, а вовсе не избито, — сказала Берти уже в девяносто девятом году, почти шестьдесят лет спустя после смерти отца Тедди.
Теперь его собственная жизнь тоже казалась ему историей. Берти спросила деда, какой подарок он хочет получить к своему восьмидесятипятилетию, и он ответил, что мечтает отправиться в небольшую экспедицию по «памятным местам». Тогда она взяла напрокат машину, и они отправились из «Фэннинг-Корта» в «вояж», как называла то путешествие Берти; Тедди называл его «прощальным туром». Он был уверен, что после миллениума долго не протянет, и рассматривал эту поездку как своеобразное подведение итогов его жизни, итогов тысячелетия. Узнай он, что ему отпущено еще более десятка лет, удивлению его не было бы границ. Путешествие получилось и странным, и приятным, исполненным чувств («Мы испытали весь спектр эмоций», — сказала впоследствии Берти), причем подлинных, а не просто ностальгических, которые, на вкус Тедди, стоили бы очень дешево.
С годами надгробие Хью поросло мягким лишайником, и надпись читалась с трудом. Сильви была похоронена в другом месте на том же кладбище, как и Нэнси, и ее родители. Тедди не имел представления, где лежат Уинни и Герти, но Милли тоже покоилась здесь, наконец-то обретя дом после целой жизни неприкаянных скитаний. Все эти люди, думал Тедди, связаны с Берти тонкой красной нитью, хотя она с ними никогда не встречалась. Памела и Урсула, как и Беа, выбрали кремацию. Тедди подождал, когда расцветут колокольчики, чтобы развеять над ними прах Урсулы. Имя мертвым — легион.
— Избегай мрачных мыслей, — посоветовал он Берти.
— А ты бы какую надпись хотел на своем надгробии? — спросила она, пропустив мимо ушей дедовское наставление.
Тедди представились бесконечные белые поля военных кладбищ. Имя, звание, номер. Ему вспомнились строчки из Китса: «Здесь покоится тот, чье имя было начертано на воде» — эпитафия, которую Урсула всегда считала слишком трагичной. Потом он подумал о Хью. Тот вообще однажды заявил: «Можете просто выкинуть мой прах с мусором, я не обижусь». Затем на ум пришло мемориальное кладбище на лугу Раннимид и высеченные на камне имена погибших, у которых вовсе не было могил.
Что-то изменилось. Но что? Ну конечно же: непослушного развесистого конского каштана, отбрасывавшего тень на могилы, больше не было; на его месте высадили небольшие цветущие вишневые деревья. Старая каменная стена, прежде скрытая орешником, теперь оголилась; ее почистили и обновили.
— Похороните меня в лесу, — сказал наконец Тедди. — Без имени, без эпитафии, просто посадите дерево. Лучше всего дуб, но подойдет любое. Только не перепоручай этого маме.
Смерть — конец всему. Иногда нужна целая жизнь, чтобы это понять. Он подумал о Санни, неустанно странствующем в поисках того, что сам Тедди оставил позади.
— Обещай прожить свою жизнь с умом, — сказал он Берти.
— Обещаю, — отозвалась Берти, уже в свои двадцать четыре зная, что это вряд ли возможно.
Гимн «Любовь Божественная, превосходящая любовь земную» возвестил, что утренняя воскресная служба подходит к концу. Тедди бродил среди надгробий. Похороненные здесь люди в большинстве своем умерли задолго до его рождения. В дальнем конце кладбища Урсула собирала конские каштаны. Деревья вымахали огромными, и Тедди задумался, сплетаются ли их корни с костями покойных; представил, как они прорастают через грудные клетки, браслетами обвиваются вокруг запястий и лодыжек.
Когда он подошел к Урсуле, та внимательно рассматривала колючую зеленую скорлупу. Сквозь трещину поблескивал гладкий ореховый бочок.
— Плоды дерев, — сказала она, передавая каштан Тедди. — Media vita in morte sumus. «Посреди жизни мы объяты смертью».{61} Или наоборот? Правда же, есть нечто волшебное в том, как жизнь зарождается прямо у тебя на глазах, только-только входит в этот мир: как появляется на свет теленок или распускается бутон?
Мальчишкой Тедди видел на ферме рождение телят. Его стошнило от вида склизкого последа, окутавшего новорожденного теленка, отчего тот выглядел так, будто его уже освежевал мясник.
Утренняя толпа прихожан волнами текла из церкви на солнечный свет.
— Ты раньше любил играть в «каштаны», — сказала Урсула. — В этой мальчишечьей игре есть что-то средневековое. Булава — так ведь назывались эти шары с острыми шипами? Или это моргенштерн — утренняя звезда? Какое милое название для жестокого оружия…
Урсула продолжала болтать, и Тедди понял: так она пытается сменить тему, чтобы не говорить об ужасах последней войны. Урсула-то знала, что происходило на земле во время бомбежек; Тедди мог только воображать, но воображению в его мире больше не осталось места.
Разумеется, во время учений он тоже насмотрелся всякой жути, несчастных случаев, но этой темы не стоило касаться за обеденным столом эпохи Регентства, поглощая тушеную курицу.
Он собрал грязные тарелки, чтобы отнести на кухню, проигнорировав слова Сильви о том, что это сделает Бриджет, и вдруг заметил на столе куриный скелет, уже почти без мяса. Тедди стало дурно.
На летных учениях в Онтарио «авро-энсон» у него на глазах пошел на вынужденную посадку: экипаж отрабатывал маршрутный полет, но тут же вернулся из-за неисправности двигателя. Тедди видел, как самолет слишком быстро приближается к аэродрому, виляя из стороны в сторону, а потом с полными баками рикошетит от взлетно-посадочной полосы, как «блинчик» на воде. Прогремел оглушительный взрыв. Большинство очевидцев бросились в укрытия; Тедди спрятался за ангар.
На земле никто не пострадал; к охваченному пламенем «энсону» поспешили кареты «скорой помощи» и пожарные машины.
Поступило сообщение, что один из членов экипажа был выброшен взрывом из машины, и Тедди отправился на поиски вместе с парой товарищей по воздушным тренировкам. Они нашли эту одинокую потерянную душу в кустах сирени, росших по периметру их базы. Позже они узнали, что это был «шкраб», опытный летчик-инструктор ВВС Канады, с которым Тедди летал буквально накануне. Теперь же он представлял собой страшную картину: скелет, чья плоть начисто содрана силой взрыва. (Освежеван, подумал Тедди.) Кишки инструктора гирляндами свисали с цветущей сирени, все еще источавшей различимый аромат, хоть и смешанный с тошнотворной вонью мясной лавки.
Один из товарищей Тедди бросился прочь, крича во все горло и проклиная увиденное. Парень махнул рукой на учебу и с тех пор больше не летал. Ему вменили «Н. М. С.» и с позором уволили из армии; кто знает, что с ним сталось. Другой пилот, валлиец, долго смотрел на останки инструктора и сказал просто: «Вот бедняга». Реакция самого Тедди была чем-то средним. Ошеломленный этим кошмарным зрелищем, он тем не менее порадовался, что сам не сидел в том «энсоне». Впервые Тедди наблюдал непотребства, которые механика войны творит с хрупкими человеческими телами. Его сестра, как он подозревал, такого уже насмотрелась.
— Это на потом, — сказала Бриджет, заметив, как Тедди уставился на ошметки мяса, словно вознамерившись их стащить.
По локти в мыльной воде, Бриджет стояла у глубокой фаянсовой раковины и мыла посуду. Тедди снял с крючка кухонное полотенце и предложил:
— Давай я буду вытирать.
— Нет, ступайте, — ответила Бриджет. Тедди знал, что в ее устах это означает благодарность.
Сколько лет Бриджет? Он даже приблизительно не мог бы определить. На его веку она прожила бо́льшую часть своего века, пройдя путь от наивности и даже взбалмошности («только что с корабля», не упускала случая заметить Сильви) до усталой покорности. По ее словам, она «упустила свою удачу» во время минувшей войны, а Сильви уточнила, презрительно усмехнувшись:
— А что такое удача? Каторга замужества, постоянная тревога о детях? Нет, лучше уж тебе быть с нами.
— Вернусь я домой, — сказала она Тедди, неохотно уступая ему мокрую тарелку. — Как только все это закончится.
— Домой? — переспросил растерявшийся на минуту Тедди.
Она повернулась к нему лицом, глядя в упор, и тут он понял, что никогда по-настоящему на нее не смотрел. Или смотрел, но не видел.
— В Ирландию, — уточнила она, словно он ничего не смыслил в этой жизни — а он полагал, что так и есть. — Ступайте за стол. Я сейчас пудинг принесу.
А Нэнси? А что с Нэнси? Где она, спросите вы? В одночасье выдернутая год назад из загадочного мира натуральных чисел и помещенная в тайное укрытие. Когда ее спрашивали о роде занятий, она отвечала, что работает в одном из подразделений Торгового совета, которое перевели из Лондона в безопасную загородную местность. Чтобы предотвратить дальнейшие вопросы, она монотонно бубнила: нормирование дефицитных материалов отечественного производства. Тедди надеялся с ней повидаться, но в последнюю минуту она ему позвонила:
— Никак не могу вырваться, очень жаль.
Без малого полтора года прошло — и ей «очень жаль»? Как удар под дых, но Тедди быстро ее простил.
— До чего же скрытная! Не знаю, когда увидимся, — жаловался он Урсуле, когда они «слонялись» по аллее. («Люблю это словечко, — сказала ему сестра. — Теперь слоняться особо не получается».)
Перед тем как вернуться в Лисью Поляну, они остановились выкурить по сигарете. Сильви не разрешала курить в доме. Урсула глубоко затянулась и сказала:
— Ужасная гадость. Но все лучше, чем война.
— А письма присылает вообще ни о чем. — Тедди снова завел разговор о Нэнси. — Как будто над ней цензор стоит. Уж такая секретность. Как по-твоему, чем она занимается?
— Ну, в любом случае чем-то очень математическим, — с явной уклончивостью ответила Урсула, которую охотно просвещал «мужчина из Адмиралтейства». — Думаю, ей будет легче, если ты не станешь дознаваться.
— Германскими шифрами — так мне кажется.
— Только никому не говори, — сказала Урсула, подтверждая тем самым его догадку.
После обеда Тедди предложил Урсуле выпить виски в «роптальне». Это было бы данью памяти отца — Тедди чувствовал, что они не помянули его должным образом.
— В «роптальне»? — переспросила Урсула. — К сожалению, ее больше нет.
Просунув голову в дверь задней комнатки, Тедди убедился, что в скромном отцовском пристанище устроена, по выражению Сильви, «швейная».
— Теперь здесь уютно, светло и просторно, — сказала мать. — А раньше царил мрак.
Стены она перекрасила в нежно-зеленый, на полу расстелила обюссонский ковер, а тяжелые бархатные шторы заменила льняными занавесками ажурной работы. Рядом с кушеткой, которую Сильви «купила за гроши у антиквара в Биконсфилде», угнездился викторианский швейный столик, прежде ютившийся в спартанской комнате Бриджет.
— Здесь кто-нибудь шьет? — спросил Урсулу Тедди, вертя в руках катушку хлопчатобумажных ниток, извлеченную из корзины для рукоделия.
— А ты как думаешь?
Итак, вместо «роптальни» они отправились на прогулку в сад, который теперь в основном занимали грядки с овощами и просторные курятники. Своих кур Сильви держала под надежным замком: в округе расплодились лисы. Среди лужайки по-прежнему непоколебимо стоял развесистый бук, но остальная часть сада, за исключением розария Сильви, начала приходить в запустение.
— Не могу найти приличного садовника, — сердито посетовала Сильви.
— От этой войны — сплошные неудобства, — съязвила Иззи, подмигивая Тедди, который, однако, смолчал: не вступать же с ней в сговор против матери, хотя та кого угодно могла вывести из себя.
— Моего последнего садовника забрали в отряд гражданской обороны, — продолжала Сильви, не обращая внимания на Иззи. — И если на пути войска захватчиков окажутся такие, как старик Мортимер, нам останется только уповать на Господа.
— Свинью хочет завести, — сообщила Урсула Тедди, под кудахтанье и квохтанье заточенных в клетки несушек.
— Кто?
— Мама.
— Свинью? — Почему-то Тедди не мог представить мать у свинарника.
— Да уж, с нашей мамой не соскучишься, — согласилась Урсула. — Кто бы мог подумать, что в ней проснется торгашеский дух? Теперь еще будет продавать с черного хода бекон и сосиски. Ее предприимчивости можно только поаплодировать.
В другом конце сада они набрели на целую полянку маргариток, — должно быть, они перекочевали сюда с луга.
— Еще одно захватническое войско, — отметила Урсула. — Пожалуй, возьму небольшой букетик с собой в Лондон.
К удивлению Тедди, она достала из кармана пальто большой перочинный нож и принялась срезать тонкие стебли.
— Я еще не то с собой ношу, — засмеялась Урсула. — Будьте готовы! Ну, ты знаешь — это девиз девочек-скаутов, да и всех скаутов: «Будьте готовы к любым трудностям и опасностям, зная, что и как следует делать».
— У скаутов по-другому: требования длиннее и подробнее, — возразил Тедди.
К мужчинам требования выше, думал он, хотя все его знакомые женщины тут же оспорили бы эту мысль.
Урсула постоянно забывала, что Тедди так и не перешел из бойскаутов младшей дружины в старшую. Ей-то самой никогда не приходилось страдать в «Киббо Кифте».
Тедди решил поехать в Лондон с Урсулой, хотя и знал, что это расстроит маму, которая рассчитывала удержать его еще хотя бы на денек. Но без отца Лисья Поляна опустела, и это удручало.
— Если мы выйдем сейчас, то успеем на ближайший поезд, — сказала Урсула, подталкивая Тедди к дверям. — Расписание можно не смотреть, в любом случае оно сбилось…
После прощаний, когда они уже шли переулком, Урсула сказала:
— На самом деле у нас еще куча времени, я просто спешила унести ноги. С мамой всегда сложно общаться, с Иззи еще хуже, а вдвоем они просто невыносимы.
Поезд прибыл на вокзал Марлибон, и Урсула спросила:
— Остановишься у меня?
Нет, ответил Тедди, разыщу старого приятеля, устроим ночную гулянку. Он и сам толком не знал, зачем лжет и почему не хочет остановиться у сестры. Мучительная потребность быть свободным — возможно, в последний раз.
— Ой, чуть не забыла! — воскликнула Урсула, порылась в сумочке и наконец извлекла на свет небольшую, потускневшую от времени серебристую вещицу.
— Кролик? — спросил Тедди.
— Нет, скорее заяц, хотя отличить сложно. Узнаёшь?
Нет, он не узнал. Заяц — или кролик — смирно сидел в корзинке. У него были заостренные уши и гравированная шубка. «Да, определенно кролик», — подумал Тедди.
— Когда ты был совсем маленьким, — напомнила Урсула, — он висел на твоей детской коляске. А до этого — на наших. Думаю, изначально это была мамина погремушка.
Этот заяц действительно когда-то был украшением на детской погремушке Сильви, с бубенчиками и детским зубным кольцом цвета слоновой кости. Однажды Сильви этой погремушкой чуть не выбила глаз своей матери.
— Это мне? — удивился Тедди.
— На счастье!
— Серьезно? — скептически усмехнулся Тедди.
— Это талисман. Вместо кроличьей лапки я дарю тебе целого зайца, который будет тебя охранять.
— Спасибо.
Он даже развеселился. Урсула, обычно не суеверная, не признавала никаких талисманов.
Взяв зайца, Тедди небрежно опустил его в карман, где уже лежал конский каштан — другой подарок от сестры, успевший потерять свой блеск. Тедди обратил внимание, что маргаритки Урсулы, завернутые во влажную газету, совсем поникли, почти завяли. Ничто не хранится, думал он, все утекает сквозь пальцы, как песок или вода. Или время. Может, ничего и не нужно хранить. Но это была аскетичная мысль, которую он тут же отогнал.
— Мы начинаем умирать с момента рождения, — когда-то некстати сказала Урсула, глядя, как Бриджет, сутулясь, вносит в столовую блюдо с печеными яблоками.
— Яблок нынче прорва уродилась, — возвестила Бриджет.
С тех пор как миссис Гловер, уйдя на покой, перебралась к сестре в Манчестер, Бриджет решила, что настал ее черед ходить с недовольным видом. Сильви успела продать бо́льшую часть обильного урожая, а между тем яблоки были единственными фруктами, к которым Бриджет относилась без подозрений. («Она выросла в Ирландии. Там фрукты не в почете», — объяснила Урсула.) Перед отъездом Тедди кухарка сунула ему в руку неказистое, с червоточинами, яблоко «на дорожку», и теперь оно покоилось в оттопыренном кармане Тедди.
Вместо встречи с мифическим приятелем Тедди прошелся по лондонским пабам и изрядно напился: угощали доброжелатели. Он обнаружил, что форма ВВС привлекает девушек, хотя и пытался избегать «артиллерии Пиккадилли» — так солдаты, с которыми он пересекал Атлантику, называли вест-эндских проституток. Это были самоуверенные, грубоватые девицы; Тедди мог только гадать, пробавлялись они своим ремеслом до войны или же выплыли на свет как ее неизбежные последствия.
В конце концов он дошел до Мэйфера, раздумывая, где бы провести эту ночь. В сумерках он налетел на девушку («Айви, приятно познакомиться»), и они продолжили путь вместе, под руку, пока не набрели на отель «Флемингс» на Кресент. Ночной портье посмотрел на них крайне неодобрительно, над чем они позже смеялись, когда, лежа на покрывале и опираясь на подушки, прикладывались к большим бутылкам пива, которые Айви раздобыла неизвестно где.
— Неплохое местечко, — отметила Айви. — Ты, как я погляжу, богатый парень.
Сегодня он был богат: Иззи вручила ему очередную компенсацию за Августа — двадцать фунтов, которые жгли карман.
— В могилу денег не заберешь, — любила приговаривать транжира Иззи.
Айви оказалась девушкой беспечной: работала в службе воздушного движения на зенитной батарее, а сюда приехала в отпуск из расположения в Портсмуте. («Ой, что-то я разболталась».)
Завыла сирена воздушной тревоги, но они не побежали в укрытие, а вместо этого смотрели бесплатные фейерверки, устроенные воздушными силами вермахта. Тедди был рад, что застал окончание Лондонского блица.
— Вот гады! — весело сказала Айви, когда над крышей загудели бомбардировщики. Она работала на «приборе управления зенитным огнем».
— Я — оператор номер три, — доложила она. («Ой, снова тайну выболтала!»)
Тедди понятия не имел, о чем она говорит.
— Жарьте, мальчики! — крикнула она, когда взорвавшиеся снаряды озарили небо красным.
Луч прожектора выхватил бомбардировщик. «Так вот каково это — быть по другую сторону», — подумал Тедди, затаив дыхание и размышляя о пилоте бомбардировщика. Через пару недель в таком самолете будет он сам.
Налетчик ускользнул от прожектора, и Тедди выдохнул.
— Только ничего этакого, — предупредила Айви, раздевшись до нижней юбки; затем они наконец забрались в холодную постель. — Я хорошая девочка, — чопорно сказала Айви, дурнушка с кривыми зубами.
У нее был жених, из флотских, и Тедди решил, что не станет к ней приставать; а ко всему прочему, он изрядно напился. Однако в какой-то момент этой, теперь мирной, ночи они придвинулись друг к другу на середине кровати с продавленным матрасом, и Айви так мастерски извернулась, что Тедди, полусонный, тотчас же оказался в ней, и протестовать было бы просто не по-джентльменски. Все закончилось быстро, очень быстро. В лучшем случае чувственно, в худшем — сально. Когда они проснулись, оба с набрякшими от вчерашнего пива веками, Тедди ожидал, что Айви будет раскаиваться, однако та только потянулась, зевнула и придвинулась к нему, ожидая продолжения. В тусклом утреннем свете у нее был вульгарный вид; не обладай она такими познаниями в области зенитного огня, Тедди принял бы ее за девицу из «артиллерии Пиккадилли». Тедди обругал самого себя: Айви — неплохая девушка, составила ему компанию, так нечего заноситься; тем не менее он извинился и ушел.
Он заплатил за ночь и, сунув портье щедрые чаевые, распорядился, чтобы в номер доставили завтрак («для моей жены»).
— Разумеется, сэр, — позволил себе ухмыльнуться, невзирая на чаевые, портье.
Днем на вокзале Кингз-Кросс Тедди сел на поезд до УЧБП. Учебная часть боевой подготовки. После — в ЧБПП, часть боевой переподготовки. Как говорила Урсула, война — это сплошные сокращения.
Тедди вздохнул с облегчением, когда переполненный поезд наконец отошел от платформы, увозя его из грязных руин Лондона. Как-никак война продолжалась, и нужно было воевать. Он нащупал в кармане мелкое, сморщенное яблоко и съел его в два приема. Надеялся, что будет сладкое, а оказалась кислятина.
1993 Мы, кто остался{62}
— Ну вот, с этой коробкой покончено, — сказала Виола, как будто разделалась с неприятной обязанностью — например, уборкой омерзительного чужого мусора, хотя всего-то упаковала чистую стеклянную посуду; кассета со скотчем выглядела у нее в руках как оружие.
Краем глаза Виола заметила, как Санни вытряхивает из пачки сигарету «силк кат», и, не дав ему чиркнуть спичкой, заорала: «Не смей!», словно он собирался поднести спичку к бикфордову шнуру.
— Мне девятнадцать лет, — прошипел Санни. — Я имею право голосовать на выборах, жениться и умереть за родину, — («Готов ли он воспользоваться хоть одним правом?» — спросил себя Тедди), — а по-быстрому перекурить не имею права?
— Это гадкая привычка.
У Тедди вертелось на языке: «Ты же сама курила», но он понял, что этой фразой зажжет еще один бикфордов шнур. Поэтому он лишь молча поставил чайник, чтобы напоить чаем грузчиков.
Санни повалился на софу. Софа, как и почти вся мебель Тедди, оказалась чересчур громоздкой для нового жилища и была приготовлена на выброс. Ее заменил недорогой компактный диванчик «для гостей». Для себя Тедди приобрел какое-то кресло-кровать («подходит для лиц пожилого возраста») и с неохотой признал, что оно необычайно удобное. Выражение «лица пожилого возраста» ему не понравилось: оно внушало определенные предрассудки, как в прежние времена — слово «молодежь».
Бо́льшая часть личных вещей Тедди ждала отправки в благотворительные магазины. Оставить пришлось больше, чем забрать с собой в новую квартиру. Годы жизни набегали и набегали — а какова теперь им цена? Как видно, не слишком высока. «У деда горы всякого дерьма» — так Санни сказал Виоле, а Тедди случайно услышал. Можно подумать, кто-то воспринимает как моральное оскорбление подшивку выписок по банковским счетам за последние десять лет или пятилетней давности настенный календарь с репродукциями японских гравюр, изображающими птиц, — такая красота, что у Тедди рука не поднялась его выбросить. «Ты не сможешь взять с собой весь этот хлам, ясно тебе или нет? — Виола говорила с ним как с ребенком, который цепляется за свои многочисленные игрушки. — Неужели ты никогда не избавляешься от лишнего?»
По правде говоря, за последние год-два его прежняя бережливость приняла иные формы: он устал от безжалостной сортировки и отбраковки, которых требовал материальный мир. Легче копить все без разбора и дожидаться великого избавления от материальных благ, которое принесет с собой смерть. «Оно и к лучшему, — говорила сыну Виола, а Тедди услышал. — Когда его не станет, просто начнем выбрасывать все подряд».
То ли еще будет, когда Виола доживет до старости — «до зрелых лет», как выражалась Берти, — и детям придется разгребать ее «хлам»: талисманы, образа с подсветкой («ироничные»), отрезанные кукольные головы без кукол (тоже «ироничные»), стеклянные шары-обереги, «которые не пускают на порог злую силу».
Санни, похоже, уснул, будто выбился из сил после изнурительных трудов, тогда как на деле только передвинул пару коробок. Всю тяжелую работу сделали грузчики, а Санни тем временем перебирал документы и папки, каждые пять минут дергая Тедди: «Это нужно? Это нужно? Это нужно?» — ни дать ни взять косноязычный попугай. В конце концов Тедди пришлось сказать: «Оставь это мне, Санни. Я сам разберу. Но тебе все равно спасибо».
Тедди поставил на поднос тарелку с печеньем и две кружки чая. И тарелка, и кружки, и поднос вскоре должны были отправиться в благотворительный магазин «Оксфам». «У тебя четыре подноса! Четыре!» — выговаривала ему Виола, как будто Тедди нес личную ответственность за капиталистическую алчность к чайным подносам. «Четыре подноса никому не нужны. Возьмешь с собой только один». Тедди выбрал самый старый, исцарапанный, затертый, который служил ему с незапамятных времен. Раньше он принадлежал безвестной старушке, которая жила и скончалась в сельском доме, где он поселился сразу после женитьбы. «Бестелесное создание», говорили о ней, как о дружелюбном призраке, у них в семье.
— Такое старье? — возмутилась Виола, брезгливо разглядывая поднос. — А где тот симпатичный бамбуковый, мой подарок?
— Этот мне дорог как память, — решительно сказал Тедди и понес чай в сад, где отдыхали грузчики.
Те откинули борт кузова и курили, наслаждаясь последним солнцем; чаю они обрадовались.
Медленно, как просыпающийся кот, Санни открыл глаза и спросил:
— А мне? В самый раз бы чего-нибудь хлебнуть.
Тедди подозревал, что такой эгоцентризм Санни унаследовал от родителей. И Виола, и Доминик всегда ставили свои желания на первое место. Доминик даже умер как эгоист. Их сына пришлось долго уламывать, чтобы он учился прочно стоять на ногах и осознавать свое место в этом мире, где существуют и другие люди, а не он один.
— Чайник на кухне, — сказал ему Тедди.
— Да неужели? — саркастически отозвался Санни.
— Оставь этот тон, — одернула Виола (твой же собственный тон, отметил Тедди).
Воинственно сложив руки, она гневно смотрела в окно на грузчиков.
— Нет, ты только посмотри: бездельники, распивают чай, да еще денег хотят.
Насколько помнил Тедди, даже при жизни Нэнси Виола терпеть не могла, когда другие наслаждались жизнью, словно от этого в мире что-то убывало, а не прибавлялось.
— Помнится мне, ты всю жизнь была на стороне рабочих, — мягко сказал Тедди. — Да и вообще, я им плачу из своего кармана. Они славные ребята; пускай минут десять передохнут и за мои деньги попьют чайку.
— Ладно, я возвращаюсь к нескончаемой разборке этого хлама. Ты хоть знаешь, сколько у тебя стекла? Я пока что насчитала восемь коньячных рюмок. С каких пор тебе требуется восемь коньячных рюмок? Будь уверен, на новом месте они тебе не понадобятся, — наседала она.
Ее слова прозвучали намеком на переселение в загробный мир, а не в социальный дом, хотя Тедди предполагал, что это примерно одно и то же.
— Вероятность того, что у тебя в новой квартире соберутся восемь человек и все одновременно потребуют коньяка, микроскопически мала, — не унималась Виола.
А что, подумал Тедди, можно будет организовать некое подобие суаре с дегустацией коньяка — на восемь персон, разумеется. И нащелкать фотографий, чтобы утереть нос Виоле.
— Ладно хоть собаки у тебя нет, а то и от нее пришлось бы избавиться, — сказала дочь.
— «Избавиться»?
— На новом месте животных держать нельзя. Пришлось бы ее отдать.
— Ты бы ее к себе взяла.
— Ну нет, это исключено: у меня же кошки.
Какого лешего они взялись обсуждать воображаемую, несуществующую собаку? — спросил себя Тедди.
— А что Тинкер сдох — оно и к лучшему, — продолжала Виола, порой чудовищно бессердечная.
Раньше Тедди об этом не задумывался, но сейчас понял, что Тинкер был его последней собакой. Наверное, раньше он предполагал, что заведет следующую, только не щенка (щенок отнимает слишком много сил), а взрослую собаку, либо от других владельцев, либо из приюта. Коротали бы вместе свои последние деньки. Тинкер умер три года назад. От рака. Ветеринара вызвали на дом, чтобы усыпить беднягу, не подвергая неизбежным мучениям. Хороший был пес, лисогон, все понимал. Когда ветеринар делал Тинкеру инъекцию, Тедди крепко обнимал своего любимца, глядя ему прямо в глаза, пока в них не угасла жизнь. То же самое Тедди когда-то сделал для человека. Для своего друга.
— А я любил Тинкера, дедушка Тед, — неожиданно вклинился Санни, в котором вдруг проснулся шестилетний сорванец. — Мне его не хватает.
— Знаю, знаю. Мне тоже. — Тедди погладил внука по плечу. — Налить тебе чайку, Санни?
— А мне? Или меня здесь уже не замечают? — фальшиво защебетала Виола, привычно изображая счастливое семейное единение. («Семья, у которой не функции, а сплошные дисфункции», — говорила Берти.)
— Еще как замечают, — ответил ей Тедди.
Этот дом в Йорке принадлежал им с шестидесятого года. После «Мышкиной Норки» была ферма в Эйсвике, где прошло раннее детство Виолы. Переезд из сельской местности в Йорк стал для Тедди ударом, но впоследствии на него обрушились куда более тяжелые удары, и он свыкся с Йорком, а потом даже прикипел к этому городу.
Дом, примыкающий стеной к соседнему, стоял в предместье и ничем не отличался от тысяч других по всей стране: наружная штукатурка с гравием, намеки на фахверк, в эркерах — оконные переплеты с мелкими ячейками, приличных размеров палисадник и задний двор. В этом доме прошла половина (несомненно, худшая) детства Виолы, но дочь всегда давала понять, что ни в грош не ставит это жилище. В угрюмом переходном возрасте она закусила удила и старалась как можно реже бывать дома («скукота», «мещанство», «клетушки» и так далее). Когда она уехала учиться, в доме будто развеялся глубокий мрак. Тедди понимал, что Виолу он потерял, но затруднялся точно сказать, как это произошло. («А ты никогда не думал, что дело было с точностью до наоборот? — сказала ему Берти. — Что, скорей всего, это она тебя потеряла?» — «Так не бывает», — ответил Тедди.)
Он готовился переселиться в «Фэннинг-Корт». «Размещение, уход». Такое описание больше подошло бы гостинице для собак или лошадей.
— Не говори глупостей, — одернула его Виола. — Там ты будешь под надежным присмотром.
Сколько он помнил, дочь всегда рассматривала его как досадную помеху. С годами будет только хуже, думалось ему. Виола взяла его измором, требуя переехать в такое место, где ему обеспечат «размещение и уход».
— Мне всего-то семьдесят девять, — упирался Тедди. — Я способен сам за собой ухаживать. Из ума пока не выжил.
— Вот именно, пока, — отвечала Виола. — Но раньше или позже это произойдет, и, скорее всего, раньше. По лестнице тебе подниматься тяжело, содержать в порядке сад — и подавно.
Сад, как ему казалось, он содержал в полном порядке, наняв себе помощника, который приходил раз в неделю и выполнял тяжелые работы, а летом еще и косил газоны. В дальнем конце двора высились плодовые деревья, а прежде Тедди даже вскапывал грядки. У него знатно росло все: картофель, горошек, морковь, лук, бобы, малина, черная смородина. Был парник для помидоров и огурцов. Тедди даже соорудил маленький курятник, а на протяжении нескольких лет еще и ставил ульи. Славное было времечко. Теперь, конечно, почти весь сад занимал газон с неприхотливыми кустарниками и цветами — в основном с розами. Летом у него по-прежнему пестрел душистый горошек, а к осени расцветали георгины, но теперь это давалось все тяжелее.
Расставаться с садом было невыносимо. Поселившись в этом доме, Тедди думал, что сад не сможет стать заменой сельской природе, но он ошибался. А что теперь станет заменой саду? Пара цветочных горшков на балконе, а то и ящик на подоконнике. У Тедди сжималось сердце.
Виола много лет талдычила про органические продукты и про здоровое питание, которое обеспечивает своим детям, но не слушала, когда он втолковывал, что она сама как раз и выросла на органических продуктах — «прямо с грядки». Откуда там органические продукты? — говорила она, как будто до нее никто не слыхивал про навоз и ручной труд. В детстве она не интересовалась пчелами, не желала кормить кур и бегать за яйцами, твердила, что страдает аллергией на цветочную пыльцу. Неужели это у нее не прошло?
— У тебя летом по-прежнему бывают приступы аллергии? — спросил Тедди.
— Я бы взяла тебя к себе, — продолжала она, словно не слыша вопроса («взяла»? — переспросил про себя Тедди), — но у нас жуткая теснота, да к тому же тебе лестницу не одолеть. Для пожилых она не приспособлена.
Несколько лет назад Виола перебралась из Йорка в Лидс. В Йорке она работала в отделе социальной помощи (Тедди не представлял, что это означает), но затем получила место в Лидсе — в консультации по вопросам семьи и брака. Это тоже звучало весьма туманно, а кроме того, судя по названию, вряд ли входило в компетенцию Виолы. Переезд, конечно, был связан с тем, что она вышла замуж за Уилфа Ромэйна. («Я с ним сбежала», — взахлеб рассказывала она в интервью журналу Woman and Home за 1999 год. У Тедди не было уверенности, что это уместное выражение для женщины за тридцать с двумя детьми.)
Нынче она обреталась в Уитби, где, насколько мог судить Тедди, сама сидела на социалке, хотя этой темы они не касались. На средства, полученные после развода с Уилфом Ромэйном, Виола купила старую рыбацкую хижину. Теперь, в возрасте сорока одного года, она перебивалась подачками: от Тедди, от родни Доминика («сущие гроши»). Брак с Уилфом ее подкосил. «Если б знать, — в сердцах говорила она, будто обвиняя неизвестно кого, — я бы повременила с материнством и не связывалась с мужчинами, а сразу после университета начала бы строить карьеру. Наверняка уже сидела бы на Би-би-си в контрольном совете, а то и где-нибудь в МИ-пять». Тедди в ответ бормотал что-то неопределенное.
В ее хижине были четыре кривые комнатенки, одна над другой. Узнай Тедди, что она целенаправленно подыскивала жилье, «не приспособленное для пожилых», он бы ничуть не удивился. Можно подумать, он мечтал жить с ней под одной крышей («Лучше смерть», — соглашалась Берти).
Виола, по ее собственному выражению, «взялась за перо». Тедди не вполне понимал, что за этим кроется, но помалкивал: не из равнодушия, а просто потому, что Виола на любой вопрос отвечала дерзостью. Таков же был и Санни, выходивший из себя от самых нейтральных вопросов. «Чем сейчас занимаешься?» — спросил внука Тедди, когда утром тот (нехотя) появился у него в доме, чтобы помочь с переездом. На любой вопрос о житейских планах Санни пожимал плечами, вздыхал и цедил: «Да так как-то».
— Вылитый отец, — говорила Виола. (Нет, думал Тедди, вылитая мать.) — Сил моих нет. Он еще не повзрослел, а только вытянулся. Будь он сейчас ребенком, ему бы наверняка поставили диагноз «дислексия», да еще и «гиперактивность». А то и «нарушение координации». Даже «аутизм».
— Аутизм? — переспросил Тедди. Удивительно, как она вечно уходила от ответственности. — Мне он всегда казался нормальным ребенком.
Это было легкой натяжкой: Санни до сих пор шел по жизни спотыкаясь и пошатываясь, но должен же кто-то защитить беднягу. Если бы «диагноз» ставил Тедди, он бы нашел у парня только один недуг: отсутствие счастья. Тедди любил внука до сердечной боли. Боялся и за него самого, и за его будущее. Берти он тоже любил, но попросту, более оптимистично. Ясноглазая, умненькая, внучка порой напоминала ему Нэнси (Виола — никогда). Та же неуемная натура, живая душа; хотя в посмертных воспоминаниях (которые теперь слились с прижизненными) Нэнси, пожалуй, стала более задорной.
— Это еще что? — возмутилась Виола, как будто небольшая прямоугольная коробка, даже не распечатанная, непростительно оскорбила ее чувства. На крышке была изображена кофемолка.
— Кофемолка, — резонно ответил Тедди.
— Эту кофемолку я подарила тебе на Рождество. Ты ею ни разу не воспользовался.
— Да, верно.
— У тебя была какая-то допотопная. Ты сам сказал, что хочешь новую… — она принялась распахивать дверцы кухонных шкафчиков и наконец вытащила на свет то, что искала, — кофемолку. Ты сам себе купил другую? Я последние деньги потратила на подарок для тебя. Нет, постой… — Она вытянула перед собой руку, будто пытаясь остановить танк. — Постой… Ну конечно…
Вошедший в кухню Санни застонал:
— Какую еще драму разыгрывает наша королева сцены?
Виола сунула ему под нос нераспечатанную коробку с кофемолкой.
— Немецкая! — обличительным тоном провозгласила она, как прокурор, предъявивший суду неопровержимую улику.
— И дальше что? — не понял Санни.
— Фирма «Крупп», — уточнил Тедди.
— И дальше что? — повторил Санни.
— Он же бойкотирует немецкие товары, — сказала Виола. — Из-за войны. — Последнее слово прозвучало у нее саркастически: таким тоном она в подростковом возрасте запальчиво спорила с отцом по поводу мини-юбок, косметики и табачного запаха изо рта.
— Семейство Крупп поддерживало нацистов, — объяснил Тедди внуку.
— Ой, начинается лекция по истории, — сказала Виола.
— Их заводы плавили сталь, — продолжил Тедди, не обращая внимания на выпады дочери. — Сталь относится к числу первейших военных нужд. — Он несколько раз бомбил — или пытался бомбить — заводы Круппа в Эссене. — На их предприятиях использовался рабский труд. Туда пригоняли евреев из концлагерей.
— Война закончилась чуть ли не полвека назад, — сказала Виола. — Может, хватит? Плюс к этому, — (у Виолы ко всему прибавлялся плюс), — на фабриках, которые ты бомбил, работало много концлагерных заключенных, в том числе и евреи. Вот такая ирония, — торжествующе добавила она.
Дело закрыто. Присяжные удовлетворены.
Первым автомобилем, за руль которого села Виола после «освобождения» от Доминика (и четырех попыток сдать на права), стал подержанный «фольксваген»-«жук», и когда Тедди открыл рот, чтобы сказать нечто вроде «покупай британское», дочь взорвалась обвинениями в ксенофобии. Потом, когда он уже несколько лет прожил в «Фэннинг-Корте», дешевая встроенная духовка, изначально установленная в его квартире, приказала долго жить, и Виола, не посоветовавшись с отцом, заказала в универмаге «Карриз» новую, фирмы «Сименс». Когда ему доставили покупку, он (очень вежливо) попросил грузчиков отнести духовку обратно в фургон и вернуть в магазин.
— Вероятно, ты и эти заводы бомбил? — предположила Виола.
— Да.
Ему вспомнился Нюрнберг (который, собственно, никогда не забывался), последний вылет, а точнее, предполетный брифинг, который проводила женщина-офицер из разведуправления, сказавшая, что этот завод Сименса выпускает прожекторы, электродвигатели «и прочее». После войны он узнал, что там же производились печи для концлагерей; видимо, они и попадали в категорию «и прочее». Во время войны Беа познакомила его со своей подругой Ханни, беженкой; вполне отдавая себе отчет, что Ханни уже не вернуть, ради нее он и совершил этот мизерный жест по отношению к универмагу «Карриз». Шесть миллионов — это всего лишь число, но у Ханни было лицо, причем миловидное, и маленькие изумрудные сережки («Костюм!»); она играла на флейте, душилась ароматом «Суар де Пари» и происходила из семьи, оставшейся в Германии. Рассказывали, что Ханни была еще жива, когда ее лопатами заталкивали в печь Освенцима. («И хочется простить, — говорила Урсула, — но тут же вспоминается бедная Ханни».) Поэтому Тедди не раскаивался, когда отправлял назад немецкую духовку. И когда без содрогания сбрасывал бомбы на Нюрнберг. Правда, тут была некоторая натяжка, и он, вероятно, сам бы ее признал, будь его оппонентом в споре более гибкая личность, чем родная дочь. Он убивал женщин, детей и стариков — именно тех, кого общественная мораль требует защищать. В искореженном эпицентре любой войны оказываются невиновные. «Сопутствующий урон» — так это называлось на языке тех дней, но те штатские не были «сопутствующими», они как раз и были мишенями. Вот такой сделалась та война. Когда уже не солдаты убивали солдат, а люди убивали других людей. Каких попало.
Он не делился своей упрощенной точкой зрения с Виолой: дочь слишком легко согласилась бы с его доводами, не понимая тяжелейшего нравственного компромисса, навязанного ему извне. Угрызениям совести не место было в разгаре боя, исход которого непредсказуем. Они сражались на стороне правого дела, на стороне права — в этом он не сомневался по сей день. В конце-то концов, разве у них была альтернатива? Кошмарные последствия Освенцима, Треблинки? Ханни, заживо брошенная в печь?
Покосившись на Санни, который привалился к кухонной раковине, Тедди понял, что никогда не сумеет объяснить этого внуку.
Ну, завелись старперы, подумал Санни, когда спор в кухне заметался туда-сюда, как шарик для настольного тенниса. В детстве Санни любил настольный теннис, хотя и не мог бы поручиться, что у него было детство. Однажды он провел летние каникулы с Берти и дедушкой Тедом в каком-то большом старом доме: стол для пинг-понга стоял не то в гараже, не то в сарае. Это были самые лучшие каникулы в его жизни. Он увидел лошадей («ослов», поправила Берти) и озеро («пруд»).
А кухонные дебаты все разгорались. Ха-ха.
— Поэтому ты купил кофемолку «Филлипс»? — наседала Виола. — И собирался меня убедить, что филлипсовцы не замарали рук? На войне никто не остается чистеньким.
— У «Филлипса» руки относительно чистые, — сказал Тедди. — После войны Фрица Филлипса объявили «праведником среди народов». В знак того, что он помогал евреям. — Это пояснение было адресовано Санни.
— Опять двадцать пять, — пренебрежительно бросила Виола, давая понять, что он проиграл в споре.
Зевнув, Санни вразвалку вышел из кухни.
Виола выскочила в сад. Он не отличался былой ухоженностью, но все же свидетельствовал о том, что ее отец по-прежнему зациклен на аккуратности. Стебельки фасоли были тщательно подвязаны к колышкам, розы, без единого дефекта, не тронуты вредителями. На гроб ее матери отец в свое время положил не покупной венок, а охапку выращенных перед домом садовых роз. Виола тогда еще подумала, что мама заслуживает чего-то более пышного, изысканного, оформленного рукой профессионала. Домашнее всегда лучше, возразил отец. Как раз наоборот, сказала про себя Виола.
Он не выносил расточительности, а Виола не видела в ней особого греха. Конечно, работающие приборы выбрасывать ни к чему (Голос Разума). Нетрудно найти применение стаканчикам из-под йогурта, консервным банкам (например, выращивать в них рассаду); черствый хлеб и кексы можно добавлять в пудинг, перемалывать на фарш все жилы, намотавшиеся на штифт мясорубки. (Кто сейчас пользуется мясорубкой?) Сношенные до дыр шерстяные кофты разрезать на квадратики, чтобы набивать диванные подушки. Из всего, что качается на ветру, готовить либо варенье, либо приправу чатни. Выходя из комнаты, гасить свет и закрывать дверь. Не то чтобы Виола следовала этим правилам. В детстве у нее даже не было альбомов для рисования: ей давали обрезки старых обоев («Ты переверни другой стороной и рисуй»). Для мытья окон использовались газеты, смоченные уксусом. Все, что только можно, шло в компост или птицам. Отец удалял волосы со щеток и гребней, а потом раскладывал эти клочья в саду, чтобы птицы уносили их к себе в гнезда. Его невероятно заботили садовые птицы.
Надо отдать ему должное, скрягой он не был. Дом хорошо протапливался — даже чересчур: центральное отопление включалось на полную мощность. Отец не скупясь выдавал ей карманные деньги и позволял самой выбирать одежду. Отказа в еде они не знали. Но Виолу раздражало, что почти все продукты приходили на стол из сада и огорода: фрукты, овощи, яйца, мед. Своих кур, правда, не ели: кур покупали в мясной лавке. Забивать птицу отец просто не мог. Куры умирали от старости — полный абсурд: у него в курятнике было не повернуться от старых, никчемных несушек.
Нескончаемыми летними часами Виола, как крестьянка в поле, собирала красную смородину, черную смородину, торчала в огороде. Липкими руками снимала малину. Раздирала ноги о кусты крыжовника и острую стерню, терпела осиные укусы, содрогалась при виде слизней и червей. Почему нельзя было поехать в сверкающий супермаркет и выбрать яркую упаковку любых овощей и фруктов, собранных где-то далеко другими людьми?
Зато теперь, если быть до конца честной (Виола не всегда была с собой честна и сама это знала), она скучала по дарам сада и огорода, которые в свое время терпеть не могла. Отец, обложившись старыми поваренными книгами Нэнси, готовил воскресное жаркое и яблочный пирог, мясное рагу, корзиночки с ревенем. «Твой папа — просто уникум», — твердили ей окружающие. Школьные учителя души в нем не чаяли, отчасти потому, что Нэнси при жизни была всеобщей любимицей, но еще и за то, что он взял на себя все материнские заботы. Виола не хотела, чтобы он был ей мамой; она хотела, чтобы мамой была Нэнси.
(«Наша семья раньше других приняла движение „зеленых“, меня воспитывали на принципах натурального хозяйства и охраны окружающей среды. Мы выращивали для себя продукты питания, перерабатывали все отходы и опережали свое время в том, что касалось уважения к нашей планете». Тедди не верил своим глазам, читая это интервью в каком-то глянцевом воскресном журнале незадолго до переезда из «Фэннинг-Корта» в дом престарелых).
Вскоре после маминой смерти отец прочел «Безмолвную весну»,{63} которая тогда впервые вышла в свет. Библиотечный экземпляр, естественно. (Купил ли он за всю жизнь хоть одну книгу? «Нужно поддерживать публичные библиотеки, иначе им придет конец».) У Виолы скулы сводило от тоски, когда отец зачитывал ей вслух целые абзацы. Именно тогда он стал приманивать в сад пернатых. Сейчас на кормушке сидело несколько разных птах. Виола в них не разбиралась.
Вернувшись в кухню (слава богу, опустевшую), она принялась вытаскивать из шкафов посуду и упаковывать в коробки — те, что поедут в «Фэннинг-Корт», и те, которым прямая дорога в благотворительные магазины. (Кому, спрашивается, нужны четыре салатника с крышками и супница, даже одна?)
Все в этой кухне навевало воспоминания. Огнеупорные формы напоминали о запеканках и рисовых пудингах. Безобразные стаканы шероховатого зеленого стекла, в которых любая жидкость выглядела отравой, — раньше в них наливали молоко, которое полагалось пить на сон грядущий, заедая двумя печенюшками «Рич ти», уж самыми скромными, скромней не бывает, тогда как ей хотелось положить на язык что-нибудь поинтереснее: «Клуб», например, или «Пингвин». Приверженность этому незатейливому сорту печенья многое говорила об отцовском аскетизме. («Я думаю о твоих зубах».) А уж этот фарфор с кобальтовой сеткой и вовсе нагонял меланхолию. Рисунок обеденного сервиза способен вобрать в себя целую жизнь. (Удачная фраза. Не забыть бы.) С течением времени вся эта утварь стала считаться винтажной, и Виола не могла себе простить, что бездумно отправила ее в «Оксфам».
Отец казался ей жутким ретроградом, но ведь когда-то и он, по всей видимости, был как новенький. Тоже неплохая фраза. Виола на всякий случай зафиксировала ее в памяти. Она писала роман. Про юную девушку, блистательную, не по годам развитую, и ее непростые отношения с овдовевшим отцом. Как любой продукт писательского мастерства, этот роман до поры до времени приходилось держать в тайне. Чудовищная практика. Виола чувствовала, что у нее внутри живет другая, более совершенная натура по сравнению с той, которая постоянно стремилась наказать мир за плохое поведение (тем более что сама вела себя безупречно). В самом деле, писательство могло выпустить эту более совершенную личность на свет божий.
Она выронила молочник с кобальтовой сеткой, и он разлетелся вдребезги.
— Зараза, — сказала она спокойнее, чем собиралась.
До этого Тедди позволил Виоле выставить несколько громоздких предметов на торги. Выручка, по словам Виолы, составила «сущие гроши». Пианино Нэнси, принадлежавший Герти буфет. Уж такие ценности. Пианино — рассохшееся, ненастроенное, давно стоявшее без дела. После смерти Нэнси Виола отказалась учиться музыке (не видя в себе способностей).
Думая о Нэнси, Тедди часто представлял ее за пианино. Вспоминал о ней каждый день, как и о многих других. Имя мертвым — легион, и поминовение стало, как он считал, своего рода обязанностью. Не всегда связанной с любовью.
Он вспомнил (дело уже близилось к концу), как вошел однажды в эту комнату и застал Нэнси за пианино: она играла Шопена. В памяти всплыл Вермеер, точнее, одна его картина из Национальной галереи: женщина в каком-то помещении, клавесин… припомнить точнее он не смог — слишком давно не бывал в Лондоне. «Прерванный урок музыки», — подумал он, увидев Нэнси. Ее несложно было представить в прохладных, просторных вермееровских интерьерах. За чтением письма, за переливанием молока. Порядок, сосредоточенность. При его появлении она с удивленным видом подняла глаза от клавиатуры, будто успела забыть о его существовании; такое загадочное выражение лица порой можно было принять за глубокую задумчивость. Потаенная Нэнси.
Когда грузчики вынесли пианино, его охватила щемящая тоска. Он любил Нэнси, но, видимо, не так, как ей хотелось. Кто-нибудь другой, возможно, сделал бы ее счастливей. Но он действительно ее любил. Это была не романтическая рыцарская страсть, а нечто более земное и надежное.
А буфет Герти — с ним тоже грустно было расставаться. Изначально он принадлежал Шоукроссам — жил в столовой их особняка под названием «Галки». Выполненный в стиле искусств и ремесел из ассортимента универмага «Либерти», он долгое время выглядел старомодным, но сейчас такие штуки вновь приобретали популярность; только Виола отказывалась это понимать — она всегда считала этот предмет обстановки уродливым и «депрессивным». Пятнадцать лет спустя, в две тысячи восьмом, ей на глаза попался парный предмет — а возможно, все тот же буфет Герти — на выставке-продаже антиквариата, и Виола пришла в бешенство оттого, что в свое время его «упустила» (а ценник ее просто убил). «Я бы оставила, — сказала она Берти, — но он ни в какую». С годами Виола все чаще говорила об отце «он» — как о патриархальном божестве, испортившем ей жизнь.
— А где старые дорожные часики? — спохватилась Виола, оглядывая почти обнажившуюся комнату. — Не помню, чтобы мы их упаковывали.
Часы эти достались им от бабки по матери. После смерти Сильви они отошли Урсуле, а Урсула оставила их Тедди — так они и спускались зигзагами по фамильному древу.
— Ладно уж, — с напускной небрежностью продолжила Виола, — если они тебе не нужны, могу тебя от них избавить.
Она была обманщицей самого неприятного толка: неумелой и в то же время абсолютно уверенной в своем таланте лгуньи. Нужны тебе деньги — так почему бы не попросить? Но она всегда добивалась, чтобы ей дали просто так — кукушка, а не хищница. Как будто внутри у нее сидел голодный, ненасытный бес. От этого она становилась алчной.
А каретные часы были хорошие, работы часового мастера Фродшема, да и цены немалой, но Тедди понимал: отдай он их Виоле, они тут же будут проданы, утеряны или разбиты, а ему было важно, чтобы они оставались в семье. Как реликвия («Прелестное словцо», — сказала Берти). Они заводились крошечным золотым ключиком (который Виола наверняка посеяла бы сразу), и Тедди грела мысль, что ключик этот будет и впредь поворачивать родная рука. Что красная нить не прервется. Поэтому он и отдал часы Берти, когда та в прошлый раз пришла его проведать. Надо было и буфет ей всучить — он бы как нельзя лучше вписался в отделанный как раз в стиле искусств и ремесел загородный дом, где она жила со своими двойняшками и мужем, достойным человеком, врачом по профессии, с которым познакомилась совершенно случайно на Вестминстерском мосту во время празднеств по случаю бриллиантового юбилея королевы. Годы спустя, когда Берти уже была официально замужем и жила все в том же загородном доме в Восточном Эссексе, она показала эти часы оценщику, прежде чем застраховать имущество, и услышала невероятную цифру: тридцать тысяч фунтов. Ожидая в гости Виолу, Берти всякий раз убирала с глаз долой это маленькое золотое сокровище и накрывала подушкой, чтобы заглушить бой. К тому времени Тедди уже два года лежал в земле; он так и не посетил отделанный в стиле искусств и ремесел загородный дом Берти, не увидел, как на каминной полке часики по-прежнему отсчитывают время.
— Где часы — упаковал, что ли? — прокурорским тоном спросила Виола.
Невинно пожав плечами, Тедди ответил:
— Похоже на то. Лежат на дне какой-нибудь коробки.
Он любил Виолу, как можно любить только единственного ребенка, но это давалось ему нелегко.
— Наверное, придется сначала небольшой ремонт сделать, а уж потом выставлять на продажу, — сказала ему Виола. — Но агент сказал, что дом уйдет влет. — (Она уже вела — у него за спиной — переговоры с агентом по недвижимости?) — А у тебя будут кое-какие средства — как раз хватит, чтобы дожить свой век.
Вот, значит, что ему теперь предстояло? Доживать свой век. Собственно, он этим и занимался, как любой, кому повезло.
— Новое жилье, — сказала Виола. — С чистого листа. Это будет тебя… — Она подыскивала слово.
— Стимулировать? — подсказал Тедди. — Угнетать?
— Я хотела сказать: это будет тебя заряжать энергией.
У него не было желания начинать с чистого листа, как не было уверенности в том, что «Фэннинг-Корт» хоть когда-нибудь станет ему домом. В этом современном здании даже не выветрились запахи краски и огнестойкой мебельной пропитки. Квартира, которую приобрел Тедди, оказалась последней во всем этом комплексе. («Повезло тебе — ухватил», — сказала Виола.) Ну, по крайней мере, он вселялся не в такую квартиру, откуда только что вынесли труп прежнего владельца. Такое жилье долго не пустует, верно? «Это перевалочный пункт, Тедди, — сказал ему один из (немногих оставшихся на этом свете) приятелей, Пэдди. — Стоянка на Крестном пути». Тедди нарушил баланс: из его окружения живых теперь оставалось меньше, чем мертвых. Он прикинул: кому выпадет пережить всех? И понадеялся, что не ему. «Следующая остановка — дом престарелых, — сказал Пэдди. — Я так считаю: пусть лучше пристрелят, как собаку, чем упекут в богадельню». — «Это точно», — согласился Тедди.
Зоны общего пользования в «Фэннинг-Корте» были отделаны в пресной розоватой и желтовато-бежевой гамме; на стенах коридоров висели ненавязчивые репродукции импрессионистов. Вряд ли кто-нибудь задерживал на них взгляд. Картины в качестве обоев. «Миленько, правда, пап? — сказала Виола с натужным оптимизмом, когда их в первый раз провели по внутренним помещениям. — Немного напоминает отель, да? Или круизный лайнер». Когда, интересно, Виола успела побывать на круизном лайнере? Но она с упорством, достойным лучшего применения, внушала отцу, что ему непременно понравится «Фэннинг-Корт».
По этажам их провела смотрительница, Энн Скофилд, которая сказала: «Для вас, Тед, я просто Энн». («А я для вас — мистер Тодд», — подумал Тедди.) Смотрительница — это отдавало Троллопом.{64} Будет смотреть за ним в современном доме призрения — в «Фэннинг-Корте». Нет, Энн Скофилд ничем не напоминала Септимуса Хардинга. Грудастая и деловитая, с протяжным мидлендским говорком («Я брамми и этим горжусь»{65}), она фонтанировала энергией и решимостью.
— Мы здесь — одна счастливая семья, — с нажимом сказала она, как будто предвидела, что Тедди окажется паршивой овцой.
У Энн, которая шла впереди, была необъятных габаритов задница, и Тедди упрекнул себя за неджентльменские мысли, но как было не заметить? «Толстый диспетчер»,{66} сказала о ней Берти, приехав навестить деда в «Фэннинг-Корте». В детстве внучка любила книжки про Паровозика Томаса, и вообще любила книжки. Сейчас она училась на первом курсе Оксфорда, в том же самом колледже, где получил образование Тедди (с некоторых пор туда принимали не только юношей, но и девушек). И на том же отделении. Она стала его наследием, его посланием миру.
Сначала они пошли в комнату отдыха для проживающих, где кучка людей играла в бридж.
— Вот видишь, пап, — зашептала Виола. — Ты же любишь играть в карты, правда?
(«Ну…» — ответил Тедди.)
— Формы досуга у нас самые разные, — сообщила Энн Скофилд. — Бридж — сами видите, домино, скрэббл, комнатные кегли, любительские спектакли, концерты, каждую среду — утренний кофе…
Тедди отключился. Ногу сводило судорогой, ему хотелось вернуться домой, выпить чая и посмотреть «Обратный отсчет». Он не был фанатом телевидения, но любил викторины — умные, конечно, со спокойной публикой среднего возраста. Они его успокаивали и в то же время заставляли думать — чего еще желать в его-то годы?
Экскурсия никак не кончалась. Следующая остановка — в жаркой, влажной прачечной, заставленной огромными стиральными машинами; потом — в (весьма зловонном) пункте утилизации отходов, где высились промышленных размеров мусорные баки, которые могли целиком поглотить «пожилого человека», утратившего осторожность.
— Чудесно, — мурлыкала Виола.
Тедди покосился на дочь. «Чудесно»? — мысленно переспросил он. У Виолы был слегка маниакальный вид. Дальше — «кухонька», где проживающие могли приготовить себе «горячие напитки», когда «общались» в комнате отдыха. Экскурсантов повсюду встречали улыбчивые лица: люди здоровались и спрашивали Тедди, когда он заселяется.
— У тебя уже появляются новые друзья, — радостно заметила Виола.
— Меня и старые устраивают, — ответил Тедди, приволакивая ноги.
— Если не считать, что они в большинстве своем покойники.
— Спасибо, что напомнила.
— Все в порядке? — спросила, оглянувшись, Энн Скофилд, которая почуяла раскол в семейных рядах.
Им навстречу ковыляла женщина с ходунками.
— Здрасте, вы к нам? — оживилась она, завидев Тедди.
Это уже смахивало на какой-то обряд. Тедди вспомнил телесериал шестидесятых, который обожала Виола. «Заключенный».{67} У него упало сердце. Это здание — его будущая тюрьма? Тюрьма со смотрительницей.
Женщины численностью превосходили мужчин — по сути, всюду. Переселившись в «Фэннинг-Корт», он понял, что «проживающие» — почти исключительно женщины. Они ему симпатизировали; так было всегда. Естественно, раньше он был в приличной форме и много чего умел, а его ровесницы принадлежали к тому поколению, которое восхищалось, если мужчина знал, как включить электрочайник. В «Фэннинг-Корте» он заставил трепетать не одно податливое сердце, но тщательно избегал романтических привязанностей и интриг: хотя на поверхностный взгляд здесь царило полное благолепие, за бежевыми перегородками клокотали сплетни и желчность (особенно среди женщин за семьдесят), неизбежно подогреваемые любыми сильными эмоциями.
— Я вижу, среди людей моего поколения мужчины в дефиците, — сказал он, заглаживая чью-то злобную выходку.
— Среди людей моего поколения — тоже, — ответила Берти.
— Идемте же, Тед, — поторопила Энн Скофилд. — Нам еще многое нужно посмотреть.
«Многое» включало садовый пятачок, разбитый по образцу городского сквера. Скамейки. Парковка.
— Ой, вряд ли он машину сюда пригонит, — сказала Виола.
— А я думаю, он непременно это сделает, — сказал Тедди.
— Слушай, пап, для вождения ты уже староват. — (Положила глаз на его машину, догадывался Тедди. Ее собственная колымага постоянно ломалась.)
Виола обожала устраивать такие пикировки в общественных местах, чтобы люди понимали, насколько она разумна — не то что ее родственники. В свое время именно так она поступала с Санни. Бедный мальчишка чуть не свихнулся. Она и сейчас не унималась.
— А знаете, у многих проживающих есть машины, — сказала Энн Скофилд, не оправдав ожиданий Виолы.
Вся квартирка была размером с гостиную его бабушки в Хэмпстеде. Тедди давно не вспоминал Аделаиду и сам удивился, насколько ярким оказался сейчас ее образ; даже в двадцатые годы она носила длинные черные викторианские платья и вечно жаловалась на шумных внуков. Сколько же воды утекло с тех пор…
Как-то раз, вспомнилось ему, когда в гостях у нее стало совсем скучно, они с Джимми тишком прокрались наверх, чтобы оглядеть спальню, куда им строго-настрого запрещалось совать нос. Его поразил встроенный платяной шкаф: огромное сооружение, обитое изнутри жатым шелком, пропахшее смесью камфоры и лаванды, сквозь которую пробивался запах тлена. Они с братом забрались внутрь и с содроганием уткнулись в допотопные бабкины наряды.
— Противно тут как-то, — зашептал Джимми.
У Тедди было такое же чувство, и он поспешил выбраться, но случайно толкнул дверцу, которая тут же защелкнулась. С ней пришлось повозиться: механизм замка был довольно замысловатый.
Когда Джимми наконец-то смог вылезти, его истошные вопли переполошили весь дом. Аделаида бесновалась («гадкие, гадкие мальчишки»), но Тедди заметил, как Сильви зажимала рот ладонью, чтобы не расхохотаться. Бедняга Джимми всегда страдал клаустрофобией. Во время войны он сражался в частях коммандос, десантировался на пляж Сорд и после высадки союзников в Нормандии прошел с боями в составе Шестьдесят третьего противотанкового полка по руинам оскверненной Европы. Как же он, должно быть, ненавидел тесноту самоходных противотанковых орудий. В составе того же Шестьдесят третьего полка он освобождал Берген-Бельзен, но они с Тедди никогда об этом не заговаривали, да и вообще крайне редко беседовали о войне. Теперь Тедди об этом жалел.
Вся правда о Джимми обрушилась на Тедди как гром среди ясного неба сразу после окончания войны. До той поры его представления о людях нетрадиционной ориентации ограничивались зрелищем женоподобных геев из Сохо. Таких мужчин он не считал способными к брутальной храбрости, которой, судя по всему, обладал Джимми.
Джимми умер давно: в пятьдесят с небольшим его жизнь прервалась из-за быстрорастущей лимфомы. Услышав диагноз, он сел в автомобиль, разогнался на шоссе и свернул в пропасть. Эпатаж и в жизни, и в смерти. Жил он, естественно, в Америке. Тедди не полетел на похороны, но отправился в приходскую церковь и побыл наедине со своими мыслями как раз в те минуты, когда по другую сторону Атлантики тело Джимми предавали земле. Через несколько дней в почтовом ящике оказался мягкий синий авиаконверт, прилетевший как диковинный листок. В своем письме Джимми говорил последнее «прости». Признавался, что относится к Тедди с любовью и восхищением, благодарил его за то, что он был таким прекрасным братом. На свой счет Тедди не заблуждался. Напротив, он считал, что при жизни брата пренебрегал родственными обязанностями. Тедди никогда не расспрашивал (да и, если честно, не хотел ничего знать) о его интимной жизни и всегда думал (но только сейчас выразил это словами), что профессия рекламщика не стоит ломаного гроша. Схожее чувство посетило его и тогда, когда Берти начала работать в рекламном бизнесе, чтобы, по мнению Тедди, убеждать людей тратить деньги, которых у них нет, на товары, которые им не нужны. («В самую точку», — соглашалась Берти.)
— Знаешь, Джимми прошел через кошмары войны и выжил, — сказала тогда Урсула. — Давай утешаться этой тривиальной мыслью — за неимением лучшего.
— Все мы прошли через кошмары войны, — заметил Тедди.
— Нет, не все, — возразила Урсула. — Ты — да, я это знаю.
— Да и ты тоже.
— Это была работа, — сказала Урсула. — И мы ее выполняли.
Как же он скучал по сестре! Из всех, из легионов покойных, из бесчисленного множества ушедших душ, Урсула стала самой горькой утратой. Она умерла от инсульта почти три десятка лет назад. Ее кончина была мгновенной, но безвременной. А для Тедди как раз настало время.
— Пап?
— Да, прости, задумался.
— Смотрительница… Энн… объясняет, где находятся шнуры экстренного вызова.
(«Вот радость-то», — подумал Тедди.)
В каждом помещении с потолка свисал тонкий красный шнур.
— Если упадешь, — объясняла Энн Скофилд, — нужно просто дернуть — и помощь придет немедленно.
Тедди не стал уточнять, что нужно делать, если упадешь в стороне от шнура. Ему живо представилось, как Энн Скофилд несется розовато-бежевыми коридорами, и он подумал, что лучше уж останется лежать, где упал, и медленно отойдет в мир иной, сохранив хоть какое-то подобие достоинства.
Энн Скофилд называла этот комплекс просто «Фэннинг», и по созвучию Тедди вспомнил некую гостиницу в Мэйфере, где однажды провел ночь с девушкой. Точное название гостиницы он уже забыл («Хэннингс»? «Ченнингс»?), но девушку точно звали Айви. Они столкнулись во время затемнения: оба хотели устроиться где-нибудь на ночлег. Она искала католический клуб на Честер-стрит, а Тедди уже не помнил, что искал, — может, и ничего. Перед тем он выпил, девушка тоже была под хмельком, и они наткнулись (в буквальном смысле слова) на эту гостиницу.
При всей мрачности и неопределенности настоящего (которое, на его взгляд, могло только ухудшаться) былое представало все более ярким. Тедди видел перед собой грязное крыльцо той лондонской гостиницы, белый портик, узкую лестницу, ведущую на пятый этаж, в комнатушку под самой крышей. Он явственно помнил даже вкус пива, которым накачался в тот вечер. В подвале было бомбоубежище, но когда завыла сирена, они решили не спускаться, а вместо этого высунулись на холод из окна и под оглушительный грохот зенитной батареи, размещенной в Гайд-парке, следили за бомбежкой. Ему, необстрелянному летчику, предоставили отпуск после обучения в Канаде.
У девушки был жених, из флотских. Интересно, как сложилась ее судьба? И как сложилась судьба морячка?
Он вспомнил ее лишь однажды, над Маннгеймом, в мощных лучах прожекторов, охранявших Рур. Тогда ему представилось, как внизу, на вражеской территории, такие вот Айви, милые фрейлейн с неровными зубами, а также их женихи на подводных лодках и зенитных батареях, объединились против него.
— Пап? Папа? Что такое, в самом деле? Очнись, с тобой разговаривают.
Виола выкатила глаза, стараясь изобразить перед Энн Скофилд веселье и любовь сразу, хотя Тедди подозревал, что дочь не испытывает ни того ни другого. Настанет час — ты тоже состаришься, думал он. Слава богу, без него. И Берти, как это ни грустно, когда-нибудь превратится в старушку с ходунками и будет шаркать по унылым коридорам. «И заплачешь ты сильнее…» Кто это написал, не Хопкинс ли?{68} «…Маргрит, девочку, жалея». Эти строки, как ему помнилось, всегда бередили душу.
— Папа!
Наверное, он сам был виноват. Поскользнулся на черной заледенелой луже неподалеку от дома и сразу понял, что дело швах. Полусидя-полулежа на тротуаре, с удивлением услышал собственный вой: даже не верилось, что он способен издавать — и в самом деле издает — такие звуки. На войне он падал среди бушующего пламени; казалось, ничего хуже с тобой случиться не может. Но терпеть то, что произошло сейчас, не было сил.
Ему на помощь бросились прохожие — совершенно посторонние люди. Кто-то вызвал «скорую», а одна женщина, назвавшаяся медсестрой, накинула ему на плечи свое пальто. Присев рядом на корточки, она посчитала у него пульс, а потом стала гладить по спине, как младенца. «Не двигайтесь», — сказала она. «Не буду», — покорно ответил Тедди: в кои-то веки ему дали четкое указание. Медсестра держала его за руку до приезда «скорой». Казалось бы, такой простой жест, но Тедди преисполнился благодарности. «Спасибо», — прошептал он, когда его наконец погрузили на носилки. «Совершенно не за что», — ответила женщина. Тедди так и не узнал ее имени. А то непременно послал бы ей открытку или даже цветы.
У него был перелом бедра; требовалась операция. В больнице, невзирая на его протесты, потребовали известить «ближайших родственников». Тедди предпочел бы забиться в щель и на покое зализать раны, как лис или пес, но, очнувшись после анестезии, услышал бормотанье Виолы: «Это начало конца».
— Тебе скоро восемьдесят, — сказала она, включив свой менторский тон. — Хватит уже валять дурака.
— Я шел в ближайший магазин за молоком, — возразил Тедди. — Это не называется «валять дурака».
— Допустим. Но дальше будет только хуже. Я не смогу по любому поводу срываться с места.
Тедди вздохнул:
— Я тебя не просил срываться с места.
— А без твоей просьбы я, значит, сюда бы не примчалась? — с негодованием выговорила Виола. — Не пришла бы на помощь отцу, получившему травму?
После выписки он терпел ее присутствие три дня. Она сутками зудела, что забросила своих кошек, чтобы его выхаживать. Хотя «глаза бы не глядели на этот дом».
— Неужели ты сам не видишь, — говорила она, — как тут все запущено? Десятилетиями ни к чему руки не прикладывал. Все такое допотопное.
— Я и сам допотопный, — сказал Тедди. — Не вижу в этом ничего дурного.
— С тобой невозможно разговаривать. — Виола накручивала на палец прядь густо крашенных хной волос (неприятная привычка, о которой он успел забыть).
Позвонив Санни, Виола потребовала, чтобы он «выделил время для ухода за дедом». При одной мысли о Санни ее охватывала паника. Он уже совершил вялую попытку самоубийства. Но оказался слишком апатичным даже для того, чтобы себя убить. Или нет? А вдруг он попробует заново? Паника все сильнее сжимала ей сердце. До обморока. Санни она упустила и не представляла, как быть дальше.
От постоянного страха она сделалась бесчувственной.
— Тебе все равно некуда себя девать, — добавила она.
Но Санни был даже рад немного пожить в доме дедушки Теда. Только в этом месте ему и было хорошо.
Тедди спал на софе в гостиной, чтобы не подниматься по лестнице. Санни занял уютную спальню на втором этаже, которая в свое время послужила его матери, а потом Берти — на протяжении того года, когда она здесь жила. Естественно, Санни тоже ночевал в той спальне, но подолгу оставаться в этом доме не имел возможности: летом его силком тащили в Джордан-Мэнор. Он не знал, сколько еще выдержит.
Ему всегда нравилась эта комнатка в задней части дома. Здесь когда-то спала его сестра. По ночам он улучал момент, чтобы забежать к Берти. По большому счету сестра спасала его своим теплом и светом, но теперь она была далеко. В Оксфорде, в другом мире.
— Вот на кого мы возлагаем надежды! — говорила Виола подругам, тыча пальцем в Берти. Как будто видела в этом юмор.
В их обществе женщины считались «высшей кастой» («рыба на велосипеде» и всякая такая чушь). И Санни, по контрасту, был тому живым подтверждением.
Что ни вечер, когда Тедди уже отходил ко сну, сверху, из спальни внука, приплывал запах жженых тряпок. Марихуана, понимал Тедди, хотя мало в этом смыслил.
После того как Виола перебралась в Уитби, Санни остался в Лидсе. Сейчас он вместе с компанией одногодков, слишком зацикленных на себе, чтобы считаться друзьями, снимал запущенную, никем не контролируемую квартиру.
В колледже он недоучился («Теория коммуникации»: «Надо же, какая ирония судьбы», — говорила Виола) и теперь, похоже, слонялся без дела. Парень весь состоял из острых углов. У него, судя по всему, не было никаких навыков коммуникации, необходимых для решения самых простых, повседневных вопросов.
— На гитаре играю в одной команде! — прокричал он из кухни, разогревая прямо в жестянке консервированную фасоль на ужин себе и деду.
— Молодцом! — прокричал ему в ответ из гостиной Тедди; он мог бы поручиться, что фасоль пригорает.
Консервированная фасоль и макароны-«колечки» нередко служили им основным блюдом. И еще рыба с жареной картошкой. Делая над собой усилие, Санни тащился за этой едой в ближайший рыбный магазин. Но обычно он заказывал ужины в едальнях, разбросанных по всему городу, а точнее — по всему миру: в индийских, в китайских. С аппетитом поглощал пиццу. Тедди по неведению предположил, что их подкармливает Женская королевская добровольческая служба.
— Чего? — переспросил Санни.
— Шутка, — ответил Тедди.
Это чревоугодие обходилось ему недешево. («Голь на выдумки хитра», — звучал у него в мозгу материнский голос.) Парень совершенно не умел готовить. Из Виолы тоже стряпуха была никакая — только и умела соорудить густое варево из бурого риса и бобов. Обоих детей Виола воспитала вегетарианцами; Берти до сих пор придерживалась ее заповедей, а Санни мог сжевать все, что подвернется. Тедди решил, что научит его, если позволит здоровье, готовить какие-нибудь несложные блюда: чечевичную похлебку, жаркое, пропитанный мадерой кекс. Мальчишку нужно было просто направить в нужную сторону.
У Санни, как выяснилось, были временные водительские права. Тедди с трудом удержался, чтобы не выразить своего удивления: Виола постоянно твердила, что Санни лишен всяких способностей и устремлений.
— Что ж, — сказал ему Тедди, — моя машина в гараже скоро засахарится, давай-ка прокатимся. Только нужно сперва отыскать предупредительные знаки Виолы.
Виола всегда сопротивлялась обучению.
— Ты серьезно? — усомнился Санни. — Мама меня за руль не пускает. Говорит, что намерена умереть от старости.
Тедди не предполагал, что залезть на пассажирское сиденье — это примерно то же самое, что отправиться в ночной вылет над позициями врага, твердо вознамерившегося лишить тебя жизни, а потому сказал:
— Без практики водить не научишься, так что собирайся, поехали.
Кто-то же должен поверить в этого мальчишку, подумал Тедди. Они запихнули в багажник кресло-каталку, предоставленное на первое время Государственной службой здравоохранения, и отправились в поездку.
Конечным пунктом выбрали полюбившийся Тедди городок Харрогейт. Раньше — и до, и после войны — он наведывался туда довольно часто. Нашли стоянку в центре, припарковались, хотя и не сразу: Санни, похоже, не видел разницы между «вправо» и «влево», «вперед» и «назад». Впрочем, водил он неплохо: поначалу медленно, неуверенно, но вскоре осмелел, поняв, что дед, в отличие от Виолы, не будет орать на него за каждый промах.
— В этом деле главное — практика, — приободрил его Тедди.
Они прекрасно пообедали в ресторанчике «Беттиз», а потом направились в Вэлли-Гарденз. Тут и там из влажной земли проклевывались первые обнадеживающие ростки весны. Санни слишком резко толкал перед собой кресло-каталку, и у Тедди даже возникло желание поменяться с внуком местами, чтобы тот на своей заднице прочувствовал, до чего некомфортно подскакивать на кочках и ухабах, но в общем и целом прогулка доставляла ему большое удовольствие.
— Знаешь, что мне хотелось бы осмотреть до отъезда? — сказал он после (весьма крутого) разворота к центру города.
— Кладбище? — переспросил Санни.
Парень, как выяснилось, на кладбищах не бывал ни разу в жизни. На похороны отца он не пошел, а больше никто из близких пока не умер.
— Стоунфолл, — уточнил Тедди. — Находится в ведении Государственного комитета по воинским захоронениям. Там лежат в основном канадцы. Есть и австрияки, и новозеландцы, американцев тоже можно найти, равно как и бриттов.
— А, — сказал Санни.
Мало что могло его заинтересовать.
Территория мертвых. Ровные шеренги белых надгробных плит как жесткие подушки на зеленых постелях. Экипажи похоронены рядом: вместе были в этой жизни, вместе останутся и в следующей. Летчики, механики, штурманы, бортрадисты, стрелки, бомбардиры. Возраст: двадцать, двадцать один, девятнадцать… Ровесники Санни. Тедди знавал одного парня, который виртуозно подделал документы и к восемнадцати годам стал классным пилотом «галифакса». Погиб, не дожив до девятнадцати.
Смог бы Санни пройти этот путь? Путь любого из них? Слава богу, сейчас нужды в этом не было.
— Мальчишки, да и только, — сказал Тедди внуку.
Но выглядели они мужчинами и выполняли мужскую работу. Со временем они становились моложе, тогда как Санни взрослел. Каждый из них отдал свою жизнь, чтобы Санни жил дальше, — неужели это не понятно? По мнению Тедди, благодарности ждать не стоило. Самопожертвование по определению предполагает, что человек не получает, а отдает. «Самопожертвование, — вспомнилась ему фраза Сильви, — это такое слово, которое придает массовым убийствам оттенок благородства».
— Это не те экипажи, которые были сбиты над территорией противника, — объяснил он внуку. — Здесь лежат только лишь, — (только лишь!), — погибшие во время тренировочных полетов — более восьми тысяч человек. — («Начинается лекция по истории», — послышались ему вздохи Виолы.) — Не исключено также, что многие из этих парней разбились при посадке, когда возвращались на базу, или скончались в Харрогейтском госпитале от ранений, полученных в ходе вылета.
Но Санни легко шагал вдоль рядов покойных. Плечи приподняты, голова опущена — такое впечатление, будто он вообще не смотрит по сторонам. Или смотрит, да не хочет видеть.
— По крайней мере, у них есть могилы, а это, я считаю, уже кое-что.
Тедди по-прежнему разговаривал с Санни даже в тех случаях, когда тот, казалось бы, абстрагировался, но у внука был слух охотничьего пса, и Тедди всегда надеялся, что хотя бы часть сказанного отложится у Санни в голове — пусть без участия мыслительных процессов, а только за счет невольного впитывания.
— У более чем двадцати тысяч ребят из числа летного состава даже нет могил, — продолжал он. — В Раннимиде поставили мемориал.
Во имя тех, кому не досталось даже каменной подушки, тех, чьи имена были начертаны на воде, выжжены на земле, развеяны по воздуху. Имя им — легион.
Тедди посетил этот мемориал в пятьдесят третьем, вскоре после торжественного открытия, на котором присутствовала тогда еще молодая королева.
— Может, и я с тобой? — спросила тогда Нэнси. — Останемся на выходные. Побродим по Виндзору, съездим в Лондон.
Это не пикник, а паломничество, пытался втолковать ей Тедди. И уехал один; Нэнси распрощалась с ним очень сухо. По ее словам, он постоянно «отрезал» ее от своей войны, и ему виделась в этом определенная ирония: она-то со своей секретностью отрезала его от «ее войны» так, что дальше некуда, и во время их кратких встреч всячески убеждала его выкинуть боевые действия из головы, чтобы не омрачать свидание. Теперь он раскаивался. Ну почему было не провести выходные вдвоем?
— «Укрыты в алебастровых палатах»,{69} — сказал он внуку, когда тот вез его к машине.
— Чего? — не понял Санни.
— «Бесчувственны к утрам и бегу дней, спят кротко члены Воскресения — стропила, шелк и крыша из камней». Эмили Дикинсон. Как ни удивительно, познакомила меня с ней твоя мама. Стихи эти сочинила Эмили Дикинсон, — объяснил он, понимая, что Санни недоуменно перебирает в памяти маминых подруг. — Давно умерла. Американка, — добавил он. — Есть в ней нечто патологическое — тебе как раз должно понравиться. «Я слышала муху, когда умирала».
Санни встрепенулся.
— Надо немного пройтись, — сказал Тедди.
Подставив руку, Санни помог ему выбраться из кресла-каталки, и они медленно побрели вдоль шеренги покойных.
Ему хотелось поговорить о них с внуком. Как их предал этот коварный лис, Черчилль, который ни словом не обмолвился о них в своей речи по случаю Дня победы, как их не удостоили ни медалей, ни памятников, как Харрису вменили в вину политическую доктрину, разработанную другими, хотя, бог свидетель, он до последнего дня ретиво претворял ее в жизнь.{70} Да что толку? («Начинается лекция по истории».)
— А ты… это… — начал Санни, постукав носком ботинка о чье-то надгробье. Ботинки, устрашающего вида, неначищенные, были как будто позаимствованы у десантника. — Ты… типа… реально жесть видел?
— Жесть?
Санни пожал плечами:
— Мрак всякий. — Он снова пожал плечами. — Чернуху.
Тедди с трудом понимал, почему нынешнюю молодежь так привлекает всякий мрак. Вероятно, потому, что на долю молодых не выпало серьезных испытаний. Этих ребят воспитали вне теневых сторон жизни, вот их и тянуло создать свои собственные. Санни вчера признался, что ему «в кайф было бы родиться вампиром».
— Ужасы, — объяснил он, как будто Тедди мог не понять, что такое «мрак» и «чернуха».
Тедди вспомнил канадского летчика-инструктора, у которого плоть отделилась от костей, и прочий «мрак», подступивший впоследствии. Ну, в добрый час. Пропеллер, летящий в воздухе. Как звали ту девушку из Женской вспомогательной наземной службы ВВС? Хильда? Точно, Хильда. Рослая, пухленькая, круглолицая. Время от времени подбрасывала их на запасной аэродром. Подружка Стеллы. А Стелла была диспетчером: ее милый, протяжный голосок приветствовал обессиленные экипажи, которые возвращались с боевых заданий. Стелла ему нравилась; он даже думал за ней приударить, но не сложилось.
Хильда никогда не вешала носа. «Ну, в добрый час!» Он и нынче воочию представлял, как она желает им удачи. Вечно голодная. У кого после возвращения оставался недоеденный паек, тот отдавал его Хильде. Сэндвичи, сладкое — что угодно. Тедди усмехнулся. Странно, что запомнилась она именно этим.
— Дедуль?
Та история произошла перед самым концом, перед Нюрнбергом. Он находился на запасном аэродроме и обсуждал с бортмехаником свой тогдашний самолет, F-«фокс». Они наблюдали за снижением другого бомбардировщика, с большим запозданием возвращавшегося после ночной операции. Похоже, тот был подбит, и мягкой посадки ждать не приходилось. А Хильда преспокойно катила на велосипеде по дорожке вдоль периметра. Аэродром был огромным, там все разъезжали на велосипедах. Даже Тедди раздобыл себе какой-то старый костотряс, хотя по должности ему полагался служебный автомобиль. Что там делала Хильда, он так и не узнал. Подбитый самолет с ревом несся к посадочной полосе, но Хильда и бровью не вела. Завидев Тедди, она стала ему махать. Ей не суждено было увидеть, как отвалился пропеллер и от него отлетела лопасть, которая сейчас, кружась гигантским тополиным «носиком», стремительно падала на взлетную полосу: ни Тедди, ни его бортмеханик не успели даже подать девушке знак. Не успели даже крикнуть «Берегись!». Она ничего не заметила — спасибо и на этом, думал Тедди. Все произошло по чистой случайности: дело решали секунды и дюймы. «А все потому, что такая высоченная была», — заключил потом бортмеханик, реалист до мозга костей.
— Дедуль!
Обезглавлена. Голову аккуратно срезало лопастью. До него донесся пронзительный визг девчонки-наземницы, которого не мог заглушить даже чудовищный грохот покалеченного бомбардировщика, распахивающего посадочную полосу. При посадке погиб стрелок, а штурман умер еще в воздухе: его зацепило осколком где-то над Руром. Но тогда это отступило на второй план. Крича и обливаясь слезами, к Хильде бежали девушки-наземницы, но Тедди приказал им отойти, вернуться на свои посты и не высовываться, а сам зашагал вперед, чтобы подобрать голову. Не перепоручать же такое дело другим. У велосипеда все еще крутилось колесо.
Хильды не стало. И голова эта ничем не напоминала о пухленькой, веселой Хильде. На другой вечер он повез Стеллу в соседнюю эскадрилью на танцы; тем все и закончилось.
— Дедуль!
— Каких только ужасов не бывает на войне, Санни. Лучше не вспоминать. Мрачные мысли до добра не доводят.
— Кого-то ищешь? — догадался Санни.
— Ищу.
— А может, тут есть… ну типа… план?
— Может, и есть, — ответил Тедди. — Смотри-ка, я и так нашел.
Он остановился перед могильной плитой, на которой было выбито: «Бомбардир Кит Маршалл, старший сержант Королевских ВВС».
— Здоро́во, Кит.
— Странно: лежит отдельно от своего экипажа, — заметил Санни, который почему-то застеснялся этого разговора с покойником, хотя на кладбище, кроме них с дедом, никого не было.
— Верно. Мы — все остальные — уцелели. Он погиб, когда нас атаковали на обратном пути из Большого Города — так у нас называли Берлин. Иногда — немецкие — перехватчики затесывались в строй бомбардировщиков по пути на аэродром. Подлая уловка. Он был моим другом, самым близким.
— Еще кого-нибудь будем искать? — Санни выждал пару минут, героически сдерживая нетерпение.
— Пожалуй, нет, — ответил Тедди. — Я просто хотел подать Киту знак, что его помнят. — Улыбнувшись внуку, он распорядился: — К дому, Джеймс. Не щади лошадей.
— Чего?
Смеркалось. Санни признался:
— Никогда еще в темноте не ездил.
— Все когда-нибудь бывает в первый раз, — сказал Тедди.
Иногда, правда, первый раз оказывается последним. На обратном пути возникло два-три неприятных момента, но Тедди решил помалкивать, чтобы прибавить Санни уверенности.
Каково же было его удивление, когда внук спросил:
— А чем ты конкретно занимался? Летал на бомбардировщике? Пилотом был?
— Да, — ответил Тедди. — Я был пилотом тяжелого бомбардировщика «галифакс». Бомбардировщики назывались по городам Британии: «манчестер», «стирлинг», «веллингтон», «ланкастер», «галифакс». Вся слава, конечно, досталась «ланкастерам». У них и потолок был выше, и бомбовая нагрузка солиднее, но в конце войны, когда на «галифаксах» установили двигатели «бристоль», они, по сути дела, сравнялись с «ланкастерами». Мы любили свой старый «галик». Но после войны «ланкастеров» всячески чествовали, а нас задвинули в тень. Кстати, «галифакс» давал больше шансов остаться в живых, когда требовалось срочно выбираться. У «ланкастеров» был такой дурацкий центральный лонжерон, что…
Санни резко вильнул в сторону и пересек две полосы. К счастью, дорога была почти пустой. («Упс!») То ли внук что-то объезжал, то ли задремал за рулем, Тедди так и не понял, но опять же решил помалкивать. Из далекого прошлого до него донесся голос Нэнси: «Давай поговорим о чем-нибудь более интересном, чем техника бомбометания». Со вздохом он пробормотал себе под нос:
— Фермопилы.
— Чего?
Когда они наконец добрались до дому, Тедди сказал:
— А ты молодцом, Санни. Из тебя выйдет классный водитель.
Всегда лучше похвалить, чем отругать. Доехали — и ладно. Санни приготовил сэндвичи с беконом (на кулинарном фронте у него наблюдались заметные успехи), и дед с внуком поужинали перед телевизором, налив себе по бокалу пива, чтобы отметить благополучное возвращение. Впервые за несколько десятилетний Тедди потянуло курить, но он не поддался искушению. От усталости он заснул прямо на диване, не допив пива и не досмотрев «Вечеринку у Ноэла».
Когда Виола поступила в университет и уехала, ему, наверное, стоило перебраться за город. Недалеко, хотя бы в Хэмблдон-Хиллз. В небольшой домик (он с нежностью вспомнил «Мышкину Норку»). Но нет, он остался прозябать здесь: внутренний голос подсказывал, что нужно испить эту чашу. Вообще-то, он прикипел к Йорку, прикипел к своему саду. Обзавелся друзьями, вступил в пару клубов. Состоял в археологическом обществе, от которого даже ездил на раскопки. В туристическом клубе, в орнитологической группе. Обычно он предпочитал индивидуальные занятия; когда ты в команде, это накладывает определенные обязательства, но он не уклонялся от обязательств — кто-то же должен брать их на себя, чтобы мир не развалился на части. Работу в провинциальной газете он считал весьма необременительной, но сам удивился, как много у него образовалось свободного времени после ухода из редакции. Пожалуй, даже слишком много.
— А эти куда? — спросила Виола, указывая на шкаф, где стояли «Приключения Августа». — Как по-твоему, их возьмут в букинистический? Они безнадежно устарели. Кстати, на каждой — дарственная надпись с посвящением тебе; я считаю, это снижает их ценность. Впрочем, здесь полный комплект: может, кому-нибудь и сгодятся.
— Мне сгодятся, — сказал Тедди.
— Но ты всегда их терпеть не мог, — указала Виола. — И даже не открывал.
— Неправда, открывал.
— Да на них муха не сидела.
— Меня учили беречь книги, — сказал Тедди.
Тому же учили и Виолу, но она выросла неряхой. На книжных страницах у нее оставались пятна от еды и питья, от кошачьей рвоты и бог знает от чего еще. Она вечно роняла книжки в ванну или забывала под дождем. А в детстве метала их, точно снаряды, когда злилась. Тедди не раз получал в лоб переплетом Энид Блайтон. А «Тайна острова сокровищ» едва не сломала ему нос. Узнай он, что дочка до сих пор швыряется книгами, его бы это не удивило. Тедди считал, что в ней потому столько злости, что она росла без матери. Ну вот, опять тривиальный анализ. («Во мне потому столько злости, что я росла с матерью», — говорила Берти.) Сильви никогда всерьез не рассматривала теории травматических эпизодов детства. Люди таковы, какие они есть, говорила она: упакованы в готовом виде, остается только развернуть. У поколения его матери было поразительное качество: полное отсутствие чувства вины.
Сходив за следующей коробкой, Тедди принялся упаковывать томики «Августа». Много лет не снимал их с полки. Иззи завершила серию в пятьдесят восьмом году. Долгое время книжки распродавались ни шатко ни валко; после войны спрос и вовсе упал. Пик популярности «Августа» пришелся на промежуток между двумя войнами. Августус Эдвард Свифт, годы активной жизни: 1926–1939. Конечно, Иззи, которой не стало в семьдесят четвертом, намного пережила беднягу Августа. Но образ его до сих пор жил в сознании Тедди, время от времени поднимая голову. Не иначе как сейчас этот образ состарился, и его, брыкающегося и вопящего, с прилипшей к губе сигаретой, поволокли в социальное жилье. Брюки засалены, на подбородке щетина?
Тедди съездил навестить Иззи за несколько дней до ее кончины. Тетка была уже не в себе. От нее оставались одни воспоминания, но узнать ее — без яркой помады на жадных губах, без духов, без привычной аффектации — было сложно. Одно время она хотела его усыновить. Интересно, как сложилась бы в этом случае его жизнь — совсем иначе? Или примерно так же?
Авторское право на «Августа» она завещала Тедди. Дохода оно, считай, не приносило. Все остальное имущество, включавшее дом в Холланд-парке, отошло, согласно завещанию, «моей внучке» — неведомой женщине из Германии. «Во искупление» — так и было написано, черным по белому.
После похорон Иззи они вместе с Памелой и ее дочерью Сарой перерыли весь дом. Намучились. В шкатулке с украшениями, на самом дне, обнаружился французский орден «Croix de Guerre».[11] Такое не укладывалось в голове. Двойная тайна — немецкая внучка и французский орден — подвела черту под непостижимой натурой Иззи. Доживи Урсула до этого дня, она бы со своей детективной жилкой докопалась до истины в обеих историях. Но Тедди не проявил никакого энтузиазма (за что теперь себя ругал), а у Памелы вскоре стали проявляться ранние симптомы болезни Альцгеймера. Бедная Памми: она долгие годы влачила серое полусуществование. Вот так и вышло, что двойственность Иззи осталась тайной — сама она была бы этому только рада.
Тедди упаковал студийный фотопортрет работы Сесила Битона, сделанный на заре теткиного успеха.{71} Иззи выглядела на нем как кинозвезда: неестественная, с толстым слоем грима. «Зато гламурная», — сказала Берти. «Да, наверное», — кивнул Тедди. Этот портрет он отдал внучке, когда та впервые пришла к нему в «Фэннинг-Корт». «Но красавицей у нас в семье считалась моя мама», — сказал он. В день прощания тело Сильви покоилось в открытом гробу. Годы будто бы не коснулись ее лица, и Беа — кроме них двоих, на похоронах никого не было — даже сжала ему локоть, как на закрытом просмотре (что было недалеко от истины). С какой стати Беа? Куда подевалась Нэнси? Этого он уже не помнил. Беа, конечно, тоже умерла. Она была близка его сердцу, хотя, вероятно, не подозревала, до какой степени. Господи, одернул себя Тедди, хватит размышлять о покойных. Он упаковал портрет работы Битона вместе с Августами (или все-таки с Августусами?) и заклеил коробку скотчем.
— Это поедет со мной, — решительно сказал он Виоле.
— А Санни… где его носит? — спохватилась Виола.
Действительно, где?
В последнее время я не раз видел крупную лисицу, но в тот жаркий послеполуденный час она, конечно же, залегла, как и вся живность, где-то в тени. Репутация у лисы неважная. Ловкая воровка, зачастую слащавая, — такой она предстает в баснях и сказках, где ее имя становится символом низкой (а порой и высокой) хитрости. Она безнравственна, вероломна, порой откровенно злонамеренна. Христианское вероучение нередко приравнивает лису к Сатане. Во многих церквях по всей стране можно увидеть изображение лисицы, которая, нацепив рясу, читает проповедь гусям. (В кафедральном соборе города Или есть великолепная гравюра на дереве.) Лисица — изощренная разбойница, дьявольская, бессовестная хищница, а гуси — это стайка невинных…
Он поднялся на чердак, где, к его ужасу, обнаружился дополнительный склад коробок со всяким барахлом. В воздухе густо пахло затхлостью. Понятно, откуда шел этот дух: из одной коробки, набитой плесневелыми, ветхими листками бумаги с напечатанными через один интервал машинописными строчками. Местами просто белиберда — не иначе как поэзия, заключил Санни.
Как в заброшенном музее, на чердаке поселились пыль и ржавчина. Санни терпеть не мог музейную мертвечину, но его влекла сама идея коллекционирования: жуки и бабочки на лотках, образцы породы за стеклом. Да и книжки про Августа — хотя он нипочем не признал бы этого вслух — ему нравились, не столько содержанием, сколько единообразием обложек. На переплетах стояли номера: если расположить томики по порядку — от первого до сорок второго. В детстве он тащил в дом щебенку, галечник, зернышки гравия — любые камни. У него до сих пор иногда чесались руки поднять с земли камешек и сунуть в карман.
Каждый извлекаемый из коробки лист поднимал облачко тонкой, как серый тальк, пыли. Санни читал медленно, шевеля губами, словно на чужом языке.
В стойле, где укрылось на ночлег Святое семейство, теплился только робкий огонек, готовый вот-вот угаснуть. Малиновка, вместе с горсткой малых созданий, что собрались вместе и возрадовались приходу Мессии, увидела, как зябнет Младенец, опустилась подле огонька и замахала крылышками, чтобы раздуть пламя, да обожгла себе грудку. С той поры грудка у малиновки красная, в знак благодарности.
Такого добра там было пруд пруди. На каждом листке внизу читалось: «Агрестис». Что за муть?
И каждый раз — новая тема: «откапывая примулы», «желанное возвращение весны», «золотистое шествие нарциссов», «там выдра с выводком лоснятся от воды», «подснежник в белом облаченье». Боксирующие зайцы («у кельтов — посланники Эостре, богини весны»). Зайцы боксируют? — поразился Санни. На ринге, что ли?
Очередная затхлая шкатулка с пуговицами и старой мелочью. Обувная коробка с фотографиями. На них он почти никого не узнавал. Мелкие черно-белые фотки из допотопных времен — такими видел их Санни. После семидесятых годов — уже цветные. На пожелтевших квадратиках — он сам и Берти у дедушки Теда в саду. Наряженные в какую-то пестрятину, как клоуны. Спасибо тебе, Виола, с горечью подумал он. Неудивительно, что в детстве его задразнили. Вот они с Берти стоят перед клумбой, а между ними сидит Тинкер. У Санни слегка екнуло сердце. Когда дед в свое время сказал, что Тинкера усыпили, он разревелся. Эту фотографию Санни вытащил из коробки и сунул в карман.
В следующей шкатулке, маленькой, ржавой, оказались медали. Не иначе как дедовы воинские награды. И еще — маленькая золотая гусеница. Гусеница? Размякшая от старости карточка, на которой было написано: «Членский билет клуба „Гусеница“. Выдан ком. а/к Э. Б. Тодду».{72} Еще одна карточка, совершенно другого образца: членский билет клуба «Золотая рыбка» на имя «мл. л-нта Э. Б. Тодда».{73} Что за таинственные сокращения? Что за нелепые клубы, в которых состоял дед? На членском билете клуба «Золотая рыбка» с трудом читалась надпечатка: «Штатная аварийно-спасательная шлюпка. Февраль 1943».
Санни вспомнил, как они с дедом, когда тот повредил бедро, ездили в Харрогейт. Дедушке Теду он не признался, но поездка ему понравилась. Чего стоил образцовый порядок на тамошнем кладбище. В какой-то момент Санни пришлось даже оставить дедушку Теда в кресле-каталке и отойти, чтобы, чего доброго, не распустить нюни. Столько парней погибло — это вообще. Его ровесники, и все совершили нечто благородное, героическое. Повезло им. На их долю выпала история. Ему на такое рассчитывать не приходилось. Ну не подвернется ему шансов на благородство и героизм.
От этой мысли он разозлился. Вытряхнул из шкатулки медали и сунул в карман, где лежала стыренная фотка.
На самом деле интересная была штука война, все эти истории с бомбардировщиками. Надо бы раздобыть какую-нибудь книжку да почитать. Может, тогда удастся порасспросить дедушку Теда, не чувствуя себя полным придурком. А ведь дед — тоже герой, разве не так? Вот жизнь была у человека. Награды не просто так ему дали, а за что — Санни мог только гадать.
Неловко спустившись по стремянке с чердака, он опрокинул на пол какую-то коробку. Виола стала театрально изображать, как задыхается от пыли.
— Знаешь ведь, что у меня аллергия, — с раздражением бросила она.
— Наверху еще всего полно, — доложил Санни.
— Боже мой… — Виола повернулась к Тедди. — Какой же ты барахольщик, папа.
Пропустив это мимо ушей, Тедди обратился к внуку:
— Тебе, случайно, не попалась на глаза шкатулка с моими медалями?
— С медалями?
— Да, с боевыми наградами. Что-то я их давно не видел. Хочу побывать на встрече ветеранов ВВС — надо будет надеть.
Санни пожал плечами:
— Не-а.
— Мы можем как-то активизироваться? — вмешалась Виола.
— Все, что нужно, уже в фургоне, — сказала Виола. — Осталось только посмотреть — вдруг ты что-нибудь прошляпил.
— Что-то? — переспросил Тедди.
— Оглядись напоследок. Вдруг ты какую-нибудь мелочь прошляпил, — повторила Виола.
Разве что жизнь, подумал Тедди.
1951 Незримый миру червь{74}
Виола не сразу осчастливила своим появлением подмостки мира. Тедди и Нэнси после пяти лет супружества, не видя никаких признаков скорого прибавления в семействе, потеряли всякую надежду и уже подумывали об усыновлении. У вас скоро возраст выйдет, сказала им унылая сотрудница муниципального агентства по усыновлению, а младенцы нынче редкость (словно это был ходкий сезонный товар). На очередь вставать будем?
— Будем.
Подобной ретивости Тедди от жены не ожидал.
Унылая инспекторша, миссис Тейлор-Скотт, сидела за неказистым конторским столом. Тедди и Нэнси, примостившись перед ней на неудобных стульях, подверглись допросу с пристрастием. («Как нашкодившие школяры», — возмущалась потом Нэнси.)
— Если у вас нынче дефицит, — продолжила Нэнси, — мы и на цветного ребеночка согласны. — И, повернувшись к Тедди, уточнила: — Так ведь?
— Ну… да, — застигнутый врасплох, промямлил он.
Такую возможность они не рассматривали. Им даже в голову не приходило, что их ребенок, вообще говоря, не обязательно должен быть белым. Когда Тедди был на фронте, ему как-то перед вылетом прислали «подсадного» стрелка родом с Ямайки, черного как смоль. Имя его уже выветрилось из памяти, но было ему девятнадцать лет. Этакий живчик, вечно приплясывал, покуда его не снесло из задней стрелковой башенки при возвращении с Рура.
— В принципе я не возражаю, — произнес Тедди, — но только хорошо бы не зелененького.
Он и сам понимал: это жалкая потуга на юмор. Понятно, что будет с Сильви (надумай они скрыть от нее свои планы), когда на нее из колыбели посмотрит черное личико. Тедди рассмеялся, и миссис Тейлор-Скотт покосилась в его сторону, заподозрив неладное. Нэнси сжала ему руку — хотела поддержать. А может, предостеречь. Им не стоило показывать себя психически неуравновешенными.
— Жилищные условия? — продолжила миссис Тейлор-Скотт, делая своим корявым почерком неразборчивые записи в официальном бланке заявления.
«Мышкина Норка» уже осталась в прошлом. Они переехали на несколько миль дальше, вглубь долины, где сняли дом под названием «Эйсвик» на краю деревни. В округе имелась маленькая школа, паб, лавка, зал собраний и методистская часовня, но не было англиканской церкви.
— Все самое необходимое, — говорила Нэнси, — за исключением, пожалуй, этой часовни.
Полвека спустя паб преобразовали в «гастрономический паб»; школу вытеснила гончарная мастерская; в лавке разместилось кафе («Блюда домашней кухни. Готовим сами»); в зале собраний устроили выставку-продажу, где туристы покупали ткацкие наборы, календарики, «подставки для ложек» и сувениры с овечьей тематикой, а в методистской часовне попросту обосновалась какая-то семья. Уцелевшие дома теперь использовались как дачи. Туристы порой наезжали целыми автобусами, потому что в этой деревне снимался какой-то ностальгический телесериал из старинной жизни.
Тедди узнал об этом в девяносто девятом году, когда в сопровождении Берти приехал сюда «с прощальным визитом». Они обнаружили, что «Мышкину Норку» снесли подчистую, зато «Эйсвик» стоял, как прежде, и снаружи почти не изменился. Правда, его переименовали в «Фэйрвью» и приспособили под семейную гостиницу, которой управляла супружеская пара за пятьдесят, сбежавшая «от городской суеты».
Что-то их с Берти дернуло там заночевать. Тедди отвели комнату, где прежде была их с Нэнси спальня; он попросил другой номер — и получил какую-то живопырку, в которой только наутро распознал бывшую комнату Виолы; как же он сразу не догадался? Вот здесь вначале стояла колыбель, потом детская кроватка и в конце концов узкая односпальная кровать. Под руководством Нэнси он прибил к стенам выпиленные из фанеры фигурки: Джек и Джилл, колодец, ведерко.{75} (Нет, левее, а ведерко наклони, как будто оно падает.) У дочкиной кровати они поставили небольшой ночник в виде домика, из окон которого струился теплый свет. Тедди своими руками смастерил шкаф для детских книжек: там стояли «Ветер в ивах», «Таинственный сад»,{76} «Алиса в Стране чудес», а теперь сам Тедди оказался по другую сторону Зазеркалья и смотрел на обои в стиле «туаль де Жуи», на большую, дилетантски написанную картину с зимним видом долины, на прикроватную лампу с дешевым абажуром из белой бумаги. И путь на другую сторону был заказан ему навсегда.
Отапливался дом гораздо лучше, чем при них с Нэнси; правда, огорчало отсутствие георгианских настенных панно, которые, как полагал Тедди, пали жертвой шестидесятых, зато в каждой комнате появились живенькие полоски, цветочный орнамент, бледный ковер и «совмещенный санузел». «Эйсвик» преобразовали в нечто неузнаваемое — короче говоря, в «Фэйрвью», где ничего не осталось ни от Тедди, ни от его прошлого. Никто, кроме Тедди, не сохранит в памяти, как они с Нэнси жались у необъятной кухонной плиты, когда среди холмов носился ветер и свистел в комнатах, заглушая Беньямино Джильи и Марию Канилью в опере «Тоска», что лилась из драгоценного граммофона. Никто не сохранит в памяти, как черно-белый колли по кличке Мосс безмятежно спал на лоскутном коврике перед той же необъятной плитой, пока Тедди набрасывал в репортерском блокноте свои «Заметки натуралиста», а Нэнси, ни дать ни взять готовый лопнуть спелый стручок, вязала крошечные вещички для незнакомого еще малыша.
Всему этому, размышлял Тедди, суждено умереть вместе с ним; он намазывал маслом тосты в столовой, которая некогда была пыльной, запущенной гостиной в глубине дома, а нынче, надо признать, превратилась в милое помещение с тремя круглыми столами, каждый под белой скатертью и с букетиком цветов. Тедди спустился к завтраку раньше других постояльцев и успел до их прихода съесть щедрую порцию бекона, яичницы и сосисок (у него до сих пор сохранился «прекрасный аппетит», как говорила — почему-то недовольным тоном — Виола), а также добродушно побеседовать с хозяйкой гостиницы, не заикаясь, впрочем, о том, что когда-то он жил в этом доме. По мнению Тедди, это прозвучало бы некой странностью. Так что беседа текла бы вполне предсказуемо. Хозяйка удивлялась бы да приговаривала: «Должно быть, после вашего отъезда здесь многое изменилось», а он отвечал бы: «Конечно! Еще как!», но ни в одной фразе и намека не было бы ни на хрипловатое воркование грачей, что спешили вечерами к своим гнездам в рощице позади фермерского дома, ни на блейковское великолепие заката, полыхавшего над вершиной холма.
— «Эйсвик», — ответила Нэнси. — Это фермерский дом. — (Тут миссис Тейлор-Скотт вздернула бровь, будто порицала фермерские дома.) — Прямо в деревне, — поспешно уточнила Нэнси. — Хотя и на краю. Вполне благоустроенный и все такое прочее.
Им удалось взять в аренду «Эйсвик» только благодаря тому, что владелец-фермер отгрохал для себя современный кирпичный особняк («со всеми удобствами») и счел старый фермерский дом обузой, а потому был только рад передать с рук на руки арендаторам эту продуваемую насквозь постройку с каменными полами в коридорах и дребезжащими стеклами. «Уникальная атмосфера!» — восхищалась Нэнси, когда они подписали договор аренды.
Если «Мышкина Норка» была крошечной, то новое жилье оказалось необъятным, излишне просторным для двоих. Снаружи этот выщербленный непогодой дом из серого камня, построенный в середине восемнадцатого века, ничем особенным не отличался, но внутри хранил следы былой элегантности: широкие дубовые половицы, крашеная георгианская облицовка в гостиной, лепные карнизы, но самое главное — огромная фермерская кухня со старой плитой сливочного цвета, похожей, как говорила Нэнси, «на большого доброго зверя». Собственных предметов обстановки у них по-прежнему не было, если не считать принадлежавшего Нэнси пианино; рассчитывать, что какая-нибудь старушка-благодетельница оставит им свое имущество, тоже не приходилось, поэтому им оставалось лишь благодарить фермера и его жену за необъятный обеденный стол, рассчитанный на орду голодных батраков.
Для небольшой гостевой столовой нового дома жена фермера потребовала у мужа гладкий новомодный столик фирмы «Эркол». «Прелесть», — из вежливости сказала Нэнси, когда ее пригласили в гости. В благодарность она принесла цветы, а потом сидела за этим незатейливым столом из древесины вяза и пила шотландский кофейный напиток, разведенный на сухом молоке. В том, что касалось кофе, и Тедди, и Нэнси были довольно разборчивы. Из фирмы «Бордерс» в Йорке они выписывали кофе в зернах итальянской обжарки. Почтальона всегда поражал аромат, пробивавшийся сквозь бумажную упаковку. Мололи зерна всегда сами, пользуясь ручной мельничкой, намертво прикрученной к кухонному столу, а варили кофе в старом перколаторе, который Тедди еще до войны привез из Франции.
— У них в новом коттедже нет души, — поделилась с мужем Нэнси, вернувшись домой. — Атмосферы нет.
Пауков и мышей в нем тоже не было. Ни пыли, ни трещин на потолке, ни ползущих по стенам потеков сырости, от которых у их долгожданной дочери начинались неудержимые приступы кашля и зимний катар. К тому же новый хозяйский коттедж находился под прикрытием холма, тогда как «Эйсвик» был открыт всем гулявшим по долине жестоким ветрам. Можно было выйти на крыльцо и наблюдать, как на их дом, подобно вражьей силе, надвигается ненастье. Оно жило вместе с ними, оно показывало свой норов: «солнцу никак не пробиться», «по-моему, собирается дождик», «снегопад проходит стороной».
Была суббота; вернувшись из гостей, Нэнси застала мужа настроившимся на пасторальный лад.
В лесах нынче буйство наперстянки. Немецкий ботаник шестнадцатого века Леонарт Фукс дал этому скромному цветку латинское имя «дигиталис», что означает «пальчатый». Есть у этого растения и другие имена: «рюмочник», «ведьмины наперстки», «кровавые пальчики», «колокольчики фей», но «наперстянка» — самое распространенное. У нас в Йоркшире бытует местное название «лисьи перчатки», которое восходит к древнеанглийскому Foxes glofa. (Любопытное совпадение, не иначе: фамилия Фукс по-немецки означает «лиса».)
— Никогда не задумывалась, откуда такое название, — сказала Нэнси, которая, положив руки на плечи Тедди, стояла у него за спиной и читала заметки.
Из наперстянки производят лекарство, стимулирующее работу сердечно-сосудистой системы, однако в народной медицине это неприхотливое растение испокон веков применялось для лечения самых разнообразных недугов. Во время войны, как многие знают, и, возможно, на собственном опыте, повсеместно создавались пункты приема лечебных трав, ставившие своей целью заготовку наперстянки для производства лекарственного препарата «дигиталис» в условиях отсутствия импорта.
— От моей мамы набрался, — заметила Нэнси.
— Да, верно. Она руководила пунктом приема лекарственных трав.
— Твоя мама считает мою ведьмой, — добавила Нэнси. — Три века назад она бы приговорила мою маму к позорному стулу и утоплению.
В «Эйсвике» сад, считай, полностью зарос наперстянкой. Позаимствовав у фермера две косы, Тедди и Нэнси кое-как выкосили лужайку, а все прочее оставили на откуп природе. Среди такого великолепия пейзажа они не видели особого смысла разбивать цветники. И лишь после переезда в Йорк Тедди с удивлением обнаружил, какую радость может принести четверть акра пригородной земли.
Чмокнув мужа в макушку, Нэнси сказала:
— Пойду тетрадки проверять.
Она больше не преподавала в гимназии для умненьких девочек, а по велению совести перешла туда, где «на самом деле была нужна». Каждый день ездила на машине в Лидс, где возглавила преподавание математики в благодарной средней школе. Теперь Нэнси повсюду фигурировала под фамилией мужа, распрощавшись с «мисс Шоукросс» еще в гимназии. В новой школе, с большим количеством «социально незащищенных» детей, охотно брали на работу замужних женщин. Туда бы и безголовую лошадь взяли, говорила Нэнси, лишь бы закрыть брешь по части математики.
Сам Тедди медленно, но верно становился фактическим редактором «Краеведа» — по мере того, как Билл Моррисон все больше «самоустранялся». Для выполнения самых утомительных редакционных заданий, связанных с беготней по городу, Тедди нанял вчерашнего выпускника школы, но бо́льшую часть материалов по-прежнему писал сам.
В выходные дни, как они доложили миссис Тейлор-Скотт, у них была традиция совершать многочасовые прогулки по долине и холмам, чтобы, по выражению Агрестиса, «природу лицезреть в различных одеяньях» и набираться впечатлений для колонки натуралиста. Они держали собаку — милейшего черно-белого колли по кличке Мосс, который ежедневно сопровождал Тедди на работу. Вечерами Тедди и Нэнси решали кроссворды или зачитывали друг другу выдержки из «Манчестер гардиан». В доме была радиоточка, а ко всему прочему, они любили играть в криббедж и слушать граммофон — свадебный подарок Урсулы.
— Друзья, знакомые? — допрашивала женщина-инспектор.
— На самом деле у нас времени нет, — ответила Нэнси. — Мы работаем, а на досуге друг с другом общаемся.
— Устный экзамен на засыпку, — говорила потом Нэнси мужу. — Стоило мне упомянуть, что мы любим слушать оперу, как ее прямо передернуло, клянусь. А когда я сказала, что мы с тобой выросли в многодетных семьях, она, как пить дать, подумала, что нам с тобой передалась тяга к неуемному сексу или, еще того хуже, к католической вере. К тому же я никак не могла понять, что для нас выгоднее: широкий круг знакомых или двое-трое друзей. Подозреваю, что здесь я оплошала. А Мосса вообще не нужно было упоминать: эта мадам собак не любит. И про «Гардиан» зря сказали: она определенно предпочитает «Миррор».
— В церковь ходите? — Миссис Тейлор-Скотт буравила взглядом Тедди, словно хотела вытянуть из него постыдную тайну.
— В англиканскую, каждое воскресенье, — поспешила ответить Нэнси.
Еще одно быстрое пожатие руки.
— Викарий даст вам рекомендацию?
— Естественно. — («Я не уклонилась от ответа». Нет, просто солгала, подумал Тедди).
— Мы можем заделаться методистами — будем наведываться в местную часовню, — сказала потом Нэнси. — Миссис Тейлор-Скотт, я уверена, с пиететом относится к доктрине Уэсли{77} — он же ратовал за примерное поведение.
«Не дай мне Боже дожить до того срока, когда я не смогу приносить пользу!» — эти слова Тедди процитировал на похоронах Урсулы, о чем впоследствии пожалел, так как это прозвучало чванством, тем более что сестра умерла в шестьдесят шестом, когда полезность была не в чести. За годы войны Урсула избавилась от каких бы то ни было религиозных убеждений, но восхищалась методистской сдержанностью и стойкостью.
Тедди взял на себя все приготовления к похоронам Урсулы, а потом не один месяц ждал, что она ему напишет и расскажет, как все прошло. («Дорогой мой Тедди, надеюсь, это письмо найдет тебя в добром здравии».)
— Что с тобой, дедушка? — Спустившись к завтраку в гостинице «Фэйрвью», Берти наклонилась поцеловать его в щеку. — Воспоминания замучили?
Он погладил ее по руке:
— Вовсе нет.
Сегодня они хотели осмотреть места его воинской службы — близлежащие аэродромы. Нынче — промышленные зоны или загородные торговые комплексы. Кое-где выросли жилые кварталы, на одном летном поле стояла тюрьма, но то место, откуда он отправился в первые свои боевые вылеты, еще пустовало, как и подсказывало мрачное воображение, рисовавшее призрачные фундаменты бытовых корпусов, след кольцевой дороги, очертания свалки боеприпасов и слепые глазницы командно-диспетчерского пункта, от которого осталась лишь пустая оболочка с проржавевшими рамами и бетонным крошевом. Внутри все заполонили травы: кипрей, крапива, конский щавель, но уцелела часть щита оперативного управления и прибитая к стене выцветшая, рваная карта Западной Европы, давно неактуальная.
— «Пройдет и это», — сказал Тедди, обернувшись к Берти, а та ответила:
— Не надо. А то мы разревемся. Давай-ка посмотрим, где здесь можно выпить по чашке чая.
Они нашли паб под названием «Черный лебедь», где заказали чай с лепешками, и только при оплате счета Тедди вспомнил, что был здесь, когда впервые пошел гульнуть с ребятами; этот паб они между собой прозвали «Грязная утка» и впоследствии не раз заваливались сюда всем экипажем.
— Как по-твоему, мы выдержали испытание у миссис Тейлор-Скотт? — нахмурилась Нэнси.
— Не знаю. Она старалась держать карты ближе к орденам.
Но до подбора малыша какого бы то ни было цвета дело не дошло: Нэнси, спустившись к завтраку, сказала:
— Меня, кажется, посетил ангел.
— Что, прости?
Тедди поджаривал тосты; занятый мыслями об Агрестисе, он даже не подумал о Благовещении. Вчера на лугу он видел, как боксируют зайцы, и теперь придумывал какую-нибудь фразу, способную передать удовольствие от этой сценки.
— Ангел? — переспросил он, с усилием отвлекаясь от Lepus europaeus («у кельтов — посланники Эостре, богини весны»).
Нэнси блаженно улыбнулась.
— У тебя тосты подгорают, — сказала она. А потом: — Благословенна я между женами.{78} Кажется, у меня будет ребенок. У нас. У нас, любимый мой, будет ребенок. Забилось новое сердечко. У меня внутри. Чудо.
Хотя Нэнси много лет назад отвергла христианство, Тедди порой замечал в ней что-то возвышенное, religieuse.[12]
Тяжелейшие роды длились двое суток; в какой-то момент, ближе к концу, врач отозвал Тедди в сторону и предупредил, что, возможно, сейчас встанет вопрос, кому спасать жизнь: матери или ребенку.
— Нэнси, — без колебаний потребовал Тедди. — Спасайте мою жену.
Тедди оказался неподготовленным. С окончанием войны полагалось выходить из долины смертной тени к солнечным нагорьям.{79} Он утратил боевой дух.
— Тебя просили сделать выбор, — сказала Нэнси, когда и мать, и дитя благополучно оклемались. («Кто, интересно знать, ей сказал?» — подумал он.)
Бледная от потери крови, с сухими, растрескавшимися губами и мокрыми от пота волосами, Нэнси лежала в постели. На взгляд Тедди, она была прекрасна: великомученица, не сгоревшая в пламени. Младенец у нее на руках оставался странно безучастным к их общим испытаниям.
— А я бы сделала выбор в пользу ребенка. Надеюсь, ты это понимаешь? — выговорила Нэнси, бережно целуя в лобик новорожденную кроху. — Если бы у меня спросили, кого спасать, тебя или ребенка, я бы выбрала ребенка.
— Понимаю, — ответил Тедди. — Мною двигал эгоизм. А ты подчинилась материнскому долгу (отцовский долг, видимо, был не в счет).
Спустя годы Тедди спрашивал себя: не прознала ли, часом, Виола, что он, по крайней мере в теории, ничтоже сумняшеся вынес ей смертный приговор? Когда у его жены во время беременности спрашивали, кого она больше хочет, мальчика или девочку, Нэнси всякий раз со смехом отвечала: «Мне лишь бы ребеночка», но когда на свет появилась Виола и стало ясно, что детей у них больше не будет, Нэнси сказала: «Хорошо, что у нас девочка. Мальчик вырастет, уйдет — и будет отрезанный ломоть: его заберет другая женщина. А девочку никто не отнимет у матери».
Вы больше не сможете иметь детей, сказал врач. Родители Нэнси вырастили пятерых, как и родители Тедди. Странно было слышать, что их самих обрекают на эту единичность — лежащую в коконе колыбели бочонкообразную куколку. Из конфет и пирожных. (Точнее, как потом выяснилось, из жгучих специй.) Имя выбрали заблаговременно: если будет девочка, то Виола. С мыслью о своих четырех сестрах Нэнси представляла себе дочерей: в списке имен значились еще Розалинда, Елена и, как вариант, Порция или Миранда. Все до единой — находчивые создания. «Трагедий нам не нужно, — приговаривала Нэнси. — Никаких Офелий, никаких Джульетт. И одного сыночка, для Тедди, а имя ему будет Хью». Но мальчику не суждено было появиться на свет.
Имена, само собой разумеется, черпались из Шекспира. Шел пятьдесят второй год, и они еще не до конца уяснили, что означает «быть англичанами». На помощь им приходила новая молодая королева, возрожденная Глориана.{80} На своем драгоценном граммофоне они слушали британские народные песни в исполнении Кэтлин Ферье. Более того, они даже съездили в Манчестер на ее концерт, когда она выступала с гастрольным оркестром «Халле» на открытии восстановленного Дома свободной торговли. В сороковом году он был разбомблен; Нэнси сказала: сороковой год, сколько воды утекло с тех пор. «Надо же, какие мы патриоты», — говорила она, смахивая слезу, когда публика устроила овацию торжественному маршу Элгара «Земля надежды и славы». На следующий год, когда безвременно ушла из жизни Кэтлин Ферье, Билл Моррисон сказал: «Девица-краса», как принято на севере, хотя родилась она по другую сторону Пеннинских гор, и сам написал некролог для «Краеведа».
Нэнси с самого начала боготворила Виолу. Сoup de foudre,[13] говорила она. Более сильная и более оглушительная, чем любая романтическая любовь. Мать с дочерью были друг для дружки особыми мирами, полноценными и нерушимыми. Тедди понимал, что сам он не смог бы столь беззаветно отдавать себя другому человеку. Жену и дочь он любил. Это была скорее сильная привязанность, нежели беспредельная одержимость, но тем не менее он бы мог, если придется, без колебаний отдать свою жизнь за любую из них двоих. Знал он и то, что больше не испытает стремления к чему-то другому, запредельному, к горячим ломтикам цвета, к накалу войны, к любовным похождениям. Теперь они остались позади, теперь у него были другие обязательства, не перед самим собой, не перед страной, а перед этим небольшим узелком — семьей.
А что влекло к нему Нэнси — просто любовь? Или нечто более горячечное? Вероятно, их разделенный опыт: каждый побывал между жизнью и смертью. Его знания о материнстве основывались, конечно, на Сильви. Когда он был ребенком (видимо, на протяжении всей своей жизни), мать любила его беззаветно, но никогда не ставила свое счастье в зависимость от него. (Или ставила?) Конечно, свою мать он никогда не понимал и думал, что никто ее так и не понял, даже его отец.
Нэнси, беззаботная атеистка, решила, что Виолу нужно крестить.
— По-моему, это называется лицемерием, — сказала Сильви сыну, когда Нэнси рядом не было (многие их разговоры велись именно в такой ситуации).
— Обычное дело, — ответил Тедди. — Ты до сих пор ходишь в церковь, но мне известно, что веры у тебя нет.
— Ты образцовый муж, — сказала ему впоследствии Нэнси. — Всегда принимаешь сторону жены, а не матери.
— Я принимаю сторону разума, — ответил Тедди. — Просто выходит так, что на этой стороне чаще оказываешься ты, нежели моя мама.
— Я рисковать не собираюсь, — обратилась Нэнси к Сильви на крестинах. — Хочу подстраховаться, на манер Паскаля.{81}
При упоминании французского математика и философа Сильви не смягчилась. Угораздило же Тедди жениться на образованной, подумала она.
Крестить Виолу поехали «домой».
— Почему мы до сих пор так говорим, если у нас есть свой собственный, замечательный дом? — удивлялась Нэнси.
— Сам не знаю, — отвечал Тедди, хотя понимал, что в глубине души всегда будет считать своим домом Лисью Поляну.
Крестные матери, тетушки Беа и Урсула, объявили о своей готовности отречься от Сатаны и соединиться со Христом, а после отметили знаменательное событие в «Галках» сливочным хересом и кексом с орехами и изюмом. Сильви, разумеется, была крайне недовольна, что застолье организовали не в Лисьей Поляне.
В знак благополучного вхождения Виолы в этот мир Тедди подарил жене колечко с небольшим бриллиантом.
— Считай, что это кольцо невесты, которого я не подарил тебе при помолвке, — сказал он.
Виола росла: куколка набирала жирок, но не спешила превращаться в бабочку. Отдав дочку в деревенскую начальную школу, Нэнси вернулась к работе: она устроилась на полставки в близлежащую школу-пансион под эгидой Англиканской церкви. Учились там девочки, которые в одиннадцать лет не сумели сдать экзамен для поступления в гимназию и были определены в дорогое частное учебное заведение, поскольку их родители рассматривали простую общеобразовательную школу как позор для семьи и хотели сохранить лицо.
Когда фермер предложил купить у него «Эйсвик», они обратились в банк за ипотечным кредитом. Казалось, жизнь всегда будет идти своим чередом; Тедди не страдал излишними амбициями, а Нэнси вроде бы всем была довольна — вплоть до лета шестидесятого года (Виоле как раз исполнилось восемь), когда ей пришло в голову сорвать семью с места.
Жить в деревне очень хорошо, сказала она, но Виоле вскоре потребуется нечто большее: приличная средняя школа, до которой будет менее часа езды на автобусе, подруги, круг общения — все это недосягаемо, если живешь «в глухомани». К тому же фермерский дом для них чересчур велик, уборку делать тяжело, отапливать дорого, сантехника — с допотопных времен. И так далее.
— Сдается мне, в допотопные времена о сантехнике не помышляли, — сказал Тедди. — Я считал, что ты любишь этот дом за его атмосферу.
— Атмосферы у нас перебор.
Эта засада оказалась полной неожиданностью. Сидя в постели, они оба мирно читали библиотечные книги; день выдался довольно утомительным, по крайней мере для Тедди, которому «Краевед» поручил осещать местную сельскохозяйственную выставку. Отыскать на ней ухоженных овец и затейливые овощные композиции, способные хоть кого-то заинтересовать, оказалось непросто. Тедди пришел в отчаяние, когда его чуть ли не силком затащили в шатер Женского института и вынудили судить конкурс бисквитов (с таким же успехом он мог бы выступить шутейным арбитром на конкурсе красоты). «Легкий как перышко», — провозгласил он, объявляя победившее кондитерское изделие и радуясь, что отделался затертым клише.
Тогда как раз начались школьные каникулы, и Нэнси собиралась к окулисту проверить зрение, а поскольку погода стояла отличная, Тедди предложил, что возьмет Виолу с собой на сельскохозяйственную выставку. Виола, естественно, не переваривала домашних животных. Коров и свиней она боялась и даже на овец смотрела с опаской; когда вблизи оказывался гусь, у нее вырывался оглушительный визг (в раннем детстве с ней произошла неприятная история).
— Но там будет много чего другого, — с надеждой пообещал Тедди, и правда: о цветочных рядах Виола сказала «красиво» и стала — несмотря на отцовские предостережения — совать нос то в одну вазу с душистым горошком, то в другую, что вызвало у нее приступ аллергии.
Про состязания пастушьих собак она сказала «скучища» (Тедди поневоле согласился), зато аттракцион для юных фермеров «сбей кокос» привел ее в восторг, и она потратила там уйму денег, почти ничего не выгадав, потому что бросала шары сумбурно и не целясь. В конце концов Тедди пришлось вмешаться: сделав несколько метких бросков, он получил приз — золотую рыбку, чтобы дочка пришла домой не с пустыми руками. На выставке даже показывали дрессированных пони; несмотря на многократно заявленное отвращение к лошадям, Виола с удовольствием посмотрела это представление и восторженно хлопала, когда животные преодолевали невысокие барьеры.
В шатре Женского института Виолу встретили как общую любимицу: активистки, хорошо знавшие Тедди, стали пичкать ее бисквитами. И ее отца тоже. Виола напоминала их желтого лабрадора Бобби: оба могли есть, сколько дают. И Бобби, и Виола были чуть раскормлены. «Щенячья пухлость», — говорила Нэнси. Видимо, это относилось в первую очередь к Виоле: Бобби давно вышел из щенячьего возраста. Их прекрасный колли по кличке Мосс умер незадолго до рождения Виолы, и родители сочли, что добродушный Бобби станет ей безропотным и верным другом детства.
На исходе дня Виола раскапризничалась от жары и усталости. Из этого вкупе с бисквитами и неимоверным количеством выпитой апельсиновой шипучки образовалась взрывная смесь, и на обратном пути Тедди дважды останавливал машину, чтобы Виола могла извергнуть содержимое желудка на травяную обочину.
— Бедная моя. — Он попытался ее приобнять, но она выскользнула из-под его руки.
Тедди надеялся, что у него с Виолой сложатся такие же отношения, какие были у майора Шоукросса с пятью его дочерьми; ну, быть может, чуть более сдержанные — как у его собственного отца Хью с Памелой и Урсулой, однако в сердце Виолы места для него не осталось: там царствовала Нэнси. А после своей смерти Нэнси захватила сердце дочери целиком и полностью. Виола возненавидела тот мир, который отнял у нее мать и оставил только жалкую замену — отца.
На подъезде к дому Виола заснула, предоставив Тедди одному беспокоиться о золотой рыбке (которой она успела дать имя Голди), томившейся в удушливом полиэтиленовом плену.
— Хочу пони, — с порога заявила Виола матери, а когда Тедди резонно возразил: «Ты же не любишь лошадей», дочь разревелась и стала ему кричать, что пони — это не лошади. С этим он решил не спорить.
— Она переутомилась, — сказала Нэнси, когда Виола в истерике (явно наигранной) бросилась на диван. — И куда только подевался хваленый стоицизм Тоддов? — шепотом вопрошала Нэнси.
«Чувствительная» — так она теперь говорила об их не в меру изнеженной дочери. «Избалованная», — сказала бы Сильви.
Тедди спас золотую рыбку, которую Виола чуть не раздавила своей «щенячьей пухлостью».
— Все будет хорошо, родная моя, — обратилась Нэнси к Виоле. — Пойдем-ка поищем маленькую шоколадку — она тебя утешит, согласна?
Виола была согласна и вскоре утешилась.
Тедди отнес золотую рыбку на кухню, где выпустил ее из полиэтиленового пакета в таз с водопроводной водой.
— Разве это жизнь, Голди? — сказал ей Тедди.
Он был членом клуба «Золотая рыбка», но редко об этом вспоминал. Где-то завалялась небольшая матерчатая эмблема — крылатая рыбка, символ его приводнения в Северное море. Произошло это на первом сроке его службы, и Тедди порой задумывался, нельзя ли было хоть как-то дотянуть последние мили до суши, а не топить свой «галифакс». Кошмарная была история. «Ну, в добрый час».
Он напомнил себе, что завтра нужно будет зайти в зоомагазин и купить для Голди аквариум, чтобы пленница доживала свои дни, кружа вдоль стенок. Можно было, конечно, приобрести для нее компаньонку, но это означало бы лишь удвоение страданий.
Той ночью, лежа в постели, Тедди почувствовал, что близится час расплаты за съеденные бисквиты, комом застрявшие где-то под ребрами.
— Бедняга, — сказала Нэнси. — Принести тебе магнезию?
Тем же самым тоном, как заметил Тедди, она снимала боль и расстройство Виолы («поищем маленькую шоколадку»). От слабительного он отказался и вернулся к чтению. В библиотеке он взял «Рожденную свободной»,{82} а Нэнси — «Колокол» Айрис Мердок. Тедди задался вопросом: не сообщает ли кое-что о каждом из них такой выбор?
Сосредоточиться не удавалось; он захлопнул книгу более резко, чем собирался.
— Значит, ты настаиваешь на переезде?
— Да, можно и так сказать.
После рождения Виолы они с энтузиазмом планировали для дочки здоровое буколическое детство: как она будет лазить по деревьям, прыгать через канавы, бродить с собакой по окрестностям. («Иногда ребенка следует оставлять без присмотра, — говорила Нэнси. — Согласись: нам с тобой это в свое время пошло на пользу».) Виола, как выяснилось с течением времени, не уродилась деревенским ребенком. Она могла весь день добровольно просидеть в четырех стенах — читала книжки, крутила пластинки (Клифф Ричард, братья Эверли) на купленном для нее портативном проигрывателе в компании Бобби, лениво развалившегося на ковре у ее ног. Собака с девочкой давно пришли к соглашению, что носиться и прыгать им не к лицу. Видимо, Нэнси была права. Виоле лучше было бы жить где-нибудь на городской окраине.
Да и вообще перемены, надо думать, будут полезны всем, продолжала Нэнси. Тедди не искал перемен; его самого вполне устраивала жизнь «в глухомани», и жену, как ему раньше казалось, тоже.
— Полезны всем? — переспросил он. — Для чего же?
— Для стимула. Для разнообразия. Кафе, театры, кино, магазины. Люди. Сколько можно довольствоваться пришествием весенних первоцветов и пеньем жаворонка?
(Разве она этим не довольствовалась? «Оскорбленная супруга»,{83} как в комедии периода Реставрации, подумал Тедди. Причем не самой лучшей. Он невольно вспомнил мать.)
— Раньше тебя вполне устраивало «пришествие первоцветов», как ты изволила выразиться.
Ему как раз нравилось это выражение, более образное, чем хотелось бы Нэнси, и он мысленно отложил его впрок для колонки Агрестиса. С годами это второе «я» приобрело у него в уме определенные контуры и характер: закоренелый селянин, ходит в кепке, покуривает трубку, не витает в облаках, но в то же время внимателен к причудам матушки-природы. Порой Тедди даже чувствовал, что не выдерживает сравнения со своим крепким двойником.
Было время, когда замеченное птичье гнездо или, к слову сказать, цветение первых подснежников и в самом деле радовало его оскорбленную супругу.
— Все мы меняемся, — сказала Нэнси.
— Я — нет, — возразил Тедди.
— Вот именно: ты — нет.
— Мы сейчас ругаемся?
— Нет, что ты! — рассмеялась Нэнси. — Просто нам с тобой уже за сорок, движемся по накатанной колее…
— По накатанной колее?
— Не в обиду тебе будь сказано. Я хочу сказать, что нам, видимо, полезно будет немного встряхнуться. Ты же не хочешь, чтобы жизнь прошла мимо, правда?
— Мне казалось, нужно в первую очередь думать, что будет полезно для Виолы, а не для нас.
— Я же не предлагаю уехать в другую часть света, — сказала Нэнси. — Но хотя бы в Йорк.
— В Йорк?
Нэнси выбралась из постели со словами:
— Нет, все-таки принесу тебе магнезию. Объелся бисквитами и теперь ворчишь. Так тебе и надо: будешь знать, как любезничать с дамочками на выставке.
Обходя кровать с его стороны, она любовно взъерошила ему волосы, как ребенку, и сказала:
— Я всего лишь предлагаю это обдумать, а не бросаться выполнять.
Тедди пригладил волосы и уставился в потолок. «По накатанной колее», повторил он про себя. Нэнси вышла из ванной, взбалтывая содержимое голубого флакона. Тедди подумал, что сейчас его будут пичкать лекарством с ложечки, но вместо этого жена протянула ему флакон, говоря:
— Выпей, хорошо помогает.
Она улеглась и вернулась к чтению, как будто тема жизненных перемен была решена к обоюдному удовлетворению и закрыта.
Глотнув белой известковой жидкости, Тедди выключил прикроватную лампу. Как нередко бывало, сразу заснуть не удалось, и мысли сами собой обратились к Агрестису, работавшему над колонкой о водяных полевках.
Этого очаровательного зверька (Arvicola terrestris) из отряда грызунов (Rodentia) зачастую ошибочно называют водяной крысой. Кто ж не знает Дядюшку Рэта из повести Кеннета Грэма «Ветер в ивах»! На самом деле это европейская водяная полевка. Век этих зверьков короток: они выполняют свое земное предназначение в считаные месяцы, но в неволе, как ни странно, живут намного дольше. Водяных полевок насчитывается около восьми миллионов, обитают они, подобно Дядюшке Рэту, в норах по берегам рек, каналов, ручьев и других водных артерий…
Незадолго до своего переселения из «Фэннинг-Корта» в стационар домашнего ухода «Тополиный холм» Тедди, которому было далеко за девяносто (жизнь в неволе, как ни странно, продлила его дни), при помощи лупы прочел статью в газете «Телеграф». Там говорилось, что в Британии численность водяных полевок сократилась до четверти миллиона. Он даже рассердился и гневно высказался на эту тему за еженедельным утренним кофе, чем вызвал раздражение собеседников. «Их уничтожают норки, которые сбегают с ферм. Пожирают».
Две-три престарелые матроны, сидевшие тут же, в общей комнате отдыха, мрачно запахнули норковые манто, сберегаемые в пропахших нафталином пластмассовых шкафчиках «Фэннинг-Корта», и не выразили никакого сочувствия к безвинным водяным полевкам.
— А вдобавок, — не унимался Тедди, — мы уничтожили их естественную среду обитания — человек в этом весьма преуспел.
И так далее. Если бы обитатели «Фэннинг-Корта» проявили внимание (а многие демонстративно отвернулись), к концу этой лекции они получили бы исчерпывающие сведения о водяных полевках (а заодно и о таком животрепещущем предмете, как глобальное потепление).
За растворимым кофе с шоколадным печеньем крестовый поход Тедди в защиту мелких, неприметных млекопитающих не получил должного отклика. (Равно как и его нежность к простым ежикам и зайцам-русакам, «а когда вам в последний раз доводилось слышать кукушку?») «Тоже мне, юный натуралист», — процедил один из слушателей, бывший адвокат.
— Папа, что за дела, — приструнила его Виола, — ты здесь уже всех достал.
Не иначе как Толстый Диспетчер, Энн Скофилд, попросила Виолу «переговорить» с отцом о его «нервозной» манере поведения.
— Но мы за тридцать лет потеряли около девяноста процентов популяции этих млекопитающих, — указал он дочери. — Тут кто угодно занервничает. А представь, как чувствуют себя водяные полевки.
(«„Не знаешь, что у тебя есть, пока не потеряешь“, — сказала Берти. — Как говорится». Тедди никогда не слышал этой песни, но понял ее настрой.)
— Не глупи, — оборвала его Виола. — Я считаю, ты уже староват людей агитировать. — (Какая-то живность посмела вторгнуться в суровую дарвиновскую вселенную его дочери.) — Далась тебе эта экология. В твоем возрасте нервничать вредно.
Экология? — переспросил про себя Тедди. А вслух сказал:
— Природа. У нас говорили «природа».
В пору этого «мимолетного посещения» «Фэннинг-Корта» Виола уже договаривалась о переводе отца в стационар домашнего ухода и захватила с собой пачку рекламных листков. Пару дней назад Тедди упал, но почти не ушибся: просто ноги подогнулись, и он осел на пол, как сложенная гармошка.
— Жопа перевесила, — ворчливо сказал он подошедшей к нему Энн Скофилд (да, он оказался возле одного из красных шнуров, да, дернул).
— Кто это у нас так выражается? — упрекнула она его, словно хулиганистого мальчишку, хотя не далее как вчера он сам слышал, как смотрительница, не заметив его в прачечной, обратилась к упрямой дверце стиральной машины со словами: «Да открывайся же ты, засранка поганая!» Произнесенная с бирмингемским акцентом, ее брань почему-то прозвучала на редкость похабно.
С минимальной помощью Толстого Диспетчера («Это нарушение правил безопасности. Я обязана вызвать санитаров») он сумел встать на колени, а потом перебрался на диван и в целом не пострадал, если не считать пары синяков, но для Виолы это происшествие стало «неоспоримым доказательством», что отец «не способен себя обслуживать». В свое время она выдернула его из дому и отправила в «Фэннинг-Корт». А теперь пыталась запихнуть в какой-то «Тополиный холм». Тедди понимал, что она не успокоится, пока не вгонит его в гроб.
Дочь разложила веером принесенные листки, со значением поместив сверху рекламу «Тополиного холма», и сказала:
— Хотя бы посмотри.
Тедди окинул их беглым взглядом: фотографии счастливых, улыбающихся людей с пышными седыми шевелюрами — в жизни не подумаешь, вставил он, что кто-то из них трахнулся мозгами и ходит под себя.
— Как ты стал выражаться, просто кошмар, — чопорно заметила Виола. — Что с тобой происходит?
— Чую скорый конец, — ответил он. — Бунтарский дух проснулся.
— Не глупи. — В тот день она, по его наблюдениям, была одета с шиком. — Ладно, мне еще в другое место нужно успеть.
— В другое место?
Скрытная натура, Виола терпеть не могла объяснять. Как-то раз — дочь была еще подростком — Тедди столкнулся с ней на тротуаре: с компанией друзей Виола шла вдоль по улице и смотрела прямо сквозь него. Сын по имени Хью никогда бы так не поступил.
— В другое место? — повторил он, стараясь при помощи сарказма вытянуть из нее подробности.
— По одному из моих романов снимают кино. Меня боссы ждут.
Нарочито небрежный тон, каким она произнесла «кино» и «боссы», показывал, что она хочет изобразить равнодушие, но у нее это плохо получается. Второй ее роман, «Дети Адама», уже был экранизирован. Фильм получился слабый — британский. Виола приносила отцу DVD. Собственно, и книжка была далеко не шедевром. Но не мог же он сказать об этом вслух. «Очень хорошо», — сообщил он дочери.
— «Очень хорошо» — и только? — Виола нахмурилась.
Боже правый, подумалось ему, разве этого мало? Случись ему дописать начатую некогда книгу, он был бы счастлив услышать «очень хорошо». Как же она называлась? Что-то про сон и ровное дыхание — цитата из Китса (хотя бы автора вспомнил), но из какого стихотворения?
В голове собирались тучи. Наверное, Виола была права: наверное, пора сдаваться, занимать очередь в приемной у Всевышнего.
Героиней самого первого ее романа, «Воробьи на рассвете» (не заглавие, а тихий ужас!), стала «умная» (а точнее — невыносимо заносчивая) девушка, оставшаяся на попечении отца. Это явно была претензия на автобиографию, на некое послание ему от Виолы. Девушку постоянно обижали, а отец оставался бесчувственным солдафоном. Сильви никогда не усмотрела бы в этом «Искусство».
— По какому именно? — уточнил он, разгоняя тучи и собираясь с мыслями. — По какому роману снимают кино?
— «Окончание сумерек». — И, поймав его недоуменный взгляд, раздраженно добавила: — Про мать, которая в силу обстоятельств отказывается от своего ребенка. («Желаемое за действительное», — сказала Берти.)
Виола демонстративно посмотрела на массивные золотые часы («„Ролекс“. На самом деле неплохое вложение капитала»). Тедди не понял, что символизирует этот показной жест: ее деловитость или успешность. И то и другое, предположил он. В последнее время дочь выглядела как улучшенная копия самой себя: постройневшая, с аккуратной блондинистой прической десяти оттенков — такого он еще не видел. Никакой хны, никакой мешковатой одежды. Бархатные наряды с пайетками, служившие ей до зрелого возраста, куда-то делись; теперь она носила сшитые на заказ костюмы неброских цветов. «„Дети Адама“ изменили мою жизнь» — так говорилось в еженедельном женском журнале, оставленном кем-то в комнате отдыха: Тедди лениво перелистывал страницы в поиске заявленных на обложке рецептов («Простые и дешевые ужины»). «Виола Ромэйн, лауреат литературных премий, рассказывает об одном из своих ранних бестселлеров. „Никогда не поздно приступить к исполнению мечты“, — сказала нам Виола Ромэйн в этом эксклюзивном интервью». И далее в том же духе.
— Мне пора. — Она резко встала и помахала сумочкой на толстой позолоченной цепочке. — А ты подумай насчет дома престарелых, папа. «Стационар домашнего ухода» — сейчас это так называется. Деньги — не проблема. Естественно, я помогу. Вот этот, — она постукала розовым ногтем по листовке «Тополиного холма», — считается просто образцовым. Подумай. Реши, куда тебе больше хочется.
В Лисью Поляну, сказал он про себя. Вот куда мне больше хочется.
Тедди не стал возражать против неожиданного решения Нэнси; когда в «Йоркшир ивнинг пресс» объявили о подходящей вакансии, он сразу подал заявление, и через пару недель их переезд в Йорк был завершен (стремительный, как надрез). Нэнси тут же устроилась на полставки учителем математики в квакерскую школу в Маунте и охотно вернулась к обучению умненьких, воспитанных девочек. Виола пошла в начальную школу. Нэнси понравилось «Общество друзей»; по ее словам, среди христианских вероучений оно ближе всего стояло к агностицизму.
Тедди познакомился с Йорком во время войны. Тогда город представлял собой таинственный лабиринт узких, темных улиц и закоулков. Туда ездили выпить и потанцевать, гульнуть в баре «Беттиз» или потискать сговорчивых девчонок в номерах «Де Грей» во время сумрачного затемнения. В мирную пору Йорк оказался не столь загадочным: он всеми способами выставлял напоказ свою историю. При свете дня город производил на Тедди более приятное впечатление, но все равно хранил тайны, как будто, открыв один слой, предлагал тебе раскопать другой. На фоне такой богатой истории своя собственная жизнь казалась ничтожной. Какое-то странное успокоение приносили мысли о тех, кто ушел раньше тебя, о тех, кого позабыли. Это был естественный ход вещей.
Купленный ими дом в пригороде — солидный, примыкающий стеной к соседнему — оказался совсем не таким, какой воображал себе Тедди. В отличие от «Мышкиной норки» и «Эйсвика», у него даже не было названия, только номер — такая безымянность вполне согласовывалась с его безликостью. Никакой «атмосферы». Обновленная Нэнси, которая больше не рассуждала о пришествии первоцветов, безоговорочно приняла новое жилище — по ее словам, «рациональное и практичное». Они установили отопление, настелили ковры, осовременили кухню и ванную. С точки зрения Тедди, никакой эстетической ценности это не имело. Сильви пришла бы в ужас, но ее уже два года не было в живых: с ней случился инсульт, когда она обрезала свои розы. У них в семье было принято использовать притяжательное местоимение: розы принадлежали исключительно маме. Теперь от них не осталось и следа: новые владельцы Лисьей Поляны, по словам Памелы, «извели их под корень». Урсула говорила: «Главное — об этом не задумываться». Но Тедди задумывался. И она тоже.
По прошествии четырех месяцев после переезда в Йорк Тедди все еще просыпался в удушающей тоске и прислушивался к глухому рассветному многоголосью пригорода, с которым соперничал отдаленный рокот транспорта — видимо, с трассы A64. Тедди скучал по зеленому миру, который прежде подступал к его порогу. Ни кроликов, ни фазанов, ни барсуков в Йорке не водилось — только павлины в музейных садах. Не видел он и лисиц — до тех пор, пока облезлые городские особи не повадились рыться в мусорных баках на задворках «Фэннинг-Корта». Тедди втихаря выносил для них объедки; его тайная благотворительность наводила ужас на смотрительницу. Это же разносчики заразы, повторяла Энн Скофилд. («Сама она зараза», — сказала Берти. Порой внучка напоминала ему Сильви — точнее, лучшие ее черты.)
За новым домом простирался большой участок земли; Тедди купил себе краткий справочник по садоводству. Любой сад, по его мнению, представлял собой укрощенную природу, связанную искусственными путами. У Тедди нынче были подрезаны крылья, как у голубого волнистого попугайчика, которого Виола потребовала себе на день рождения.
— «Если птица в клетке тесной…» — шепнул Тедди, когда Нэнси пришла из зоомагазина.
— Знаю, знаю, — подхватила она, — «…меркнет в гневе свод небесный».{84} Но волнистые попугайчики специально выведены для жизни в неволе. К сожалению, другое им недоступно.
— Видимо, только этим и утешаются, — сказал Тедди.
Другая их пленница, несчастная Голди, переезда не вынесла. Блейк в своем перечне злодеяний ни словом не обмолвился об аквариуме, но, безусловно, осудил бы эту тюрьму. Виола расстроилась при виде бледного всплывшего трупика, и Тедди, чтобы утешить дочку, вытащил на свет свою старую нашивку клуба «Золотая рыбка».
— Представь, что у нее есть крылышки, — посоветовал он, — и она летит на небеса.
Попугайчику дали имя Певун, и, как оказалось, совершенно неподходящее: всю свою короткую жизнь он безучастно поклевывал костяную муку или переминался с ноги на ногу на жердочке, но не издал ни звука. Как-то раз, на миг ощутив родство с этим угрюмым созданием, Тедди подумал: лучше уж взлететь и разбиться, как Икар.
— Уезжаешь? Опять? — переспросил он, старательно изображая небрежность.
— Да, опять, — беззаботно ответила Нэнси. — Ты не возражаешь, правда?
— Да, правда, — сказал Тедди. — Только… — Он смешался, боясь выдать свои дурные предчувствия.
За последние три месяца Нэнси третий раз собиралась в дорогу — проведать одну из сестер. Вначале съездила в Дорсет, чтобы помочь Герти с переездом, и почти сразу — в Озерный край, вместе с Милли. («Там же дом Вордсворта и все такое».) Милли вела довольно разгульную жизнь в Брайтоне и в настоящее время оказалась «меж двух мужей».
— Ей необходимо выговориться, — объяснила Нэнси.
Себя саму Нэнси объявляла «домоседкой». Каждое лето они («семейный триумвират», как говорила Нэнси, придавая Виоле статус, равный родительскому) ездили в отпуск на море, хотя, по наблюдениям Тедди, нынче они представляли собой не триумвират, а малолетнюю диктаторшу с двумя верными слугами. Они добросовестно ездили на восточное побережье — в Бридлингтон, Скарборо, Файли. Делалось это только ради Виолы. «Совок и ведерко — больше ребенку ничего не нужно», — говорила Нэнси и героически отстаивала это убеждение, когда триумвират скрывался от ветра за взятым напрокат щитом или находил пристанище в сырой, запотевшей чайной, где съедались бутерброды с ливерной колбасой, выдаваемые по утрам квартирной хозяйкой.
Это был не столько отдых, сколько экзамен на выживание. «Можно уже домой?» — неустанно твердила Виола под молчаливое согласие Тедди. В те пансионы, где они останавливались, с собаками не пускали; там становилось особенно заметно, как обделена Виола — единственный ребенок в семье. У нее плохо получалось играть в одиночку, а с другими детьми — и того хуже.
Ветренное побережье Йоркшира не отвечало представлениям Тедди о курортной местности. Северное море было могилой многих бестелесных покойников Раннимида: на дне лежали богачи с причудами. Двое худших для него суток войны он беспомощно болтался на немилосердных волнах. («Ну, в добрый час».) Когда Виола немного подрастет, обещала Нэнси, они начнут ездить куда-нибудь подальше: в Уэльс, в Корнуолл. «В Европу», — добавлял Тедди. Монолиты цвета. Горячие ломтики солнца.
И вот теперь Нэнси собиралась в Лондон, где жила Беа. («Всего-то на пару деньков. Сходить на концерт, может, на выставку».) Час был поздний; она проверяла тетради. Тедди косился на бессмысленные для него колонки дробей. «Я должна видеть ход решения», — аккуратно написала Нэнси красной ручкой, потом сделала паузу и посмотрела на мужа. У нее всегда было открытое, бесхитростное выражение лица, призывавшее к откровенности, обещавшее прощение. Ученики ее обожали.
— Да, так вот… — заговорила Нэнси. — В Лондон я, наверное, отправлюсь в среду вечером и вернусь в пятницу. Пока ты на работе, Виола будет в школе, а домой пойдет с подружкой, Шейлой, и по дороге ты ее где-нибудь подхватишь. — (Какие сложности, отметил Тедди. Не проще ли съездить к сестре на выходные?) — Ты согласен удерживать оборону? Справишься? Виола будет только счастлива побыть с тобой вдвоем.
— Неужели? — с грустью усомнился Тедди.
Виола в свои девять лет по-прежнему боготворила мать, тогда как Тедди просто занимал обязательное родительское место.
— Если ты против, я не поеду, — сказала Нэнси.
Какая куртуазная беседа, подумал Тедди. А если он возьмет да и скажет: «Да, я против, останься дома», что тогда? Но вместо этого он выговорил:
— Что за глупости, с чего мне возражать? Конечно поезжай, не вижу препятствий. Если возникнут какие-нибудь сложности, найду тебя у Беа.
— Уверена, в этом не будет необходимости, — сказала Нэнси и вскользь добавила: — Мы не собираемся дома сидеть.
Когда Нэнси ездила к Милли в Озерный край, телефона в сельском доме не было. Когда она помогала Герти с переездом, телефон еще не подсоединили. «Если возникнет сверхсрочное дело, — оживленно сказала Нэнси, — или случится какая-нибудь трагедия (она будто искушает судьбу, с легкостью рассуждая о таких вещах, подумал Тедди), воспользуйся услугами радиосвязи: можно сделать объявление. Ну, ты сам знаешь: „Полиция разыскивает такого-то и такого-то, предположительно находящегося в районе Вестморленда. Просьба откликнуться“ — как-то так». Через сорок лет, когда он уже жил в «Фэннинг-Корте», Виола привезла ему мобильный телефон и сказала: «Ну вот, теперь ты постоянно будешь на связи. Вдруг с тобой опять что-нибудь приключится, — (она намекала на перелом бедра, не давая отцу забыть об этом несчастном случае и будто бы указывая на серьезный недостаток его характера), — заблудишься, например, или еще того хуже».
— Заблужусь?
Пользоваться мобильным телефоном он так и не научился. Кнопки оказались слишком маленькими, а инструкции — слишком путаными.
— Старого учить — что мертвого лечить, — сказал он Берти. — Да и зачем мне постоянно быть «на связи»?
— В наши дни человеку негде спрятаться, — ответила она.
— Разве что в своем воображении, — подсказал он.
— Даже там, — угрюмо заявила она, — до тебя доберутся.
— Вот и славно, — сказала Нэнси. — Значит, отъезд в среду. Решено. — Она принялась аккуратно складывать тетрадки. — Дело сделано. Можно тебя попросить: вскипяти молоко для какао. — Покосившись на него с иронической улыбкой, она полюбопытствовала: — Все в порядке? Если какао некстати, то и не надо.
— Ну почему же? — отозвался он. — Очень даже кстати. Сейчас приготовлю.
Я должна видеть ход решения, сказала про себя Нэнси.
Когда Нэнси отбыла в Дорсет, чтобы помочь Герти с переездом, и оказалась вне пределов досягаемости, Тедди удивился, заслышав телефонный звонок. На проводе была сама Герти (которой якобы еще не подключили телефон).
Женщина прямолинейная, она с места в карьер спросила:
— Помнишь мой большой дубовый буфет в стиле искусств и ремесел? В столовой у нас дома стоял?
— С изразцами под античность и медными петлями? — уточнил Тедди. Разумеется, он помнил.
— Да-да. Он у меня в новый дом не влезает… сюда вообще мало что влезает, — жизнерадостно добавила она, и Тедди вспомнил, как был неравнодушен к Герти и почему. — Так вот, — продолжала она, — я знаю, что он всегда тебе нравился. Хочешь — забирай. Можно прямо сейчас погрузить в фургон — место есть, обойдется недорого. А иначе я его в комиссионный сдам.
— Какой широкий жест! Я бы с радостью, — сказал он и нерешительно добавил: — Только не знаю, поместится ли он в столовой.
С грустью вспомнив «Эйсвик», Тедди представил, как смотрелся бы этот великолепный буфет в просторной кухне, но здесь, в стенах типового сдвоенного дома, такому предмету мебели суждено было стать инородным телом. Тедди сам удивился, когда на него нахлынуло желание: этот буфет прочно ассоциировался у него с домом Шоукроссов. С прошлым.
— А Нэнси как на это смотрит?
— Понятия не имею, — ответила Герти. — Ты сам поинтересуйся.
— Можешь дать ей трубку?
— То есть? — не поняла Герти. — В каком это смысле?
— Позови ее к телефону.
— Я позови ее к телефону? — Герти совсем растерялась.
— Она ведь у тебя, — сказал Тедди, удивляясь такому недоразумению.
— Ничего подобного, — ответила Герти.
— Она же поехала в Лайм-Риджис. К тебе. Разве нет? Помочь с переездом?
После неловкой паузы Герти осторожно произнесла:
— Сейчас ее здесь нет.
Тедди почувствовал, что она беспокоится, как бы не выдать сестру, и первым его порывом, как ни странно, было избавить Герти от неловкости, а потому он дружески сказал:
— Ладно, не волнуйся. Я что-то перепутал. Сейчас ее разыщу и перезвоню тебе. Кстати, этот буфет — очень щедрый дар. Спасибо, Герти.
Он тотчас же повесил трубку, спеша осмыслить эти странные вести. Поеду в Лайм, помогу Герти с переездом. Здесь никаких разночтений быть не могло.
Если Нэнси задумала кое-что от него скрыть и с этой целью сделала вид, будто едет к сестре в Дорсет, значит на то была особая причина, ведь так? Он знал, что Нэнси умеет лгать с изящной легкостью, но скрытной она не была, скорее наоборот. Порой он даже чувствовал, что их близость скрепляется ее нарушениями Закона о государственной тайне. Когда Нэнси вернулась «из Дорсета», он только спросил:
— Как прошел переезд?
На что она ответила:
— Нормально.
— Хороший у Герти дом?
— Мм… Вполне, — уклончиво сказала Нэнси, и он не стал дальше расспрашивать, чтобы она не подумала, будто ей учинили допрос с пристрастием.
Вместо этого он решил выждать и посмотреть, как разрешится эта недомолвка. Вопрос супружеской измены никогда его не тревожил. Ему трудно было представить Нэнси в роли жены, наставляющей рога мужу. Он всегда — даже сейчас — считал ее безупречной, порядочной и в мыслях, и в поступках. Нэнси была не из тех, кто изображает невинность. Но и не из тех, кто направляет свои усилия по ложному пути. Если она солгала, то из прагматических соображений. Разве за этой хитростью не могла стоять какая-то задумка: сюрприз ко дню рождения, семейный сбор? После кончины Сильви и продажи Лисьей Поляны ничто, казалось, не могло собрать клан Тоддов вместе. Тедди и его решительные сестры, Урсула и Памела, вообще, похоже, больше не оказывались в одно и то же время в одном и том же месте, разве что на похоронах. На свадьбах — нет, свадеб больше не случалось — почему, интересно знать?
— Да потому, что мы оказались между поколениями, — сказала Нэнси. — Подожди, скоро настанет черед Виолы.
Виола стала единственной стрелой, которую они вслепую выпустили в сторону будущего, не представляя, где она приземлится. Им бы прицелиться получше, думал Тедди, наблюдая за дочерью (так и не вступившей в брак с Домиником, отцом ее детей), которая в ратуше Лидса наконец-то связала себя супружескими узами с Уилфом Ромэйном — такого провального брака свет не видел.
— Сдается мне, он выпивает? — осторожно спросил Тедди, когда Виола представила ему своего «нового молодого человека».
— Если это нападки, — сказала Виола, — а ты всю жизнь только и делаешь, что ко мне придираешься, — то можешь засунуть их себе туда, куда не попадает солнце.
Эх, Виола.
Когда Нэнси собралась в очередную поездку — прокатиться вместе с Милли в Озерный край, Тедди поклялся себе не уподобляться дешевому сыщику и не устраивать проверок. Со времени ее возвращения из Дорсета никаких именинных сюрпризов или семейных сборов не случилось, но это еще ничего не доказывало. Он с трудом удержался, чтобы не позвонить Милли на домашний номер, но его тревога, очевидно, передалась Виоле, которая в отсутствие Нэнси постоянно ныла: «Когда мамочка приедет?» Это давало ему веские основания, рассуждал он сам с собой, навести справки об «оскорбленной супруге».
— А, приветик, Тедди, — беззаботно пропела Милли. — Сто лет тебя не слышала.
— Ты, выходит, не поехала с Нэнси в Озерный край? — напрямик спросил он и внезапно разозлился.
Не без оснований, правда? Молчание слегка затянулось; потом Милли сказала:
— Я только что вошла. Провожала ее на поезд.
Как-никак она была актрисой, пусть и не слишком убедительной на сцене — не то что сейчас, подумал он. Какой смысл был Нэнси перед возвращением домой тащиться в Брайтон? Но Тедди не мог доказать, что она там побывала. Или не побывала. Он поймал себя на том, что прежде не знал мук ревности, но сейчас дешевый сыщик поднял свою уродливую голову и спросил:
— И как тебе Озерный край, Милли? Чем конкретно вы там занимались?
— Да как тебе сказать, — непринужденно бросила она. — Там же дом Вордсворта, одно, другое.
Неужели Милли не пересказала этот разговор Нэнси? Жена, конечно, пребывала в блаженном неведении относительно его подозрений, когда объявила о предстоящей поездке к Беа. (Интересно знать: все сестры состояли в заговоре? Даже добросердечная Герти, даже солидная, почтенная Уинни?)
Тедди сковало не долготерпением, а параличом. Он не мог спросить Нэнси, что происходит (хотя это был бы вполне очевидный шаг), потому что в ответ услышал бы либо ложь, либо одиозную правду. Вместо этого он «плелся» дальше (привязалось же к нему это словцо), хотя подозрения не отступали. Подобно криминалисту, он рассматривал все нюансы поведения жены. Была, к примеру, явная конспирация в такой сцене: он наткнулся на Нэнси в коридоре, когда она, прислонившись к узорчатым обоям, вполголоса болтала по телефону, но при его появлении тотчас же свернула разговор.
— Кто звонил? — с напускным равнодушием спросил он.
— Беа, посплетничать хотела, — ответила Нэнси.
Или вот еще: по утрам, прежде чем сесть на велосипед и вместе с дочкой отправиться в школу, она бегала к почтовому ящику. Ждешь письма? Нет, что ты.
Когда она помешивала соус или писала план урока, на лице у нее частенько появлялось озабоченное выражение, а взгляд устремлялся вдаль. «Извини, задумалась» или «Голова побаливает», говорила она; в последние месяцы ее донимала мигрень. При виде Виолы по ее лицу пробегала мимолетная мучительная тень. Разрывается между любовником и ребенком, предполагал Тедди. Предать мужа — само по себе гнусно, а предать ребенка — это вообще не лезет ни в какие ворота.
Он не верил, что она хочет увидеть Лондон или родную сестру. В его воображении, которое теперь пылало гневом, блудница-жена крутила шашни где-то поблизости — возможно даже, в убогой гостинице на Миклгейт. (Воспоминания военной поры. Местная девчонка. Постыдный разврат.)
После того как Нэнси уехала на вокзал Кингз-Кросс, Тедди позвонил Урсуле, чтобы выговориться, но в ответ услышал резкие, без тени сочувствия слова:
— Что за глупости, Тедди? Нэнси никогда тебе не изменит.
«И ты, Брут?» — подумал он; впервые в жизни сестра не оправдала его ожиданий.
Как и планировалось, в пятницу вечером распутница-жена второпях приехала домой на такси. Тедди видел, как она расплатилась с водителем и тот достал из багажника ее саквояж. С изможденным видом она брела по гравию к дверям дома. Не иначе как утомилась от любовных страстей или не могла оторваться от любовника.
Тедди распахнул дверь, когда Нэнси только искала в сумочке ключ.
— Ой, спасибо, — сказала она и, не глядя на него, прошагала в коридор. От нее несло табаком и еще алкоголем.
— Ты курила? — спросил Тедди.
— Еще не хватало. Конечно нет.
Значит, любовник курил и оставил на ней свой запах. Свой след.
— И выпивала. — Его захлестнуло отвращение.
— В вагоне было накурено, — безучастно сказала она, — а виски — да, позволила себе глоток в поезде. И что из этого? Извини, я жутко устала.
— Ну разумеется: музеи, выставки, — ядовито сказал Тедди.
— Что? — С непроницаемым выражением лица Нэнси опустила саквояж и в упор посмотрела на мужа.
— Я знаю, что происходит, — сказал он.
— И что же?
— Ты закрутила роман. Используешь эти вылазки как прикрытие.
— Вылазки?
— Ты, наверное, думаешь, что я туго соображаю. Несчастный Тедди в его накатанной колее.
— Накатанной колее?..
— Я знаю, чем ты занимаешься, — повторил он, раздражаясь оттого, что она не реагирует на его уколы.
Признайся она, что у нее действительно была интрижка, но теперь все кончено, — и он ее простит, великодушно решил Тедди. Но если она и дальше будет лгать, он, не ровен час, скажет ей нечто такое, что отрежет все пути назад («А знаешь, я никогда не был в тебя влюблен»).
Она отнюдь не исправила положения, когда молча отвернулась и ушла на кухню, где налила себе стакан воды из-под крана. Медленно выпив воду, она аккуратно поставила пустой стакан на сушилку.
— Я все знаю! — в ярости бросил он, стараясь все же не сорваться на крик: наверху спала Виола.
Нэнси смерила его тоскливым взглядом:
— Нет, Тедди. Не знаешь. Ничего ты не знаешь.
1942–1943 Война Тедди Опыт
— Двадцать минут до цели, командир.
— Вас понял, штурман.
Они пропахались сквозь зенитный огонь прибрежных укреплений и, согласно плану полета над оккупированной территорией, сменили направление, прежде чем проникнуть в плотную зону прожекторов, окаймляющих Рур. На их пути было малооблачно, и им изредка удавалось различить внизу свет — это работал завод или где-то не соблюдалось затемнение. Во время полета над Голландией под ними часто вспыхивали лампы и фонари; Норман Бест, скромный бортинженер, вслух зачитывал морзянку от невидимых друзей внизу: точка-точка-точка-тире, «V» — пожелание победы. Это были традиционные знаки веры и поддержки.
— Спасибо, приятель, хоть я тебя и не знаю, — услышал Тедди голос пулеметчика, худощавого, рыжеволосого паренька восемнадцати лет по имени Скотт, который очень любил поболтать, но в полете старался держать себя в руках.
Экипаж Тедди знал, что по рации Скотт и слова не скажет без особой необходимости. Слишком уж легко было бы заболтаться, особенно на обратном пути, когда все уже расслабились, но потеря внимания даже на миг, особенно для пулеметчика, означала бы конец для всего экипажа. И прости-прощай. Мысли Тедди о неизвестном жителе или жительнице Нидерландов совпадали с мыслями пулеметчика. Приятно осознавать, что там, внизу, кто-то им благодарен. Они были так далеко от земли, что временами, даже когда осыпали бомбами города, забывали, что где-то есть целые народы, для которых ты — последняя надежда.
— Ориентирно-сигнальные бомбы пошли, командир, вижу красное пятно, двадцать миль по курсу.
— Понял, бомбардир.
Это был последний вылет их первого срока службы, и экипаж не покидало дурное предчувствие. Вопреки вероятности и статистике они дожили до сегодняшнего дня, и теперь в голову лезло: неужели судьба будет настолько жестока, чтобы напоследок сыграть с ними злую шутку? (Они знали: такое бывает.)
— Еще один раз, Господи, всего лишь разок, — услышал Тедди бормотание наводчика-атеиста, родом из Австралии, когда они ждали зеленый свет на взлетной полосе.
Вожделенные тридцать вылетов набирались долго и мучительно. Некоторые задания засчитывались не за целый вылет, а лишь за треть. Установка мин на судоходных путях около Голландии и у фризского побережья или работа по целям во Франции — все это засчитывалось только за треть вылета. Оккупированная Франция считалась «дружественной» страной, но, так или иначе, она была наводнена немецкими войсками, пытавшимися сбить их самолет. Ты с большей вероятностью можешь погибнуть при налете на Германию (как сказала бы знакомая Урсулы из министерства ВВС, «в четыре раза вероятнее»), но и здесь ты рискуешь жизнью. Вопиющая несправедливость, думал Тедди. Или, выражаясь более простым языком его бомбардира-наводчика, «чертовски нечестно». Кит был первым, кого Тедди взял к себе на борт.
Подбор экипажа оказался процедурой весьма неожиданной. Пилоты, штурманы, бортрадисты, бомбардиры-наводчики и стрелки столпились в одном из ангаров и слушали командира авиационной базы:
— Итак, ребята, наберите самую лучшую команду, какую только сможете.
Словно некий таинственный закон притяжения способен сформировать экипаж бомбардировщика лучше, чем любая армейская инструкция. И как ни странно, так оно и вышло, насколько, во всяком случае, мог судить Тедди.
Некоторое время они бесцельно слонялись, слегка смущенные командирским наказом, ни дать ни взять стая гусей на птичьем дворе во время кормежки.
— Черт возьми, я как будто пришел на танцы и меня разглядывают, как девчонку, — сказал, подходя к Тедди, Кит и представился: — Кит Маршалл, бомбардир-наводчик.
На нем была темно-синяя форма, означающая, что он из Австралии.
Тедди планировал первым делом найти штурмана, однако Кит ему понравился; если война чему-то и научила Тедди, так это умению судить о характере человека по его виду, по выражению глаз, по его отношению к тем или иным вещам и по каким-то совсем уж неуловимым качествам. И Тедди спрашивал себя, не в силу ли такого вот неуловимого качества он сразу почувствовал доверие к Киту. Плюс вспомнилось, как случайно подслушал инструктора, который говорил, что Кит — отличный, знающий свое дело парень. Собственно говоря, так оно и было. С пилотированием у Кита в Школе летной подготовки не задалось («Ну не смог посадить эту чертову посудину»), а вот наводчик из него вышел классный, первый в своем выпуске.
Австралийцев считали взбалмошными, но Кит выглядел уравновешенным, а во взгляде голубых глаз сквозила задумчивость. Ему было двадцать; вырос он на овечьей ферме, где бо́льшую часть своей сознательной жизни видел перед собой, по предположениям Тедди, далекий горизонт под жестоким солнцем, совсем не таким, какое освещало мягкие зеленые поля из детства Тедди. Наверное, размышлял он, это накладывает отпечаток на твое восприятие жизни.
Мне охота, говорил Кит, чуток посмотреть мир, «хотя бы Третий рейх в огне».
Как истинные джентльмены, они пожали друг другу руки, и Кит сказал: «Ну что, командир, давайте отсюда двигать, зачем нам топтаться среди невостребованных». Впервые на памяти Тедди кто-то из членов его экипажа (его экипажа!) обратился к нему «командир». И он почувствовал, что наконец-то нашел свое место.
Они вместе осмотрели ангар, и Кит сказал:
— Видите, вот там парень у стены стоит, смеется? Он радист. Мы с ним вчера выпивали — нормальный чувак.
— Ясно, — ответил Тедди.
Его вполне устроила такая рекомендация.
«Говорун» — звали его Джордж Карр — оказался девятнадцатилетним парнем из Бернли. Тедди уже видел, как Джордж Карр предложил кому-то починить велосипед, с пылом разобрал его на части, собрал заново и вручил владельцу со словами: «Держи, теперь не подкачает, вот увидишь». Люблю покопаться в механике, добавил он; а это тоже немаловажное качество для бортрадиста.
Джордж, в свою очередь, порекомендовал стрелка, опять же из тех, с кем выпивал в столовке для летного состава. Звали его Вик Беннет, родом с Кэнви-Айленда, улыбался во все тридцать два зуба (таких скверных зубов Тедди не видел никогда в жизни) и после первого же знакомства привел с собой «дружбана», с которым «в шалопаевке» учился. «Шарит в своем деле — будьте-нате, — отрекомендовал он новичка. — Реакция — как у крысы. Да и физиономия под стать. Чисто — рыжая крыса». Это и был их болтливый молодой шотландец, «Кеннет Нильсон, но все меня зовут Кенни».
А штурмана как не было, так и нет, подумал Тедди, удивляясь, насколько быстро процесс отбора вышел из-под его контроля. Получалась какая-то игра в чепуху, а может, в жмурки.
Да и как распознать хорошего штурмана, размышлял он, обводя глазами зал. Чтобы хладнокровный был, но ведь это общее требование ко всем, правда? Чтобы умел сосредоточиться, думать только о деле. Ни на что не отвлекаться. Откуда-то сзади до него донесся размеренный, невозмутимый канадский говорок. Обернувшись, Тедди выхватил взглядом говорящего, заметил у него в руке свидетельство штурмана и назвался:
— Тед Тодд. Я пилот, ищу хорошего штурмана.
— Хороший штурман прямо перед вами, — пожал плечами канадец. — Во всяком случае, неплохой.
Звали его Дональд Маклинток. Естественно, «Мак». Тедди с теплотой относился к канадцам: за время пребывания в их стране он понял, что они надежны, а к тому же не подвержены неврозам и не обременены излишней впечатлительностью — для штурмана самое то. Вдобавок сам канадский говор вызывал у него теплые воспоминания о широких, открытых небесах, где он впервые сел за штурвал «тайгер-мота» и «флит-финча» над лоскутным одеялом Онтарио. По сравнению с «энсонами» и «гарвардами», право на управление которыми давал ему диплом, это были хрупкие игрушки, не говоря уже о массивных «веллингтонах», на которых они собирались проходить практику в «шалопаевке». «Автобусники» — с насмешкой говорили пилоты истребителей о пилотах бомбардировщиков, но Тедди всегда считал, войну выигрывают «автобусы».
— Прошу на борт, штурман, — сказал Тедди.
Опять общие джентльменские рукопожатия. Пестрая компания, думал про себя Тедди. Ну и хорошо.
— Остается заполучить антипода на место бортинженера, — сказал в унисон его мыслям Кит, — и будет у нас, чтоб я сдох, настоящая Лига наций.
«Антипода» они не нашли, но заполучили Нормана Беста, уроженца Дерби, довольно стеснительного выпускника дорогой частной школы, знатока иностранных языков и убежденного христианина, — правда, встретили они его уже в центре переподготовки, а пока всё. Как бы то ни было, они уже стали экипажем. И этим все сказано. Отныне они вместе выпивали, вместе питались, вместе летали, и жизнь каждого зависела от любого другого.
Став экипажем, они в первый же вечер устроили традиционную в таких случаях гулянку. Дух равноправия гласил, что заказывать пиво на всех должен каждый по очереди, а потому, оприходовав по шесть пинт на брата, они упились в дрова и, когда шатающейся походкой брели в казарму, клялись друг другу в вечной дружбе. Впервые в жизни Тедди так надрался; лежа на своей койке и рассматривая плывущие вокруг него стены казармы, он размышлял, что никогда прежде не испытывал такого душевного подъема. Во всяком случае, с очень давних пор: наверное, с детства. Душа требовала приключений.
От остальных его отгораживало офицерское звание. Насколько можно было судить, звание присвоили ему исключительно как выпускнику правильной школы и правильного университета, а еще потому, что на вопрос, любит ли он крикет, Тедди, покривив душой, ответил «да», почуяв, что ответ «нет» будет засчитан как неверный. Вот так и получилось, что теперь, по прошествии нескольких месяцев, он оказался здесь, на дороге в Дуйсбург, начальником над рядовыми, хозяином своей судьбы, командиром собственной души и еще этой треклятой громады — четырехмоторного «галифакса», который то и дело норовил потрепать тебе нервы, кренясь вправо при взлете и посадке.
— До цели десять минут, командир.
— Понял, штурман. До цели десять минут, наводчик.
— Есть, капитан.
На борту они обращались друг к другу по должности, а на земле вспоминали имена — Тед, Норман, Кит, Мак, Джордж, Вик и Кенни. Словно мальчишки-приятели из какой-нибудь приключенческой книги, думалось Тедди. Кстати, двоих дружков Августа звали как раз Норман и Джордж, однако этому герою книг тети Иззи, как и его товарищам, до сих пор было одиннадцать лет — вечно юные, они по сию пору баловались рогатками, копали червей для рыбной ловли и совершали набеги на чулан, где хранилось варенье в банках, мнившееся им неизвестно почему своего рода святым Граалем среди провизии. Теперь, в книге «Август и война», герой тети Иззи и его веселая мальчишечья шайка вносили посильную лепту в борьбу с врагом, а именно сдавали макулатуру, добытую в чужих почтовых ящиках, а также металлолом — кастрюли и сковородки возмущенных соседей.
— Сковорода — это не металлолом! — негодовала миссис Свифт.
— Это же для войны, — возражал Август. — Все говорят, что надо сдавать утильсырье для нужд армии. Вот я и сдаю всякие сковородки.
А ведь этот плод фантазий тети Иззи, этот Август, с оттенком досады думал Тедди, не нюхал пороху: не видал артиллерийского огня и не тревожился, что сейчас на него спикирует голодным ястребом какой-нибудь «мессер».
Воображению Тедди представал и его собственный Август: взрослый двойник книжного, наверняка бегавший от службы. Вполне вероятно, что теперь он — барыга, который наживается на войне, приторговывая спиртным, куревом и всем прочим, на чем только может нагреть свои грязные руки. («Так и быть, папаша, гони десять шиллингов. Да помалкивай».)
Они продирались через зенитный огонь, и хотя машину качало от близких вспышек и разрывов, шум их практически тонул в оглушительном реве мерлиновских моторов «галифакса».
— Внимание, повышенная готовность, — сказал Тедди.
Вдалеке он увидел целый дождь зажигательных бомб, — вероятно, их сбрасывал какой-то самолет, чтобы легче было набрать нужную высоту. Однако эти действия пошли на пользу только немецким летчикам, осветив им всю траекторию полета бомбардировщика; держась выше, немцы бросали вниз сигнальные снаряды: они гирляндами застывали в воздухе, создавая коридор иллюминации, по которому был вынужден лететь несчастный бомбардировщик. Несколько секунд спустя из его корпуса вырвался кроваво-красный огненный шар в клубах черного дыма.
— Штурман, внести это в журнал! — прокричал Тедди.
— Есть, командир!
В этот раз их вылет задержался. Будучи опытным экипажем, они должны были бы лететь в первой волне бомбардировщиков, но перед вылетом обнаружились неполадки в левом внутреннем двигателе, а потому они стартовали с базы не первыми, а в числе последних и на подлете к месту сбора над мысом Фламборо-Хед находились в самом хвосте строя.
— Ну кто-то же должен быть замыкающим, — сказал Тедди, тщетно пытаясь приободрить упавший духом экипаж.
Все прекрасно знали, что отставший самолет — легкая добыча для немецких истребителей, так как, отбившись от защитной плотности строя, он представал на вражеских радарах четкой и яркой точкой.
Конечно, и нахождение в тесном строю бомбардировщиков было чревато опасностями. На более раннем этапе этой кампании они участвовали в первом харрисовском налете на Кёльн,{85} в котором была задействована тысяча бомбардировщиков. Становясь частицей огромной армады, ты неизбежно приклеиваешься в воздушном потоке за впереди идущим самолетом и только гадаешь, кто где. Тедди тогда показалось, что самая большая опасность исходит на самом деле не от немецких истребителей и не от зенитного огня, а от своих бомбардировщиков. Они шли на трех уровнях: медленные «стерлинги» снизу, «ланки»,{86} у которых потолок был повыше, — сверху, а «галифаксы» составляли начинку этого пирога. И хотя для каждой машины были заранее определены точная скорость, высота и позиция в группе, это не означало, что все шли там, где им положено.
В какой-то момент во время того вылета прямо над ними, в каких-то шести метрах, пронесся другой «галифакс» — огромное, похожее на кита темное пятно с раскаленными докрасна выхлопными патрубками. А позже, когда они направлялись к цели, раздался пронзительный крик Вика Беннета, который, сидя у турели, заметил, как летящий над ними «ланкастер» открыл бомболюк; Тедди мгновенно отвернул в сторону, рискуя врезаться в какой-нибудь другой самолет.
А однажды они увидели столкновение, которое произошло совсем близко, рукой подать: по левому борту от них какой-то «галифакс» пошел наперерез общему потоку, и в него врезался один из «ланкастеров». Их собственный самолет, J-«джокер», который они позже потеряли, тогда резко качнуло от сильнейшего взрыва. Из крыльевых топливных баков «ланка» взмыли слепяще-белые языки пламени, и Тедди приказал своим пулеметчикам не смотреть в ту сторону, чтобы не потеряли «ночного зрения».
Найти Кёльн было нетрудно. Он горел: дымом и всполохами коптящего огня скрывало от глаза сигнальные снаряды, так что экипаж Тедди направился к центру этого громадного пожарища, сбросил свои бомбы и повернул назад. Сказать по правде, оглядываясь теперь на тот вылет, Тедди с трудом вспоминал подробности — несмотря на всю грандиозность операции, она не оставила в памяти ничего примечательного. Тедди иногда казалось, будто он прожил много разных жизней. Или, быть может, одну жизнь, но подобную безграничной ночной тьме, для которой, по Блейку, некоторые «люди явятся на свет».{87}
Само время стало каким-то другим. Раньше оно представлялось ему огромной, в своем роде даже бесконечной картой, развернутой во всю ширь, и, глядя на нее, он мог выбирать, в каком направлении двигаться. Теперь эта карта разворачивалась под стопами понемногу, и каждый раз лишь на один шажок вперед, а остальной свиток мог в любой момент исчезнуть.
— У меня были похожие ощущения во время налетов на Лондон, — заметила Урсула, пытаясь расшифровать эту сложную метафору в тот день, когда Тедди впервые приехал на побывку (раз в шесть недель им давали по шесть выходных) и предпочел отдохнуть в Лондоне, а не в Лисьей Поляне; и даже не обмолвился Сильви, что получил отпуск. — До войны, — продолжала Урсула, — все дни были как один, правда? Дом, работа, снова дом. Рутина полностью притупляет все ощущения. И вдруг человек чувствует, что оказался на краешке жизни и совершенно не может сказать, рухнет ли сейчас вниз или взлетит вверх.
Ни одна из этих крайностей не предполагает мягкой посадки, заметил тогда Тедди.
— В принципе, я тоже так думаю, — согласился он в итоге, одновременно сознавая, что крайне смутно понимает, о чем говорит, да особо и не вдумывается. Он жил перед лицом смерти. Вот насколько просто можно было описать его жизнь, отринув все эти защитные метафорические изыски.
— Восемь минут до цели, командир.
— Понял, штурман.
— Пулеметчики, повышенная готовность.
— Есть, капитан.
— Понял, кэп.
На самом деле пулеметчики не нуждались в напоминаниях; это был лишь способ скоординировать общие усилия. Тедди знал, что все они непрерывно наблюдают за небом, готовые к стрельбе. За весь срок службы практически никто из них не сделал ни одного выстрела. Открывая огонь, ты сам себя выделяешь для других как цель. Истребитель может запросто не заметить тебя в темноте, но если от твоей машины тянутся красные трассеры, засечь тебя не составляет труда. И авиапушки «мессеров» могли причинить куда больше ущерба, чем пулеметы «браунинг», стоявшие на «галифаксах». В сущности, пулеметчики служили дозорными. И среди них были такие, кто проходил срок службы без единого выстрела.
Одна из сестер Тедди, Памела, была замужем за врачом, который как-то раз поведал Тедди об одном эксперименте в кислородных камерах, показавшем, что кислород может улучшать зрение пулеметчиков, в случае же нехватки кислорода именно зрение страдает в первую очередь. После этого разговора Тедди стал каждый раз внимательно следить за тем, чтобы у пулеметчиков было достаточно кислорода с момента взлета и до посадки.
Они летели над хорошо укрепленным районом. Прямо по курсу висела серая завеса дыма от заградительного огня, и эту густую завесу им нужно было как-то преодолеть.
По сравнению с тем массированным рейдом на Кёльн, в котором участвовала тысяча бомбардировщиков, теперешний вылет оказался скромным — самолетов было всего около двухсот, двенадцать из которых от их эскадрильи, и весь их нестройный порядок направлялся к реке Рур и «Долине счастья».
Они видели, как рухнул «ланкастер», пораженный в крыло истребителем, видели, как он превратился в падающий сноп огня, и еще они видели, как один из их собратьев, «галифакс», пролетая над Рурским укрепрайоном, попал в голубой луч главного прожектора, и команда Тедди молча наблюдала, как зажглись дополнительные прожекторы — бездушно, автоматически, — поймав самолет в капкан ослепительного света, и безжалостно вступили зенитки. Отчаявшийся бомбардировщик закрутил штопор, однако неумолимые лучи не отпускали добычу; затем, видимо, снаряды нашли его — и «галифакс» взорвался, превратившись в громадный огненный шар.
— Внести это в бортовой журнал, штурман, — бесстрастным тоном скомандовал Тедди. — Парашюты кто-нибудь видел?
По рации прошелестело тихое «нет», а от Кита, распластавшегося в носовой части и готового к снижению, донеслось «бедолаги». Видеть крушение самолета — всегда шок, но долго размышлять об этом не приходилось. На этот раз пронесло — и на том спасибо.
Господи, если нас подобьют, молился Тедди, сделай так, чтобы все закончилось мгновенно, огненным шаром, а не долгим падением. В любом случае мягкой посадки не будет. Он был не столько пессимистом, сколько фаталистом. В данный момент — как, впрочем, и в любой другой момент времени — экипажу меньше всего требовался отчаявшийся капитан. Но в особенности сегодня, когда все были на нервах. Да и вид у парней изможденный, думал Тедди, с печатью такой усталости, которая выходит за пределы обычного утомления. Они состарились — вот так можно было описать их вид. А ведь Киту только что стукнуло двадцать один, и это событие бурно отметили в сержантской столовой. У них, как у расшалившихся мальчишек на детском празднике, все выходки были отмечены какой-то невинностью. Черные как сажа следы ботинок на потолке, малоприличные песенки вокруг рояля, когда наземницы скромно удалялись спать (оставались лишь две-три самые бойкие). Все примерно как у малолетнего Августа и его дружков.
Сильви, знавшая за собой некоторую медлительность, ставила все часы в Лисьей Поляне на десять минут вперед (что порождало скорее путаницу, нежели пунктуальность). Тедди теперь думал: вот было бы здорово, додумайся кто-нибудь перевести их часы назад: тогда они бы по ошибке сочли, что им предстоит не тридцатый вылет, а всего лишь двадцать девятый, не связанный ни с какими дурными приметами.
Положение усугублялось тем, что им на борт прислали одного «подсадного» — необстрелянного новичка, пилота, которому требовалось боевое крещение. Такова была обычная практика: подсаживать в опытный экипаж салагу, чтобы тот прежде освоился, а потом уже принимал командование собственным экипажем. Но по какой-то причине считалось, что желторотый второй пилот приносит несчастье. Никакой разумной подоплеки, насколько понимал Тедди, в этом убеждении не было. Сам он прошел боевое крещение в рейде на доки Вильгельмсхафена на борту С-«сизого», с экипажем, который до этого участвовал в одиннадцати операциях. Ребята смотрели сквозь него, будто тем самым отменяли его присутствие. C-«сизый», можно считать, не пострадал (пара пробоин и один отказавший двигатель), но даже после приземления тот экипаж обходил Тедди стороной, как заразного. Зато ребята из его собственного экипажа прыгали от радости, что он вернулся цел-невредим, и отметили это событие грандиозной пьянкой в местном пабе, куда позвали и наземную команду. «Черный лебедь», именуемый не иначе как «Грязная утка», принадлежал вполне покладистому хозяину, который даже открывал летчикам кредит, зная, что многие с ним не расплатятся. Долги лягут мертвым во многих смыслах грузом.
Когда Тедди служил второй срок, у них в эскадрилье был целый экипаж салаг — летали они на W-«уильяме», — который лишился пилота (тот погиб во время боевого вылета с другим экипажем). Им тут же прислали другого на замену; тот, как было приказано, занял свое место — и тоже погиб. (Может, и впрямь новичок притягивает беду?) Салаги из беспилотного экипажа были близки к помешательству, и когда к ним прислали третьего пилота (понятное дело, комок нервов), Тедди взял их всех вместе на первую боевую операцию в свой самолет, W-«уильям», посадив новичка на место второго пилота. Тот вылет на Берлин стал настоящим испытанием, и парни не дрогнули.
После приземления на них нахлынула эйфория. «Молодцы, ребятки», — сказал им Тедди. Они и вправду были совсем юными, не старше двадцати лет. Его позвали в сержантскую столовую: сказали, что он теперь с ними одна команда. Он пришел, но вскоре откланялся. «Одним глазом спи, а другим бди», — написал он Урсуле: это была одна из ее любимых поговорок.
«Нет правил без исключений», — ответила она.
На другой день W-«уильям» вылетал на боевое задание: на относительно безопасные минные постановки — «побросать овощи» на немецкий остров Лангеог в восточной части Фризского архипелага. А потом Тедди с глубокой горечью прочел в оперативном журнале знакомую уже запись: «Вылетел в 16:20 и не вернулся. Экипаж считается пропавшим без вести». После войны Тедди ничего не мог с собой поделать: он смотрел на Северное море как на необъятное кладбище самолетов и юных тел.
В ходе второй операции экипаж С-«сизого», так неласково встретивший Тедди в роли второго пилота, искал в тумане место для посадки, когда кончилось топливо, и разбился в торфяных болотах близ Хелмсли. «Тринадцатый вылет», — изрек Вик Беннет, как будто этим все объяснялось. Он был самым суеверным из всех. Когда им самим предстоял тринадцатый вылет, да еще, как назло, в пятницу, он попросил капеллана освятить их бедный старый J-«джокер», что капеллан, добрая, отзывчивая душа, охотно проделал.
У летного состава считалось, что первые и последние пять вылетов наиболее опасны, хотя, с точки зрения Тедди, законы вероятности никто не отменял. После первого срока службы выживал только один из шести летчиков. (Никогда прежде и никогда после не встречалось ему столько людей, одержимых статистикой.) Тедди не нуждался в подсказках подруги Урсулы, служившей в министерстве военно-воздушных сил: он и без нее знал, что сейчас сама судьба против них. В начале срока, будь Тедди азартным игроком (впрочем, азартными играми он никогда не увлекался), он бы не поставил на то, что они доживут до внуков. И даже до детей, поскольку тогда никто из них еще не дошел до стадии отцовства. Женатиков среди них тоже не было, а половина, если не больше, пришли в эскадрилью девственниками. А как обстояло дело сейчас? Этого он не знал. У Вика Беннета, например, все было путем: в тылу его ждала невеста, Лиллиан (Лил), о которой он мог трепаться без умолку, не утаивая, «до чего у них дошло».
На следующей неделе Вик и Лил должны были сочетаться законным браком; экипаж пригласили в полном составе. Тедди про себя думал, что Вику не стоило бы строить планы. Сам он теперь планов не строил. Сейчас есть настоящее, за ним последует другое настоящее. Если повезет. («Из тебя получился бы отличный буддийский монах», — сказала Урсула.) «Если рассмотреть процентное соотношение потерь в живой силе, — сказала подруга Урсулы из министерства военно-воздушных сил, чопорно потягивая розовый джин, — то простой математический расчет покажет, что смерть неизбежна». Но можно и по-другому взглянуть на цифры, спохватилась она под уничтожающим взглядом Урсулы. Их встреча состоялась в мае, когда Тедди приехал в отпуск. Они втроем немного выпили, а потом отправились потанцевать в «Хаммерсмит-Пале». Тедди все время поеживался: его не покидало ощущение, что эта девушка при взгляде на него видит сводки потерь.
А Нэнси — известна ли ей статистика смерти в бомбардировочной авиации? Вероятно, нет. Она сидела в своем коконе, в клинической безопасности умственного труда. По окончании первого срока его службы делала попытки увидеться с ним в Лондоне. Писала: «Можно мне тоже полететь на свадьбу твоего коллеги? Раздобудь, пожалуйста, приглашение. Или подруги — это для вас принудительный ассортимент?!» Весь тон этого письма показался ему фальшивым. Взять хотя бы это словцо: «коллега». Вик Беннет — не «коллега». Он — часть Тедди, как рука или нога. Друг, приятель, товарищ. Если цивилизация уцелеет (сейчас она висела на волоске), разве не превратится она в сообщество равных? В новый Иерусалим, населенный левеллерами и диггерами? Классовые барьеры уже рухнули, и не только в авиации, где все друг за друга горой. Тедди общался с мужчинами — и женщинами, — каких никогда бы не повстречал в мирке дорогой частной школы, Оксбриджа, банковского дела. Да, он их командир, да, он за них в ответе, но он не ставит себя выше других.
Письмо от Нэнси он сжег в печке. У них вечно не хватало растопки.
— До цели четыре минуты, командир.
— Ясно, штурман.
— До цели четыре минуты, наводчик.
— Вас понял, командир.
— Внутренний по левому борту, чтоб его, опять пошаливает, командир, — доложил Норман Бест.
В течение всего полета топливный манометр то и дело принимался мигать, как будто жил собственной жизнью. Из-за этого двигателя задержался их вылет, и Норман невольно косился на прибор. Оно и к лучшему, что припозднились, сказал Вик Беннет. Именно он, а не кто-нибудь умудрился забыть свой талисман и убедил наземницу-водителя, доставившую их на аэродром рассредоточения, сгонять туда-обратно и прихватить этот предмет из сборного пункта, пока наземный экипаж возился с барахлящим двигателем. На самом деле это были невоспетые герои — «труженики гаечного ключа»: сборщики, монтеры, техники. Сержанты, рядовые, они сутками вкалывали в любую погоду. Махали улетающим экипажам и встречали их по возвращении. Бывало, не смыкали глаз в своей землянке на холодном аэродроме, дожидаясь, когда вернется «их» экипаж. Талисманами они не озабочивались: при расставании дружески пожимали руки по кругу: «Ладно, до утра тогда».
У Вика Беннета фетиш был уникальный: алые атласные трусики его невесты, небезызвестной Лил. Эти «невыразимые», как называл их Вик, аккуратно сложенные, всегда лежали в кармане его куртки. «Если попадем к нему на свадьбу, — сказал Кит, — все будем думать об одном, когда невеста, краснея, пойдет к алтарю».
— Краснеть буду я, — сказал Кенни Нильсон.
Все решала удача. «Это не госпожа, — приговаривал Кит, — а подлая шлюха». На базе пышным цветом цвели суеверия. Казалось, у каждой живой души в эскадрилье есть свой собственный амулет: прядь волос, иконка святого Христофора, игральная карта, вездесущая кроличья лапка. Один сержант на сборном пункте, переодеваясь в летный костюм, пел «Сердце красавиц», другой непременно обувал сначала левый ботинок и только потом — правый. Если забывал — снимал все обмундирование и начинал сначала. На войне он выжил. А сержант, который пел «Сердце красавиц», — нет. Равно как и сотни других, полагавшихся на свои личные ритуалы и амулеты. Мертвецам имя легион, а у богов свои тайные планы.
У Кита талисмана не было. У них в роду, говорил он, все «шиворот-навыворот» и «задом наперед»; надумай он пройти под лестницей через дорогу, которую только-только перебежала дюжина черных кошек, — и «ничего ему не будет». Его предков-каторжников, ирландских цыган, сослали в Австралию за бродяжничество. «Цыгане-то они липовые, — говорил он. — Думаю, жулье всякое да бездомные».
Кенни Нильсон был самым младшим из десяти детей, «последыш», и талисманом служила ему ободранная черная кошка — из тех пресловутых, — сшитая кое-как из кусочков фетра одной из его многочисленных племянниц. Можно было подумать, это несчастное животное всю жизнь трепали собаки.
Да, у Тедди тоже была заветная вещица: врученный Урсулой серебряный заяц, к которому он на первых порах относился с пренебрежением, но теперь держал в кармане летной куртки, над сердцем. У него невольно выработался особый ритуал: перед вылетом дотрагиваться до этого зайца, а после приземления беззвучно, молитвенно благодарить. Эта вещица не прощупывалась сквозь овчину. Но Тедди знал, что она там и молча делает все, что в ее силах, чтобы его уберечь.
Все угрюмо слонялись без дела в ожидании Вика с наземницей. Джордж Карр, как всегда, съел весь паек шоколада. Все хранили шоколад на потом, а Джордж рассуждал так: если, мол, сгину, он мне будет без надобности. В пору его детства шоколад у них в Ланкашире был в диковинку.
Они выкурили по сигарете — часов шесть с лишним такой возможности больше не предвиделось, помочились на хвост S-«сахара» и хмуро посмотрели на землю. Даже вечно болтливый мелкий шотландец притих. У несчастного второго пилота вид был как перед казнью.
— Они всегда такие? — шепотом спросил он у Тедди, и Тедди, не сумевший сказать этому бедолаге: «Они думают, что им сегодня кранты», нарушил коллективный дух экипажа: «Да нет, просто такие угрюмые подобрались».
В то утро Тедди получил письмо от Урсулы. Ничего особенного, но вот в конце было приписано: «Как ты там?» — и от этих лаконичных, односложных слов на него повеяло целой бурей чувств, сильных и искренних. «Здесь все ОК, — написал он в ответ почти столь же лаконично и добавил: — За меня не бойтесь», подарив ей роскошь двухсложных слов.
Отправить письмо он попросил наземницу Нелли Джордан, укладчицу парашютов, которая была к нему неравнодушна. Как и все наземницы. Причина, подозревал он, крылась в том, что он прослужил здесь дольше многих. Письмо это писалось для того, чтобы уйти по адресу, а не для того, чтобы храниться в тумбочке на случай его гибели. Таких у него было три: для матери, для Урсулы и для Нэнси. Во всех говорилось примерно одно и то же: не нужно слишком убиваться, он погиб за то дело, в которое верил, а они должны жить, потому что таково его желание. И дальше в том же духе. Он считал, что в этих односторонних, заключительных посланиях нет места духовным исканиям или философской интроспекции. И правде, если уж на то пошло, тоже. Непривычно было писать о себе в будущем времени, где его самого не существовало, — вот такая метафизическая загадка.
В случае его смерти в эскадрилью должен был приехать кто-нибудь из комиссии по урегулированию (нелепый эвфемизм), чтобы спешно перешерстить его личные вещи. Все, что могло дать матери или жене информацию к размышлению — нечеткие фотографии, письмо другой женщине, презервативы, — тут же изымалось. Тедди нечего было скрывать. Он порой задумывался, какая судьба ждет эти изъятые для пользы дела предметы: то ли их просто выбрасывают, то ли хранят на каком-то складе ненужных секретов. Ответа на этот вопрос он так и не нашел.
На следующий год, когда шел второй срок его службы, Тедди, случайно открыв дверь каптерки, увидел там множество летных костюмов на вешалках. Вначале он подумал, что это запасное обмундирование, но, присмотревшись, заметил нашивки, планки, ленты и сообразил: эти вещи сняты с погибших и раненых. Формы-пустышки могли бы создать поэтический образ, да только он к тому времени давно забросил поэзию.
Порой вновь прибывшие экипажи обнаруживали разбросанные в казармах пожитки предыдущих обитателей — как будто те ненадолго вышли и вот-вот вернутся. Комиссия по урегулированию выставляла всех за дверь на время «просмотра», упаковывала вещи погибших, а наземницы или санитары тем временем застилали койки свежим бельем. Иногда эти салаги в ту же ночь, так и не поспав на свежем белье, отправлялись на задание и не возвращались. Приходили ниоткуда и уходили в никуда, и никто о них ничего не знал. Их имена были написаны на волнах. Или выжжены на земле. Или развеены по воздуху. Легион.
Вик Беннет вернулся с алыми «невыразимыми» («но очень выразительными», ядовито заметил Мак), и экипаж поднялся на борт S-«сахара», сменившего J-«джокера». J-«джокер» был упрямым чудовищем. Как и многие «галифаксы» второй модели, он не спешил отрываться от земли. Будь он рысаком, его бы приходилось упрашивать и перед стартом, и перед финишем, а тому, кто не знал этих причуд, и в особенности его суицидной склонности забирать вправо, грозило расставание не только с авиацией, но и с жизнью.
Сегодня им предстоял всего лишь второй вылет на S-«сахаре». Машина была новенькая, прямо из цеха, такая же необстрелянная, каким был в свое время ее экипаж. Парни все как один хотели дослужить на J-«джокере», который уже вызывал только теплые воспоминания. Он приносил им удачу, оберегал, и теперь они не могли смириться с расставанием, считая его плохой приметой — очередным знаком, что до тридцатки им не дотянуть. На его фюзеляже стояло двадцать шесть изображений бомбы — по одному за каждый вылет; двадцать первая операция была помечена ключом, а рейд на Италию какой-то шутник пометил рожком мороженого. S-«сахар» пока совершил только один вылет — на Дюссельдорф, но увековечить его ребята еще не успели и особо самолету не доверяли, невзирая на новизну. Одним из многочисленных нареканий был перегрев двигателя по левому борту.
Начальник базы прикатил на аэродром рассредоточения вместе с Виком и выразил недовольство задержкой вылета.
— Даю десять минут, — говорил он, постукивая по часам.
Десять минут до взлета, а если не справятся, пусть пеняют на себя.
Грузовик с наземницей за рулем и с командиром эскадрильи следовал за ними по периметру и припарковался у прицепа, в котором размещался диспетчерский пункт. Там они вышли и присоединились к группе провожающих, которая терпеливо ждала, чтобы помахать. Тедди заподозрил, что некоторые уже потеряли всякую надежду и разошлись, не попрощавшись.
Они загромыхали по взлетной полосе, и провожающие стали горячо махать; особо отличался начальник базы, который взял за правило присутствовать при каждом взлете и махал с таким азартом — на бегу, подняв руки над головой, — будто мог тем самым помочь им успешно оторвать колеса от бетона и взмыть к небу с полным брюхом бомб. При взлете происходило множество аварий, а потому Тедди испытывал миг высшего блаженства, оторвав от земли «галифакс» и взлетая над живыми изгородями и деревьями.
Если отвернуть от цели, что случалось нередко в силу погодных условий или технических причин, то вылет экипажу не засчитывался.
— Чертовски несправедливо, — сказал Тедди.
— В самом деле, возмутительно, друг мой, — подхватил Кит в тщетной попытке передразнить аристократическую манеру речи.
Они изрядно напились во время двухдневного простоя после Турина. Сейчас Тедди понимал, что от Турина надо было повернуть назад, но он был из тех пилотов, которые «идут до конца». В отличие от некоторых.
Впервые они развернулись в свой всего лишь второй вылет: над Северным морем из двигателя по правому борту стала подтекать охлаждающая жидкость, а потом у «говоруна» отказала громкая связь, и Тедди принял разумное, как ему казалось, решение повернуть домой, без ущерба сбросив боезапас в Северное море. Командир эскадрильи (не нынешний, а предыдущий) этого не одобрил. Преждевременные возвращения его раздражали, он мрачнел и подолгу вызнавал причины, не позволившие долететь до цели. Тедди казалось, что причины эти совершенно очевидны: перегревшийся двигатель грозил вот-вот загореться (в ту пору они более нервно относились к таким вещам), а связи не было.
— Ну и что? — спрашивал командир эскадрильи. — Неужели в критической ситуации вы бы не нашли выход? Для хорошего пилота лететь на трех двигателях — вообще не проблема.
Именно тогда Тедди понял, что они здесь не столько воины, сколько жертвы на алтаре высшего блага. Птицы, бросаемые об стену в надежде, что при достаточном количестве птиц стена в конце концов рухнет. Цифры в статистике военного ведомства, отраженной в учетном журнале Мориса. («Он теперь просто напыщенный осел», — писала раздосадованная Урсула.)
И тогда же Тедди решил: он больше не допустит, чтобы его подозревали в трусости; его экипаж не превратится в тех, кого Харрис именовал «слабыми братьями»; Тедди будет идти «до конца», пока для этого останется хоть малейшая возможность, но в то же время будет делать все возможное, чтобы сохранить ребятам жизнь. Все свободное от боевых вылетов время, оставшееся у него до конца первого срока службы, он вырабатывал у ребят навыки прыжков с парашютом и посадки на воду: наверное, в этом была доля идеализма, потому что тренировались они без водных и воздушных учений, но если вдолбить им — буквально вдолбить, — что нужно делать, они преодолеют (по крайней мере, будут иметь лучший шанс преодолеть) работающую против них статистику. Когда они впервые собрались все вместе в учебной части боевой подготовки, Вик и Кенни уже совершили больше тренировочных полетов, чем все остальные. Они летали в порт Иммингем для тренировки по бомбометанию и выполнили бесчисленное количество упражнений в тандеме с истребителем, отрабатывая сложные маневры ухода. Тем не менее Тедди заставлял их тренироваться как можно чаще, в том числе со «спитфайрами» из соседней истребительной части. Он уговорил весь экипаж обучиться азбуке Морзе и получить представление о чужих обязанностях, чтобы в случае необходимости ребята могли подменить друг друга. В принципе, Кит, который обучался на пилота, лучше всех мог заменить Тедди, если с ним что-нибудь случится, но Тедди обучал и Нормана Беста базовым навыкам пилотирования, так как «чертов австралийский стригаль, возможно, и доведет машину до базы, но вот посадить эту херовину нипочем не сможет». В последнее время Тедди часто ругался, сквернословие было заразительным, однако он по-прежнему старался избегать самых жестких словечек. Но ведь случись с ним что-нибудь серьезное, им, вероятно, так и так всем придет конец.
По наблюдениям Тедди, Мак всегда просчитывал маршрут до ближайших нейтральных государств — Швейцарии, Швеции или Португалии — и всякий раз в ясную ночь оттачивал свои навыки ориентирования по звездам. Стеснительный и замкнутый Норман Бест носил под летным обмундированием полный комплект французской одежды, вплоть до нижнего белья, купленного еще в студенческие годы в Париже. А в кармане у него всегда лежал настоящий французский берет. Заправский бойскаут, думал Тедди. «Путем предварительных размышлений и упражнений скаут должен подготовить себя действовать при всяких обстоятельствах и несчастных случаях так, чтобы никогда не быть поставленным в тупик». Здравый смысл подсказывал, что его собственные упражнения с луком и стрелами в «Киббо Кифте» вряд ли пригодятся, если его собьют над Францией и придется как-то выходить к своим.
Позднее Норману в самом деле пришлось выпрыгнуть над Францией, во второй срок своей службы, с другим экипажем в сорок третьем году, но все его тщательно заготовленные хитрости оказались напрасными: в момент прыжка его парашют уже горел; Норман упал на землю расплавленным кусочком свинца; тела его так и не нашли. У Нормана не было никакого талисмана, не было у него и особого обряда, в отличие Джорджа Карра, который, как собачонка, укладывающаяся спать, всегда трижды поворачивался по часовой стрелке, прежде чем войти в самолет, и думал, что никто этого не замечает.
Рядом с Тедди морально готовился к взлету несчастный второй пилот. Звали его Гай — выпускник Итона, так он представился, рассчитывая установить некий контакт с Тедди.
— Итонов мы не кончали, — пренебрежительно бросил Тедди.
Гаю предстояло многому научиться. В случае, если он продержится.
— Ну и рожа! — высказался Вик.
Тедди не впервые летал с подсадными; им уже присылали пару других, когда кто-то из экипажа не мог вылететь на операцию. К примеру, Джордж Карр получил увольнительную, чтобы похоронить отца. Мак пропустил вылет, когда подхватил желудочный грипп, а Кенни — когда на парашютной тренировке вывихнул лодыжку перед вылетом на Бремен. А на прошлой неделе Вик Беннет из-за подкосившей его тяжелой простуды пропустил столь богатый событиями туринский вылет, оказавшийся для J-«джокера» последним.
Недостающее количество вылетов Мак восполнил в составе чужих экипажей, но у двоих других стрелков по-прежнему не хватало по одному вылету. Их ждала участь подсадных. Несчастные.
В рейде на Турин с ними был подсадной стрелок на месте Вика, в центральной верхней башне. Говорил он с легким западным акцентом (например, вместо «Сомерсет» произносил «Замерзет») и за все время полета проронил не более пары слов.
Они летели над заснеженными Альпами при свете яркой, полной луны.
— Не многим довелось такое повидать, верно, командир? — сказал по громкой связи Кенни Нильсон.
Даже Мак привстал со своего места, чтобы взглянуть на это зрелище.
— Обалдеть! Почти как Скалистые горы, — сказал он, а Кенни ответил:
— Брось, ты ведь не видал Скалистые горы с воздуха, правда?
А Кит забормотал что-то насчет Голубых гор, но его прервал Тедди:
— Все, хорош, — прежде чем масштабные рассуждения о сравнительных достоинствах мировых горных цепей не охватили весь экипаж.
Подсадной насчет гор не высказывался. Тедди предположил, что у них в Сомерсете просто нет гор. За исключением нескольких детских поездок на побережье Корнуолла, юго-западная часть страны осталась у него неисследованной. Если пережить войну, подумал он, хорошо бы проехаться по всей Англии, увидеть главные и проселочные дороги, скрытые от мира деревни, величественные памятники, луга, болота и озера. Все то, за что они сражаются.
Им повезло, как сказал Норман, увидеть мир с той стороны, с какой мало кому довелось на него посмотреть. Везенье, за которое приходится платить очень дорогой ценой, — так мыслил Тедди.
Их охватывал благоговейный трепет не только при виде Альп в лунном свете, но и от зрелища бездонного чернильного неба, усеянного тысячами тысяч звезд, разбросанных, подобно ярким семенам, каким-то щедрым божеством, подумал Тедди, опасно соскальзывая в сторону давно отставленной поэзии. Им довелось видеть и волнующе прекрасные рассветы и закаты, а однажды, во время вылета в Бохум, северное сияние подарило им грандиозное, неописуемое представление — дрожащую пеструю завесу, окутавшую небо.
Кенни Нильсон, сидевший в хвосте, похвалялся, что у него самое лучшее место для обзора. Особенно поражали его закаты. Из хвостовой части самолета он мог дольше других наблюдать, как заходит солнце. «Небо горит!» — воскликнул он однажды, после того как Тедди поднял «галифакс» в воздух со взлетно-посадочной полосы. На мгновение Тедди испугался — он представил себе конец света, возмездие, которое посылали им враги, но вдруг Вик Беннет на месте верхнего центрального стрелка воскликнул: «Это самый классный закат, ничего лучше не видел!»
— Как будто сам Господь Бог разрисовал небо, — заметил Кенни, и Тедди не выдержал:
— Можно немного помолчать?
Он уже понял, что конца света не происходит, и теперь досадовал: как он вообще мог такое подумать?
— Шикарно! — не унимался Кенни, поглощенный этим зрелищем. Или Красотой (с большой буквы), как, возможно, сказала бы Сильви.
Будучи хвостовым стрелком, Кенни имел меньше всего шансов из всех них увидеть закат в мирном небе. Только один шанс из четырех остаться в живых, как говорила знакомая Урсулы. Девушка эта, из министерства ВВС, жила без будущего: в июне сорок четвертого ее убило взрывом «Фау-1» в районе Олдвича. У нее был обеденный перерыв: находясь на крыше Адастрал-Хауса, где располагался штаб ВВС, она загорала и жевала сэндвич.
(И какова вероятность такого? — размышлял Тедди.)
Другие девушки из министерства ВВС, выброшенные взрывом из разбитых окон здания, погибли прямо на мостовой. Одного мужчину, по словам Урсулы, рассекло пополам осколком падающего стекла. Тедди предполагал, что для некоторых Урсула тоже была всего лишь девушкой — девушкой из отдела гражданской обороны.
Звали ее Анной. Ту девушку из министерства ВВС. И когда они расставались в конце вечера, проведенного в танцевальном зале «Хаммерсмит-Пале» (в фокстроте ей не было равных), она сказала Тедди: «Удачи», не глядя ему в глаза.
На пути в Турин их почти не обстреливали; итальянские зенитчики били без особого рвения. Бомбить нужно было с высоты шестнадцати тысяч футов по красным дымовым маркерам. С приближением к городу метеорологическая обстановка начала меняться. Альпы, считай, исчезли из виду, и экипаж, повернув домой, оказался перед черной громадой кучевых облаков, плывущей прямо на них. Внутри этого монстра жили молнии и искры, как будто там что-то взрывалось, и сначала они подумали, что попали под обстрел или стали подопытными кроликами в испытаниях новых видов оружия. Лишь через несколько секунд все осознали, что летят навстречу широкому, зловещему грозовому фронту.
Турбулентность была сильнейшая, J-«джокер» трясло, словно игрушечный самолетик. Словно муху, с которой забавляются мальчишки, как боги — с людьми.{88} Зевс метал молнии, Тор размахивал своим молотом. Или, как говаривала Бриджет, феи передвигали мебель, и это было наименее зловещее объяснение для более спокойных времен. Пусть будут феи, подумал Тедди. По громкой связи раздавался целый спектр возгласов: от христиански-сдержанных «боже мой» Нормана до непечатных «мать-мать-мать, вытащи нас из этой задницы, командир» Кита.
Позднее все сошлись на том, что это было хуже зенитного огня. Зенитный огонь, по крайней мере, понятен, а это явление не подчинялось никакой логике. Время от времени вспышки молний высекали внутри этой черной массы зловещие пропасти. Потоки воздуха разбушевались, машину подкидывало и подбрасывало вверх, вниз, во всевозможные стороны, и Тедди опасался, как бы самолет просто не развалился от таких перегрузок.
Температура за бортом очень сильно упала, крылья обледенели. Лед был опасным врагом: он нарастал тоннами, быстро и без предупреждения, замораживал двигатели и тяги управления, покрывал крылья толстой белой коростой. Он мог настолько утяжелить самолет, что тот буквально камнем падал вниз или разваливался на куски в открытом небе.
По громкой связи то и дело поминали Иисуса, Господа, черта, а также цитировали строки двадцать второго псалма («Если в низине, где смерти тень, ляжет мой путь…»), но все это прервалось охами удивления, когда J-«джокер» был резко выброшен из грозовой тучи, чтобы тут же очутиться во власти другого явления.
Это были огни святого Эльма: ярко-голубое, жутковатое свечение, которое ползло вдоль крыльев и даже обвивалось вокруг винтов, срываясь с них странными перьевыми следами, похожими на огненные колеса фейерверка. Свечение «танцевало» даже между стволами спаренных пулеметов, сообщил Кенни из хвоста.
— И здесь тоже, — прозвучало от верхней центральной турели.
Это странное событие заставило Тедди вспомнить о вилисах из «Жизели». Школьный преподаватель музыки организовал для их класса поход в Королевский оперный театр. Танцовщицы были подсвечены таким же мрачным, потусторонним голубоватым светом, который сейчас исходил от J-«джокера».
Если вдуматься, в глазах тринадцатилетних мальчишек из частной школы это был странный выбор. Когда он рассказал об этом отцу, тот вздернул бровь и спросил, как звали того учителя («вероятно, поклонник Уайльда»), и даже Сильви при всей своей любви к Искусству высказала недоумение насчет такого, по ее выражению, «причудливого» выбора, хотя учеников крайне редко вывозили за территорию школы — разве что на какой-нибудь матч по регби. Потом Тедди преследовали жутковатые сны: как будто его хватали эти призрачные женщины и пытались утянуть в темные, неведомые глубины.
Наконец голубое пламя сверкнуло и погасло, и в тот же миг закашлялся внешний двигатель по правому борту; вскоре он уже вибрировал вовсю. Как только Тедди установил его лопасти во флюгерное положение, внушавший ему тревогу внешний двигатель по левому борту тоже завибрировал, да так, будто вознамерился оторваться от корпуса. Может, это было бы к лучшему.
Тедди приказал Маку выработать новый план полета, который позволил бы им в кратчайший срок добраться до базы. Гроза вывела из строя магнитные приборы, и Мак вынужден был ориентироваться на глазок, но тут решил загореться внутренний двигатель по левому борту. Дай хотя бы дух перевести, взмолился про себя Тедди, выжимая ручку и пикируя («Держитесь, ребята!»); при этом удалось не только потушить вспыхнувшее пламя, но и стряхнуть с крыльев наледь. Нет худа без добра, думал он. Или наоборот: нет добра без худа.
Теперь задымился внешний правый, а еще через пару минут Кит доложил, что видит языки пламени; и тут двигатель без предупреждения рванул, причем сила взрыва была такова, что самолет едва не перевернулся. Из бортового переговорного устройства бессвязным потоком неслось «Боже помоги!» и «черт побери!». Тедди сказал:
— Все нормально.
А сам подумал: что за бред. Машина летела на двух двигателях, сражаясь со встречным ветром и обледенением, без радиосвязи, на глазок. Какое уж тут «нормально».
Тедди уже подумывал, не скомандовать ли всем покинуть самолет, как вдруг произошло нечто еще более тревожное: Мак запел. Не кто-нибудь, а Мак. И не какую-нибудь песенку из канадской лесной глуши, а какофоническую версию буги-вуги «Молодой горнист».{89} Даже сквозь помехи бортового переговорного устройства было слышно, что он не попадает в ноты, особенно в той части, где имитировались звуки горна: в его исполнении они напоминали стоны раненого слона. Вслед за тем их угрюмый канадец зашелся хохотом, примерно как Чарльз Пенроуз в песне «Смеющийся полицейский».{90} Тедди попросил Нормана узнать, что там творится у Мака за переборкой.
Оказалось, у него замерзла кислородная трубка. Тедди попытался ее разморозить при помощи кофе из своего термоса, но напиток был уже чуть теплым. Вытащив Мака с сиденья, они подключили его к центральному кислородному баллону и хотели надеяться на лучшее. Гипоксия заставляет человека творить самые невообразимые вещи, а потом и вовсе пытается его прикончить.
После войны Мак устроился на работу в крупную страховую компанию в Торонто. К тому времени, когда Тедди встретил его на той единственной встрече однополчан, куда решился выбраться, Мак успел жениться, завести троих детей и воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. («Удачно вложил свои денежки».) От прежнего Мака в нем ничего не осталось; Тедди даже подумал, что по большому счету никогда его не знал. Равно как и всех прочих участников той встречи. Просто у него в свое время возникли какие-то иллюзии, в силу обстоятельств их знакомства. На нынешнем этапе Мак, по мнению Тедди, раздувался от самодовольства. И тот страшный отрезок времени, что их объединил, как будто не оставил на нем ни следа. Тедди считал, что старики во все времена любили вспоминать о войнах прошлого. Иерихон, Фермопилы, Нюрнберг. Ему совершенно не улыбалось быть в их компании. На встрече однополчан он не задержался.
— Простите, парни, ухожу на крыло, — сказал он на их военном жаргоне, который теперь вызывал только насмешки.
Тем не менее даже спустя все эти годы он в длинные, темные ночные часы, страдая от бессонницы, обнаруживал, что декламирует названия городов. Эссен Бремен Вильгельмсхафен Дуйсбург Вегезак Гамбург Саарбрюккен Дюссельдорф Оснабрюк Фленсбург Франкфурт Кассель Крефельд Аахен Генуя Милан Турин Майнц Карлсруэ Кёльн Киль Гельзенкирхен Бохум Штутгарт Берлин Нюрнберг. Кто-то считает овец, а Тедди считал города, которые пытался разрушить и которые пытались разрушить его. Возможно, они в этом преуспели.
На подлете к французскому побережью, возвращаясь из Турина, они угодили под обстрел. Зенитный снаряд прошил фюзеляж насквозь и сотряс J-«джокера» так, что чуть не стряхнул с небес на землю. Самолет летел в толстой пелене облаков, и на миг Тедди потерял ориентировку: ему показалось, будто они летят кверху брюхом. В нос ударил запах кордита, откуда-то повалил дым, но огня видно не было.
Тедди провел перекличку.
— Все в норме? — спросил он. — Хвостовой стрелок, стрелок-радист, бомбардир?
Тедди всегда беспокоился за хвостового стрелка, находившегося дальше всех. Как ни удивительно, этот словоохотливый, общительный парень, малыш Кенни Нильсон, сохранял бодрость духа в своем холодном, тесном гнезде. Тедди не выдержал бы там ни минуты.
Каждый отзывался на свой лад: «О’кей», «Нормально», «Здесь пока» и так далее. Норман отправился проверить корпус на наличие повреждений. Фюзеляж пробит в нескольких местах, крышку нижнего люка аварийного выхода сорвало. И, как видно, гидравлику перебило, определил он по хлюпанью жижи под ногами, но признаков пожара не обнаружил.
С каждой милей самолет летел все ниже и медленнее. На высоте менее пяти тысяч футов они сняли кислородные маски. Мак слегка оклемался и прилег на топчан.
Тедди решил, что долго им так не протянуть, и приказал всем готовиться покинуть борт, но в это время они ковыляли уже над морем, и все согласились, что будет лучше попытаться дотянуть до суши, чем садиться на воду. С каждым вылетом их вера в способности Тедди доставить их до цели и обратно все более крепла. Скорее всего, напрасная вера, с тоской подумал он.
Когда в поле зрения появился английский берег («слава тебе господи»), топливные баки были почти пусты. Последние несколько часов Джордж пытался наладить радио и, наладив-таки, сделал запрос об аварийной посадке, но казалось, все аэродромы заснули. Сейчас «галифакс» шел так низко, что, пролетая над железнодорожным полотном, они различили ползущий поезд: из-под щитков затемнения проглядывало жаркое, багровое свечение топок. С такой высоты нечего было и думать выброситься с парашютом — разобьются в лепешку. Тедди приказал всем занять места по аварийному расписанию, что означало не более чем уцепиться кто за что может, но тут, в последнюю минуту, спокойный, уверенный женский голос дал им разрешение на посадку в Скэмптоне, и Норман сообщил:
— Дотянем, командир!
И они дотянули, причем, как думал Тедди, скорее силой их коллективной воли, чем благодаря его мастерству. Вот на что способны семь умов, работая как один! Оказалось, впрочем, что умов было шесть.
Им чуть-чуть не удалось дотянуть до взлетно-посадочной полосы. С перебитой гидравликой, Тедди не мог выпустить ни закрылки, ни даже шасси, так что на скорости сто пятьдесят миль в час пришлось садиться на брюхо. Самолет проскочил над полосой, вломился в живую изгородь на краю аэродрома, вылетел на поле, пересек дорогу, подпрыгивая на ухабах, чудом не снес коньки ряда фермерских домов, проломился через еще одну изгородь, пропахал следующее поле и наконец, перетряхнув все кости экипажу, остановился. Нескольких человек с такой силой приложило к носовой переборке, что они, помятые, в синяках, не сразу сумели вскарабкаться по лестнице к верхнему люку. В тот же миг самолет наполнился едким запахом дыма, и Тедди, стоя у нижней ступеньки, торопил отставших:
— Живее, парни, шевелитесь!
Он пересчитал ребят. Не хватало двоих, в том числе и Кенни. И ни следа стрелка-радиста.
Выбравшись наконец из самолета, Тедди увидел, что задняя турель все еще держится на обломках корпуса. J-«джокер» оставил позади себя целый шлейф: колеса шасси, крылья, двигатели, топливные баки — ни дать ни взять распутница, сбросившая одежды. Остатки фюзеляжа полыхали, а потрясенный экипаж собрался вокруг хвостовой башенки, где, похоже, застрял Кенни. Кит заорал:
— Вылезай давай, черт тебя дери!
Хотя тот при всем желании не мог этого сделать: дверцы заклинило.
Боже, подумал Тедди, наступит ли конец этому кошмару? Или один ужас так и будет сменяться другим? Ну да, это же и есть война.
Прямо за спиной Кенни бушевало пламя, и Тедди с содроганием вспомнил о пулеметных лентах, до которых вот-вот должен был добраться огонь. Кенни орал, запрокинув голову, и матерился, если верить Киту, как никто и никогда. Неужели им придется стоять и смотреть, как он горит заживо?
В хвостовой башенке была небольшая панель, где им пришлось снять плексиглас, чтобы обеспечить лучший обзор стрелку (замораживая его при этом до полусмерти), и они принялись уговаривать Кенни протиснуться в это крошечное отверстие. Он уже сумел сбросить с себя громоздкий костюм с подогревом, но еще оставалась форма.
Когда-то в Лондонском зоопарке Тедди видел, как осьминог протиснулся сквозь невероятно маленькое отверстие: вот такой забавный трюк показывали детишкам. Но осьминог не был закован в летный костюм и тяжелые ботинки, да и скелет у него отсутствовал. Но если кто и мог исполнить подобный трюк в стиле Гудини, так это юркий, как крыса, стрелок хвостовой части.
Он сумел высунуть голову, весь изогнулся и попытался просунуть через отверстие плечи. Тедди пришло в голову, что это смахивает на роды, о которых, впрочем, он имел весьма смутное представление. Как только Кенни, извернувшись, и впрямь просунул плечи сквозь люк, все вцепились в него мертвой хваткой и стали тянуть что было сил, надрывая глотки, и он вдруг выскочил, как пробка из бутылки, или как Иона из чрева кита. А затем, ко всеобщему ужасу, вместо того чтобы немедленно оттуда спрыгнуть, он, высвободившись из этих тисков, просунул голову и руки назад через отверстие внутрь турели, а потом изобразил триумфальный выход, подняв над головой потрепанный и очень счастливый талисман: черную кошку.
Затем они все словно одержимые бросились прочь от останков самолета, который взорвался через минуту. Слепящие языки белого пламени вскинулись вверх, точно облизывали рассветное небо, — это рванули кислородные баллоны. Затем угрожающие хлопки, искры — огонь добрался до пулеметной ленты.
Несчастный J-«джокер», трудяга, который в своем зловонном, маслянистом чреве прокатил их в ад и обратно, приказал долго жить.
— Хорошая была машина, — сказал на прощанье Кит.
Все согласились: да, действительно.
— Покойся с миром, — добавил Кенни.
Пробуждение в фермерских домах выдалось грубым и громким, но какая-то добрая незнакомая женщина, по-матерински заботливая, вынесла на подносе чай. Откуда ни возьмись появился фермер, негодуя о погубленном урожае капусты, но тут же получил выговор от женщины. К этому времени прибыл грузовик из Скэмптона, чтобы подбросить их до авиабазы, где им предстояло позавтракать и ждать отправки в часть.
Больше всего им сейчас хотелось спать, и дорога назад показалась бесконечной. К тому же по прибытии пришлось как положено отчитываться перед офицером разведки. Они почти оглохли от шума двигателей J-«джокера», а серые от усталости лица еще хранили вмятины от кислородных масок. У Тедди стучало в голове, что, в принципе, было вполне естественно после такого полета.
Близилось время обеда, и, несмотря на то что в руках у них были привычные кружки с чаем и толикой рома, капеллан, совершавший обход с сигаретами и печеньем, сказал:
— Слава богу, вы вернулись, ребята.
Техники даже не прилегли отдохнуть, пока из Скэмптона не пришло известие, что члены экипажа живы; начальник базы и вовсе не спал и заглянул послушать их отчет офицеру разведки. Этот экипаж находился на службе дольше остальных, и начальник базы по-отечески любил всех. Турин был их двадцать восьмым вылетом.
Они приземлились без подсадного. Сообща пораскинув мозгами, сообразили: наверно, когда Тедди первый раз велел приготовиться покинуть J-«джокер», подсадной сразу и выпрыгнул. Над Францией, что ли? Или уже над Северным морем. Тедди был настолько измотан, что не вспомнил бы и собственного имени, не говоря уже о подробностях мучительного возвращения. А уж имени подсадного он тем более не помнил.
— По-моему, Джим, — сказал Джордж Карр.
Норману казалось, что Джон. В итоге все сошлись во мнении, что имя точно начиналось на букву «Д». Офицер разведки, переворошив целую кипу бумаг, сообщила:
— Вообще-то, на «Г». Гарольд Уилкинсон.
— Ну, почти в точку, — отозвался Джордж Карр.
Мак и вовсе ничего не помнил из-за кислородного голодания: он признался, что даже не знает слов буги-вуги «Молодой горнист», — и они горланили эту песню, когда отмечали возвращение из туринского рейда. У них оставалось сорок восемь часов, половину из которых они проспали, а другую провели в йоркском баре «Беттиз», где напились в дрова.
После войны, много позже, Тедди провел небольшое расследование с целью выяснить, что же все-таки случилось с подсадным. Но не нашел ни одного отчета ни о том, что он успешно приземлился, ни о том, попал ли он в плен или избежал этой участи. Парня объявили пропавшим без вести, и в конце концов имя его обнаружилось на мемориале в Раннимиде, где он значился как Гарольд Уилкинсон, а никакой не подсадной.
— Тупица! — воскликнул Вик Беннет. — Надо было пилоту доверять, правда? Не могу поверить, что я все это пропустил!
Они вернулись все-таки раньше, чем экипаж А-«арбуза»: из того же Турина ребят занесло с двумя разбитыми двигателями в Алжир. Они официально считались пропавшими без вести до тех пор, пока не вернулись на аэродром. Их «галифакс», ко всеобщей радости, приземлился, нагруженный ящиками с апельсинами, которые тут же разошлись по дивизиону, несколько ящиков отправили в местную школу, детям. Тедди ел апельсин очень медленно, смакуя каждую дольку, и думал об обжигающем средиземноморском солнце, которого, как ему казалось, он больше никогда не увидит. И не увидел. После войны Тедди не выезжал за границу, не ездил в отпуск, его нога так и не ступила на борт современного воздушного или морского лайнера. Виола говорила, что его «изоляционистская политика» выглядит жалкой, он же отвечал, что дело тут вовсе не в политике, просто так вышло. «Шовинизм» и «ксенофобия» (еще два словечка из ее арсенала) тут тоже ни при чем. Она сокрушалась, что он растерял «дух приключений», он же был уверен, что война подарила ему приключений на несколько жизней вперед, а жить и развиваться человек вполне способен в границах собственного сада.
— Il faut cultiver notre jardin,[14] — сказал он, сильно сомневаясь, что она когда-нибудь слышала о Кандиде. Или хотя бы о Вольтере.
— Бомболюк открыт.
— Принято, бомбардир.
— Аккуратно, командир. Влево. Влево. Аккуратно. Чуть правее. Плавно, плавно. Бомбы пошли.
S-«сахар» подпрыгнул в воздухе, освободившись от бомбовой нагрузки. Но это пока не конец: требовалось еще секунд тридцать лететь прежним курсом над целью, пока не выйдет фотобомба и не сработает камера в бомбоотсеке. Снимок будет доказательством того, что заход на цель выполнен, — иначе вылет могли не засчитать, — но одному Богу известно, что там проверяющие сумеют разглядеть на фотографии, думал Тедди. Из-за промышленных выбросов, висевших над Руром, видимость была нулевая, воздух чернел как сажа, а земля внизу могла сойти за поверхность Луны. Ориентировались они по дымовым маркерам — спасибо самолетам наведения из недавно сформированного спецавиаотряда — и надеялись на лучшее.
Позже, через много лет после войны, когда чередой стали выходить исторические очерки, воспоминания, биографии и люди уже не хотели забывать войну, а, наоборот, всячески старались ее увековечить, Тедди по-новому взглянул на эту операцию и пришел к выводу, что львиная доля бомб была сброшена десятью милями западнее цели и в конечном счете, пожалуй, бомбардировщики понесли куда больший урон сами, чем причинили ущерба на земле. Чем больше он читал, тем яснее осознавал, насколько неточными были их бомбардировки в первые годы войны.
На ужине, когда встречались однополчане, он обсудил этот вопрос с Маком.
— Сколько сил — и всё псу под хвост! — сокрушался Тедди.
— А сколько бомб! — добавил Мак.
Вероятно, будучи штурманом, Мак решил, что это камень в его огород.
— Да я о другом, — возразил Тедди. — Сколько летчиков погибло, сколько самолетов пропало ради столь незначительного результата. Мы были уверены, что подрываем их экономику, а чаще просто убивали женщин и детей.
— Не могу поверить, Тед, что тебя совесть заедает.
— Вовсе нет, — возразил тот.
— Они первыми начали, Тед, — сказал Мак.
А мы завершили, подумал Тедди. Он был рад, что провел последние полтора года войны в лагере для военнопленных и не стал свидетелем того, как бомбардировочное авиационное командование пыталось стереть Германию с карты Европы.
Ответ на все вопросы: они первыми начали. Посеяли зло. Сами напросились. Стандартные клише, рожденные войной.
— Око за око, — сказал Мак. — Что ни говори, Тед, но хороший немец — это мертвый немец.
(Неужели любой немец? — удивился Тедди. И неужели до сих пор?)
— Знаю-знаю, я не имел в виду, что нам вообще не стоило их бомбить, — принялся объяснять Тедди, — но, оглядываясь назад…
— Тед, оставим эти «оглядки» — вопрос заключается в следующем: ты бы сделал то же самое вновь, если бы потребовалось?
Сделал бы. Конечно да (Освенцим, Треблинка), но он не стал потакать Маку своим ответом.
Камера сработала, и Тедди заложил вираж, а Мак установил курс обратно домой.
— Не так все было и страшно! — крикнул второй пилот. (Вроде Гай. Тедди не был уверен. Кажется, Гай. А может, Джайлс?)
По громкой связи на него хрипло цыкнули два или три голоса. Ребята боялись сглазить.
— Впереди еще долгий путь, — ответил Тедди.
По дороге обратно зенитный огонь был не менее плотным, чем по дороге туда, а то и плотнее. Снаряды разрывались со всех сторон, по корпусу барабанили осколки.
По левому борту вдруг полыхнула ослепительная вспышка: «ланкастер» подбили в крыло, которое отлетело от фюзеляжа, рассекая воздух, и угодило в другой бомбардировщик, снесло ему среднюю верхнюю турель. Оба «ланкастера» вошли в штопор и понеслись к земле, кружась, как в огненном балете.
— Черт! — раздался в интеркоме перепуганный голос.
Тедди не разобрал, кто это, Вик или Джордж. И правда черт, мысленно повторил он. И отправил Нормана в хвостовой отсек — оценить ущерб от осколков.
— Чертовски огромная дыра! — воскликнул тот.
Но все было понятно и без слов: арктический штормовой ветер насквозь пронизывал их S-«сахар». Гай, как видно, больше не считал, что не так все и страшно. Он знаками показал Тедди, что собирается в хвостовой отсек, познакомиться поближе с отвратительным мистером Элсаном.{91} Гай. Который учился в Итоне. Нужно запомнить, наказывал себе Тедди. Он чувствовал свою вину в том, что «подсадной из Замерзета» пропал. По большому счету Тедди отвечал за всех, кто находился на борту. И уж хотя бы должен был запомнить их имена. Вернуться Гай не успел: оба стрелка закричали в один голос по громкой связи:
— Истребитель по левому борту, уходим вниз!
И Тедди рванул штурвал вперед, но было уже поздно: истребитель открыл огонь, и кабина содрогнулась от невероятной силы грохота, будто сам Господь Бог бросал в фюзеляж камни. Машина наполнилась едкой вонью кордита.
Тедди вывел «галифакс» из крутого пике и, заложив правый вираж, снова набрал высоту, но истребитель уже исчез, и Тедди его больше не видел. Тот не вернулся, исчезнув так же таинственно, как и возник. Мак проложил обратный курс в обход сильно укрепленных районов у Роттердама и Амстердама, но к тому времени, когда они достигли побережья Голландии, высота составляла всего две тысячи футов. Истребитель с его пушкой потрудились на славу. Оба внутренних двигателя отключились, у правого крыла снесло элерон, пять крыльевых баков пробиты. В фюзеляже — огромная дыра. Тедди установил во флюгерное положение лопасти бесполезных винтов, и машина еле ползла, но возвращаться назад было слишком поздно: они летели в облаках, а когда вышли наконец из облачности, внизу синели воды Северного моря.
Некоторое время рядом с ними держался еще один «галифакс», но они летели так низко и медленно, что он вскоре отделился и, покачав крыльями, ушел вверх. Они остались одни.
На высоте полутора тысяч футов Тедди приказал экипажу готовиться к посадке на воду. До английского берега — десять миль, ровным тоном сообщил он. «Дотянуть бы, командир», — взмолился кто-то из экипажа. Мысль о вынужденной посадке сама по себе никого не радовала, но упасть в воду и в беспомощном состоянии угодить в лапы к немцам — это уже было бы слишком.
— Полетели дальше, — упрашивал Норман. — Мы же после Турина дотянули, вспомни.
Снизившись до тысячи футов, они уже различали барашки волн. Высоких волн — футов пятнадцать-двадцать. «Все, кто бурей смят»,{92} — подумал Тедди.
К этому времени они уже выбросили все, что можно: штурманский стол, подушки, термосы, кислородные баллоны. Кит вырубил топором сиденья, а Вик демонтировал пулеметы в средней верхней башенке и швырнул их за борт, а следом и саму турель. Что угодно, лишь бы протянуть еще чуть-чуть. «До английского берега четыре мили», — сообщил Мак привычным ровным тоном. Его документы и карты разлетелись веером, когда, уходя от истребителя, они нырнули в пике, и теперь он собирал их в стопку, словно готовился закрывать контору на выходные. Но одно дело не впадать в панику, думал Тедди, и совсем другое — не понимать критичности момента. Ему вспомнилось, как они пытались вытащить Кенни из хвостовой башенки: Мак стоял в сторонке и отпускал свои комментарии, а остальные бились как в лихорадке.
— Летим дальше, командир, — выговорил другой голос.
На пятистах футах Джордж Карр зафиксировал ключ бортовой рации, настроив ее на международную аварийную волну, и достал портативную рацию для шлюпки.
На четырехстах футах топливные датчики обнулились. Открыли аварийные люки, и Тедди велел всем занять позицию для приводнения. Мак лег на топчан у правого борта, Норман — у левого. Ступнями оба упирались в носовой лонжерон. Стрелки́ прислонились к хвостовому лонжерону, а Джордж с Китом сели между их ног. Кто завел руки за шею, кто облокотился на сложенный парашют, чтобы смягчить удар. Тедди всех вымуштровал.
Удар о воду произошел на скорости сто десять миль в час. Носовой отсек бомбардира-наводчика развалился при ударе, и внутрь S-«сахара» хлынула гигантская волна воды и бензина, объяв их по шею, — они едва-едва успели надуть спасательные жилеты. Джорджа снесло волной, и остальные неуклюже протолкнули его в люк. Оказалось, Кенни не умеет плавать, да к тому же боится воды, и Маку пришлось одной рукой держать его, брыкающегося и орущего от страха, за шкирку и тащить через весь затопленный фюзеляж. Тедди двигался позади всех. Капитан всегда покидает корабль последним.
Шлюпку, закрепленную в крыле, надули, и она перегородила верхний люк. S-«сахар» почти под завязку наполнился водой и начал крениться на левый борт. На миг Тедди подумалось: это конец, но он поднырнул и выплыл через дыру в фюзеляже.
С грехом пополам все выбрались, с грехом пополам залезли в шлюпку. Норман перерезал трос, и они отплыли от S-«сахара». Машина по-прежнему оставалась на плаву в серых суровых водах, кренясь на один бок, но через несколько минут пропала с глаз долой.
Из темноты донесся звук какого-то двигателя. Мак схватился за ракетницу, пытаясь подать сигнал, но распухшие, онемевшие пальцы не слушались. Как долго они находились в воде? Счет времени потерялся. Но все сходились на том, что пошла вторая ночь их вылета. Скоро до них дошло, что посадка на воду была только началом испытаний. Море тяжело вздымалось; как только они сумели забраться в шлюпку, их тут же смыло за борт гигантской волной. Ну, хотя бы шлюпка не перевернулась (и на том спасибо), но, чтобы забраться в нее вторично, от них потребовались неимоверные, почти нечеловеческие усилия, не говоря уже о том, что пришлось еще затаскивать в нее бесчувственного Джорджа.
Вик умудрился потерять ботинки и мучительно трясся от холода. Остальные по очереди растирали ему ступни, но постепенно у всех онемели руки. Насквозь промокшая одежда многократно усугубляла их страдания.
Несчастного Джорджа, получившего сотрясение мозга, кое-как усадили, но он постоянно сползал в воду, скопившуюся на дне шлюпки. Вроде бы он пришел в сознание, но все время стонал. Трудно было понять, мучит ли его боль, но Мак на всякий случай впрыснул ему морфий, и Джордж затих.
Все той же волной смыло рацию, да и кто знает, как далеко их отнесло от места вынужденной посадки? Шансов на то, что их заметят с самолета или пришлют за ними спасательный катер, практически не было.
К тому времени, когда один из них, Норман, сумел спустить курок ракетницы, звук двигателя совсем затих, и Кит сказал: «Поздно, мать его». Ракета лишь осветила бескрайнюю тьму, тем самым окончательно сломив их дух. Тедди подумал, что звук самолетного двигателя им померещился. Возможно, затеряться в волнах — это примерно то же самое, что затеряться в пустыне, и скоро у них начнутся галлюцинации, обманы зрения и напрасные иллюзии.
— Я б душу отдал за курево, — выговорил Кит.
— Была у меня где-то пачка сигарет. — И Кенни попытался извлечь ее из кармана.
Полностью размокшие «Вудбайнз» пришлось выбросить за борт. От пайков, естественно, ничего не осталось: сигареты, еду, все, что могло поддержать в них жизненные силы, унесла та же волна, которая смыла их из шлюпки. Тедди нашарил у себя в кармане кусок шоколада, и Мак скрупулезно разделил его на части с помощью перочинного ножа. Прав был Джордж, что съел свою плитку заранее: теперь ему уже было все равно. Вик отказался от своей доли: его нещадно укачивало.
— Слышал я россказни, — выдавил Кит, — про то, как мужиков неделями носит в открытом море и они принимаются пожирать друг друга, начиная с юнги.
Все инстинктивно посмотрели на Кенни.
— Но, доложу вам, я скорее свою собственную ногу отрежу и съем, чем ваши вонючие пятки грызть начну.
— Это личное оскорбление! — возмутился Мак. — Мною можно неплохо закусить.
С этого начались разговоры о еде, от которых в отсутствие еды — один вред, но мало-помалу разговоры эти угасли. Всех сморило изнеможение и одолел тревожный сон. Один Тедди опасался, что может не проснуться, и не сомкнул глаз.
Он размышлял, что бы предпочел сейчас съесть. Будь у него один-единственный шанс нормально поесть, что бы он выбрал? Шикарный ресторан или ужин из своего детства? В конце концов он остановился на пирогах с дичью, которые пекла миссис Гловер, и бисквитном пудинге с патокой и заварным кремом. Но мечталось ему даже не об этом, а о том, чтобы оказаться за столом в стиле регентства, и чтобы во главе стола восседал Хью — Хью, восставший из мертвых, и чтобы Памела качала на коленке Джимми, и чтобы сестры были с бантами и в коротких юбочках. Бриджет знай приносила бы из кухни блюдо за блюдом, а миссис Гловер ворчала бы где-нибудь поблизости. И чтобы Сильви была грациозной и беззаботной. Даже для Мориса нашлось бы местечко, пусть его. А под столом чтобы лежала собака. Или две — они по-прежнему жили в его воображении: Трикси и Джок пусть бы грели ему ноги. Но как он ни старался, дремота все же взяла над ним верх.
Второе утро в море принесло с собой какой-то свинцовый, ничего не суливший свет. На несколько часов волны утихли, но поднялся порывистый ветер. Он то и дело обдавал их брызгами, хлестал по щекам, не давал дышать. Вроде бы они уже и так промокли до нитки, но оказалось, что это далеко не предел. Что еще хуже, в шлюпке обнаружилась течь; пришлось включить аварийный насос, который очень скоро вышел из строя; оставалось одно — вычерпывать воду руками, и без того окоченевшие ладони совсем заледенели. Джордж был совсем плох, да и Вик тоже. Ни тот ни другой больше не отворачивался от жестоких волн. Тедди подполз к Джорджу и попытался нащупать пульс, но волны совсем разбушевались. Ему показалось, что Джордж мертв, но делиться этим подозрением с остальными Тедди не стал.
Кенни скорбно уставился на Джорджа. А потом перевел взгляд на Тедди и выдавил:
— Если мне суждено умереть, командир, то лучше бы рядом с тобой.
— Ты не умрешь! — резко отозвался Тедди.
Начнешь отчаиваться — пиши пропало. «Избегай мрачных мыслей».
— Ясное дело, но все-таки…
А где же, спросите вы, был их второй пилот? Гай. Никто не помнил, чтобы его видели после атаки истребителя, и в шлюпке заспорили: что же могло с ним произойти? В конце-то концов, не мог же он раствориться в воздухе; значит, выпал, никем не замеченный, через пробоину в фюзеляже, когда машина вошла в штопор, и рухнул без парашюта в Северное море.
Еще одна роковая волна обрушилась на них бетонной глыбой. Сколько могли, они держались, но Вика и Кенни смыло за борт. Тедди сам не понял, как им удалось собраться с силами, чтобы втащить в шлюпку обезумевшего Кенни. («Как-как, недомерок потому что», — сказал впоследствии Кит), но ведь они это сделали. А Вик болтался в воде мертвым грузом: его поднять не удалось. Любые попытки были обречены на неудачу: силы кончились, вот и все. Им удалось просунуть одну его руку под канат шлюпки, но Тедди отдавал себе отчет, что в воде Вик протянет считаные минуты.
Тедди постарался устроиться рядом с Виком и увидел, как у того запрокинулась голова, а глаза искали командира, но Тедди понимал, что парень не может более сопротивляться.
— Ну, в добрый час тогда, — прошептал Вик и высвободил руку из-под каната. Его отнесло на несколько ярдов, а потом он тихо ушел под воду, в свою безвестную могилу.
Джордж Карр, вопреки предположениям Тедди, тогда не умер: скончался он через двое суток в госпитале, «от шока и погружения»: Тедди решил, что это значит «от холода».
Подобрал их совершенно случайно корабль Королевского военно-морского флота, отправленный на розыски совсем другого потерпевшего аварию самолета. Их подняли на борт, переодели в сухое, дали горячий чай с ромом и курево, укутали одеялами и бережно, как младенцев, уложили на койки. Тедди мгновенно провалился в глубочайший сон, а когда через час с лишним проснулся, получил еще горячего чая с ромом и захотел уснуть на этой койке вечным сном.
Одну ночь они провели в госпитале, после чего сели на поезд там же, в Гримсби, и прибыли в эскадрилью. Тело Джорджа забрали родственники, чтобы похоронить в Бернли.
Всем им дали недельный отпуск, но остался один нерешенный вопрос: о недостающем тридцатом вылете Кенни. Никто не верил, что после всего ими пережитого начальство будет настаивать на точном следовании букве, но начальник базы, добрый человек, сказал, что у него «связаны руки».
Итак, всего через неделю после того, как их, будто полудохлых котят, вытащили из пучины, они уже сидели в самолете на взлетной полосе и ждали сигнала. Уцелевший экипаж — Тедди, Мак, Норман и Кит, у которых первый срок службы закончился, — добровольно вызвался совершить дополнительный вылет ради Кенни. Узнав об этом, тот заплакал, и Кит сказал: «Ну вот, сопли распустил».
Это был безрассудный, рыцарский поступок. Отчего-то все решили, что после посадки на воду стали «заговоренными» и ничего с ними не случится; девушка из министерства сказала бы, что это совсем не так. А ведь все приметы и предзнаменования были против них (не иначе как для Кита сработало фамильное «везенье шиворот-навыворот»). Позаимствовав чужой самолет, они взяли на борт еще двоих человек, которым требовалось набрать вылеты, и выходило, что все они по большому счету здесь подсадные. Взяли даже второго пилота — впрочем, отнюдь не салагу, а своего собственного начальника базы, который решил «тряхнуть стариной». Тедди понадеялся, что благодаря его присутствию оперативное задание им выдадут щадящее, пустяковое — разбросать, к примеру, листовки над Францией, — но нет, отправили их на Берлин, в полноценный массированный рейд. Всех охватило некое буйное, беспричинное веселье, как мальчишек-скаутов, собравшихся в поход.
Они добрались до Берлина и обратно, не задетые зенитным огнем, и даже не встретили ни одного истребителя. И стали одним из первых экипажей, вернувшихся на базу. Кенни, выбравшись из самолета, поцеловал бетонную полосу. Все пожали друг другу руки, и начальник базы сказал: «Ну что, парни, правда же ничего страшного?» Он сглазил. В следующий раз он вылетел в роковой рейд на Нюрнберг и, как слышал Тедди, не вернулся.
Оказалось, что Лиллиан на сносях: она встретила их в стареньком пестром сарафане, который уже трещал по швам. Вид у нее был усталый, под глазами пролегли темные круги, на тощих ногах набухли вены. Живется ей несладко, подумал Тедди. Трудно было поверить, что это та самая Лил, которой принадлежали атласные «невыразимые». И куда, спрашивается, они ее привели?
— Готовились к свадьбе, а справляем поминки, — сказала миссис Беннет. — Присядь, Лил, тебе стоять вредно.
Лиллиан послушно села; миссис Беннет заварила чай.
— Я никогда раньше не бывал на Кэнви-Айленде, — сказал Тедди, а мать Вика ответила:
— А что тут делать-то?
Плохие зубы, как видно, достались Вику от матери.
— Он не говорил, что у него будет ребенок, — продолжил Тедди, и мать Вика ответила:
— А что говорить-то?
Тут Лиллиан подняла бровь и улыбнулась Тедди.
— Внебрачный ребеночек, — пояснила мать Вика, наливая заваренный чай из большого алюминиевого чайника.
В ней странным образом уживались осуждение и довольство.
— Не он первый, не он последний, — вмешалась Лиллиан. — Вик письмо оставил, — обратилась она к Тедди. — Вы небось знаете: так уж заведено.
— Да, знаю, — подтвердил он.
— Еще б ему не знать, — сказала миссис Беннет. — Видать, и у самого такое написано.
Тедди полагал, что миссис Беннет официально не будет считаться свекровью Лиллиан и когда-нибудь несчастная девушка сможет от нее отделаться. И на том спасибо.
— Так вот, он наказал, — гнула свое Лиллиан, не обращая внимания на миссис Беннет, — он строго-настрого наказал, чтоб если мальчик родится, Эдвардом назвать.
— Эдвардом? — озадаченно переспросил Тедди.
— Ну да, в честь вас.
И тут впервые за все военное время у Тедди потекли слезы. Он позорно, безобразно зарыдал, и Лиллиан встала, обняла его, прижала к своему округлившемуся животу и стала успокаивать:
— Ну будет, будет, — в точности как успокаивала через пару месяцев родное дитя.
Мать Вика смягчилась и заставила Тедди с ними пообедать, как будто ее блинчики с сосисочным фаршем могли умерить их общую скорбь. Ему подлили чаю, угостили сигаретами и сластями, припасенными к возвращению Вика, и отпустили только тогда, когда у него начали слипаться глаза и Лиллиан взмолилась:
— Да отпустите вы беднягу, я пойду его до автобуса провожу.
— И я с вами, — вызвалась миссис Беннет, нахлобучивая шляпу.
А Тедди подумал: я — единственная ниточка, тянущаяся к Вику, им не так-то просто меня отпустить.
— Он про вас писал, — глядя прямо перед собой, поведала мать Вика, пока они ждали на автобусной остановке. — Рассказывал, что лучше вас человека нету.
Тедди заметил, как дрожит у нее нижняя губа.
Тут показался автобус, и это избавило Тедди от необходимости придумывать ответ.
— Да, чуть не забыл, — спохватился он. — Наш хвостовой стрелок, Кенни Нильсон, просил кое-что передать вам для ребенка.
Тедди достал из кармана потрепанную черную кошку — талисман Кенни. Кошка пережила посадку на воду, но красивее от этого не стала. Во время последнего боевого вылета она гордо восседала в кабине пилота всю дорогу до Берлина и обратно.
— Страх какой! — отшатнулась миссис Беннет. — Ребеночку такое давать негоже.
Но Лиллиан взяла матерчатую зверушку и сказала Тедди:
— Вот спасибо. Я это сберегу.
— Ладно, мне пора. — Тедди поднялся на площадку. — Приятно было с вами познакомиться. Ну, в добрый час тогда, — добавил он и только сейчас сообразил, что это были прощальные слова Вика.
1982 Полночная отвага{93}
По ночам он плакал в подушку, не понимая, за что ему это все. За то, наверное, что он какой-то не такой? Все ему об этом твердили: мама, бабушка, порой даже сестренка… Но в чем же дело? Ведь если узнать, что в тебе не так, то можно постараться как-то это исправить, правда-правда. Очень, очень постараться. И тогда, быть может, закончатся эти мучения, и злая ведьма, которая прикинулась бабушкой, отпустит его домой, и он никогда в жизни больше не совершит ни одного плохого поступка.
Каждый вечер, укладываясь спать, Санни в отчаянии перебирал в голове свод непонятных правил, вопросов и придирок (со всех сторон), без которых в «Джордане» не обходился ни один день (стой прямо; жуй с закрытым ртом; избавь, не тащи в дом всякую грязь; почему не вымыл уши — собрался в них картошку выращивать?; покажи, что в руке; какое безобразие!). Что ни сделаешь — все не так. От этого он совсем извелся. И забывал говорить «спасибо» и «пожалуйста», чем предельно возмущал бабку.
Рыдания приходилось заглушать, а иначе она с топотом взбиралась по лестнице, врывалась к нему в комнату и приказывала умолкнуть и спать. «И не заставляй меня подниматься сюда еще раз, — непременно добавляла она. — Эти ступеньки рано или поздно меня доконают». Вот было бы хорошо, думал Санни. А зачем она поселила его под самой крышей, если не может подниматься по лестнице?
Отвела ему какую-то клетушку, хотя называла ее «детской», — убогую каморку на чердаке, который опять же величала «помещением для прислуги», хотя сама приговаривала, что настоящей прислуги в доме больше нет. А те двое, что остались, — миссис Керридж и Томас — никогда сюда не лазили. Нынче, говорила бабка, семья оказалась в стесненных обстоятельствах — вот почему миссис Керридж, приходившая каждое утро, занималась и уборкой, и стряпней, а Томас, живший в хижине у ворот, перекапывал, пересаживал и подправлял садовые «дебри». Санни не любил Томаса. Тот вечно спрашивал: «Ну чё? Хошь зайти, на берлогу мою глянуть, барчук?», а сам гоготал, будто смешней этой шутки ничего на свете нет, и не стеснялся, что во рту дырки чернеют, потому как половины зубов не хватает. И у Томаса, и у миссис Керридж был странный говорок, монотонный, тягучий. («Норфолкские мы», — объясняла миссис Керридж.) «Что с них взять: селяне, — говорила бабка. — Хотя люди порядочные. Более или менее».
Томас и миссис Керридж постоянно брюзжали: каждый считал, что другой «выслуживается перед хозяйкой», но еще пуще брюзжали они из-за Санни, от которого «только лишние хлопоты». Это говорилось прямо в его присутствии, как будто он — пустое место, хотя Санни сидел с ними за кухонным столом: Томас курил свои неизменные «Вудбайнз», а миссис Керридж пила чай. Его так и подмывало спросить: «А где у нас нынче господин Этикет?» — мама непременно обратилась бы с этим вопросом к Санни, посмей он только сказать что-нибудь невежливое о присутствующих. Вообще говоря, господин Этикет не остался бы без дела, поселившись в «Джордане». А Санни зарекся бы вести себя невежливо, если бы только его отпустили домой.
И все равно, чем находиться в любой комнате этого особняка, лучше уж было сидеть на кухне, в тепле. Если повезет, здесь и поесть давали. Когда он подолгу отирался на кухне, миссис Керридж его подкармливала — с той же небрежностью, с какой бросала объедки собакам. Бабка с дедом питались скудно, и у Санни вечно подводило живот. Он рос, ему требовалось нормальное питание. Даже мама так говорила. И что совсем уж невыносимо, за едой на него градом сыпались замечания: жуй-с-закрытым-ртом-не-горбись-нож-в-правой-руке-вилка-в-левой-где-тебя-воспитывали-в-хлеву? По словам бабки, за столом он вел себя «ужасающе», как свинья, а раз так, то впору и кормить его помоями, как свинью.
— Свиней-то хозяева нынче не держат, — приговаривала миссис Керридж, — а то б тебя самого, ей-богу, свиньям скормили. — И ведь даже не угрожала, а просто делилась мыслями.
Миссис Керридж со вздохом обратилась к Томасу:
— Ладно, понесу ихней светлости «утренний кофей».
Последние два слова, густо сдобренные сарказмом, указывали, что миссис Керридж, как истинная селянка, гордится своим пристрастием к щедро заваренному, сладкому чаю и на дух не переносит манерного господского кофе. Бабка Санни была никакая не «светлость», а обыкновенная «миссис». Миссис Вильерс. Миссис Антония Вильерс. Санни с усилием и запинкой выдавливал «бабушка» (не в последнюю очередь потому, что отказывался верить в свое с ней родство). Почему нельзя обращаться к ней попросту: «ба» или «бабуль»? Как-то он сделал пробный заход. Она стояла у застекленной двери, не спуская глаз с Томаса, подстригавшего лужайку («Бестолочь!»), а Санни, расположившийся на ковре со старым, еще папиным конструктором, который нехотя выдала ему бабка («Смотри у меня, ничего не сломай!»), попросил: «Бабуль, дай молочка попить». Она развернулась, словно ее хлестнули плеткой, уставилась на него как на чужака и процедила: «Я не ослышалась?», почти как мама, только еще в десять раз противнее, точно жалила его каждым словом. «Бабушка, — торопливо поправился он и добавил: — Дайте, пожалуйста». (Господин Этикет одобрительно кивнул.) А бабка продолжала сверлить его взглядом, покуда ему не стало казаться, что один из них вот-вот превратится в камень, но в конце концов она пробормотала себе под нос: «Бабуль, дай молочка попить», как будто в жизни не слышала ничего загадочней. И опять принялась следить за Томасом. («Все кое-как!»)
— Молочка? — хохотнула миссис Керридж. — Вот ненасытная утроба, что с тобой будешь делать?
Да ведь ребенку, который растет, полезно пить молоко, Санни это усвоил давным-давно! Ну что за люди? И еще полезно есть печенье, бананы, булку с маслом и джемом, но в «Джордане» это считалось баловством, и только настоящий дедуля, дедушка Тед, понимал, что среди дня нужно подкрепиться. Санни привык, что находящиеся рядом с ним взрослые в большинстве своем совершенно не знают детей: так было и в Адамовом Акре, и в маминой «группе сторонниц мира», и у него в школе — но там его хотя бы не морили голодом.
— И не говори, брат, — сочувствовал ему отец, Доминик. — Живешь как у Диккенса в романе: «Простите, сэр, я хочу еще».{94} Помню, помню. А когда в школу-пансион уедешь, там и вовсе дерьмом кормить будут.
Какой еще пансион? — не понял Санни. Не поедет он ни в какой пансион. После каникул он домой поедет, в Йорк, и вернется в свою школу; не очень-то он ее любил, но теперь она уже виделась потерянным раем.
— Не зарекайся, брат, — говорил отец. — Кто попал им в когти, того уже не отпустят.
Доминик занимал комнату над конюшней («моя мансарда») и обычно валялся там на продавленном диване, в окружении незаконченных полотен. От лошадей остался лишь стойкий запах навоза, витавший над наружной каменной лестницей, что вела в мансарду. Из господского дома отец Санни был изгнан («сам захотел — и свалил»).
Доминик, похоже, не отличался здоровым аппетитом, зато у него всегда была где-нибудь припрятана плитка шоколада, которую они делили по-братски. Отец, по собственным словам, был слаб здоровьем: «больница, всякая такая фигня», но в последнее время неуклонно шел на поправку. Всякий раз, когда Санни поднимался к нему в мансарду, он спал, хотя потом уверял, что всего лишь погрузился в раздумья. Обращаться к нему с жалобами не имело смысла. Его пичкали, как он говорил, «сильнодействующими препаратами». На подоконнике выстроилась целая шеренга флакончиков. «Ленивец», — жаловалась на него бабка деду (у Санни язык не поворачивался называть его дедушкой), и хотя Санни понимал, что папу нужно защищать, он не мог отделаться от мысли, что бабка права. Если честно, ленивцы дали бы Доминику сто очков вперед. (Санни вместе с дедушкой Тедом смотрел телепередачу из мира животных — как раз про ленивцев.) Дедушка не высказывал определенного мнения насчет Доминика. А все потому, что Доминик, по выражению миссис Керридж, был совсем того. Мозги всмятку.
— Как, скажи на милость, Доминик в таком состоянии сможет принять наследство? — вопрошала бабка, ничуть не смущаясь тем, что ее разговоры с мужем всегда носили односторонний характер, — похоже, такое положение дел ее вполне устраивало. — Что, если он так и не возьмется за ум? Тогда это дитя, Господи спаси и сохрани, станет нашей единственной надеждой.
«Это дитя» не знало, что и думать. Кому охота становиться единственной надеждой для других? Похоже, он был «последним из Вильерсов». Стоп: а как же Берти?
— Да она же девочка, — презрительно цедила бабка. — «На дочерях род закончился» — так напишут в ежегодном альманахе дворянства.
Санни не видел в этом ничего зазорного, но родне требовался наследник мужского пола, твердила бабка, пусть даже незаконнорожденный. («Нагу-у-улька маленький, да? — сплетничала с Томасом миссис Керридж. — По всем статьям».)
— Мы сделаем из него Вильерса, — говорила бабка, — но это будет тяжкое испытание.
В отцовском «недомогании» был, судя по всему, повинен Санни. Как так? Почему?
— Да потому, что на свет родился, — объясняла миссис Керридж, протягивая ему черствое печенье. — Кабы Доминик по молодости не баловался дурью да не путался с твоей маманькой и всяко разно, — втолковывала она, — то катался б верхом кажный день и взял бы в жены барышню-красавицу, чтоб в ушах жемчужины, а сама на костюмчике, как у знатных людей заведено. А он чё? — Она изобразила заячьи уши. — Худо-о-ожником заделался. А когда уродилось на свет такое вот сокровище, нервишки-то у бедняги совсем сдали. — Миссис Керридж была бездонным кладезем разных сведений, по большей части, к сожалению, ложных или ущербных.
На запах печенья в кухню примчались собаки и стали крутиться под столом у их ног. Собак было три, все слюнявые, отдаленно напоминавшие спаниелей и проявлявшие интерес только к самим себе. Снаффи, Пеппи, Лоппи. Дурацкие имена. Вот у дедушки Теда была нормальная собака по кличке Тинкер. Дедушка Тед говорил, что Тинкер «надежен, как скала». А бабкины собаки так и норовили исподтишка цапнуть Санни своими мерзкими зубенками, а когда он жаловался бабке, та говорила: «Чем ты их разозлил? Ты сам начал их дразнить, не иначе, — собачки просто так кусаться не станут», хотя именно это они и делали.
— Вон отсюда, кабыздохи поганые! — гремела миссис Керридж, но все напрасно.
Собаки были невоспитанными: на персидских коврах, которые «знавали лучшие времена», они то и дело оставляли, как снисходительно выражалась бабка, «свои колбаски». («Пакость какая», — приговаривала миссис Керридж.) Весь этот дом знавал лучшие времена. Он крошился им на уши, как выражалась бабка, чей скрипучий голос послышался сейчас из другого конца дома: «Снаффи! Пеппи! Лоппи!» — и собаки опрометью, как прибежали на кухню, бросились прочь.
— Будь моя воля, я б их всех усыпила, — изрекла миссис Керридж, и Санни заподозрил, что это относится не только к собакам.
Он вел себя куда лучше, чем эти собаки, а обращались с ним намного хуже. Где справедливость?
В коридоре зазвонил колокольчик вызова прислуги. Колокольчики дребезжали со страшной силой, если звонивший был зол (впрочем, здесь постоянно все были злы).
— Ох ты батюшки, снова его светлость, — завздыхала миссис Керридж, тяжело поднимаясь со стула. — Зовут колокола. (Она повторяла это каждый раз.)
И опять «его светлость» — хотя никакой он не лорд, а полковник Вильерс. Дед редко (как принято было считать) вставал со своего кресла у камина. Глядя перед собой блеклыми, слезящимися глазами, он даже не разговаривал, а издавал какие-то тюленьи звуки — не то лай, не то кашель, — которые и бабка, и миссис Керридж толковали безошибочно, а Санни с огромным трудом переводил для себя на понятный человеческий язык. Когда Санни оказывался рядом, дед всякий раз цепко хватал его пальцами, причем зачастую больно щипался, и ревел ему в ухо: «Ты кто такой?»
У Санни не было четкого ответа на этот вопрос. Тем более что у него, похоже, отняли даже имя. Бабка сказала, что у нее язык не поворачивается произносить эту глупую кличку. «Солнце» звучало еще смехотворнее, а потому она заявила, что отныне имя ему будет Филип — так звали придурковатого деда.
— Ну что ж поделаешь, — устало произнес отец, когда Санни зашел сообщить, что теперь его зовут Филип. — Да пусть зовет, как ей вздумается. Все равно ее не переспоришь. Да и потом, «что значит имя?»{95} Не более чем бирка, которую повесили тебе на шею.
Но если бы только имя… Бабка повезла его в Норидж, где купила для него полный комплект одежды, чтобы Санни больше не носил комбинезоны и клоунские полосатые кофты ручной вязки, а расхаживал в коротких штанах цвета хаки; вместо удобных, разношенных сандалий его заставили надеть отстойные фирменные босоножки «старт-райт». И что самое невыносимое: бабка затащила Санни в «мужской парикмахерский салон», где ему отчекрыжили длинные кудри ножницами и бритвой («затылок и виски покороче»), да так, что его внешность изменилась до неузнаваемости. Он и в самом деле перестал быть собой.
Рассказывать о своем преображении дедушке Теду он не стал, предчувствуя лавину вопросов, которые останутся без ответа. Дедуля звонил раз в неделю. Пока Санни, с трудом прилаживаясь к громоздкой телефонной трубке, вел «краткую беседу», бабка неотступно находилась рядом. К сожалению, ее непонятно грозное присутствие не позволяло Санни прокричать всю правду о том, как его тут замордовали. Он не был мастером «вести беседу» и на все дедушкины вопросы давал односложные ответы. Как ты там, весело проводишь время? Да. Погода хорошая? Да. (Дождь, считай, лил не переставая.) Кормят тебя хорошо? Да. (Нет!) А под конец дедушка обычно предлагал: «Хочешь поговорить с Берти?» (Да), но поскольку Берти, как и Санни, не проявляла ни малейшей склонности к «ведению беседы», в трубке обычно повисало двухминутное молчание, нарушаемое только их аденоидным сопеньем, после чего бабка начинала дергать: «Дай сюда трубку» — и приказывала Берти на другом конце провода передать трубку деду. В следующий момент бабка словно по заказу изменяла голос и ворковала что-нибудь этакое: «Он у нас вполне освоился; думаю, пусть погостит еще немного. Да-да, побегает на свежем деревенском воздухе, пообщается с отцом. Как того желает милая Виола». И так далее. Милая Виола? — мысленно переспрашивал Санни, не в силах вообразить «бабку» и «милую Виолу» в одной комнате.
Санни расстраивался, что не выучил какого-нибудь шифра или тайного языка, чтобы сообщить о своем бедственном положении («На помощь!»); вместо этого он говорил: «Ну пока, дедуль», а сам чувствовал, как нечто гнетущее (тоска) поднимается из глубин (почти пустого) желудка.
— Стокгольмский синдром, — определила Берти. — Ты, как Патти Херст, постепенно стал заодно с теми, кто удерживал тебя в неволе.{96}
Разговор этот состоялся в две тысячи одиннадцатом году; сидя на вершине горы Батур, они любовались рассветом. Поднялись они сюда пешком, еще затемно, освещая себе путь фонариком. К тому времени Санни прожил на Бали уже два года. До этого кантовался в Австралии, а еще раньше — в Индии, причем немало лет. Берти изредка наезжала его проведать, Виола — ни разу.
Окажись Берти в поместье «Джордан», ей жилось бы там гораздо легче. Она умела подлаживаться, но могла и взбунтоваться. А Санни так и не научился ни тому ни другому.
— Это же вампиры, — рассказывал он сестре. — Жаждали свежей крови. Пусть даже подпорченной.
— Как по-твоему, они действительно были такими гнусными, как тебе запомнилось? — спросила Берти.
— Еще хуже, намного хуже, — посмеялся Санни.
Его и впрямь похитили и теперь насильно удерживали в неволе. «Хочешь немного погостить у папы?» — спросил перед тем дедушка Тед. Было время летних каникул. Казалось, после Адамова Акра и житья-бытья в девонской коммуне минула целая вечность. Девон превратился в золотые воспоминания, которые, несомненно, подпитывались детскими утопическими фантазиями сестры насчет гусей, рыжих коров и кексов.
Санни надеялся, что после переезда в Йорк их семья будет жить в доме у дедушки Теда, но мама сказала: «Это вряд ли», а через пару недель сняла убогий домишко, стиснутый двумя соседними, и определила Санни в «штайнеровскую школу»,{97} которая тогда ему совсем не понравилась, но сейчас уже казалась желанной.
— Заодно познакомишься с другими дедом и бабушкой, — продолжил дедушка Тед, изображая сердечную радость. — У них целый особняк в сельской местности, собаки, лошади и много чего другого. Неплохо было бы погостить у них недельку-другую, как ты считаешь?
Лошадей давным-давно не было и в помине, а собаки, дай им волю, сожрали бы Санни живьем.
— Там, наверное, и леса есть, — сказал Тедди.
Санни решил, что к этим неведомым бабке с дедом наведывается лиса, и это его ничуть не удивило. Удивило другое: насколько скоропалительно он был отправлен к ним в поместье. Ему недоставало твердости, и он это знал. Все начатки своеволия задушила в нем Виола: «Мало ли чего тебе хочется»; «Будешь делать то, что я говорю, а не то, что тебе взбрендилось»; «Потому что я так сказала!».
— Я не в восторге, — говорил по телефону дедушка невидимым собеседникам, — но его мать очень загорелась этой идеей.
Это, конечно, было после того, как мама их бросила, чтобы, как она объяснила, «бороться за свои убеждения». Дети же важнее убеждений? Или, по крайней мере, не менее важны? Она уехала в Гринэм-Коммон.{98} Берти считала (пока сама туда не съездила), что это какая-то сказочная страна. В рассказах о незнакомых местах сестре всегда грезилась сказочная страна. Виола «пикетировала базу» — что бы это значило? «Пусть бы лучше сына с дочкой пикетировала», — проворчал как-то Тедди, а Санни услышал.
Бабка прибыла вместе с Домиником в большом допотопном автомобиле; когда они вылезали, дедуля Тед прошептал Санни на ухо: «Это твоя бабушка, Санни», хотя прежде в глаза ее не видел. Бабка приехала в потертой шубе, как будто из крысиных шкурок. Зубы у нее были желтые, прямо как нарциссы в дедулином саду. Выглядела она древней старухой, но Санни, оглядываясь назад, прикинул, что было ей не более семидесяти с небольшим. («Раньше люди выглядели старше своих лет», — отметила Берти.)
— Папочка! — воскликнула Берти и, чуть не сбив с ног Санни, бросилась к отцу; Санни удивила такая щенячья преданность, а Доминика — еще больше.
— Эй, полегче, — сказал их отец и отступил назад, словно опасаясь за свою жизнь. — Приветик, Тед, — обратился он к Тедди, когда признал в Берти свою кровинку. — Как поживаете?
Тедди пригласил их в дом на чашку чая.
— У меня и торт испечен, викторианский бисквитный, — сообщил он, и новая бабушка нахмурилась при мысли о домашнем торте, да еще выпеченном мужскими руками.
А потом все произошло очень быстро. Выпили чаю, доели (а может, не доели) торт — и Санни запихнули на заднее сиденье, к трем недовольным собакам; он и глазом моргнуть не успел, как оказался в Норфолке, а самозваная бабушка уже объясняла, что пора ему повзрослеть. Да ему всего-то семь лет! Зачем взрослеть раньше времени?! Где справедливость?
Напоследок Санни жалобно хлюпнул в подушку. Засыпал он с большим трудом, а заснув, тут же просыпался, как от толчка, и видел вокруг злую нечисть, глазевшую на него из темноты. При свете дня, когда страхи отступали, он мог разглядеть все, что его окружало, — скопившийся за долгие годы у Томаса, который с негодованием, из-под палки освободил комнату «для мальчишки», всевозможный хлам: измочаленную плетеную колыбельку, сломанную раскладушку, лыжу без пары, громоздкий абажур и самое страшное — деревянный портновский манекен, с наступлением темноты исподтишка подступавший — Санни мог поклясться — все ближе и ближе, будто затеяв жутковатую игру в «замри».
— Да, брат, детская, — сказал Доминик, — чертова нора. Будь у меня дети, я бы им выделил самую лучшую комнату.
— У тебя есть дети, — указал ему родной сын.
— Ну, в смысле, как бы да; короче, ты меня понял.
Не очень-то, подумал Санни.
В детской вечно было холодно, даже в эту летнюю пору. На стенах проступали пятна сырости, обои свисали клочьями. Единственное оконце, подернутое черной плесенью, намертво заколодило, а иначе Санни, наверное, попытался бы вылезти и спуститься по водосточной трубе — как Август в книжках.
Книжки эти, целая серия под общим заглавием «Приключения Августа», громоздились в доме у дедушки Теда и повествовали вроде бы о нем самом, а написала их его тетка. Виола когда-то прочла Санни две-три истории. Притом что Август творил всяческие безобразия, окружающие считали его чуть ли не милым мальчиком; а Санни, случись ему горошинку с тарелки на пол уронить, в глазах бабки становился самым гнусным чудовищем. Несправедливо.
И как назло, рядом не было Берти. Она бы пробралась к нему под одеяло и согрела своим теплом. С ней было уютно, и с дедушкой Тедом тоже. В «Джордане» к Санни вообще никто не притрагивался, разве только для того, чтобы шлепнуть или ущипнуть, а собаки еще и кусались. Бабка чуть что норовила огреть его сзади по ногам длинной деревянной линейкой. «Доминику это пошло на пользу», — приговаривала она. («Да уж, вырос, а ума не вынес», — фыркала миссис Керридж. Но сама не возражала против телесных наказаний. Отнюдь нет.) По ночам Санни, бывало, мочился в кровать; такое случалось с ним и дома, но здесь простыни меняла миссис Керридж, не упускавшая случая обозвать его «ссунишкой», а когда сильно злилась, могла оставить его спать и следующую ночь на холодной, мокрой постели.
В детской повсюду валялись трухлявые книжки и пазлы фирмы «Виктори». Санни ими не пренебрегал. Читал он еле-еле, зато с пазлами справлялся лихо, но какой интерес раз за разом складывать одни и те же картинки — «Домик Энн Хэтэуэй» или «Король Артур на Дартмурских болотах»? На полу до сих пор оставались обломки детства Доминика; Санни то и дело наступал на покалеченного солдатика или поскальзывался на машинке. Эти маленькие реликвии он складывал в старую обувную коробку. Несмотря ни на что, он бережно хранил серебряного зайца — подарок дедули Теда, но скучал по своим камешкам. Подъездная дорожка была засыпана гравием, да что толку? Самый ценный камень, подобранный на пляже перед отъездом из Девона, отняла бабка. («Не смей носить в дом всякую грязь».) Будь у него камешки, можно было бы пометить тропу, как сделали Гензель и Гретель, чтобы потом найти путь домой. Или же по этой тропе могла бы пройти Берти — чем она не Гретель? — чтобы его разыскать и выпустить из клетки на волю, а бабку затолкать в камин и сжечь дотла. С этой счастливой мыслью он и заснул.
«Насущный вопрос» о его учебе встал ребром. Миссис Керридж, беседуя с Томасом, удивлялась, почему мальчишку не отдают в сельскую школу. «Да потому, что ни один Вильерс до этого не опустится», — отвечал Томас. Но я же Тодд, думал Санни, меня зовут Санни Тодд, а не Филип Вильерс. Сколько должно пройти времени, чтобы он об этом забыл? Миссис Керридж поговаривала, что «сын и наследник», видать, совсем тупой, а потому ее светлости не стоит из кожи вон лезть, чтоб ему образование дать. «Я не тупой», — шептал Санни, а миссис Керридж его одергивала: «Ты помалкивай, друг ситный, покуда тебя не спрашивают». Господин Этикет только качал головой, содрогаясь от невоспитанности Томаса и миссис Керридж.
Миссис Керридж оказалась права: местную начальную школу его бабка даже не рассматривала: от слов «государственная школа» ее передергивало. А поступать в дорогую школу-пансион, которую окончил Доминик, ему было рано. «Пока еще, — добавляла бабка. — Туда принимают с восьми лет». Но и восемь лет — это слишком рано, так считал даже он, семилетний. «Да уж, брат, — соглашался с ним отец. — Я там на стенку лез, но домой не рвался. И немудрено. Это в „Джордане“ тебя, фигурально говоря, рвет, а за его пределами можно хотя бы дух перевести». Для Доминика это была чрезвычайно пространная тирада. По его словам, он сейчас «выходил из спячки», из ступора. «Прекратил себя лекарствами пичкать и всяким таким дерьмом. Лучше видеть стал. Пора отсюда ноги делать».
«Мне тоже», — подхватил Санни.
Не сбежать ли им вместе? У Санни в голове возникло видение: они вдвоем шагают проселочной дорогой, неся на шестах узелки из красных носовых платков в белый горошек, а в узелках — нехитрые пожитки. И хорошо бы еще сбоку трусила маленькая собачонка.
— Они детей совершенно не понимают, — сказал отец. — Не соображают, каково это — здесь расти.
Зато я соображаю, подумал Санни. Я ведь здесь расту.
— Вбили себе в голову, что лишения идут на пользу, вот в чем вся штука, якобы они закаляют характер, а на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Меня, конечно, воспитывала нянька. Коза, хуже всех наших с тобой домашних, вместе взятых.
Санни терялся. Домашнюю козу он видел вблизи только в Девоне. Она жутко воняла и норовила, если потеряешь бдительность, изжевать твою одежду. Странно было слышать, что его папу воспитала коза, но Санни за последнее время привык ничему не удивляться.
— Ага. — Доминик уплывал вдаль на волнах памяти. — Нянька была та еще манда.
— А это что такое? — не понял Санни.
— Плохая тетенька.
В конце концов бабка нашла «решение». В округе имелась приготовительная дневная школа. Томасу вменили в обязанность доставлять туда Санни и привозить обратно. («Отчего ж не покататься?» — говорил Томас.)
— Школа, конечно, не самая лучшая, — сказала бабка. — Но, по крайней мере, его не будет смущать поведение Филипа.
При чем тут поведение? Уж он в последнее время сидел тихо, как мышонок.
— Я здесь буду в школу ходить, — сообщил Санни в еженедельном телефонном разговоре дедушке Теду.
— Знаю, — ответил Тедди почти так же тоскливо. — Твоя мама обсудила это с Антонией. Я постараюсь вмешаться, ладно? А до той поры будь стоиком, Санни.
Санни понятия не имел, что значит быть стоиком, но догадывался, что это не сулит ничего хорошего.
Незадолго до начала занятий установилась чудесная погодка, словно подгадав такой момент, когда от нее не будет никакого проку. Санни целыми днями играл в заросшем, запущенном саду. Гулять в одиночку было скучно, изображать рыцаря на турнире, Робин Гуда и первооткрывателя джунглей быстро надоело. К его радости, папа сказал:
— Давай-ка устроим приключение, а, Фил?
Санни подумалось, что «приключений» с него, наверное, хватит. Пару дней назад он случайно забрел в лабиринт, куда бабка «официально запретила» ему соваться, но Санни даже не знал, что такое лабиринт, а потому не смог избежать опасности. Выяснилось, что это жуткое место в колючих зарослях; почти сразу он повернул назад, но было уже поздно! Санни заблудился, его со всех сторон жалили шипы и хватали ветки живой изгороди. Лишь в сумерках на поиски Санни отправился Томас, подзывавший его свистом, как щенка. К тому времени Санни уже спал среди узловатых коряг под живой изгородью и был разбужен направленным прямо ему в лицо лучом фонарика, да еще пинком башмака.
— Как ты смел туда сунуться, если тебе это было категорически запрещено? — верещала бабка.
Естественно, никто и не подумал его успокоить после пережитых волнений. Правда, к этому он уже почти привык, и, когда отец сказал «приключение», робкий внутренний голос призвал Санни к осторожности. Правда, слово «приключение», слетевшее с папиного языка, обычно много чего обещало, да не больно-то выполнялось. С дедушкой Тедом все бывало как раз наоборот.
— Да, сделай милость, пусть хотя бы один день не путается под ногами, — сказала любящая бабушка.
Доминик уже несколько дней занимался живописью — без передышки сутками напролет шлепал краски на холст.
— Вдохновение пришло, — говорил он. — Сейчас такого накрашу!
Как-то утром Доминик поразил всех, когда перед скудным обычно завтраком ринулся к столу и торжественно потребовал: «Яичницу из самых свежих яиц, да с беконом, миссис Керридж!» — а домоправительница как раз поставила на стол горшок жидкой водянистой каши. Миссис Керридж тут же ретировалась, бормоча себе под нос: «Святые угодники, опять его понесло». Ни яичницы, ни бекона ему не подали. Санни, который лучше всех знал содержимое кладовой, ничуть не удивился: он постоянно наведывался туда в поисках съестного. Добыча, как правило, оказывалась скудной: то маринованная луковица, то холодная картофелина. Иногда он с опаской запускал палец в банку с джемом. Но миссис Керридж была зоркой, как ястреб.
Доминик тут же закурил и, похоже, выбросил из головы яичницу с беконом. Бабка и сама дымила как паровоз: все стены Джордан-Мэнора были покрыты желтоватым налетом. Доминик, с налитыми кровью глазами, подпрыгивал на стуле, как лягушка.
— Не рассиживайся, Фил, — поторопил он, хотя Санни не успел даже поднести ко рту ложку каши. — Нам пора.
Не один час они шли пешком, подкрепившись только липким, размякшим батончиком «марс», который вытащил из кармана и по-братски разделил Доминик. В начале пути он принял пару маленьких розовых таблеток, но перед тем положил их на ладонь и продемонстрировал Санни, размышляя вслух, не предложить ли половинку одной сыну. «Или четвертинку? — сомневался он. — Мальцом кайф словить — даже представить не могу». В конце концов он все же передумал, чтобы «не получить по рогам» от «волчицы».
Они напились воды из подернутого зеленой ряской пруда, про который Доминик сказал, что это волшебный родник, где обитает жаба с рубином во лбу.
— Если вглядишься в глубину, ты ее увидишь.
Санни, к огорчению Доминика, ничего не увидел. Они пошли дальше, и отец не умолкая твердил про эту жабу. Санни плелся из последних сил. Не очень-то это было похоже на приключение.
— Я устал, — сказал он. — Давай, пожалуйста, передохнем.
Его беспокоило, как они будут возвращаться в Джордан-Мэнор. Не пешком же? Позади осталась не одна миля, и у него подгибались коленки. Будь здесь дедушка Тед, он донес бы Санни на закорках и только посетовал бы: «Уф, староват я для таких упражнений».
— Тебе полезно двигаться, — сказал Доминик, широко шагая вперед. — Не отставай.
У Санни горели щеки. Он знал, что в такую погоду нужно надевать панамку и смазывать лицо защитным кремом. Ему нестерпимо хотелось пить, но прудов больше не попадалось, ни зеленых, никаких. Санни пришло в голову, что рядом с ним находится безответственный человек. Разве папа может считаться взрослым? В живот вонзилась булавка страха. Находиться здесь, вдали от «Джордана», было небезопасно.
Хорошо еще, что они дошли до тенистого леса, где Санни набрал горсть лесной малины, жутко кислой, но все же съедобной.
Двигались они с частыми остановками, чтобы отец мог полюбоваться то листком, то папоротником или насладиться пением птички. «Нет, ты только послушай! Бог мой, ты это слышишь, Фил?» Завидев гигантский мухомор, он бухнулся на колени и не сводил глаз со шляпки гриба. Мухомор заворожил его надолго. Выждав, как ему казалось, не один час, Санни взмолился: «Может, дальше пойдем? Ну пожалуйста!», тем более что у него разболелся живот (вероятно, от кислой малины), но Доминик запрыгал и стал кричать:
— С ума сойти, с ума сойти, глазам своим не верю: мухоморы! Они морят мух для той жабы, с рубином во лбу! Между ними есть связь!
— Жаба залезает на мухомор? — без всякой задней мысли предположил Санни.
— Жаба — королева мухоморов, вот в чем секрет. А это меняет дело. У нас есть тайное знание. И мы — гностики.
— Мостики?
— Ага. С ума сойти.
Разговор безнадежно затягивался. Санни хотелось упасть на землю и зарыться в листву, как делают лесные зверушки. Он бы поспал, а потом, глядишь, проснулся бы в «Джордане», а еще лучше — в доме у дедушки Теда. Но нет, пришлось тащиться дальше.
Из леса — опять в пекло. Доминик умолк и вообще как-то изменился, посмурнел. Стал бубнить себе под нос нечто бессвязное.
Сейчас они брели незнакомой тропкой, вдоль высоких живых изгородей, а потом тропка вдруг уперлась в небольшую проезжую дорогу, раскаленную от зноя. Санни в кровь сбил ноги и боялся, что не дойдет. Дорогу перегораживали двое ворот с большим красным кругом на белом фоне и фонарями сверху, только ни один фонарь еще не горел. Они вошли в воротца, за которыми скрывались железнодорожные пути. Наконец-то впереди замаячило хоть что-то интересное. Но будет ли поезд? Стоит ли ждать?
— А как же, — сказал Доминик. — Наверное, для этого нам и указали путь.
— Кто указал? — не понял Санни. — Королева мухоморов?
Он не подвергал это сомнению, а просто радовался, что папа наконец-то повеселел.
Никогда еще Санни не видел железнодорожного переезда. Но поезда обожал. В Йорке дедушка Тед частенько водил его в железнодорожный музей. И говорил, что в детстве тоже любил поезда.
Санни думал, что сейчас они перейдут через пути, но Доминик, усевшись посреди дороги, между двумя воротцами, начал сворачивать самокрутку. Санни неуверенно топтался рядом. Ему, семилетнему, было ясно, что сидеть прямо на асфальте, да еще там, где ходят поезда, — не лучшая идея, но его уже не держали ноги.
На пересечении с асфальтом рельсы были утоплены в деревянные шпалы, и отец, похлопав ладонью по деревяшке, сказал:
— Присядь, отдохни.
Закурив самокрутку, он обнаружил у себя в заднем кармане расплющенный пакетик полностью размякших шоколадных кругляшей и воззрился на них в полном изумлении.
— Не что-нибудь, — произнес он. — Пурпуровые.
Завидев шоколад, Санни все же решился сесть, тем более что деревяшки приятно холодили тело. Железнодорожные пути хорошо просматривались в обоих направлениях.
— Супер, а? — восхитился Доминик. — Прямо урок перспективы. Знаешь, что такое перспектива?
Санни не знал.
— Чем дальше расположен предмет, тем мельче его изображение. Люди, можно сказать, тыщи лет над этим ломали голову.
Санни коснулся ногой металлического рельса и даже вскрикнул — до того было горячо.
— Да, брат, солнце, — сказал Доминик. — Жарко. И ты типа — само солнце, сечешь? — (Папа не рассказывает, как все, подумал Санни, а перескакивает с одного на другое.) — Санни Тодд — самый тот! Это не простое совпадение, ясно тебе? Ра. Аполлон. Тоже красивые имена. Но мы тебя назвали Солнцем. Нам светит Солнце. — (А может, он имел в виду просто «солнце» — с именем Санни вечно была путаница.)
— Я теперь Филип, — напомнил ему Санни.
Перемазавшись растаявшим шоколадом, он рисковал получить нагоняй от «волчицы», но ему до того хотелось спать, что было уже все равно. Он клевал носом, привалившись к костлявому, напружиненному отцовскому туловищу.
— А в случае параллельных линий, подобных рельсам, требуется найти точку схождения.
Дремота была лучше любого лакомства. Бессвязные высказывания Доминика — поклонение солнцу, перспектива, мухоморы — куда-то уплывали по воздуху.
Проснувшись от звона колокола и вспышек света, Санни увидел, как белые ворота пришли в движение и медленно отгораживают шоссе. Неужели это ловушка? Ворота с лязгом захлопнулись.
— Ого! — сказал Доминик. — Обалдеть, что сейчас будет. Такое пропустить нельзя.
Санни заподозрил, что очень даже можно, и хотел встать, но Доминик рывком заставил его сесть.
— Верь мне, Фил, это надо видеть. О, смотри, брат, едет. Видишь поезд? Видишь? Офигеть.
Доминик вдруг вскочил и дернул за собой сына.
Мелкий удаленный предмет — поезд Кингз-Кросс — Норидж отправлением в пятнадцать тридцать, как позднее установило следствие, — становился все больше и больше, перспектива изменялась с каждой секундой.
— Жди! Жди! — как собаке, командовал Доминик. — Да что с тобой, в самом деле? Не хочешь испытать эти ощущения? Да тебе мозги вынесет. Вот! Черт!..
Нет, «черт!» — так мог бы воскликнуть Август, но не взрослый мужчина, которому в лицо въехал скорый поезд.
— Ну вот, похоже, мы на месте, — сказал Тедди.
Сидевшая на заднем сиденье Берти, причмокивая, допила из коробочки остатки сока и с интересом огляделась.
К одному из каменных столбов арочного въезда крепилась вывеска «Джордан-Мэнор», а под ней другая, с надписью: «Проезд и проход воспрещен». Тедди не знал, почему так названо это поместье: то ли в честь библейского Иордана, то ли по фамилии реального лица. Несколько лет назад он бы склонился ко второй версии. Во время войны у него была знакомая наземница по имени Нелли Джордан (не имевшая, нет-нет, никакого отношения к Иордану), а сейчас Джорданом или, как вариант, Иорданом уже называли детей: в одном классе с Берти учился мальчик по имени Иордан. Кстати, наряду с привычными Ханнами и Эммами у них были Лоза и Шафран (обе — девочки), а также Дхарма (бледное, тщедушное создание, чей пол Тедди так и не определил). Одноклассницу Санни звали Белкой. По крайней мере, от такого имени не образовывалось уменьшительное — это соображение тяготило Нэнси, когда они выбирали имя для Виолы. «Как по-твоему, неужели ее будут называть Ви? Хочу верить, до этого не дойдет». Впоследствии Тедди не раз возвращался мыслями к этой Белке. Сменила ли она имя — или где-то в мире взрослых до сих пор обитает учительница, адвокатесса или домохозяйка, откликающаяся на «Белку»?
Учитывая тип школы, ее выпускникам, по словам Виолы, были открыты все пути. Рудольф Штайнер (в отличие от самой Виолы) во главу угла ставил интересы ребенка. А теперь, когда она примкнула к нонконформистам, ее вполне устраивал выбор Вильерсов, сделанный за беднягу Санни: платная сельская приготовительная школа. Мало того что Виола, по сути, умыла руки в деле воспитания сына, так она еще и разлучила его с сестрой. Тедди хорошо представлял, насколько болезненным был бы для него в нежном семилетнем возрасте разрыв с Урсулой и Памелой. А вдруг Вильерсы изменят свое мнение насчет Берти? Неужели Виола и дочку отдаст им в лапы?
— Родители Домми способны обеспечить ребенку все преимущества, — твердила отцу Виола. — В конце-то концов, он же наследник Вильерсов, а Домми вернулся в лоно семьи. Он фактически живет в поместье, пишет картины.
Тедди предпочитал не вспоминать, что Доминик — живописец: уж больно скромны оказались его успехи на этом поприще.
— К тому же, согласись, Санни пойдет на пользу, если в его жизни вновь появится отец.
И так без конца — в оправдание своего отказа от ребенка. Тедди подозревал, что главным аргументом для нее все же были деньги — точнее, их отсутствие.
Естественно, поначалу говорилось «только на пару недель» во время школьных каникул, и Тедди не догадывался, что дочка уже строит далекоидущие планы. Теперь уже выходило, что Санни останется жить у Вильерсов («Навсегда?» — с ужасом вопрошала Берти). Ребенок рос впечатлительным, и, по разумению Тедди, совершенно неправильно было выдергивать его из привычной среды и ожидать, что он расцветет у чужих ему, по сути, людей. Втайне от Виолы Тедди съездил к своему поверенному, чтобы составить заявление в суд по делам семьи с требованием предоставить ему опеку над внуками. Он не питал особых надежд на успешный исход дела, но кто-то же должен был вступиться за детей, правда?
Внушительные чугунные ворота стояли нараспашку, и дед с внучкой беспрепятственно въехали в поместье «Джордан». Путь до Норфолка, вопреки расчетам Тедди, оказался долгим. Раньше ему не доводилось посещать здешние края — этакий огузок на карте Англии. Последние минут тридцать пришлось мучительно тащиться по узкой дороге следом за какой-то неповоротливой сельскохозяйственной техникой и ленивыми овцами. Взятое в дорогу съестное почти закончилось. Они утоляли голод булкой с сыром и маринованными огурчиками, чипсами с солью и уксусом и батончиками «кит-кат». Виола, категорически запрещавшая эти продукты, оставила Тедди «диетические рекомендации» для Санни и Берти («ничего такого, на чем изображено лицо»): пшенка со шпинатом, запеканка из лапши с соевым сыром. Тедди ничего не имел против вегетарианства («Я не ем убоину, дедушка Тед», — говорила Берти), в котором видел много положительного, но отказывался исполнять высочайшие повеления Виолы. «Мой дом — мои правила, — говорил он. — Пищи для канареек здесь не будет». Он не забыл, как покупал веточки проса для Твити, дочкиной канарейки. Бедная птаха, думалось ему все эти годы.
Вегетарианство, штайнеровская школа, скучнейшие собрания «Лесного племени» — Тедди был готов на все, лишь бы внуки жили в надежных стенах его дома. Как он мог отпустить Санни к Вильерсам… Виола умотала на юг страны, чтобы там выражать свой протест против крылатых ракет, а когда Тедди мягко напомнил, что обязанности матери, а тем более матери-одиночки, будут поважнее борьбы за мир во всем мире, дочь ответила, что это курам на смех: она ведь борется за будущее детей всего мира. Тедди казалось, что одному человеку такая задача не по плечу. В прошлый раз, уезжая на очередную акцию протеста в Гринэм-Коммон, Виола на несколько дней взяла с собой сына и дочку. Дети умоляли, чтобы больше их туда не возили; «холодно» и «голодно» — вот и все впечатления, оставшиеся у них после той поездки в долину Темзы, не считая того, что их до смерти напугала конная полиция, которая расшвыривала женщин, как хулиганистых футбольных фанатов. В следующий раз Виола, по ее словам, поставила себе целью попасть под арест. Тедди на это заметил, что большинство людей ставит себе целью никогда в жизни не попадать под арест, а Виола возразила, что идея непротивления ей чужда, и спросила, вспоминает ли когда-нибудь отец о тысячах безвинных людей, которых убил во время войны. Она не страдала излишней логикой мышления. «При чем тут это?» — спросил Тедди, и Виола ответила: «Да при всем». (Неужели? У него ответа не было, но Урсула бы за словом в карман не полезла.) В конце концов Тедди предложил: «Можешь оставить Санни и Берти со мной», и у Виолы сделался вид как у Атласа, которому сказали, ладно, мол, так и быть, можешь больше не держать этот мир, опускай.
Разговор этот произошел с полгода назад, и в доме постепенно выработался определенный распорядок. В глазах Тедди любовь всегда имела сугубо практическую направленность: школьные концерты, чистая одежда, регулярное питание. Санни и Берти, похоже, не возражали. Раньше их жизнь подчинялась взбалмошным причудам Виолы. («„Я была ужасающей матерью!“ — весело восклицает она» // Журнал Mother and Baby, 2007.) «Да, ты права», — соглашалась Берти.
В ту пору Тедди еще держал кур и пчел; дети были в восторге. Они много времени проводили на свежем воздухе. На сук большого грушевого дерева в дальнем конце сада Тедди повесил качели. Стал возить на экскурсии по близлежащим достопримечательностям: в Поклингтон — полюбоваться водяными лилиями, в Касл-Ховард и Хелмсли, в Дейлз, когда у овец появлялись ягнята, в аббатство Фаунтинс, в Уитби.{99} Даже Северное море уже не казалось Тедди столь унылым в компании Берти и Санни. Внуки обожали бродить по тропам среди папоротников и устраивать пикники на пурпурных вересковых пустошах. Они во все глаза высматривали змей, бабочек и ястребов. (Детей Виолы было не узнать.) Тедди к тому времени уже вышел на пенсию; внуки заполнили немало пустот в его жизни. А он занял большое место в жизни Санни и Берти.
У него появились долгосрочные планы. Наверное, надо будет перевести ребятишек в государственную школу, записать их вместо «Лесного племени» в детские скаутские отряды — и тут, как гром среди ясного неба, позвонила Виола с этими новыми инструкциями насчет Санни. Тедди содрогался при мысли об отъезде Санни в «Джордан», но что он мог сделать? Виола имела право распоряжаться. У него было полное впечатление, что дочь навсегда поселилась в лагере сторонниц мира, и лишь через несколько месяцев, когда она вернулась, Тедди узнал, что после проведенного в Гайд-парке митинга Кампании за ядерное разоружение Виола уехала в Лидс с Уилфом Ромэйном и, говоря ее словами, с ним сошлась. Тедди не ведал об этом ни сном ни духом, пока дочь не сказала: «Я через неделю замуж выхожу. Хочешь — приезжай».
Когда-то в поместье «Джордан» вела длинная вязовая аллея — две великолепные шеренги почетного караула, но теперь на их месте остались только пни от больных деревьев. Та же напасть обрушилась десять с лишним лет назад и на Эттрингем-Холл, но здесь вязы заменили дубами. Тедди казалось, что посадка дуба — это акт веры в будущее. Он хотел бы посадить дуб. В Эттрингем-Холл Тедди вернулся много позже, в тысяча девятьсот девяносто девятом, во время своего «прощального турне» с Берти. «Холл» превратили в «загородный отель». Там они заказали по стаканчику в баре «Донт» и неплохо пообедали в ресторане, но остановиться на ночлег решили там, где подешевле, — в деревенской гостиничке с завтраком. Собственно, и деревни как таковой уже не было. Лисью Поляну и «Галки» со всех сторон обступил дорогой коттеджный поселок. «Дома футболистов», — говорила Берти. Построенные на лугах. Лен и шпорник, лютики и маки, первоцветы и маргаритки. Все пропало.
От этих перемен Тедди совсем загрустил, да и Берти тоже: она не знала и знать не могла здешних мест, но умом как-то поняла, что именно они сделали ее такой, какая она есть. Ей хотелось постучаться в дверь Лисьей Поляны и попросить у нынешних владельцев разрешения зайти, но ее встретили глухие ворота с электронным замком и камерами видеонаблюдения; нажав на кнопку зуммера, она так и не услышала ответа. Тедди при этом испытал огромное облегчение: он бы не смог заставить себя переступить через порог.
— Голландская болезнь, — объяснил Тедди внучке, когда они подъехали к поместью «Джордан». — Она убила все вязы.
— Бедные деревья, — сказала Берти.
В отличие от Эттрингем-Холла, здесь никто не озаботился новыми посадками, и аллея выглядела жутковато, как будто по ней прокатилась война. Вокруг физически ощущалось запустение. Виола, очевидно, переоценила богатство Вильерсов. На ремонт одной лишь кровли такого дома потребовалось бы целое состояние.
Наверное, ругал себя Тедди, он должен был привести сюда внука сам; тогда он бы сразу понял, в каком упадке находятся и дом, и дух Вильерсов, но вместо этого он во время школьных каникул доверил Санни Доминику и его матери.
— Здравствуйте, Антония, — протягивая руку, приветливо произнес Тедди; в ответ хозяйка имения вложила ему в ладонь холодную, вялую клешню и отвела глаза:
— Здравствуйте, мистер Тодд.
— Я вас умоляю: просто Тед, — сказал Тедди.
Пальцы «Антонии» были унизаны бриллиантовыми кольцами, тускло-серыми от грязи. На рождение Виолы он подарил Нэнси маленькое бриллиантовое колечко, очень скромное, а она сказала, что нелогично дарить кольцо невесты, если уже состоишь в браке, но во время войны им было не до официальной помолвки, а он хотел, чтобы у Нэнси был символ его веры в их общее будущее. Несмотря на свой скепсис, она сказала, что это трогательный жест. Камень у нее играл: она каждую неделю чистила его щеточкой с зубной пастой. Тедди сберег кольцо для Виолы и подарил на день рождения, когда ей исполнился двадцать один год, но не припоминал, чтобы она хоть раз его надела.
А Доминик, как стало ясно в течение того дня, либо наглотался галлюциногенов (ЛСД, как предполагал Тедди), либо просто был не в себе.
— Тортик! — воскликнул он, потирая руки, когда Тедди выкладывал на блюдо нарезанный торт. — Ты будешь, ма?
Взяв с блюда три ломтика торта, он куда-то ушел, оставив Тедди и Антонию занимать друг друга беседой.
— Чаю, Антония? — предложил Тедди, даже не подозревая, как ее бесит обращение по имени. Впрочем, ему важно было дать ей понять, что они с нею на равных несут ответственность за малолетнего непоседу, которому явно не терпелось куда-нибудь сбежать.
Не успели гости выйти из машины, как Санни и Берти сбежали-таки с глаз долой, и Тедди едва уговорил Санни вернуться в гостиную. Внук весь извертелся, и новоявленная бабка через считаные минуты после знакомства уже требовала: «Сиди смирно» и «Не прыгай на диване». Тедди уже тогда понял, что совершает ошибку, отпуская Санни в эту семью, но что было делать?
— Вы какой чай предпочитаете? — из вежливости осведомился он, и Антония ответила:
— Китайский, не слишком крепкий, с тонким ломтиком лимона.
На что Тедди сказал:
— Простите, но у меня только «Рингтон», английский послеобеденный купаж. Зато не в пакетиках, а листовой.
— Я должна проверить, как там собаки. — Антония, не притронувшись к чаю, резко встала и опустила на стол чашку с блюдцем. — Они остались в машине, на заднем сиденье, — объяснила она в ответ на недоуменный взгляд Тедди.
Никаких собак он не заметил и сейчас повернулся к Санни:
— Собаки. — (Внук слегка приободрился. Собак он любил.) — Хочешь пойти с бабулей и посмотреть ее собак? — Тедди заметил, как она содрогнулась при слове «бабуля».
И тем не менее отпустил к ней ребенка!
— Mea culpa,[15] — прошептал он, когда они с Берти остановились у парадного подъезда Джордан-Мэнор.
Никаких признаков жизни, ни собак, ни Антонии, ни Санни. Со вздохом Тедди сказал:
— Будем надеяться, Берти, кто-нибудь угостит нас чаем.
Меньше всего надежды было на Антонию.
Когда она пошла проверить собак, Тедди решил отыскать Доминика и нашел его вместе с Берти и Тинкером в саду за домом. Там пышно цвели розы — Тедди высадил несколько сортовых кустов у солнечной стены, — и Доминик сорвал дивную вишневую «белль де Креси». Ложе алого сна твоего,{100} думал Тедди, когда сажал этот куст, и надеялся, что никакой незримый червь не сгубит ее жизнь, хотя понимал, что у Блейка это метафора, а не садоводческое предостережение.
Покосившись на сорванную розу, Берти спросила у Тедди:
— Можно?
Она, похоже, с большой тревогой следила за Домиником, утратив первоначальный восторг от их встречи. Тедди подумал, что ей, скорее всего, вспоминается, насколько непредсказуемо вел себя ее отец, когда они еще жили все вместе. Тинкер сидел сбоку от нее, готовый в любой момент сорваться с места по команде «фас».
— Конечно можно, — ответил Тедди. — Пусть возьмет себе. Такой прекрасный цветок, правда? — обратился он к Доминику, который, судя по его виду, был целиком поглощен этой розой и держал ее у лица.
— Ага, — ответил Доминик, — невероятный.
— Называется «белль де Креси», — охотно разъяснил Тедди.
— Нет, вы только на нее посмотрите, реально, посмотрите. Представьте, что можно забраться внутрь.
— Внутрь?
— Ага, потому как это типа… внутри целая вселенная. Там прячутся целые галактики. Типа когда летишь в космос…
— Ты летаешь? — усомнился Тедди.
— А как же, все мы летаем в космос. И заползаем в червоточину, понимаете?
— Не вполне.
— Смысл этой розы, — произнес Доминик. — В нем может найтись ключ. Вау!
— Может, вернешься в гостиную, Доминик? — предложил Тедди. А то заберешься внутрь этой розы, и мы тебя потеряем навсегда, добавил он про себя.
Доминик нес какой-то бред. И все равно Тедди отпустил внука в ту семью!
— Пойдем, съешь еще тортика, Доминик, — сказал он таким тоном, каким уговаривают капризного ребенка.
В этот миг раскрылись двери патио (раздвижные, с двойным остеклением, совсем новые — Тедди был очень ими доволен), и в сад с лаем ворвались три собачонки. Тинкер, чью бдительность усыпило бессмысленное бормотание Доминика, был застигнул врасплох, когда его вдруг обступила тройка тявкающих, рычащих пришельцев.
— Снаффи! Пеппи! Лоппи! — закричала из патио Антония.
Переглянувшись с Тинкером, Тедди собрал в кулак всю свою выдержку и сказал:
— Все в порядке, дружок.
Даже собаку свою он бы не отправил к Вильерсам, а внука отпустил.
— Не хочу уезжать, — сказал Санни, когда они стояли у машины и ждали, пока Доминик не уберет в багажник маленький чемоданчик сына.
Санни цеплялся за деда, и Тедди пришлось осторожно высвободить руку.
— У меня для тебя кое-что есть. — Достав из кармана серебряного зайца, некогда подвешенного, если верить Урсуле, над его колыбелькой, Тедди опустил игрушку в карман Санни и сказал: — Он хранил меня на войне. А теперь будет хранить тебя, Санни. Да и потом, это всего на пару недель. Тебе там понравится. Верь мне.
«Верь мне»! Тедди предал всякое доверие внука, отпустив его с этими людьми. С тяжелым сердцем он смотрел вслед удаляющемуся автомобилю. Берти расплакалась, и Тинкер в утешение лизнул ей руку. Что-то здесь было не так, но пес не понимал, в чем дело. А теперь они приехали исправлять причиненное зло. Приехали спасать Санни.
Они вышли из машины. Тедди потянулся и сказал внучке:
— Мне такие путешествия уже не по годам. Старые кости от долгого сидения затирает.
Вместо кнопки звонка здесь был шнурок, за который Тедди долго дергал, но понапрасну. За массивной, как в крепости, входной дверью в отдалении что-то тренькало. Никто не спешил впускать их в дом. У них траур, подумал Тедди.
Антония соблаговолила известить Тедди лишь три недели спустя после смерти Доминика. Все это время его еженедельные звонки Санни оставались без ответа, и он уже подумывал съездить в «Джордан», но в конце концов Антония позвонила сама и сказала, что произошла «трагедия». На какой-то кошмарный миг у Тедди возникла мысль, что речь идет о Санни, и, узнав о гибели Доминика, он едва не рассмеялся от облегчения, что вряд ли было бы расценено как уместная реакция, и только переспросил:
— Доминик?
Наркотики, видимо, предположил Тедди, но Антония только сказала «страшнейшая авария» и не стала, была «не в состоянии» сообщать подробности.
— У меня нет сил об этом говорить.
Почему же она не позвонила раньше?
— Я потеряла своего единственного ребенка, — холодно ответила она. — Мне было не до того, чтобы обзванивать всех подряд.
— Всех подряд? — вырвалось у Тедди. — Берти приходится Доминику дочерью.
А Санни, подумал он, как это пережил бедняга Санни?
Тедди мучительно соображал, как поставить в известность Берти. Когда же в конце концов он решился, ее встревожила не столько смерть отца, сколько экзистенциальная проблема: где же он теперь? Нигде, подумал Тедди. А возможно, в мистическом сердце розы. Самой безболезненной для детского сознания показалась ему идея реинкарнации. Возможно, папа теперь живет тополем, придумал он. Или голубем? Котиком, решила Берти. Тедди подумал, что в Доминике и впрямь было нечто кошачье — к примеру, способность засыпать где угодно.
— А он останется котенком? — уточнила Берти. — Или вырастет большим котом?
— Думаю, останется котенком, — ответил Тедди. Это представлялось ему более логичным.
— И если вдруг мы его найдем, — сосредоточенно нахмурилась Берти, — то возьмем к себе?
— Вряд ли, — ответил Тедди. — Тинкер, скорее всего, с ним не уживется.
А что же сталось с беднягой Санни?
Не успел его отец, как выразилась миссис Керридж, «в хладную могилу лечь», как Санни отправили в школу. Даже ее закаленное у плиты сердце смягчилось, правда совсем чуть-чуть… От Санни потребовали вести себя так, будто ничего не произошло. В школе он продержался ровно три дня, а потом бабку попросили его забрать.
— Ведет себя, прошу прощения, как дикарь, — доложил ей воспитатель. — Кусается, брыкается, вопит, на всех бросается с кулаками. Кастелянше впился зубами в руку. Можно подумать, с волками вырос.
— Нет, с родной матерью, что, подозреваю, примерно одно и то же. Он не приучен к дисциплине.
Бабка повернулась к Санни: да-да, этот разговор велся в его присутствии. Рядом содрогался Господин Этикет, который толкал его в бок: «Сам-то что скажешь?» А что он мог сказать? В школе его травили с первого дня. Отпускали шуточки насчет гибели отца, передразнивали (говор его оказался простецким), насмехались, что он «тупит по основным предметам», а он даже не понимал, о чем речь, — в общем, только и высматривали, к чему бы еще прицепиться. Ежеминутно бросали его из огня да в полымя, щипали, толкали, делали «крапивку». А еще — целых два раза — стянули с него в туалете короткие шерстяные брюки, и во второй раз один мальчишка, размахивая линейкой, заявил: «Сейчас это ему в задницу засуну», и осуществить такую пытку помешала, наверное, только кастелянша, которая приоткрыла дверь и окликнула:
— Ребятки, будет вам, побаловались — и хватит.
(«В школах для мальчиков нравы жесткие», — объяснил воспитатель.)
И все это время Санни неотвязно преследовала мысль о том, что произошло на железнодорожном переезде (теперь он знал, как называется это место). В последний миг он успел вырваться из отцовской хватки, а все прочее растворилось в оглушительном грохоте и скорости. Отпрыгнув от паровоза, Санни не увидел, что случилось с Домиником, хотя догадаться было несложно. Лежа на земле, Санни видел бесконечные рельсы, видел — где-то далеко-далеко — поезд, который вдруг резко остановился. Сам он, похоже не пострадал, если не считать пары царапин и ссадин, но решил не двигаться с места и притвориться спящим. Последствия того, что произошло, оказались выше его сил.
Кто-то из полицейских подобрал его и отвез в больницу. Закрывая глаза, Санни до сих пор кожей чувствовал шершавое сукно полицейской формы.
— Ты цел и невредим, солнце, — сказал полицейский, а Санни еще подумал: откуда он узнал мое настоящее имя? К этому полицейскому он потянулся всей душой.
— Я понимаю: то, что произошло с его отцом, ужасно, — продолжал воспитатель (это и со мной произошло, подумал Санни), — и, с моей точки зрения, он погиб как герой, — (тут бабка молча, сдержанно покивала, приняв это за восхваление), — но такому мальчику…
Фраза повисла в воздухе; Санни оставалось только гадать, что же он за мальчик. Злой, наверное, — это подразумевалось само собой. Очевидно, убил родного отца. Но как? Как он это сделал? Как?
— Вот так и сделал — ты ж с папаней вместе был, когда он помер, — говорила миссис Керридж. — Кабы тебя с ним не было, с чего б его туда понесло, сам подумай? На пере-е-езд. Отец собой пожертвовал, чтоб тебя спасти, ясно? Чтоб этим поездом, будь он неладен, тебя не угробило.
Неужели? — думал Санни. Это совершенно не сходилось с его собственными обрывочными, мучительными воспоминаниями, но что он мог понимать? («Ничего», — отрезала бабка.) По-видимому, следствие устроила именно такая версия несчастного случая. Отец оттолкнул его с железнодорожных путей. Согласно показаниям машиниста, который перенес тяжелый шок (и с момента «аварии» оставался под наблюдением врачей), «все произошло так стремительно. Какой-то мужчина… мистер Вильерс… вроде как боролся на переезде с маленьким мальчиком. Этот человек… мистер Вильерс… вероятно, пытался сделать так, чтобы они оба не стояли на пути состава. Ему удалось оттолкнуть мальчика в сторону, а сам он отскочить уже не успел». Мистеру Вильерсу, заявил следователь, нужно отдать должное за его героическое самопожертвование.
«ГЕРОЙ-ОТЕЦ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ СЫНУ» — говорилось в одном из выпусков местной газеты. Выйдя на работу, Тедди отправил в библиотеку одного из клерков, и тот отыскал газетный материал о несчастном случае, а также репортаж из зала суда. Нерегулируемый железнодорожный переезд, состав отправлением в пятнадцать тридцать и так далее. Доминик Вильерс, местный художник. Его сын, страдавший отклонениями в поведении, «проявлял интерес к поездам», как сообщил следствию Томас Дарнли, который служит «садовником и разнорабочим в имении Вильерсов».
Боже правый, задохнулся Тедди. Истинная версия — что Доминик лишился жизни под воздействием коктейля из ЛСД и психотропных препаратов, что он пытался утянуть за собой сына — даже не рассматривалась, хотя, по убеждению Тедди, звучала куда более правдоподобно, чем все разговоры о том, что Доминик не успел увернуться от движущегося поезда.
Бедняга Санни, которому не суждено было узнать правду, так и прожил под гнетом вины всю свою жизнь — ну или по крайней мере до того момента, когда принял буддизм и отсек прошлое.
(«Тебе было всего семь лет! — говорила ему Берти. — Разве может на тебе лежать вина?»)
— Будем держать его дома, — заверила бабка воспитателя.
— Полагаю, на цепи! — хохотнул воспитатель.
Теперь Санни каждую ночь мочился в постель, а иногда и днем писался в штаны. И тело, и ум вроде как вышли из его повиновения. Это пуга́ло. Для него «был приглашен наставник» — некий мистер Алистер Тредуэлл, чья методика обучения сводилась к тому, что он с нарастающей громкостью талдычил одно и то же, пока не выходил из себя. Мистер Тредуэлл часто заговаривал со своим подопечным о «несправедливости» и о «сфабрикованном» против него «деле», не иначе как из зависти. Это притом, что он, по его словам, даже наедине ни разу не оставался с тем мальчишкой. Но коль скоро репутация у тебя подмочена — пиши пропало.
Уроки проходили за обеденным столом, который размерами был с отведенную Санни каморку, если не больше. Днем мистер Тредуэлл подкреплялся бутербродами с яичницей и потом до вечера обдавал Санни яичным духом. Санни обычно засыпал, а проснувшись, заставал мистера Тредуэлла за чтением внушительной книги («Толстой»). Бабке мистер Тредуэлл сообщил, что Санни «практически необучаем».
— Неужели ты совсем ничего не вынес из своей прежней школы? — допытывался наставник. — Даже базовых знаний? По основным предметам?
Как видно, не вынес. В штайнеровских школах начатки чтения, письма и устного счета вводились только с шести лет, а потому Санни целыми днями рисовал восковыми мелками и пел песенки про гномов, ангелов и кузнецов; загадочная троица «основных предметов» только лишь маячила в отдаленной перспективе где-то на горизонте.
И вот однажды, когда они осваивали, как выражался мистер Тредуэлл, «простые арифметические действия», которые для Санни оказались вовсе не простыми, Санни понадобилось сбегать в туалет, но мистер Тредуэлл потребовал: «Сперва, пожалуйста, доведи до конца этот пример», и когда Санни довел пример до конца, а точнее, довел мистера Тредуэлла до белого каления, учитель понял, что правильного ответа ему не дождаться, а ученик понял, что с этим примером ему не справиться никогда в жизни. Ближайший туалет находился «в нижней гардеробной», до которой было еще бежать и бежать, и Санни, помчавшись во весь опор, налетел из-за угла на бабку.
— Мне надо срочно! — выпалил он.
— А ты ничего не забыл? — возмутилась она.
Санни пришел в панику, потому что никак не мог сообразить, о чем речь, а ему уже очень-очень сильно приспичило. Что же он забыл?
— Пожалуйста… спасибо… я нечаянно, бабушка, — в отчаянии забормотал он все мыслимые ответы на ее вопрос.
— Извините, — подсказала она.
— Ну да, — выпалил он.
— Не «ну да», а «извините».
— Да, точно.
— Ты забыл сказать «извините».
Но было уже слишком поздно; ему требовалось сходить по-большому, именно сейчас, незамедлительно. Он попытался прикинуть, что будет меньшим из двух зол: снять штаны или не снимать. А как поступил бы Господин Этикет? Все-таки лучше было не замарать штаны, а потому Санни, по примеру собак, тут же присел, чтобы справить большую нужду на ковер.
Бабка завопила, как будто на нее напал убийца:
— Ты что делаешь?..
— Какаю. — В этот безумный миг он произнес то слово, которое частенько слышал от мамы («называй вещи своими именами»).
— Что?!
Задыхаясь, она ухватилась за первую попавшуюся безделушку (ею оказалась жардиньерка), которая с грохотом рухнула на пол и разлетелась вдребезги. На шум и вопли разом прибежали и миссис Керридж, и Томас.
— Ах ты, паску-у-у-удник, — протянула миссис Керридж.
Но собакам же можно «колбаски» делать, воззвал он к бабке. Тут подоспел и мистер Тредуэлл. Санни готов был провалиться сквозь землю, когда его окружили эти люди.
— Ты негодяй, каких свет не видел! — кричала бабка, и он крикнул ей в ответ:
— А ты — манда!
Бабах! Кто-то (как выяснилось позже, Томас) залепил ему оплеуху, да такую, что он не удержался на ногах, заскользил, кружась, по полу и врезался в стену.
Его отослали в каморку.
— Ты сегодня без ужина, маленький лорд Фаунтлерой,{101} — объявила миссис Керридж. — И скажи спасибо, коли тебя впредь не станут голодом морить.
От удара у него нестерпимо болела голова. Санни уже пожалел, что не попал тогда под поезд.
Назавтра его не стали морить голодом. Миссис Керридж, поставив перед ним миску каши, посоветовала «залечь и носу не казать из комнаты»; так он и поступил: когда в поместье «Джордан» приехали Тедди и Берти, Санни лежал тише воды ниже травы.
В конце концов, после долгих попыток привлечь внимание к своему приезду, Тедди и Берти заметили, что дверь «Джордана» со скрипом приотворилась.
Миссис Керридж провела их длинным коридором. По состоянию прихожей и тех помещений, куда падал взгляд, нетрудно было понять, что дом запущен донельзя.
— Как у мисс Хэвишем,{102} — шепнул Тедди на ушко Берти.
Их провели в огромную гостиную, где высилась лишь изрядно усохшая фигура Антонии. Полковника в кресле-каталке задвинули под прохудившуюся крышу оранжереи: после смерти Доминика терпеть его стало невозможно.
— Извините, Антония, что мы без предупреждения, — сказал Тедди.
Они слишком устали, чтобы тем же вечером двинуться в обратный путь, и Тедди остановился у какой-то фермы, где сдавались комнаты с завтраком, а наутро, при ярком солнечном свете, они выехали пораньше. «На ярмарку, на ярмарку, за жирным поросем», — продекламировала Берти, когда Тедди включил двигатель. Путь домой был неблизок, и бо́льшую часть поездки Санни и Берти крепко спали, свернувшись, как котята, на заднем сиденье.
Тедди предвидел длительные препирательства с Антонией, но та отдала ему Санни без сопротивления.
— Забирайте, — сказала она, — если он вам так нужен.
У Санни на виске темнел пренеприятный синяк, и Тедди сказал:
— Мне следовало бы заявить в полицию. — Но на самом деле он думал лишь о том, как бы поскорее увезти отсюда внука.
Тедди протянул руку, чтобы приласкать Санни, но тот отшатнулся. Лишь со второй попытки, замедлив движения и опустив ладонь книзу, будто перед ним был забитый щенок, Тедди сумел погладить его по коротко стриженной голове и почувствовал, что у него сейчас разорвется сердце.
Полковник ушел в мир иной следующим летом, тогда как Антония еще много-много лет коптила небо. На нее обратили внимание органы опеки; Томаса и миссис Керридж отдали под суд за то, что они ее обворовывали. («Да чё там, по мелочи разве», — сказала в свою защиту миссис Керридж.) Более того, они пытались — правда, безуспешно — склонить ее переписать завещание в их пользу (к тому времени она совсем рехнулась; можно подумать, это было заразно). По-прежнему отписанное Доминику имущество унаследовали после смерти бабки Санни и Берти. На утверждение завещания ушли годы — прямо как в романе «Холодный дом», думал Тедди. После продажи Джордан-Мэнор и уплаты всех налогов и пошлин каждому из наследников досталось по нескольку тысяч. Берти купила новую машину, а Санни перечислил свою долю детскому приюту в Индии.
Словно повинуясь какому-то инстинкту, дети проснулись за углом от дома Тедди. «А вот и дом наш милый, мы жигу спляшем в нем», — сонно декламировала Берти, пока дедушка Тед парковал машину на подъездной дорожке.
На время отъезда хозяев Тинкер был оставлен у соседки; когда она вышла на порог и сказала: «С приездом, Тед, хорошо провели время?», Тинкер деликатно проскользнул мимо ее ног и бросился им навстречу. Санни от избытка чувств лишился дара речи, и когда Тедди сказал:
— Пойдемте-ка в дом. Мне нужно чаю попить, а вы наверняка захотите молока с тортом. Что скажешь, Санни? Я испек твой любимый — шоколадный.
Санни подумал, что сердце у него сейчас лопнет от счастья.
— Да, пожалуйста, дедушка Тед, — выговорил Санни. — Спасибо, спасибо, огромное тебе спасибо.
А Тедди ответил:
— Совершенно не за что, Санни.
1943 Война Тедди Луч красоты{103}
Теплый, пыльный ветер повеял на него последним ароматом шиповника. На кустах, пробившихся сквозь живую изгородь, уже появились крупные ягоды, но редкие запоздалые цветки все еще тянулись к бабьему лету. Собака, задрав нос к небу, на миг замерла, словно тоже втягивала в себя эту последнюю сладость.
— Rosa canina. Собачья роза, — объяснил Тедди, как будто собака могла оценить это название. — Будет цвести, пока не придет собачий холод, — добавил он; собаки не именуют предметы и явления в свою честь, и Тедди добросовестно проговаривал для Фортуны «собачьи» названия.
Они, двое стариков со впалыми от возраста или мытарств глазами, вышли на прогулку. Вообще-то, Тедди даже не представлял, сколько лет его собаке, но знал, что во время Лондонского блица Фортуна пережила страшные потрясения, а сам Тедди в свои двадцать девять лет и вовсе был ископаемым по сравнению с другими членами экипажа (он слышал, как его любовно называли «стариком»). Кличку Фортуна придумала Урсула («к сожалению, очень банально»), когда спасла щенка из-под огня. «Я подумала: будет талисман для твоей эскадрильи», — сказала она.
В последний раз он выводил собаку — принадлежавшего Шоукроссам пса по кличке Гарри — в этот переулок еще до войны. Гарри не стало, когда Тедди проходил летную подготовку в Канаде; Нэнси тогда написала: «Извини за „радиомолчание“. Так расстроилась, что долго не могла заставить себя взяться за перо, чтобы просто вывести „Гарри умер“». Ее письмо пришло в один день с телеграммой, в которой сообщалось о смерти Хью, и, хотя потеря была несопоставимой, в сердце Тедди все же нашлось место для печали по Гарри.
Фортуна умчалась вперед и залаяла, учуяв что-то в живой изгороди: то ли крота, то ли полевку. А может, залаяла просто так: сельские дороги таили в себе множество загадок для городской собаки. Она могла шарахнуться от низко летящей птички, но даже ухом не вела, если над головой ревели четыре роллс-ройсовских двигателя «мерлин». К слову сказать, на «галифаксах» полагалось устанавливать «бристоль-геркулесы», а «мерлины» вечно барахлили. Но у «галифаксов», по крайней мере, были модифицированы хвостовые стабилизаторы, не в последнюю очередь благодаря старому доброму Чеширу,{104} который заставил власти предержащие заменить устаревшие треугольные хвостовые стабилизаторы, из-за которых при вхождении в штопор можно было попасть в режим сваливания и распрощаться с жизнью, но «мерлины», к сожалению, никто не отменял. Тедди подозревал, что решение об установке «мерлинов» принял кто-то в министерстве ВВС — кто-то вроде Мориса. Из скупости или по глупости — эти два качества нередко идут рука об руку. «Геркулесы»…
— Ой, милый, прошу тебя, — взмолилась Нэнси, — не надо о войне. Я так от нее устала. Давай обсудим что-нибудь более интересное, чем техника бомбометания.
Тедди прикусил язык. И постарался придумать что-нибудь более интересное, но не сумел. На самом деле двигатели «галифакса» были всего лишь предисловием к забавной истории, которую Нэнси, вне всякого сомнения, выслушала бы с удовольствием, но теперь по причине какой-то своей вздорности он решил ничего ей не рассказывать. И конечно же, ему хотелось поговорить о «технике бомбометания» — с мыслью о ней он жил, с мыслью о ней готов был погибнуть, только Нэнси, запертая в башне из слоновой кости, где хранились государственные тайны, этого, наверное, понять не могла.
— Что ж, давай обсудим, чем с утра до вечера занимаешься ты, — бесчестно подколол он, а Нэнси только крепче сжала его руку и ответила:
— Ты же знаешь: я не имею права. В будущем, поверь, я открою тебе все.
Не странно ли, подумал Тедди, надеяться на будущее?
Было это пару дней назад, когда они гуляли вдоль моря, по приморской набережной. («Море», — объяснил Тедди восторженной Фортуне.) Если закрыть глаза на береговые оборонительные сооружения (трудно, спору нет), такое времяпрепровождение молодой пары в этот летний день могло бы показаться совершенно естественным. Каким-то чудом Нэнси сумела совместить их отпуска.
— Интрига! — сказала она. — Как романтично!
Тедди помчался на стацию сразу после разбора полета на Гельзенкирхен — и традиционной яичницы с беконом, награды уцелевшим в ходе вылета, — и поезд нестерпимо долго тащился до вокзала Кингз-Кросс. Нэнси встречала его на перроне; это впрямь выглядело романтично, как в кино или в романе (хотя раньше всего другого на ум пришла «Анна Каренина»). И только при виде ее напряженного лица Тедди понял, что успел забыть, как она выглядит. У него с собой даже не было ее фотографии — это упущение он решил непременно исправить. Обняв его, она выговорила:
— Милый, я так по тебе скучала. У тебя собака! А ты ни словом не обмолвился.
— Да, это Фортуна.
Собака была у него давно. Наверное, он просто забыл об этом упомянуть.
Присев на корточки, Нэнси стала возиться с собакой. Вокруг него она так не суетилась, думал Тедди. Но не возражал.
Он надеялся побыть с Нэнси в Лондоне, но она запланировала на сутки «укатить из города» (чтобы забыть о войне), поэтому они тут же переехали на другой вокзал и сели в поезд, идущий до побережья. Нэнси забронировала номер в крупном отеле («хозяйки маленьких гостиничек слишком любопытны») и привезла с собой обручальное кольцо («медяшка из „Вулворта“»). Отель, как оказалось, облюбовали военно-морские офицеры с женами, но жены были сугубо береговыми: их мужья целыми днями отсутствовали, занимаясь, наверное, своими военно-морскими делами. Тедди, прибывший в летной форме, даже стушевался.
Когда он сидел в баре, дожидаясь Нэнси, к нему подошла одна из офицерских жен и, легко коснувшись его локтя, сказала:
— Просто хочу сказать, что вы, летчики, проявляете чудеса храбрости. И ваше командование тут совершенно ни при чем, хотя оно, конечно же, считает иначе.
Насчет командования Тедди не заблуждался: на территории врага, как показывал его опыт, воевали пока лишь бомбардировщики, но он только улыбнулся, вежливо кивнул и сказал спасибо. Женская ладонь крепче сжала его локоть: на Тедди повеяло запахом гардении. Женщина вынула из сумочки портсигар и протянула Тедди:
— Угощайтесь. — А сама склонила голову к поднесенной им зажигалке, и тут появилась Нэнси, совершенно обворожительная, в чем-то нежно-голубом, и офицерская жена опомнилась. — Боже, это ваша супруга? Вот счастливец! А я прикурить попросила, — добавила она в расчете на Нэнси и грациозно уплыла в сторону.
— Разыграно, как по нотам, — засмеялась Нэнси. — Вовремя она ноги унесла.
— Ты о чем?
— Ой, милый, не будь таким наивным, неужели до тебя не доходит, чего она хотела?
— Чего?
— Тебя, естественно.
Конечно, он это понимал и мог только гадать, чем бы кончилось дело, окажись он здесь в одиночестве. Скорее всего, он бы с ней переспал. Его не переставало удивлять, насколько откровенными сделала женщин война, а он пребывал в таком состоянии духа, что становился легкой добычей. У той незнакомки был красивый торс и определенный шик: видимо, знала себе цену.
— Да она готова была тебя живьем съесть, — продолжила Нэнси. По его наблюдениям, ей показалось, что он бы и сам не допустил таких вольностей. И нашел бы способ их пресечь. — Мне, если можно, джин.
— Ты дивно выглядишь, — сказал Тедди.
— Ой, спасибочки, добрый господин. Вы и сами страсть как хороши.
Нэнси, нехотя признал Тедди, хотя и не вслух, рассудила здраво: они правильно сделали, что уехали. Проснувшись рано утром, он обнаружил, что его рука неловко прижата ее телом. От простыней пахло ландышевым ароматом, куда более чистым, чем приторная гардения.
Наверное, разбудили его чайки, но ему даже нравились их неугомонные крики. Он подумал, что с начала войны жил сугубо островной жизнью (ночные перелеты через Северное море не могли считаться «вылазками на побережье»). Да и свет здесь был совсем другим, хотя в щель между тяжелыми парчовыми шторами пробивались лишь тонкие лучики. Номер им достался вполне приличный, с выходящей на кованый балкон застекленной дверью и с видом на море. Нэнси призналась, что за этот номер пришлось заплатить «астрономическую сумму», а забронировать его удалось только потому, что некий вице-адмирал в ту ночь отсутствовал. Она свободно ориентировалась в военно-морской иерархии, гораздо лучше, чем Тедди, который испытывал летчицкое пренебрежение к других родам войск. Военно-морские коды, подумал он: наверняка она этим и занимается.
Собака, улавливавшая каждое его дыхание, проснулась одновременно с ним. Они устроили Фортуну на ночлег в ящике тумбочки, подстелив туда запасное одеяло, найденное в платяном шкафу.
— Ничего себе, — сказала Нэнси. — Куда уютнее, чем наша с тобой кровать.
Тедди — понимая абсурдность своих мыслей — почему-то стеснялся заниматься любовью с Нэнси на глазах у собаки. Он представил, как Фортуна будет наблюдать за ними в полном недоумении, а то и в тревоге, но в процессе «акта», взглянув на выдвинутый ящик («Что-нибудь не так, милый?» — спросила Нэнси), увидел, что собака вроде бы дрыхнет без задних ног.
А уютный ящик и в самом деле больше подходил для ночлега, чем комковатый контр-адмиральский матрас из конского волоса, твердый, как галеты из летного пайка. Наутро у Тедди ныло все тело, как будто он девять часов сидел скрючившись в «галифаксе». И вновь Нэнси оказалась права (как бывало почти каждый раз): от усталости он не смог бы соответствовать ожиданиям офицерской жены с ее паучьими чарами.
Пока Фортуна не разбудила Нэнси, впрыгнув на кровать (обычно собаке такое позволялось), Тедди выпутался из простыней и бесшумно спустил ноги на пол. Застекленная дверь была оставлена нараспашку, и Тедди, проскользнув между тяжелыми шторами на балкон, потянулся и полной грудью вдохнул свежий, приятно солоноватый воздух. Собака была тут как тут, и Тедди понадеялся, что ей тоже нравится этот вид.
— «Море», — напомнил он.
Прошло двое суток с того момента, как его новый самолет, Q-«кубик», совершил вынужденную посадку в Карнаби. Тамошний береговой аэродром имел расширенную посадочную полосу и мог принимать несчастные подбитые машины, не дотягивающие до своей базы, а также те, которые, подобно Q-«кубику», просто сбились с курса в сплошном мареве. Карнаби был оснащен системой FIDO: Тедди забыл, как расшифровывается это сокращение, — оно имело какое-то отношение к туману. Полоса была покрыта сетью трубок для подвода топлива (тысяч галлонов бензина), которые в тумане начинали светиться, указывая путь домой заблудшим и раненым.
В конце концов, кое-как добравшись до базы, Тедди поймал себя на том, что рассказывает об этой системе, названной собачьим именем, своему личному Фидо{105} — Фортуне. В тот момент до Тедди дошло, что он, вероятно, тронулся умом. Сейчас, почесав собаке макушку, он только посмеялся от этих воспоминаний. Так ли это важно? Весь мир тронулся умом.
Балкону не пошел на пользу морской воздух: сквозь белую краску проступали большие пятна ржавчины. Вся страна пришла в упадок. Сколько же должно пройти времени, подумал Тедди, прежде чем упадок станет необратимым и разъест Британию до ржавой пыли?
Он не услышал деликатного стука в дверь, когда в номер доставили заказанный с вечера чай, и удивился появлению Нэнси, которая вдруг очутилась на балконе рядом с ним и протянула ему чашку с блюдцем. Нэнси вышла в простой хлопковой пижаме — по ее словам, не слишком подходящей для медового месяца.
— А у нас медовый месяц? — переспросил Тедди, прихлебывая быстро остывающий на утренней прохладе чай.
— Пока нет, но должен же быть, как ты считаешь? Сначала, конечно, надо пожениться. Правда ведь? Мы поженимся?
— Прямо сейчас?
Тедди растерялся. У него промелькнула мысль, что Нэнси уже приготовила ему сюрприз: купила лицензию в местной церкви и оповестила Тоддов и Шоукроссов, которые того и гляди ворвутся всей толпой к ним в номер, выкрикивая поздравления. На ум пришел Вик Беннет, который не дожил до собственной свадьбы, — знатная была бы попойка, даром что Лиллиан в положении. Тедди стало совестно, что он больше не связывался с семьей Вика и ничего не знает о ребенке. Об Эдварде. Возможно, конечно, что родилась девочка. Лиллиан с ребенком предстояло жить дальше, а Вик будет мало-помалу тускнеть, пока память о нем не сотрется полностью. «Рассказывал, что лучше вас человека нету». Будь его век длиннее, он узнал бы многих и многих, кто гораздо лучше, заметил про себя Тедди.
— Нет, не прямо сейчас. После войны.
А сам подумал: ага, опять будущее. Великая ложь.
— Да, — сказал он вслух. — Конечно. Договорились? Это помолвка? Хочешь, я преклоню колени?
Поставив чашку с блюдцем на балкон, Тедди под недоуменным собачьим взглядом опустился на одно колено и произнес:
— Нэнси Роберта Шоукросс, прошу вашей руки. (Правильно? Так говорится?)
— Я с радостью, — ответила она.
— Нужно купить кольцо?
Она подняла вверх безымянный палец:
— Пока и это сгодится. А со временем купишь мне бриллиантовое.
На церемонии бракосочетания они обошлись колечком из «Вулворта».
— Оно мне дорого как память, — сказала Нэнси, когда после войны он надел «медяшку» ей на палец в отделе регистрации браков в Челси.
Торжество было очень скромным, и Тедди впоследствии сам удивлялся, почему они не отметили это событие с бо́льшим размахом. Гостями, подружками невесты и свидетельницами были Урсула и Беа. Урсула привела с собой Фортуну, привязав ей на ошейник красный бант, и сказала: «Это твой шафер, Тедди».
Колечко так и не сменилось более дорогим, хотя порой оставляло на пальце Нэнси неопрятный черный ободок. А бриллиантовое кольцо, хоть и маленькое, он действительно ей купил — на рождение Виолы.
— Обрученные, — сказала Нэнси, когда они после завтрака рука об руку гуляли по пляжу.
Преодолев галечник и противотанковые ловушки, они добрались до обнаженной низким отливом плотной песчаной полосы. Собака ныряла в волны и выскакивала обратно. Время от времени Тедди забрасывал в море камешек, но Фортуна была настолько поражена морскими впечатлениями, что не отвлекалась на прозаическую собачью обязанность «беги-принеси».
— Заключили помолвку, — весело продолжала Нэнси. — Какая архаика! А почему говорится «помолвка», не знаешь?
— Потому, что двое «молвят слово» — дают друг другу обещание связать свои судьбы, — объяснил Тедди, не сводя глаз с собаки.
— А, в самом деле. Это же так логично. — Она сжала ему локоть, и Тедди вспомнил вчерашнюю офицерскую жену. — Ты счастлив, милый?
— Да. — Он давно забыл, что означает это слово, но если она хочет признания — что ж, пожалуйста. («Ошибочно думать, — говорила Сильви, — что любовь предполагает счастье».) — Хотел тебе рассказать, — продолжил Тедди, оттаяв и решив поделиться с ней той забавной историей о «галифаксе». — Решили мы на прошлой неделе в офицерской столовой перекинуться в картишки. В ту ночь нам предстоял вылет на Вупперталь, а в таких случаях день оказывается совершенно пустым: ну, проверили готовность, ждем инструктажа… — Тедди почувствовал, как ее рука слегка ослабла. Сам он охотно выслушал бы рассказ Нэнси о ее повседневных делах, да только она ничего не рассказывала. — Я могу продолжить?
— Конечно.
— Так вот, слышу рокот двигателя — ничего необычного в этом, естественно, нет, а потом в дверь просовывает голову Сэнди Уортингтон, мой штурман, и говорит: «Тед, сходи глянь: там новый „галифакс“, третьей модели».
— Который гораздо лучше, потому что у него другой хвост, — подхватила Нэнси, как школьница, довольная, что вызубрила скучный урок.
— Нет, интересно другое… хотя да, для меня и это важно — от этого зависят человеческие жизни. Так вот, сажусь я на велосипед — и прямиком на взлетную полосу — столовая у нас на отшибе, аэродром необъятный…
Подняв с песка кусок плавника, Нэнси забросила его в море; собака рванулась было следом, но передумала.
— А самолет этот, — продолжал Тедди, — как раз выруливал вдоль ограды на запасную площадку — и как думаешь, кто был за штурвалом?
— Неужели Герти?
Наконец-то он завладел ее вниманием.
— Точно: Герти. Вот была неожиданная встреча.
Старшая сестра Нэнси служила в транспортной авиации: перегоняла самолеты между эскадрильями, заводами и ремонтными ангарами. Еще до войны она получила удостоверение пилота, и Тедди отчаянно ей завидовал. Бойцы из его эскадрильи, хотя и не всегда признавались в этом вслух, глубоко уважали девчонок («женщин», поправляла Герти) из Вспомогательной транспортно-авиационной службы, которые могли без предварительной подготовки сесть за штурвал хоть «ланка», хоть «москито», хоть «спитфайра» или даже «летающей крепости», — большинство пилотов Королевских военно-воздушных сил не могли бы похвастаться такой разносторонностью.
— Считай, он твой, — сказал начальник базы, когда Тедди, стоя рядом с Герти на запасной площадке, любовался новым бомбардировщиком.
— Мой? — переспросил Тедди.
— А разве не ты у нас командир эскадрильи, Тед? Кому, как не тебе, доверить новую машину?
— Летает классно, — сказала ему Герти.
Так Тедди получил Q-«кубик».
Герти приняли с почетом и пригласили в офицерскую столовую на чашку чая («Да еще с лепешками! Какая вкуснота!» Это было преувеличением). По стечению обстоятельств, Герти не пришлось возвращаться на поезде: один самолет с помятым фюзеляжем требовалось перегнать в ремонт. Машина была не приспособлена к перегрузкам при вхождении в штопор (да и сам Тедди, как ему думалось, не был к этому приспособлен). За время краткого пребывания у них в части Герти не покорила ни одного мужского сердца (как и Уинни, она была резкой и довольно невзрачной) и приглянулась разве что начальнику базы, который отметил, что она не робкого десятка. Тедди для себя расставлял девочек («женщин») Шоукросс в порядке возрастания привлекательности, догадываясь, что так поступают все: от Уинни, наименее миловидной, до Нэнси и хрупкой Беа. В глубине души он считал Беа самой красивой, но пресекал эту мысль, храня верность Нэнси. «Каждая из девочек Шоукросс миниатюрнее и очаровательнее предыдущей», — подметил Хью, когда те еще были детьми. Милли, средняя, не потерпела бы такой оценки.
В эскадрилье Герти устроили сердечные проводы: во-первых, она доставила новый долгожданный «галибаг», а во-вторых, была не чужой Тедди: «почти свояченица», объяснил он, полагая, что она станет ему родственницей без всяких «почти», если только для них наступит будущее. У диспетчерского пункта собралась целая компания, в том числе и Тедди; они с жаром махали ей вслед, как будто она не перегоняла «галифакс» в Йорк на ремонт, а отправлялась в боевой вылет на Эссен. На прощанье она покачала крыльями и взмыла в синеву. Тедди ею гордился.
— Сто лет с ней не виделась, — призналась Нэнси.
— Ты сто лет вообще ни с кем не виделась, — указал Тедди.
— Моей вины в этом нет, — довольно резко ответила она.
Он был несправедлив: конечно, война и на нее наложила свой отпечаток. Свистнув собаке, он прижал к себе покрепче руку Нэнси.
— Пошли, — сказал Тедди. — Куплю тебе сэндвич в привокзальном буфете. До поезда еще уйма времени.
— Знаешь, чем прельстить девушку, — сказала Нэнси; к ней вернулось доброе расположение духа.
Собака так и не прибежала. Тедди обвел глазами пляж, море и почувствовал, как в груди закипает паника. Фортуна всегда прибегала на свист. Ла-Манш выглядел спокойным, но маленькая собака вполне могла выбиться из сил, или угодить в предательское течение, или запутаться в рыбацких сетях. Тедди вспомнил Вика Беннета, ушедшего под волны. «Ну, в добрый час тогда». Расхаживая вдоль воды, Нэнси выкрикивала кличку собаки. Тедди знал, что собачьи чувства способны настраиваться на какую-то недосягаемо высокую звериную частоту. От ребят из наземного экипажа он знал, как Фортуна ждет его вместе с ними, причем самой первой угадывает приближение его самолета. Когда возвращение задерживалось или самолет совершал вынужденную посадку на другом аэродроме, собаку никакими силами было не сдвинуть с места. И когда Тедди, попав в плен, не вернулся с задания, собака день за днем оставалась на своем посту и упорно смотрела в небо.
В конце концов Фортуну передали с рук на руки Урсуле, и Тедди после возвращения не стал требовать собаку обратно, хотя и соскучился. У него, рассудил он, теперь есть спутница жизни, Нэнси, а у сестры нет никого, и этого песика она полюбила почти так же сильно, как любил его Тедди.
Не так давно собака проникла на борт Q-«кубика». Как ей это удалось — никто не понял. Случалось, Фортуну брали прокатиться на грузовике, который доставлял их на аэродром рассредоточения, но в этот раз они ее не заметили и обнаружили уже над Хорнси, на подлете к расчетной точке встречи, когда собака с виноватым видом вылезла из-под топчана у левого борта.
— Здрасте, — сказал по громкой связи бортрадист Боб Бут, — у нас, кажись, маленький подсадной нарисовался.
Самое неприятное заключалось не в том, что это было нарушением всех правил — наверное, еще хуже, чем взять на борт наземницу. Самое неприятное заключалось в том, что они уже достигли высоты пяти тысяч футов и Тедди отдал приказ надеть кислородные маски. Собака нетвердо держалась на лапах, но это, вполне возможно, объяснялось тем, что ее занесло в чрево огромного четырехмоторного чудовища, бомбардировщика, стремящегося набрать оперативную высоту над Северным морем.
Тедди почему-то вспомнилось, как Мак после рейда на Турин распевал буги-вуги «Молодой горнист». Не то чтобы хозяин подозревал у своей любимицы способности к таким же экстравагантным выходкам, но воздействие кислородного голодания на людей и собак практически не различается.
По всей вероятности, собаке просто стало любопытно посмотреть, что происходит с людьми, когда те скрываются в чреве этого металлического тяжеловеса. А быть может, собакой двигала преданность хозяину или возможность проверить свою собственную собачью храбрость. Как знать, что на уме у собаки?
Все, кроме стрелков, поделились масками с Фортуной, что причинило большие неудобства всем участникам процедуры. «Кислород», — объяснил Тедди Фортуне, надевая свою маску на собачью мордочку. К счастью, в тот раз они вылетели на минирование голландских судоходных путей, а не в длительный рейд на Большой город. После благополучного приземления Тедди тайком вынес Фортуну под курткой.
С той поры Тедди взял за правило прихватывать с собой на борт дополнительную маску на случай появления непрошеного подсадного — чтобы можно было подключить его к центральному кислородному баллону. Впрочем, кто в здравом уме захочет сделаться подсадным в бомбардировщике?
Тедди обернулся: откуда ни возьмись в поле зрения появилась Фортуна, которая устало трусила по берегу, не обещая рассказов о своих приключениях.
Воссоединившись, они пошли дальше все вместе, и в какой-то момент их остановил уличный фотограф. Разрешив ему сделать снимок и заплатив требуемую сумму, Тедди продиктовал адрес эскадрильи, и через шесть дней отпуска, когда он вернулся в часть, фотография, которая успела забыться, была уже там. Снимок оказался удачным, и Тедди решил заказать еще несколько таких же, хотя бы для Нэнси, да как-то руки не дошли. Он, конечно, был снят в форме, а Нэнси — в летнем платье и нарядной соломенной шляпке; грошовое обручальное кольцо в кадр не попало. Они беззаботно улыбались. С ними была Фортуна, тоже довольная собой.
Тедди носил это фото в кармане полукомбинезона, вместе с серебряным зайцем. Оно прошло с ним и войну, и лагерь, а потом было небрежно брошено в обувную коробку с памятными вещицами и наградами. «Раритеты», — говорила Берти, перебирая содержимое после переезда Тедди в «Фэннинг-Корт». Ее всегда интриговала Нэнси — бабушка, которой она не знала. «Да еще и собака!» — воскликнула она, привлеченная умильной мордочкой. («Фортуна», — любовно пояснил Тедди. Хотя собаки не было в живых уже лет сорок с лишним, его каждый раз захлестывала грусть от мысли, что Фортуна покинула этот мир.)
На фотографии темнело бурое пятно, размазанное поверху; когда Берти полюбопытствовала, чем залито изображение, Тедди ответил: «Чаем, наверное»).
Отслужив первый срок, Тедди был переведен в центр летной боевой подготовки на инструкторскую должность, но затем досрочно попросился обратно в часть. «Господи, зачем? — написала Урсула. — Если тебе еще на несколько месяцев была гарантирована относительная безопасность?» По мнению Тедди, слово «относительная» вполне соответствовало действительности. Впервые оказавшись в учебном центре, он насчитал на окрестных полях еще не убранные обломки по меньшей мере пяти самолетов. Для учебных целей использовались большей частью списанные, пришедшие в негодность машины; можно подумать, новичков без этого подстерегало недостаточно опасностей. Тедди не задавал вопросов о судьбе тех, кто находился в разбившихся самолетах. Он для себя решил, что лучше об этом не знать.
«Понимаешь, — написал он в ответ, — работа еще не закончена». А про себя добавил: даже в первом приближении. Птицы тысячами разбиваются о стену, а она знай стоит. И приписал: «К тому же я чертовски хороший летчик, а потому считаю, что принесу больше пользы в воздухе, чем в учебке, где тренирую желторотых юнцов».
Он перечитал письмо. Аргументы звучали вполне убедительно. Не стыдно предъявить хоть сестре, хоть Нэнси, хоть всему миру, просто его немного коробило от необходимости оправдываться, когда еще не отгремели воздушные сражения. Разве у них в семье не ему выпало стать воином? Впрочем, он подозревал, что сей благородный плащ мог достаться и Джимми.
Но правда заключалась в том, что ничего другого он делать не хотел, да и не умел. Бомбежки стали его естеством. Его сущностью. Только одно место манило его к себе: чрево «галифакса», где пахло грязью и соляркой, густым по́том, резиной, металлом и кислородом. Он не возражал глохнуть от рева двигателей, терять мысли от холода, грохота и равных долей адреналина и скуки. Когда-то он верил, что его сформирует архитектура войны, но теперь понимал: она его растворила.
У него был новый экипаж: стрелки Томми и Олуф, первый — «джорди»,{106} второй — норвежец. В четвертой группе служило много норвежцев, но недостаточно, чтобы организовать собственную эскадрилью, как организовали польскую. Норвежцы сражались почти так же люто и кровожадно, как поляки. А те и вовсе не знали удержу. Они жили ради того дня, когда можно будет улететь домой, в свободную Польшу. Но со свободной Польшей так и не сложилось. Тедди часто о них вспоминал, когда Польша прокладывала себе тягостный путь сквозь двадцатый век.
Этот экипаж тоже составила пестрая компания. Сэнди Уортингтон, штурман, был новозеландцем, Джеффри Смитсон, бортинженер, получил диплом Кембриджа («По математике», — благоговейно добавлял он, как истовый верующий). Тедди поинтересовался, не говорит ли ему о чем-нибудь имя Нэнси, и Джеффри ответил, что да, слышал: она же вроде получила премию Фосетт, это так? «Умная девочка», — добавил он. «Умная женщина», — поправил Тедди. Радиста, уроженца Лидса, звали Боб Бут, а бомбардира-наводчика…
— Приветствую, уважаемый.
— А тебя за каким чертом сюда принесло? — отозвался Тедди.
— Понимаете, когда я был инструктором в ЦБП, до меня дошел слух, что прославленный Тед Тодд до срока вернулся в эскадрилью, и я подумал: фига с два он будет летать без меня. Мне предстояло отправиться в какую-то австралийскую часть, но у меня был кое-какой блат.
Тед едва не расчувствовался при виде Кита: в старом экипаже тот был ему ближе всех; их объединяло многое из того, о чем не говорят с посторонними, но при встрече они ограничились коротким мужским рукопожатием. Много позже, на исходе века, Тедди стал замечать, как мужчины мало-помалу теряют сдержанность, а к тому времени, когда двадцатый слился с двадцать первым (и наступили — отталкивающее обозначение — «нулевые»), мужчины, такое впечатление, полностью утратили контроль над своими эмоциями, а быть может, и над здравым смыслом. На футбольном поле и теннисном корте мужчины теперь прилюдно лили слезы, а на улицах рядовые прохожие обнимались и целовали друг друга в щеку.
— Папа, я тебя умоляю, — повторяла Виола, — как можно городить такую чушь? «Контроль над своими эмоциями», подумать только! Неужели ты всерьез думаешь, что мир изменится в лучшую сторону, если мужчины будут скрывать свои чувства?
— Да.
Он до сих пор с ужасом вспоминал, как распустил нюни на кухне у матери Вика Беннета. Кому от этого стало лучше? Уж всяко не ему. Когда умерла Нэнси, он плакал беззвучно, наедине с собой; такая скорбь выглядела в его глазах уважительной.
— Я считаю, в этом повинна Диана, — сказала Берти.
— Диана?
— Принцесса. С ее легкой руки обиженный считается героем. В твое время было как раз наоборот.
Они сидели на крыше «Уайт Хорс» в Килбёрне и ели сэндвичи, которые дала им сухим пайком милая хозяйка гостиницы. Тедди подумал: щенячьи радости закончены.
— Стар я стал для этого мира, — сказал он.
— Да и я тоже, — подхватила Берти.
Нэнси отпустили со службы только на сутки, и они расстались без малого через двадцать четыре часа после встречи, правда на другой платформе. Он с грустью махал ей на прощание, но когда поезд скрылся из виду, Тедди устыдился: он испытал нечто похожее на облегчение.
Кит тоже оказался в Лондоне потому, что получил отпуск; они встретились и мило провели платонический вечер с Беа и ее подругой Ханни, беженкой. Все много пили; Кит подбивал клинья к обеим сразу. Ханни, очень симпатичная, интереса не проявила, а Беа была «не свободна» — помолвлена с каким-то врачом-терапевтом, хотя обе вполне благосклонно принимали ухаживания Кита. С этим врачом Тедди так и не познакомился — в день высадки десанта в Нормандии тот погиб в «Золотом секторе», а Беа после войны вышла замуж за хирурга.
Беа работала на Би-би-си: была продюсером, изредка выступала с комментариями о радиопередачах и занималась разными организационными делами, а Ханни работала переводчицей в каком-то правительственном департаменте с невнятным названием. Во время Лондонского блица Беа вращалась в медицинских кругах и завербовалась на работу в морге, где собирала воедино части тел. По какой-то невероятной причине ее сочли годной к такой работе в силу того, что она получила художественное образование. «Как-никак с анатомией знакома», — говорила она. Даже Тедди, притерпевшийся к виду расчлененных мужских тел, решил, что не смог бы заниматься этим делом. Впоследствии, в эпоху терроризма, Тедди читал о бомбах, заложенных в парках и ночных клубах, в небоскребах и пассажирских лайнерах, о том, как разлетались на части или падали на землю с огромной высоты трупы, и думал, соберет ли кто-нибудь их воедино. Сильви всегда утверждала, что наука — это поиск человеком новых способов убийства, и с годами (как будто военной поры оказалось недостаточно) Тедди заключил, что она, скорее всего, была права.
Танцевал он с Ханни — она лучше подходила ему по росту и благоухала духами Soir de Paris, которые «один знакомый» привез ей из Франции; Тедди подумал, что у нее есть какие-то тайные дела (а у какой из его знакомых женщин их не было?). В ушах у нее поблескивали изумрудные сережки, и когда Тедди их похвалил, она расхохоталась и сказала: «Бижутерия! Неужели я похожа на женщину, которая может позволить себе изумруды?» В Германии у нее остались родные, и она желала, чтобы «немцы все до единого» умерли в муках. Вполне справедливо, думал Тедди.
Они договорились встретиться завтра вечером и сходили вчетвером на «Мышьяк и старые кружева»,{107} фильм, который, по общему мнению, был отличным противоядием против войны.
После войны Беа рассказала Тедди, что Ханни служила в Управлении специальных операций и перед высадкой в Нормандии была заброшена во Францию. Урсула и Беа пытались узнать ее судьбу («у нее теперь никого не осталось»). История оказалась ужасной в своей обыденности.
Оказалось, что прелестные серьги с изумрудами — вовсе не бижутерия, а подлинный шедевр французской работы конца девятнадцатого века и принадлежали ее матери, которая была француженкой («Во мне течет, кроме немецкой, еще венгерская кровь и даже румынская. Европейская помесь!»). Серьги начали свой путь в ювелирной мастерской парижского района Марэ в тысяча восемьсот девяносто девятом году и, как свойственно неодушевленным предметам, намного пережили своих владельцев. Ханни отдала их Беа «на хранение» («Вероятно, меня пару недель не будет»).
— Думаю, она знала, что не вернется, — сказала Беа.
Перед смертью Беа передала серьги Тедди, потому что он оставался буквально единственным в этом мире, кто помнил Ханни; а потом Берти надела их на свадьбу, но Тедди, к сожалению, не дожил до этого дня. Берти выходила замуж зимой; ее избранником стал человек, с которым она случайно познакомилась на Вестминстерском мосту; венчались они в саксонской церкви в Котсуолдс; Берти была в старинной кружевной фате и с букетиком подснежников в руках. После некоторых пререканий она разрешила Виоле быть посаженой матерью. Все прошло идеально.
На другой день, в воскресенье, Кит и Тедди утренним поездом приехали в Лисью Поляну, где Сильви стала настойчиво уговаривать их остаться на обед. Кит охотно согласился: в свой прошлый приезд он очаровал Сильви. К тому же он знал, что кладовая у нее не пустует. Урсула отказалась составить им компанию.
— Пусть мама получит вас в свое полное распоряжение, — сказала она с ядовитым смехом.
Тедди повел Кита знакомиться с миссис Шоукросс, которая всегда с энтузиазмом (куда большим, чем Сильви) встречала боевых товарищей Тедди, приезжавших с ним в Лисью Поляну. Он рассказал миссис Шоукросс, как встретился с Герти, и услышал в ответ:
— Это просто поразительно, только я за нее очень беспокоюсь. Из головы не идет Эми Джонсон, понимаешь?{108}
Милли, приехавшая «на побывку», неприкрыто флиртовала с Китом.
— Эту девушку надо держать на цепи, — смеялся он, вырвавшись наконец-то из ее коготков. — Она не в моем вкусе. — Он не мог забыть Ханни, подругу Беа. — Ну как я такую привезу на овечью ферму? — Кит ни минуты не сомневался, что вернется в Австралию, и Тедди заряжался его уверенностью. — Тем более она еврейка.
— Я знаю.
— Никогда в жизни евреев не встречал, — говорил Кит и как будто сам удивлялся. («Иудейка», — сказала бы Сильви.) — А как славно было бы влюбиться, — добавлял он, неожиданно открывая романтическую сторону своей натуры. — Прислушаться к зову сердца и все такое.
— Успокойся, — отвечал ему Тедди. — Что-то ты заговорил как актеришка, дамский угодник.
(Или как баба.) Через несколько месяцев Тедди сам «влюбился». Прислушался к зову сердца и оказался в тупике, но не слишком возражал.
Романтический эпизод.
Джулия. Высокая, светловолосая — казалось бы, совершенно не во вкусе Тедди.
— Натуральная блондинка, — подчеркнула она.
— По-моему, я таких пока не встречал, — ответил Тедди.
— А теперь встретил, — рассмеялась она, запрокинув голову.
Эта манера могла бы показаться вульгарной, но Джулии только прибавляла очарования. У нее даже не было привычки закрывать рот ладонью, но, в конце-то концов, зубки у нее были хорошие, сливочного оттенка, даже с перламутровым отливом. («Хорошая наследственность, — говорила она. — И хороший дантист».) Смеялась она много и часто.
Она была школьной подругой Стеллы, и Стелла попросила Тедди «проведать Джулию», когда он будет в Лондоне, что было с ее стороны бескорыстным жестом. «Да смотри не влюбись, — предупредила Стелла (как нарочно). — Она многих свела с ума, да таких, что получше тебя будут». Хотя Стелла вряд ли знавала кого-нибудь получше Тедди.
Тедди не хотел погибать не влюбившись, а коль скоро смерть могла подстеречь его в любую минуту, он, безусловно, сам направил десницу Купидона, который и обеспечил ему роман военной поры. Тедди для этого созрел.
Джулия работала в автотранспортной сфере и водила армейские грузовики. На одежде у нее вечно оставались пятна масла или смазки, а под ногтями чернела грязь. Тем не менее она многим кружила голову. Для нее это было так же естественно, как родиться натуральной блондинкой. Она была из тех девушек, которые всегда сидят за лучшими столиками в ресторане и на лучших местах в театре. Таким девушкам все само идет в руки. Было в ней нечто умопомрачительное, гламурное, что зачаровывало окружающих. Тедди тоже угодил в ее сети. На целую неделю.
После того как они впервые вместе поужинали (и впервые переспали), он устроил себе увольнительную. «К чему терять время, золотко», — сказала она, расстегивая его китель. Она и сама была из тех, кто может устроить себе увольнительную. «У папаши большие связи». Папаша занимал таинственный пост «правительственного консультанта», но его единственное чадо пользовалось неограниченной свободой. Джулия в свои двадцать два года была далеко не ребенком. Мама у нее умерла. «Тоска».
Денег у Джулии было «немерено» — папаша носил титул лорда. Тедди учился в школе с сыновьями титулованных отцов и не робел перед ее высоким происхождением, хотя и невольно ахнул про себя, увидев огромный особняк близ Риджентс-парка — их фамильный «лондонский дом». Помимо этого, ее семье принадлежало «родовое гнездо» в Нортгемптоншире и «поместье» в Ирландии. «Ну и еще парижские апартаменты, куда сейчас вселился какой-то гнусный гауляйтер». Папаша дома не жил, он неотлучно находился в Вестминстере, а у Джулии была своя квартира на улице Петти-Франс.
Лондонский дом во время их знакомства стоял нежилым. Обстановка была нетронута и только накрыта чехлами. С потолков по-прежнему свисали гигантские люстры, тоже обернутые тканью, как неловко упакованные подарки. Ценные картины были занавешены, как зеркала в доме, где траур. В качестве чехлов использовались разномастные покрывала и старое (а также не очень старое) постельное белье. Под вязаным пледом Тедди обнаружил кушетку эпохи Людовика Пятнадцатого, под простыней — великолепный комод Булля в стиле Людовика Четырнадцатого, а под пуховым одеялом — письменный стол, якобы принадлежавший Марии-Антуанетте. Кухонное полотенце скрывало портрет кисти Гейнсборо. Тедди даже забеспокоился о сохранности этих вещей.
— Ты не боишься, что они могут пострадать?
— А чего бояться? — (Такое слово в ее лексиконе отсутствовало; ее преступная беспечность и подкупила Тедди.)
— Они могут достаться грабителям или пострадать при бомбежке.
Джулия пожала плечами:
— У нас такого добра полно.
Проходя мимо небольшого Рембрандта, висевшего под лестницей, Тедди всякий раз приподнимал угол скрывавшей его кисеи. Если что — никто его не хватится, думал он. Заслуживают ли эти беспечные люди таких сокровищ? Прихвати он со стены Рембрандта — и жизнь круто изменится. Правда, он станет вором. Но это уже другая история.
В коридоре висело несколько Рубенсов, Ван Дейк и Бернини, а также масса итальянских сокровищ эпохи Возрождения. Но у него не шел из головы тот небольшой Рембрандт. Тедди мог вынести все, что угодно. Под вазой у двери хранился ключ. Но когда Тедди поддразнивал Джулию насчет отсутствия должных мер безопасности, она только хохотала: «Допустим, но ваза-то тяжеленная». (Так и было.)
— Мне не жалко, бери себе, золотко, — сказала она, застукав его за разглядыванием Рембрандта. — Темное, мутное старье.
— Нет уж, спасибо.
Оплот высокой нравственности.
По прошествии времени он пожалел, что не прибрал к рукам ту картину. Никто бы не поверил, что это подлинный Рембрандт, — и полотно висело бы на дачной стене исключительно ради постыдного удовольствия Тедди. В самом деле, напрасно он не решился. В лондонский дом попала «Фау-2», и Рембрандт пропал навеки.
— Возьми себе, — настаивала Джулия. — К сожалению, я жуткая невежда.
По опыту Тедди знал, что люди, которые себя выдают за одних, на поверку оказываются полной противоположностью тому, что сами о себе заявляют, хотя Джулия оказалась права. Она была махровой обывательницей.
На Петти-Франс они не поехали. Их романтический эпизод протекал в лондонском доме и частично в номере люкс отеля «Савой», постоянно зарезервированном, насколько мог судить Тедди, за Джулией. Там они провели памятную бессонную ночь. Шампанское из винного погреба лондонского дома лилось рекой, они всю неделю пили всласть и занимались любовью на бесценных предметах антиквариата. Тедди поразила мысль, что Джулия, по всей видимости, живет так постоянно.
У нее было идеальное тело, как у греческой богини. Она и виделась ему богиней, холодной, равнодушной, удовлетворенно взирающей на раздираемого псами несчастного Актеона. Нэнси — та не ужилась бы на Олимпе: ей больше подходила роль веселой языческой феи.
— Кто такая Нэнси?
— Моя невеста.
— Ой, золотко, это же чудесно.
Такой отклик вызвал у него легкое раздражение. Ревнивые нотки могли бы добавить пикантности этому приключению. Их роман и в самом деле был только приключением — сердце оставалось непотревоженным. Тедди играл в интрижку. Дело было после Гамбурга, после Бетховена, после гибели Кита, незадолго до Нюрнберга, когда ему просто все было побоку, особенно красивые невежды-блондинки. Но он ценил свободный, разнузданный секс («грязишку», как выражалась Джулия), и впоследствии, вернувшись к более традиционным отношениям, по крайней мере помнил, что значит трахаться от души. Ему претило это выражение, но никакого другого с Джулией не подходило.
В последний день своего отпуска он, придя в лондонский дом, сдвинул с места массивную вазу, но ключа не нашел. Под вазой лежала кое-как нацарапанная записка: «Золотко, все было дивно, когда-нибудь еще встретимся. Ц. Дж.». Только он стал там обживаться, как ему откровенно указали на дверь.
Вскоре после этого Джулию направили в артиллерийско-техническую службу, где ее убило в числе семнадцати человек при случайном взрыве бомбохранилища. Тедди уже был в лагере для военнопленных и узнал об этой трагедии лишь годы спустя, читая в своей излюбленной газете репортаж о смерти ее отца («Смерть пэра: скандал на сексуальной почве»).
Ему привиделись идеальные белые руки и ноги Джулии, оторванные от туловища и разбросанные по земле, как обломки античной статуи. Известие пришло к нему с большим запозданием, когда ему уже было все равно, тем более что Нэнси тогда поставили страшный диагноз. Судьба лондонского дома тоже оставалась неизвестной, пока Тедди не прочел статью в той же самой газете («Бесценные сокровища, утраченные в годы войны»). Он горевал по небольшому Рембрандту сильнее, чем по Джулии, о которой долгое время вообще не вспоминал.
Но до этого было еще далеко. А сейчас они с Китом, возвратившись от Шоукроссов, увидели, что в Лисьей Поляне собрались гости, которых Сильви пригласила на обед; никого из этих людей Тедди в глаза не видел, да и не хотел видеть.
Пришел напыщенный местный советник с женой, адвокат (называющий себя старым холостяком), который был не прочь приударить за Сильви. Пришла чья-то престарелая вдова, которая без конца жаловалась, особенно на тяготы военной поры, и, наконец, «иерарх», как называла его Сильви, — высокопоставленный елейный святоша, каким, с точки зрения Тедди, и должен быть епископ.
Они манерно — даже мужчины — потягивали херес, и Сильви обратилась к Тедди и Киту:
— Вы, вероятно, предпочитаете пиво?
— Я бы не отказался, миссис T., — ответил Кит, как истинный австралиец.
Сильви будто нарочно выбрала персонажей какого-то пошлого фарса. Как правило, она не тратила время на буржуазные компании; Тедди не понимал, с какой стати мать надумала расширить свой круг общения за счет великих и добродетельных. И только когда она устроила спектакль вокруг его орденских планок и стала расписывать «подвиги», хотя о «подвигах» (в кавычках и без) он практически ничего ей не рассказывал, Тедди заподозрил, что мать просто похваляется им перед этим благородным собранием. Он поймал себя на том, что не может выдавить ни слова в ответ на расспросы о его «воинской доблести», и предоставил Киту развлекать гостей комичными байками, в которых война представала чередой плутовских выходок, сродни приключениям Августа.
— Но постойте, — не выдержал старый холостяк, ожидавший более брутальных сюжетов, — война — это не игрушки. Вы же бомбите фрицев в хвост и в гриву.
— Да, вы проявляете мужество, — с помпой заявил член муниципального совета. — Высоко несете знамя. Гамбург был крупной победой Королевских военно-воздушных сил, вы согласны?
— Так держать, молодые люди, — подхватил епископ, жестом намекая, что пора выпить еще хереса. — А теперь добейте остальных.
Всех, что ли? — спросил себя Тедди.
«Должна тебя предупредить, — писала ему Урсула, — что дома забили свинку».
Тедди не раз видел принадлежавшую Сильви свинью, купленную еще розовым поросенком. Свинка ему, в общем-то, нравилась. Напрочь лишенная кичливости, она слонялась по сколоченной на скорую руку сараюшке и благодарно принимала любые перепадавшие ей крохи. И этой бедолаге светило только одно: быть расфасованной на бекон, сардельки, ветчину и другие мясопродукты, в которые превращается свинья в другой жизни. Ради того, чтобы оборотистая Сильви могла зашибать деньги.
К столу обещали подать жареную свиную ногу и овощи со своего огорода, а также яблочный соус, с осени укупоренный в бутылки. Меренги для украшения хлебного пудинга обеспечили изможденные домашние несушки. А Тедди все вспоминал, как свинка при жизни бегала на четырех крепких ножках.
— Все из Лисьей Поляны, — гордо повторяла Сильви, — от свинины до яиц и джема для пудинга.
Возможно, своей хозяйственностью она старалась пустить пыль в глаза старому холостяку. Или епископу. У Тедди не укладывалось в голове, что мать может вступить в повторный брак. Достигнув солидного, самодовольного среднего возраста, Сильви наслаждалась своей независимостью.
— От одного этого запаха у мужчины укрепляется боевой настрой, — говорил епископ, втягивая духовитые мясные пары своим утонченным епископским носом.
— Вы чрезвычайно изобретательны, дорогая моя, — у вас же прямо натуральное хозяйство, — обратился к Сильви адвокат, осушив крошечную рюмочку и с надеждой оглядываясь в поисках графина.
— Надо бы учредить медаль для женщин, отличившихся на домашнем фронте, — ворчливо проговорила жена советника. — За нашу изобретательность, если не за все страдания, которые выпадают на нашу долю.
Эта ремарка спровоцировала брюзжание престарелой вдовы («Страдания! Это вы мне рассказываете?»)
Тедди, обливаясь по́том, терял терпение.
— Прошу меня извинить, — сказал он, опуская на стол свой бокал с пивом.
— Все нормально, дружище? — спросил Кит, когда Тедди протискивался мимо него.
— На свежий воздух, — бросил Тедди.
— Покурить вышел, — донесся до него миролюбивый голос Кита.
Тедди свистнул собаку, которая во дворе присматривалась к несушкам, надежно защищенным проволочной сеткой. Приученная к дисциплине, Фортуна побежала по переулку вслед за хозяином.
Проскользнув под калиткой, собака оказалась на пастбище и в недоумении замерла при виде коров.
— Коровы, — пояснил Тедди и добавил: — Они тебя не тронут.
Но Фортуна уже зашлась истошным лаем от испуга и задиристости. Такая смесь встревожила обычно невозмутимых коров, и Тедди поспешил увести своего питомца от греха подальше.
Гамбург действительно был «крупной победой», размышлял он. Погодные условия над Северным морем им благоприятствовали, а немцы стали глушить не ту волну, поэтому штурманы уверенно фиксировали цель по системам радионавигации. («Давай поговорим о чем-нибудь более интересном, чем техника бомбометания».)
После долгого перелета в безликой тьме над Северным морем они с облегчением увидели маршрутные маркеры, оставленные самолетами наведения: золотистыми огненными каплями они грациозно стекали к земле, образуя своего рода крокетную калитку и направляя в нее бомбардировщики. На инструктаже подчеркивалось, что самолеты должны идти плотным строем не только для более успешного бомбометания, но и для того, чтобы «Облако», использовавшееся у них впервые, обеспечивало максимальную защиту. К этому таинственному «Облаку» многие вначале отнеслись скептически, но на инструктаже им внушили, что спецы создали по меньшей мере святой Грааль, и во время боевого вылета экипажи оценили эту штуку по достоинству. Облако дипольных противолокационных отражателей стало их новым секретным оружием.
Некоторые самолеты уже были оборудованы специальным люком в нижней части фюзеляжа, но у большинства, в том числе и у Q-«кубика», использовался люк, через который сбрасывались осветительные бомбы. Работка та еще, и Тедди отправил негодующего Кита в нижнюю часть промерзшего фюзеляжа, где тот, еле поворачиваясь со своим портативным кислородным баллоном, фонариком и секундомером, должен был каждые шестьдесят секунд сгибаться в три погибели, чтобы снимать круглую резинку с неудобных упаковок и выпускать наружу ленты. Но какая же это красотища — длинные серебристые полосы, которые, падая на землю, ослепляли немецкие радиолокационные установки, не давая тем навести истребители ПВО на пролетающие бомбардировщики. Прожекторы бесцельно расчерчивали небо, а голубые указательные лучи застывали в беспомощном ожидании. Немецкие зенитные орудия, как шутихи, палили вслепую куда попало. До цели получалось добраться без серьезных повреждений.
Добраться — и обрушить на нее — две тысячи триста тонн бомб и свыше трехсот пятидесяти тысяч зажигательных боеприпасов за час. Мировой рекорд. Первые указатели цели — спускающиеся на парашютах осветительные бомбы — поливали сверху землю красно-золотыми фонтанами, за которыми следовали ярко-зеленые, так что эффект получался как от праздничных фейерверков, каскадами сыплющихся с черного неба. К цветным огням примешивались быстрые вспышки бризантных снарядов и более крупные, будто замедленные, вспышки фугасов весом в тонну, а кроме того, повсюду мелькали белые огоньки — это с неба на город сыпались тысячи и тысячи зажигательных бомб.
По плану тяжелые бомбы должны были поражать открытые сооружения, снося с них кровлю, чтобы зажигалки попадали внутрь и превращали здания в столбы пламени. Задача бомбардировщиков в том и заключалась, чтобы уничтожать огнем все, что внизу. Город под ними был сухим как солома, влажности никакой, идеальные условия для того, чтобы показать Гитлеру (и британскому правительству), на что способно бомбардировочное командование.
Q-«кубик» шел во второй волне, следом за машинами наведения и «ланкастерами», которые уже осветили ему цель.
Это было похоже на Рождество: всполохи и вспышки в небе. Повсюду алые костры — правда, очень скоро их затянуло темным покровом дыма. В разгар этого пиротехнического представления заговорил Кит: «Левее, вправо, чуток правее…» — и Тедди наконец услышал: «Приступить к бомбометанию», а потом они повернули домой; им на смену к цели беспрепятственно шли следующие четыре волны бомбардировщиков.
Следующей ночью экипажу предстоял вылет на Эссен, еще один полномасштабный рейд, а потом — долгожданный отдых длиной в целые сутки: им на смену шли американцы, которые готовились к двум дневным рейдам на Гамбург для довершения начатого. Тедди мог только посочувствовать американским летчикам: идти плотным строем при свете дня означало подставляться под немецкие системы ПВО. Примерно за месяц до этого Q-«кубик» совершил вынужденную посадку на американской военно-воздушной базе в Шипдхаме; экипаж встретили там как родных. До того раза им не приходилось напрямую сталкиваться с американскими союзниками, а потому было особенно приятно, что в той эскадрилье ребята оказались, по словам джорди Томми, «совсем как мы». Естественно, обмундирование еще не износилось, позолота не потускнела, хотя до этого оставалось недолго. А уж паек там не шел ни в какое сравнение с привычным, и к себе на базу Q-«кубик» доставил плитки шоколада, пачки сигарет, компоты и сердечный привет от союзников.
Погода во время их посадки выдалась как по заказу; парни отдыхали на воздухе в шезлонгах или резались в карты. Кто-то организовал на соседнем поле игру в крикет, но многие просто отсыпались, обессиленные войной. Тедди с Китом долго и неторопливо катались на велосипедах с парой «вспомогашек», а Фортуна неслась рядом. Когда собака утомилась, одна из девушек посадила ее к себе в корзину, и зверь возвышался перед рулем, как гордый кормчий, — только уши развевались по ветру. «Прямо как за штурвалом», — сказала наземница Эдит, такая невезучая, что можно было только посочувствовать. Последние трое летчиков, с которыми она встречалась, не вернулись с боевых заданий, и теперь все обходили ее стороной. У Тедди пару раз мелькала мрачная мысль с ней переспать и посмотреть, чем это для него обернется. Еще не поздно, сказал он себе. Она к нему тянулась, как, впрочем, и все наземницы.
Они перекусили сэндвичами с рыбным паштетом и напились родниковой воды, как будто Третьего рейха не было в помине, а кругом простирались милые сердцу зеленой Англии луга.
Он взглянул на часы. Ровно три. Надо думать, в Лисьей Поляне уже отобедали без него. Во всяком случае, он на это надеялся. Ему казалось, что Кита он оставил на растерзание очень давно.
Они пересекли луг в пышном летнем убранстве из льна и шпорника, лютиков, маков, алого лихниса и ромашки, а потом двинулись вдоль одного из пшеничных полей, примыкавших к фермерскому дому. Пшеница переливалась, волнуемая ветром. Раньше он часто работал на этих полях во время уборки урожая, прерываясь только для того, чтобы под горячим солнцем пообедать пивом и сыром вместе с батраками. Трудно поверить, что жизнь когда-то была такой простой. Сейчас прошлое представало романтичной довоенной идиллией:
Вы, солнцем опаленные жнецы, Чьи шляпы из соломы как венцы Горят над лбами, мокрыми от пота! Сюда! Дневная кончена работа! Пусть каждый нимфу за руку возьмет И вступит с ней в веселый хоровод.{109}Нет, рассуждал он, вряд ли тяжелый труд батраков оставлял место для пасторалей Шекспира; жатва — лишь очередная стадия земледельческого года, состоящего из нескончаемых, изнурительных работ.
Меж колосьев пшеницы то здесь, то там виднелись россыпи красных маков — пятна крови на золоте; он думал о других полях другой войны — войны его отца — и понимал, как мало воспоминаний о Хью он сохранил. Если бы только отец сидел сейчас в Лисьей Поляне и ждал его возвращения, потягивая пиво в саду или виски у себя в «роптальне».
Пес носился среди колосьев, и Тедди потерял его из виду, однако слышал его лай, оживленный, но не испуганный: должно быть, на собачьем пути встретился противник менее страшный, чем корова, — всего лишь кролик или мышь. Тедди свистнул, чтобы Фортуна понимала, в какой стороне сейчас хозяин.
— Нам пора, — сказал он, когда пес наконец примчался обратно.
— Мы уже думали, что потеряли тебя, — сердито сказала Сильвия.
— Пока еще нет, — ответил Тедди.
— Ты в порядке? — спросил Кит, протягивая ему пиво.
Кит сидел на террасе и разглядывал дом. Большой и красивый, тот казался заброшенным.
Последний вечер перед отъездом Тедди решил провести с Урсулой. Кит ушел в загул с земляками.
Прогулявшись по паркам, Тедди остановился у здания, где работала Урсула, и, словно часовой на посту, стал ждать, надеясь удивить сестру, когда та выйдет с работы.
— Тедди!
— Он самый.
— И Фортуна! Вот кого не ожидала увидеть.
И опять Тедди почувствовал, что собаке обрадовались больше.
— Ты как раз вовремя, — сказала Урсула, — хотя, возможно, тебе не понравится мое предложение. Не хочешь сопроводить меня на Променадный концерт Би-би-си?{110} Один знакомый достал мне два билета, но приятельница, с которой мы собирались идти, только что отказалась. После концерта можем перекусить.
— Превосходно, — ответил Тедди.
Он расстроился. Меньше всего ему сейчас хотелось идти на концерт. Морской воздух и сутки, проведенные с Нэнси, не говоря уже об ужине в Лисьей Поляне, выкачали из него все запасы энергии, так что сейчас он с удовольствием отправился бы в кино и подремал в душной темноте зала или, быть может, напился бы в дрова, чтобы забыться и приятно расслабиться.
— Отлично! — порадовалась Урсула.
Собаку она решила оставить в конторе.
— По-моему, это запрещено, — весело сказала Урсула, — но без присмотра он не останется. Ночная смена уж точно успеет его избаловать.
Фортуна почуяла свою выгоду и тут же увязалась за какой-то секретаршей.
Погода стояла прекрасная; Тедди и Урсула с удовольствием прогулялись до Альберт-Холла. Пришли они заблаговременно, успев даже погреться на солнышке в Кенсингтонском саду, где сели на скамейку и умяли бутерброды, к которым Урсула — «из-за всей этой беготни по правительственным делам» — даже не прикоснулась в обеденный перерыв.
— По существу, я только и делаю, что перекладываю бумажки с места на место. Как, наверное, и большинство людей. К тебе это, конечно, не относится.
— И на том спасибо, — ответил Тедди, вспомнив нудную работу в банке. Если он каким-то чудом переживет войну, куда потом себя девать? Мысль о возможном будущем вселяла в него страх.
Его сестра поднялась и отряхнула крошки.
— Нам пора, не будем заставлять Бетховена ждать.
«Один знакомый» достал для Урсулы билеты на хорошие места. Она надеялась пойти со своей приятельницей, мисс Вулф, но той пришлось отказаться.
— Так жалко ее, — сказала Урсула, — у нее племянник, военный, — ей только что сообщили — погиб в Северной Африке. Мисс Вулф просто изумительный человек, яркая звездочка, и она твердо убеждена, что музыка способна исцелять. Вот бы она порадовалась, услышав сейчас Бетховена, в разгар войны, особенно это произведение.
Тедди даже не знал, о чем идет речь. Он открыл программку. Девятая симфония в исполнении Симфонического оркестра Би-би-си и хора «Александра»,{111} дирижер Адриан Боулт.
— Alle Menschen werden Brüder,{112} — процитировала Урсула. — По-твоему, это сбудется? Хоть когда-нибудь? Что все люди станут братьями? Ведь люди — в первую очередь мужчины — убивают друг друга испокон веков. С тех пор, как Каин запустил камнем в голову Авелю, или что он там сделал.
— Не помню, чтобы в Библии приводились такие подробности, — заметил Тедди.
— В нас удивительно сильны первобытные инстинкты, — продолжала Урсула. — По сути своей все мы дикари, поэтому и придумали Бога, чтобы Он стал голосом нашей совести, иначе мы бы уничтожали всех направо и налево.
— Думаю, как раз этим мы и занимаемся.
Зал быстро наполнялся; люди, шаркая, пробирались к своим креслам, и Тедди с Урсулой пришлось несколько раз поджать ноги, чтобы пропустить очередных слушателей. Где-то внизу публика с дешевыми входными билетами вежливо захватывала удобные позиции перед сценой.
— Места отличные, — сказал Тедди. — Уж не знаю, кто достал эти билеты, но он явно к тебе неравнодушен.
— Бывают и получше, — ответила Урсула, и ее саму, как видно, очень позабавило это замечание. — Мощные были бомбежки на прошлой неделе, ничего не скажешь, — неожиданно произнесла она, застав его врасплох этим внезапным, никак не связанным с их беседой суждением.
— Это точно.
— Как по-твоему, с Гамбургом покончено?
— Да. Нет. Откуда я знаю? Наверное. С высоты семнадцати тысяч футов многого не увидишь. Только огонь.
На сцену выходил хор.
— Им сильно досталось, — продолжила Урсула.
— Кому?
— Людям. В Гамбурге.
Тедди не воспринимал их как людей. Для него это были города, заводы и железнодорожные станции, расположения воинских частей, доки.
— У тебя все еще есть сомнения? — не унималась Урсула.
— Сомнения?
— Ну, насчет бомбардировки по площадям.
— А, вот ты о чем. — Он уже слышал такой оборот речи, но не придавал ему большого значения.
— Беспорядочные налеты. Гражданское население считается законной мишенью — безвинные люди. Тебя не преследует… неловкость?
Он повернулся к ней, пораженный ее прямолинейностью. («Неловкость»?)
— Гражданское население не мишень! А ты можешь себе представить войну, на которой никого не убивают? Чтобы победить, нужно уничтожить и промышленность, и экономику противника. А при необходимости и жилье. Я выполняю… мы делаем то, что нам доверено: защищаем свою страну и отстаиваем свободу. Война идет против заклятого врага, и каждый раз, вылетая на боевое задание, мы рискуем жизнью. — Он отметил излишний пафос своей речи, отчего начал злиться на самого себя, а не на Урсулу, которая, как никто другой, понимала, что такое долг.
Нужно добить их всех, сказал вчера духовник Сильвии.
— А что такое, по-твоему, «безвинные люди»? — спросил он в продолжение разговора. — Рабочие, производящие на заводах бомбы, пулеметы, самолеты, орудия, подшипники, танки? Гестапо? Гитлер? — Его уже занесло. — И давай не будем забывать, что именно немцы развязали эту войну.
— А я вот думаю, что это мы ее начали, еще тогда, в Версале, — тихо ответила Урсула.
Тедди вздохнул, раскаиваясь в своей несдержанности. «Мне кажется, он слишком часто возражает».{113}
— Иногда, — сказал он, — мне начинает казаться, что, будь у меня возможность вернуться в прошлое, я бы застрелил Гитлера, а еще лучше было бы убить его при рождении.
— Но тогда, сдается мне, — сказала Урсула, — ты пошел бы еще дальше, перекраивая на своем пути всю историю, вплоть до Каина и Авеля.
— Или до Адама и его яблока.
— Ш-ш-ш, — раздалось с соседних мест при появлении первой скрипки.
Брат с сестрой присоединились к общим аплодисментам, порадовавшись завершению разговора.
Урсула положила ему руку на плечо и прошептала:
— Прости. Я не разуверилась в справедливости нашего дела. Мне просто хотелось понять, что ты чувствуешь. Но если все хорошо, то и ладно.
— Лучше быть не может.
К облегчению Тедди, на сцене под бурные аплодисменты зала появился Адриан Боулт. Воцарилась полная тишина.
Урсуле стоило поздравить его, а не вселять сомнения. Военные летчики признали операцию «Гоморра» величайшим успехом. Ставшая переломным моментом, она смогла приблизить окончание войны и поддержать пехотинцев, которым вскоре предстояло снова высадиться на территории Европы, чтобы окончательно раздавить гадину. «Отличная бомбардировка», — написал в бортовом журнале Тедов бортинженер Джефф Смитсон. «Отличное зрелище», — заявил вчера адвокат, истекая слюной в предвкушении несчастного поросенка.
Военные летчики остались довольны, думал Тедди, поглядывая на сестру, которая совершенно растворилась в музыке. Разве не так?
И лишь гораздо позже, когда война давно миновала, он выяснил, что это был огненный смерч. Во время войны он не слышал такого выражения. Тедди узнал, что командование намеренно выбирало целью жилые кварталы. Люди варились в фонтанах, изжаривались в погребах. Они сгорели заживо или задохнулись, превратились в пепел и вытопленный жир. Они попались, словно мухи на липучку, когда перебегали реки расплавленного асфальта, прежде — оживленные улицы. Отличная бомбардировка. («Око за око», — сказал на встрече однополчан Мак. Так недолго и ослепнуть, подумал про себя Тедди.) Гоморра. Армагеддон. Ветхозаветный бог ненависти и возмездия. Ввязавшись в эту бойню, они уже не могли повернуть назад. Гамбург оказался не переломной точкой, а лишь промежуточным этапом. Впереди были Токио, Хиросима, а после них любые споры о невиновности уже не имели значения, поскольку можно было нажать кнопку на одном континенте и убить тысячи людей на другом. А ведь даже Каин смотрел Авелю в глаза.
Британские ВВС отправились на второй заход ночью во вторник, и город все еще горел — необъятная преисподняя, словно покрывший землю сверкающий и тлеющий ковер, под которым задыхалось все живое.
Они будто пролетали над гигантским вулканом, из жерла которого то и дело неистово извергался раскаленный ад. Город Истребления. Его дикость, его страшная, уродливая притягательность чуть не разбудили в Тедди поэта. Средневековый апокалипсис, подумал он.
— Штурман, иди взгляни, — подозвал он Сэнди Уортингтона, сидевшего за перегородкой. — Ты такого больше не увидишь.
Киту не приходилось уточнять направление: зарево пожара и без того было видно за много миль, и, пока самолет пролетал над кипящим, бурлящим котлованом огня, Кит произнес:
— Подбросим-ка еще уголька, что скажешь, командир?
Плотный грязный дым клубами обволакивал самолет, и экипаж чувствовал поднимавшийся с земли нестерпимый жар. Противогазы не спасали от запаха гари и от какого-то еще, даже более мерзкого, а по возвращении на базу экипаж обнаружил, что иллюминаторы Q-«кубика» залеплены ровным слоем сажи.
Дым и копоть поднимались на многие сотни метров. А тот, другой запах, которого Тедди так и не смог забыть и никогда не касался в разговорах, был запахом горящей человеческой плоти, что шел от погребального костра.
И уже тогда Тедди в глубине души знал, что час расплаты неизбежен.
Бывало, некоторые пилоты немецких истребителей пользовались особенно подлым трюком: проникали в эшелон бомбардировщиков, возвращавшихся на родину через Северное море. Они атаковали тех, кто возвращался на базу или даже заходил на посадку, — экипаж уже считал себя практически в безопасности.
Через пару недель после Гамбурга так был обстрелян и Q-«кубик», несколько месяцев благополучно ускользавший от противника и возвращавшийся теперь на базу после рейда на Берлин.
Возвращение домой после рейда на столицу Германии оказалось долгим и мучительным. Все промерзли и хотели спать. Уже был съеден весь шоколад, выпит весь кофе и проглочен весь запас «бодрящих» таблеток, поэтому они с особым облегчением заметили наконец красный огонек на шпиле церкви в ближайшей к аэродрому деревне. Тедди полагал, что назначение этого огонька — предотвращать столкновение со шпилем, однако пилоты всегда считали его маяком, указывающим путь домой. Посадочная полоса была освещена, и они услышали радостный голос диспетчерши, дающий им разрешение на посадку. Но едва она успела проговорить это сообщение, как огни посадочной полосы погасли, аэродром погрузился во тьму, и в эфире прозвучал радиосигнал об обнаружении нарушителя.
Тедди выключил бортовые огни Q-«кубика» и взял штурвал на себя, чтобы вновь набрать высоту. Лететь куда угодно, но лететь: прямо перед ним проносились трассирующие снаряды. Оба стрелка кричали, что немец совсем близко, но ни один, видимо, понятия не имел, где именно, поэтому их орудия поливали огнем все небо. Высоты, чтобы закрутить штопор, оказалось недостаточно, а скорость была слишком мала для каких бы то ни было маневров, поэтому Тедди решил рискнуть и попробовать приземлиться — как угодно, на авось, плюхнуться где выйдет.
Но он опоздал: Q-«кубик» сотрясся от попаданий из немецкой авиапушки. Должно быть, зацепило и стойку шасси, так как приземлились они на одно колесо: самолет накренился, задрав одно крыло вверх, а другим пропахал землю. Машина, выскочив за посадочную полосу, с ревом пронеслась через поле и врезалась в дерево, которое, любой из них мог поклясться, взялось невесть откуда, но оказалось более чем реальным и опрокинуло их самолет, как большого жука. Весь мир внутри Q-«кубика» перевернулся вверх дном.
Тедди слышал доносившиеся сзади стоны, однако то были стоны людей, получивших ушибы, синяки и ссадины, но не смертельные раны. Гремела истовая норвежская брань. Молчал только Кит, но его сумел вытащить Сэнди Уортингтон, который с помощью их джорди, стрелка верхней центральной башенки, выбил нижний (теперь верхний) аварийный люк.
Когда они выбрались из перевернутого бомбардировщика, посадочная полоса опять вспыхнула огнями. Тедди с удивлением заметил, что их даже не вынесло за пределы аэродрома и что к ним уже мчатся пожарная машина и санитарный автомобиль. Не считая того, что самолет перевернулся — или, возможно, благодаря этому, — приземление оказалось настоящим чудом. За этот «акт героизма» к набору ленточек на мундире Тедди добавилась еще и орденская планка креста «За выдающиеся летные заслуги».
Кит потерял много крови: его зацепило во время обстрела, перед вынужденной посадкой. Он молчал, как мертвец, хотя глаза были полуоткрыты, а мизинец подрагивал. Никаких предсмертных слов. Ну, в добрый час тогда…
Кита положили на землю, и Тедди притянул его к себе на колени, неловко обнимая; получилась гротескная сцена Пьеты. Везучесть Кита из навязшей в зубах притчи во языцех превратилась в злую шутку. Иссякла. Тедди знал, что через несколько секунд все будет кончено; он видел, как перестал дергаться мизинец Кита, а полуприкрытые глаза погасли, и каялся, что не нашел нужных слов, которые могли бы облегчить парню уход из жизни. Да и есть ли вообще такие слова?
Вернувшись к себе, Тедди стянул окровавленную форму и вывернул карманы. Сигареты, серебряный заяц и, наконец, любительское фото их с Нэнси, гуляющих с собакой по берегу моря. Сверху липкое пятно, все еще влажное. Кровь Кита. Не пятно, а реликвия.
— Это чай, — ответил он внучке, когда та спросила, что это такое; не потому, что спросила она из праздного любопытства, а потому, что это было слишком личное.
Только от Фортуны он мог не таиться, когда зарылся лицом в собачью холку, чтобы подавить скорбь. Фортуна некоторое время терпела, но потом вырвалась.
— Прости, — сказал ей Тедди, взяв себя в руки.
Но до этого оставалось еще несколько недель. Сейчас, в настоящем, в Королевском Альберт-Холле, Бетховен действовал на него магически.
К началу четвертой части, когда вступил баритон Рой Хендерсон (O Freude!),{114} у Тедди по коже побежали мурашки; он решил просто наслаждаться музыкой и не искать слов для ее описания. Сидевшая рядом Урсула, буквально трепетавшая от избытка эмоций, внутренне сжалась, как пружина, готовая в любой момент взвиться к небу. Ближе к концу симфонии, когда великолепие хорала становилось почти невыносимым, у Тедди появилось странное опасение, что ему и впрямь придется удерживать сестру, чтобы не дать ей взвиться в воздух и улететь.
Они вышли из Альберт-Холла и окунулись в благодать этого вечера. Их молчание было долгим; сгущались сумерки.
— Непостижимо, — в конце концов заговорила Урсула. — Ведь существует в мире искра Божия — не Бог, Бога мы низвергли, но какая-то искра все-таки есть. Любовь? Не романтические глупости, а что-то более глубокое…
— Думаю, этому нет названия, — ответил Тедди. — Нам хочется всему на свете давать имена. Похоже, в этом и есть наша ошибка.
— «…чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей».{115} Господствовать над всем — роковое проклятье.
Тедди решил в будущем (у него, как оказалось, было будущее), где только возможно, проявлять доброту. Это самое большее, что ему по силам. Все, что ему по силам. В конечном счете это, быть может, и есть любовь.
1960 Небольшие, безымянные и всеми позабытые поступки, вызванные любовью и добротой{116}
Все началось с приступа головной боли — мучительного приступа в середине учебного дня. Это случилось еще в Лидсе, до переезда в Йорк, когда Нэнси преподавала в средней школе. Скверный зимний понедельник, сырой восточный ветер и краткие, драгоценные часы дневного света.
— Мне что-то нездоровится, — сказала Нэнси, когда за завтраком Тедди отметил, что у нее «больной вид».
На большой перемене она пошла в школьную амбулаторию, где медсестра дала ей пару таблеток аспирина, но легче Нэнси не стало; пришлось задержаться в медкабинете.
— Не иначе как мигрень, — со знанием дела объявила медсестра. — Вы прилягте и отдохните в темноте.
Так Нэнси и поступила, устроившись на неудобной раскладушке, накрытой колючим красным одеялом, куда обычно укладывали девушек с менструальными болями. Примерно через полчаса она с трудом приняла сидячее положение, и ее обильно стошнило на красное одеяло.
— Боже, извините, пожалуйста, — сказала Нэнси медсестре.
— Точно мигрень, — изрекла медсестра.
От нее веяло какой-то материнской заботой; прибравшись, она погладила Нэнси по руке:
— Теперь все пройдет — оглянуться не успеете.
После рвоты действительно стало полегче, и Нэнси, не дожидаясь окончания уроков, сумела — с большой осторожностью — доехать до «Эйсвика», хотя ей и казалось, что в голове у нее роятся пчелы.
Виола была уже дома, под присмотром Эллен Краутер. Миссис Краутер была из местных; она забирала Виолу после уроков и сидела с ней до прихода отца или матери. Собственное «потомство» миссис Краутер уже выросло и разлетелось в разные стороны, а в доме, не считая ее самой, остались только муж-батрак и дряхлый свекор («старик»), каждый из которых требовал, похоже, больше внимания, чем любой ребенок, даже Виола. Во внешности миссис Краутер было что-то ведьминское: собранные в узел жидкие черные волосы и перекошенное лицо — последствие детского неврита. Несмотря на эти бросающиеся в глаза черты, выглядела она какой-то бесхарактерной, изможденной трудами и смирением. «Нравится тебе миссис Краутер?» — поинтересовалась однажды Нэнси у Виолы, и дочка, бросив на нее непонимающий взгляд, спросила: «А это кто?»
Обычно Нэнси даже не успевала с ней поздороваться: к ее приходу миссис Краутер уже стояла на пороге, закутанная в головной платок и подпоясанный габардиновый макинтош бурого цвета, и пулей, как борзая из вольера, выскакивала за дверь. Муж ее (как, вероятно, и «старик») требовал, судя по всему, неукоснительной пунктуальности, особенно когда наступало время пить чай. «Коли опоздаю, достанется мне по первое число», — с этими словами миссис Краутер, по обыкновению, выскакивала за порог.
Вернувшись домой раньше обычного, да еще под неотступное жужжанье пчел, Нэнси, вероятно, отворила дверь совсем тихо: ни Виола, ни миссис Краутер не заметили ее появления. Даже пес Бобби не выбежал ей навстречу. Виола сидела за большим фермерским столом и читала «Банти»,{117} жуя сэндвич с ветчиной и накручивая на палец прядь волос — донельзя раздражающая привычка, от которой родители так и не смогли ее отучить. Миссис Краутер выводила огрызком плотницкого карандаша на обороте какого-то конверта нечто похожее на список покупок. Нэнси почему-то растрогала эта домашняя сценка. Наверное, своей умиротворенной простотой: на столе стоял заварочный чайник под вязаной грелкой, миссис Краутер, не отрываясь от списка, размешивала ложечкой сахар в своей кружке. Виола, углубившаяся в свежие приключения «Четырех Мэри», сосредоточенно хмурилась и с аппетитом поедала сэндвич.
Оставаясь незамеченной, Нэнси на мгновение замерла на пороге, охваченная внезапным, странным чувством отчуждения. Невидимка, наблюдательница, она созерцала жизнь, куда ей почему-то не было хода. На нее нахлынула опасная легкость, как будто ей грозило вот-вот уплыть в неизвестном направлении, чтобы больше не возвращаться в собственный дом. Она даже запаниковала, но тут Виола подняла голову от комикса.
— Мамочка! — воскликнула она, просияв.
Чары момента развеялись, и Нэнси, переступив через порог, оказалась в кухне, где дышала теплом и уютом старая электропечь.
Миссис Краутер зачастила:
— Ох, батюшки, я прямо напугалась! Ну, думаю, привидение. Что-то вы сегодня бледная. Чисто привидение и есть, — добавила она (как будто была накоротке с призраками). — Не приболели, часом? Ну-ка… присядьте. А я вам чайку налью.
— У меня в школе разыгралась мигрень, — сказала Нэнси, опускаясь в придвинутое к столу кресло.
Пчелы беспокойно роились в голове, прямо за глазами. Не успела она запротестовать, как миссис Краутер уже размешивала в чашке три ложки сахара.
— Горячий сладкий чаек любую хворь снимет, — приговаривала миссис Краутер.
Обычно она воспринималась не более чем пятном габардина в прихожей, и вдруг, как ни странно, это пятно вызвалось помочь (неожиданно выяснилось, что миссис Краутер обладает даром речи).
— Спасибо, — сказала Нэнси, чрезвычайно благодарная за чай, пусть даже переслащенный.
— Ты сегодня рано, — сказала Виола.
Она подозрительно относилась к любым изменениям в заведенном порядке и не любила неожиданностей. Не потому ли, что была единственным ребенком в семье? Или же просто ребенком?
— Да, солнышко, рано.
Выпив чай, причем, по рекомендации миссис Краутер, с печенюшкой, чтоб в желудке не урчало («Помогло, правда же?»), Нэнси обратилась к няне:
— Не хочу доставлять вам лишние хлопоты, но, может быть, вы согласитесь задержаться до прихода моего мужа? Я, наверное, пойду прилягу.
Должно быть, спала Нэнси крепко. Проснулась она уже в сумерках; дверь в спальню была открыта, в коридоре горел свет. Пчелы угомонились. Прикроватные часы показывали девять. Голова еще болела, но гораздо меньше.
— Привет, — сказал Тедди, когда жена спустилась из спальни. — Миссис Краутер сказала, что ты слегла с мигренью, и я решил тебя не будить. — (Нэнси подозревала, что няне досталось по первое число от мужа и «старика».) — Миссис Краутер я немного заплатил сверху за то, что она меня дождалась. Помнишь, утром я заметил, что ты бледная, — значит, это мигрень. Ужинать будешь? Поджарить тебе отбивную?
Мигрень прошла, но вообще голова теперь болела немного чаще, чем прежде, хотя настолько пугающих приступов, как тогда в амбулатории, больше не повторялось.
— Думаю, у вас довольно напряженная работа, — сказал окулист, когда она пожаловалась, что в левом глазу иногда возникает волна света — небольшая мерцающая золотистая полоска, на самом-то деле довольно красивая. — Глазная мигрень, — сказал врач, осматривая ее глаз и придвигаясь так близко, что на Нэнси пахнуло перечной мятой, которую он пожевал, чтобы замаскировать (практически безуспешно) луковый дух, оставшийся после обеда. — При такой мигрени болей может и не быть, голубушка.
Врач, добродушный старикан, практиковал уже много лет. Чтобы приободрить пациентку, он похвалился, что знает о глазах все досконально.
— А иногда, когда я долго пишу на доске, — продолжала Нэнси, — у меня перед глазами все расплывается, будто очки намазаны вазелином: читать и писать просто невозможно.
— Это однозначно глазная мигрень, — поставил диагноз врач.
— А на днях у меня была мигрень настоящая, — добавила Нэнси, — и в целом головные боли участились.
— Вот оно как, — пробормотал доктор.
— У моей матери часто болела голова, — сообщила она, вспоминая, как мама, еле влачившаяся по ступенькам к себе в затемненную спальню, объявляла дочерям с грустной, обреченной улыбкой: «Очередная голова». Дочки смеялись (но только когда боль отпускала — жестокости в них не было). «Гидра», — любовно поддразнивали они. «Только добрая, — спохватывалась Милли, — дорогая, любимая Мамочка Гидра».
Впоследствии Нэнси спрашивала себя, не предчувствие ли побудило ее именно в тот вечер предложить, чтобы они втроем переехали в город, где жизнь будет проще. Однако, выходя от окулиста с рецептом на очки для чтения («В вашем возрасте это дело житейское, голубушка, тревожиться не о чем»), она уже переключилась на чай с подрумяненными булочками, которыми собиралась побаловать себя в ближайшем кафе, прежде чем сесть на велосипед и отправиться в изнурительную поездку домой. Стояла жара, а машину взял Тедди. Он собирался на сельскохозяйственную выставку вместе с Виолой, которую с трудом уговорил составить ему компанию. Нэнси умирала от усталости, но надеялась, что чай придаст ей сил.
Так и вышло; пока она набирала мелочь, чтобы расплатиться с официанткой и оставить немного сверху, ее посетила мысль, что у них с Тедди (и даже у Виолы, хотя для нее это пока не страшно) в жизни год за годом ничего не происходит — им только прибавляется лет. Все идет заведенным порядком. Движется по накатанной колее. Почему бы им не встряхнуться, не отважиться на что-нибудь новое?
— По накатанной колее? — переспросил Тедди, и по его лицу пробежала тень огорчения.
Устроившись в постели с библиотечными книгами и прочими атрибутами домашнего уюта, они потягивали какао — вот она, «колея», подумала Нэнси. Ей вспомнились слова свекрови: «От брака тупеют».
— Не в обиду тебе будь сказано, — добавила Нэнси, но муж, совершенно очевидно, не внял.
Однажды на выходных, незадолго до переезда в Йорк, когда Нэнси доставала из духовки жаркое, ее вдруг перестала слушаться левая рука, и противень вместе с содержимым грохнулся на пол. Должно быть, Тедди услышал шум: прибежав на кухню, он спросил:
— Ты не поранилась?
— Да нет. — Она в расстройстве обводила глазами баранину с картофелем и брызги горячего жира, заляпавшие всю кухню.
— Не обожглась? — встревожился Тедди.
Она уверила его, что нет.
— Какая же я неуклюжая тетеха.
— Сейчас принесу тряпку.
— Наверно, я еще не привыкла к новой плите и чего-то не рассчитала. Бедный барашек, — добавила она с грустью, как будто кусок мяса был ей старым другом. — Думаешь, можно его спасти — собрать и сделать вид, будто так и было? — Баранья нога была вся в пыли, а ведь до этой аварии Нэнси считала, что полы в доме безупречно чистые. Она мысленно упрекнула себя за нерадивость. — Может, промоем под горячей водой? Во время войны мы бы не дали ему пропасть. Впрочем, у нас осталась морковь, — добавила она с надеждой. — И мятный соус.
Тедди рассмеялся и сказал:
— Пожалуй, я разогрею фасоль и приготовлю омлет. Трудно представить, чтобы Виола в качестве воскресного обеда стала жевать морковь.
Случались и другие недомогания: онемение и покалывание в предательской левой руке, головные боли, а однажды разыгралась нешуточная мигрень: началась в пятницу вечером и отпустила только в понедельник утром. Тогда Нэнси решила обратиться к их новому участковому врачу в надежде получить рецепт на сильнодействующие болеутоляющие таблетки. После каких-то непонятных испытаний, как при проверке на опьянение — пройти по прямой линии, повертеть головой туда-сюда, — молодой доктор сказал, что во избежание медицинской ошибки запишет ее на консультацию в стационар, где работает его наставник, специалист с большим опытом.
— Но оснований для беспокойства нет, — добавил он. — Вы, наверное, правы: это мигрень.
Как видно, оснований для срочности тоже не было: к тому времени, когда в почтовом ящике оказалось направление на консультацию, Нэнси уже стала думать, что о ней забыли. Делиться с Тедди она не захотела. К чему раньше времени сеять панику (у них в семье паникером был он, а не Нэнси)? Она предполагала, что диагноз окажется неопределенным и она окончит свои дни, как мама, которую доконала «очередная голова». Но сомневалась, что сможет так же стойко переносить эти муки.
В день консультации стояла чудесная весенняя погода; выходя после урока из школы («Вернусь к большой перемене»), Нэнси решила прогуляться до больницы пешком. Спланировав свой маршрут, она могла бы пройти часть пути вдоль средневековой городской стены и полюбоваться нарциссами — их «золотистым шествием», как говорилось в одной старой колонке Агрестиса. Пару лет назад Тедди «околдовали» дикие нарциссы, неожиданно возникшие перед ним во время лесной прогулки.
Он до сих пор сочинял свои «Записки натуралиста». Всего ничего, убеждал он (себя), — небольшая колонка всего раз в месяц; одно удовольствие: выехать за город, можно и всей семьей, захватить с собой бинокль, устроить пикник.
— Я понимаю, это не то же самое, что жить на природе… «в глухомани», — добавлял он со смыслом, — но ничего не поделаешь. «Краевед» пока не нашел мне замену.
Замену ему нашли через год; кстати, его место заняла женщина, хотя новый Агрестис так и не заявил о смене пола. Но к тому времени это обстоятельство, равно как и многое другое, уже не имело для Тедди никакого значения; Агрестиса он оставил позади, даже не оглянувшись.
Нарциссы, заполонившие все склоны под городской стеной, были настоящим чудом. Перед новым домом нарциссов у них почему-то не было (притом что у всех есть нарциссы, правда?), и Нэнси решила поручить Тедди сделать для них клумбу. Да побольше, чтобы видеть, по Вордсворту, толпу нарциссов золотых.{118} Тедди был бы только рад. К ее удивлению, он увлекся садоводством, изучал каталоги семян, продумывал посадки, рисовал наброски. Нэнси никогда ему не перечила, но он все время спрашивал ее совета: «Как ты смотришь на гладиолусы?», «Может, выкопать маленький пруд?», «Горошек или бобы? Или одно другому не помеха?».
Когда она дошла до старинной заставы «Манкгейт-бар» и остановилась перед светофором, на ее левый глаз вдруг опустилась черная пелена. Нет, скорее, черная повязка: Нэнси только сейчас поняла, что при этом чувствуешь. Единоличное затемнение. Это было предвестием беды. От славы света того, говоря языком Библии, она лишилась зрения, хотя Манкгейт ничем не напоминал дорогу в Дамаск.{119}
С трудом найдя ближайшую скамью, Нэнси посидела в неподвижности, ожидая, что будет дальше. Обретение веры? Едва ли. Случись у нее полная потеря зрения, можно было бы позвать на помощь, но ослепла она только на один глаз, что казалось ей недостаточно веской причиной для обращения к посторонним. («Глупость какая, — выговаривала ей Милли, узнав об этом происшествии. — Я бы заорала во все горло». Но то была Милли, а это — Нэнси.) Минут через десять безмолвного ожидания черная завеса поднялась столь же внезапно и таинственно, как опустилась, и глаз прозрел.
— Видимо, нервный спазм или что-то в этом роде, — сказала Нэнси консультанту, добравшись в конце концов до больницы. — Хуже было бы, если б я в это время ехала на машине или даже на велосипеде.
Она поймала себя на том, что от облегчения не в меру разболталась: кризис миновал, библейской трагедии не случилось.
— Знаете что, — ответил ей консультант, — давайте-ка мы с вами пройдем полное обследование, договорились?
Не слишком молодой, он не строил из себя ни любящую мать, ни заботливого дядюшку и не распространялся о мигренях.
А потом, увы, все покатилось стремительно, как зловещий скорый поезд без тормозов. Дополнительные обследования, рентгеновские снимки. Беседовали с ней уклончиво, говорили, что полной уверенности пока нет. Она ведь замужем, да? Хорошо бы в следующий раз ей прийти на прием вместе с мужем.
— Ни за что, пусть сперва диагноз поставят, — говорила Нэнси, когда ей позвонила Беа. — А то водят меня за нос без всякой причины.
Она знала, как это бывает в тяжелых случаях. Сначала ставят в известность мужа или жену, братьев, сестер, кого угодно из близких, только не самих пациентов, чтобы те «продолжали вести нормальную жизнь». В Блетчли-Парке у нее была знакомая из Женской вспомогательной наземной службы ВМФ, Барбара Томс, простецкая девушка, пятая спица в колеснице. В заднем колесе. Нэнси же сама была колесом, причем немаленьким: дешифровщица, ни в чем не уступавшая сослуживцам-мужчинам. Как правило, она не пересекалась с мелкими сошками, но с Барбарой они выступали за сборную графства по нетболу и безуспешно пытались сколотить команду в Блетчли. (Еще в студенческие годы Нэнси играла за Кембридж.) К концу войны Нэнси доросла до заместителя начальника подразделения и получила в свое распоряжение личный письменный стол. Тьюринг, Тони Кендрик, Питер Твинн — все это были ее знакомые. Она полюбила этот мирок: замкнутый, секретный, самодостаточный, но всегда понимала, что он не вечен, что когда-нибудь «работа возобновится в штатном режиме». С неизбежностью.
У бедной Барбары нашли рак — «стремительно прогрессирующий, неизлечимый». Что-то по женской линии; ее мать, более чопорная, даже не решалась уточнить. Миссис Томс проговорилась кому-то из коллег Барбары, и вскоре весь отдел уже был в курсе. Кроме самой Барбары. Миссис Томс взяла с девушек обещание помалкивать — так посоветовали врачи, объяснила она, «чтобы не омрачать отпущенный срок». Несчастная Барбара оставалась на службе, пока совсем не обессилела, а потом уехала домой умирать, в полном неведении и с верой в исцеление.
Нэнси почти забыла думать о Барбаре, когда от миссис Томс пришло письмо, в котором говорилось, что ее дочь умерла. «Похороны были скромные. Она так и не узнала, что с ней происходит, — одно это и утешало». Бр-р-р! — подумала тогда Нэнси. Если ее постигнет какой-нибудь страшный, смертельный недуг, она не захочет оставаться в неведении, она захочет знать. Точнее, даже так: пусть она сама будет знать правду, а ее близкие останутся в неведении. Зачем омрачать жизнь Виоле и Тедди?
— Тебе нужно поехать на Харли-стрит и показаться специалисту, — настаивала Беа. — У меня остались кое-какие связи среди медиков.
После войны Беа вышла замуж за некоего хирурга, но их брак вскоре распался. («Думаю, я просто не создана для семейной жизни».)
— Я узнаю, кто лучший в своей области, чтобы тебя зря не дергали. Но, Нэнси, ты должна обо всем рассказать Тедди.
— Расскажу, обещаю.
Она чуть не умерла при родах и стала думать, что беды обходят ее стороной. Возможно, именно поэтому ей потребовалось столько времени, чтобы осознать все, с ней происходящее. Недуг преследовал ее неотступно. И метил в голову. Нет чтобы в грудь, в руку, в глаз. Пусть бы это привело к скоропостижной смерти, но, по крайней мере, она до последнего сохранила бы рассудок. Иногда, увязая в двойных обязанностях жены и матери, Нэнси задумывалась о том, как вместе с любовью в ее жизнь вошла печаль. Виола, которая появилась на свет в гневе, Тедди, который вечно изображает веселье, скрывая душевный разлад.
Когда они только переехали на новое место, в саду перед домом красовался куст сирени, но в пору благоухания, первого апреля, Тедди его срубил.
— Зачем? — спросила Нэнси, однако, поймав его взгляд, поняла, что это как-то связано с войной… с утратой великой благодати… до объяснений он не снизошел.
Война Тедди оставалась для нее тайной за семью печатями. Господи, на дворе уже шестидесятые, говорила она про себя, теряя терпение. Ее подкашивала усталость. Слишком долго приходилось ей ободрять и поддерживать других — мужа, дочь, учеников. Ни дать ни взять — капитан команды по нетболу: когда-то она выступала и в этой роли.
Но ведь не один Тедди вынужденно пожертвовал своими бесценными годами. У нее самой в Ньюнэме был лучший результат в первой и второй части трайпоса{120} по математике — ей присудили почетное звание «полемист», она удостоилась премии Филиппы Фосетт,{121} а потом ее вдруг выдернули из жизни, когда весной сорокового она была завербована Центром правительственной связи. В первый раз ей пришлось отказаться от блестящей карьеры из-за войны, а во второй — ради Тедди и Виолы.
— Я еду в Лайм, помочь Герти с переездом.
— Молодец, поезжай, — отвечал Тедди.
— Ей надо упаковать всякие мелочи — посуду, безделушки. Это ненадолго. Я подумала, что нам с ней даже неплохо будет пару дней побыть вдвоем.
На другой день после ее возвращения домой Герти прислала открытку — репродукцию акварели с анютиными глазками: «Это виолы, мамины любимые цветы, — конечно, ты помнишь». Да нет, она забыла, но тем не менее назвала свою дочь Виолой. В знак преклонения, но не перед мамой, а перед Шекспиром. Как она, дочь, могла оказаться такой черствой? Если и помнила, то подспудно. А сколько всего со временем перезабудет ее собственная дочка? Нэнси вдруг ощутила пустоту. Если бы только мама сейчас была жива. Вот так же будет чувствовать себя и Виола, оставшись без матери. Думать об этом было невыносимо. На глаза навернулись горячие, горькие слезы. Смахнув их, она заставила себя собраться с духом.
Далее Герти писала:
Решила черкнуть тебе пару слов. Пока ты находилась «у меня», звонил Тедди: он тебя разыскивал. Я прикинулась дурочкой. Надеюсь, он ничего не заподозрил. Дорогая, ты не хочешь ему открыться? (Я не вмешиваюсь, просто спрашиваю.) С любовью, Г.
P. S. Что вы решили насчет буфета?
— Ты должна ему рассказать, — убеждала Милли, — непременно. Я тебя виртуозно прикрывала: мол, только что посадила ее на поезд, мы чудесно провели время на озерах и так далее, но рано или поздно Тедди все равно узнает.
Нэнси обратилась не к мужу, а к сестрам: время от времени они собирались в разном составе, чтобы поболтать о своем. На сестер она еще могла возложить этот груз, но на Тедди — нет. Он никогда не был простаком и, должно быть, что-то подозревал, но она не собиралась ему открываться, пока дело не дойдет до очевидного. В душе она всегда оставалась математиком и мыслила четкими категориями. Если худшее неизбежно, чем короче будут страдания мужа, тем лучше.
— Нужно ему рассказать, Нэнси.
— Расскажу, Милли, конечно, расскажу.
Пусть Нэнси не заезжала ни в Дорсет, ни в Озерный край, но без всякой натяжки можно было утверждать, что она провела некоторое время в Лондоне вместе с Беа. Правда, не на выставке и не на концерте, а в ее богемной съемной квартирке в Челси, где посидела на диване рядом с сестрой за стаканчиком виски. Бутылку захватила с собой примкнувшая к ним Урсула.
— Мне подумалось, нам пригодится что-нибудь покрепче чая, — объявила она.
— Я пью только джин, — сказала Беа.
После развода с мужем-хирургом она работала на Би-би-си и утверждала, что наслаждается одиночеством.
Запыхавшись, прибежала Милли.
— Не сразу нашла, — выговорила она, — извините.
— Виски, джин? — предложила Беа. — Или чаю?
— Я все люблю, но, наверное, выпью джина. Сильно не разбавляй. — Она косилась на Нэнси, но продолжала разговаривать с Беа. — Мне ведь лучше выпить, правда? Все плохо, да?
— Очень плохо, — дрогнувшим голосом произнесла Беа.
— Совсем плохо? — нарочито отчеканила Милли, то ли пытаясь взять себя в руки, то ли прикидываясь героиней пьесы или фильма, которая борется с эмоциями; на ум приходила Силия Джонсон в «Короткой встрече». Зов долга, нравственная установка поступать правильно.
Нэнси все это ценила, но внутренне бунтовала. Убежать, думала она, и забыть о долге. Скатиться кубарем по крутой узкой лестнице дома Беа на улицу, оттуда — по набережной, дальше и дальше, пока не убежишь от того ужаса, что гонится за тобой по пятам.
Когда Милли брала стакан с джином, рука у нее затряслась мелкой дрожью, а глаза предательски заблестели; Нэнси поняла, что сестра не разыгрывает спектакль.
— Как видишь, я здесь, — обратилась она к Милли. — Расспрашивай не кого-нибудь, а меня.
— Расспрашивать не хочу, — смешалась Милли. — Я не уверена, что вообще хочу знать.
Блеск в глазах вылился в слезу, которая сползла по щеке. Беа мягко подтолкнула сестру к креслу, а сама устроилась на ковре у ее ног.
— В целом это правда, — спокойно произнесла Нэнси. — Результаты подтвердились, и боюсь, все совсем плохо, как ты выразилась. К сожалению, хуже не бывает.
Милли с горечью всхлипнула, зажав рот ладонью, как будто попыталась сдержать рыдания, но не успела. Беа, прильнув к сестре, взяла ее за свободную руку, словно перед кораблекрушением.
— И ничем нельзя помочь? — спросила Урсула. — Ведь…
— Нет, — оборвала ее Нэнси; им всем хотелось на что-то надеяться, видеть какие-то возможности, но болезнь зашла слишком далеко. — Он сказал, что на более ранней стадии, вероятно, что-то и можно было бы сделать. Оперировать он отказывается, — продолжила она, жестом останавливая Беа, которая хотела было возразить. — Хирургическое вмешательство невозможно из-за локализации, из-за переплетения кровеносных сосудов.
— О боже! — вырвалось у Милли. Самая чувствительная из сестер, она побледнела.
— Значит, операции не будет. В лучшем случае операция меня убьет.
— Если смерть — это лучшее, что же тогда худшее?
Урсула задумалась. Милли выдавила «смерть» чуть слышно, будто само это слово звучало святотатством.
— Вероятно, меня ждет полная беспомощность, как физическая, так и умственная.
— Вероятно? — спросила Беа, все еще пытаясь ухватиться за последнюю соломинку посреди разрушительного шторма.
— Наверняка, — ответила Нэнси. — Мне придет конец, только в ином смысле. Даже хирургическое вмешательство не принесло бы никакой пользы из-за локализации — там невозможно резать.
Казалось, Милли сделалось совсем дурно.
— Опухоль будет только расти. Это точно, — продолжала Нэнси, перестав, вопреки первоначальному намерению, выбирать слова. — И вы сделаете мне большое-пребольшое одолжение, если с этим смиритесь.
С тех пор как Нэнси впервые оказалась на Харли-стрит, когда якобы помогала Герти с переездом на другую квартиру, она сердцем чувствовала, что это уже приближается. По своим каналам Беа навела справки и нашла квалифицированного консультанта: доктора Мортон-Фрейзера, шотландца.
— Его многие рекомендуют, — сказала Беа. — Внимательный специалист. Не упустит ни одну мелочь и так далее.
Тогда, вероятно, еще оставалась слабая надежда, но она стала таять после того, как Нэнси явилась на осмотр в следующем месяце («Дом-музей Вордсворта и все такое прочее»). Доктор показал ей рентгеновские снимки, и Нэнси увидела, насколько прогрессировала ее болезнь за краткий промежуток времени.
— Возможно, обратись вы ко мне год назад… — сказал доктор, — хотя даже в этом случае кто знает…
«Стремительно прогрессирующий, неизлечимый» — диагноз бедной Барбары Томс.
— Я этого не выдержу, сил нет, — прошептала Милли, когда Беа прошла мимо нее, чтобы наполнить их стаканы.
Нэнси обожгла вспышка обиды. Не сестрам, а ей самой требовались силы, чтобы выдержать.
Ей хотелось остаться наедине с собой, погрузиться в собственный тихий мирок и размышлять о смерти. Смерть. Да, Нэнси действительно могла быть прямолинейной, а подчас у нее с языка даже слетали бранные слова. Но теперь ей приходилось быть доброй и сильной, говорить, что все нормально (чего в принципе быть не могло) и что она смирилась.
— Все нормально, — сказала Нэнси своей сестре Милли. — Все в порядке. Я смирилась, теперь ваша очередь.
— А Тедди? — дрожащим голосом спросила Урсула. — Он звонил мне как раз сегодня утром, Нэнси. Мой брат — господи прости — подозревает, что ты завела любовника. Избавь его от этих страданий.
Горько посмеявшись, Нэнси сказала:
— Только для того, чтобы он страдал еще больше?
— Расскажи ему как можно скорее, несправедливо так долго держать его в неведении. — («Урсула, — раздраженно подумала Нэнси, — всегда была сторонницей и заступницей Тедди».) — А вот Виолу, наверное, пока стоит поберечь.
«О боже. Виола», — подумала Нэнси.
Ее зазнобило от отчаяния.
— Да, Виоле не говори, — тут же подхватила Беа. — Она еще слишком мала, чтобы это понять.
— Мы всегда ей поможем, — не подумав, выпалила Милли, — мы о ней позаботимся.
— Но первым делом надо рассказать Тедди, — настойчиво повторила Урсула, — ты должна поехать домой и все ему рассказать.
— Да, — вздохнула Нэнси, — я так и сделаю.
Они вместе проводили ее до Кингз-Кросс и посадили на поезд. Беа нежно поцеловала ее, словно Нэнси внезапно превратилась в тончайшее стеклышко и в любой момент могла разбиться вдребезги.
— Мужайся, — сказала Беа.
Урсула, видимо, не боялась «разбить» Нэнси и крепко обняла ее.
— Тебе придется поддержать Тедди, — быстро добавила она, — помоги ему с этим справиться.
— Господи, — утомленно вздохнула Нэнси.
Хоть кто-нибудь позволит ей быть слабой и безнадежно эгоистичной?
Они стояли на платформе и махали вслед уходящему поезду; все плакали, Милли рыдала в голос.
«Провожают, как на войну, — промелькнуло в мыслях у Нэнси. — Впрочем, битва моя уже закончилась поражением».
— Накатанной колее?.. — переспросила Нэнси.
— Я знаю, чем ты занимаешься, — сказал Тедди.
За все эти годы она ни разу не видела, чтобы Тедди злился, по крайней мере так сильно. Да еще на нее.
Пройдя на кухню, Нэнси подошла к раковине и налила себе стакан воды из-под крана. Она прокручивала в голове предстоящее объяснение, пока ехала в поезде (ужасная поездка, вагон был забит подвыпившими курильщиками, которые с ухмылкой обшаривали ее глазами), но сейчас, когда дело дошло до разговора, нужные слова ускользали. Она пила воду медленно, чтобы растянуть время.
— Я все знаю! — сказал, еще больше распаляясь, Тедди.
Она повернулась к нему:
— Нет, Тедди. Не знаешь. Ничего ты не знаешь.
Сначала Нэнси воспринимала новообразование как хищника, паразита, который пробирался через ткани мозга и разрушал ее изнутри, но сейчас все уже было предрешено, никаких возможностей не осталось, и недуг перестал быть врагом. Естественно, он не сделался ей другом (отнюдь нет), но стал ее частью. Частью Нэнси, и только ее; им вдвоем, как попутчикам, предстояло идти вместе к страшному концу.
С работы Нэнси уволилась. Зачем посвящать себя другим? Виола привыкла, что Нэнси отвозит ее в школу и поджидает после уроков, поэтому дочка расстроилась, когда ее внезапно бросили на произвол судьбы. Теперь, следуя материнским инструкциям, она ездила на автобусе («Но почему?»). Нэнси объяснила, что плохо себя чувствует и должна на время отойти от преподавания, чтобы поправить здоровье. Мгновенная независимость далась Виоле непросто, но сейчас важны были практические вопросы, а не сентиментальные. В железо вошла душа.{122}
Нэнси накупила одежды для дочери, размера на два-три больше, составила списки дел и черкнула памятки с адресами и телефонными номерами родителей ее подружек и учителя музыки, перечислив то, что нравится и что не нравится Виоле. Тедди, конечно, почти досконально знал дочкины вкусы, но даже он не смог бы составить полный перечень.
Как ни странно, Нэнси вполне сносно себя чувствовала в первые недели после подтверждения смертного приговора. Про себя она выражалась именно так, хотя вслух ради своих близких прибегала к иносказаниям. Она разобрала содержимое шкафов и ящиков комода, выкинула ненужное, избавилась от лишней одежды. Удастся ли дотянуть до зимы? Понадобятся ли ей эти теплые вещи: безрукавки, шерстяные носки? Нэнси знала, что сестры после похорон придут в дом и будут разбирать ее вещи, как делали они все вместе после смерти мамы. Если сейчас навести порядок, им будет проще. Нэнси ни с кем не обсуждала эти мрачные подробности. Зачем расстраивать близких? Ей приносила определенное удовлетворение мысль о том, что в комнатах будет прибрано. Она представляла, как после ее смерти Герти мерит шагами спальню и говорит: «Нэнси, дружочек, в этом ты вся: у тебя идеальный порядок — не подкопаешься». Естественно, когда неизбежное произошло, Герти ничего подобного не сказала: скорбь ее была слишком глубока для таких умильных сентенций.
Тедди не знал, что и думать, видя такую бурную деятельность, и даже осмелился предположить, что диагноз был ошибочным («результаты анализов иногда путают»). И что жена действительно идет на поправку.
— Чудес не бывает, Тедди, — сказала Нэнси, изо всех сил сохраняя спокойствие. — Это не лечится.
Для Тедди надежда была бы худшим злом. Да и для нее самой тоже. Она хотела ценить эту небольшую отсрочку, а не сокрушаться о том, чему больше не бывать никогда.
— Но ведь ты думала, что я погиб на войне, — настойчиво продолжал Тедди. — Разве тебя тогда покинула надежда?
— Да, покинула. Я перестала надеяться. И ты это знаешь. Сам же говоришь: «Ты думала, что я погиб на войне».
— Значит, мое возвращение стало чудом, — сказал он, как будто выиграл этот спор.
Но Тедди вернулся из лагеря для военнопленных, а не с того света. Сейчас его словам недоставало логики, но какая разница? Достаточно скоро он перестал верить в чудеса.
Вот тогда-то повсюду был наведен порядок и составлены все памятки. Покончив с этими заботами, Нэнси поняла, что очень хочет побыть дома в одиночестве, заполняя тишину звуками фортепиано — иногда мелодиями Бетховена, но чаще всего Шопена. Ее манера игры была резкой, но день за днем Нэнси понемногу совершенствовала свою технику и даже сказала Тедди: «По крайней мере, хоть в чем-то есть улучшение», но вообще она старалась избегать черного юмора.
Однажды днем, когда она полностью погрузилась в полонез ми-бемоль минор (чертовски трудная вещь), Тедди вернулся раньше обычного. Такое бывает все чаще, отметила Нэнси. Она чувствовала, как муж старается заполнить ею сердце и ум, потому что именно в них она будет жить потом. (Нет, это не жизнь, только память, иллюзия.) И в сердцах сестер тоже. Частичка ее останется в Виоле, но потом исчезнет, забудется. «Мамины любимые цветы — конечно, ты помнишь…»
— Мои любимые цветы — колокольчики, — невзначай сказала она когда-то Виоле.
— Да? — равнодушно отозвалась дочь, не отрываясь от «Флага отплытия».{123}
Но потом умрет Тедди, умрут ее сестры, умрет Виола — и от Нэнси не останется ни следа. Вот так. Смерть — трагедия жизни. Sic transit gloria mundi.[16]
— О чем задумалась?
Теперь Тедди слишком часто задавал этот вопрос, когда она погружалась в философские (по сути, бессмысленные) размышления. Хорошо живется бессловесным животным, как Бобби, встречающим каждое новое утро в блаженном неведении.
— Так, глупости, ерунда, — ответила она, делая над собой усилие, чтобы улыбнуться мужу. — Ничего интересного.
Нельзя сказать, что Нэнси не хотела поделиться с Тедди своими мыслями или побыть с ним вдвоем (и с Виолой, конечно), — просто она готовилась уйти в темноту одна — в такое место (даже не место, а в никуда), где все потеряет смысл: какао, библиотечные книги, Шопен, Любовь. Составь она список, он бы оказался бесконечным. Нэнси решила не писать. Все, хватит списков. Отгоняя мрачные мысли, она играла Шопена.
— «Революционный этюд»? — спросил Тедди, нарушив сосредоточенность Нэнси, из-за чего она взяла не ту ноту, прозвучавшую для нее особенно резко и неприятно. — Моя мама часто его играла, — добавил он.
Сильви была потрясающей пианисткой. Иногда Нэнси тихонько проникала в соседский дом, чтобы послушать, как та музицирует.
— Когда Сильви не в духе, не обязательно заходить в Лисью Поляну, чтобы это понять, — говорил отец Нэнси. — Ее слышно из дальнего конца переулка.
Эти слова он произносил с нежностью. («А вот и миссис Тодд!») Майор Шоукросс относился к Сильви с большим уважением («удивительное создание»).
В то время Нэнси и в голову не приходило, что Сильви, скорее всего, тоже хотела побыть в одиночестве, без маленькой тихой слушательницы в углу гостиной. Целиком погружаясь в музыку, она, казалось, вообще не замечала девочку, пока не заканчивала играть. А Нэнси не могла удержаться от аплодисментов. («Браво, миссис Тодд!»)
— А, это ты, Нэнси, — сухо отзывалась Сильви.
— Нет, не «Революционный», это «Героический», — поправила Нэнси; ее руки тревожно бегали по клавишам.
Крылатая мгновений колесница, подумала она.{124} Нэнси слышала, как хлопают крылья, тяжело, с шелестом, будто мимо пролетает тучный гусь. Она чувствовала, что силы ее на исходе, и не могла ничего поделать.
— Вот твоя мама, она действительно играла великолепно, — добавила Нэнси, — а я всего лишь дилетантка. К тому же этюд очень трудный.
— На мой взгляд, ты играла прекрасно, — ответил Тедди; он лгал, и Нэнси это знала. — Когда я вошел, мне сразу вспомнился Вермеер.
— Вермеер? Почему?
— Есть такая картина в Национальной галерее. «Девушка у клавесина» — что-то вроде этого.
— «Молодая женщина, сидящая за клавесином», — уточнила Нэнси.
— Да, память у тебя, как всегда, безупречна.
— Так почему Вермеер? — повторила она.
— Потому что ты точно так же обернулась на стук шагов. Такое же загадочное лицо.
— Мне всегда казалось, что девушка на той картине смахивает на лягушку, — сказала Нэнси, а сама подумала, что девушка выглядит загадочной из-за приближения смерти.
— Разве та девушка у клавесина изображена не стоя? — спохватился Тедди. — Или я что-то путаю?
— На самом деле их две, и обе в Национальной.
— А девушка та же? — спросил Тедди. — И тот же самый клавесин?
Ну же, любимый мой, уходи, думала Нэнси. Перестань плести кружева разговоров, чтобы потом оглядываться в прошлое, прекрати ткать воспоминания. Оставь меня наедине с Шопеном. Она вздохнула, закрывая крышку рояля, и с напускной веселостью предложила:
— Может, чаю?
— Я все приготовлю, — тут же согласился Тедди. — Кекс будешь? У нас остался кекс?
— Да, по-моему, остался.
— Я хочу, чтобы ты кое-что мне пообещал.
— Все, что хочешь, — ответил Тедди.
Роковое обещание, подумала Нэнси. Они сидели за столом. Тедди просматривал ежемесячные счета, а Нэнси пришивала именные метки на форму Виолы. Летние каникулы почти закончились, на подходе был новый учебный год. Ритм жизни Нэнси всегда определялся школьным распорядком, и теперь с трудом верилось, что настанет очередной год, окончания которого она не увидит.
«Виола Б. Тодд» — значилось на метке, как положено, красным курсивом. «Б» означало «Бересфорд» — второе имя Тедди, девичью фамилию Сильви. Отец ее был художником (очень известным в свое время, повторяла Сильви), хотя в семье не было ни одной его работы. Нэнси пришла в восторг, когда, бродя вместе с Виолой по художественной галерее Йорка, обнаружила портрет какого-то давно забытого высокопоставленного чиновника, написанный в конце прошлого века отцом Сильви. Надпись на крошечной латунной табличке внизу гласила: «Льюэллин А. Бересфорд, 1845–1903». А в углу картины виднелась призрачная монограмма из букв Л, A и Б.
— Ты только посмотри, — сказала Нэнси Виоле, — это же работа кисти твоего прадеда.
Но такая степень родства оказалась слишком далекой, чтобы взволновать Виолу.
Нэнси начала пришивать новую метку на воротничок школьной блузы, но тут же укололась иголкой. Рукодельница из нее нынче была никудышная. Вязать и вовсе не получалось. Она представляла себе, как беззвучные пчелы тайно строят соты у нее в ее мозгу.
— Не больно? — спросил Тедди, увидев у нее на подушечке пальца идеальный шарик крови.
Нэнси отрицательно помотала головой и слизнула каплю, чтобы не испачкать школьную блузу.
— Обещай мне, — продолжала Нэнси, отложив шитье, — что, когда пробьет мой час… — (Тедди содрогнулся от этой фразы), — когда пробьет мой час, ты мне поможешь.
— Помогу в чем? — Он отложил еще не проверенный счет за газ.
Он прекрасно знал, в чем.
— Когда станет совсем плохо, поможешь мне уйти, если у меня самой не получится? А плохого не избежать, Тедди.
— Может, еще обойдется.
Нэнси готова была кричать от отчаяния, когда он так маневрировал, юлил, уклонялся. Она умирала от рака головного мозга, и недуг принимал тяжелую, жестокую (сильно запущенную) форму. Доведись ей просто угаснуть и безмятежно заснуть, Нэнси сочла бы это невероятным счастьем.
— Но если мне действительно станет хуже, — упрямо продолжала она, — я хочу отойти в мир иной до того, как превращусь в слюнявый овощ. — (Хочу умереть собой, подумала она.) — Ты ведь избавил бы от страданий собаку, избавь и меня.
— Хочешь, чтобы я тебя усыпил? Как собаку? — в запальчивости переспросил он.
— Я не это имею в виду. Ты сам знаешь.
— Но ты хочешь, чтобы я тебя убил?
— Нет. Чтобы помог мне убить себя.
— А это чем, интересно, лучше?
Нэнси настойчиво продолжала:
— Только в том случае, если я лишусь последних сил и буду не в состоянии сама это сделать. Морфий или таблетки, что-то в этом роде. Пока не решила.
Или просто положи мне на лицо подушку, прижми и дело с концом, добавила она про себя. Но конечно, такое за гранью возможного.
— Безусловно, я должна все проделать сама, — повторила она. — Иначе ты пойдешь под суд, поскольку это будет убийство.
(Ну вот, она предъявила ему это варварское слово.)
— То, что ты предлагаешь, ничем не лучше, — сказал он. — Я правда не вижу разницы.
Тедди уставился на свои сцепленные в замок руки, словно оценивая, способны ли они на такое деяние. Немного помолчав, он добавил:
— Не уверен, что смогу это сделать. — А сам не смотрел на нее; смотрел куда угодно, только не на нее, и лицо его исказилось му́кой.
Ты же дал роковое обещание, думала Нэнси, пообещал сделать все на свете. Ты дал и еще одну клятву, размышляла она. И в горе, и в радости. И сейчас нас постигло горе. Самое горькое. И — подлая мысль: скольких он убил во время войны?
— Забудь, — сказала она и, потянувшись через стол, великодушно опустила свои ладони на его почти оцепенелые сцепленные пальцы. — Может, и вправду обойдется, поживем — увидим.
Тедди с благодарностью кивнул, как будто получил от нее благословение.
Чудовищный трус. Он принес гибель тысячам людей — женщинам и детям, таким же, как его жена, ребенок, мать, сестра. Ему доводилось убивать с высоты двадцати тысяч футов над землей, но убить одного человека, молящего о смерти?.. Тедди, видевший в свое время, как жизнь покидала Кита, сомневался, что сможет выдержать такое еще раз. Пусть даже и ради самой Нэнси. Он знал ее с трехлетнего возраста («жених и невеста»), всю свою сознательную жизнь, так неужели ему суждено стать ее палачом?
Раньше ему представлялось, как они спокойно доживут до безмятежной старости. Он не знал, как будет выглядеть сам, но Нэнси виделась ему раздавшейся в боках, поседевшей, с двойным подбородком. Чем-то похожей на миссис Шоукросс. С годами начнет напряженно щуриться над вязаньем или над кроссвордом из «Телеграф». Он будет копать картошку, она — выдергивать сорняки. Нэнси не увлекалась садоводством, но и не любила сидеть без дела. Они славно пройдут по жизни, а потом вместе тихо удалятся в мир иной, но теперь Нэнси собиралась оставить его одного. Тедди помнил, как Сильви была недовольна внезапным, наглым уходом Хью. Он попросту исчез, не сказав ни слова. «Уйти во тьму, угаснуть без остатка»,{125} — молча проговорил Тедди. Разве Нэнси этого не заслужила?
Нэнси поняла, что успокоение придется искать в себе. Она лежала на кровати с Виолой, а та спала, устроившись у нее в объятиях. Нэнси чувствовала себя неуютно, детская кроватка все же была мала, Виоле скоро потребуется другая, побольше, но покупать ее уже будет не Нэнси. Она читала Виоле «Аню из Зеленых Мезонинов».{126} Ане тоже пришлось постараться, чтобы у нее в железо вошла душа. Временами, если Виолу не слишком клонило в сон, она сама читала маме вслух. До чтения Виола была сама не своя — этакий книжный червь, только выражение это ей претило.
— Что тут хорошего — жить червяком? — возмущалась она.
Да хоть бы и червяком, если иначе никак, подумала Нэнси, но тут же посмеялась над собой за такие мысли.
— Без червей люди не добьются хороших урожаев, а значит, будут голодать, — рассудительно ответила Нэнси.
И напомнила себе обязательно сообщить Тедди о своем желании быть кремированной. Загореться, взметнуться к небу в погребальном костре и вернуться на землю россыпью элементарных частиц. Пусть Виола — она ведь еще совсем ребенок — никогда не терзается видениями матери, зарытой в темную, сырую могилу, где черви едят ее плоть. На сердце у Нэнси с каждым днем становилось все тяжелее. Мыслимое ли дело: думать о таких вещах (а не думать о них нельзя) — и при этом, лежа на кровати, приобнимать дочку, открывать с нею вместе книжку «Аня из Зеленых Мезонинов», видеть на прикроватной тумбочке недопитый Виолой стакан молока (какао, библиотечные книги, далее по списку). За последнее время они вместе прочли еще «Таинственный сад» и «Хайди».{127} Как на подбор — истории о сиротах, что не случайно. А дальше Нэнси планировала (если, конечно, успеет) познакомить дочь с «Маленькими женщинами»: эта повесть рассказывает, правда, не о сиротах, но зато о волевых и находчивых юных девушках. Все сестры Шоукросс обожали Луизу Мэй Олкотт.
— И сказки тоже, — говорила она Уинни, которая «ненадолго заскочила в выходные».
Уинни, старшая из сестер, жила в Кенте. Она «удачно вышла замуж» за самопровозглашенного «промышленного магната» — титул, вызывавший смех у ее сестер. Но сама она по-прежнему оставалась все такой же милой, добродушной и сведущей во всех вопросах.
— Вспомни тех героинь, которые выжили за счет своей смекалки, — продолжала Нэнси. — Красная Шапочка, Золушка, Белоснежка. У людей ложное представление о сказках, в них видят только россказни о прекрасных принцах, которые спасают принцесс, а на деле эти истории скорее похожи на карманные руководства для девочек.
— «Красавица и чудовище», — предложила свой вариант Уинни, поддерживая беседу.
Они пили чай, и Уинни нарезала привезенный с собой генуэзский вишневый пирог. Никто больше не ожидал, что Нэнси сможет что-нибудь испечь. Она еле-еле поднимала чайник и давно уже не стояла у плиты. Тедди, приходя с работы, готовил и занимался хозяйством. Нэнси уже не испытывала чувства голода. Теряла силы. Когда-то она вставала с жаворонками, а теперь каждое утро Тедди приносил ей чай в постель, и Нэнси после ухода мужа и дочери часами не поднималась.
— Впрочем, выглядишь ты хорошо, — отметила Уинни.
— Голова все время болит, — сказала, будто в свое оправдание, Нэнси.
Она уже устала от комплиментов, которые ей делали, словно какой-нибудь притворщице, по поводу ее внешнего вида. Конечно, упрекнула она себя, сестра ничего такого не имела в виду.
— Королевна,{128} — продолжала Уинни. — У нее было имя? Я помню только, как звали ее лошадь.
— Фалада. Забавное имя для лошади. Но как звали саму королевну, понятия не имею. Наверное, у нее не было имени.
— Я похозяйничаю, можно? Разолью чай? — спросила Уинни.
Даже самые обычные предложения помощи кинжалом пронзали сердце Нэнси.
— Да, будь добра.
Интересно, увидит ли она еще свою старшую сестру — или это последняя возможность? Скоро (уже вот-вот) наступит череда последних возможностей. Ей было крайне важно уйти быстро, вовремя, избежать всех этих дурацких прощаний. Можно, конечно, броситься под колеса скорого поезда, но за что наказывать бедного машиниста? А может, зайти на глубину и утопиться в реке или в море? Но, подчинившись инстинкту, она, вероятно, пустится вплавь.
— А еще та девушка, чьи братья превратились в лебедей, — припомнила Уинни. — Как ее звали? Она очень храбрая.
— Да, храбрая. Элиза. «Дикие лебеди».
Как насчет яда? Слишком страшно, подумала Нэнси, слишком неопределенно — вдруг она подавится и не сможет его проглотить?
— Гензель и Гретель, — перечисляла Уинни. — Скорее, даже только Гретель. Ведь Гензель был не слишком умен?
— Нет, не слишком, вот его и заперли. В сказках сёстры всегда умнее братьев.
Повеситься, по идее, можно быстро, но это нанесет страшную травму тому, кто ее обнаружит, и этим человеком, скорее всего, окажется либо Тедди, либо (о чем и подумать страшно) Виола.
— А Златовласка, — продолжала Уинни, — она скорее глупа или предприимчива?
— По-моему, скорее глупа, — сказала Нэнси. — Ее пришлось спасать.
А ей придется спасать себя. Для начала устроить тайник, хранить там снотворное, болеутоляющее — все, что удастся раздобыть. И проглотить, пока еще в состоянии, пока есть силы. Но как высчитать смертельную дозу? Этого ей не узнать, хотя она и поменяла теперь своего лечащего врача на доктора Уэбстера, который годами и опытом превосходил своего коллегу, наблюдавшего ее с самого начала («Зелен еще», — отзывался о нем доктор Уэбстер). К счастью, нынешний доктор с готовностью рассказывал, что ожидает ее на самом деле.
Но что, если она спохватится слишком поздно? Или уже слишком поздно?
— Герда в «Снежной королеве», — обратилась она к Уинни. — Очень находчивая.
Ряды Фурье, теоремы, леммы, графики, теорема Парсеваля, натуральные числа — у нее в голове стоял гул из слов. Когда-то она их все понимала, а теперь их смысл был для нее утрачен. Пчелы вернулись, бесконечное неистовое жужжание, которое она пыталась заглушить игрой на фортепиано. Весь день Нэнси исполняла только «Героический этюд», необычайно сложный, но она собиралась довести свое мастерство до совершенства.
Играла она крайне энергично. Con brio.[17] На ее слух все звучало практически идеально. Как удивительно, как здорово, что ей покорился столь непростой этюд. Словно это, и только это было делом ее жизни. Нэнси закончила играть на невероятном подъеме.
— Привет-привет, — сказал Тедди, входя в комнату. — Чаю хочешь?
Он держал в руках поднос; сзади семенила Виола.
— Давай я помогу тебе пересесть в кресло.
Тедди засуетился. Опустив поднос, он проводил ее до кресла у окна.
— Здесь удобно, да? — заговорил он. — Можно наблюдать за птицами у кормушки.
Ей было неприятно, что Тедди сверлит ее взглядом, словно пытается увидеть насквозь. Он положил ее ноги на табурет и поставил на столик чай. Чай в стакане. Чашки с блюдцами почему-то ее путали, сбивали с толку.
— Мамочка, хочешь печенинку? — крутилась под локтем Виола. — Шоколадный бурбон или розовые вафли?
— Еще остался пирог, который Уинни принесла, — подхватил Тедди. — Он нескончаем. Им можно было бы заменить хлеба и рыбу и накормить пять тысяч человек.{129}
Нэнси не замечала, что ее пичкают. Она слегка обиделась: близкие не похвалили ее великолепную игру («Браво, миссис Тодд!»). А тем временем ощущение триумфа после исполнения Шопена постепенно улетучивалось. Пчелы усыпляли ее своим жужжанием. В мозгу медленно перетекал мед.
Время сложилось гармошкой. Куда подевался Тедди? Он же был здесь? Казалось, все только что вышли из комнаты. Но комнаты не было, а было непонятно что, чему она не могла дать названия. Пустота. А потом и пустота исчезла. Налетели пчелы, благословили ее на прощание, и Нэнси застыла. Умерла.
— Неразбавленный виски — это я как врач рекомендую. Заодно и мне налейте.
Их лечащий врач, доктор Уэбстер, с нетерпением ждал выхода на пенсию, «чтобы время от времени играть в гольф и рисовать акварелью». Он был старомоден. Одобрил отказ Нэнси от операции, не скупился на морфий и не пускался в нравоучения.
Морозное октябрьское утро. В саду блестят на солнце паутинки. Ожидается чудесный день.
Лабрадор Бобби снует из комнаты в комнату, сбитый с толку нарушениями режима. Смерть сразу меняет заведенный порядок.
Разлив виски и протянув одну порцию доктору, Тедди поднял свой стакан и в какую-то странную, пугающую долю секунды чуть было не произнес: «Ваше здоровье!», но одумался и решил сказать: «Выпьем за Нэнси!», что тоже было нелепо, чудовищно, но хотя бы к месту; и наконец выговорил просто «За Нэнси».
— Из этого мира в грядущий мир,{130} — начал доктор Уэбстер, поразив Тедди знанием «Путешествия пилигрима в Небесную страну». — Славная была женщина. Такой светлый ум, природная доброта.
Тедди, не готовый к траурным речам, залпом осушил стакан.
— Вызывайте полицию.
— С чего это вдруг?
— Я убил жену, — сказал Тедди.
— Вы приблизили ее конец небольшой передозировкой морфия. Если это преступление, то меня бы уже не раз приговорили к пожизненному сроку.
— Я убил ее, — настаивал Тедди.
— А теперь послушайте меня. Ее отделяло от смерти несколько часов.
Тедди заметил, что доктор встревожился. Ведь это он в последние недели щедро прописывал раствор морфина от сильнейшей головной боли.
— Нэнси страдала, — продолжил доктор. — Вы поступили правильно.
Накануне он сказал, что, на его взгляд, «осталось уже недолго», а затем спросил:
— У вас достаточно морфия?
«Достаточно?» — задумался Тедди.
Когда он был на кухне и готовил пастуший пирог, из гостиной донеслась жуткая какофония. Он собрался бежать туда, но в кухню вошла заплаканная Виола и сказала:
— С мамочкой что-то не так.
Нэнси колотила по клавишам, будто задумала уничтожить инструмент. Руки ее почти сжались в кулаки, и когда Тедди удержал их, чтобы успокоить жену, она посмотрела на него с незнакомой, кривой улыбкой и попыталась что-то сказать. Тедди не понимал, хотя ей, казалось, было важно донести до него смысл; хорошо, что рядом стояла Виола, которая разбирала судорожное материнское бормотание.
— «Героический», — перевела она.
Тедди осторожно пересадил Нэнси в кресло у окна и вместе с Виолой захлопотал вокруг нее с чаем и печеньем, но, заглянув ей в глаза, сразу понял: случилось то, чего она больше всего боялась. Нэнси перестала быть собой.
Он уложил ее спать пораньше, но она проснулась до полуночи, со стонами и призывными криками, то ли от мучений, то ли от страха, он так и не узнал. И от того и от другого, подумал он. Оболочка, тень женщины, которая была когда-то его женой, издавала бессвязные, звероподобные звуки — вой и рычание.
Тедди согрел молоко, добавил в него немного рома и вылил туда несколько ампул. Приподняв и усадив Нэнси, он укутал ее исхудавшие плечи одеялом.
— Пей до дна, — сказал он с нарочитой веселостью. — Это поможет.
И не заметил, что на пороге спальни стоит — босиком, в пижаме — сонная Виола, разбуженная нечеловеческими стенаниями матери.
Вместо того чтобы погрузиться в глубокий сон, который, как надеялся Тедди, станет предвестником конца, Нэнси неожиданно пришла в сильное возбуждение, заметалась в постели, начала рвать на себе волосы, сдирать простыни и ночную рубашку, как будто изгоняла огненного демона. Тедди подбавил морфия к оставшемуся молоку, но Нэнси так размахивала руками, что отшвырнула стакан в другой конец спальни. Она зашлась каким-то дьявольским, неумолчным криком, разинув рот, как черную пасть, будто сама превратилась в демона, засевшего у нее в мозгу. Тедди в отчаянии схватил подушку и накрыл ей лицо, не в силах думать, что это конец, уже самый конец и что она не нашла желанного избавления от ночных мук. Он сильнее прижал подушку. Вот, значит, как вершится убийство. Голыми руками. Пока смерть не разлучит нас.
Она застыла. Тедди убрал подушку. У Нэнси не осталось сил сопротивляться, а может, просто подействовал морфий, но лежала она без движения. Он попробовал нащупать пульс. Ничего. Только его собственное сердце оглушало своими ударами. Лицо Нэнси было спокойным, боль и зверские муки отступили. Перед ним снова была Нэнси. Она осталась собой.
Виола бесшумно вернулась в постель. «Истинные кошмары приходят не во сне, а наяву», как говаривала рассказчица в ее новейшем романе «Каждая третья мысль». («На сегодняшний день — ее лучшее произведение» // Журнал Good Housekeeping.)
— А если вы пойдете под суд, какая судьба постигнет ту девочку, что спит наверху? — урезонивал доктор Уэбстер.
У нее множество теток, мысленно отвечал Тедди. Любая из них даст мне сто очков вперед. «Если с тобой тоже что-нибудь случится, — говорила ему Нэнси, — Виоле лучше всего будет остаться с Герти». («Нет-нет, с тобой, конечно, ничего не случится!»)
Герти казалась ему наименее подходящей для этой роли. На первом месте, с его точки зрения, шла Милли.
— А почему именно с Герти? — спросил он вслух.
— Она разумна, практична, терпелива, — Нэнси, загибая пальцы, перечисляла достоинства Герти, — и в то же время с долей авантюризма, не робкого десятка. Сумеет воспитать Виолу храброй.
Храбрости Виоле недоставало; они оба это знали, но никогда не произносили вслух.
Какое у меня право разглагольствовать о храбрости? — думал Тедди, подливая виски себе и доктору Уэбстеру.
— Я выпишу справку о смерти, — сказал доктор. — А вам нужно позвонить в похоронное бюро. Или хотите, чтобы это сделал я?
— Нет, — ответил Тедди, — я сам.
После ухода врача Тедди поднялся в комнату Виолы. Дочь крепко спала. Он не смог заставить себя разбудить ее лишь для того, чтобы сообщить самую страшную весть, какую только можно представить. Погладив ее чуть влажный лоб, Тедди легко поцеловал Виолу и сказал:
— Я люблю тебя.
Этой фразой ему следовало проститься с Нэнси, но в те последние минуты он был в таком смятении, что не проронил ни слова. Виола что-то пробормотала, заворочалась, но не проснулась.
2012 Добро, Смиренье, Мир, Любовь{131}
Королева медленно сплавлялась по Темзе.
— Королева, — сказала Виола, — в телевизоре.
Она смотрела на вещи просто: флотилия на реке, дождь, незыблемость монархии.
— Ты уже не различаешь картинку, да?
Виола говорила с Тедди громко и медленно, как с неразумным ребенком. Она сидела у его кровати в кресле с высокой спинкой, какие всегда стоят в домах престарелых. На такие кресла она садилась с раздражением. Они предназначались для старичья, а Виола совсем не жаждала войти в эту категорию, хотя сама уже имела право ездить на отдых от компании «Сага»{132} и ужинать с пенсионерами при церкви; в этом возрасте уже впору носить бежевую куртку и штаны на резинке (чисто гипотетически). В этом возрасте уже можно перебираться в «Фэннинг-Корт». Боже упаси, конечно.
Тедди больше не мог сидеть в кресле. Он был прикован к постели, да и вообще ничего не мог. Его сумерки сгущались, и он погружался во тьму. Виола представляла, как синапсы в отцовском мозгу то вспыхивают, то затухают, будто медленно умирающие звезды. Скоро Тедди сгорит дотла, взорвется и превратится в черную дыру. Знания Виолы в области астрофизики были туманными, но эта метафора ей нравилась.
На Тедди поставили клеймо: надели ему на запястье пластиковый больничный браслет. Похожие были у Санни и Берти в родильном отделении. Первый молочный зубик, первые пинетки, нехитрые рисунки из детского сада, школьные дневники — многие хранят такие вещи как драгоценные реликвии детства, но Виола от них избавилась. («Да, потом пожалела. Вопрос закрыт?»)
На браслете Теда было написано «Не реанимировать», — стало быть, он задержался на этом свете дольше отведенного срока. Боже, до чего жуткая штука жизнь. На Виолу вновь нахлынули воспоминания прошлой ночи, хотя они и не отступали. Ее передернуло. Она так опозорилась. Точнее сказать, низко пала.
Виола приехала в Йорк из Харрогейта к вечеру и надеялась повидаться с подругами. Да, несмотря ни на что, у нее были подруги. Виола собиралась позвонить им и как ни в чем не бывало сказать: «Может, встретимся? Посидим где-нибудь?», будто ее только что осенило, хотя на самом деле она планировала это не один день. Виола пыталась вести себя непринужденно — но то, что она принимала за непринужденность в молодости, было, скорее, попросту равнодушием («Пошли на пляж?» — «Ну пошли»). А к тому же она пыталась снова влиться в дружеский круг, от которого вынужденно отошла, добившись успеха. («Извините, жутко занята, море дел».)
С этими подругами они не виделись давно — годы (и годы), а расстались не лучшим образом. Все трое состояли в «Женском совете по здоровому питанию»: по существу, занимались тем, что вместо нормальных коробочек мюсли покупали безобразные мешки отрубей и лузги, а потом делили их между собой. Их мало что объединяло, кроме штайнеровской школы и кампании за ядерное разоружение; для кого-то и этого было бы достаточно, но только не для Виолы.
Приехав в Йорк, она поняла, что упустила из виду одно обстоятельство: это был не просто субботний день, но еще и государственный праздник — город предстал перед ней в торжественном убранстве, в буйстве красно-бело-синих полотнищ. По выходным Йорк осаждали неистовые толпы, прибывающие сюда из еще более северных мест.
Виола нашла пристанище в гостинице «Сидар-корт», где прежде размещалось Главное управление Северо-Восточной железной дороги. В конечном счете все сущее становится временным пристанищем. Пылью, песком и временным пристанищем. Она рассчитывала на комнату с хорошим видом, чтобы окна выходили на городские стены Йорка, но таких номеров не осталось. Будь она героиней романа Форстера (на сорок лет моложе, чем сейчас) — нашла бы любовь всей своей жизни, испытав бурю эмоций, и заполучила бы желанную комнату с видом.{133} Но Виола не хотела ни эмоциональных потрясений (на мужчинах она давно поставила крест), ни, конечно, долгой любви, но, естественно, не отказалась бы от номера с хорошим видом. Девушка за стойкой регистрации почти наверняка не слышала о Форстере, хотя могла слышать о Виоле Ромэйн, но Виола не хотела проверять свои гипотезы. Она и без того всю жизнь скиталась по морю невежества, мелкому, но безбрежному. Да, она позволяет себе высокомерные предположения. Нет, она не имеет на это права. Девушка за стойкой, ни сном ни духом не ведавшая ни о Форстере, ни о Виоле Ромэйн, но «обожавшая», судя по всему, «Пятьдесят оттенков серого» (чем рисковала вызвать у Виолы эпилептический припадок), вручила ей карту-ключ и сказала, что позовет портье, дабы тот проводил ее в номер. «Я могу что-нибудь еще для вас сделать, миссис Ромэйн?»
После развода Виола оставила себе фамилию мужа (и, конечно, половину выручки от продажи дома), поскольку фамилия Ромэйн звучала эффектнее прозаичной Тодд. Однажды Виолу спросили: «Как пишется ваша фамилия? Как салат ромен?» Ее двоюродная бабушка по отцовской линии, кропавшая свои бесконечные книжонки об Августе, издавалась под фамилией Фокс, — по крайней мере, это ничем не напоминало салат; почему же она сама не рассмотрела такой вариант? Виола Фокс. Ничто не мешало ей создать под этим псевдонимом другую книгу — более серьезную, пусть не самую ходкую, зато восхваляемую критикой. («Текст, бросающий вызов нашим эпистемологическим суждениям о природе художественной литературы» — из рецензии в «Литературном приложении к „Таймс“».)
Они поженились через месяц после знакомства. «Безграничная страсть», — объясняла Виола своим огорченным, но почему-то сгорающим от зависти подругам. Слово «страсть» было Виоле по душе, — возможно, слово ей нравилось больше, чем страсть как таковая. Отношения их были обречены — слишком уж в духе Бронте, а ей казалось, что для нее этого недостаточно. Виола жаждала романтики. А от Уилфа Ромэйна не приходилось ждать ни романтики, ни страсти — Виола выдавала желаемое за действительное.
Уилф Ромэйн поначалу казался смутьяном, но выяснилось, что это заурядный фанфарон. Спорщик, политический активист, член Лейбористской партии, участник кампании за ядерное разоружение и так далее; для сына шахтера он добился многого. В начале их совместной жизни Виола не уставала повторять, что сын шахтера — не обязательно сам шахтер. Он преподавал теорию коммуникации (бессмысленный предмет) в колледже дополнительного образования, страдал от диабета второго типа и злоупотреблял алкоголем. С виду брутальный и благородный, он в конце концов разочаровал ее, как и все остальные.
— Муж бил вас? — допытывался Грегори, психолог. Он специализировался на проблемах домашнего насилия в свете его причин и следствий.
— Да, бил, — отвечала Виола, потому что это сулило куда больше стороннего интереса, чем констатация холодной, промозглой истины о взаимном равнодушии.
Со временем и с возрастом приходит понимание, что разница между истиной и вымыслом не столь уж существенна, ибо в конечном счете и то и другое растворяется в мутном, беспамятном вареве истории. Не важно, личной или политической.
Дети покинули дом, а сама она переехала в Уитби, хотя, строго говоря, Санни из дома не уезжал. Уехала Виола. Чтобы посвятить себя литературе. Даже Виола вынуждена была признать, что ей нужно стряхнуть с себя леность ума, погрузиться в реальную жизнь — так подсказывал ей Голос Разума. Во всяком случае, с литературным творчеством она была знакома не понаслышке, правда с внешней стороны — с читательской; прошло немало времени, прежде чем она сообразила, что читать и писать — это совершенно разные занятия, по сути своей полярные. И умение водить пером по бумаге, как выяснилось, еще не означало, что она способна писать книги. Но она проявила упорство — вероятно, впервые в жизни.
За плечами у нее был ценный опыт ученичества: она рано научилась читать, росла единственным ребенком в семье, осталась наполовину сиротой и, в силу своего характера, всегда любила подглядывать. В детстве она вечно топталась в дверях, смотрела и слушала. («Писатель — это стервятник!» / Из интервью журналу People’s Friend, 2009.) Литагенты один за другим отвергали роман «Воробьиный рассвет», пока не нашлась дама, приславшая ей ответ, в котором говорилось, что произведение «любопытное», и хотя в устах литагентши «любопытное» звучало почти оскорблением, она тем не менее направила рукопись издателю, который заключил с Виолой (скромный) договор на две книги; не прошло и года, как роман «Воробьиный рассвет» из сумбура идей, роившихся в голове у Виолы, превратился в солидный, весомый компонент феноменологического мира. («А дальше что? — спрашивала Берти у деда. — „Барсучий завтрак“? „Кроличий закат“?»)
На отца, вопреки ожиданиям Виолы, ее успех не произвел должного впечатления. Она послала ему гранки, а в день выхода книги приехала в Йорк, где отец повел ее в ресторан и, как ни удивительно, даже заказал шампанское, хотя отзывался о романе сдержанно. Ей хотелось услышать слова изумления и восхищения ее талантом, но отец вместо этого ограничился скупым «очень хорошо», всем своим видом выражая обратное. Сюжет (по всей вероятности) отец тоже не оценил: юная девушка, блистательная, не по годам умная; сложные отношения с овдовевшим отцом и так далее и тому подобное — все списано с их жизни. Хотя бы это он понял? Почему же тогда промолчал? Вместо этого всю дорогу домой он распевал: «И люди, что старательно нам похвалы поют, а после, за спиной у нас, нещадно нас клянут; и площадной социалист, плюющийся слюной: вот список небольшой…»{134} — как будто ее триумф обернулся комедией. Сказал, что это из Гилберта и Салливана. «Есть список небольшой — да, список небольшой людей, которых вовсе нам всем не нужно тут».{135} Что ж, у каждого свой список, подумала Виола.
«Воробьиный рассвет» не принес ей особой славы. «Излишне сентиментальный», «Довольно рыхлый». Она вырыла себе яму, но выкарабкалась благодаря второй книге, «Дети Адама», — «яркой трагикомедии о жизни в некой коммуне шестидесятых годов». Виола поместила свои житейские перипетии в контекст модного десятилетия и рассмотрела их через призму четырехлетнего ребенка. «Но это же моя история, а не твоя?» — в расстройстве спрашивала Берти. Этот роман произвел фурор («По какой-то причине», — недоуменно делилась Берти с дедом) и лег в основу очень английского, но теперь практически забытого фильма с участием Майкла Гэмбона и Греты Скаччи.
Вот так и взошла звезда ее блестящей карьеры.
Ee спальня в «Сидар-Корте», большая и довольно сумрачная, некогда служила, видимо, чьим-то кабинетом. Позвонив подругам, с которыми Виола стремилась возобновить отношения, она выяснила, что записанные у нее номера более не действительны; это показывало, как долго они не общались.
Если уж говорить совсем честно (к чему Виола теперь тоже стремилась), она испытала облегчение. По крайней мере, не придется через силу наверстывать упущенное. К тому же она пошла очень далеко, а подруги, на сто процентов, нет. Ей вспоминались толстые кофты, длинные юбки, башмаки сабо, свисающие на лицо волосы, расфасовка фуража из безобразных мешков (на самом деле одна из девушек стала заметным судебным адвокатом в Лидсе, а второй уже не было в живых).
Лежа на гостиничной кровати, Виола уставилась в потолок. Нагонявший тоску шестичасовой свет летнего вечера грозил затянуться навсегда. Можно было и дальше лежать на кровати, уставившись в потолок, или же включить телевизор и заказать обслуживание в номере. Ни то ни другое ей не улыбалось, и она решила провести субботний вечер в Йорке — задача не из легких. Ну, по крайней мере, в этот день не проводились скачки — мероприятие, привлекавшее среди прочих толпы нелепо одетых девиц, которых отличали от всех прочих куриц шляпки из перьев, цветов и бусин, — посмешище, да и только. А до чего толстые! И ведь ухитряются как-то втиснуться в туалетную кабинку или в кресло кинотеатра! Да такая кого хочешь раздавит — и не заметит.
В этот далеко не поздний час Виола, выйдя из отеля, заметила, что петухи и курицы, уже на удивление пьяные, успели заполонить тротуары. Она с содроганием представила, что там будет твориться ближе к ночи. Некоторые петухи вырядились в карнавальные костюмы, и целая группка (или, она бы сказала, гроздь), переодетая бананами, устремилась вниз по ступеням к реке, в «Слизняк и латук». Но большинство высыпало на улицы в традиционной униформе всех мачо — в чистых джинсах, футболках, под которыми вырисовывались дряблеющие мускулы, и в миазмах лосьона. Девчонки тоже щеголяли в футболках, но со сверкающими надписями, которые на погляденье всем распределяли их по категориям: «Цыпочки на девичнике», «Цыпочки в городе», «Лучший выбор — Дарлингтон» (эта категория, с точки зрения Виолы, заблуждалась более других). Последним писком у них считался розовый цвет: розовые ковбойские шляпы, розовые тенниски, розовые юбчонки-пачки, розовые шарфики. Эти девушки были из тех, кто считает, что в кафе нужно непременно заказывать капкейки. Виолу это словечко раздражало до невозможности. Господи, простые кексы в бумажных формочках, не более того. И что с ними так носятся? Исключительно ради наживы.
Ей бросилось в глаза облачко нацепленных на девичьи головы кошачьих ушек (розовых, естественно); их обладательницы, в футболках с надписью «Праздник Подружек Полли», скакали у светофора перед Лендал-бридж, не зная, какое еще злачное место осчастливить своим присутствием. Кошачьих ушек Виола не видела с восьмидесятых годов. Нечто похожее было у Берти: ободок, на котором подрагивали пучки серебряной мишуры, похожие на усики насекомого. И кстати сказать, припомнила вдруг Виола, в комплекте с этим ободком шла пара усыпанных блестками крылышек. Я мотылек, а не бабочка, повторяла Берти. Как иголкой в сердце. Таких иголок лучше избегать: в большом количестве они могут ослабить сердечную мышцу, вскрыть линию вины, вызвать изломы и трещины; оглянуться не успеешь, как вся хрупкая конструкция рассыплется на тысячи обломков. Сердце Виолы и так держалось на клею и алебастре. Эффектный получается образ? Она затруднялась определить.
Вопреки увещеваниям Виолы Берти так и легла спать, не снимая этих серебряных крылышек. Наутро, увидев, что они безвозвратно погибли, дочь горько плакала. «А потому, что не слушаешься, — выговаривала ей Виола. — Тебе было ясно сказано».
Что посеешь, то и пожнешь, Виола. Что посеешь, то и пожнешь.
Предсвадебную стайку замыкала пара безутешного вида женщин постарше: вероятно, мамаша и тетушка невесты, а может, будущая свекровь. Их расплывшиеся телеса неуклюже восставали против тесных розовых футболок, а еще яростнее — против сверкающей стразами надписи на дряблых бюстах. («Хорошие корсетные изделия, — доверительно сообщает Виола Ромэйн, — вот на чем держится привлекательность женщины в возрасте» // Sunday Express, Life and Style, 2010. Она такого не говорила! Переврали цитату от начала до конца.)
Неужели ее ждет такая же участь? — думала она. Берти, в присущей ей пост-иронической манере, вполне может устроить такой вот традиционный предсвадебный девичник («Бестии Берти»), унизительный для сопровождающих. Но сперва пусть встретит достойного кандидата. А пока дело шло к тому, что Виоле так и не удастся выступить в заветной роли бабушки. Санни, похоже, и вовсе жил монахом, а Берти даже не бегала на свидания — во всяком случае, с матерью своими победами не делилась.
Очевидно, «Подружки Полли» приняли негласное решение и всем выводком устремились по Руджиер-стрит. Когда они поравнялись с Виолой, та с ужасом поняла, что на ободках дрожат вовсе не кошачьи ушки: оказалось, она с расстояния глазела на небольшие толстенькие пенисы. Они внезапно вспыхнули и замигали; подружки откликнулись раскатистым гоготом. Виолу бросило в жар; она поспешила укрыться в знакомой кондитерской «Беттиз». Островок антиутопии: там, где чисто, светло.{136}
Виола заказала салат с курицей и выпила пару бокалов вина. С вегетарианством было покончено. От бобовых и злаков портится фигура. Сидевший за роялем музыкант играл вполне прилично — то есть не дешевые ресторанные мелодии, а Шопена и Рахманинова. Шопен всегда навевал ей грустные воспоминания о матери. После маминой смерти Виола бросила занятия музыкой. А ведь могла бы сделать карьеру. Стать концертирующей пианисткой — почему бы и нет?
Она спустилась к туалетным комнатам. Перед ними висел кусок разбитого зеркала — того, что раньше висело за стойкой бара, известного во время войны как «Бар „Беттиз“». Летчики выцарапывали на зеркале свои имена. Отец рассказывал ей про «Бар „Беттиз“», как он туда захаживал, когда служил в авиации, но она не особо прислушивалась. Теперь это зеркало превратилось в реликвию. Наверное, почти никого из тех, кто на нем расписался, уже не осталось в живых. Многие, предполагала Виола, погибли на войне. Она вгляделась в полустертые имена. Не сохранилось ли среди них отцовского? Зря она не расспросила папу о войне, пока он еще был вменяем. Могла бы использовать его воспоминания как основу для романа. И там самым снискала бы всеобщее уважение. Военную тему публика воспринимает очень серьезно.
Вернувшись за свой столик, она увидела, как Сент-Эленз-сквер нетвердой походкой пересекает мужская компания в костюмах презервативов. Надо же было додуматься: находясь среди зачатков средневековой Европы, обрядиться противозачаточными средствами. Ехали бы в Бенидорм. Или в Магалуф. («Ты хочешь, чтобы все поступали хорошо, а сама поступаешь плохо», — говорила ей Берти.)
Один человек-презерватив плашмя ударился, как жук, в стекло большой витрины «Беттиз» и стал с похотливой усмешкой разглядывать посетительниц. Пианист поднял глаза от клавиатуры, а потом продолжил безмятежно наигрывать Дебюсси. Из остановившегося в центре площади фургона высыпала горстка людей в костюмах зомби. Зомби пустились в погоню за презервативами. Презервативы не слишком удивились, как будто были готовы к атаке зомби. («Это все проплачено», — объяснила потом Берти.) И что тут смешного? Виола пришла в отчаяние. Возможно, она выиграла гонку и первой пришла к финишу — к концу цивилизации. А награды за это не полагалось. По всей видимости.
Но нет. Финишная черта маячила впереди, однако Виола пока ее не переступила. Выйдя из «Беттиз», она поразмыслила и отправилась в обратный путь через Лендал-бридж, где атмосфера сделалась совсем разнузданной. Как-то незаметно Виолу окружили «Одинокие подруги Эйми», сильно подвыпившие и возглавляемые самой Эйми, у которой тиара сползла набок, дешевое бюстье пересекала лента «Невеста», а на увесистом заду красовался знак учебного автомобиля. Куда катятся девушки? Неужели ради вот таких бросилась под конские копыта Эмили Дэвидсон?{137} Чтобы девушки могли носить на голове мерцающие пенисы и лакомиться капкейками? В самом деле? Всякий раз, когда им навстречу попадался представитель мужского пола, каждая поднимала вверх палец и кричала: «Надень колечко!», а затем повисала на оказавшихся рядом подругах, слабея от хохота. «Ой, сейчас описаюсь!» — вопила одна.
Виолу обтекало стадо самцов. «Улыбнись, старая кошелка! — проорал ей чей-то голос. — Может, еще и подцепишь мужичка». Внутренне кипя от ярости, она зашагала дальше. Изломы и трещины ширились, терзая оболочку сердца. Виола вся превратилась в перенапряженную рояльную струну, готовую лопнуть и разлететься под жестоким напором метафор.
Как могут люди быть такими глупыми и невежественными? («Почему ты все время злишься?» — спросил ее Санни много лет назад. «Потому что есть от чего», — бросила она.) А почему собственные дети ее не любили? Почему никто ее не любил? И почему ей так одиноко, и грустно, и, если уж говорить начистоту, совсем паршиво, и…
Споткнувшись о каменную плиту, она грохнулась на четвереньки, как свинцовая кошка, и от этого удара в голове на мгновение наступила полная тишина. Колени болели так, что она боялась пошевелиться. Неужели перелом? Проходивший мимо самец отпустил похабную шуточку насчет ее позы, но хриплый женский голос с ньюкаслским акцентом послал его подальше. Виола приняла сидячее положение, не отрывая травмированных коленей от тротуара. У нее перед глазами возникла розовая футболка. На ней стразами было написано: «Йорк сносит башню». Женщина — точнее, девушка, гораздо моложе своего прокуренного голоса, улыбчивая, но встревоженная, опустилась на корточки рядом с Виолой и спросила:
— Ты цела, киса?
Нет, мысленно ответила Виола, отнюдь нет. И расплакалась, прямо на камнях Йорка, о которые разорвала дорогие колготки и вдрызг разбила колени. Ей никак не удавалось взять себя в руки. Кошмар. Слезы текли ручьем откуда-то из глубин, как будто там вдруг открылся античный фонтан скорби. Но ее привели в ужас не столько слезы, сколько слова, слетавшие у нее с языка. Первобытный вой, альфа и омега всех человеческих заклинаний. Даже не вой, а скулеж. «Я к маме хочу, — бормотала она. — К маме хочу».
— Могу свою предложить, киса, — сказал чей-то голос, и курицы разразились смехом, но тем не менее, видя, что женщина оказалась в бедственном положении — возможно, с перепою, а может, и нет, — курицы сомкнули вокруг нее защитное кольцо.
Одна помогла ей встать, другая протянула бумажный носовой платок, третья — бутылочку из-под воды «Эвиан», в которой оказалась чистейшая водка. Особа постарше, наседка с морщинистой шеей и помятым лицом, на чьей футболке значилось «Мама невесты», передала Виоле пачку влажных салфеток. Уточнив, куда ей нужно, «безбашенные» заботливо проводили ее до «Сидар-Корта». Швейцар тщетно пытался грудью преградить им путь, но они уже втекали через порог в холл. Виола вслепую нащупывала на стойке ключ, и одна из куриц, схватив эту карточку, торжествующе помахала ею перед носом встревоженной рецепционистки.
— Она немного устала и разволновалась, — объяснила одна курица.
— Бедная старушка, — добавила та, что помоложе, весенняя цыпочка.
Старушка! Да мне всего шестьдесят, хотела запротестовать Виола, а это все равно что в прежние времена — сорок. Но протесты уже были выше ее сил.
Она в ужасе представила, как эти курицы сейчас продолжат веселье у нее в номере, но в конце концов убедила их оставить ее у лифта. «Мама невесты» вложила что-то ей в руку — крошечный дар, завернутый в салфетку.
— Валиум, — пояснила мамаша, — но тебе и полтаблеточки хватит. Забойная штука. На меня уже не действует.
Заплаканная Виола благодарно икнула.
В тишине своего номера она не стала заниматься теми процедурами, какими обычно заканчивала день: не сняла макияжа, не почистила зубы, не прошлась щеткой по волосам, а вместо этого устало заползла под одеяло, пробившись сквозь крахмальные простыни, и безрассудно проглотила целую таблетку валиума, запив ее двумя шкаликами водки из мини-бара. Она боялась, что ночью ее будут преследовать кошмары, но заснула на удивление сладко. Ее веки целовала золотая дремота, вокруг головы порхали серебряные мотыльки, и снился ей яркий сон.
Проснулась она рано, заказала большой кофейник кофе и оценила свое состояние. Самочувствие — если не как после войны, то как после кровавой схватки. Какие получены травмы? Виола ощупала все тело. Небольшое растяжение обоих запястий, боль в негнущихся коленях, словно по ним всю ночь били молотком. Голова будто ватная — надо думать, из-за подаренного валиума, предположила Виола, — но никаких повреждений нет. Потом она заглянула в глубину души. И сделала вывод: там полная задница.
Виола выехала из гостиницы, не столкнувшись, к своему облегчению, ни с кем из свидетельниц своего вчерашнего позора. Как, интересно, чувствуют себя с утра «безбашенные»? Наверное, до сих пор дрыхнут с похмелья. (Хотя на самом деле они с аппетитом поглощали полный английский завтрак в приличной гостинице «Трэвелодж», где был шведский стол, и готовились совершить набег на магазин готовой одежды. Девушки прибыли из Гейтсхеда, а там народ жилистый.)
Виола попросила швейцара вызвать ей такси до «Тополиного холма». Ее ждала кара за вчерашнее: визит к отцу. А чтобы жизнь не казалась медом — еще и совместный с ним просмотр трансляции бриллиантового юбилея.
У отца было явное истощение, он теперь почти целыми днями дремал, как старый пес. Почему нельзя просто уйти в мир иной? Неужели он вознамерился дожить до ста лет? Еще два года влачить такое существование? Это ведь не жизнь — у амебы и то больше живости. «Торжество человеческого духа», говорила новенькая медсестра, у которой еще не пропала охота рассуждать о «положительном исходе» и «общеукрепляющих программах» на обтекаемом языке менеджмента, непонятном для большинства обитателей «Тополиного холма», которые пребывали либо в коматозе, либо в маразме, либо в обоих этих состояниях одновременно. Стационар обещал «домашнюю заботу» о престарелых, но о какой заботе и домашней обстановке могла идти речь, если это учреждение работало на принципах самоокупаемости и нанимало персонал, готовый трудиться за гроши. И к слову, ни тополей, ни холмов поблизости не наблюдалось. Виолу более всего раздражало последнее обстоятельство, и эта претензия (по сути, высосанная из пальца) нагоняла страх на обслуживающий персонал, состоявший в основном из мигрантов («Говорим по-польски и по-тагальски», — объявляла рекламная брошюра «Тополиного холма»).
— Какой же здесь смрад, — сказала она отцу.
Тедди пробормотал нечто похожее на согласие. Отопление жарило на полную катушку, нагнетало густые миазмы, от которых на посетителей нападал рвотный рефлекс, и услужливо культивировало миллионы бактерий, определенно витавших в воздухе. Не обошлось и без обычных животных запахов мочи и кала, а также духа гнили и тлена, против которых бессильна любая дезинфекция. Так пахнет старость, заключила Виола. В «Тополином холме» она всегда держала наготове пропитанный «Шанелью» платочек и время от времени накрывала им нос, как противочумной маской.
Двери палат здесь держали открытыми, так что каждое помещение выглядело маленькой зарисовкой, обнажающей упадок, словно в каком-то фантасмагорическом зоопарке или музее ужасов. Одни пациенты без признаков жизни лежали на койках, другие стонали и кричали. У некоторых, усаженных в кресла, голова бессильно свешивалась на грудь, как у заснувших младенцев, а откуда-то доносилось кошачье мяуканье невидимой женщины. Проход по коридорам превращался в слалом: приходилось огибать ходячие развалины (как называла их про себя Виола) — заблудившиеся души, которые бесцельно слонялись из конца в конец, не ведая, кто они такие и куда держат путь (ясно, что никуда). Никто из обитателей не знал кода запертой двери, ведущей в этот корпус (1-2-3-4 — подумать только, какая сложность!), а узнали бы, так не запомнили, а если бы даже и запомнили, то без толку: в мозгах у них была дырка на дырке — ни дать ни взять кружева. Время от времени Виола заставала у двери целые стайки таких зомби (медлительных, не способных никого преследовать, сколько ни проплачивай): они молча глазели через армированное стекло на запретный мир. Тянули пожизненный срок. Ходячие мертвецы.
Невыносимая обстановка усугублялась тем, что в каждой палате истошно орал, соревнуясь с другими, телевизор: «Сделка или нет» перекрикивала «Бегство в деревню», но всем было до лампочки: так или иначе никто ничего не понимал. Сквозь эту какофонию то тут, то там прорывался длинный, настойчивый сигнал зуммера: это пациент пытался привлечь к себе внимание — не важно чье.
Была там и общая гостиная, где ходячие мертвецы застывали перед одним огромным, орущим громче других экраном. По неведомым для Виолы причинам в гостиной стояла просторная клетка с парой попугайчиков-неразлучников, которых никто не замечал. В свое время Виола морщилась от «Фэннинг-Корта», куда уговорами запихнула отца лет двадцать назад, но то был потерянный рай в сравнении с этим стационаром сестринского (нет, пардон, «домашнего») ухода. «Да ведь это сущий ад, — небрежно бросила она отцу, — и я в нем застряла, как и ты». И безмятежно улыбнулась проходившему мимо палаты санитару. Ну как могло втемяшиться людям в здравом уме, что эвтаназия — это плохо? Шипман всем подгадил.{138}
Но какое бы гнетущее впечатление ни производил «Тополиный холм», он избавил Виолу от забот: ей не приходилось думать о том, как менять памперсы, в каких пропорциях разводить питательную смесь и чем занимать отца в долгих промежутках. Она даже родным детям была никудышной нянькой; вряд ли ей светило приобрести необходимые навыки, ухаживая за стариком, находившимся на другом полюсе жизни. Ну не создана она для ухода за другими.
Виоле представлялось, что ее внутренности сделаны из твердого вещества — как будто мягкие органы и ткани давным-давно окостенели. «Окаменелость Виолы Ромэйн». Неплохое название. Например, для ее биографии. Только кто ее напишет? И как этому помешать?
Если уж быть до конца честной (по крайней мере, с собой), людей она недолюбливала. («„Lenfer, c’est les autres“,{139} — посмеивается Виола Ромэйн, но, совершенно очевидно, сама в это не верит: она с глубоким сочувствием повествует о людских судьбах» // Журнал Red, 2011.) В ее защиту — Виола нередко думала о себе в третьем лице, как будто это кто-то посторонний говорил о ней перед судом присяжных, — необходимо добавить, что теперь из нее постоянно выжимали слезу рассказы о жестоком обращении с животными, и это наглядно доказывало, что она не страдает социопатией. (Суд присяжных откладывал вынесение вердикта.) Если почитать бульварную прессу (а Виола ею не гнушалась: «Врага нужно знать в лицо», как объяснила бы она присяжным, но по большому счету таблоиды — куда более стоящее чтиво, чем самодовольные, зацикленные на политике «солидные» газеты), нетрудно сделать вывод, что вокруг полно извергов, которые морят голодом лошадей, запихивают щенков в стиральную машину, а котят — в микроволновую печь, как готовую закуску.
Такие истории повергали Виолу в состояние безотчетного ужаса, несравнимого с тем, какой она испытывала, скажем, от рассказов о жестоком обращении с детьми. Сей факт она держала при себе — это было табу, все равно как на выборах голосовать за консерваторов. Даже Грегори, ее психотерапевт, не был посвящен в такие подробности. Кто-кто, а он бы узнал в последнюю очередь: вот были бы для него именины сердца. Виола Ромэйн, «Потаенное „я“: Как скрывать свою истинную природу».
Оправданием для нее (а требовалось ли ей оправдываться? Видимо, да) служило то, что после маминой смерти она росла без любви. «Когда я потерял жену» — так выражался ее отец, как будто случайно положил Нэнси не на место. «Отлучение от любви» — так называлось одно из ранних произведений Виолы. «Пронзительная история борьбы и потерь», как описал его журнал Woman’s Own. Вот где раскрывались ее лучшие стороны — в книгах. («Почти столь же сильно, как Джоди Пиколт»{140} // Родительский форум Mumsnet.) Ее читатели (почти исключительно женщины) — а их было множество, преданных и так далее — все без исключения считали, что она — беззлобная… нет, добрейшая душа. И это тревожило. Внушало чувство вины, как будто она раздавала заведомо невыполнимые обещания.
Целых три года она еженедельно приезжала в «Тополиный холм» — глаза бы на него не глядели. Но нельзя же выставлять себя черствой. Встречи с отцом не доставляли ей никакого удовольствия. Она и раньше, в силу ряда причин, относилась к отцу с настороженностью, а теперь, когда колосс превратился в младенца, стал развалиной, он и вовсе сделался ей чужим. Как не вспомнить Старого Морехода:{141} его альбатрос был уже загублен злой стрелой, прежде чем повис на нем вместо креста.
Она приехала поездом из Харрогейта именно сегодня — заодно, по пути в другое место. И завязала узелок на память. «По пути в другое место» — неплохое название. Харрогейт не раз побеждал в конкурсе «Цветущая Британия»; если в этом городе и были приметы бедности, их аккуратно задвинули подальше, с глаз долой. Виола втайне жалела, что так и не выбралась за пределы Йоркшира, не окунулась в лондонскую жизнь, по-столичному изысканную (во всяком случае, так ей представлялось).
Ее недолгое житье в сквоте с этим паразитом Домиником в счет не шло. Дело было в Ислингтоне, тогда еще не превратившемся в фешенебельный район, и она практически не выходила на улицу. «Послеродовая депрессия», объясняла она впоследствии, будто предъявляя почетный знак страдалицы, хотя, если честно, депрессия была самая заурядная. («По-моему, я родилась с депрессией, — рассказывает она журналу Psychologies. — Думаю, это позволяет мне лучше понимать людей».)
Живи она сейчас в Лондоне, получала бы приглашения на вечеринки, обеды и тусовки. Ее книги («международные бестселлеры») были слишком ходким товаром, чтобы бомонд мог относиться к ней всерьез, но приятно было бы не чувствовать себя отвергнутой популисткой, которая сама ломится в ворота. («Я — северянка, и это предмет моей гордости» / Интервью газете Daily Express, март 2006 г.) Предмет гордости? Это перебор.
Ей было бы только на руку, если бы она выросла в благополучных графствах, примыкающих к Лондону, в той же Лисьей Поляне, оставшейся у нее (да и у всех) в памяти каким-то полумифическим уголком. Но когда ей исполнилось шесть лет, Сильви умерла и поместье было продано. А через несколько лет та же судьба постигла и «Галки», родной дом ее матери, потому что миссис Шоукросс впала в благостное старческое слабоумие и доживала свои дни в Дорсете, у терпеливой Герти. Вина за все неурядицы лежала на отце, которому после войны приспичило поселиться в здешних краях. А теперь уже слишком поздно для каких-либо перемен. Слишком поздно для всего.
Невзирая на дождь и ветер, королева стоически продолжала плаванье. «У нее бриллиантовый юбилей, — сказала Виола отцу. — Шестьдесят лет на троне. Это долгий срок. А ты помнишь ее коронацию?» Во время коронации Виола была годовалой крохой; других монархов она не знала. Но у нее оставалась надежда увидеть, как на престол взойдет Чарльз, а может, и Уильям, но засвидетельствовать преображение пухлого новорожденного младенца в Георга Седьмого шансов не было. Жизнь конечна. Возникают и рушатся цивилизации; в итоге все превратится в пыль и песок, даже такой вот пухлый августейший младенец. И больше ничего не будет. Разве что гостиницы.
Виола погрузилась в экзистенциальный мрак (пусть и потворствуя себе самой); вывел ее из этого состояния отцовский приступ удушья. Она запаниковала и хотела помочь отцу сесть. Воды в кувшине на тумбочке оставалось совсем чуть-чуть, хотя по правилам его полагалось держать полным. Все «проживающие» (нелепое слово: можно подумать, они по доброй воле приехали сюда на жительство) наверняка страдали от обезвоживания. Да еще и от голода. «Полноценное трехразовое питание» — говорилось на сайте «Тополиного холма». На доске объявлений ежедневно вывешивали новое меню: пастуший пирог, рыба с жареным картофелем, куриное рагу. Создавалось впечатление, будто это нормальная еда, но Виола, попадая сюда во время приема пищи, видела лишь какое-то бежевое месиво, а к нему кисель. Отец, похоже, теперь по умолчанию питался святым духом. Виолу в свое время тянуло (естественно, очень недолго) к бретарианству, как и ко всяким другим культам. Голодание отлично работало на снижение веса. Сам принцип был абсурдным, но в ее защиту — опять обращение к суду присяжных — говорило то, что она переживала очень трудный период. Лишь много позже до нее дошло, что для снижения веса нужно поменьше есть. («Тростинка, — писал о ней еженедельник Mail on Sunday, — но при этом завидные ножки, хотя ей уже полагается бесплатный проездной билет». Не обзавелась. Она ездила на такси. Или арендовала автомобиль с водителем. И определению «завидные» предпочла бы «точеные».)
Плеснув остатки воды в пластиковый стаканчик, Виола добавила туда загуститель, превращавший любую жидкость в тошнотворный вязкий сироп для снятия приступа удушья, и поднесла к отцовским губам.
— Что конкретно вызывает у вас отторжение: старость как таковая или только отцовская старость?
— И то и другое, — ответила Виола.
— А ваша собственная?
Ну, допустим, ее приводила в ужас мысль о грядущей старости. («Ты уже старушка», — сказала ей Берти.) Неужели ее саму на завершающем этапе постигнет сходная участь? Обеды со скидкой, места для пожилых, а в самом конце — тошнотворный вязкий сироп из рук незнакомки, говорящей по-тагальски? А не из рук любящего человека? Что посеешь, то и пожнешь, внушал ей отец. Берти, разумеется, ее к себе не возьмет. Наверное, можно будет поехать на Бали, к Санни. Он же буддист, а его религия призывает к состраданию, разве нет? «Скорее, не религия, а состояние души», — говорила Берти.
А что, если бы это стало законом, которому все обязаны подчиняться? Повсюду заботливые улыбчивые лица, постоянные вопросы о самочувствии. Чем бы это обернулось: утопической мечтой или раздражающим фактором?
Санни она не видела десять лет. Целое десятилетие! Как такое могло произойти? Какая мать способна прожить десять лет, не видя своего ребенка? Правда, за истекшие годы она сделала пару попыток. Например, когда летала для продвижения очередной книжки в Австралию; но он сказал, что в это время будет в Таиланде. Тогда, может быть, ей на обратном пути сделать остановку в Таиланде, предложила Виола. Он будет «в походе на севере страны», на недосягаемом расстоянии, сказал он. «Не очень-то ты настаивала», — сказала ей Берти. Правдоискательница, вся в деда, естественно.
«Ты от него отказалась», — говорила Берти. Это правда, она перепоручила его злобным Вильерсам. Однако в свое оправдание… Но присяжные больше не слушали.
Роскошный речной пароход «Спирит оф Чартуэлл» бросил якорь возле Тауэрского моста.
— Королева остановилась, — сообщила Виола отцу. — Дождь по-прежнему льет как из ведра. Будь у тебя возможность это видеть, ты стал бы, как никто другой, восхищаться ее стоицизмом.
Он пробормотал что-то нечленораздельное. Как будто набрал полный рот камней. Зрение больше не позволяло ему смотреть телевизор, да и вообще он с трудом связывал один момент с другим, как будто связь событий рассыпалась от его попыток. О чтении вообще речи не было. Перед последним воспалением легких, когда он еще мог разбирать крупный шрифт, Виола обнаружила, что отец перечитывает «Барчестерские башни»,{142} причем раз за разом первую главу. Наверное, мозг его с течением времени становился все экономнее, сохраняя в предвидении своих последних дней то немногое, что в нем оставалось. Но время — это же искусственный конструкт, разве нет? Стрела Зенона,{143} спотыкаясь и запинаясь, летела к некой вымышленной конечной точке, расположенной в будущем. В реальности эта стрела не имела цели, они не находились в пути, и не существовало конечной точки, где все вдруг трансцендентально встанет на свои места и откроются все тайны. Все они — заплутавшие души, бродят по коридорам, в молчании собираются у выхода. Нет земли обетованной, нет возвращенного рая.
— Все настолько бессмысленно, — сказала она отцу, но тот лишь клевал носом.
Виола со вздохом вернула нетронутый сироп на надкроватный столик.
— А теперь это просто лодки, корабли, проходящие перед ней. Все разные. Все скучные.
У Виолы зазвонил телефон. «Берти» — известил дисплей. Виола сперва решила не отвечать, но передумала.
— Вы с дедушкой Тедом смотрите празднество на Темзе? — спросила Берти.
— Да, я как раз сейчас у него в палате.
— Убожество какое-то, правда? А бедная королева, она же почти дедушкина ровесница — за что ей такие мучения?
— Простудится под этим дождем и смерть свою найдет, — сказала Виола.
Всю жизнь она проповедовала социализм и республиканство, а теперь ее вдруг пробило на монархию. А на прошедших выборах она голосовала за консерваторов, хотя даже под пытками не призналась бы в этом на людях. «В свою защиту могу сказать, — убеждала она присяжных, — что это был тактический выбор». Присяжных это не убедило. Британская партия независимости пока еще не преодолела заветного рубежа, но зарекаться не стоило. К старости люди не смягчаются, а просто разлагаются — так представлялось Виоле.
— Бог с ней, — сказала Берти в знак того, что запас тем для разговора с матерью у нее иссяк. — Передай, пожалуйста, трубку дедушке.
— Он тебя не поймет.
— Не важно. Дай ему трубку.
Будь у Виолы возможность начать все сначала — вторых попыток никто не дает, жизнь — не репетиция, бла-бла-бла, это понятно, но все же: сумей она вторично совершить это путешествие, что бы она сделала? Она бы научилась любить. «Учиться любить» — болезненное, но в полной мере искупительное путешествие, открывающее теплоту и сострадание по мере того, как автор учится преодолевать одиночество и отчаяние. Особенно отрадны те шаги, которые она предпринимает для налаживания отношений с детьми. (Половина присяжных уже задремывает.) Она старалась, она в самом деле старалась. Работала над собой. Много лет посещала сеансы психотерапии, раз за разом начинала сначала, хотя и не совершала ничего такого, что потребовало бы от нее ощутимых усилий. Ей хотелось, чтобы перемены в ней осуществил кто-нибудь другой. Жаль, что нельзя сделать такой укол, который разом все исправит. («Попробуй героин», — советовала Берти.) Пока еще она не пришла к Церкви, но уже голосовала за тори (из тактических соображений!), так же теперь, видимо, на очереди стояло англиканство. Но похоже, сколько ни начинай сначала, Виола при всех своих стараниях все равно оказывалась на том же месте; первоначальная схема ее натуры неизменно побивала все более поздние версии. Так зачем суетиться? Нет, в самом деле, зачем?
— Бессмысленно, — повторила она, сражаясь с оконной рамой, но шпингалет не позволял открыть ее более чем на пару дюймов, как будто власти предержащие поставили своей целью не дать выпасть из окна каким-то эльфам, а не полноразмерным, пусть и несколько усохшим старикам. Палата второго этажа выходила окнами на огромные промышленные мусорные баки, набитые бог весть какими ни на что не пригодными отходами.
Отец наверняка скучал по свежему воздуху: он никогда не любил сидеть в четырех стенах. Его влекло на природу. Природу он любил. В душе у Виолы вдруг вспыхнул огонек сочувствия, но она поспешила его затоптать.
В детстве отец почти каждую неделю вывозил ее на выходные за город и таскал на многомильные пешие прогулки, закармливая сведениями о цветах, деревьях и всякой живности. Боже, как ненавидела она эти вылазки на природу! Отец много лет вел какую-то колонку в безвестном сельском журнале. Конечно, реши она прислушаться — могла бы узнать много полезного, но она не прислушивалась из принципа: все равно он не мог сказать ничего такого, чем реабилитировал бы себя за то, что не уберег маму. Я к маме хочу. Отчаянный детский крик в ночи. («Ой, ради бога, преодолей это в себе», — требовала Берти. С точки зрения Виолы — излишне резко.)
— Ранее, говоря об отце, вы употребили слово «настороженно», — заметил Грегори. Естественно, он был очередным воплощением «Голоса Разума», который преследовал ее всю жизнь. — «Настороженно»? — поторопил Грегори.
— Я действительно употребила это слово?
— Да.
По ее предположениям, он пытался вытянуть из нее сведения о насилии или о чем-либо другом, столь же драматичном и травматичном. Но ее желание дистанцироваться от отца было вызвано иными причинами: осмотрительным отцовским характером. Его стоицизмом (да, опять это затертое слово), его бодряческой экономностью — пчелы, куры, овощи со своего огорода. Он загружал ее работой по дому («Я буду мыть, а ты вытирай»). Заставлял пускать в дело объедки («Так, что у нас в холодильнике: немного ветчины и пара отварных картофелин; сбегай-ка во двор, посмотри, нет ли там свежих яичек от наших пернатых подруг?»). А это его назойливое терпение, когда она вела себя как упрямая собачонка («Ну же, Виола, садись за уроки, а потом мы с тобой придумаем какую-нибудь награду»).
— Это звучит вполне разумно, Виола.
— Вам положено принимать мою сторону («Разумно»! Скользкое словцо).
— Неужели? — мягко удивился Грегори.
Найдется ли хоть кто-нибудь, способный посочувствовать ее скорбной повести? Из числа тех, кому она за это платит деньги.
— А после маминой смерти он обрезал мне волосы.
— Своими руками?
— Нет, отвел в парикмахерскую.
Нэнси водила ее в «Суоллоу энд Барри» на Стоунгейт, а потом они шли в кондитерскую «Беттиз», где ели меренги с кремом. Вчера вечером она тоже заказала там меренги. Очень приличные, но совсем не такие, как прежние меренги из ее детства.
На первом этаже «Суоллоу энд Барри» был маленький прилавочек, где продавались черепаховые гребни, зажимы ювелирной работы и благоухающие взрослые духи, а на втором этаже работал парикмахер, который всегда хвалил ее длинные волосы и аккуратно подравнивал кончики, чтобы стало «еще красивее». Это место дышало роскошью и излишеством, там все называли ее красавицей, все любили Нэнси, но после ее смерти отец заявил Виоле, что не сможет каждое утро заплетать ей косы и хочет, чтобы у нее была более «практичная» прическа; и вот он повел ее в отвратительную живопырку-цирюльню, ближайшую к дому. Стены там были выкрашены в сиреневый цвет; сейчас такое заведение назвали бы «Модельные стрижки» или «Завиток», а в те годы оно называлось «У Дженнифер», и Виола на всю жизнь запомнила, какой там стоял холод и как облезала со стен краска.
Ее там жутко обкорнали, новая прическа совсем ее не украшала, а только уродовала, отрезанные волосы остались валяться у Дженнифер на растрескавшемся полу. Никаких меренг в «Беттиз», только лимонно-ячменная вода и шоколадные трюфели дома. Она плакала, плакала и…
— А сами вы не умели причесываться?
— Простите?
— Вы сами не умели заплетать косички?
— Мне было всего девять лет. Естественно, как следует не умела.
Нэнси со всей тщательностью расчесывала ей волосы по утрам, а потом еще вечером, перед сном. Это были минуты их счастливого единения.
У Берти в детстве тоже были длинные волосы. Так получилось само собой, потому что она никогда не водила дочку в парикмахерскую. Виола помнила, с какими нервами и суетой выпроваживала детей в школу: Берти вечно копалась, а Санни упрямился. («Почему бы вам не вставать чуть пораньше?» — говорил отец. А она, между прочим, и так не высыпалась.) Берти терпеть не могла маленькую массажную щетку, которая действительно плохо подходила для расчесывания. Когда щетка дергала за волосы, Берти начинала ерзать и визжать, а в результате выходила из дому растрепой. Правда, особой роли это не играло, потому что училась она в вальдорфской гимназии, куда все дети приходили не слишком аккуратными.
Виола содрогнулась от этих давно растерянных воспоминаний, которые неожиданно выплыли на поверхность: как она орала на Берти — «Причесывайся сама, если не можешь постоять смирно!» — и швыряла щетку через всю комнату. Какого же возраста была тогда Берти? Лет шести? Семи?
Эх, Виола.
Эти воспоминания, обрушившиеся на нее как гром среди ясного неба, тоже кололи ее в самое сердце, и без того истерзанное вечерними гулянками. («Неужели я была такой никудышной матерью?» — спросила она у Берти. «А почему в прошедшем времени?» — ответила дочка вопросом на вопрос. Что посеешь, то и пожнешь.) Очередной укол. Трещина на поверхности зачерствелого сердца Виолы расширилась до излома. Укол, еще укол. Конечно, нельзя сказать, что никто ее не любил (но ощущение осталось именно такое), никто не отлучал ее от любви — она сама себя отлучила. А ведь была неглупа и хорошо это знала. Что же будет дальше, вопрошал Голос Разума. Не начать ли…
— Ой, заткнись ты, — устало проговорила Виола.
Когда Берти уехала погостить к деду, отцу Виолы («Я у него жила, а не гостила»), он по старой привычке повел ее в парикмахерскую, откуда девочка вернулась со старомодной асимметричной стрижкой, прихваченной пластмассовым ободком. И сообщила, что очень довольна, хотя Виола подозревала, что это говорится исключительно назло ей. «Зато она может сама следить за своим внешним видом», — сказал тогда отец. У него, конечно, был пунктик в плане самостоятельности, ответственности каждого человека за себя.
Отец захрапел.
— Мне все же хотелось бы уточнить насчет слова «настороженность», — не унимался Грегори.
Виола вздохнула:
— Наверное, я неудачно выразилась.
Ее отца все любили. Хороший. Добрый. Но она-то видела: он убил маму.
— Вы хотите об этом поговорить, Виола?
Невразумительные празднества вяло подходили к концу; в палату зашли двое санитаров и спросили:
— Спатки будем или нет, Тед? — Словно продекламировали детский стишок.
— Да уж, выключите свет, — подхватила Виола, и санитары рассмеялись, как будто услышали остроумную шутку.
Оба были филиппинцами («говорим по-тагальски») и смеялись по любому поводу. Неужели Филиппины — такой счастливый уголок? Или эти санитары просто радовались, что унесли оттуда ноги? Или не понимали, что им говорят? Было всего шесть часов вечера — детское время. Один из санитаров держал в руках мужской памперс; они терпеливо ждали, чтобы Виола вышла из палаты. («Уважение достоинства проживающих — один из наших главных принципов».)
Когда отца подмыли и укутали одеялом, Виола вернулась в палату попрощаться.
— На следующей неделе меня не будет, — предупредила она, хотя с ним, похоже, не имело смысла говорить о планах на будущее, да и вообще о чем бы то ни было. — Я даже домой не заеду, — добавила она. — Улетаю в Сингапур, на литературный фестиваль.
Отец пробормотал какое-то «С… н…».
— Да, там будет солнечно, — сказала она, хотя прекрасно понимала, что он имеет в виду совсем другое. Не «солнце», а «Солнце» — ее сына, Санни.
От Сингапура до Бали рукой подать, говорила Берти. Если уж лететь в такую даль, почему бы не повидать «родного сына»? (И у Берти еще поворачивался язык называть мать «пассивно-агрессивной»!) Всего-то четыре часа, но время и расстояние играли роль лишь постольку, поскольку их можно считать метафорами. Что Виола и делала.
— Ну ладно, я пошла, — сказала она, с облегчением взглянув на часы. — У меня такси заказано.
Она легко поцеловала Тедди в лоб; скорое расставание сделало ее почти нежной. Отцовский лоб был сух и прохладен, как будто уже наполовину забальзамировался и мумифицировался. Рука дрогнула; иного отклика Виола не получила.
Внизу, загораживая собой выход, топталась старуха из числа ходячих мертвецов, которая разглядывала площадку, где можно было бы разбить полноценный сад для проживающих, если бы не устроенная там служебная парковка. Старуху Виола узнала и даже вспомнила имя: Агнес. Когда отец перебрался в «Тополиный холм», она еще сохраняла рассудок и заходила к нему в палату поболтать. Теперь у нее был мутный рыбий взгляд, а с языка слетала какая-то чушь.
— Здравствуйте, — приветливо сказала ей Виола. По опыту она знала, как трудно общаться с тем, кто смотрит мимо тебя, как будто это ты — призрак, а не твой собеседник; но делать было нечего. — Вы не могли бы посторониться? Мне нужно выйти, а вы немного загораживаете проход.
Агнес что-то пробубнила, примерно как Берти, когда разговаривала во сне.
— Вам выходить запрещено. — Виола попыталась слегка отодвинуть ее с дороги, но Агнес приросла к месту, как корова или лошадь. Виола со вздохом изрекла: — Вам же хуже будет. — И набрала магический код (1-2-3-4).
Агнес шустро скользнула за порог; не успела Виола сесть в такси, как старуха уже пробежала половину подъездной аллеи. Можно было только восхищаться такой волей к свободе.
Новенькая медсестра неуклюже выскочила из дверей и обратилась к Виоле:
— Вы, случайно, не видели Агнес?
Пожав плечами, Виола сказала:
— Увы.
Уехав последним поездом в Лондон, Виола наутро пропустила подзаголовок в газете «Пресс». Новостное сообщение затерялось среди фоторепортажей об уличных гуляньях в минувшие выходные и о юбилейных празднествах. Виола так и не узнала, что «из дома престарелых исчезла страдающая болезнью Альцгеймера восьмидесятилетняя пациентка. На обочине магистрали № 64 ее заметил автомобилист; полиция пытается установить местонахождение женщины при помощи камер наружного видеонаблюдения. Имя пациентки стационара домашнего ухода „Тополиный холм“ не разглашается. По сообщению представителя администрации стационара, в настоящее время проводится масштабное расследование с целью выяснения обстоятельств, позволивших пациентке выйти из охраняемого корпуса; других сведений от администрации стационара не поступало».
Виола в это время находилась в сингапурском аэропорту Шанги. Еще одна беглянка.
От вокзала Кингз-Кросс Виола взяла такси до отеля «Мандарин Ориентал» в Найтсбридже. Она решила заблаговременно пригласить Берти встретиться в городе.
— Поужинаем? В «Диннере», у Хестона Блументаля, в «Мандарине»? — (Вот уж где вещи называются своими именами.){144} — Я угощаю!
— Прости, не смогу, — ответила Берти. — Я занята.
— Так занята, что с родной матерью встретиться не можешь? — игриво упрекнула Виола. («Что посеешь, то и пожнешь».)
К ней вернулся ужас субботнего вечера. Грегори заявил, что у нее «невроз покинутости». («Из-за того, что ты нас покинула?» — уточнила Берти). Виолу затошнило.
А предложи ей загадать три желания — что она выберет?
Чтобы ее дети вновь стали маленькими. Чтобы ее дети вновь стали маленькими. Чтобы ее дети вновь стали маленькими.
Где-то над Индийским океаном она вспомнила яркий сон минувшей ночи. Ее занесло на вокзал, причем не на современный, а на какой-то допотопный — темный, чадный. С ней был маленький Санни, в нелепом красном пальтишке с капюшоном, которое он носил лет в пять-шесть; на шее полосатый шарф. (Да, согласна, одевала она его нелепо, довольны?) На вокзале была толчея, люди спешили на поезд, чтобы разъехаться по домам. Всем мешал турникет рядом с будочкой контролера. К платформе спускалась лестница, но ни самой платформы, ни поезда видно не было. В обязанности Виолы и Санни входило сажать людей в поезд, покрикивая и направляя их в нужную сторону, как пастушьи собаки направляют скотину в загон. Толчея прекратилась, люди потекли тонким ручейком, да и тот вскоре иссяк. Где-то внизу захлопнулись двери поезда, проводник дал свисток, и Санни, просияв улыбкой, поднял к ней личико: «У нас получилось, мамуль! Все успели на поезд!» Виола не имела ни малейшего представления, как толковать этот сон.
— Вам нездоровится, миссис Ромэйн? — спрашивала милая китаяночка-стюардесса.
В салоне первого класса все с тобой милы. За это и стригут с пассажиров такие деньги, подозревала Виола. У нее по щекам катились слезы.
— Очень грустный фильм. — Она указала пальцем на пустой телеэкран. — Можно мне чашечку чая?
Пройдя паспортный контроль и получив багаж, она устремилась к выходу и покатила за собой чемодан. Перед ней с шуршаньем разъехались двери зала прибытия. За барьером стоял таксист, держа над головой табличку с ее именем. Виолу ждал очень приличный отель, а на завтра или послезавтра — куда-то подевался листок с программой пребывания — было назначено мероприятие под названием «Встреча с автором» и чтение «небольшого ознакомительного отрывка» из новой книги, «Каждая третья мысль», включенной в план следующего месяца. Вроде бы в программе числились еще два «круглых стола». «Роль писателя в современном мире» и «Массовая и художественная литература: ложный водораздел?» Что-то в этом духе. Литературные фестивали, книжные салоны, интервью, беседы в режиме онлайн — нужно же чем-то занимать людей. Но и себя тоже.
Виола приблизилась к водителю. Не назови она свое имя, он нипочем ее не опознает — ему невдомек, кто она такая. Обогнув таксиста, Виола как ни в чем не бывало пошла дальше, ступила на эскалатор, поднялась в зону вылета, отыскала стойку «Сингапурских авиалиний» и купила билет в Денпасар.
Она живо представляла выражение лица Санни («Сюрприз!»). Они всех отправят на поезд — у них получится. Уж как-нибудь.
30 марта 1944 Последний вылет Падение
Посвистев собаке, он тут же заметил в поле, раскинувшемся к западу от фермы, пару зайцев. Мартовские зайцы — в пору весеннего безумия они заправски боксировали в траве, как уличные бойцы. Тедди увидел еще и третьего. Потом четвертого. Когда-то в детстве на лугу в Лисьей Поляне он насчитал сразу семерых. Этот луг, как написала ему Памела, распахали под озимую пшеницу, чтобы в военное лихолетье прокормить голодные рты. Лен и шпорник, лютики и маки, первоцветы и маргаритки — все безвозвратно пропало.
Зайцы, вероятно, чуяли смену времен года, но Тедди не заметил наступления весны. По выцветшему небу тянулись блеклые облака. Их гнал резкий восточный ветер, долетавший с Северного моря через равнины, поднимая пыль над голыми, сухими бороздами. В такую погоду настроение падает до нуля, хотя Тедди слегка приободрился от заячьих боев и высокой, мелодичной песни черного дрозда, откликнувшегося неведомо откуда на его свист.
Услышала этот свист и собака. Фортуна всегда слышала свист и сломя голову мчалась к хозяину, пребывая в блаженном неведении относительно заячьего боксерского матча. Собака вполне освоилась в этой местности и бегала на свободе, но столь же свободно, судя по всему, чувствовала себя и у девушек-наземниц.
Поравнявшись с Тедди, Фортуна села и, задрав голову, уставилась ему в глаза — ждала дальнейших приказов.
— Пошли, — сказал ей Тедди. — Вечером у нас боевой вылет. У меня, — поправился он. — У тебя-то нет.
Больше повторять не пришлось.
Когда он обернулся, зайцев на прежнем месте уже не было.
Приказ из штаба бомбардировочного командования в Хай-Уикоме поступил утром, но лишь горстка людей на базе — и Тедди в их числе — были заранее оповещены о цели.
Его, как командующего крылом, не слишком часто посылали на задание, «а иначе каждую неделю будем лишаться одного комкрыла», говорил начальник базы. Все довоенные представления о Королевских ВВС давно перевернулись с ног на голову. Можно было в двадцать три года командовать крылом, а в двадцать четыре погибнуть.
Он служил третий срок. Мог на это и не подписываться, а вернуться к преподаванию, попроситься на кабинетную работу. Но на него, как написала Сильви, «напало безумие». В чем-то он с ней соглашался. На его счету было свыше семидесяти боевых вылетов; в эскадрилье многие считали его заговоренным. Вот так в наше время и рождаются мифы, думал Тедди: достаточно просто пережить других. Вероятно, в этом и заключалась теперь его роль: быть фетишем, носителем магии. Сберечь как можно больше ребят. Возможно, он и впрямь бессмертен. Для проверки своей теории он при любой возможности просился на боевые задания, невзирая на протесты начальства.
Он вновь оказался в той эскадрилье, где начинал службу, но теперь они обосновались не на комфортабельной довоенной базе с кирпичными постройками, как было в первые месяцы войны, а в сооруженном на скорую руку военном городке, где командный пункт размещался в хижине из рифленого железа и глины. Пройдет всего несколько лет с того момента, когда они покинут это место (а они определенно его покинут — Столетняя война и та в свое время подошла к концу), и здесь опять раскинутся поля. Бурые, зеленые, золотые.
Боевые вылеты он совершал на F-«фоксе». Машина хорошая, надежная, проверенная — на ней, побив теорию вероятности, один экипаж уже благополучно отлетал положенный срок, но Тедди питал к ней слабость еще и в силу «лисьего» прозвища, напоминавшего ему о доме. Правда, Урсула писала, что Сильви, прежде любившая, чтобы в Лисью Поляну наведывались лисицы, после успешного лисьего набега на курятник стала разбрасывать на лужайке отраву. «Доведись ей в следующей жизни родиться лисицей, — писала Урсула, — она горько об этом пожалеет». Урсуле, по ее словам, была близка идея реинкарнации, но уверовать в нее сестра, конечно, не могла. В том-то и загвоздка с верой, размышлял Тедди: по своей сути она невозможна. Сам он ни во что больше не верил. Ну разве что в деревья. В деревья, камни и воду. В бег оленя и восходы солнца.
Лисиц ему было жаль. Он ставил их выше куриного выводка. И выше многих людей, кстати сказать.
От Рождества в Лисьей Поляне он уклонился, сославшись на занятость по службе. Это была полуправда-полуложь; с матерью, рискующей переродиться в лису, он не виделся много месяцев: если вдуматься — с того неудавшегося обеда в Лисьей Поляне, после рейда на Гамбург. Тедди себя не обманывал: он потерял всякие нежные чувства к Сильви. «Такое бывает», — сказала Урсула.
Наземная команда всегда строго-настрого приказывала тем, кому разрешалось совершить вылет на F-«фоксе», чтобы «вернули командирский бомбер в целости и сохранности, не то хуже будет»; впрочем, техники считали машину своей собственностью и примерно теми же словами увещевали Тедди.
Порой Тедди совершал вылеты на развалюхах постарше, чтобы проверить свою теорию бессмертия. Его постоянная наземная команда терпеть не могла, когда он летал с новичками, с необстрелянными и с ненадежными. Иногда он брал на себя командование экипажами новобранцев, но чаще садился на место второго пилота и летел с ними для подстраховки. Это не считалось плохой приметой, вовсе нет. «Если тут командир крыла, с нами ничего не случится», — слышал он от ребят. А сам вспоминал Кита, который из суеверия кружился против часовой стрелки, но все равно не уцелел.
Он направился к запасной посадочной площадке, чтобы проведать F-«фокс» и его наземную команду.
Экипаж, с которым собирался лететь Тедди, готовился к своему боевому крещению. Их только сегодня утром доставили прямиком из УЧБП в Раффорте. За ними закрепили их собственную машину, но после испытаний в воздухе наземный экипаж объявил ее непригодной к эксплуатации; тогда Тедди предложил им F-«фокс», а заодно и себя. Мальчишки зашлись в щенячьем восторге.
Топливозаправщик уже наполнял крыльевые баки F-«фокса». По количеству топлива парни из наземной команды научились более или менее точно определять, куда направят машину, но никогда не обсуждали цель с летным составом. Держали свои догадки при себе. Видимо, из суеверия. Некоторые из них знали, что ночью не смогут заснуть и будут коротать время у себя в землянке, лишь урывками задремывая на раскладушке или даже на перевернутом ящике с инструментами в ожидании возвращения F-«фокса». В ожидании Тедди.
К самолету миниатюрным поездом потянулись вагонетки с бомбами; началась загрузка. На одной бомбе читалась надпись мелом: «Адольф, это тебе за Эрни»; Тедди не стал спрашивать, кто такой Эрни, а «нижние чины» ничего не сказали. Один механик, жизнерадостный ливерпулец, стоя на стремянке, драил плексиглас хвостовой башни «черными парусами» — так назывались панталоны, входившие в комплект нижнего белья девушек из вспомогательной наземной службы. Этот спец установил (как именно — лучше, пожалуй, не задумываться), что их материя идеально подходит для такого ответственного дела. Любую точку грязи, прилипшую к плексигласу, стрелок мог принять за немецкий истребитель и открыть огонь, выдав местонахождение своей машины. Завидев Тедди, механик спросил:
— Все в порядке, шкип?
Тедди как ни в чем не бывало дал утвердительный ответ. Спокойная уверенность — для командира такая манера держаться подходила как нельзя лучше: подчиненные заряжались оптимизмом. И еще имело смысл запомнить, кого как зовут. Почему бы и нет?
Неся долгие, темные ночные вахты, он дал клятву, потаенное обещание миру: если выживет, всегда проявлять доброту и вести порядочную, неприметную жизнь. Подобно Кандиду, выращивать свой сад. Неприметно. Это и будет его искуплением. Пусть его вклад в равновесие мира окажется легким как перышко, это и будет его платой за собственное везенье. Когда все закончится и придет время подводить итоги, вполне возможно, что чашу весов перевесит перышко.
Он отдавал себе отчет, что сейчас просто валяет дурака, а не занимается делом. В нем раз от раза нарастало беспокойство, умственное и физическое. Порой он ловил себя на том, что просто уплывает куда-то по течению, запутавшись не столько в думах, сколько в бездумности. Вот и сейчас его почему-то занесло на голубятню. Почтовых голубей держали в сарае за казармой экипажа, а следил за ними повар, заядлый голубятник, скучавший по своим птицам, которые остались в Дьюсбери.
Собаку пришлось оставить за порогом. Фортуна вечно тявкала на голубей, отчего те нервно хлопали крыльями; впрочем, таково было более или менее привычное состояние этих неутомимых, даже героических пернатых созданий. Теоретически считалось, что взятый на борт голубь способен принести сообщение на базу: якобы в случае аварийной посадки или прыжка с парашютом можно указать свое местонахождение, поместить записку в маленькую капсулу и доверить эту драгоценность птице. У Тедди были серьезные сомнения в том, что эти каракули как-то помогут разыскать вас на территории противника. Прежде всего требовалось указать точные координаты; да к тому же голубя ждали самые суровые испытания на пути к британским берегам. (Интересно, располагала ли та девушка из министерства ВВС какой-либо статистикой по этому вопросу?) Достаточно сказать, что вдоль всего побережья Франции немцы держали ястребов для перехвата несчастных голубей.
А кроме всего прочего, требовалось в нужный момент извлечь голубя из переносной корзины, стоящей в фюзеляже, и запихнуть в специальный контейнер величиной не более термоса (одно это чего стоило). Чтобы в бешеной спешке покинуть подбитый борт, нужно было как минимум достать и надеть парашют, застегнуть пряжки, открыть аварийные люки, вытащить раненых — и все это в горящем, неуправляемом самолете. Кто в такие отчаянные последние секунды вспомнит о бедных голубях? Можно было только гадать, сколько их, беспомощных, сгорело в этих плетеных ловушках, утонуло или просто превратилось при взрыве в облачко перьев. Все экипажи знали, что командир крыла вообще не разрешает брать на борт голубей.
Тихое воркование, землистый аммиачный запах и царивший в сарае полумрак действовали на Тедди как успокоительное. Он вытащил из вольера самую сговорчивую птицу и бережно погладил. Та не противилась. Когда Тедди возвращал ее обратно, птица пристально посмотрела на него глазами-бусинами, и он даже подумал: что у нее на уме? По сути, ничего, предполагал Тедди. Фортуна, поджидавшая снаружи, в лучах резкого солнечного света, подозрительно обнюхала хозяина, ища признаки измены.
Близилось обеденное время, и Тедди направился к столовой летного состава. Аппетита у него нынче не было, но он исправно запихивал в себя еду. Некоторые блюда вообще не лезли в горло, например тяжелая запеканка с черносливом, которая значилась в меню как «пудинг бисквитный паровой». Он с удовольствием вспоминал так называемый «фар Бретон», который ел под жарким французским солнцем. У французов даже из чернослива получалось объеденье. После вынужденной посадки в Элвингтоне, где базировались французские части со своими поварами-французами, Тедди обнаружил, что рацион у них куда изысканней, чем в столовой Королевских ВВС. Более того, еду запивали вином — пусть алжирским, но вином. Там бы никто смотреть не стал на «пудинг бисквитный паровой».
После обеда летный состав отдыхал: ребята писали письма, состязались в дартс или слушали в столовой радиоприемник, настроенный, как всегда, на военную волну Би-би-си. Некоторые легли поспать. Многие накануне вылетали на боевое задание и добрались до своих коек только после рассвета.
Между тем пилотов и штурманов вызвали на предварительный инструктаж, где обрисовали им цели. Для бортрадистов и бомбардиров инструктажи проводились отдельно. Тедди подозревал, что по причине яркой луны и отсутствия облачности операцию могут отменить, но вскоре, с наступлением светлого времени года, протяженные рейды на Германию грозили сделаться невозможными. По его прикидкам, нынешние вылеты были последней для Харриса возможностью триумфально отметиться в битве за Берлин. Долгая череда изматывающих зимних рейдов, сопряженных с большими потерями, была на исходе. За истекший месяц над Лейпцигом было сбито семьдесят восемь самолетов, а над Берлином за одну неделю — семьдесят три. С ноября потери в живой силе составили почти тысячу человек. Все до единого — молодые ребята. «Лесные цветы» — так называлась траурная мелодия, исполнявшаяся на похоронах штурмана-канадца, с которым Тедди и Мак познакомились в самом начале службы. Уолтер. Уолт. По прозвищу Дисней. Тедди не припомнил его полного имени. Казалось, это было так давно, а на самом деле — только что.
Командир эскадрильи поручил им сопровождать тело в Стоунфолл и нести гроб. В Лидсе нашли шотландца-волынщика, чтобы сыграл на похоронах. Диснея убило над Бременом. Штурман-бортинженер вынужден был ориентироваться по звездам: карты Диснея насквозь пропитались его кровью и сделались непригодными.
Они сжигали уже сожженные деревни, бомбили уже разбомбленные города. Задумано-то было неплохо. Разбить противника в воздухе и спасти мир от ужасов наземной войны — от Ипра, Соммы, Пашендаля. Но идея эта не сработала. Противника повергали наземь, а он поднимался вновь, как в кошмарных снах: на поле Ареса прорастали бесчисленные всходы драконовых зубов.{145} А птиц все бросали и бросали в стену. А стена все не падала.
В эскадрилью нагрянул вице-маршал авиации. На груди — «яичница» из орденов и нашивок. «Хочу, чтобы личный состав узнавал меня в лицо», — заявил он. Лица его Тедди не припоминал.
Сейчас его мысли занимала Нэнси. Утром от нее пришло письмо, как всегда многословное, но при этом бессодержательное (тоже как всегда), а в конце — приписка насчет их помолвки и готовности Нэнси «все понять, если чувства его переменятся». («Ты так редко пишешь, дорогой мой».) Не хотела ли она тем самым сказать, что переменились ее собственные чувства?
Его раздумья прервал начальник базы: «Готов, Тед?» — и они отправились в инструкторскую вслед за решительно шагающим вице-маршалом. Его сопровождала шикарная девушка-водитель из вспомогательной службы; Тедди не знал, что и думать, когда эта красотка ему подмигнула.
Прибывающие экипажи проходили через кордон военной полиции; фамилии отмечались в списке. Когда все собрались, двери были заперты, а окна закрыты ставнями. Вице-маршальская водительница осталась топтаться за порогом. Перед каждой операцией меры безопасности усиливались. Выходить за пределы базы и звонить по телефону запрещалось. Все делалось для того, чтобы сохранить в тайне цель операции, хотя ребята шутили: хочешь узнать цель — загляни в бар «Беттиз». А если серьезно, то немцы вели их с момента взлета. Прослушивали их радиочастоты, глушили радионавигационные системы, отслеживали самолетные радары и ловили в сети уже своих радаров, тянувшихся вдоль европейского побережья. Навязывали ближние бои, наносили удар за ударом.
В инструкторской, размещенной в ниссеновском ангаре, при их появлении загрохотали стулья: экипажи — в общей сложности более ста двадцати человек — вскочили со своих мест и вытянулись по стойке смирно. В этом прокуренном помещении всегда было душно. Стулья вторично загрохотали и заскребли по полу — присутствующие рассаживались по местам. Настенную карту загораживала черная занавеска, которую начальник базы эскадрильи всегда отдергивал театральным жестом, как фокусник, прежде чем произнести сакраментальные слова: «Джентльмены, сегодня ваша цель…»
Нюрнберг? — недовольно повторили опытные бойцы; откуда-то донеслось «господи» и «боже правый»; австралийцы, не стесняясь «яичницы», зашипели «ччччерт». Полет предстоял длительный, втрое дольше, чем до Рура, причем в самое логово врага. Красная указательная ленточка натянулась до цели, как струна, без привычных зигзагов.
Старший офицер разведки, строгая и очень ответственная девушка из Женской вспомогательной службы, поднялась со своего места и рассказала о важности этой цели, которую долгих семь месяцев не бомбили, да и раньше ущерба особого не нанесли, хотя там размещались огромные казармы СС, а также «знаменитые» оружейные производства «МАН», и теперь, когда разрушены заводы Сименса в Берлине, Нюрнберг наращивает выпуск прожекторов, электромоторов «и так далее».
Сам город, продолжала девушка в офицерских погонах, стал своего рода символом: он находится в сердце врага, Гитлер устраивает там массовые митинги. Операция подорвет боевой дух противника. Удары будут наноситься по железнодорожным депо, но заденут и средневековый Старый город — Altstadt (она неумело воспроизвела немецкое произношение). Боезапас будет включать большое количество зажигательных бомб, и старые деревянные постройки заполыхают, как щепа.
В Альтштадте родился Дюрер. У Тедди перед глазами с детства были две репродукции с гравюр Дюрера. Они висели в утренней гостиной Лисьей Поляны: одна изображала зайца, другая — пару рыжих белок. «Разведчица» не упомянула Дюрера, ее больше занимало расположение зенитных установок и прожекторов, отмеченных на карте зелеными и красными целлулоидными накладками. Бойцы насторожились; от вида натянутой красной ленты всем стало не по себе.
Но не меньше тревожила их луна; тревожила она и Тедди. Необычайно яркий полумесяц обещал сиять в долгой, темной ночи, как новенькая монета. Настроение у них совсем упало, когда им сообщили, что лететь придется через кёльнский разрыв. В это время года, внушали им, там «вряд ли» можно ожидать сильной обороны. Да неужели? — подумал Тедди. Маршрут проходил вдоль рурских и франкфуртских линий обороны, где располагались аэродромы ночных перехватчиков и прожекторные установки «Ида» и «Отто», вокруг которых барражировали немецкие истребители, как ястребы, подстерегающие голубей.
Слово взял начальник метеорологической службы; он сообщил прогнозы скорости ветра, облачности и других погодных условий. Подчеркнул, что «есть вероятность» довольно плотного облачного слоя, который, «возможно», закроет их от истребителей на пути туда и обратно. При слове «вероятность» они заерзали на стульях. При слове «возможно» задергались. Да и слово «довольно» не предвещало ничего хорошего. Над целью небо будет ясным, сказал он, хотя первые самолеты наведения уже сообщили о кучевых облаках на высоте восьмисот футов, но эту информацию не довели до сведения экипажей. Им требовалось совершенно противоположное: облачность на длинном отрезке пути туда, чтобы скрываться от истребителей, и яркая луна над целью.
Начбазы признался Тедди, что убежден: предстоящую операцию отменят. Тедди не понял, откуда такая уверенность. Черчилль одобрял эту цель. Харрис одобрял эту цель. А Тедди не одобрял. Но подозревал, что ни Черчилля, ни Харриса не заинтересует его мнение.
Начальники служб высказали пару дельных замечаний. Штурманам продемонстрировали маршрут и поворотные точки. Радистам напомнили частоты на эту ночь. «Бомбоголовые» уточнили бомбовую нагрузку, соотношение фугасных бомб и зажигательных, хронометраж атак и цвета дымовых маркеров, на которые следовало ориентироваться при сбросе бомб. Всем напомнили цвета этого дня. У всех на слуху были рассказы об экипажах, сбитых дружественным огнем из-за показа неправильных цветов дня.
Затем встал Тедди. Постоянная скорость в двести шестьдесят пять миль при ярком лунном свете над хорошо укрепленной территорией противника, без надежды на облачное прикрытие. Чтобы совсем уж не сломить настрой подчиненных, он (спокойный, уверенный командир) постарался смягчить тревожные факты: вновь подчеркнул важность этого города как промышленного и транспортного центра, оплота боевого духа противника и так далее. На протяжении длинного отрезка пути имеются и другие потенциальные цели, которые перетянут на себя часть истребителей от кёльнского разрыва. Прямой перелет обманет противника своей простотой, отсутствие зигзагов сэкономит топливо, а это значит, что бомбовую нагрузку можно увеличить. А попросту говоря, устанем меньше, до цели доберемся быстрее, а чем быстрее доберемся до цели, тем раньше отстреляемся и вернемся. Только идти надо плотным строем. Постоянно.
Он сел. Ему доверяли, он это видел по осунувшимся лицам. Пути назад у них так или иначе не было, так лучше их приободрить. Нет ничего хуже, чем вылетать на задание как на заклание. Тедди помнил Дуйсбург, последний вылет своего первого срока службы: как нервничали ребята, предвидя полный рот земли. Для двоих эти опасения оправдались: для Джорджа и Вика. Из первоначального экипажа J-«джокера» уцелели только сам Тедди и Мак. От Мака пришло письмо с сообщением о его женитьбе, поездке в свадебное путешествие на Ниагару и «скором прибавлении». Для Мака война закончилась.
Кенни остался на службе: он стал преподавать в училище, где готовили бортстрелков, и черкнул Тедди малограмотное письмецо: «Я учу других! Кто б мог подумать?» Примерно через месяц он оказался в самолете, который разбился над своей территорией при возвращении с учений. Тогда уцелело трое. Кенни среди них не было. От одной из его многочисленных сестер Тедди получил письмо: «Младшенький наш Кенни теперь на небесах», и почерк был почти как у бедняги Кенни. Если бы так, думал Тедди, если бы только ряды спенсеровского «лучезарного воинства»{146} пополнялись личным составом бомбардировочного командования. Но нет. Мертвые — мертвы. Имя им легион.
Лучше бы Кенни оставил себе ободранную черную кошку, а он передал ее дочке Вика Беннета. Письмо пришло с запозданием, причем не от Лил, а от миссис Беннет, сдержанно-гордой новоиспеченной бабушки: «Девчушка собой не красавица, но нам приглянулась». Значит, Маргарет, а не Эдвард; Тедди испытал только облегчение оттого, что не обзавелся тезкой. «Маргрит, оттого ль грустна ты, что пустеют рощ палаты?»{147}
Начальник базы произнес напутственные слова, вице-маршал добавил отеческие ремарки, к которым обязывала полновесная «яичница», а стоявший у выхода медик выдал каждому тонизирующие пилюли, чтобы не клонило в сон. Вот и все.
По традиции ближе к ночи устроили «тайную вечерю», хотя на этот раз — не особо торжественную: сосиски с резиновой глазуньей. Без намека на бекон. Тедди вспомнил, какого поросенка подавала Сильви, как пахла жареная свинина.
Теперь они были отрезаны от мира; это паршивое время — мысли заслоняют все остальное. В офицерской столовой Тедди сыграл пару партий в домино с кем-то из капитанов. Бездумность этого занятия устраивала обоих, но, когда настало время собираться, оба только вздохнули с облегчением.
Шерстяное белье, гетры, джемпер с высоким воротом, полукомбинезон, унты из овчины, три пары перчаток: шелковые, замшевые, шерстяные. Половину обмундирования составляли гражданские вещи. От этого кое-кто приобретал бесшабашный, почти пиратский вид, но все впечатление портила походка: враскорячку, как в подгузниках. А когда сверху надевалась кожаная куртка на меху и подвесная система парашюта, передвигаться вообще становилось крайне тяжело.
Проверить свисток на вороте, жетон на шее. Получить у наземниц термос с кофе, сэндвичи, леденцы, жвачку, шоколад. Им полагался также бортовой аварийный комплект: напечатанные на шелковых шарфах или носовых платках карты тех стран, над которыми проходил полет, местная валюта, встроенный в авторучку или пуговицу компас, листок с обиходными фразами. У Тедди сохранился обрывок бумажки, оставшийся после долгого рейда на Хемниц, когда оставались опасения, что в случае вынужденной посадки их подберут русские и, не долго думая, поставят к стенке. На том клочке бумаги было (якобы) написано: «Я англичанин».
Они получили парашюты, и симпатичная наземница протянула Тедди шелковый платочек, застенчиво говоря:
— Возьмите, пожалуйста, его с собой, сэр. Тогда я смогу говорить, что летала над Германией и бомбила врага.
На Тедди повеяло сладковатым ароматом.
— «Апрельские фиалки», — объяснила девушка.
Прямо как храбрый рыцарь, заслуживший благосклонность прекрасной дамы, подумал Тедди, засовывая платочек в карман. И больше его не видел. Наверное, выронил где-нибудь. Рыцарские романы давно закончились.
Каждый вытряхнул из карманов все мелочи, по которым его можно было опознать. Это действие всегда виделось Тедди символичным: как пересечение черты, за которой растворяются индивидуальности и появляется летный состав, анонимный, взаимозаменяемый. Англичане. А также «антиподы», «киви», «кануки». Индийцы, ямайцы, южноафриканцы, поляки, французы, чехи, родезийцы, норвежцы. Янки. По сути, вся западная цивилизация поднялась против Германии. Оставалось только удивляться, как в таком положении оказалась родина Бетховена и Баха и как бы они к этому отнеслись. «Люди — братья меж собой». Вопрос Урсулы: «По-твоему, это сбудется? Хоть когда-нибудь?» Нет. Он так не считал. Если серьезно — нет.
В дверях сборного пункта появилась наземница, выкликнула F-«фокс» и L-«лондон», и экипажи потянулись к старому рыдвану, на котором она за ними приехала. Транспорт порой оказывался таким же разношерстным, как их обмундирование.
Фортуна была поручена заботам одной из самых привлекательных наземниц, радиотелефонистке по имени Стелла. Стелла ему нравилась, он даже думал с ней замутить. На прошлой неделе он водил ее на танцы в соседнюю эскадрилью. По возвращении она клюнула его в щеку и сказала:
— Спасибо, сэр, было очень здорово. — И ничего более.
Накануне у них на базе произошел кошмарный случай: девушка-наземница была обезглавлена лопастью винта. Тедди даже сейчас содрогался от этих воспоминаний. Это происшествие подкосило всех, особенно — естественно — наземниц. Стелла была славной девушкой, любила собак и лошадей. Иногда ужасы войны подталкивали к сексу, иногда нет. Трудно было угадать, по какой причине отношения складываются так, а не иначе. Он жалел, что не переспал со Стеллой, и хотел бы знать, испытывала ли она подобное сожаление. У него был короткий — очень короткий — роман с ее подругой Джулией. Там секс был в изобилии. Причем очень качественный. Тайные воспоминания.
Доехав до аэродрома рассредоточения, где ждал F-«фокс», они вышли из автобуса. Даже сейчас Тедди ожидал увидеть красный свет — сигнал отмены рейда. Но этому, как видно, не суждено было сбыться, поэтому Тедди, действуя по заведенному порядку, показал самолет новому пилоту, бортинженеру и наземному экипажу. Бортинженера зовут Рой, напомнил себе Тедди. Стрелок верхней средней башни оказался канадцем по имени Джо, в хвостовой части сидел «чарли» — его и звали Чарли, легко запомнить. Щуплый, как двенадцатилетний мальчонка. Плексиглас хвостовой башенки сейчас начисто полировали «затемнителями».
Тедди пустил по кругу пачку сигарет. Не курил только наводящий.
— Клиффорд, — подсказал он, когда увидел, что Тедди безуспешно пытается припомнить его имя.
— Клиффорд, — негромко повторил Тедди.
В наземном экипаже каждый дымил как паровоз. Тедди мечтал когда-нибудь взять этих парней в полет, в какой-нибудь безопасный, с гарантированным возвращением на базу. Жаль, что им не довелось испытать, как ведет себя «их» машина, какой вид открывается за этим отполированным плексигласом. В конце войны военно-воздушные силы практиковали «туристические вылеты»: катали наземные экипажи над Германией, чтобы те посмотрели на разрушения, которым непосредственно способствовали. Урсула тоже смогла совершить аналогичный вылет. Тедди понятия не имел, как ей это удалось, но почему-то не удивился. Для его сестры война оказалась хорошим средством постижения бюрократических игр. Как страшно, сказала Урсула, видеть страну в руинах.
Новички Тедди помочились на шасси F-«фокса» и немного смутились, сообразив, что Тедди не собирается участвовать в этом сугубо мужском ритуале. Тедди был для них садху, гуру. Он мог отдать приказ залезть на крышу диспетчерской башни и организованным порядком спрыгнуть вниз — они бы не спорили. Со вздохом он повозился с многослойным обмундированием и нехотя окропил шасси. Салаги переглянулись с плохо скрываемым облегчением.
Потом наземный экипаж попрощался со всеми за руку, оптимистично, но без показухи. «Счастливо, утром увидимся».
Перед вылетом Тедди остановился рядом с пилотом. Пилота звали Фрейзер, он родился в Эдинбурге и учился в университете Сент-Эндрюс. Еще один шотландец, но совсем не такой, как Кенни Нильсон. Он не летел подсадным вторым пилотом: его подстраховывал сам командир крыла. Тедди вспомнился W-«уильям»: «Вылетел в 16:20 и не вернулся. Экипаж считается пропавшим без вести».
Двигатели «бристоль-геркулес» завывали, когда винты совершали несколько первых дерганых вращений перед тем, как выйти на рабочий режим, а потом их вой переходил в знакомое стаккато. «Хорошие двигатели», — сказал Тедди Фрейзеру, когда они производили проверку. Фрейзер по долгу службы интересовался техникой бомбометания.
Внешний по левому борту, внутренний по левому борту, затем внутренний по правому борту, внешний по правому борту. По окончании проверки падение оборотов при работе двигателя на одном магнето, давление масла и прочее — Фрейзер запросил разрешения на выруливание. Он покосился на Тедди, как будто получить «добро» от него было не менее важно, чем от диспетчерской, и Тедди поднял вверх большой палец.
Стояночные колодки были убраны, и машина двинулась вперед, чтобы присоединиться к процессии на внешней границе аэродрома. Двигатели пульсировали и рокотали, их вибрация пробирала до костей, устремляясь к сердцу и легким. Тедди виделось в этом нечто поразительное.
Пятые в очереди на взлет, они вывернули на дорожку, включили форсаж, напряглись в ожидании, как борзые перед заслонкой, и приготовились сорваться с места по зеленому сигнальному свету. Тедди все надеялся, что на диспетчерской вышке загорится красный — знак отмены операции. Но этого не произошло. Иногда их отзывали на базу и после вылета. Но не в этот раз.
Возле участка выравнивания, у автоприцепа диспетчеров, как водится, собрались провожающие. Наземницы разных специальностей, кухонные работники, аэродромная команда. Присутствовал там и вице-маршал авиации, который салютовал каждому проносящемуся мимо самолету. Идущие на смерть не отдают ответного салюта, подумал Тедди. Вместо этого он показал большой палец Стелле, державшей на руках Фортуну: девушка взяла собаку за переднюю лапу и помахала. По меркам Тедди это было лучше салюта любой «яичницы». Он рассмеялся, и Фрейзер взглянул на него в тревоге. Взлет — дело серьезное, особенно если для тебя это первый боевой вылет, а вторым пилотом у тебя командир крыла. И этот командир крыла позволяет себе какие-то причуды.
Зеленый сигнал не заставил себя ждать, и машина перекормленной птицей пустилась до дорожке, разгоняясь до требуемой скорости в сто пять миль в час, при которой двенадцать тонн металла, и топлива, и бомб отрываются от земли. Тедди помог с рычагами двигателей и, когда Фрейзер потянул штурвал на себя, испытал привычное облегчение: F-«фокс» с натугой оторвался от земли. Тедди невольно дотронулся до лежавшего в нагрудном кармане серебряного зайца.
Они мчались по направлению к ферме, и Тедди поискал глазами фермерскую дочь, но безуспешно. Его пробрал холодок. Она всегда бывала в поле зрения. В сумерках он видел плоские поля, голую бурую землю, темнеющий горизонт. Фермерский дом. Фермерский дом. Они заложили вираж и начали кружить, выстраиваясь в боевой порядок перед полетом в сторону побережья, и когда левое крыло накренилось, Тедди наконец-то увидел ее. Она смотрела на них, задрав голову, и махала наугад — махала им всем.
Эскадрильи, которые базировались на севере, вынуждены были стартовать на час раньше «южан», чтобы успеть к точке сбора. У экипажа оставалось более или менее достаточно времени на рутинные дела. В воздухе они ни минуты не сидели сложа руки, и мрачное самокопание, которому они могли предаваться на земле, отступало. Бортинженер синхронизировал двигатели, подсчитывал запасы топлива, переключался с бака на бак. Включил опознаватель «свой — чужой». Радист развернул выпускную антенну, штурман склонился над картой, уточняя ориентиры, сравнивая действительный ветер с данными синоптиков. Над морем бомбардир стал выпускать «облако». Они по-прежнему летели с навигационными огнями, и Тедди видел красное и зеленое мерцание на законцовках крыльев других самолетов.
Над Северным морем они продолжали набирать высоту. Волны освещались луной, и крылья F-«фокса» блестели серебром. Все равно что в луче прожектора. Стрелки́ короткими очередями испытывали над водой «браунинги». В бомбы вставили запалы, навигационные огни выключили. На высоте пяти тысяч футов все надели кислородные маски, и до Тедди по громкой связи донесся знакомый шелест дыхания.
Над Бельгией их подгонял попутный ветер. Хорошая видимость позволяла разглядеть другие самолеты эшелона бомбардировщиков. Рейд был близок к тому, чтобы считаться дневным, — Тедди еще в таком не участвовал. Его жизнь протекала ночами. Бессонная луна отражалась в реках и озерах, остававшихся внизу, и миля за милей освещала путь экипажу. «Она легка и не робка».{148} Хью раньше любил пластинки Гилберта и Салливана. У них в деревне, в местном зале собраний, давали любительское представление «Микадо», в котором их отец, к общему изумлению, взял на себя роль Ко-Ко, лорда-палача. Привлеченный диаметрально противоположным характером, он зловеще ухмылялся и с надменным видом вышагивал по сцене. «Прямо Джекилл и Хайд», — говорила Сильви. Миссис Шоукросс в той постановке сыграла престарелую придворную Катишу. Опять же лицедейское откровение.
Они достигли первого поворотного пункта близ Шарлеруа — и вскоре началась бойня.
Истребители, как сердитые осы, чье гнездо кто-то осмелился разворошить, были повсюду. Столкнуться с ними так рано и в таком количестве — это был настоящий шок. Да что там потревоженное гнездо — в засаде, казалось, поджидал целый разъяренный рой.
— Вижу падающий горящий самолет слева по носу, — доложил верхний стрелок.
Стоя рядом с Фрейзером, Тедди повсюду видел сбитые машины. Взрывы озаряли небо слепяще-белыми вспышками.
— Это пугалки, сэр? — спросил бомбардир-наводчик.
Командиром звали Фрейзера, так что к Тедди экипаж стал обращаться «сэр», чтобы не возникало путаницы. Все они, по слухам, знали, что немцы используют «пугалки» — зенитные снаряды, имитирующие взрывы бомбардировщиков, — но Тедди верилось в это с трудом. Уж слишком хорошо были ему знакомы эти ослепительно-белые вспышки, изрыгающие грязное, маслянистое пламя. А необстрелянные мальчишки прежде не видели, как падает сбитый бомбардировщик. Крещение огнем, подумал Тедди.
Одни подбитые машины, снижаясь, кружили, как листья, другие падали камнем. По левому борту, извергая огненные ручьи горящего бензина, возник собрат-«галифакс», все четыре его двигателя пылали; находился ли еще на борту экипаж — разглядеть не удалось. Внезапно крылья его сложились, как книжка, и он мертвой птицей упал с неба.
— Сожалею, но это не «пугалка», а самолет, — сказал Тедди и услышал по громкой связи охи ужаса.
Пусть бы лучше ребята пребывали в заблуждении. Самолеты загорались повсюду вокруг, а то и сразу взрывались — экипаж подчас даже не замечал атаки. Стрелок средней верхней башни продолжал вести счет, а штурман делал пометки в бортовом журнале. В конце концов Тедди вмешался: «Прекратить», потому что их дыхание выдавало нарастающую панику.
На левом траверзе мелькнул самолет, охваченный пламенем от носа до хвоста; летел он прямо, но вверх тормашками. А Тедди заметил, как «ланкастер» вспыхнул белым огнем и упал на пролетавший ниже «галифакс». Кружась гигантской искрящейся мельницей, они в сцепке полетели вниз. Увидел Тедди вроде бы и сбитый самолет наведения, который при ударе о землю вспыхнул зелеными и красными, будто карнавальными, всполохами. Никогда еще у него на глазах не бывало такой мясорубки. Прежде самолеты падали где-то вдалеке, как загоревшиеся и тут же умершие звезды. Экипажи попросту убывали, не приходили утром на завтрак — и все; никто особо не задумывался, как именно они покинули эскадрилью. Страх и кошмары их последних мгновений оставались незримыми. Теперь же они неотвязно следовали рядом.
При виде самолета наведения Тедди крепко озадачился. Этой машине полагалось лететь впереди главных сил. Либо она сбилась с курса, либо самолет Тедди оказался не в том месте. Он приказал штурману еще раз проверить ветер. Тедди казалось, что их отнесло к северу от красной ленты. Штурман ответил без особой уверенности. Тедди невольно пожалел, что с ними нет опытного Мака.
Горящие обломки сбитых самолетов усеивали землю миль на пятьдесят-шестьдесят.
Потом, будто новое доказательство мифа о «пугалках», по правому траверзу они увидели, что к «ланкастеру», освещенному, как мощным прожектором, беспощадной луной, осторожно подбирается снизу немецкий истребитель, невидимый хвостовому стрелку. Орудие истребителя было направлено вверх{149} — такое Тедди видел впервые. Ну конечно: а иначе почему так много машин падало как будто ни с того ни с сего? Пушки, казалось бы, смотрели в уязвимое брюхо бомбардировщика, но случись им попасть в крыло, где находились топливные баки, — и у бомбардировщика не оставалось ни малейшего шанса уцелеть.
Тедди беспомощно наблюдал, как истребитель открыл огонь и стремительно вильнул в сторону от своей жертвы. Крылья «ланкастера» взорвались протуберанцами белого огня, и F-«фокс» содрогнулся от килевой качки.
Не успели они опомниться, как по тонкому алюминию фюзеляжа заскребла и застучала орудийная очередь и машина вдруг свалилась в отвесное пике. Тедди подумал, что это Фрейзер пытается уйти от истребителя, но, взглянув в его сторону, с ужасом увидел, что тот навалился корпусом на панель управления. Крови не было — пилот как будто спал.
По громкой связи Тедди закричал о помощи: у него не было возможности добраться до рычагов, пока их закрывало бесчувственное тело пилота, а между тем гравитация бетонной плитой давила на голову.
И радист, и бортинженер стали пробираться вперед, чтобы оттащить неподвижного Фрейзера. Кресло пилота располагалось довольно высоко и плотно охватывало все тело, да еще и в полном обмундировании. Вытащить оттуда человека было почти невозможно; Тедди примостился на краю сиденья и в какой-то момент подумал, что ему придется, скрючившись, сесть на колени бедняге Фрейзеру. Они сообща чудом извлекли пилота из кресла, и Тедди занял его место. Хорошо еще, что крови там действительно не было.
Они со свистом неслись к земле со скоростью трехсот миль в час и практически отвесно. Тедди проорал команду бортинженеру, и они вдвоем навалились на штурвальную колонку, удерживая ее из последних сил. Была опасность, что крылья просто отвалятся, но через несколько секунд, показавшихся вечностью, они совместными усилиями кое-как привели в действие рули высоты и выровняли носовую часть, готовясь подняться как можно выше.
По громкой связи неслась матерная брань; Тедди проверил экипаж и твердо сказал:
— Пилот выведен из строя. Принимаю командование на себя. Штурман, проложить новый курс на цель.
Только небесам были известны их теперешние координаты, да и то вряд ли.
Радист и бортинженер уже отволокли Фрейзера на топчан.
— Он еще дышит, командир, — доложил радист.
Тедди отметил, что «сэр» уже не говорится. Он стал командиром. Капитаном.
Отчаянной скороговоркой стрелок обратил внимание Тедди на нечто такое, чего тот прежде не видел. Следы от самолетов, как в разреженном воздухе. Обычно они появлялись лишь на высоте двадцати пяти тысяч футов, но сейчас тянулись за бомбардировщиками повсюду. Эти инверсионные следы не хуже ярких транспарантов обозначали каждую машину как цель, причем еще ярче, чем луна, если такое было возможно.
Эшелон бомбардировщиков давно стал разваливаться. Более опытные пилоты понимали, что самое безопасное место становится самым опасным. Тедди взял в сторону и выше. «Только идти надо плотным строем. Постоянно». Его напутствие экипажам. Он надеялся, что парни не будут слепо выполнять его инструкции. Тедди изо всех сил старался набрать высоту. F-«фокс» не был рассчитан на такую высоту, как «ланкастеры», но в разреженном воздухе и при исправных двигателях достигал сопоставимых результатов. Но несмотря ни на что, их засекли.
— Один приближается, командир.
— Понял, штурман.
— Девятьсот футов… Восемьсот… — Штурман считывал расстояние до приближающейся точки с экрана радара. — Семьсот… шестьсот…
— Еще что-нибудь видите, стрелки?
— Нет, командир. — Оба в один голос.
— Пятьсот… Четыреста…
— Вижу его, командир, — доложил стрелок средней верхней башни. — Сверху и слева. Уходим влево и вниз, уходим, уходим!
— Прибавить обороты, бортмеханик.
— Прибавлено сто, командир.
— Держитесь! — предупредил Тедди, заваливая машину на левое крыло и резко опуская нос.
Перегрузка вдавила его в кресло. Они пошли по спирали вниз, альтиметр раскручивался, пока в нижней точке спуска Тедди не накренил самолет вправо, вернул элероны в нейтральное положение, и машина с натугой пошла вверх. Тедди искал облачность, где можно было бы спрятаться, но стрелок верхней средней башни закричал:
— Сверху и справа! Уходим вправо и вниз, уходим, уходим!
Иногда одной лишь создаваемой турбулентности хватало, чтобы сбросить истребитель с хвоста, но этот держался. Как только они вновь набрали высоту, раздался крик хвостового стрелка:
— Бандит сзади слева! В левый штопор!
«Браунинги» стрелков били без остановки, наполняя самолет едкой вонью кордита. В небе вокруг F-«фокса» стало тесно от трассирующих пуль и снарядов. Тедди закручивал правый штопор и левый вираж, прорывался обратно на высоту, бросал тяжелый бомбардировщик из стороны в сторону — лишь бы оторваться от истребителя. От одного лишь физического напряжения, требующегося для всех этих маневров, он чувствовал себя полумертвым. Нужда заставит, слышал он голос матери. У стрелков закончились боеприпасы, но тут стрелок средней верхней башни доложил:
— По левому борту от бандита оторвались, командир. — А потом: — Бандит по правому борту тоже отвалил.
Выбрал себе другую жертву, подумал Тедди, а вслух сказал:
— Молодцы, стрелки́.
Удача им изменила. До цели они так и не дотянули. Тедди даже не знал, сумели бы они ее найти или нет. Многие не сумели, как он узнал впоследствии.
Все произошло стремительно. Только что они были в темной пустоте неба, не видя и следа от эшелона бомбардировщиков, — и вот уже их ослепили прожекторы и накрыл зенитный огонь — по фюзеляжу словно били кувалдой. Видимо, Рурский укрепрайон. Ослепленный лучами, Тедди мог лишь уйти в очередное пике. Он чувствовал, как протестует истерзанный F-«фокс», который не выдерживал такого напряжения и мог развалиться в любую секунду. Более того, он подозревал, что и сам скоро не выдержит, но тут они нырнули из адского света в желанную темноту.
Левое крыло горело, машина стремительно теряла высоту. Тедди инстинктивно чувствовал, что мягкой посадки на этот раз не будет, как не будет и аварийной посадки на воду, и приветливые девушки-диспетчеры не направят их на дружественный аэродром. F-«фокс» летел навстречу смерти. Тедди отдал приказ покинуть борт.
Штурман откинул крышку аварийного люка, с помощью бортрадиста надел раненому пилоту парашют и вытолкнул его из самолета. Бортрадист незамедлительно последовал за ним, а потом и штурман. Стрелок средней верхней башни спустился и тоже выпрыгнул в люк. Хвостовой стрелок доложил, что его башенка повреждена и не поворачивается. Бомбардир-наводчик выполз из носовой части, борясь с перегрузками, и отправился посмотреть, нельзя ли помочь хвостовому стрелку провернуть башенку вручную.
Внутрь фюзеляжа проникало пламя. Из пике удалось выйти, но они стремительно теряли высоту. Машина могла в любой момент взорваться. Бомбардир не отзывался, хвостовой стрелок тоже. Клиффорд и Чарли — их имена неожиданно всплыли у Тедди в памяти.
Теперь он сражался с F-«фоксом», пытаясь заставить его лететь прямо и ровно. Рядом появился Клиффорд, который сказал, что не сумел пролезть в хвост — там уже все горело. Тедди велел Клиффорду прыгать. Тот нырнул в люк и исчез.
После этого все было как в тумане: за спиной стена пламени, от огня уже накалилось сиденье. Громкая связь отказала, но Тедди продолжал бороться с F-«фоксом», чтобы дать хвостовому стрелку последний шанс выбраться. Капитан всегда покидает корабль последним.
А потом, когда он уже счел, что смерть неминуема, и смирился с этим, в нем проснулась врожденная тяга к жизни, и смерть разжала свои челюсти. Инстинктивно разрывая двойную пуповину кислородного шланга и проводов громкой связи, он бросился прочь из кресла и был, считай, высосан воздушным потоком из чрева F-«фокса» через аварийный люк.
После грохота внутри самолета тишина ночного неба ошеломляла; Тедди плыл во тьме, в великой мирной тьме. Ему благосклонно светила луна. Внизу серебрилась река, Германия представала в этом лунном свете как на карте и неумолимо приближалась, а он дрейфовал к ней легкой пушинкой одуванчика.
Горящий силуэт F-«фокса» по-прежнему скользил вниз. Тедди подумал о судьбе стрелка. Нельзя было покидать его в беде. Самолет достиг земли раньше, чем Тедди, и разлетелся мириадами световых пылинок. Тедди понял, что выживет. Значит, для него все же наступит «потом». Он возблагодарил неведомого бога, который вмешался в его судьбу.
2012 Оптимальные результаты
— …установка геозон… вполне целесообразно, поскольку… новая норма… отношения «клиент — агентство» или, с другой стороны… а также коммуникация в ближнем поле…
Докладчик, доктор околовсяческих наук, сыпал профессиональным жаргоном. Его слова, лишенные смысла, плавали в воздухе и только потребляли кислород, отчего Берти начала слегка задыхаться. Докладчик («Ерундист», как окрестила его Берти), носил имя Ангус и происходил «из шотландцев» — потому его так и назвали, — но говорил без малейших признаков акцента, как и положено выпускнику дорогой частной школы. «Не какой-нибудь, а Харроу»; Берти все это знала, потому что один раз уже с ним встречалась, познакомившись через известного сводника Match.com. По этой причине она и вжималась в одно из кресел заднего ряда, делая вид, что ее и вовсе там нет.
Этот тип не понравился ей почти сразу, еще за ужином в «Нопи»; когда принесли счет, он с большой радостью согласился принять у нее половину суммы, тем самым нарушив одно из ее первейших требований к ухажеру: чтобы вел себя как джентльмен. Она хотела, чтобы ее пропускали в дверь, угощали в ресторанах, осыпали цветами. Радовали весточками (до чего приятное слово, как цветущая веточка). Ей хотелось внимания. Галантности. Тоже приятное слово. Ну-ну, размечталась. Она фыркнула в ответ своим мыслям, и сидящий рядом с ней мужчина, слушатель «отраслевого семинара», нервно покосился в ее сторону.
— Берти? — переспросил за ужином Ерундист. — Что за имя?
— Очень хорошее. — И после затяжной, тягостной паузы: — Роберта, в честь бабушки. — Это было среднее имя Берти; сообщать Ангусу свое первое имя, Луна, Берти не собиралась.
Вопреки здравому смыслу она в первый же вечер согласилась пойти к нему (классическая ошибка); его квартира в Бэттерси сверкала футуристическими стеклянными поверхностями. Пьяный секс не принес никакого удовольствия, она, естественно, начала себя ненавидеть и с рассветом крадучись ушла, чтобы «боль уменьшить спешно» смущенной прогулкой вдоль Темзы. Каково же было ее удивление, когда она увидела множество людей, пришедших «к сребристой Темзе, чья дуга прорезала крутые берега», хотя спенсеровских нимф, «любимых дочерей тех быстрых вод»,{150} в пределах видимости не было — разве что они превратились в университетскую женскую команду по академической гребле, которая с сопением молотила по бурой воде, будто спасаясь от некоего речного чудовища. Какая девушка будет вскакивать в шесть утра, чтобы сесть на весла? — поражалась Берти. Ее самой, наверное, не хватило бы на такие подвиги.
Спенсер потеснился, уступая место Вордсворту, который встретил ее на Вестминстерском мосту, откуда этим ранним утром на исходе мая Лондон и вправду представал пленительным зрелищем величавой панорамы,{151} сверкая и переливаясь в незадымленном (пока еще) воздухе.
Берти, мягко говоря, удивилась, когда с моста увидела приближение золоченой двухпалубной баржи с лебединой шеей. Это речное судно мягко скользнуло под мост, и Берти стала думать: уж не занесло ли ее, часом, в эпоху Тюдоров?
— «Глориана», — произнес чей-то голос.
Берти даже не заметила, как рядом с ней оказался какой-то мужчина.
— Королевская баржа, — продолжал он. — Она возглавит флотилию. А сейчас, наверное, репетируют.
Ну конечно, вспомнила Берти. Речной парад. Лондон готовился к бриллиантовому юбилею правления королевы. Как много приятных слов разом: «золоченая», «юбилей», «флотилия», «праздник», «Глориана». Почти невыносимо много.
— Мне показалось, я на миг перенеслась в прошлое, — призналась она.
— А вам бы этого хотелось? — спросил он, как будто за углом уже припарковал к ее услугам машину времени.
— Не знаю… — растерялась она.
— Торгово-рыночные отношения в условиях роста предложения, а также коммодитизация…
Берти работала в рекламном бизнесе и по забытым уже причинам оказалась в Белгрейвии, где Ангус вел «ускоренный курс». (Да уж.)
Отец Ангуса был королевским адвокатом, мать работала врачом-консультантом, и вся семья (родители, еще один брат и две сестры) жили в Примроуз-Хилл, где Ангус «провел вполне нормальное детство». Берти сразу заподозрила его во лжи. Детство нормальным не бывает.
Сам он был специалистом по маркетингу, «рационализатором» — ей показалось, что это вообще не работа.
— А я занимаюсь библиотечным обслуживанием, — начала она, поскольку Ангус в основном молчал.
— Но на сайте, — недоуменно сказал он, — говорится, что твоя специализация — «муниципальные программы обучения взрослых».
— Это примерно одно и то же, — сказала Берти. — Более или менее. — Она никак не могла запомнить, какая легенда значится у нее в резюме; шпионки бы из нее не вышло. — Обслуживание муниципальных библиотек, — поправилась она; глаза его предсказуемо остекленели, и он полностью сосредоточился на цыпленке табака двойной прожарки. Неужели бедной птице не хватило одной прожарки?
— …несанкционированная рассылка рекламы через мобильные устройства… вынужденный просмотр…
Ангус вел семинар в черной футболке с изображением пса Ниппера и слоганом «His Master’s Voice».{152} Под Ниппером (Берти предпочла бы этого не знать) грудь Ангуса была эпилирована воском. А Ниппер покоился под зданием страховой компании Ллойда, что в Кингстоне-на-Темзе. Берти надеялась, что после смерти ее не похоронят под каким-нибудь зданием. Или, еще того хуже, не выставят на всеобщее обозрение, как этих несчастных мумий или жителей Помпеев, навеки застывших в агонии. Дедушка Тед хотел, чтобы его похоронили где-нибудь в роще. («Желательно в дубовой».) «Это не ему решать, а нам, — говорила Виола. — Он же все равно не узнает, правда?» (А вдруг узнает?) Он еще не умер, а вокруг его тела уже начались пререкания. Берти любила дедушку. А он любил Берти. Самые простые отношения.
— …оптимальная вербализация…
На что она растрачивает свою жизнь? Почему нельзя было просто встать и уйти?
— …картинки с чужих сайтов…
Уж кому-кому, а Виоле она ни за что не стала бы рассказывать, с кем встречается. Берти исполнилось тридцать семь, «а она еще привередничает» — не упускала случая напомнить ей Виола с напускной легкомысленностью. «Успей хотя бы вскочить в последний вагон! А то даже родить не сможешь». Подруги Берти (между прочим, все до единой) повыходили замуж и нарожали детей; у Берти было такое впечатление, что в последние пять лет она чуть ли не каждые выходные ходит либо на венчание, либо на крестины. Над детьми все хлопали крыльями: каждые роды воспринимались как второе пришествие. Берти была совершенно не в восторге от этих детей и опасалась, что, случись ей родить, собственное дитя тоже оставит ее равнодушной. Перед глазами был пример Виолы. Та не любила их с братом или, быть может, тщательно скрывала свою любовь и, безусловно, проявляла к ним полное равнодушие (как, впрочем, и ко всем окружающим). «Равнодушие — не самое страшное, — успокаивал ее дедушка, пока был способен давать советы. — Погоди, ты своих до одури обожать будешь». Берти не хотела никого обожать до одури, тем более кого-нибудь мелкого и беспомощного. «Твоя бабушка до одури обожала Виолу», — рассказывал дед. Что ж, всякое возможно.
Когда-то давно, еще до своей хиджры, Санни сошелся с какой-то девушкой, и та забеременела. Виола негодовала; девушка сделала аборт, и Виола негодовала точно так же. «На тебя не угодишь», — сказал тогда Санни.
Было время — Виола начала бомбардировать Берти ссылками на донорские сайты: в любом банке спермы можно было найти подходящий генный набор — «уроженец Скандинавии, вес 71 кг, рост 180 см, волосы светлые, глаза зелено-голубые, учитель» — и нажать «перейти в корзину». «Выбирай датчанина», — советовала Виола.
Конечно, Виолу тревожило отсутствие внуков: умри ее гены вместе с ней — и от нее вообще ничего не останется. Один пшик. Виоле уже стукнуло шестьдесят, и она ждала, что все будут говорить: «Быть такого не может!» Но так и не дождалась. «Сейчас тебе, вероятно, этого не понять, — говорила она дочери, — но когда подойдешь к пятидесяти и спохватишься, что рожать уже поздно, ты себе этого не простишь». Почему мать из всего делала мелодраму? Потому что иначе никто бы ее не слушал?
Берти, естественно, поразилась больше всех, когда через два года родила двойняшек (и действительно полюбила их до одури), выйдя замуж за вполне достойного человека, врача по профессии (да-да, за того самого, с которым познакомилась на Вестминстерском мосту), и обрела… мм… счастье. Но до этого было еще далеко. А пока что Ангус с евангелическим пылом сотрясал воздух, как в молельне, и предлагал им проникнуться идеей селфсьюмеризма. Чтобы отвлечься, Берти стала придумывать рифмы к слову «ерундист» (нудист, контрабандист, садист, талмудист), но в конце концов извлекла на свет лоскутки приятности, которые теперь вынуждена была носить с собой для защиты от злобной, меркантильной вселенной. (Правильно ли она поступила, выбрав своей специальностью рекламу?)
Буду я среди лугов пить, как пчелы, сок цветов.{153}
А ведь могла уйти. На два часа у нее была назначена встреча, а в Лондоне всюду пробки — пока доберешься… Креативщики демонстрировали заказчику идеи для рекламы зубной пасты. Разве не достаточно сейчас в мире зубной пасты? Неужели человечеству требуется такой широкий выбор, чтобы выбирать до скончания века? Неужели мир так ненасытен? Да, эти действия вполне законны, просто она выбрала не ту профессию. Если бы Берти была богом (ее любимая фантазия), она бы создавала те сущности, которых в природе недостаточно: пчел, тигров, мушловок, а не тапки-шлепанцы, чехлы для мобильных телефонов и зубную пасту. Нет, не надо идти этой дорогой, думала она; фантазия творения столь широка и неохватна, что в ней можно затеряться на всю жизнь.
— …монетизация… материализа…
мороз свершает тайный свой обряд / в безветрии{154}
— …постоянные потребители…
чей это лес — я угадал{155}
— …ступенчатый событийный…
но снова черемуха — вот те раз! — слезит и мозолит усталый глаз{156}
— …ориентированный на результат медийный взрыв…
щеглы искрят, стрекозы мечут пламя{157}
— …брендовый контент… возобновление потребительских восприятий…
на Венлок-Эдж волнуются леса{158}
— …следуя этим рекомендациям, вы сможете получить оптимальные результаты…
и солнца утренний поток{159}
— …использование критерия хи-квадрат для обнаружения автоматического взаимодействия…
Что?
Боже милостивый! В какой же момент слова отделились от смысла и пошли своим независимым путем? Берти почти исчерпала лоскутки приятности, отпущенные ей на сутки, а время еще даже не дошло до обеда.
Ах, сколько терний в нашем будничном мире!{160}
— Ой, извините, — спохватилась она, когда нервный слушатель, сидевший рядом с ней, резко дернулся. — Я сказала это вслух?
— Да.
Вскочив со стула, она зашептала нервному слушателю:
— Прошу прощения, мне нужно идти. Я вспомнила, что забыла свое истинное «я» в метро. Оно, наверное, не понимает, как такое могло случиться. Без меня оно совсем пропадет.
Ангус заметил ее движение и нахмурился, будто вспоминая, кто же это мог быть. Она незаметно помахала ему одними пальцами в надежде, что получилось иронично, но, похоже, совсем сбила его с толку.
В метро — на линии Пиккадилли, хотя это, видимо, несущественно, — она себя не обнаружила, зато нашла номер «Дейли мейл», оставленный кем-то из пассажиров. Он был открыт на странице с отчаянным заголовком: «А вдруг Вселенная схлопнется СЕГОДНЯ? Физики утверждают: катастрофа „близится и, возможно, уже началась“». (Как, интересно, они узнали?) Берти обратила внимание на странное использование прописных букв. Она бы выделила слово «СХЛОПНЕТСЯ». Это напоминало речь Виолы («Ты будешь просто РАЗДАВЛЕНА»).
Пошарив на дне лоскутной сумы, Берти не нашла даже семечка тимьяна.
— Вы с дедушкой Тедом смотрите празднество на Темзе?
— Да, я как раз сейчас у него в палате, — ответила ей мать.
— Убожество какое-то, правда? А бедная королева, она же почти дедушкина ровесница — за что ей такие мучения?
— Простудится под этим дождем и смерть свою найдет, — сказала Виола.
Неужели все так и происходит? — задумалась Берти. Неужели смерть нужно искать, как потерянную вещь? Почему-то одни, как, например, дедушка Тед, ищут долго и не находят, а у других она лежит прямо под ногами. Как у бабушки, которую Берти никогда не знала, у быстроногой Нэнси, которая нашла и оседлала смерть, да так быстро, что удивила всех. Возможно, даже саму смерть.
— Бог с ней, — сказала Берти. — Передай, пожалуйста, трубку дедушке.
— Он тебя не поймет.
— Не важно. Дай ему трубку… Здравствуй, дедушка Тед. Это Берти.
В тот день золоченую баржу, конечно, сменил более прозаичный пароход, поскольку «Глориана» не могла вместить всю челядь (личную охрану, камеристок, лакеев), без которой не обходятся королевские речные выезды. Берти планировала слиться с заполонившими берега Темзы зрителями, чтобы стать чем-то бо́льшим, нежели она сама, чтобы потом вспоминать это событие, как вспоминаешь, где застала тебя новогодняя ночь миллениума. (В «Сохо-хаусе», пьяную, сейчас даже стыдно. Ясное дело.) Тогда весь день без остановки лил дождь, и Берти наблюдала бесподобную стойкость монархии по телевидению, благодаря которому в свое время прочувствовала и похороны Дианы, и падение башен-близнецов, и последнюю королевскую свадьбу. В один прекрасный день, думалось ей, она и в самом деле окажется в нужном месте в нужное время, чтобы не полагаться на пересказ голубого экрана. Даже если случится что-нибудь страшное — взрыв, цунами, война, — будешь хотя бы знать величие ужаса.
У дедушки Теда был брат Джимми, с которым Берти познакомиться не успела; он одним из первых освобождал концлагерь Бельзен, а после войны обосновался на Мэдисон-авеню и стал работать копирайтером в одном из старейших рекламных агентств. Тому, кто прошел через такие полярные этапы жизни, можно, как считала Берти, только позавидовать. Теперь-то человек просто получает диплом по теории массовых коммуникаций.
А сам дедушка Тед с каждым днем все больше и больше крошился душой и телом, словно какой-нибудь лежащий в руинах, но по-прежнему величественный замок; он ведь был пилотом бомбардировщика и каждую ночь вылетал в логово смерти. «„Логово смерти“ — жуткое выражение, правда?» — обратилась она к нему во время их прощального тура — элегической поездки к памятным местам, где витали тени прошлого. («Почему он не может просто умереть? — стонала Виола. — Сколько можно оттягивать прощание?») В той поездке Берти словно прозрела, заглянув вглубь дедушкиной жизни, в саму историю, хотя и благодарную, но будоражившую и путавшую экзистенциальные нервы. «Пообещай, что проживешь свою жизнь с толком», — сказал ей дед. У нее получалось? Вряд ли.
Приглушив пустой телекомментарий, она спросила:
— Как поживаешь, дедушка Тед?
Ей представлялось, как он лежит на койке в этой жуткой богадельне, доживая ненужный остаток жизни. Берти сожалела, что не может его спасти — схватить в охапку и вынести; уж очень он был слаб и немощен. Без малого двадцать лет дедушка прожил в «Фэннинг-Корте», но потом упал, сломал ногу и, как следствие, заработал пневмонию, которая обычно приводит человека к спокойному концу («Подруга стариков», — мечтательно говорила Виола), но как-то выкарабкался. Он усох, стал почти беспомощен и доверился сомнительным заботам стационара домашнего ухода, где, по мнению Берти, ему и суждено было умереть.
«Я каждый раз думаю, что мой приезд может оказаться последним», — с надеждой повторяла Виола.
На склоне своих дней он заслуживал более достойного пристанища, чем «Тополиный холм». «Где эти мифические тополя, где этот мифический холм?» — вечно причитала Виола, как будто самую большую проблему там составляла семантика. Виола приходила в ярость от стоимости пребывания отца в стационаре. Квартирку в «Фэннинг-Корте» продали, но все деньги «сжирала» оплата ухода.
— Но у тебя же денег хватает, — замечала Берти.
— Не в этом дело. Он должен проявить заботу и хоть что-нибудь мне оставить. («Не в этом ДЕЛО. Он должен проявить ЗАБОТУ и хоть ЧТО-НИБУДЬ мне оставить».) В наследство. А так мне ничего не останется.
— Ну, знаешь, от него самого скоро ничего не останется, — говорила ей Берти и добавляла: — А ты как будто злобствуешь.
— Да, представь себе, — отвечала Виола.
— Смотришь по телевизору водный праздник, дедушка Тед? Юбилей? — (Господи, она уже стала разговаривать точь-в-точь как мама.) — Санни передает тебе привет, — сообщила она, и дед, кажется, усмехнулся (или задохнулся), потому что всегда лучше всех понимал Санни.
Может, дедушка Тед и дышал на ладан, но явно оставался собой, а мама, по всей видимости, отказывалась это понимать. На самом деле никаких приветов Санни не передавал, но он просто не знал, что Берти удастся поговорить с дедом. Дедушку Санни любил. Дедушка любил Санни. Вот такие сложнейшие отношения.
— Завтра я вылетаю в Сингапур. — Дедово молчание сменил резкий материнский голос; Берти даже отшатнулась.
— В Сингапур?
— На литературный фестиваль.
Говоря о гламурных издательских мероприятиях, Виола становилась до неловкого самодовольной. «Встреча с кинопродюсером в Лондоне»; «обед в „Айви“ с моими издателями»; «на главной сцене в Челтнеме». Но теперь у нее в голосе зазвучали странно-пораженческие нотки.
— Сегодня вечером буду в Лондоне. Поужинаем? В «Диннере».
— Прости, не смогу. Я занята. — Это была чистая правда, но Берти ответила бы точно так же в любом другом случае.
Похоже, мама обиделась, что было примечательно: более тридцати лет обижались, как правило, другие.
— Собираешься повидаться с Санни? — спросила Берти.
— С Санни?
— С твоим родным сыном.
— Сингапур находится не на Бали, это совершенно другая страна, — заявила Виола, хотя и без особой уверенности. Она была не сильна в географии.
— До Бали оттуда рукой подать. Прилетела в Сингапур — считай, полпути проделала. У тебя же никаких важных дел сейчас нет. А обязательства есть, — добавила Берти, — и поторопись: ты, наверное, не знаешь, но Вселенная скоро схлопнется. Признаки заметны повсюду. Мне пора идти.
— Неправда.
— Допустим, но все равно я пошла. Попрощайся за меня с дедушкой.
Королева добралась до Тауэрского моста. Берти, поискав признаки схлопыванья Вселенной, выключила телевизор.
В кухне стояла старая плита, дышавшая теплом. Берти казалось, что это большое, доброе животное. Рядом с плитой было компактное кресло, на нем вязанное крючком одеяло, а на одеяле сладко спала крупная сиамская кошка. Каменные плиты пола согревались небольшими плетеными ковриками ручной работы. В валлийском кухонном шкафу был расставлен бело-голубой фаянс, а на большом, отчищенном добела столе из сосновой доски стоял фарфоровый кувшинчик с душистым горошком и бархатцами из сада. Стоя у старой фирменной раковины, Берти терпеливо драила кастрюльки и опрокидывала их на деревянную сушильную доску.
Из окна кухни виднелся сад. Это был райский уголок с огненно-красными цветами фасоли, аккуратными грядками земляники и рядами гороховых зарослей. На яблоне рядом с…
Восхитительное забытье прервал вой сирены. Берти возвращалась домой после обеда в «Вулсли», организованного некой производственной компанией. Над Пиккадилли, как она обнаружила, в воздухе витало предчувствие момента. А может, опасность, трудно сказать. Полицейские и военные кордоны оттесняли толпу на тротуар, чтобы пропустить эскорт. Мимо пронесся огромный автомобиль с венценосными особами. «К памятнику пилотам-бомбардировщикам», — объяснил кто-то в ответ на ее вопрос. Ну да, конечно: сегодня, на полпути между юбилейными торжествами и Олимпийскими играми, королева открывала новый мемориал; в Лондоне выдалось патриотическое лето в сине-бело-голубой гамме.
В телевизионном выпуске новостей (для Берти это было очередное опосредованное впечатление) показали церемонию: высохшие старички с трудом сдерживали слезы, а Берти даже не пыталась: каждый из них напоминал ей о дедушке и о его загадочном прошлом.
Берти терпеливо стояла на тротуаре вместе с толпой. Бомбардировочное командование ждало семьдесят лет, решила она, так что несколько лишних минут погоды не сделают. Над головой пронзительно взревело звено истребителей «Торнадо», а затем появился одинокий «ланкастер», который раскрыл над Лондоном свои бомболюки. В сине-белом летнем небе расцвело пятно красных маков.
Когда Берти возвращалась с работы, позвонила Виола.
— Нас призывают, — со значением сказала она.
— Призывают?
— Просят приехать. В стационар, — пояснила Виола.
У нее был взволнованный голос. Она любила драматические эффекты, если, конечно, ей самой ничто не угрожало.
— Что-то с дедушкой Тедом? — встрепенулась Берти. — Что стряслось?
— Представь себе… — начала Виола, как будто приступая к увлекательному повествованию, хотя должна была лишь сообщить, что Тедди вчера вечером уснул, а сегодня утром его не добудились. — Они требуют, чтобы мы приехали немедленно, а здесь рейсов до утра не будет. До Йорка доберусь, самое раннее, завтра к ночи.
— Я выезжаю прямо сейчас, — сказала Берти.
Призывали не их с матерью, подумала Берти, а деда. Его в конце концов призвали ангелы.
— Не слишком они торопились, — сказала Виола.
2012 Последний вылет Дхарма
— Одна индуистская легенда повествует о тех временах, когда люди были наделены божественным началом, но стали им злоупотреблять. Тогда Брахма, Творец Вселенной, заключил, что люди утратили право на божественность, и решил ее у них отнять. Желая спрятать ее подальше, где она была бы недоступна людям, он созвал на совет всех богов. Одни советовали ему закопать ее в землю, другие — утопить в океане, третьи — возложить на вершину высочайшей горы, но Брахма возразил, что люди хитроумны и способны проникнуть в земные недра, забросить сети в океанскую пучину и подняться на любую гору, лишь бы вернуть себе божественное начало. Когда боги уже готовы были отступиться, Брахма сказал: «Я знаю, где нужно спрятать божественность: ее нужно спрятать внутри человека. Он обыщет весь мир, но никогда не догадается заглянуть в себя и посмотреть: а что же там есть, внутри?»
Виола слушала вполуха. В завершение каждого занятия йогой Санни любил, как она выражалась про себя, читать «маленькую проповедь». Слова мудрости от Просвещенных, понадерганные отовсюду: из индуизма, суфизма, буддизма и даже из христианства. Население Бали, как она заранее выяснила, исповедовало индуизм. Виола по неведению всегда считала, что здесь преобладают буддисты. «Будда — это мы все», — говорил Санни. «На письме звучит чересчур нравоучительно, — делилась Виола с дочерью по электронной почте, — но тем не менее как-то воодушевляет. Из него получился бы неплохой викарий». Которую из гибких масок примеряла мать на этот раз? — гадала Берти.
Санни преподавал в какой-то школе под названием «Светлый путь» в городке Убуд. На первых порах Виола избегала посещать его уроки. Она остановилась в беспардонно дорогом отеле на «экокурорте» в получасе езды от города; в штате отеля состоял учитель йоги, который проводил индивидуальные занятия в так называемом уголке йоги — приятном, прохладном, отделанном тиковым деревом павильоне, расположенном в роще, где экзотические птичьи трели, немного отдававшие кудахтаньем, сливались с жужжанием и механическим, игрушечным щелканьем насекомых.
В противоположность этому классная комната в школе «Светлый путь» представляла собой огромное, жаркое и душное помещение, куда, несмотря на распахнутые окна, никогда не залетал ветерок. Обстановка была примитивной — или аскетичной, в зависимости от точки зрения: первую разделяла Виола, вторую — сайт «Светлого пути».
Зал, несмотря на свои размеры, едва вмещал всех желающих. Туда стремились в основном женщины: молодые спортивные австралийки и пожилые американки. Последние в большинстве своем, по словам Берти, «маялись дурью по типу ешь-молись-люби».
Санни получил звание учителя йоги много лет назад, еще в Индии; теперь он преподавал на Бали. По всей видимости, из него вышел «почитаемый учитель международного уровня». Его постоянно приглашали в Австралию и Америку, где на его занятия было не попасть. Людям делать нечего, считала Виола.
О Санни было множество материалов в интернете, если, конечно, знать нужные сайты и кого именно там искать: это только кажется, что имя Солнце — да хотя бы и Санни — вполне подходит для человека такого рода занятий, но все почему-то звали его Эд. «Солнце Эдвард Тодд, — назидательно сообщил он Виоле, — таково мое имя». И это было лишь незначительной частью его преображений. Телосложение танцовщика, бритая голова, восточные татуировки, приметы австралийского акцента — все это крайне изумило Виолу. Оборотень, да и только. А какой любимец женщин! У него было множество фанаток, особенно типа «ешь-молись-люби». За те без малого десять лет, что Виола не общалась с сыном, он приобрел вполне человеческий облик. («Может, одно с другим как-то и связано», — поддела Берти.)
— Благодарю вас за этот урок, намасте. — Санни поклонился, молитвенно сложив ладони.
По рядам прошелестели ответные «спасибо» и «намасте». (Все это они воспринимали всерьез!) Санни с подозрительной легкостью вскочил из позы лотоса. Виола поднялась еле-еле, притом что сидела не в позе лотоса, а просто в неудобной позе, по-турецки, как в детстве на школьных собраниях.
Жил Санни в деревне, близ того самого беспардонно дорогого отеля, но вовсе не горел желанием приглашать Виолу к себе домой; она сделала вывод, что единственный способ провести время с сыном — это посещать его уроки, терпя слепое обожание «учениц» (с которыми он держался отрешенно-равнодушно) и, что еще хуже, невыносимые физические нагрузки. Когда-то она увлекалась йогой — а кого миновало это увлечение? — но занятия обычно проходили в хорошо проветриваемых церковных залах собраний или в центрах досуга; от учащихся требовалось выполнять несложные растяжки, а потом лежать и «медитировать», воображая себя в каком-нибудь «тихом, спокойном» месте. Виоле это давалось с большим трудом: пока другие (женщины, одни женщины) возлежали в шезлонгах где-нибудь на тропическом пляже или у себя в саду, Виола мысленно терзалась в отчаянных попытках придумать такое место — любое, — где было бы тихо и спокойно.
Когда Санни закончил индуистские наставления и все досыта наповторялись «намасте», одна американка, занявшая коврик рядом с Виолой («Шерли, с ударением на „и“»), повернувшись к ней, сказала:
— Эд — изумительный учитель, верно?
Мальчишкой он был необучаем, подумала Виола, а вслух только выдавила:
— Я его мать.
Когда она в последний раз произносила эти слова? Наверное, когда сын еще ходил в школу.
— Ах…
На нее вдруг нахлынули кошмарные воспоминания о травматологическом отделении больницы Святого Иакова в Лидсе. Санни только-только начал учебу в колледже, и когда Виоле позвонили из больницы, она заподозрила у него наркотическую интоксикацию, но выяснилось, что ее сын бродил по улицам, оставляя за собой кровавый след, после неудачной попытки вскрыть себе вену. «Я его мать!» — прокричала Виола доктору, сказавшему, что посещения «до поры до времени» нежелательны.
— Почему? — только и спросила она, прорвавшись наконец к нему в бокс.
Почему он это сделал? Обычное невразумительное пожатие плечами.
— Не знаю. — А когда она на него надавила: — Может, потому, что жизнь моя — дерьмо?
Остался ли у него шрам? Или его скрывал замысловатый дракон, обвившийся вокруг руки?
Шерли с ударением на «и» рассмеялась:
— Надо же, никогда бы не подумала, что у него есть мать.
— У каждого есть мать.
— У Бога нет, — возразила Шерли.
— Даже у Бога, — сказала Виола.
С этого момента, очевидно, все и разладилось.
Конечно, с виду никто не признавал в них мать и сына. Санни обращался к ней «Виола», а она не обращалась к нему никак. Держался он с нею в точности как со всеми остальными ученицами, отчужденно-заботливо. («Артрит? Боль в коленях?» Нет-нет, ничего такого, еще не хватало.)
— Удивлен? — спросила она, разыскав его на острове.
— Пожалуй, — ответил Санни.
Они настороженно обнялись, как будто у каждого за пазухой мог оказаться нож.
Ее местонахождение было известно только дочери и сыну. Медперсонал «Тополиного холма» Виола не стала информировать, что собирается на другой край света. Если что — телефон под рукой.
Виола выпала из жизни. Знай она, как это легко, — сделала бы такой шаг давным-давно. Написав по электронной почте своему агенту, Виола попросила эту милую женщину всем отвечать, что ее клиентка приносит свои извинения, но вынуждена была лечь на операцию (а что: ей действительно выносили мозг). Не нужно, чтобы люди думали, будто она сбежала, исчезла, как Агата Кристи. Меньше всего ей хотелось, чтобы ее начали разыскивать. Нет, это лукавство: меньше всего ей хотелось, чтобы ее нашли.
Беспардонно дорогой отель, где остановилась Виола, был перестроен из старинной усадьбы и располагался на краю утеса, откуда открывались фантастические виды на бегущую далеко внизу реку. В отеле была своя охрана, каждому проживающему гарантировалось индивидуальное обслуживание, любые пожелания выполнялись немедленно. Виола забронировала для себя виллу — самую просторную, самую дорогую, без соседей. Там свободно разместилось бы несколько семей, но она любила уединение. По утрам Виола включала кофемашину новейшей модели у себя в «жилой зоне» (разве не вся постройка представляла собой жилую зону?) и пила кофе, наблюдая, как из долины поднимается туман, и слушая перекличку птиц в роще. Ей подавали дивный завтрак, а потом она шла в спа на массаж или спускалась по древним каменным ступеням к «священной реке». Чем эта река такая особенная, Виола не знала. Санни утверждал, что все реки священны. Да и вообще все вокруг священно.
— Даже собачье дерьмо?
— Даже собачье дерьмо.
Она решила составить список того, что уж никак не может считаться священным. Бомбардировка Хиросимы, кровавые джихадистские теракты, убийства котят в микроволновой печи. Это действия, а не вещи, отвечал ей Санни. Но действия ведь совершаются людьми, а люди священны? Или священны только деревья и реки?
После обеда она спала (непозволительно долго), потом просыпалась и заказывала машину с водителем, чтобы ехать в Убуд, на занятия, которые проводил Санни. Он даже не резервировал для нее коврик, так что при малейшем опоздании ей просто не находилось места; сидя в тесной конторе, она читала книги «из библиотеки» (размером в одну полку). Все книги, естественно, были духовной направленности. Прикрепленная к полке рукописная табличка гласила: «Дорогой друг, оставь, пожалуйста, книгу в том же состоянии, в каком ее взял». Смешно, право: ни одна книга, будучи кем-то прочитанной, не может остаться в прежнем состоянии.
Если же для Виолы находилось местечко, урок (задуманный в качестве наказания) длился два часа, после чего водитель доставлял ее обратно в отель, и весь вечер она наблюдала, как резвится вокруг ее виллы приходящее из рощи семейство обезьян. Ужин, естественно, она тоже не пропускала. Есть было проще всего. Молиться и любить — куда тяжелее. Пару раз она посетила утренние уроки медитации: народу туда приходило меньше, но задания оказывались труднее.
— Прекрати мыслить, Виола, — говорил ей Санни.
Как может человек не мыслить?
— И не мыслить тоже прекрати.
— Я мыслю, следовательно существую, — отвечала Виола, цепляясь за устаревшую картезианскую вселенную.
Прекрати она думать, ей, чего доброго, настанет конец.
— Просто отпусти, — сказал Санни.
Отпустить? Что отпустить? Ей и ухватиться-то было не за что.
А потом! Течение реки, птичья перекличка, трескотня насекомых, крики обезьян — все это со временем сделало свое дело, и ум ее прекратил работать, и наступило невероятное облегчение.
В машине, по дороге на занятия, у нее задребезжал телефон. Звонили из стационара.
Конец был близок. Она долго ждала отцовской смерти, чтобы начать свою жизнь, но любой из нас мог бы ей сказать, что так не бывает. Да она и сама знала. В самом деле.
— Будда спросил одного шраману: «Как долог человеческий век»? Шрамана отвечал: «Несколько дней». Будда сказал: «Ты еще не постиг Путь». И спросил другого шраману: «Как долог человеческий век?» И был ответ: «Длиною в одну трапезу». Будда сказал: «Ты еще не постиг Путь». Он спросил третьего шраману: «Как долог человеческий век?» И тот ответил: «Длиною в одно дыхание». Будда сказал: «Прекрасно. Ты постиг Путь».
Слова плыли над Виолой. Она не имела представления, каков их смысл. Как всегда, она пришла на занятия к Санни. Просто не видела причин прогулять. Завтра утром ей предстоял обратный рейс в Британию. Дождавшись, когда Санни всем сказал «намасте» и толпа «ешь-молись-люби», словно получившая благословение, неохотно вытекла на влажную жару раннего вечера, Виола задержалась в зале.
— Виола? — обратился к ней Санни, заботливо улыбаясь, как будто перед ним была калека.
— Звонили из стационара, — сказала она. — Мой отец умирает.
— Дедуля Тед? — Санни наморщил лоб и прикусил губу; на миг перед Виолой мелькнула тень юного Санни. — Ты возвращаешься?
— Да. Хотя Берти, видимо, приедет туда гораздо раньше меня. Ты прилетишь?
— Нет, — сказал Санни.
Многое вертелось на языке у Виолы. Она думала о них обо всех, глядя на рощу, священную реку, птиц. С ее губ чуть не слетело «Прости меня», но вместо этого она рассказала ему свой сон.
— А потом ты повернулся ко мне и сказал: «У нас получилось, мамуль! Все успели на поезд!»
— Думаю, поезд здесь не важен.
— Верно, — согласилась Виола. — Важно то, что я ощущала, когда ты со мной заговорил.
— А именно?
— Меня захлестнула любовь. К тебе.
Эх, Виола. Наконец-то.
Берти захватила с собой «Последнюю хронику Барсета», присела на краешек кровати Тедди и стала ему читать. Она знала, что это одно из его любимых произведений; ей было не важно, понимает ли он слова: его мог успокоить сам знакомый ритм троллоповской прозы.
У Тедди вырвался какой-то звук — не слово, нет, но нечто иное, недоуменное. Она положила книгу на простыню и взяла обеими руками хрупкую, иссохшую старческую ладонь.
— Это Берти-Луна, я с тобой, дедушка, — сказала она.
Плоть его руки напоминала расплавленный воск, на котором толстыми синеватыми шнурами проступали вены. Другую руку он поднял вертикально вверх и осторожно помахал, будто хотел отпроситься и уйти. Похоже на правду, решила Берти.
А ведь когда-то он был младенцем, подумалось ей. Новорожденный, без малейшего изъяна, лежал на коленях у матери. У таинственной Сильви. А нынче превратился в невесомую чешуйку, готовую улететь с ветром. Молочные глаза полуприкрыты, как у старого пса, губы, вытянутые угловатой старостью, ловят воздух, подобно рыбе на песке. Берти чувствовала, как по его телу безостановочно пробегает дрожь, будто электрический ток, будто слабый трепет жизни. Или смерти. Вокруг него сгущалась энергия, от которой потрескивал воздух.
Тедди боролся с F-«фоксом», пытаясь заставить его лететь ровно и прямо. Машина хотела сдаться. Появившийся рядом с ним бомбардир, Клиффорд, сообщил, что пламя отрезало ему путь к хвостовому стрелку. Об этом бомбардире-наводчике Тедди знал только одно: что тот перепуган до смерти, а вот поди ж ты: набрался храбрости, чтобы попытаться вызволить стрелка, Чарли, которого тоже никто толком не знал. У Тедди в голове вертелась одна мысль: этих ребят нужно спасти. Он приказал Клиффорду прыгать, но тот потерял парашют, и Тедди сказал: «Возьмешь мой. Бери, кому сказано, прыгай!», и Клиффорд после недолгих колебаний повиновался приказу и исчез в аварийном люке.
Он был святым Георгием, Англия была его Клеолиндой, но дракон одерживал над ним верх, сжигал своим огненным дыханием. За спиной бушевало пламя. Сиденье раскалилось. Громкая связь не работала: он так и не узнал, выбрался ли стрелок из хвостовой башенки, а потому продолжал бороться с машиной.
Палату слабо освещала одна тусклая лампочка. Время близилось к полуночи, стационар давно погрузился в сон, нарушаемый лишь редкими воплями ужаса, как будто поблизости шла охота на мелкую дичь.
Дед умирает от старости, думала Берти. От изнурения. Не от рака, не от инфаркта, не от несчастного случая или аварии. Он устал. Старость — тяжелый путь. Судорожное дыхание становилось все реже. Время от времени дед, казалось, начинал нервничать и силился что-то сказать; тогда Берти сжимала ему ладонь и гладила по щеке, нашептывая что-то про синий от колокольчиков лес, которого никогда не видела, про людей, которые никогда ей не встречались, но сейчас его ждали. Про Хью и Сильви, про Нэнси и Урсулу. И еще про собак, про долгие солнечные дни. Наверное, к ним лежал его путь? К долгим ясным дням в Лисьей Поляне? Или к вечной тьме? Или в ничто, ибо даже темнота обладает каким-то свойством, а ничто — оно и есть ничто. Готовилось ли к его приходу спенсеровское лучезарное воинство? Готовились ли открыться ему все тайны? На эти вопросы пока еще не было ответов и вряд ли будут.
Она кормила его крошками из лоскутной сумы, потому что у нее оставались только слова. Наверное, чтобы заплатить паромщику. Бродя среди наречий и племен в сиянье золотом прекрасных сфер.{161} Величьем Господа заряжен этот мир.{162} Отец твой спит на дне морском.{163} Как ты, агнец, сделан?{164} Что ложится, облетая, / Наземь крона золотая.{165} Лучшая часть жизни праведного человека — это его небольшие, безымянные и всеми позабытые поступки, вызванные любовью и добротой.{166} Дальше и дальше, все птицы Оксфордшира и Глостершира.{167}
Воздух подернулся рябью и замерцал. Время сжалось до острия иглы. Неизбежность близилась. Все потому, что Дух Святой сей гнутый мир согрел теплом груди и — ах — свеченьем крыл.{168}
Мгновения уплывают, думал Тедди. Пригоршня сердцебиений. Вот что такое жизнь. Сердцебиение за сердцебиением. Дыхание за дыханием. Одно мгновение за другим — и вот уже последнее мгновение. Жизнь хрупка, точно биение сердца птицы, недолговечна, точно колокольчики в лесу. Это не страшно, понял он, и противиться не нужно, он идет туда, куда прежде ушли миллионы и куда за ним последуют еще многие миллионы. Он разделяет судьбу многих.
А сейчас. Это мгновение. Это мгновение бесконечно. Он — часть бесконечности. Дерево, и камень, и вода. Восход солнца и бег оленя. Сейчас.
Фанфары возвещают окончанье праздника. Ткань без подкладки рассыпается. Вещество, из которого сделаны сны, начинает лопаться и рваться, и содрогаются стены башни, увенчанной тучами.{169} Сходят маленькие лавины пыли. Взмывая в воздух, улетают птицы.
Сидя на веранде съемной комнаты, Санни медитирует в предрассветной темноте. Вскоре ему отсюда съезжать. Его подруга, австралийка, которая тоже преподает йогу, сейчас на шестом месяце беременности; она уже вернулась в Сидней. Через пару недель Санни последует за ней. Утром он проводит Виолу в аэропорт и, перед тем как распрощаться, подарит ей эту весть, чтобы она увезла ее домой. А вторым подарком будет серебряный заяц, которого он хранил все эти годы. Наперекор всему. «На счастье. Для защиты». Его австралийская подруга — Будда. Она носит под сердцем Будду.
Он делает судорожный вдох, словно при внезапном пробуждении ото сна.
Этот дивный дворец дал опасную трещину. Первая стена дрожит и крошится. Вторая стена проседает и падает, на землю сыплются камни.
В ожидании рассвета, в ожидании речного тумана и птичьей переклички Виола пьет кофе. Она думает о матери. Она думает о детях. Она думает об отце. Ее захлестывает боль любви. Птицы заводят рассветный хор. Что-то происходит. Что-то меняется. На миг ее охватывает паника. Не бойся, думает она. И больше не боится.
С оглушительным грохотом, в облаке пыли и обломков рушится третья стена.
Берти держит за руку деда, стараясь передать ему свою любовь: это ли не та сущность, которой жаждет каждый в свою последнюю минуту? Наклонясь, она целует впалую щеку. Происходит нечто необъятное, нечто катастрофическое. Она будет этому свидетельницей. Время кренится. Сейчас, думает она.
Четвертая стена пышного храма падает бесшумно, как перышко.
Он больше не может бороться с F-«фоксом». Машина смертельно ранена, как птица в полете. «Ах, свеченьем крыл!» Эти слова он слышит вполне отчетливо, будто звучат они рядом, в кабине пилота. Он дотянул до побережья. Внизу луна тысячью алмазов сверкала в Северном море. Он примирился с этим мгновением, с этим «сейчас». Рев самолета затих, пламя улеглось. Осталась прекрасная, неземная тишина. Ему пригрезились колокольчики в лесу, сова и лисица, игрушечная железная дорога на полу в его комнате, запах сдобы из духовки. Жаворонок, взмывающий на нити своей песни.
Так и не выпустив Тедди, F-«фокс» упал вспышкой света в темноте, яркой звездой, величанием, и огни его мало-помалу поглотились волнами. Все было кончено. Тедди ушел в безмолвную пучину и соединился с потускневшими сокровищами, что лежат, скрытые от глаз, на дне морском. Он был потерян навек, и только серебряный заяц оставался с ним в этой тьме.
И рушится с тяжелым грохотом пятая стена, и падает дом вымысла, унося с собой и Виолу, и Санни, и Берти. И в воздухе прозрачном, свершив свой труд, растаяли они. Пуфф!
Написанные Виолой книги, словно по волшебству, исчезают с книжных полок. Доминик Вильерс, женившись на девушке, которая носит костюм и нитку жемчуга, спивается до смерти. Нэнси в тысяча девятьсот пятидесятом выходит замуж за судейского адвоката и дарит ему двоих сыновей. Во время профилактического медосмотра у нее находят опухоль головного мозга, которую удаляют в результате успешно проведенной операции. Ум ее утратил быстроту, а интеллект лишился былого блеска, и все же она — Нэнси.
Стоящий на Вестминстерском мосту мужчина, врач, отворачивается от воды, когда юбилейная баржа «Глориана» скрывается под пролетом. У него вдруг возникает ощущение, что рядом кто-то стоит, но нет, это всего лишь движение воздуха. Ему кажется, он что-то потерял, но что именно — он даже не представляет. На острове Бали австралийка, которая преподает йогу, тревожится, что никогда не встретит свою любовь и останется бездетной. В «Тополином холме» умирает, мечтая вырваться на волю, старушка по имени Агнес. В День ветеранов Сильви принимает убойную дозу снотворного, так и не примирившись с тем, что ее ждет будущее без Тедди. Без ее любимца.
По всему миру жизни миллионов людей меняются с уходом близких в небытие, но трое членов последнего экипажа Тедди — бомбардир Клиффорд, раненый пилот Фрейзер и стрелок-хвостовик Чарли — успешно выбираются из F-«фокса» и до конца войны томятся в лагере для военнопленных. По возвращении все женятся и обзаводятся детишками, самоподобными частицами будущего.
Потери бомбардировочного авиационного командования составили пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят три человека убитыми. Германия потеряла семь миллионов, в том числе пятьсот тысяч погибших при бомбардировках союзников. В общей сложности Вторая мировая война унесла шестьдесят миллионов жизней, включая одиннадцать миллионов жертв холокоста. Шестнадцать миллионов погибло в Первую мировую, свыше четырех миллионов — во Вьетнаме, сорок миллионов — во время татаро-монгольского нашествия, три с половиной миллиона в Столетней войне, падение Рима унесло семь миллионов, Наполеоновские войны — четыре миллиона, двадцать миллионов унесло Восстание тайпинов. И так далее, и так далее, и так далее, вплоть до убийства Авеля Каином в эдемских кущах.
Все птицы, которые так и не появились на свет, все песни, которые не были спеты, а потому могут существовать лишь в воображении.
И в этом отдельно взятом воображении Тедди.
1947 Дочери Элизиума{170}
В переулке начали раскрываться цветки боярышника, и Урсула сказала:
— Смотри-ка, боярышник расцвел. Жаль, Тедди этого не увидит — он бы порадовался.
— Ох, прекрати! — глотая слезы, взмолилась Нэнси. — Не хочу верить, что он покинул этот мир навсегда. — Они шли под руку; Фортуна металась туда-сюда, обезумев от свежего, живого воздуха. — Нам даже на могилу к нему не сходить, — добавила Нэнси.
— И хорошо, — сказала Урсула. — Зато мы можем представлять, что он свободен как ветер.
— У меня получается представлять его только спящим на дне Северного моря, где холодно и одиноко.
— И станет плоть его песком,{171} — сказала Урсула.
Трепетное «ох» — от Нэнси.
— Кораллом кости станут.
— Хватит, прекрати, умоляю!
— Извини. Хочешь пройтись лугом?
— Гляди! — воскликнула Нэнси, отпуская руку Урсулы и указывая на небо. — Вот там. Жаворонок… полевой жаворонок. Слушай. — Она перешла на взволнованный шепот, словно боялась спугнуть птаху.
— Красота, — прошептала Урсула.
Как зачарованные они смотрели, как жаворонок устремился к небу, взмывая все выше и выше, пока не превратился в крапинку на синем небе, а потом остался воспоминанием о крапинке.
— Вот было бы чудо, если бы Тедди вернулся в другом воплощении… да хотя бы как этот жаворонок. Как знать? Это мог быть Тедди, который салютовал нам своей песней, сообщал, что все у него ладно. Что он, несмотря ни на что, существует. А ты веришь в реинкарнацию?
— Нет, — ответила Урсула. — Я верю в то, что у нас только одна жизнь, и считаю, что Тедди прожил свою жизнь безупречно.
А когда все остальное уходит, остается искусство. Хотя бы и Август.
Приключения Августа
— Ужасные последствия ~
Никак это Август? — шепнула мисс Сли на ухо мистеру Свифту. Шепот у нее получился весьма громкий: если так шептать, то люди, сидящие рядом, обычно оборачиваются и вопросительно на тебя смотрят.
Черты мистера Свифта остались бесстрастными, хотя от зрелища, которое разворачивалось на сцене, его слегка передернуло. Мисс Сли подалась еще дальше вперед, чтобы привлечь внимание миссис Свифт.
— Ведь это же Август, не правда ли? — стала настырно допытываться она еще громче и для чего-то уточнила: — Ваш сынок.
Это был уже даже не шепот. Скорее выкрик. Миссис Свифт застыла с непроницаемым лицом. Все зрители не менее завороженно, чем родители Августа, глазели на сцену деревенского зала собраний.
«Англия в веках» уже достигла эпохи Непобедимой армады, и Елизавета Первая в Тилбери произносила вдохновенное напутствие войскам. Глориана восседала в сколоченной на скорую руку колеснице Боадицеи,{172} размахивая трезубцем, позаимствованным у Британнии.{173} Эти две благородные аллегории женственности (в исполнении Филлис, сестры Августа, и леди Лэмингтон, владелицы «Холла»), до последнего не желавшие по доброй воле расставаться со своим реквизитом, стояли по краям сцены, испепеляя взглядами Глориану.
Остальные участники постановки довольно живо продолжали представление, несмотря на то что половина декораций повалилась, а под ногами путалось несколько бродячих собак.
К миссис Свифт обратился сидевший с другого боку от нее викарий:
— Я считал, что роль королевы Елизаветы взяла на себя миссис Брустер. Но кто же сейчас на сцене?
Рыжий парик Глорианы съехал набок; не позаботившись о подходящем костюме, она завернулась в плащ римского центуриона. Центурион опять же не пожелал добровольно расставаться с плащом. Из-под его кромки то и дело выглядывали необъяснимые ссадины, а в кармане топорщилось нечто подозрительно напоминающее рогатку.
— Вы храбрые воины, ребята! — совсем не по-королевски закричала эта растерзанная Глориана. — Убиваете этих шпанцев, так им и надо!
— Испанцев, — громогласно зашипела из-за кулис миссис Гарретт.
Занеся трезубец Британнии, Глориана вскричала:
— А теперь ступайте и прикончите их всех!
На сцену высыпала разбойничья ватага мальчишек: одни ревели, другие орали, а кое-кто пищал. Собаки зашлись истошным лаем. Некоторые — нет, многие — из детей прежде были на хорошем счету, но теперь будто бы попали под гипноз Глорианы. Равно как, по всей видимости, и значительная часть зрителей, с раскрытыми ртами взиравших на королеву.
— Предполагается, что детвора олицетворяет испанцев? — спросил викарий у миссис Свифт. — Полчища захватчиков? — уточнил он, сверившись с программкой.
— Я, право, уже не знаю, кто кого олицетворяет, — пролепетала миссис Свифт, потрясенная жутким зрелищем рыжего парика, сползающего на лицо ее сына.
— Это те же детишки, — недоумевал викарий, — что изображали англосаксов, и викингов, и норманнов? Теперь уже трудно разобраться: все они перемазаны зеленой краской. Как по-вашему, что это должно символизировать? Зеленой Англии луга?{174}
— Сомневаюсь, — ответила миссис Свифт и встревоженно ахнула, потому что колесница Боадицеи, совсем хлипкая, вдруг завалилась набок, и Глориана с позором выкатилась на подмостки, увлекая за собой оставшиеся декорации.
Откуда ни возьмись на сцену выбежал маленький уэст-хайленд-терьер, который, улучив момент, схватил рыжий парик и умчался прочь под чьи-то вопли, определенно не актерские.
— Точно Август, — объявила мисс Сли.
— Впервые вижу этого мальчишку, — с решимостью отрезала миссис Свифт.
— И я, — подхватил мистер Свифт.
Задним числом, сказал мистер Свифт, следовало ожидать, что дело закончится катастрофой.
— А как славно все начиналось, — сказала миссис Свифт.
— Так всегда бывает, — заметил мистер Свифт.
Вся деревня пребывала в изрядном волнении. Мистер Робинсон, возглавлявший местное общество любителей истории, установил, что деревня стоит на этом месте намного дольше, чем принято считать, а доказательством послужили руины римской виллы, обнаруженные при раскопках за околицей.
— Ранний памятник культуры наших римских завоевателей, — объяснил мистер Робинсон.
— Там вилы откопали, — передал Август своей шайке.
Его сообщники — Норман, Джордж и Родерик — недавно решили, что им пора назваться каким-нибудь именем. Они поочередно рассмотрели и отвергли «Пиратов», «Разбойников», «Грабителей» и после долгих (кто-то сказал бы, нескончаемых) споров и двух-трех беззлобных потасовок выбрали себе имя «Апачи», как нельзя лучше выражавшее их дерзкую неустрашимость (или убийственную кровожадность, сказал мистер Свифт.)
— Норманское завывание, — объяснил дальше Август.
«Апачи» отозвались заинтересованными шепотками. Каждую осень школьные спортивные площадки становились ареной жестоких Каштановых Сражений; боевые действия, совершаемые с особой жестокостью, неизбежно оканчивались завываниями раненых, доставленных в медицинский кабинет.
Мистер и миссис Свифт пригласили к себе на ужин мистера Робинсона, а также викария, добродушного и слегка растерянного — такие обычно и служили у них в приходе, и еще мисс Сли, прямолинейную, мужиковатую старую деву, единственным хобби которой были прогулки. («Прогулки? — презрительно переспросил родителей Август. — Какое же это хобби? Вы меня вечно ругаете: „У тебя на уме одни прогулки, Август!“ А потом… — он разгладил воображаемые лацканы судейской мантии, — а потом добавляете: „Пора бы, Август, выбрать для себя какое-нибудь хобби, достойное разумного человека“».)
Помимо перечисленных гостей, к хересу Свифтов приложились новоиспеченные сельские жители мистер и миссис Брустер, а также полковник Стюарт, чрезвычайно желчный господин, питавший особое отвращение к мальчишкам.
— Суаре! — воскликнула миссис Брустер, получив приглашение. — Какая прелесть!
Миссис Брустер была довольно примечательной личностью. Высокая, с копной кудрявых рыжих волос, она постоянно лицедействовала. Очевидно, поднаторела на любительской сцене.
— Не только римляне шли сюда с оружием, — уточнил мистер Брустер, в тревоге поглядывая на стремительно пустеющий графин для хереса. — Англы, саксы, викинги, норманны — одни полчища сменялись другими.
Брустеры были «нуворишами» — так говорила мисс Карлтон, сварливая с виду старая дева, которая с тревогой поглядывала на мистера Брустера, который поглядывал на графин. Она была «трезвенницей» — и, по всей видимости, от этого у нее испортился характер. Купив Августу и его соплеменникам на полпенни лимонного шербета, в обмен она потребовала расписку, что они никогда не прикоснутся к спиртному. «Все по-честному», — единодушно решили «Апачи». Замыкала список приглашенных на «суаре» миссис Гарретт, соседка Свифтов.
— До недавних пор, — витийствовал мистер Робинсон, в который раз оседлав любимого конька, — мы прослеживали свою историю только до Ссудного дня.
— До Судного дня, — удовлетворенно пробормотал себе под нос Август. — До «Книги Страшного суда».{175}
Его обычно завораживали слова, в которых таилось обещание почти бесконечной кутерьмы. Перехват информации грубо нарушила кухарка: она огрела Августа по затылку поварешкой — своим излюбленным оружием — и шуганула с удобной позиции.
— Мальчишка вечно под дверью топчется, — услышал он: это кухарка жаловалась горничной Мэвис. — Моду взял шпионить.
Августу это понравилось. Естественно, он собирался стать шпионом, когда вырастет. А также летчиком, машинистом поезда, мореплавателем и коллекционером «всякой всячины».
— Какой именно всячины? — поинтересовалась за завтраком миссис Свифт и тут же пожалела, что спросила, потому что в ответ Август с горячностью пустился оглашать весь список: мышиные скелеты, золотые фартинги, ракушки, бечевки, алмазы, стеклянные глаза.
— Впервые слышу, что бывают золотые фартинги, — вклинился мистер Свифт.
— Потому-то я и намерен их собирать. Моя коллекция будет стоить целое состояние.
— А что, если таковых все же не существует? — настаивал мистер Свифт.
— Тем дороже будет моя коллекция.
— Ты, часом, не уронила его в младенчестве на голову? — обратился мистер Свифт к маме Августа.
Миссис Свифт пробормотала нечто похожее на «к сожалению, нет», а потом добавила в полный голос:
— Оставь в покое баночку с джемом, Август.
— Брысь отсюдова! — цыкнула на него кухарка.
Она разозлилась из-за шарлотки со взбитыми сливками, запланированной на «десерт». «Десерт» подавали к столу только при гостях. В обычные дни подавали просто «сладкое». Август заявил, что не виноват в исчезновении выпеченных заранее бисквитных пальчиков. Он хотел попробовать одну штучку, а потом глядь — все до единой куда-то исчезли! Почему такое случилось? (Почему такое случалось каждый раз?) К вящему огорчению кухарки, шарлотку со взбитыми сливками пришлось заменить банальным хворостом.
— Что о нас люди подумают? — ворчала она.
— Подумают, что им здорово повезло, — сказал Август.
Хворост — это же, наверное, куда увлекательней, чем всякие там кушанья, которые обычно готовились в доме Свифтов. «Апачи», подстрелив из лука дичь, наверняка собирают хворост, чтобы развести костер и зажарить добычу. (У Августа тоже был лук со стрелами, но его конфисковали после одного неприятного случая.)
— В нашей округе хвороста нет, — указал мистер Свифт.
— Откуда ты можешь знать, — возмутился Август, — если никогда его не видел?
— У тебя задатки неплохого эмпирика, — сказал ему отец после особенно острой дискуссии о крикетных мячах и застекленной оранжерее. («Но если ты не видел, кто бросил мяч, почему ты так уверен, что это я?» — «Да потому, что это всегда ты», — утомленно отозвался мистер Свифт.)
Неожиданно для всех миссис Гарретт захлопала в ладоши и объявила:
— Костюмированное представление! — (Август вернулся на удобную позицию: «Апачам» не страшны поварешки.) — Мы должны устроить костюмированное представление в честь достойного прошлого нашей деревни!
Собравшиеся высказали шумное одобрение.
— В нем отразится вся история Британии через призму типичной английской деревни! — захлебывалась миссис Гарретт.
— Что касается меня, — сообщила миссис Брустер, — на театральных подмостках я сыграла не одну королеву.
Миссис Свифт пробормотала что-то неразборчивое.
— Но этих сорванцов нельзя на пушечный выстрел подпускать к нашему представлению, — сказал полковник Стюарт.
— Боже упаси! Ни в коем случае, — поддержала мисс Карлтон, но тут же спохватилась. — Ой, простите, — зачастила она, повернувшись к мистеру Свифту, — ведь один из них — ваш сын, правда?
— Ну… как сказать… — заколебался мистер Свифт. — Вообще-то, мы нашли его на парадном крыльце.
От отцовского предательства Август нахмурился. По комнате побежали сочувственные шепотки, и миссис Свифт любезно уточнила:
— Ничего подобного. Вовсе не на парадном крыльце, а на крыльце черного хода.
Ответом ей был общий хохот. Август нахмурился еще сильнее. Неужели его и впрямь нашли на крыльце? На каком — это дело десятое. Значит, он сирота-подкидыш. Мысль интересная. Не иначе как настоящие родители его — богатеи, которые сбились с ног в поисках родного сына, ненароком забытого на крыльце Свифтов.
— Я уверена, мы придумаем, как задействовать всех ребятишек, — сказала миссис Гарретт.
Миссис Гарретт являла собой довольно опасную фигуру в том мире, где обитал Август. До недавних пор это была просто дебелая, приветливая соседка-вдова. Она любила детей (у взрослых это редкая черта) и обожала свою прекрасную оранжерею, где зрели персики и виноград, на которые, к негодованию садовника, у «Апачей» были совершенно определенные виды. К тому же соседка не скупилась на конфеты и пирожные, что опять же несвойственно взрослым. Но к несчастью, она возглавляла местный «филиал» Афор-Арод: по сведениям миссис Гарретт, эти англосаксонские слова означали «лютый» и «храбрый», хотя ни то ни другое не относилось к членам организации. Достаточно было вообразить кучку скаутов, состоящую сплошь из отверженных и изгоев мальчишечьей касты — и вот тебе Афор-Арод: паиньки, жирдяи, подлизы, зубрилы… и девчонки.
Они стали миролюбивой альтернативой «излишне милитаризованным» скаутам, как объясняла миссис Гарретт, сторонница «Союза присягнувших миру». «Сотрудничество и гармония», повторяла она. Мама Августа решила, что ему это «пойдет на пользу», поскольку он «не имел ни малейшего представления» ни о первом, ни о втором.
— Неправда! — запротестовал он. — Посмотри на «Апачей»!
— Вот-вот, — ответила миссис Свифт и потащила его на собрание.
Какая несправедливость, с горечью думал он, глядя на детский хоровод. Танцы! Никто его не предупреждал насчет танцев.
— Ага, у нас новый друг! — объявила миссис Гарретт, будто видела его впервые в жизни, хотя сталкивалась с ним нос к носу чуть ли не каждый день.
А потом Август повстречал свою судьбу. В дальнем углу зала он выследил девочку, маленькую девочку с самыми кудрявыми кудряшками и самыми чудесными ямочками.
— Мэдж… привет.
Она что-то шила.
— Это вышивка крестиком… эмблема. Хочешь, я для тебя такую же вышью, Август?
Август тупо кивнул; вид у него был еще глупее обычного.
И теперь он жил в постоянном страхе, как бы другие «Апачи» не застукали его на позорных сборищах Афор-Арод, где практиковались вышеупомянутые танцы, а также шитье, хоровая декламация и сочинение стишков. Да, и еще прогулки на природе: как оказалось, вовсе не для того, чтобы разорять птичьи гнезда и без разбора пулять из рогаток; короче, совсем не для того, чтобы устраивать кутерьму.
Все это было ему ненавистно, да только он безнадежно увяз в плену у Мэдж. («Ой, спасибо, что помог мне смотать пряжу, Август».)
— Костюмированное представление, — доложил он «Апачам» и прибавил: — Полчища захватчиков.
Август перекатил во рту грушевый леденец, что обычно знаменовало глубокую задумчивость.
— Есть одна мысль, — небрежно бросил он. — Что, если нам…
— Ох, не продолжай, — взмолился Тедди.
— Поверь, он нисколько на тебя не похож, — засмеялась его сестра Урсула.
— Знаю, — сказал Тедди. — Но прошу тебя, дальше не надо.
От автора
Когда я решила написать роман, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны, у меня была необычайно сильна вера в то, что историю великого противостояния удастся так или иначе уложить менее чем в половину объема «Войны и мира». Когда же я осознала, каких серьезных усилий потребует (и от писателя, и от читателя) эта задача, мне пришлось выбрать два аспекта той войны, которые интересовали меня более всего и, с моей точки зрения, давали больше всего материала: Лондонский блиц и стратегические бомбардировки немецких городов. «Жизнь после жизни» повествует об Урсуле Тодд, о том, что ей пришлось пережить в период блицкрига, тогда как «Боги среди людей» (мне хотелось бы думать, что это скорее «парный роман», нежели продолжение) рассказывает о брате Урсулы — Тедди, который стал пилотом одного из «галифаксов» бомбардировочной авиации. Хотя роман не всецело посвящен войне, тем не менее в обоих произведениях примерно одинаковое внимание уделяется как предпосылкам и началу военных действий, так и их последствиям. И наряду с этим роман содержит общие и личные переживания и размышления Урсулы и Тедди о войне, которая буквально пронизывает их судьбы.
В предыдущем романе Урсула прожила не одну жизнь, что в какой-то степени развязало мне руки, когда дело дошло до личной жизни Тедди, — эпизоды его биографии, представленные в этой книге, значительно отличаются от тех, что описаны в книге предыдущей. Мне думается, что «Боги среди людей» как будто олицетворяют одну из жизней Урсулы, ту, что не была рассказана прежде. Похоже на авторскую уловку, и, быть может, так оно и есть, однако в этой уловке нет ничего предосудительного.
Коль скоро Тедди — командир «галифакса», без лишних слов можно догадаться, что дело происходит в Йоркшире, где располагалась бо́льшая часть военно-воздушных баз бомбардировочной авиации. (Все лавры и почести достались «ланкастерам». И здесь я оставлю вас наедине с Тедди и скорее его, нежели моим недовольством этим фактом.) «Галифакс» Тедди числится в четвертой группе бомбардировочного командования — одной из двух, базировавшихся в Йоркшире (также там базировалась шестая группа ВВС Канады). Я нигде это не конкретизирую, равно как и не привязываю Тедди к какому-либо конкретному аэродрому или эскадрилье, чтобы оставить за собой авторскую свободу маневра. Надо сказать, что я представляла его себе пилотом 76-й эскадрильи, и мне довелось воспользоваться оперативными записями этой самой эскадрильи (из Государственного архива) тех времен, когда местами ее дислокации стали Линтон-он-Уз и Холм-он-Спалдинг-Мур, ставшие основными точками войны Тедди.
Для читателей я приложила небольшую библиографию из нескольких источников, которыми я пользовалась при написании своего романа. Мне удалось познакомиться со множеством подробнейших записей летчиков — участников тех событий, и за это я у них в неоплатном долгу; а также с заметками и отчетами о личных переживаниях, равно как и более официальными записями о событиях тех лет. Эти рассказы мужчин, проходивших службу в бомбардировочной авиации, все до одного уникальны; они являют собой пример не только бесценной добродетели стоицизма, но и героизма и решимости (и скромности) — качеств, которые сегодня от нас далеки, хотя, безусловно, на нашу долю еще не выпадало такой проверки характера, какую пришлось пройти им. Средний возраст этих мужчин (мальчишек, в сущности), ушедших на фронт добровольцами, составлял двадцать два года. Они пережили все ужасы войны, какие только можно себе представить; домой вернулось меньше половины. (Из всего летного состава, совершавшего боевые вылеты в самом начале войны, только десять процентов дожили до победы.) Никто не может оставаться равнодушным к таким жертвам, и, полагаю, в этом заключалась первопричина, побудившая меня написать эту книгу.
В романе «Боги среди людей» действия, разворачивающиеся на страницах книги и описывающие ход войны, в какой-то степени основаны на реальных событиях (даже самые ужасающие, даже самые невероятные), на которые я натыкалась в ходе своего исследования, хотя почти всегда так или иначе их приходилось немного изменять. Иногда трудно держать в голове мысль о том, что ты пишешь художественное произведение, а не историю, потому как слишком легко увлечься чрезвычайно привлекательными (и не очень) узкоспециальными техническими терминами, однако нужды романа должны вознестись над необузданными личными пристрастиями. Я освоила двигатель «бристоль-геркулес», однако и его пришлось передать Тедди.
С готовностью признаюсь, что заимствовала всего понемногу, но более всего я почерпнула из душераздирающего произведения об аварийной посадке на воду: это «Налетчик», написанный Джеффри Джонсом, когда в январе 1944-го экипаж (без названия) «Галифакса II JD-165» (S-«сахар») из 102-й (Цейлонской) эскадрильи, базировавшейся в Поклингтоне, возвращался после рейда на Берлин и, потерпев крушение, три дня дрейфовал в Северном море. Из «Инферно» Кита Лоуи я узнала, какие чувства испытываешь, попадая в грозу.
Некоторые события откровенно выдуманы: для начала я выдумала дату введения в эксплуатацию этих успевших уже надоесть двигателей типа «бристоль» и по большей части просто-напросто выпустила постоянные усовершенствования технических средств и навигационных систем, чтобы читатель не натыкался сплошь и рядом на пространные описания, к примеру радара HS2, «фишпонда» или «моники». Некоторые моменты остались у меня без пояснений по этой же самой причине, но также и потому, что я попросту сама их не совсем поняла (думаю, лучше будет честно в этом признаться).
Но самое главное: эта история вымышлена. Полагаю, что любой роман — это не просто вымысел, но вдобавок история его воплощения. (Нет, не думаю, что отношу себя к постмодернистам, хотя и рассуждаю как представители этого направления.) Я невыносимо устала слышать, что новый роман является «экспериментальным» или что он «заново переосмыслил саму романную форму», как будто Лоуренс Стерн и Гертруда Стайн или — да что уж там — Джеймс Джойс вообще никогда не брались за перо. Приступая к первой строчке романа, писатель всякий раз начинает новый эксперимент. Новое приключение. Я верю в преобладающее текстовое (и просто текстовое) взаимодействие сюжета, героя, повествования, темы, образа и прочих ингредиентов, которые загружены в общий котел, но не верю, что это обязательно делает меня сторонницей традиционного подхода (как будто все мы вне этой традиции — традиции написания романа).
Всех обычно интересует, «о чем» книга. В предисловии к роману «Жизнь после жизни» у меня сказано, что это произведение о самом себе и что, мол, я не для того корпела два года, чтобы его можно было изложить в двух словах. Но несомненно, роман написан о чем-то. Если вы зададите мне тот же самый вопрос относительно «Богов среди людей», я предпочту ответить, что новый роман — о вымысле (и о том, как мы должны представлять себе вещи, о которых не имеем ни малейшего понятия) и о Грехопадении (о Грехопадении Человека). В романе вы, возможно, заметите множество отсылок к Утопии, к Эдему, к Аркадии, к «Потерянному раю» и «Путешествию пилигрима в Небесную страну». Даже книга, которую дочь Тедди, Виола, швыряет своему отцу в голову, не что иное, как «Запределье» Энид Блайтон, которая сама берет за основу «Путешествие пилигрима в Небесную страну». И столько из этого осмыслено лишь наполовину! Как будто одна половина писательского мозга знает, что она делает, а другая — ужасающе невежественна. Я только сейчас понимаю, сколько в этом тексте взлетов и падений. Все и вся стремится в полет или низвергается на землю. (Как птицы! Стая за стаей!)
В тексте для меня невероятно важен художественный образ, не сложный, не такой, который неожиданно возникает, столь же стремительно исчезает и требует к себе повышенного внимания, но едва уловимая паутина характеров, которая пронизывает всю линию романа на всем его протяжении, зачастую чрезвычайно загадочно, и связывает все воедино. «Красная нить» крови, которая связывает семейство Тодд, отражается в образе красной ленты на пути в Нюрнберг, а та, в свою очередь, перекликается с тонкими красными шнурами в квартирке Тедди — и этого построения я сама не замечала до тех пор, пока не перечла роман по его завершении, но все равно для меня этот момент уместен и совершенно четко осмыслен. (А откуда в романе так много гусей — даже не спрашивайте. Понятия не имею.)
И конечно же, в самом сердце книги сокрыт необычайный и причудливый образ, который связан с замыслом и воображением, который открывается только в самом конце, но, в сущности, составляет весь смысл романа. Я думаю, нужно быть очень упрямым в творческом плане, чтобы искренне пропускать через себя все, о чем пишешь, ибо в противном случае ты всего лишь заполняешь двухмерное пространство, где текст утрачивает роль связующего звена между самим собой и внешним миром. И если это положение вступает в противоречие с модернизмом, или постмодернизмом, или с чем-либо еще — ничего страшного. Любую категорию, стремящуюся накладывать ограничения, не стоит принимать во внимание. (Слова со значением скованности и сдержанности возникают на протяжении всего романа, а их антоним «свобода» содержит в себе дополнительный смысл, о существовании которого я догадалась лишь по завершении романа. Сначала мне хотелось убрать эти слова из книги, но впоследствии я передумала. Они там не просто так.)
Война — это, без сомнения, величайшее грехопадение, особенно тогда, когда мы, возможно, чувствуем свой моральный долг противостоять ему и обнаруживаем, что запутались в паутине нравственности. Мы никогда не сомневаемся (абсолютно не сомневаемся) в отваге тех мужчин из «галифаксов», «стирлингов» и «ланкастеров», но бомбардировка, вне всякого сомнения, это зверство, примитивный и жестокий метод применения ударного оружия, которому постоянно мешает погода или несовершенство технологии (несмотря на несметное количество усовершенствований, которые всегда появляются во время войны). Кардинальное различие между обоснованием целесообразности бомбардировок и тем, к чему в действительности привели бомбовые атаки, в те годы вообще не осознавалось, и я подозреваю, что уж тем более не осознавали его экипажи бомбардировщиков.
Логическое объяснение, которое приводится в защиту намеренного перехода от прицельной бомбардировки «законных целей» (что практически невозможно в ночное время вследствие несовершенства технологий) к бомбардировке гражданского населения, убийству заводских рабочих и уничтожению их условий жизни и труда, заключается в том, что это разновидность экономической войны. Кампания начиналась с благими намерениями — предотвратить те жертвы, которые принесла Первая мировая, и все же новая война сама стала формой истребления, которая постоянно обостряется и ширится, стала своеобразным алчным чревом, которому всего мало: людских ресурсов, технологий, сырья — всего того, что можно было бы задействовать где-либо еще с гораздо большей пользой, особенно в последние месяцы войны — ставшие в общем и целом апокалиптическими для Европы, — когда одержимость маршала авиации Артура Харриса тотальным уничтожением испускающей дух Германии и отправкой ее в Небытие стала больше похожа на кару небесную, нежели на военную стратегию (хотя у меня вовсе нет намерения критиковать Харриса). Задний ум, конечно, вещь хорошая, однако, к сожалению, он недоступен в гуще сражения.
Мы мучимся вопросами о морали и правильности стратегической бомбардировки с того самого момента, как закончилась война (во многом благодаря тому, что Черчилль дипломатично начал сдавать назад, пытаясь уйти от ответственности за эти действия); мы спрашиваем себя, не стала ли на последнем этапе эта война против дикости самим воплощением дикости и первобытности, когда мы бомбили всех тех — стариков, детей, женщин, — кого цивилизация должна защищать. Но суть в том, что война есть не что иное, как дикость и варварство. Применительно ко всем. К тем, кто виновен, и к тем, кто нет.
Это роман, а не диспут (да и я — не историк), и я, как положено, предоставила озвучивать все сомнения и всю неоднозначность своим героям и всему тексту.
И, завершая свою речь, скажу: я уверена, что большинство читателей правильно истолкуют образ Августа как мою дань уважения Уильяму Брауну из книги «Просто Уильям». Август — бледная тень Уильяма, который остается для меня одним из величайших вымышленных персонажей. Ричмал Кромптон, честь тебе и хвала!
Благодарности
Подполковнику войск связи М. Кичу, награжденному медалью Британской империи.
Командиру эскадрильи Королевских военно-воздушных сил Стивену Беддоузу.
Сюзанне Кейт, архивариусу Королевского Альберт-Холла.
Энн Томсон, архивариус колледжа Ньюнэм Кембриджского университета.
Иэну Риду, директору Йоркширского музея авиации, ответившему с исчерпывающей полнотой на все мои (скорее всего, раздражающие) вопросы.
Йоркширскому музею авиации (), который расположен в Элвингтоне, на месте одного из многих военных аэродромов прошлого; это незаменимое учреждение для тех, кто интересуется «галифаксами» и военной историей как таковой. Музей проделал огромную работу, чтобы вернуть к жизни бедный старый «галик». Я также должна поблагодарить Фила Кемпа за необычайно познавательную экскурсию по «Пятнице, 13», но, к сожалению, это не подлинный самолет — тот был сдан в металлолом, как и все «галифаксы», уцелевшие после войны.
И конечно, хочу поблагодарить моего агента Марианну Велманс и всех сотрудников издательства «Трансуорлд», в особенности Ларри Финлея, Элисон Бэррой и Мартина Майерса. Спасибо также Риган Артур из издательства «Little, Brown», Ким Уизерспун из «Inkwell Management», Кристин Кокрен из «Doubleday Canada» и Камилле Ферье из литературного агентства «Marsh Agency».
Разумеется, за все погрешности, намеренные и прочие, ответственна только я.
Источники
Chorley, W. R., Bomber Command Losses of the Second World War, Vol. IV, 1943 (Midland Counties, 1996)
Chorley, W. R., Bomber Command Losses of the Second World War, Vol. V, 1943 (Midland Counties, 1997)
Chorley, W. R., Bomber Command Losses of the Second World War, Vol. IX, Roll of Honour (Midland Publishing, 2007)
Middlebrook, Martin and Everitt, Chris, The Bomber Command War Diaries: An Operational Reference Book 1939–1945 (Penguin, 1990)
Webster, Sir Charles and Frankland, Noble, The Strategic Air Offensive, Vols I and II (The Naval and Military Press, 2006)
Hastings, Max, Bomber Command (Pan Books, 2010)
Overy, Richard, The Bombing War (Allen Lane, 2013)
Ashcroft, Michael, Heroes of the Skies (Headline, 2012)
Bishop, Patrick, Bomber Boys (Harper Perennial, 2007)
Delve, Ken, Bomber Command (Pen and Sword Aviation, 2005)
Jones, Geoffrey, Raider, the Halifax and its Fliers (William Kimber, 1978)
Lomas, Harry, One Wing High, Halifax Bomber, the Navigator’s Story (Airlife, 1995)
Nichol, John and Rennell, Tony, Tail-End Charlies: The Last Battles of the Bomber War 1944–1945 (Penguin Books, 2005)
Riva, R. V., Tail Gunner (Sutton, 2003)
Rolfe, Mel, Hell on Earth (Grub Street, 1999)
Taylor, James and Davidson, Martin, Bomber Crew (Hodder and Stoughton, 2004)
Wilson, Kevin, Bomber Boys (Cassell Military Paperbacks, 2005)
Wilson, Kevin, Men of Air: The Doomed Youth of Bomber Command, 1944 (Weidenfeld and Nicolson, 2007)
Lowe, Keith, Inferno: The Destruction of Hamburg, 1943 (Viking, 2007)
Messenger, Charles, Cologne: The First 1000 Bomber Raid (Ian Allan, 1982)
Middlebrook, Martin, The Battle of Hamburg (Penguin, 1984)
Middlebrook, Martin, The Nuremberg Raid (Pen and Sword Aviation, 2009)
Nichol, John, The Red Line (Harper Collins, 2013)
Ledig, Gert, Payback (Granta, 2003)
Sebald, W. G., On the Natural History of Destruction (Notting Hill Editions, 2012)
Beck, Pip, Keeping Watch (Crecy Publishing, 2004)
Lee, Janet, War Girls: The First Aid Nursing Yeomanry in the First World War (Manchester University Press, 2012)
Pickering, Sylvia, Bomber Command WAAF (Woodfield, 2004)
Blanchett, Chris, From Hull, Hell and Halifax: An Illustrated History of No. 6 Group, 1937–1948 (Midland, 2006)
Chorley, W. R., In Brave Company: 158 Squadron Operations (W. R. Chorley, 1990)
Chorley, W. R., To See the Dawn Breaking: 76 Squadron Operations (W. R. Chorley, 1981)
Jones, Geoffrey, Night Flight: Halifax Squadrons at War (William Kimber, 1981)
Lake, John, Halifax Squadrons of World War Two (Osprey, 1999)
Otter, Patrick, Yorkshire Airfields in the Second World War (Countryside Books, 2007)
Pilot’s and Flight Engineer’s Notes, Halifax III and IV (Air Ministry, 1944)
Rapier, Brian, White Rose Base (Aero Litho, 1972)
Robinson, Ian, Home is the Halifax (Grub Street, 2010)
Wadsworth, Michael, Heroes of Bomber Command, Yorkshire (Countryside Books, 2007)
Wingham, Tom, Halifax Down! (Grub Street, 2009)
Baden-Powell, Robert, Scouting for Boys (OUP, 2005)
Beer, Stewart, An Exaltation of Skylarks (SMH Books, 1995)
Cornell, Simon, Hare (Reaktion Books, 2007)
Danziger, Danny, The Goldfish Club (Sphere, 2012)
Hart-Davis, Duff, Fauna Britannica (Weidenfeld and Nicolson, 2002)
Mabey, Richard, Flora Britannica (Chatto and Windus, 1997)
McKay, Sinclair, The Secret Life of Bletchley Park (Aurum Press, 2011)
Wallen, Martin, Fox (Reaktion, 2006)
Williamson, Henry, The Story of a Norfolk Farm (Clive Holloway Books, 1941)
From the National Archives
The Operations Record Books for 76 Squadron — AIR/27/650 (May ‘42 and December ‘42), AIR/27/651 (February ‘43 and December ‘43), AIR/27/652 (March ‘44)
DVD
Forgotten Bombers of the Royal Air Force (Simply Home Entertainment, 2003)
Halifax at War (Simply Home Entertainment, 2010)
The History of Bomber Command (Delta Leisure Group, 2009)
Nightbombers (Oracle, 2003)
Now It Can Be Told (IWM, 2009)
The Royal Air Force at War, the unseen films vols 1–3 (IWM, 2004)
Target for Tonight (IWM, 2007)
~
© Е. Петрова, перевод, примечания, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®
Примечания
1
Перевод А. Зверева.
(обратно)2
«Я тебя ощиплю» (фр.).
(обратно)3
Соблазнительница (фр.).
(обратно)4
Sunny (англ.) — солнечный.
(обратно)5
Здесь: Мужайся, друг мой (фр.).
(обратно)6
Букв. «пронзающие снег».
(обратно)7
Псевдоним (фр.).
(обратно)8
«Английский писатель» (фр.).
(обратно)9
Госпожа хозяйка (фр.).
(обратно)10
Вне строя (фр.).
(обратно)11
«Военный крест» (фр.).
(обратно)12
Монашеское (фр.).
(обратно)13
Любовь с первого взгляда (фр.).
(обратно)14
Надо возделывать свой сад (фр.).
(обратно)15
Моя вина (лат.).
(обратно)16
Так проходит мирская слава (лат.).
(обратно)17
С огнем (лат., муз.).
(обратно)Комментарии (Е. Петрова)
1
«Взлетающий жаворонок» — один из шедевров английской музыки, романс для скрипки с оркестром английского композитора Р. Воана-Уильямса (1872–1958), созданный на основе одноименного стихотворения Джорджа Мередита (1828–1909).
(обратно)2
«Руководство по скаутингу» — заповеди скаутского движения, составленные его основателем Р. Баден-Пауэллом. Переработанное И. Н. Жуковым, «Руководство по скаутингу» впервые было издано в России «Т-вом Березовского». Здесь и далее цитируется по 4-му изданию (1918), включенному в: Сборник исторических очерков основателей движения и участников событий / Сост. В. Л. Кучин, В. И. Несевря. М., 1998.
(обратно)3
«Alouette, gentille alouette» («Жаворонок, милый жаворонок», фр.) — популярная французская народная песенка.
(обратно)4
«Жаворонки заливались в вышине»… «Большие надежды». Неужели не читал? — Цитата из романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». Перев. М. Лорие.
(обратно)5
…открыла для себя Эмили Дикинсон. …Вскройте Жаворонка! — Перев. В. Марковой.
(обратно)6
Здравствуй, дух веселый! — Перси Биши Шелли. Жаворонок. Перев. В. Левика.
(обратно)7
Чу! Слушай песни птиц… — Эдмунд Спенсер. Эпиталама. Перев. А. Лукьянова.
(обратно)8
Небесный пилигрим и менестрель! — Уильям Вордсворт. Жаворонку. Перев. М. Зенкевича.
(обратно)9
Вордсворт писал о нарциссах… — Аллюзия к популярному в Великобритании стихотворению Уильяма Вордсворта (1770–1850) «Нарциссы» (в русском переводе тж. «Желтые нарциссы»).
(обратно)10
Манихеянка — сторонница христианской секты, исповедовавшей идею о божественной искре: вначале могучие силы Тьмы боролись с божественной сферой Света. Захватив часть света и не желая ее отпускать, темные силы заключили этот свет в созданного ими человека.
(обратно)11
…стихотворение Руперта Брука «Голос»… — Цитата приведена в переводе В. Набокова.
(обратно)12
«Клан Киббо Кифт» (полное название «Kibbo Kift Kindred» — англ., диал. «Братство могучих»; совпадение аббревиатуры ККК с сокращенным именованием ку-клукс-клана оказалось, по словам сторонников этого движения, случайным) — юношеская организация, возникшая в 1920 г. Ее создатель Джон Харгрейв после Первой мировой войны выступил против излишней милитаризации скаутского движения. Официально идеология «Киббо Кифта» заключалась в том, чтобы привить молодежи любовь к природе и здоровому образу жизни ради мира во всем мире и создания единого мирового порядка, однако на деле выходила за эти рамки и включала в себя элементы шаманизма, языческих англосаксонских традиций, а также ницшеанства. Повседневная униформа «Киббо Кифта» состояла из зеленого англосаксонского камзола и шапки-капюшона
(обратно)13
Мне интересно, из какого теста они сделаны, помимо улиток, ракушек и зеленых лягушек. — Аллюзия к детскому стихотворению «О мальчиках и девочках», известному по-русски в переводе С. Маршака.
(обратно)14
«Роптальня» — так Джон Джорндайс, герой романа Чарльза Диккенса «Холодный дом», называл одну из комнат в своем доме, куда приходил, когда бывал не в настроении.
(обратно)15
…как у жабы по имени мистер Тоуд: стремительно и оглушительно. — Аллюзия к сказочной повести шотландского писателя Кеннета Грэма «Ветер в ивах» (1908).
(обратно)16
Жаворонка подобьешь — добрых ангелов спугнешь… Блейк. — Изречения невинности. Перев. В. Топорова. (В др. переводах тж. «Прорицания невинности».)
(обратно)17
«Небесный луч весьма могуч — он светит горделиво»… «А вот луна — хотя бледна владычица ночная». — Цитируются фрагменты арии Юм-Юм из оперетты У. Гилберта и А. Салливана «Микадо» (перев. Г. Бена).
(обратно)18
«В школе учились мы все втроем» — трио из оперетты У. Гилберта и А. Салливана «Микадо» (перев. Г. Бена).
(обратно)19
Эммелин Петик-Лоренс (1867–1954) — активистка движения за права женщин.
(обратно)20
«Королевские идиллии» — самое значительное произведение А. Теннисона и одна из любимейших книг англоязычных читателей — представляет собой поэтический свод легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, в котором поэт нашел свой особый, романтический и необычайно привлекательный образ короля Артура и идею рыцарского служения.
(обратно)21
«Смерть Артура» — итоговое произведение артуровского цикла, свод рыцарских романов, зафиксированный Томасом Мэлори в прозе на позднем среднеанглийском языке в XV в., с опорой на французские поэмы.
(обратно)22
Но и когда шестидесятые остались позади, Виола… если и носила цветы в волосах… — Аллюзия на гимн «лета любви», песню Джона Филипса из группы Mamas and Papas «San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)», известную в исполнении Скотта Маккензи (альбом «The Voice of Scott McKenzie», 1967): «If you’re going to San Francisco, / Be sure to wear some flowers in your hair» («Если отправляетесь в Сан-Франциско, / Не забудьте вплести цветы в волосы»).
(обратно)23
Хантер С. Томпсон (1937–2005) — американский писатель, основатель стиля гонзо-журналистики, наиболее известен романом «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» (1971).
(обратно)24
…какого-то полуаристократического рода. — Фамилию Вильерс прославил Джордж, первый герцог Бекингем (1592–1628), английский государственный деятель, фаворит и первый министр королей Якова I и Карла I Стюартов, происходивший из небогатой дворянской семьи.
(обратно)25
…спросил: «Ну что, ко мне?» В его убогой квартирке не оказалось ни одного эстампа — только множество холстов… — Аллюзия на афоризм Бернарда Шоу: «Джентльмен — тот, кто, пригласив девушку домой посмотреть эстампы, показывает ей эстампы».
(обратно)26
«Истинная свобода…» — цитируется трактат «Закон свободы» английского социалиста-утописта XVII в., одного из руководителей движения диггеров, или «копателей» (первоначально объединявшихся с левеллерами, или «истинными уравнителями»), Джерарда Уинстенли.
(обратно)27
«Смотри, как перевернут мир» — слова старой английской баллады, получившей широкое распространение в середине XVII в., когда по стране прокатилась волна протеста против решения парламента запретить новогодние гулянья.
(обратно)28
…мисс Джессел из «Поворота винта» — гувернантка-призрак из повести Генри Джеймса «Поворот винта» (1898), составившей литературную основу одноименной оперы Бенджамина Бриттена.
(обратно)29
Кто бы отказался от этой благодати в угоду мучительному ритуалу, придуманному Дороти (к слову сказать, бездетной)? Виоле невольно вспоминался «Ребенок Розмари». — «Ребенок Розмари» (1968) — психологический триллер Романа Полански по одноименному роману Айры Левина, в котором будущая мать подозревает своих соседей в том, что они участники сатанинского культа, строящие планы на ее ребенка, и действуют заодно с ее мужем.
(обратно)30
«Гусятница» — сказка братьев Гримм.
(обратно)31
…эртексовой футболке… — Фирма Erteks выпускает трикотаж для дома и отдыха.
(обратно)32
Подснежник чистый расцветет сегодня / свечой Марииной в знак Сретенья Господня. — У. Вордсворт. Глядя на островок цветущих подснежников в бурю. В переводе Гр. Кружкова:
В сплоченье братском робость поборов, Они встречают бури грозный рев, — Так хрупкие подснежники под шквалом Стоят, противясь вихрям одичалым… (обратно)33
…«как гранит вода»… — цитата из стихотворения Кристины Россетти «Среди зимы морозной».
(обратно)34
Сент-Мартин — Центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина, старейшее из подобных учебных заведений в Великобритании. Основан в 1854 г.
(обратно)35
…как назвал их Кебл… — Джон Кебл (1792–1866) — английский религиозный деятель и поэт.
(обратно)36
Агрестис — от лат. Agrestis, букв. «полевой», «деревенский».
(обратно)37
Женский институт. — Женский институт, или Институт по делам женщин, основан в 1915 г. для оказания поддержки сельским общинам и поощрения женщин, принимавших активное участие в производстве продовольствия в период Первой мировой войны. В настоящее время — крупнейшая добровольная женская организация в Великобритании, дающая женщинам возможность получить образование, освоить профессиональные навыки, принять участие в разнообразных мероприятиях и кампаниях, значимых для общества.
(обратно)38
Блетчли (Блетчли-Парк) — особняк, расположенный в г. Милтон-Кинс (центральная Англия). В период Второй мировой войны в Блетчли-Парке располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании — Правительственная школа кодов и шифров, позже переименованная в Центр правительственной связи. Здесь взламывались шифры и коды стран нацистского блока. Именно в Блетчли-Парке была спланирована операция «Ультра», нацеленная на дешифровку сообщений «Энигмы». В настоящее время на территории Блетчли-Парка расположен музей.
(обратно)39
…«бледный край небес»… — цитата из сонета 73 У. Шекспира (перев. Б. Пастернака).
(обратно)40
…великий бог Пан умер… — Имеется в виду легенда, изложенная древнеримским историком Плутархом в сочинении «Об упадке оракулов». В «Энциклопедическом словаре крылатых слов и выражений» под ред. В. Серова она излагается так: «Однажды в царствование императора Тиберия из Пелопоннеса (Греция) в Италию шел корабль с грузом и людьми. Когда он проходил мимо острова Паксос, с берега кто-то окликнул египтянина Фармуза, кормчего корабля. Тот отозвался, и неизвестный голос велел ему, чтобы тот, когда корабль будет проходить другой остров — Палодес, возвестил там, что „умер великий Пан“. Кормчий так и сделал, и со стороны Палодеса до него тут же донеслись плач и стенания. Позднее христианские историки стали видеть в этом эпизоде особую символику. Поскольку именно в эпоху Тиберия христианство стало вытеснять в Риме язычество, то возглас, возвестивший о смерти языческого бога, стали трактовать как поражение веры ложной и утверждение веры истинной. Именно в таком ключе передал эту легенду Франсуа Рабле в своем романе „Гаргантюа и Пантагрюэль“ и тем самым весьма способствовал популяризации этого предания».
(обратно)41
…«И, надев наряд простолюдина, по дорогам бродит с мандолиной»… — Цитируется первая ария из оперетты У. Гилберта и А. Салливана «Микадо» (перев. Г. Бена).
(обратно)42
…читал Хаусмана и Клэра. — Альфред Эдвард Хаусман (1859–1936) — один из самых популярных английских поэтов-эдвардианцев, автор стихотворного сборника «Шропширский парень» (1896), получившего широкую известность в годы Первой мировой войны. Творчество Хаусмана ценил В. Набоков, упоминавший поэта в своих англоязычных романах. Джон Клэр (1793–1864) — английский поэт-крестьянин; лучшей его книгой считается последняя, «Сельская муза» (1835). Так и не сумев приспособиться к столичной жизни, Клэр жил в бедности и окончил свои дни в доме для умалишенных.
(обратно)43
…хопкинсовское «рябых небес коровий пестрый бок». — Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889) — английский поэт, известный как один из новаторов в литературе XIX в. Цитируется его стихотворение «Пестрая красота».
(обратно)44
Адрианов вал (вал Адриана) — оборонительное укрепление длиной 117 км, построенное римлянами при императоре Адриане в 122–126 гг. для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера. Пересекает северную Англию от Ирландского до Северного моря у границы с Шотландией. Наиболее выдающийся памятник Античности в Великобритании.
(обратно)45
Ранний урожай яблок в Кенте вызвал к жизни оду осени, которая посрамила бы самого Китса… — аллюзия к стихотворению английского поэта Китса (1795–1821) «Ода осени».
(обратно)46
…«кубок южного тепла…» — цитата из стихотворения Дж. Китса «Ода соловью» (перев. Г. Оболдуева).
(обратно)47
…тема: «Ромео и Джульетта». «Молодцов в сторону, а девок по углам и в щель»… — Акт I, сц. 1. Перев. Б. Пастернака.
(обратно)48
…из «Эндимиона» Китса: Прекрасное пленяет навсегда. — Перев. Б. Пастернака.
(обратно)49
Bildungsroman (нем.) — также «роман воспитания» — тип романа, получивший распространение в литературе немецкого Просвещения. Его содержанием является психологическое, нравственное и социальное становление личности главного героя.
(обратно)50
«Так посоветуй, как мне бросить думать»… — У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт I, сц. 1. Перев. Б. Пастернака.
(обратно)51
Гластонберийские тернии — кусты (или деревца) боярышника. В фольклоре Британских островов боярышник играет особую роль. Считают, что гластонберийский терний произрос из черенка, отсеченного от тернового венца, которым был увенчан Иисус. В кельтской Ирландии считалось, что человек, уничтоживший боярышник, рискует навлечь на себя разорение, вызвать падеж скота, а то и смерть детей. Боярышник использовался во время ритуальных оргий, когда друиды призывали народ подражать плодородному лету. Одно из англоязычных названий боярышника, mayflower (букв. «майский цветок»), непосредственно ассоциируется с майскими празднествами и гуляньями.
(обратно)52
…до «Королевы мая»… — «Королева мая» — поэма А. Теннисона, опубликованная в 1842 г.; переводилась, например, А. Плещеевым.
(обратно)53
Они поднялись в «Ультима Туле» — так звалась у них промерзающая чердачная каморка. — Ультима Туле (букв. «край света») в скандинавской мифологии окруженный высокими горами остров, который некогда находился в Северном море. Название «Ultima Thule» носит первая глава «Незавершенного романа» В. Набокова, опубликованная в 1942 г.
(обратно)54
«Намеки на смертность», — переиначивая Вордсворта, говорила Урсула. — Аллюзия к поэме Вордсворта «Намеки на бессмертие» (1804).
(обратно)55
Ибо теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. — Послание к коринфянам (13: 12–13).
(обратно)56
Коммодор — низшее адмиральское звание.
(обратно)57
Марлибон — вокзал в Лондоне.
(обратно)58
…пара «крылышек»… — нашивка, нагрудный знак летчиков.
(обратно)59
Он боялся, что, взвешенный на весах войны, окажется очень легким. — «И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5: 25–28).
(обратно)60
— Я предпочитаю факты. / — Ты у нас прямо как Грэдграйнд. — Томас Грэдграйнд, персонаж романа Ч. Диккенса «Тяжелые времена», характеризуется как «человек очевидных фактов» (перев. В. Топер).
(обратно)61
«Посреди жизни мы объяты смертью». — Из погребальной молитвы англиканского обряда.
(обратно)62
Мы, кто остался — «Они не состарятся, как состаримся мы, кто остался» (Лоуренс Биньон. Ода поминовения).
(обратно)63
«Безмолвная весна» — всемирно известная книга (первое английское издание — 1962 г.) американской писательницы, биолога и эколога Р.-Л. Карсон (1907–1964), рассказывающая о воздействии пестицидов на живые организмы.
(обратно)64
Смотрительница — это отдавало Троллопом. — Аллюзия к роману классика английской литературы Энтони Троллопа (1815–1882) «Смотритель», входящему в цикл «Барсетширские хроники». Главным героем романа является священнослужитель Септимус Хардинг.
(обратно)65
«Я брамми и этим горжусь» — известное присловье жителя Бирмингема («брамми»).
(обратно)66
«Толстый диспетчер» — сэр Топхэм Хэтт по прозвищу Толстый инспектор (тж. Толстяк-инспектор, в переводе 6-го канала — Толстый диспетчер; в переводе канала «Теленяня» — Большой начальник) — персонаж «железнодорожной серии» книг преподобного У. В. Одри; управляет всей железнодорожной системой острова Содор. В первых двух книгах о паровозике Томасе именуется Толстым Директором. После национализации железных дорог Британии стал именоваться Толстым Инспектором. Выражение «толстый инспектор» вошло в английский язык как ироничное имя нарицательное.
(обратно)67
Тедди вспомнил телесериал шестидесятых, который обожала Виола. «Заключенный». — Культовый британский телесериал с элементами научной фантастики, аллегории и психологической драмы, впервые показанный в 1967–1968 гг. Сорежиссером и исполнителем главной роли выступил Патрик Макгуэн. Фильм повествует о судьбе бывшего тайного агента, который был похищен неизвестными, пытавшимися выяснить, почему он оставил службу. Книгу с новелизацией сериала написал известный фантаст «новой волны» Томас М. Диш.
(обратно)68
«И заплачешь ты сильнее…» Кто это написал, не Хопкинс ли? — Цитируется стихотворение английского поэта Дж. М. Хопкинса (1844–1889) «Весна и осень. Маленькой девочке» (перев. Гр. Кружкова).
(обратно)69
«Укрыты в алебастровых палатах»… — Здесь и далее: написанное в 1861 г. стихотворение Эмили Дикинсон цитируется в переводе А. Гаврилова.
(обратно)70
…Харрису вменили в вину… — Артур Харрис (1892–1984) — британский маршал авиации, возглавлявший бомбардировочное командование Королевских военно-воздушных сил во время Второй мировой войны.
(обратно)71
…студийный фотопортрет работы Сесила Битона, сделанный на заре теткиного успеха. — Сесил Битон (1904–1980) — известный английский модный фотограф-портретист, мемуарист, икона стиля, дизайнер интерьеров, художник по костюмам и декорациям. В 1970 г. был включен в Международный список Зала славы самых стильных людей.
(обратно)72
Клуб «Гусеница» — созданное в 1922 г. в Канаде неформальное объединение лиц, которые спасли себе жизнь, выбросившись из самолета с парашютом. Членами этого объединения были, в частности, воздухоплаватель Чарльз Линдберг и астронавт Джон Гленн. По одной из версий, своим названием ассоциация обязана гусенице шелкопряда, из нити которой вырабатывается парашютный шелк.
(обратно)73
Клуб «Золотая рыбка» — созданное в 1942 г. в Великобритании всемирное объединение авиаторов, которые приземлились на воду, совершив вынужденную посадку или выбросившись с парашютом, и уцелели благодаря использованию спасательных жилетов, надувных шлюпок или иных плавсредств. Впоследствии объединение приняло в свои ряды участников Первой мировой войны, которые спасли себе жизнь аналогичным образом. В настоящее время состав этой активно действующей ассоциации пополняется главным образом вертолетчиками.
(обратно)74
Незримый миру червь — Аллюзия на стихотворение У. Блейка «Больная роза»:
О роза, ты гибнешь! Червь, миру незрим, В рокотании бури, Под покровом ночным Высмотрел ложе Алого сна твоего И потайной и мрачной любовью Губит твое естество.(Перевод А. Парина)
(обратно)75
…Джек и Джилл, колодец, ведерко. — Имеется в виду детское стихотворение, начинающееся так:
Идут на горку Джек и Джилл, Несут в руках ведерки. Свалился Джек и лоб разбил, А Джилл слетела с горки.(Перевод С. Маршака)
(обратно)76
«Таинственный сад» — детская повесть англо-американской писательницы Фрэнсис Элизы Ходжсон Бёрнетт (1849–1924).
(обратно)77
…с пиететом относится к доктрине Уэсли… — Джон Уэсли (1703–1791) — английский протестантский проповедник, один из основателей методизма. Выступал за поднятие духовного и морального уровня Церкви, а не за реформирование богословского учения. Термин «методизм» первоначально был насмешливым прозвищем, которое получили ранние приверженцы Уэсли за свое методичное чтение Библии и последовательность в оказании помощи заключенным и детям-сиротам.
(обратно)78
Благословенна я между женами. — Парафраз цитаты из Библии: «…благословенна Ты между женами» (Лк. 1: 28).
(обратно)79
…из долины смертной тени… — аллюзия к Псалму 22: 4.
(обратно)80
…новая молодая королева, возрожденная Глориана. — Глориана — одно из прозвищ Елизаветы I, примененное в данном случае к Елизавете II.
(обратно)81
Хочу подстраховаться, на манер Паскаля. — Имеются в виду рассуждения Паскаля, изложенные в его сочинении «Мысли о религии и других предметах», в котором автор задается вопросом, на что делать жизненную ставку — на религию или атеизм? Для поиска ответа Паскаль предположил, что шансы существования или отсутствия Бога примерно равны или, по крайней мере, что вероятность существования Бога больше нуля. Тогда возможны два варианта: 1) Жить без веры крайне опасно, так как возможный «проигрыш» в случае существования Бога бесконечно велик — вечные муки. Если же Бог не существует, то цена «выигрыша» невелика — безверие нам ничего не дает и от нас ничего не требует. Реальным выигрышем атеистического выбора будет некоторая экономия средств и времени, так как не будет религиозных обрядов. 2) Жить по канонам веры не опасно, хотя и чуть более затруднительно из-за постов, всяческих ограничений, обрядов и связанных с этим затрат средств и времени. Цена «проигрыша» в случае отсутствия Бога невелика — затраты на обряды и усилия на праведную жизнь. Зато возможный «выигрыш» в случае существования Бога бесконечно велик — спасение души, вечная жизнь.
(обратно)82
«Рожденная свободной» (1960) — документальная книга о львице Эльсе и ее детеныше, написанная Джой Адамсон (1910–1980), натуралистом, писательницей, художницей, защитницей живой природы; в 1966 г. было опубликовано продолжение — «Живущие свободными», тогда же вышла и экранизация первой книги.
(обратно)83
«Оскорбленная супруга» — пьеса (1696) английского драматурга Джона Ванбру (1664–1726).
(обратно)84
«…Меркнет в гневе свод небесный». — «Прорицания невинности» Уильяма Блейка. Перевод С. Маршака.
(обратно)85
…первом харрисовском налете на Кёльн… — 30 мая 1942 г. произошла бомбардировка Кёльна Королевскими ВВС Британии под командованием маршала сэра Артура Харриса.
(обратно)86
«Ланк» — сокращение от названия «ланкастер».
(обратно)87
…подобную безграничной ночной тьме, для которой, по Блейку, некоторые «люди явятся на свет». — Имеется в виду стихотворение Уильяма Блейка «Изречения невинности» («Auguries of Innocence», 1803), в котором есть такие строки:
Темной ночью и чуть свет Люди явятся на свет. Люди явятся на свет, А вокруг — ночная тьма. И одних — ждет Счастья свет, А других — Несчастья тьма.(Перевод В. Топорова)
(обратно)88
Словно муху, с которой забавляются мальчишки, как боги — с людьми. — Ср.: «Мы для богов — что для мальчишек мухи: / Нас мучить — им забава» (У. Шекспир. Король Лир. Акт. IV, сц. 1. Перев. Б. Пастернака).
(обратно)89
Буги-вуги «Молодой горнист» — песня военных лет о призванном в армию музыканте, известная в исполнении ансамбля «Сестры Эндрюс».
(обратно)90
«Смеющийся полицейский» — комическая песня, записанная в 1926 г. британским эстрадным актером Чарльзом Пенроузом на пике его известности. Эта запись часто звучала на Би-би-си вплоть до 1970-х гг. и даже в настоящее время порой используется в рекламе.
(обратно)91
…познакомиться поближе с отвратительным мистером Элсаном. — Elsan — фирменное название химических туалетов, использовавшихся в авиации.
(обратно)92
Все, кто бурей смят… — начало стихотворения Р.-Л. Стивенсона (перев. Е. Калявиной), которое использовано также в первой части дилогии К. Аткинсон — в романе «Жизнь после жизни».
(обратно)93
«Полночная отвага» — заглавие книги Хелен Нолл, основанной на реальных событиях и повествующей о трагических судьбах четырнадцати летчиков (членов экипажей двух тяжелых бомбардировщиков «ланкастер»), разбившихся близ деревни Ховерингем, графство Ноттингемшир, в январе 1945 г.
(обратно)94
Живешь как у Диккенса в романе: «Простите, сэр, я хочу еще» — крылатые слова из романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (перев. А. Кривцовой).
(обратно)95
«Что значит имя?» — крылатые слова из пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта», акт II, сц. 1 (перев. Т. Щепкиной-Куперник).
(обратно)96
Ты, как Патти Херст, постепенно стал заодно с теми, кто удерживал тебя в неволе. — Патриция Херст (р. 1954), внучка миллиардера и газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста, была похищена в 1974 г. калифорнийской леворадикально-террористической группировкой «Симбионистская армия освобождения», а после уплаты выкупа отказалась вернуться в семью и присоединилась к террористам.
(обратно)97
…в «штайнеровскую школу»… — Штайнеровская, или вальдорфская, система образования ставит во главу угла не столько механистическое усвоение знаний, сколько раскрепощение личности, развитие индивидуальных, в том числе и творческих, способностей каждого ребенка. Названа по имени основателя этой системы теософа Рудольфа Штайнера (1861–1925).
(обратно)98
Гринэм-Коммон — авиационная база США в Беркшире, оказавшаяся в центре внимания женского движения 1980-х гг. Рядом с ней в 1981 г. возник женский лагерь мира «Гринэм-Коммон», ставший символом протеста против присутствия в Британии американских крылатых ракет.
(обратно)99
…в Поклингтон… в Касл-Ховард и Хелмсли, в Дейлз… в аббатство Фаунтинс, в Уитби. — Поклингтон — городок у Йоркширского нагорья, где регулярно проводятся ярмарки; известен церковью Всех Святых, построенной в XV в. Касл-Ховард (также Касл-Хауард) — родовое поместье в 25 км к северу от Йорка: пышный барочный дворец построен в 1699–1712 гг. по проекту знаменитого архитектора сэра Джона Ванбру и окружен французским парком. В интерьере — богатая коллекция произведений искусства, включающая рисунки Микеланджело. В поместье снимались две экранизации романа Ивлина «Возвращение в Брайдсхед»: телесериал 1981 г. и художественный фильм 2008 г. Хелмсли — замок XIV в. (руины) на севере графства Йоркшир. Дейлз (полное название Йоркшир-Дейлз) — живописная возвышенность и Национальный парк в Северной Англии. Аббатство Фаунтинс — уникальные руины средневекового аббатства, расположенного рядом с городом Рипоном и окруженного роскошным королевским парком. Уитби — город в Северном Йоркшире на восточном побережье Англии; известен с 656 г.
(обратно)100
Ложе алого сна твоего… — цитата из стихотворения У. Блейка «Больная роза».
(обратно)101
…маленький лорд Фаунтлерой… — заглавие популярного в Британии и США сентиментального романа для детей, выпущенного Фрэнсис Элизой Ходжсон Бёрнетт в 1886 г.
(обратно)102
…дом запущен донельзя. / — Как у мисс Хэвишем… — Героиня романа Ч. Диккенса «Большие надежды», старая дева, брошенная женихом перед свадьбой.
(обратно)103
Луч красоты — аллюзия на стихотворение Дж. Китса «Прекрасное пленяет навсегда» (перев. Б. Пастернака).
(обратно)104
…благодаря старому доброму Чеширу… — Леонард Чешир (1917–1992), британский военный летчик, полковник, был отправлен в район боевых действий в составе 102-й эскадрильи Королевских военно-воздушных сил. Разработал новые стандарты маркировки целей для нанесения бомбовых ударов по объектам в Германии. Участвовал в бомбардировках Германии в качестве командира 617-й эскадрильи бомбардировщиков, был в тот период самым молодым полковником Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Награжден крестом Виктории за храбрость. Учредил Фонд помощи инвалидам войн. В мире существует более четырехсот лечебно-реабилитационных учреждений, именуемых «домами Чешира»; один из них находится в Солнцевском районе Москвы.
(обратно)105
Фидо (от лат. fido — доверяю) — популярная в Европе и Америке кличка собак. Так, в частности, звали собаку Авраама Линкольна.
(обратно)106
«Джорди» (Geordie) — прозвище человека, живущего на северо-востоке Англии и разговаривающего на соответствующем диалекте.
(обратно)107
«Мышьяк и старые кружева» — эксцентрическая комедия режиссера Фрэнка Капры, поставленная в США в 1944 г. по пьесе Джозефа Кесселринга (1939). Сценарий вдохновлен реальными событиями начала XX в., когда Эми Арчер-Гиллиган отравляла постояльцев своего дома престарелых в Коннектикуте, подмешивая им в вино мышьяк.
(обратно)108
…я за нее очень беспокоюсь. Из головы не идет Эми Джонсон… — Эми Джонсон (1903–1941) — знаменитый пилот, первая женщина, совершившая одиночный перелет из Англии в Австралию. Погибла в авиакатастрофе.
(обратно)109
Вы, солнцем опаленные жнецы… — У. Шекспир. Буря. Акт IV, сц. 1. Перев. М. Донского.
(обратно)110
…на Променадный концерт Би-би-си? — Променадные концерты — ежегодный лондонский международный фестиваль классической музыки, в основе которого лежала идея формирования музыкального вкуса публики через приобщение широких слоев общества к классической музыке. Помимо сидячих мест, в продаже было множество дешевых входных билетов «без места». Во время концерта публика могла свободно прогуливаться; отсюда название фестиваля.
(обратно)111
Хор «Александра». — Смешанный хор «Александра», насчитывавший примерно 250 исполнителей, был создан дирижером Чарльзом Проктором в 1940 г. для выступлений на променадных концертах Генри Вуда (позднее — променадные концерты Би-би-си), которые в период Второй мировой войны и после нее проходили в Королевском Альберт-Холле. По некоторым сведениям, это был единственный хор, выступавший в Лондоне в военное время.
(обратно)112
Alle Menschen werden Brüder (нем. «Все люди станут братьями») — цитата из «Оды к радости», написанной Фридрихом Шиллером в 1785 г. «Ода» была неоднократно положена на музыку. Наиболее известна музыка, сочиненная в 1823 г. Бетховеном и вошедшая в состав симфонии № 9. В настоящее время «Ода к радости» является гимном Евросоюза. Ср. перев. И. Миримского:
Ты сближаешь без усилья Всех разрозненных враждой, Там, где ты раскинешь крылья, Люди — братья меж собой. (обратно)113
«Мне кажется, он слишком часто возражает». — У. Шекспир. Гамлет. Акт III, сц. 2. Перев. Б. Пастернака.
(обратно)114
O Freude! (нем. «О Радость!») — заключительная часть симфонии № 9 ре минор Людвига ван Бетховена. Она включает текст поэмы Фридриха Шиллера, который исполняется солистами и хором.
(обратно)115
«…чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». — Быт. 2: 19.
(обратно)116
Небольшие, безымянные и всеми позабытые поступки, вызванные любовью и добротой — окончание афоризма Уильяма Вордсворта: «Лучшая часть жизни праведного человека — это его небольшие, безымянные и всеми позабытые поступки, вызванные любовью и добротой».
(обратно)117
«Банти» — еженедельный британский комикс для девочек школьного возраста; основан в 1958 г. Ср. «Уизард» — еженедельный комикс для мальчиков; печатал рассказы в картинках на военные, приключенческие и спортивные темы; издавался в Лондоне с 1922 по 1981 г.
(обратно)118
…по Вордсворту, толпу нарциссов золотых. — Цитата из стихотворения У. Вордсворта «Нарциссы» (перев. А. Ибрагимова). Также см. примеч. к с. 18.
(обратно)119
От славы света того, говоря языком Библии, она лишилась зрения, хотя Манкгейт ничем не напоминал дорогу в Дамаск. — Аллюзия на Деяния святых апостолов (9: 1–22), где говорится о том, как Павел ослеп на пути в Дамаск.
(обратно)120
Трайпос — традиционный экзамен на степень бакалавра в Кембриджском университете. Старейшим трайпосом является трайпос по математике. Сдавшие экзамен получают, в зависимости от результатов, звание «полемиста» (англ. Wrangler, букв. «спорщик»), «старшего оптима» (Senior Optime) и «младшего оптима» (Junior Optime). Выпускнику, показавшему последний результат в категории «младший оптим», вручается шуточный приз — большая деревянная ложка.
(обратно)121
Филиппа Фосетт (1868–1948) — английский математик и педагог, выпускница кембриджского колледжа Ньюнэм.
(обратно)122
В железо вошла душа. — Аллюзия к псалмам 104, 118 об Иосифе. Имеется в виду, что с того момента, как Иосиф был закован в железо, и до того, как исполнилось слово Господне, Иосиф (его душа) был в рабстве, то есть не принадлежал сам себе.
(обратно)123
«Флаг отплытия» (Blue Peter) — популярная детская передача Би-би-си. Выходит в эфир с 1958 г.
(обратно)124
Крылатая мгновений колесница… — Из стихотворения Эндрю Марвелла «К стыдливой возлюбленной» (перев. Гр. Кружкова):
Но за моей спиной, я слышу, мчится Крылатая мгновений колесница; А перед нами — мрак небытия, Пустынные, печальные края. (обратно)125
«Уйти во тьму, угаснуть без остатка»… — Дж. Китс. Ода соловью. Перев. Е. Витковского.
(обратно)126
«Аня из Зеленых Мезонинов» — детская повесть канадской писательницы Люси Мод Монтгомери (1874–1942).
(обратно)127
«Хайди» — роман швейцарской писательницы Иоханны Спири (1827–1901).
(обратно)128
Королевна — героиня сказки братьев Гримм «Гусятница».
(обратно)129
…заменить хлеба и рыбу и накормить пять тысяч человек. — Отсылка к библейской притче о чудесном насыщении народа пятью хлебами.
(обратно)130
Из этого мира в грядущий мир… — часть заглавия религиозного сочинения английского писателя Джона Беньяна (1628–1688) The Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to Come (букв. «Движение Пилигрима из этого мира в грядущий мир»), известного в русских переводах как «Путешествие пилигрима в Небесную страну».
(обратно)131
Добро, Смиренье, Мир, Любовь — цитата из стихотворения Уильяма Блейка (1757–1827) «По образу и подобию» (перев. В. Топорова).
(обратно)132
…отдых от компании «Сага»… — Компания, специализирующаяся на предоставлении туристических услуг лицам старше 50 лет.
(обратно)133
Будь она героиней романа Форстера (на сорок лет моложе, чем сейчас) — нашла бы любовь всей своей жизни, испытав бурю эмоций, и заполучила бы желанную комнату с видом. — Аллюзия к роману английского писателя Э. М. Форстера (1879–1970) «Комната с видом» (в русском переводе 2014 г. — «Комната с видом на Арно»).
(обратно)134
«И люди, что старательно нам похвалы поют… Вот список небольшой…» — Цитируется песня Ко-Ко из оперетты У. Гилберта и А. Салливана «Микадо» (перев. Г. Кана).
(обратно)135
«Есть список небольшой — да, список небольшой людей, которых вовсе нам всем не нужно тут». — Там же.
(обратно)136
…там, где чисто, светло. — Аллюзия к заглавию рассказа Э. Хемингуэя (цит. в перев. Е. Романовой), действие которого происходит в небольшом кафе.
(обратно)137
…бросилась под конские копыта Эмили Дэвидсон? — Эмили Уилдинг Дэвидсон (1872–1913) — британская общественная деятельница, суфражистка. Во время английского дерби в 1913 г. на ипподроме выбежала навстречу жеребцу, принадлежавшему королю Георгу V, и вскоре скончалась от полученных травм.
(обратно)138
Ну как могло втемяшиться людям в здравом уме, что эвтаназия — это плохо? Шипман всем подгадил. — Гарольд Шипман (1946–2004) — участковый врач, серийный убийца, орудовавший в пригороде Манчестера и получивший прозвище Доктор Смерть. Родился в набожной семье; прошел курс лечения от наркозависимости. Подделывал завещания и всегда забирал себе «на память» небольшую вещицу из дома пациентки, убитой уколом морфина якобы для облегчения страданий. Был приговорен к пожизненному заключению и повесился в тюрьме.
(обратно)139
«Lenfer, c’est les autres» («Ад — это другие люди», также «Ад — это другие») — название пьесы Ж.-П. Сартра.
(обратно)140
Джоди Пиколт (р. 1967) — американская писательница, автор бестселлеров.
(обратно)141
…вспомнить Старого Морехода… — Аллюзия к балладе английского поэта-романтика С. Т. Кольриджа (1772–1834) «Сказание о Старом Мореходе» (заглавие и фрагменты цитируются в переводе В. Левика).
(обратно)142
«Барчестерские башни» — второй и самый известный роман Э. Троллопа (1815–1882) из цикла «Барчестерские хроники».
(обратно)143
Стрела Зенона, или «Летящая стрела» — одна из апорий (то есть внешне парадоксальных утверждений) древнегреческого философа Зенона Элейского, которая гласит, что летящая стрела в действительности стоит на месте.
(обратно)144
В «Диннере», у Хестона Блументаля, в «Мандарине»? — (Вот уж где вещи называются своими именами.) — Первый в британской столице ресторан, принадлежащий прославленному шеф-повару Хестону Блументалю, был открыт 31 января 2011 г. в лондонском отеле «Мандарин Ориентал Гайд-Парк» и получил название «Диннер» (англ. dinner — ужин, обед); специализируется на блюдах традиционной британской кухни XVI в.
(обратно)145
…на поле Ареса прорастали бесчисленные всходы драконовых зубов. — Аллюзия к древнегреческому мифу о том, как Ясон засеял поле бога войны Ареса зубами дракона, из которых вырастали вооруженные воины.
(обратно)146
…спенсеровского «лучезарного воинства»… — Эдмунд Спенсер (1552? — 1599) — выдающийся поэт Елизаветинской эпохи. Цитируется стихотворение «The Ministry of Angels».
(обратно)147
«Маргрит, оттого ль грустна ты, что пустеют рощ палаты?» — Цитируется стихотворение английского поэта Дж. М. Хопкинса «Весна и осень. Маленькой девочке» (перев. Гр. Кружкова).
(обратно)148
«Она легка и не робка». — Цитата из арии Юм-Юм из комической оперы «Микадо» цитируется в переводе Г. Бена.
(обратно)149
Орудие истребителя было направлено вверх… — Имеется в виду артиллерийская установка типа «Schräge Music» (нем. «Джаз»), ставившаяся немцами в 1944 г. на ряд ночных истребителей-перехватчиков и стрелявшая вперед-вверх под углом 65–70 градусов к оси машины.
(обратно)150
…«боль уменьшить спешно»… «к сребристой Темзе, чья дуга прорезала крутые берега»… «любимых дочерей тех быстрых вод»… — цитаты из произведения Э. Спенсера «Проталамион, или Свадебный стих» (перев. А. Лукьянова).
(обратно)151
…пленительным зрелищем величавой панорамы… — Аллюзия к «Сонету, написанному на Вестминстерском мосту 3 сентября 1802 года» Уильяма Вордсворта: «…нет зрелища пленительней! И в ком / Не дрогнет дух бесчувственно-упрямый / При виде величавой панорамы…» (перев. В. Левика).
(обратно)152
«His Master’s Voice» («HMV», англ. «Голос его хозяина») — самый знаменитый и узнаваемый товарный знак в истории мировой музыкальной индустрии, один из старейших товарных знаков в мире. Изображение собаки, которая внимательно слушает звуки, летящие из граммофонной трубы, создано в 1898 г. британским художником Фрэнсисом Барро, который получил в наследство от умершего брата фонограф Эдисона и небольшую собаку по кличке Ниппер.
(обратно)153
Буду я среди лугов пить, как пчелы, сок цветов. — У. Шекспир. Буря. Акт V, сц. 1. Перев. М. Донского.
(обратно)154
…мороз свершает тайный свой обряд / в безветрии — С. Т. Кольридж. Полуночный мороз. Перев. М. Лозинского.
(обратно)155
чей это лес — я угадал — первая строка стихотворения Роберта Фроста «Остановившись на опушке в снежных сумерках» (перев. Гр. Кружкова).
(обратно)156
но снова черемуха — вот те раз! — слезит и мозолит усталый глаз — А. Э. Хаусман. Парень из Шропшира. Перев. Т. Кибирова.
(обратно)157
щеглы искрят, стрекозы мечут пламя — первая строка стихотворения Дж. М. Хопкинса (перев. Гр. Кружкова).
(обратно)158
на Венлок-Эдж волнуются леса — первая строка одноименного стихотворения А. Э. Хаусмана.
(обратно)159
и солнца утренний поток — заглавие стихотворения Эмили Дикинсон (перев. Л. Ситника).
(обратно)160
Ах, сколько терний в нашем будничном мире! — реплика Розалинды из комедии У. Шекспира «Как вам это понравится», акт. I, сц. 3 (перев. В. Левика).
(обратно)161
Бродя среди наречий и племен в сиянье золотом прекрасных сфер. — Цитата из стихотворения Дж. Китса «Сонет, написанный после прочтения Гомера в переводе Чапмена» (перев. И. Ивановского).
(обратно)162
Величьем Господа заряжен этот мир. — Первая строка из стихотворения Дж. М. Хопкинса.
(обратно)163
Отец твой спит на дне морском. — У. Шекспир. Буря. Акт. I, сц. 2. Перев. М. Донского.
(обратно)164
Как ты, агнец, сделан? — строка из стихотворения У. Блейка «Агнец» (перев. С. Маршака).
(обратно)165
Что ложится, облетая, / Наземь крона золотая. — Строка из стихотворения Дж. М. Хопкинса «Весна и осень. Маленькой девочке» (перев. Гр. Кружкова).
(обратно)166
…всеми позабытые поступки, вызванные любовью и добротой. — См. примеч. к с. 412.
(обратно)167
Дальше и дальше, все птицы Оксфордшира и Глостершира. — Из стихотворения «Эдлстроп» (1917) британского поэта Филипа Эдварда Томаса (1848–1917).
(обратно)168
Все потому, что Дух Святой сей гнутый мир согрел теплом груди и — ах — свеченьем крыл. — Из стихотворения Дж. М. Хопкинса «Величие Господне».
(обратно)169
Фанфары возвещают окончанье праздника. …Вещество, из которого сделаны сны, начинает лопаться и рваться, и содрогаются стены башни, увенчанной тучами. — Отсылка к финальному монологу Просперо в «Буре» У. Шекспира, акт IV, сц. 1 (перев. М. Донского):
Окончен праздник. В этом представленье Актерами, сказал я, были духи. И в воздухе, и в воздухе прозрачном, Свершив свой труд, растаяли они. — Вот так, подобно призракам без плоти, Когда-нибудь растают, словно дым, И тучами увенчанные горы, И горделивые дворцы и храмы, И даже весь — о да, весь шар земной. И как от этих бестелесных масок, От них не сохранится и следа. Мы созданы из вещества того же, Что наши сны. И сном окружена Вся наша маленькая жизнь. (обратно)170
Дочери Элизиума — аллюзия к поэме И. Ф. Шиллера «Ода к радости», где радость метафорически именуется «дочерью Элизиума».
(обратно)171
И станет плоть его песком, / Кораллом кости станут. — У. Шекспир. Буря. Акт 1, сц. 2. Перев. М. Донского.
(обратно)172
…в… колеснице Боадицеи… — Боадицея — римский вариант кельтского имени Боудикка (также Бо́удика, или Бу́дика). Боадицея (ум. 61) была женой главы зависимого от Рима бриттского племени иценов, селившегося в районе современного Норфолка на востоке Англии. После смерти мужа ее земли заняли римские войска, а император Нерон лишил Боадицею титула, что побудило ее возглавить антиримское восстание 61 г.
(обратно)173
…позаимствованным у Британнии. — Британния — древнегреческое и римское именование территории нынешней Великобритании, населенной бриттами, а также аллегорическая женская фигура, олицетворяющая этот остров.
(обратно)174
Зеленой Англии луга? — аллюзия к стихотворению Уильяма Блейка (1757–1827) «Иерусалим» (перев. С. Маршака), которое было положено на музыку сэром Хьюбертом Пэрри (1848–1918) и считается неофициальным гимном Англии.
(обратно)175
«Книга Судного дня», или «Книга Страшного суда» — свод материалов первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии в 1085–1086 гг. по приказу Вильгельма Завоевателя.
(обратно)


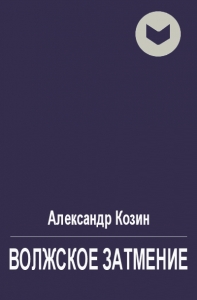

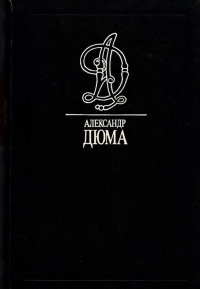
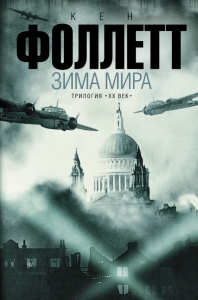
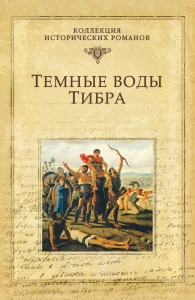
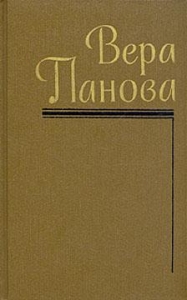
Комментарии к книге «Боги среди людей», Кейт Аткинсон
Всего 0 комментариев