Петер Гардош Предрассветная лихорадка
© Peter Gardos, 2015
© В. Середа, перевод на русский язык, 2016
© ООО “Издательство АСТ”, 2016
Издательство CORPUS ®
* * *
Братишка, вот уже который год Лицо Европы безобразят шрамы, Но смотришь ты без слез на самолет, Серебряный от лунной амальгамы[1]. Миклош ГардошШведскому мальчишке
Глава первая
Пасмурным летним днем корабль, на котором везли отца, приближался к Швеции.
Не прошло еще трех недель, как завершилась война.
Под шквальным северным ветром судно, вскидываясь на двухметровых балтийских волнах, следовало на Стокгольм. Мой отец был на нижней палубе. Валявшиеся на соломенных тюфяках доходяги судорожно цеплялись за койки, чтобы не свалиться от безумной качки.
Уже через час после выхода в море отцу стало плохо. Сперва он закашлял кровавой пеной и повернулся на бок, а потом захрипел так безумно, что его агония почти заглушала удары волн о корпус. Поскольку отец сразу был отнесен к числу самых тяжелых, то лежал он в первом ряду, недалеко от входа. Двое матросов, подхватив его невесомое тело, перенесли отца в кубрик.
Судовой врач долго не раздумывал. На возню с обезболиванием времени не было. Он вонзил между ребер в грудную клетку огромный шприц. Игла, по счастью, попала в нужное место. И врач успел откачать из плевральной полости пол-литра жидкости, когда наконец принесли аспиратор. Тогда шприц заменили катетером и с помощью помпы удалили из грудной клетки еще полтора литра слизи.
Отцу несколько полегчало.
Капитан, которого известили об успешном спасении умирающего, проявил к больному особое расположение. Укутав отца в толстые одеяла, его вынесли на палубу. Над свинцово-серым морем клубились набухшие дождем тучи. Капитан в безупречном кителе остановился рядом с шезлонгом, в котором лежал мой отец.
– Господин говорит по-немецки?
Мой отец кивнул.
– Вы родились в рубашке! Как ваше самочувствие?
В лучшие времена между ними мог бы завязаться какой-нибудь вежливый диалог. Но отец был не в состоянии вести джентльменские разговоры и сумел только обозначить готовность к общению:
– Жив пока.
Капитан присмотрелся к нему. Обтянутый пепельной кожей череп, увеличенные линзами очков зрачки, зияющая темная полость рта. К этому времени зубов у отца почти не осталось. Я не знаю, как именно это было. Возможно, и так: в тюремном подвале, при свете свисающей с потолка голой лампочки, тщедушного молодого человека избивали трое здоровых молодчиков. Возможно, один из полуобнаженных извергов схватил что-то очень тяжелое, металлическое, и несколько раз обрушил предмет на впалую грудь и лицо заключенного – моего отца. По бытовавшей в семье лаконичной версии, бо́льшую часть зубов ему выбили в сорок четвертом в будапешт-ском следственном изоляторе на Маргит-кёрут.
Да, он был еще жив, все еще, пусть со свистом, дышал, усердно втягивая в легкие свежий соленый воздух.
Капитан вскинул к глазам бинокль:
– Пришвартуемся на пять минут в Мальмё.
Отца эта новость оставила равнодушным. Кроме него, на борту было еще двести двадцать четыре находящихся в самом плачевном физическом состоянии человека, которых переправляли из немецкого Любека в Стокгольм. И многие из них были ничуть не уверены, что капитан доставит их живыми в пункт назначения. Так что заход на несколько минут в порт Мальмё для этих парий ничего не значил. Но капитан, словно докладывая кому-то вышестоящему, продолжал:
– Я получил радиограмму. Это приказ. Хотя стоянка здесь маршрутом не предусмотрена.
На корабле заревел гудок. Сквозь влажное марево показались корабельные доки Мальмё. Над головой у отца кружила компания чаек.
Корабль причалил к самому концу пирса. Двое матросов, спустившись, бегом бросились по волнорезу к берегу. Они тащили пустую корзину наподобие тех, в которых, по детским воспоминаниям отца, угрюмые прачки носили развешивать на чердак стираное белье.
У самого берега пирс был перекрыт шлагбаумом, за которым, опираясь на велосипеды, стояли женщины. Было их около полусотни. Молчаливая непо-движная группа. Многие из сжимавших велосипедные рули женщин – в черных платках. Как вороны на ветке.
Двое матросов были уже у шлагбаума. И тут мой отец заметил, что велосипеды увешаны свертками и кошелками. Капитан обнял его за плечи:
– Какой-то безумный раввин поместил в утренних газетах объявление. Написал о вашем прибытии на этом судне. И даже сумел добиться незапланированной стоянки.
Женщины побросали свои пакеты в бельевую корзину. Одна, что стояла дальше других, выпустила из рук руль, и велосипед с грохотом повалился. Мой отец услышал с палубы металлический звон, с которым он упал на базальтовые плиты причала. Расслышать его на таком расстоянии отец, конечно, не мог, но все же позднее, рассказывая об этой сцене, он обязательно вспоминал этот звон.
Потом, когда все уже было собрано, матросы, так же бегом, проделали путь обратно. Картина эта навсегда врезалась отцу в память: неправдоподобно безлюдный пирс, волокущие бельевую корзину матросы, а дальше, на заднем плане, тот странный и неподвижный женский велосипедный отряд.
В пакетах было печенье, которое безымянные шведские женщины испекли в честь прибытия в их страну этих парий. Мой отец разминал языком рассыпчатое печенье, ощущая во рту ванильно-малиновый вкус.
– Швеция вас приветствует, – проворчал капитан, отправляясь на мостик, и немного спустя корабль отошел от причала.
Мой отец еще долго жевал печенье. Из‑за туч вынырнул биплан и, приблизившись к судну, дважды описал над ним круг почета. И тогда мой отец постепенно понял, что действительно жив.
* * *
А седьмого июля 1945 года он уже лежал в шестна-дцатиместной больничной палате в Лербру, деревушке на острове Готланд, и, подложив под спину подушку, писал письмо. В окна палаты золотыми снопами падал солнечный свет. Между кроватями, подметая холщовыми юбками пол, бесшумно передвигались медсестры в крахмальных блузках и белых косынках.
Почерк у моего отца был необыкновенный – аккуратные буковки, элегантные закорючки и тонкие нитяные пробелы между словами. Закончив, он вложил лист бумаги в конверт и, запечатав, прислонил письмо к графину с водой на тумбочке. А через два часа его забрала медсестра Катрин и вместе с письмами других пациентов отнесла на почту.
Подниматься с больничной койки мой отец в это время мог еще очень редко. Однако через одиннадцать дней после описанного события, под вечер, он сидел уже в коридоре больницы. Раздобыв где-то тоненькую тетрадку в клеточку, отец переписывал в нее имена. Дело в том, что утром он получил письмо из Управления регистрации перемещенных лиц шведского Красного Креста. И в письме было сто семнадцать женских имен с адресами. В руках моего отца было сто семнадцать почтовых адресов молодых женщин и девушек, которых по всей Швеции пытались вернуть к жизни в больничных бараках.
Произошло это через несколько дней после потрясшего его драматического известия.
* * *
Прижавшись к рентгеновскому аппарату, мой отец затаил дыхание. Линдхольм переговаривался с ним из соседнего помещения. Главный врач был огромного, под два метра, роста и очень забавно говорил по-венгерски. Все долгие гласные он выговаривал на один манер, произнося их так, будто надувал при этом воздушный шарик. Больницей в Лербру Линд-хольм заведовал уже двенадцать лет, ну а венгерский язык он столь виртуозно ломал благодаря жене. Марта, женщина, в отличие от него, поразительно маленькая – отцу показалось, что росту в ней было от силы метр сорок, – работала в той же больнице в Лербру медсестрой.
– Не дышать! Не дергаться!
Щелчок, гул – снимок был готов.
Мой отец опустил плечи.
Линдхольм стоял уже рядом с ним. Но смотрел он не на него, а куда-то поверх головы отца. Тот бессильно стоял у рентгеновского аппарата, обнаженный до пояса, с впалой грудью, с таким видом, будто не собирается одеваться. Толстенные стекла его очков слегка запотели.
– Чем вы раньше занимались, Миклош?
– Был журналистом. Стихи писал.
– О! Инженер человеческих душ. Прекрасно.
Мой отец переступил с ноги на ногу.
Ему было холодно.
– Ну, одевайтесь, чего стоите!
Отец прошел в угол и надел пижаму.
– Что, плохи дела?
Линдхольм, все так же не глядя на него, направился в свой кабинет, велев отцу следовать за ним, и на ходу, словно бы между прочим буркнул:
– Плохи.
Окна его кабинета смотрели в сад. Как обычно в середине лета, остров Готланд под вечер был залит мерцающим бронзовым светом, который под непонятным углом падал на всю округу. От темно-коричневой мебели веяло домашним покоем.
Отец, запахнув пижаму, сел в кресло. По другую сторону стола, уже без халата, в жилете, расположился Линдхольм. Он озабоченно перебирал листочки с какими-то выписками. Потом, хотя было еще не темно, включил лампу с зеленым абажуром.
– Сколько вы сейчас весите, Миклош?
– Сорок семь кило.
– Вижу, вижу. Все идет как по маслу.
Последнее замечание доктора относилось к тому, что в результате усиленной терапии за несколько недель вес моего отца с двадцати девяти килограммов удалось довести аж до сорока семи. Мой отец нервно теребил пуговицы пижамной куртки. Пижама была велика и болталась на нем как на вешалке.
– Какая была рано утром температура?
– Тридцать восемь и две.
Линдхольм бросил листочки на стол:
– Не буду валять дурака! Ведь так у вас говорят? Вы уже достаточно окрепли, чтобы взглянуть в лицо фактам.
Мой отец улыбнулся. Почти все его зубы изготовлены были из “виплы”. Так назывался используемый в то время стоматологический сплав – нержавеющий, ужасный на вид и дешевый. Когда отец прибыл в Лербру, уже на следующий день его навестил стоматолог и, сделав слепки, отослал их техникам. Отца он предупредил, что протез будет временным и не слишком красивым, но зато практичным. И вскоре – раз, два и готово! – во рту у него уже был целый склад железа. Улыбку его можно было назвать как угодно, только не привлекательной, но главный врач все же заставил себя посмотреть на его лицо.
– Скажу прямо. Потому что так легче. Вам осталось полгода, Миклош.
Линдхольм взял со стола снимок и поднял его к свету.
– Вот, смотрите. Наклонитесь поближе.
Мой отец с готовностью вскочил и сгорбился над столом.
Тонкие пальцы Линдхольма забегали по долинам и взгорьям рентгеновского пейзажа.
– Вот, вот, вот и вот. Вы видите, Миклош? Все эти уплощения – следы сыпного тифа. А эти пятна видите? Это туберкулез. Необратимые изменения. К сожалению, с ними уже ничего не поделаешь. Говорить об этом ужасно. Если попросту, то болезнь уже… долопывает остатки легких. “Долопывать” – есть такое венгерское слово?
Они молча разглядывали рентгеновский снимок.
Мой отец уперся руками в стол – он был еще слишком слаб. И кивнул в знак того, что господин главный врач в самом деле безукоризненно разбирается в премудростях венгерского языка. Это “долопывает” весьма выразительно, лучше любых медицинских терминов обрисовало отцу не столь отдаленное будущее.
Мой дед по отцовской линии до войны занимался в Дебрецене книжной торговлей. Магазин приютился под аркадой епископского дворца, в центре города, в нескольких минутах ходьбы от главной площади. Место, где был магазин, называлось проездом Гамбринуса, и дедово заведение поэтому было известно как книжная лавка “Гамбринус”. В ней было три узких высоких зала. Отец моего отца продавал также канцелярские принадлежности и даже выдавал книги на дом. Еще подростком отец, стоя на вершине деревянной стремянки, перечитал всю мировую литературу, так что, я полагаю, он был в состоянии оценить поэтический образ Линдхольма.
Главный врач пристально посмотрел на отца.
– Современное состояние медицины говорит о том, что вы безнадежны. Иногда вы будете чувствовать себя лучше. Иногда – хуже. Я буду всегда рядом с вами. Но я не хочу вас обманывать. Шесть месяцев. От силы семь. Сердце мое разрывается. Но такова правда.
Мой отец распрямился. Все еще улыбаясь, он весело плюхнулся в глубокое кресло. Врач несколько растерялся, не уверенный, что его пациент понял диагноз, что он уяснил себе весь трагизм ситуации.
Но отца в это время занимали вопросы куда более важные, чем его жизнь.
Глава вторая
Когда через две недели после этого разговора отцу разрешили непродолжительные прогулки по больничному саду, он, присев на скамейке под сенью могучего дерева с разлапистой кроной, тут же взялся за дело.
Не отрываясь, одно за другим он писал письма. Писал их карандашом, своим бесподобным бисерным почерком. Он сидел, прижимая бумагу к твердому переплету изданного по-шведски романа Мартина Андерсена-Нексё. Политическими воззрениями Нексё он восхищался и обожал героев его романов – суровых мужественных пролетариев. Возможно, он также помнил, что великий датчанин тоже страдал чахоткой, но сумел излечиться.
Отец писал быстро. Готовые письма он складывал под камень, чтобы их не унесло ветром.
А на следующий день он постучал в кабинет главного врача. Он думал, что сможет обезоружить Линдхольма своей подкупающей искренностью. Ему нужна была его помощь.
После полудня главный врач обычно беседовал с пациентами, устроившись на диване. В одном углу кожаного дивана, в белом халате, сидел Линдхольм, в другом, в больничной пижаме, – отец.
Линдхольм изумленно держал в руках кипу писем.
– Мы обычно не спрашиваем у больных, с кем они переписываются и о чем. Поймите, это не любопытство…
– Я знаю. Но я хотел бы вас посвятить, господин главный врач.
– Вы говорите, любезный Миклош, что здесь сто семнадцать писем. Обширная переписка, поздравляю вас. – Линдхольм покачал на руке всю стопку, как бы прикидывая ее вес. – Хорошо, я попрошу сестру купить марки. С любыми вопросами материального свойства вы запросто можете обращаться ко мне.
Мой отец поддернул пижаму и закинул ногу на ногу.
– И все – женщины, – самодовольно ухмыльнулся он.
– Неужели? – вскинул брови Линдхольм.
– Точнее, девушки. Венгерки. Из Дебрецена и окрестностей. Я и сам там родился.
– Понятно, – кивнул главный врач.
Он конечно же ничего не понял, да и не мог понять, зачем моему отцу эта уйма писем. Но все же изобразил на лице понимание – ведь разговаривал он со смертником.
А отец как ни в чем не бывало продолжил:
– Две недели назад я навел справки: сколько по всей Швеции женщин, которые родились в окрестностях Дебрецена и теперь находятся здесь на лечении. Моложе тридцати лет!
– В больничных бараках?! О-о!
Они оба знали, что, кроме Лербру, в Швеции есть еще не один десяток подобных реабилитационных центров. Мой отец самодовольно выпятил грудь, распираемый гордостью за свой гениальный план.
– Там ведь женщин хоть пруд пруди. Женщин, девушек. Вот, извольте взглянуть! – Он выудил из кармана пижамы длиннющий список. И, покраснев от смущения, протянул врачу основательно препарированный реестр, где отдельные имена были помечены крестиками, галочками, треугольничками.
– Ого. Вы ищете среди них знакомых? Это можно приветствовать!
– Вы неправильно поняли, – хитро прищурился мой отец. – Я ищу невесту. Хочу жениться.
Он наконец-то сказал это! И откинулся на диване, ожидая эффекта.
Линдхольм недовольно нахмурился:
– Похоже, любезный Миклош, в прошлый раз я объяснялся недостаточно ясно.
– Что вы, доктор, напротив.
– Похоже, подвел меня ваш язык! Шесть месяцев, приблизительно. Это все, на что можно рассчитывать. Это ужасно, Миклош, когда врач говорит пациенту такое, но вы должны понять…
– Доктор, я вас прекрасно понял.
Что тут можно было еще сказать? Оба молча замерли на диване.
И сидели так в нарастающем замешательстве минут пять. Линдхольм размышлял о том, вправе ли он поучать человека, приговоренного к смерти, призывая его трезво взвешивать собственные возможности. А отец мой – о том, надо ли объяснять столь ученому мужу, что такое оптимистический взгляд на мир. Так они и расстались, ничего не сказав друг другу.
* * *
Во второй половине дня мой отец, как обычно, лег в постель и подложил под спину подушку. Было четыре часа, время отдыха, когда пациентам полагалось находиться в палатах. Многие спали, некоторые играли в карты, а Гарри с нервирующим усердием выводил на скрипке невероятно сложный финальный пассаж какой-то романтической сонаты.
На сто семнадцать конвертов нужно было наклеить марки. Мой отец слюнявил и клеил их, слюнявил и клеил. А когда пересыхало во рту, то брал с прикроватной тумбочки стакан с водой и отпивал глоток. Ему казалось, что Гарри играл только для него, обеспечивая его занятие музыкальным сопровождением.
Все эти сто семнадцать писем он мог написать и под копирку, ведь единственное, чем они отличались, было обращение.
* * *
Представлял ли в своих мечтах мой отец, что почувствует женщина, когда вскроет адресованный ей конверт? Когда вынет письмо и взгляд ее упадет на ровные ниточки его строк?
Ах, эти женщины! Сидящие на краешке больничных коек, на садовых скамейках, замершие в закутке пропахшего лекарствами больничного коридора, застывшие за толстыми стеклами окон или на выщербленных ступенях лестницы, или под тихими липами у пруда, или прижавшиеся спиной к пожелтевшей глазури остывающей изразцовой печи. Видел ли мой отец, как они, кто в исподней рубашке, кто в привычном, лагерном еще, серо-белом платье, вскрывают полученные от него письма? Как сначала смущенно, а потом уже улыбаясь, с замирающим от волнения сердцем или с крайним недоумением вновь и вновь пробегают глазами по строчкам?
Дорогая Нора, дорогая Эржебет, дорогая Лили, дорогая Жужа, дорогая Шара, дорогая Серена, дорогая Агнеш, дорогая Гиза, дорогая Каталин, дорогая Юдит, дорогая Габриэлла…
Наверное, Вы привыкли к тому, что, когда разговариваете по-венгерски, к Вам может обратиться незнакомый Вам человек – на том основании, что он тоже венгр. Что поделаешь – не то нынче воспитание.
Вот и я только что фамильярно к Вам обратился на том основании, что мы с Вами земляки. Я не знаю, встречались ли мы в Дебрецене, где я был – до того, как Родина загнала меня в трудовой батальон, – сотрудником городской газеты, а отец мой держал книжный магазин в помещении епископского дворца.
Мне кажется – судя по возрасту и фамилии, – что мы с Вами знакомы, Вы ведь жили в проезде Гамбринуса?
Не сердитесь, что я пишу Вам карандашом – дело в том, что по настоянию докторов мне придется опять день-другой поваляться в постели…
* * *
Одной из ста семнадцати получательниц этого послания была некая Лили Райх, восемнадцатилетняя обитательница больничного городка в Смоландсстенаре.
Она вскрыла письмо из далекого Лербру, которое в августе ей принес почтальон, внимательно прочитала его и, решив, что молодой человек с не-обыкновенным почерком наверняка ее с кем-то путает, тут же о нем забыла.
К тому же в те дни она пребывала в лихорадочном возбуждении. Вместе с двумя новоиспеченными подругами, Шарой Штерн и Юдит Гольд, они готовились нарушить унылое однообразие медленного излечения.
Юдит Гольд была девицей с лошадиным лицом и темным пушком над тонкими, плотно сжатыми губами. А Шара – прямая противоположность: бело-курое, хрупкое существо с узкими плечиками и стройными ножками.
Три подруги мечтали устроить в клубе больничного городка венгерской вечер.
Все трое прежде занимались музыкой: Лили Райх восемь лет играла на пианино, Шара Штерн пела в хоре, а Юдит Гольд до войны занималась танцами. Из чистого энтузиазма к ним подключились Эрика Фридман и Гитта Планер. Программу – примерно минут на тридцать – они напечатали на машинке в кабинете врача и вывесили ее в трех местах. Скрипучие деревянные стулья клуба заполнили любопытствующие – в основном пациенты реабилитационного центра, но были и местные, из Смоландсстенара, которым тоже хотелось послушать концерт.
Успех был ошеломительный. После последнего номера – зажигательного чардаша – публика аплодировала стоя, без конца вызывая краснеющих от смущения девушек. Но когда они убежали за сцену, Лили вдруг почувствовала резкую боль в животе. Она скорчилась, обхватив живот, и неожиданно для себя застонала. Потом она повалилась на пол. Со лба градом струился пот.
Шара, самая близкая из подруг, бросилась к ней.
– Лили, что с тобой?!
На какое-то время девушка потеряла сознание. Она не запомнила, как ее увозили на скорой, в памяти сохранилось только размытое лицо Шары, которая что-то кричит ей, а она ничего не слышит.
Позднее она часто задумывалась над тем, что, наверное, никогда бы не встретила моего отца, не случись этот приступ почечной колики. Ведь это из‑за него дюжий белый автомобиль санитарной службы доставил ее в военный госпиталь в Экшё, куда Юдит Гольд при первом же посещении принесла ей, кроме зубной щетки и дневника, то письмо, что послал ей молодой человек из Лербру. И она же, ее подруга Юдит, уговорила ее, несмотря на все доводы разума, написать этому симпатичному парню несколько фраз – хотя бы из сострадания.
Так и произошло. В один из нескончаемо долгих больничных вечеров, когда наконец затихла скрипучая дверь допотопного лифта и умолк коридорный гомон, Лили Райх взяла лист бумаги и при свете мерцавшей над койкой лампы стала писать письмо.
Уважаемый Миклош!
Наверное, я не та, за кого Вы меня принимаете, ведь, хотя родилась я в Дебрецене, с годовалого возраста постоянно жила в Будапеште. И все-таки я о Вас много думала, так как искреннее и душевное Ваше письмо мне понравилось, вот я и решила ответить Вам…
Это было верно только наполовину. Теперь, когда ее приковал к постели неизвестный новый недуг, она – от страха, от неизвестности, а может быть, чтобы отвлечься, – стала предаваться фантазиям.
О себе скажу только, что я не люблю отглаженные брюки со стрелками и прилизанные прически, зато высоко ценю внутренние достоинства.
* * *
Мой отец немного окреп. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы они вместе с Гарри отважились выбраться в городок. Обитатели реабилитационных центров в Швеции получали карманные деньги – по пять крон в неделю. В Лербру было две кондитерские, в одной из которых стояли такие же мраморные столики, как в довоенной Венгрии. С Кристин, пухленькой парикмахершей, им удалось познакомиться прямо на улице, так что за круглый мраморный столик они уселись втроем. Юная шведка церемонно, вилочкой, ела шарлотку, а ее кавалеры заказали себе минералки. Разговаривали по-немецки, потому что с напевным шведским наречием наши венгры еще только знакомились.
Золотистый пушок под носом Кристин был обсыпан сахарной пудрой.
– Вы отличные парни. Где вы родились?
Мой отец с гордостью выпятил грудь.
– Хайдунанаш, – изрек он, как будто волшебное слово.
– А я из Шайосентпетери, – сказал Гарри.
Кристин попыталась совершить невозможное. И повторила услышанное. Но получилось нечто булькающее и бессмысленное: Гайдю… нана. Шаю… синт… питер…
Они рассмеялись. Кристин вернулась к яблочному пирогу. Наступила пауза, короткая, но достаточная для того, чтобы составить план гусарской атаки. В подобных делах Гарри был мастак.
– Что сказал Адам Еве во время их первой встречи? – задал он вопрос.
Кристин, забыв про пирог, нахмурила лоб, пытаясь разгадать загадку. Гарри, немного повременив, поднялся. И пояснил жестом, что он теперь голый.
– Сударыня, отойдите подальше, а то мне не видно, где эта штука кончается! – И показал рукой на ширинку.
Кристин сначала не поняла, но потом покраснела. Мой отец смущенно схватил стакан и глотнул минералки.
А Гарри было не удержать.
– Есть другой анекдот. Госпожа спрашивает у новой горничной: “У вас все в порядке с рекомендациями?” Горничная кивает: “Да, ваша милость, все были мной довольны” – “Вы готовить умеете?” Горничная кивает. “Детей любите?” Горничная кивает: “Люблю. Но барину все же лучше не забывать о предосторожности”.
Кристин прыснула со смеху. А Гарри поймал ее руку и жарко поцеловал. Кристин хотела освободить руку, но тот держал ее крепко, и она предпочла не сопротивляться. Мой отец отвернулся. И опять глотнул минералки.
Кристин оправила юбку и поднялась.
– Мне нужно выйти. – И чинно двинулась между столиками.
Гарри тотчас перешел на венгерский:
– Она тут рядом живет. На третьей улице.
– Откуда ты знаешь?
– Сама сказала. Не слышал?
– А ты ей понравился.
– Ты тоже.
Мой отец пристально посмотрел на Гарри:
– Меня это не волнует.
– Ты сто лет не сидел в кафе. Сто лет не видел женского тела.
– Ты это к чему?
– Лагерь кончился, мы свободны. Пора возвращаться к жизни!
Кристин, покачивая бедрами, уже направлялась обратно. Гарри еще успел шепнуть отцу по-венгерски:
– Может, сэндвич организуем?
– Какой еще сэндвич?
– Мы с тобой и она. Кристин посередине.
– Да пошел ты.
Гарри, не переводя дыхания, перешел на немецкий и незаметно погладил девушку под столом по ноге.
– Дорогая Кристин, мы тут с Миклошем говорили о том, что я по уши в вас влюбился. Могу я на что-то надеяться?
Девушка предостерегающе подняла указательный палец и запечатала им губы Гарри.
* * *
На четвертом этаже в доме по улице Нюсвеген Кристин снимала маленькую квартирку. Через открытое окно иногда доносился приглушенный шум редких автомобилей. Чтобы облегчить Гарри работу, она села на кровать. И в качестве первого испытания велела ему зашить надорвавшийся сзади бюстгальтер. Разумеется, не снимая его. За процессом девушка наблюдала в зеркало, что висело перед кроватью.
– Ну, готово?
– Почти. А не проще было бы снять?
– Еще не хватало!
– Ты меня мучаешь.
– В том и суть. Чтобы ты пострадал. Потерпел, помог девушке по хозяйству, – засмеялась Кристин.
Наконец он закончил починку и перекусил нитку.
Кристин вскочила с кровати и повертелась у зеркала, пощелкивая по телу бретельками бюстгальтера. Гарри, все больше краснея, восхищенно смотрел на нее. Потом обнял девушку и стал неловко освобождать ее от бюстгальтера.
– Я буду готовить, стирать, мыть полы, – хрипло шептал он. – Буду работать как вол.
И в ответ получил от нее поцелуй.
* * *
Когда через час Гарри вернулся, то застал моего отца в том же углу кондитерской. Гарри плюхнулся рядом с ним, но он даже не взглянул на друга. На мраморном столике лежало письмо, которое он как раз заканчивал. Кончик карандаша так и летал над белым листом бумаги. Гарри тяжко вздохнул. Он был в полном отчаянии.
Наконец мой отец поднял голову. И кажется, даже не удивился кислой физиономии Гарри.
– Что, любовник, повесил нос?
Гарри осушил стакан отца с остатками минералки.
– Дохляк я, а не любовник!
– Вы поссорились?
– Сначала она заставила меня починять ей бюстгальтер. А потом я ее раздел. Ты бы видел это цветущее тело!
– Ну и отлично. Не мешай, я должен закончить, – снова уткнулся в письмо отец.
Гарри с завистью наблюдал, как легко его друг отключался от внешнего мира. Как будто его, Гарри, здесь и не было.
Чуть обождав, он пробормотал:
– Зато у меня все завяло… Я не смог, ничего не вышло!
Отец будто одержимый продолжал писать.
– Чего у тебя не вышло?
– У меня, который мог по пять раз на дню! Мог ведро с водой нацепить и гулять с ним по комнате…
Мой отец задумался над каким-то эпитетом. Но потом все же вежливо поинтересовался:
– Куда нацепить?
– А теперь болтается между ног, как сморчок. Бледный, жалкий, никуда не годный.
Мой отец наконец-то нашел подходящее слово. Ясно было, что он про себя улыбается. Он записал слово и успокоился. Теперь можно было успокоить и Гарри.
– Так это нормально. Без чувств ничего не получится.
Гарри яростно закусил губу. А потом неожиданно развернул письмо и стал читать вслух:
– “Дорогая Лили! Мне сейчас двадцать пять…”
Мой отец тут же прихлопнул письмо ладонью, Гарри хотел его вырвать. Какое-то время они боролись, но отец оказался ловчее и спрятал письмо в карман брюк.
Дорогая Лили! Мне сейчас двадцать пять, я был журналистом, пока из‑за первого закона о евреях меня не вышвырнули из газеты.
Художественным приемом преувеличения отец владел в совершенстве.
Если строго держаться фактов, то журналистом он проработал восемь с половиной дней. В дебреценскую “Фюггетлен Напло” его приняли в понедельник, да и то скорее курьером, быстроногим поставщиком новостей для криминальной хроники, – приняли в самый неблагоприятный момент в истории. Спустя неделю в Венгрии вышел закон, ограничивавший права евреев в некоторых сферах деятельности, что положило конец журналистской карьере отца. Но восемь с половиной дней этой газетной практики навсегда закрепились в его автобиографии.
Пережить этот драматический поворот девятнад-цатилетнему молодому человеку конечно же бы-ло непросто. Сегодня ты красуешься с карандашом за ухом, а завтра уже развозишь по домам содовую и, высунувшись из повозки, горланишь: “Газировщик! Меняю сифоны!” Лошаденки трусили рысцой по дороге, и в ушах моего отца отвратительно свистел ветер.
…потом я был экспедитором по доставке содовой, рабочим текстильной фабрики, пинкертоном в кредитно-информационном бюро, мелким служащим, рекламным агентом и перепробовал много других столь же замечательных профессий, пока в 1941 году меня не призвали в трудовой батальон. При первом удобном случае я бежал к русским. В течение месяца, в Черновицах, я мыл посуду в большом ресторане, а потом там же, на Буковине, вступил в интернациональный партизанский отряд…
Дезертиров-венгров, в общей сложности восьмерых, на ускоренных красноармейских курсах обучили диверсионному ремеслу и забросили в тыл противника. Русские, что с сегодняшней точки зрения совершенно понятно, не доверяли им. В Советском Союзе, как мы знаем теперь из истории, доверия не было ни к кому. А тут эти перебежчики-венгры – почему бы от них не избавиться?
Представляю себе картину: мой отец, с вещмешком, в фуфайке, судорожно цепляется за распахнутую дверь самолета. Смотрит вниз. Там – бездонная глубина, облака, голые поля. У отца, страдающего агорафобией, кружится голова, он в панике отворачивается, его рвет. Сзади чьи-то крепкие руки хватают его и швыряют в бездну.
Неизвестно, как так получилось, но в тот день, на рассвете, в жидкой рощице в Северной Трансильвании, которая тогда относилась к Венгрии, их поджидало отделение автоматчиков, и когда парашютисты были уже в нескольких метрах от земли, их начали методично расстреливать.
Мой отец оказался счастливчиком – той фигурой в этом своеобразном тире, в которую не попали. Но когда он упал на землю, его схватили и заковали в наручники. Той же ночью его доставили в Будапешт, где менее чем за полчаса он потерял два десятка зубов.
* * *
В кондитерской городка Лербру Гарри завистливо посмотрел на отца:
– И сколько ответов ты получил?
– Восемнадцать.
– И со всеми теперь будешь переписываться?
Мой отец указал на карман, куда спрятал письмо:
– Настоящая – только она.
– Почему ты так думаешь?
– Я это знаю.
Глава третья
В госпитале Экшё Лили разместили в палате на четверых. Был конец сентября, за окном сиротливо стояла береза, уже сбросившая листву.
Главный врач, доктор Свенссон, начал рано лысеть. Он был в самом расцвете сил, но сквозь песочного цвета волосы уже просвечивала розовая, как попка младенца, кожа. Он был низенький, крепко сбитый. На маленьких, почти детских руках ногти были размером с черешневый лепесток.
Освободившись от защитного фартука, он перешел в другую часть кабинета. В голом помещении рядом с махиной рентгеновского аппарата стоял только стул, на котором – бледная, перепуганная, в застиранном полосатом халате – сидела Лили.
Свенссон присел рядом с ней на корточки и погладил ее по руке. То, что эта венгерская девушка прекрасно владела немецким, облегчало его задачу. Сейчас были очень важны нюансы.
– Я изучил ваш последний снимок. Сегодняшний будет готов только завтра. Должен сказать, что сперва мы подозревали у вас скарлатину, но теперь это исключается.
– Что-то хуже?
Лили произнесла это шепотом, как будто они сидели в зрительном зале.
– В каком-то смысле – да. Но это не инфекция. Причин для волнения нет.
– Что у меня?
– Зловредные почки шалят. Но я вас вылечу. Обещаю вам.
Лили, не в силах более сдерживаться, залилась слезами. Доктор Свенссон взял ее за руку:
– Не плачьте, девочка. Я прошу вас. Вам придется опять соблюдать постельный режим. На этот раз строгий.
– Как долго?
– Пока две недели. От силы три. А там видно будет.
Доктор достал из кармана носовой платок. Лили высморкалась и размазала по лицу слезы…
Моей фотографии у меня нет… Несколько дней назад я снова попала в больницу и сейчас лежу в Экшё.
* * *
Танцы я ненавижу, но веселье люблю, а еще – фаршированный перец (с обильным томатным соусом, разумеется).
О том, что отец с детства ненавидел танцы, в семье хранились легенды.
Говорят, что однажды, когда ему было лет восемь, ему напомадили волосы, вырядили в кургузый костюмчик и потащили в знаменитый дебреценский “Золотой бык”. Из‑за каких-то проблем с рефракцией он и тогда уже был слеповат и носил уродующие лицо окуляры с толстыми линзами.
В разгар бала мальчишку втолкнули в круг дам и барышень. Дамы бурно зааплодировали и стали подталкивать к танцу двух малышей, топтавшихся в центре круга. Девчонка, которую, по преданиям, звали Мелиндой, пришла в себя первой. Захваченная волной общего ликования, она потянула мальчишку за руку и пустилась кружиться. Но отец, поскользнувшись на свеженатертом паркете, шлепнулся на карачки и в этой позе наблюдал за Мелиндой, сорвавшей на том балу самый большой успех.
* * *
Отец с Гарри свернули на улицу Корсбювеген и поспешили в лагерь. Дул сильный ветер, отец поднял воротник легкого пальтишка.
Внезапно остановившись, Гарри схватил его за руку:
– Послушай, а может, у нее подруга есть? Ты узнай!
– Узнаю. Попозже. У нас все еще только начинается.
В этот день словно бес вселился в обитателей их барака. Они все перевернули вверх дном, сдвинули кровати, раздобыли где-то гитару. Ене Григер, как выяснилось, довольно сносно мог сыграть любой знаменитый шлягер последних лет.
Начались танцы. Поначалу они просто самозабвенно плясали, но потом в них проснулось желание пофиглярствовать. И они, не сговариваясь о ролях, весело и задорно стали изображать кто бравого гусара, кто легкомысленную девицу. Щелкали пятками, делали реверансы, что-то нашептывали друг другу и жеманничали. Они яростно, исступленно кружились, как будто инстинкты, подавляемые месяцами, вдруг взорвались как вулкан.
Мой отец в таких инфантильных забавах участвовать не любил. Он сидел в гордом одиночестве на задвинутой в угол кровати и, держа на коленях любимого Нексё, писал письмо.
Но Вы так и не написали мне о своей внешности! Вы, конечно, сразу подумаете, что я какой-нибудь вертопрах, который только об этом и думает. Скажу по секрету: не только.
* * *
В дверь постучали, но Лили даже не подняла головы. Она читала “Пятнадцатилетнего капитана” – замызганный экземпляр немецкого перевода Жюля Верна, который ей накануне принес доктор Свенссон.
На пороге, с узелком в руках, стояла Шара Штерн. Лили глазам своим не поверила. Шара бросилась к ней, опустилась на колени, и они обнялись. “Пятнадцатилетний капитан” упал на пол.
– Меня Свенссон определил сюда! Чтобы быть с тобой рядом! Хотя я нисколечко не больна!
Она, словно балерина, крутанулась вокруг оси. Мигом скинула с себя платье, натянула ночную рубашку и юркнула в постель к Лили.
А Лили, без ума от счастья, еще долго, долго смеялась.
Что ж, пока у меня нет фотографии, попытаюсь себя описать словами. По комплекции, как я себя вижу, я полненькая (спасибо шведам), среднего роста. Волосы темно-каштановые, глаза серо-голубые, губы тонкие. Румяная, смуглолицая. Можете представлять меня хоть красавицей, хоть уродиной, самой мне об этом сказать нечего. Я Вас тоже себе представляю, и очень мне интересно, насколько это мое представление совпадает с реальностью.
В воскресенье по инициативе Линдхольма пациентов больницы на трех автобусах повезли к морю, расположенному в двадцати километрах от городка.
Оторвавшись от остальных, мой отец и Гарри тут же облюбовали себе укромную песчаную бухточку, где можно было уединиться. День выдался изумительный, настоящий подарок. Над водой бескрайным кобальтовым шатром раскинулось небо. Парни разулись и, как пьяные, бродили у кромки моря, лизавшего их ступни.
Потом Гарри исчез за скалой. Мой отец сделал вид, будто он ничего не заметил. В последнее время у Гарри появилась привычка уединяться в укромных местах и испытывать там свою мужскую силу. Солнце, клонясь к закату, отбрасывало длинные тени. И отражение Гарри, мучительно добивавшегося удовлетворения в своем укрытии, проецировалось на песок, как какой-нибудь эротически откровенный рисунок Шиле. Мой отец попытался сосредоточиться на волнах и сверкающем в бесконечной дали горизонте.
А еще хотелось бы Вас спросить, что Вы думаете о социализме. Судя по Вашим семейным обстоятельствам, вы из среднего класса, к которому относился и я до своей встречи с марксизмом. А средний класс имеет на этот счет достаточно странные представления…
Осень настала в Экшё необычно рано. Она налетела внезапно, ночью, со свинцовым дождем и пронизывающим холодным ветром. Две девушки в больничной палате с испугом смотрели, как за окном сотрясалась и гнулась одинокая береза.
Их кровати стояли настолько близко одна к другой, что они могли взяться за руки, высунув их из-под одеяла. Девушки перешептывались:
– Эх, мне бы сейчас двенадцать крон!
– И что бы ты с ними сделала?
Лили закрыла глаза.
– У нас на углу улицы Нефелейч был зеленщик… Меня мамочка посылала к нему за фруктами…
– В лавку Медве! Так звали зеленщика!
– Этого я не помню.
– Ну как же! А я называла его просто “медведем”! Почему ты об этом вспомнила?
– Просто так. В прошлом месяце, в Смоландсстенаре, когда я еще на ногах была, я увидела в витрине зеленый перец.
– Ух ты! А я думала, его здесь не бывает.
– Я тоже так думала. Он стоил двенадцать крон. За килограмм, наверное. Или за полкило?
– И тебе захотелось.
– Это глупо, я знаю. Но вчера мне этот зеленый перец снился. Я кусала его. Он хрустел. Приснится же такой бред!
Дождь лил не переставая, барабаня в окно, и девушки зачарованно слушали его шум.
Шара, моя подруга, часто рассказывает мне про социализм. Я, признаться, идеологией никогда не интересовалась. Но сейчас начала читать книгу, которую мне дала Шара, “Москва, 1937” – так она называется. Но Вы-то, конечно, давно ее прочитали…
* * *
Как-то ночью мой отец стал опять задыхаться. Он даже не успел крикнуть. Остановился посередине барака, напрягся всем телом и, разинув рот, попытался хватить кислорода из воздуха. Но тут же упал. На сей раз из его грудной клетки откачали два литра жидкости.
Оставшуюся часть ночи он провел в боксе, куда его поместили. Гарри улегся на пол рядом с кроватью, чтобы поднять по тревоге Линдхольма, если снова начнется приступ. Хотя главный врач уверял его, что в ближайшее время кризис не повторится, он все же остался.
– Что со мной было? – еле слышно пробормотал отец.
– Ты упал без сознания, у тебя откачали жидкость. И теперь ты в боксе, рядом с операционной.
У Гарри от жесткого деревянного пола заныли бока. Он сел и скрестил ноги по-турецки. Отец долго молчал, а потом прерывающимся голосом воскликнул:
– Слушай, Гарри! Я жабры себе отращу! Нет, они меня не возьмут.
– Кто – они?
– Кто угодно. Я покажу, на что я способен!
– Эх, завидую я тебе! Что ты такой сильный…
– Не унывай, с тобой тоже все образуется. И сморчок твой станет такой оглоблей, что только держись!
Гарри сидел, покачиваясь взад-вперед. Размышлял над словами отца.
– Ты так думаешь?
– Все девки будут твои, – заверил его отец и попробовал улыбнуться.
Между тем из головы у него не выходили слова, которые он написал Лили:
А теперь один странный вопрос: а как у Вас обстоят дела на любовном фронте? Ох, боюсь, достанется мне от Вас за такие вольности!..
* * *
В один из последующих дней под унылым моросящим дождем Шара выскользнула из госпиталя и направилась в старый центр. Экшё и после войны оставался волшебным городом, особенно в его исторической части.
Одна из сестер подсказала ей, где расположена самая лучшая овощная лавка. И надо же было случиться, что на витрине зеленщика стояла всего лишь одна корзинка, а в ней – пара крепких мясистых ярко-зеленых перцев.
Девушка запыхалась, так что пришлось ей перевести дыхание, чтобы успокоилось сердце, после чего, нащупывая в кармане мелочь, она вошла внутрь.
На “странный” вопрос мне ответить нетрудно: да, поклонники у меня были. Понимаю, что сейчас Вас интересует только одно – много или ЕДИНСТВЕННЫЙ?! Попробуйте угадать!..
* * *
В больничном бараке Гарри слыл отчаянным ловеласом. Он разыгрывал из себя самоуверенного героя-любовника, с загадочной улыбкой давая понять, что на его счету десятки девичьих и женских разбитых сердец. О мелких его проблемах, кроме отца, разумеется, никто не догадывался.
Как-то парни нашли его заветную склянку с одеколоном. Где он его добыл, было непонятно. Иногда, когда он готовился к вылазке в город, весь барак наполнялся удушливым ароматом лаванды. Кто-то выследил, что флакон – толстостенный, но очень изящной формы – Гарри прячет между матрасом и панцирной сеткой койки.
Рано вечером, собираясь в очередную разведку, он обнаружил, что тайник под матрасом пуст. И тут флакон с одеколоном стал летать над койками. Гарри бегал туда-сюда, пытаясь его поймать. Тот, кто его держал, коварно ждал, пока Гарри к нему подбежит, и швырял над его головой, как мячик. Потом игра всем наскучила – кто-то открутил колпачок, и парни давай поливать друг друга, не жалея сокровища Гарри. Тот рыдал и вопил, умоляя отдать бесценный одеколон, купленный на позаимствованные у кого-то деньги.
Это просто кошмар, что у нас за народ подобрался! Сами видите по моему бестолковому письму. Венгры – что с них возьмешь! Так галдят, что писать невозможно! Кто-то разбрызгал одеколон нашего главного донжуана, даже на это письмо перепало. В общем, люди мы очень веселые, настолько, что иногда даже страшно делается.
Кстати, о веселье – чем собираетесь нас развлекать, когда мы приедем?
* * *
Когда Шара вернулась с прогулки по старому городу, Лили спала. Такое бывало частенько, когда от безделья и усиленного питания больных днем клонило в сон.
Этому обстоятельству Шара была только рада. Она тихонько положила два зеленых перца на подушку, прямо Лили под нос.
…весть о том, что Вы, милый Миклош, собираетесь навестить нас, привела всех в восторг…
* * *
В дневное время мой отец и Гарри с завидным усердием совершали прогулки по дорожкам обширного сада, что окружал больницу. Теперь, когда путешествие отца в Экшё казалось уже реальностью, Гарри стал проявлять к нему живой интерес и взял себе в голову, что должен заполучить одну из корреспонденток отца или даже уговорить друга, чтобы тот подключил его к обретавшему все более четкие очертания плану поездки.
– Так сколько, ты говоришь, километров? – деловито поинтересовался он.
– Двести семьдесят.
– Два дня туда, два обратно. Не разрешат.
Мой отец быстро шел, глядя себе под ноги.
– Разрешат.
Гарри чувствовал, как важно теперь развеять всяческие сомнения относительно его мужской силы.
– Я уже почти в идеальной форме. По утрам вот с таким просыпаюсь!
И для наглядности показал, с каким. Но отец не отреагировал.
В любом случае помните, что я буду Вашим двоюродным братом, а Гарри пускай будет дядей Вашей подруги Шары. Но должен предупредить Вас, что на станции (уже на станции) мы с Вами по-родственному расцелуемся! Чтобы соблюдать видимость!
С дружескими рукопожатиями и родственными поцелуями, Миклош.
* * *
Однажды солнечным утром (что в Экшё большая редкость) в палате распахнулась дверь и на пороге показалась смеющаяся, кругленькая как мячик, усатая Юдит Гольд. Она бросила на пол свои пожитки и распростерла объятия:
– Меня тоже Свенссон прислал! Анемия тяжелой степени! Будем вместе болеть!
Шара бросилась к Юдит, они обнялись. Лили тоже выбралась из постели, хотя это было строжайше запрещено. Взявшись за руки, подруги пустились в пляс у окна, а потом уселись на койку. Юдит Гольд обхватила ладонями руку Лили:
– Ну как, пишет еще тебе?
Лили выждала: в последнее время она училась держать драматическую паузу, понимая, какие, пусть небольшие, но все-таки ощутимые преимущества она может дать. Она медленно, театрально поднялась, подошла к тумбочке и выдвинула ящик. Достав пачку писем, перетянутую резинкой, Лили подняла ее над головой:
– Восемь!
Юдит Гольд всплеснула руками.
– Трудолюбивый парень!
Шара похлопала Юдит Гольд по коленке.
– А если б ты знала, какой он умный! И к тому же социалист!
Это было уж слишком. Юдит Гольд поморщилась:
– Фу! Социалистов я не люблю.
– А Лили любит.
Юдит Гольд взяла из рук Лили письма и понюхала их.
– Это точно, что не женатый?
Лили пришла в изумление. Ну зачем нюхать письма?
– Точней не бывает.
– Это надо проверить. Я вон сколько раз обжигалась.
Юдит Гольд была старше их по крайней мере на десять лет. И довольно непривлекательной. Тем не менее она могла иметь некоторый опыт. Лили забрала у нее письма, сдернула с них резинку и развернула то, что лежало сверху.
– Вот что он пишет:
Спешу сообщить хорошую новость: мы можем писать теперь в Венгрию! Правда, пока только по-английски и коротко. Двадцать пять слов – на бланке, который нужно запрашивать в консульстве или по адресу: Красный Крест, Стокгольм, почтовый ящик 14.
– Вот так!
Новость и правда была хорошая, и все трое погрузились в задумчивое молчание.
Лили вернулась в кровать и, положив письма на живот, уставила взгляд в потолок.
– От мамочки никаких вестей. И от папочки тоже. Даже думать об этом страшно. А вам не страшно?
Девушки молчали, избегая смотреть друг на друга.
* * *
В тусклый пасмурный день, когда осень уже добралась и до Готланда, Линдхольм в полдень созвал обитателей больничного лагеря.
И в телеграфном стиле проинформировал их о существенных изменениях в их положении. Хорошая новость заключалась в том, что среди пациентов больше нет заразных, другая же новость – в том, что венгерскую часть контингента на следующее утро отправят из Лербру в новый больничный лагерь близ городка Авеста в северной части Швеции. Это в нескольких сотнях километров от Готланда. И Линдхольм, главный врач, отправится вместе с ними.
* * *
До Авесты в неторопливо пыхтящем поезде они добирались долгих полтора дня. Новое пристанище, что находилось в семи километрах от города, сперва показалось им каким-то гиблым местом. Лагерь, стоявший в глубине леса, был обнесен проволочным забором, а прямо посередине торчала какая-то заводская труба.
Их разместили в кирпичных бараках. Наверное, перенести эти перемены было бы легче, если бы настроение не подавлял суровый по сравнению с Готландом климат. В Авесте постоянно дул ветер, все было покрыто инеем, а солнце цвета переспелого апельсина показывалось разве что на минуты. Перед окнами была небольшая бетонированная площадка с торчащим из трещин бурьяном. Без сомнения, было в этой площадке какое-то утопическое очарование. На ней стоял длинный деревянный стол со скамьями – как на каком-нибудь хуторе в венгерской степи. По вечерам и больные, и выздоравливающие устраивались здесь, кутаясь в теплые одеяла.
Линдхольм добился даже, чтобы им присылали из Венгрии газеты, которые приходили обычно три раза в неделю, с двадцатидневной задержкой. Измятую, отпечатанную на дрянной бумаге газету венгры тут же разрывали на четыре части и группами, вися друг на друге, пожирали газетные новости. Над их головами плясала на ветру лампочка. Периодически в ее бледном свете они менялись страницами и, беззвучно шевеля губами, мысленно уносились в родные края.
В первый рейс отправляется восстановленный винтовой пароход с паровой машиной мощностью двести пятьдесят лошадиных сил.
В отеле “Геллерт” чествуют советского художника Герасимова.
Кечкемет получит от советских оккупационных властей триста пар волов.
В Сегеде пройдут велогонки.
Мартон Келети приступает к съемкам фильма “Учительница”.
Вы представляете, мы раздобыли один из августовских номеров “Кошут Непе”! Зачитали до дыр! Вплоть до объявлений! В театрах аншлаги! Газета на четырех полосах стоит два пенге, килограмм муки – четырнадцать. Народные суды одного за другим осуждают военных преступников! Переименованы улицы!
Площадь Муссолини стала площадью Маркса! Страна полна оптимизма, все жаждут работать! Учителя средних школ проходят переподготовку. Первую лекцию им прочел Матяш Ракоши. Но я, наверное, утомил Вас всей этой политикой.
* * *
Крохотное помещение рентгеновского кабинета ма-ло чем отличалось от того, что было в Лербру. Разница была только в том, что по потолку здесь убегала неизвестно куда длинная тонкая трещинка, которая показалась отцу символической, дающей ему основания на что-то надеяться.
В этом помещении отец снова прошел рентген. Пока делали снимки, он должен был много раз прижиматься худыми плечами и впалой грудью к холодному аппарату. Как и в Лербру, после каждого снимка раздавался тонкий свисток, а в конце процедуры, когда раздвинулись дверцы и в кабинку ворвался свет, отец точно так же вскинул руку к глазам. А напротив него, в защитном кожаном фартуке, точно так же, как и в Лербру, уже стоял Линдхольм.
Разбор новых снимков состоялся на следующий день. Мой отец, войдя в кабинет, сел на привычное место – на стул напротив письменного стола. И тут же подался назад, так что передние ножки стула оторвались от пола. Эту дурацкую привычку мой отец приобрел здесь, в Авесте. Он дал себе слово, что, когда речь зайдет о том, жить ему или умереть, он попытается уравновесить стул. Откинувшись назад, он, как какой-нибудь шаловливый ребенок, стал балансировать на задних ножках стула. Что, естественно, требовало безумной концентрации.
Линдхольм пристально посмотрел на отца:
– Удачные снимки. Четкие, хорошо поддаются анализу.
– Изменения?
– Порадовать вас не могу.
Хлоп. Стул под отцом опустился на передние ножки.
– Так что от поездки придется отказаться. К тому же мы теперь слишком далеко от Экшё. Я даже не знаю, сколько потребуется пересадок, чтобы туда добраться.
– Мне нужно всего три дня.
– У вас упорно держится предутренняя лихорадка. Нет, чудес не бывает.
– Но это важно не для меня. Моей двоюродной сестре очень плохо, у нее депрессия. Я должен спасти ей жизнь.
Линдхольм задумчиво посмотрел на отца.
К тому времени они с женой уже устроились на новом месте. Он решил пригласить отца к себе в гости: быть может, за дружеским семейным ужином удастся отговорить этого симпатичного, но упрямого молодого человека от его сумасшедшей затеи.
* * *
Квартира Линдхольмов была у железной дороги, и время от времени под окнами проносились составы. Мой отец, принарядившийся, в пиджаке с чужого плеча и при галстуке, чувствовал себя в этой непривычной одежде неловко. Разговор за столом не клеился, хотя с Мартой, женой главного врача, которую в Авесте определили к ним старшей сестрой, мой отец уже успел подружиться.
Хозяйка подала голубцы.
– Приготовлено исключительно ради вас, – заправляя за ворот салфетку, сказал Линдхольм. – Венгерское блюдо, насколько я знаю.
Мимо окон со свистом промчался поезд.
– Одно из моих любимых, – сказал отец в наступившей опять тишине.
Он отломил себе хлеба и стал аккуратно собирать со скатерти крошки. Марта хлопнула его по руке:
– Если вы пришли сюда убираться, то я отправлю вас мыть посуду!
Отец покраснел. Какое-то время они молча дули на горячие голубцы.
Мой отец откашлялся:
– Господин главный врач потрясающе говорит по-венгерски.
– Тут я победила. Во всех остальных вопросах тон у нас задает Эрик, – с улыбкой взглянула на мужа Марта.
Они принялись за еду. Жирный капустный соус стек отцу на подбородок. Марта протянула ему салфетку. Мой отец мучительно долго вытирал лицо.
– А могу я спросить, каким образом вы познакомились?
Марта, которая даже сидя едва возвышалась над столом, потянулась между фужерами и положила ладонь на руку врача:
– Можно я расскажу?
Линдхольм кивнул.
– Дело было как раз десять лет назад. В будапешт-скую больницу Святого Роха, где я работала старшей медсестрой, приехала шведская делегация…
Проговорив это на одном дыхании, Марта вдруг замолчала. Линдхольм, не спеша прийти ей на помощь, отхлебнул вина.
– Когда я была девчонкой, меня все дразнили. Достаточно посмотреть на меня – ну вы понимаете, Миклош. Когда нужно было открыть окно, приходилось просить одноклассников. В шестнадцать лет я заявила маме, что перееду в Швецию. Найду себе мужа. И записалась на языковые курсы.
Снаружи загромыхал пассажирский поезд. Казалось, будто он едет прямо между тарелками.
– А почему в Швецию?
– Здесь, как известно, живут самые маленькие мужчины, – сострил Линдхольм.
Прошло секунд пять, прежде чем мой отец осмелился рассмеяться. Смех разрядил обстановку, и смущение испарилось, как будто кто-то выдернул из бутылки пробку.
– В тридцать пятом я уже сносно говорила по-шведски, а доктору Линдхольму как раз надоела его предыдущая жена – настоящая великанша, метр восемьдесят, я правильно говорю, Эрик?
Линдхольм серьезно кивнул.
– И что было делать? Пришлось соблазнить его. Прямо там, в Святом Рохе, рядом с операционной. Я ничего не забыла, Эрик? А теперь ваша очередь, Миклош. Вы написали девушке о своем состоянии?
Мой отец, до этого занятый в основном салфеткой, вдруг схватил прибор и набросился на еду.
– Только в общих чертах.
– Я с Эриком не согласна. Вам нужно поехать, утешить… двоюродную сестру. И самого себя.
Линдхольм вздохнул и разлил по фужерам вино.
– На прошлой неделе я получил письмо от коллеги из Эдельфорса. – Он вскочил и побежал в соседнюю комнату. Через минуту он вернулся с письмом в руке. – Я вам кое-что зачитаю, Миклош. В Эдельфорсе есть женский реабилитационный лагерь на четыреста человек. Так вот, около пятидесяти девушек пришлось перевести в другой лагерь, под строгий надзор. – Он помахал письмом. Как вы думаете почему?
Мой отец только пожал плечами. А Линдхольм и не ждал ответа.
– За легкомысленное поведение. Нет, вы только послушайте:
…Девушки принимали парней в спальных комнатах и на полянах в ближайшем лесу.
Наступило молчание. Потом маленькая Марта спросила:
– Это были венгерки?
– Этого я не знаю.
Но мой отец знал ответ.
– То были чуждые элементы! – торжествующе вынес он приговор.
Его голос был полон такого презрения, что Марта отложила вилку.
– Что вы хотите сказать, Миклош?
Мой отец оседлал своего конька. Это он обожал – порассуждать о свежем ветре социализма, который сметет старый прогнивший мир, и тому подобное.
– Безнравственность к барышням из определенной среды приросла, будто кожа к змее, зубами не отдерешь. Они вечно дымят папиросами, щеголяют в капроне и, как выразился наш поэт, лепечут, как поверхность вод, – а глубина пуста!
Линдхольма его точка зрения нисколько не заинтересовала.
– Этого я не знаю. Зато я знаю пословицу: были бы крошки, а мышки будут.
Однако отец и не думал слезать с любимого конька.
– От этой буржуйской морали можно вылечить только одним способом.
– Это как же?
– Новый мир создать! Построить с фундамента!
И с этого момента ужин свелся к зажигательным речам моего отца, к воспеванию святой троицы – Свободы, Равенства, Братства. Он даже не заметил, как подали десерт.
К шлагбауму, установленному у входа в лагерь, автомобиль Линдхольма подъехал уже за полночь. Мой отец с довольным видом выбрался из машины и простился с главным врачом, окрыленный надеждой на скорую поездку в Экшё. Войдя в барак, он зажег свечу и, присев, изложил опьяняющий его самого план всеобщего преобразования мира, с трудом уместив его на четырех страницах письма.
Буду рад, если Вы напишете, что Вы думаете об этих вещах. Тем более что Вы ведь тоже из средних слоев и, вероятно, смотрите на данный вопрос через классовые очки…
Глава четвертая
Спустя три недели Свенссон впервые разрешил Лили встать с постели. Как потерянная, бродила она по выложенным мелкой плиткой коридорам госпиталя, где горький запах лекарств смешивался с вонью свежеочищенной рыбы. Женское отделение располагалось на четвертом этаже, остальные же были заняты находившимися на излечении невеселыми шведскими солдатами.
Свенссон также добился, чтобы ближайшее воскресенье Лили смогла провести в кругу уважаемого семейства Бьёркманов. Началось все с того, что два месяца назад, когда венгерские девушки прибыли в лагерь Смоландсстенар, к каждой из них прикрепили шведскую семью. Лили достались Бьёркманы. Свен Бьёркман, глава семьи, владел в городе небольшой писчебумажной лавкой и заслуженно слыл правоверным католиком.
Лили попала к ним не случайно. С того времени, как она совершила “предательство”, не прошло еще и пяти месяцев. Когда в мае, после освобождения концлагеря, она пришла в сознание в городской больнице немецкого Бергена, то решила бесповоротно порвать с еврейством. Что касается католичества, то этот выбор был сделан ею случайно, ну а подопечной супругов Бьёркманов – уже по прибытии в Швецию – она стала благодаря сострадательности и практичности шведов.
В воскресенье утром Бьёркман с женой приехали в Экшё и, дождавшись Лили в приемной госпиталя, бросились к ней с объятиями, обрадованные новой встрече. А затем отвезли ее в Смоландсстенар – прямо на службу.
Церковь в Смоландсстенаре была скромной, просторной и светлой. Бьёркманы сидели в третьем ряду, снова втроем с молодой венгеркой – выздоравливающей Лили Райх. Просветленные лица были обращены к украшенной богатой резьбой кафедре. Лили знала по-шведски лишь несколько слов, и воскресная проповедь разливалась в ее душе словно музыка, столь же возвышенная, как исполнявшаяся затем на органе фуга. В конце службы Лили присоединилась к очереди, и молодой, поразительно голубоглазый священник положил ей на язык облатку.
Дорогой Миклош, в следующий раз не спешите так, а подумайте хорошенько, что и кому вы пишете. Отношения между нами не настолько близки, чтобы ТАК говорить со мной об этих вещах. Да, я типичная обывательница! И если из четырех сотен женщин набралось пятьдесят таких, то в этом нет ничего удивительного!
В это же воскресенье мой отец и Гарри, с парой плюшек и минеральной водой, сидели в лагерной столовой в Авесте. Был тот редкий момент, когда впору ликовать, – в большом, как ангар, помещении они были одни, но отец пребывал в столь глубоком отчаянии, что даже не замечал этого.
– Я все испортил, – пробормотал он, глядя перед собой.
Гарри махнул рукой:
– Да брось ты! Подуется и забудет!
– Никогда. Я это чувствую.
– Тогда будешь переписываться с другой.
Мой отец недоуменно посмотрел на Гарри: да как он не может понять?!
– Другой не будет. Или она – или мне конец!
– Это все слова, – усмехнулся Гарри.
Отец, обмакнув палец в минералку, вывел на столе: ЛИЛИ. И немного спустя обреченно добавил:
– Так же все испарится.
Тут Гарри пришла в голову гениальная мысль:
– Пошли ей свои стихи!
– Поздно.
– Ох уж эта еврейская грусть! – вскочил Гарри. – Раздобуду чего-нибудь сладенького. Выпрошу или стащу ради друга. Да не кисни ты!
Гарри пересек унылое помещение и, толкнув распашные двери, проник на кухню. Но там не было ни души. Пошарив по шкафчикам, он нашел в глубине одного из них баночку меда. И в счастливом возбуждении вернулся к отцу.
– Ложки я не нашел. Можешь пальцем залезть.
Сам он именно так и сделал.
Мой отец сидел на скамье, уставившись в стол, на котором из четырех букв виднелась уже только половинка “Л”. Гарри облизывал указательный палец.
– Ну вот что. Есть у тебя бумага и карандаш? Доставай, а я буду диктовать.
Мой отец наконец поднял взгляд:
– Что ты будешь мне диктовать?
– Письмо. Ей. Ты готов?
Изумленный отец достал из кармана бумагу и карандаш.
Лицо Гарри светилось таким бесшабашным весельем, что в панцире отцова отчаяния образовалась трещина. Обмакнув палец в мед, Гарри лизнул его и принялся диктовать:
– Милая Лили! Я должен сказать тебе, что я презираю и поднимаю на смех глупых женщин, которые стесняются говорить о таких вещах.
Мой отец швырнул карандаш на стол:
– Что за бред! Да еще на “ты”?! И это я должен послать ей?!
– Вы уже месяц как переписываетесь. Пора перей-ти на “ты”. Я человек посторонний, поэтому мне виднее.
* * *
В следующее воскресенье, когда Свен Бьёркман уже прочел молитву перед едой, когда двое их малышей несколько поутихли, а фру Бьёркман с обычной своей аккуратностью разлила по тарелкам суп, владелец писчебумажного магазина, не глядя на Лили, спросил:
– Куда вы спрятали крестик, Лили?
Бьёркман, возможно, плохо владел немецким, а может, хотел в очередной раз проверить, как продвинулась Лили в изучении шведского. Поэтому, когда девушка, недоумевая, повернулась к нему, он повторил вопрос, и опять по-шведски. А чтобы помочь ей, показал на висевшее у него на груди распятие.
Лили покраснела, достала из кармана серебряный крестик и надела его на шею.
– Зачем же его снимать? – мягко посмотрел на девушку Бьёркман. – Мы подарили его тебе, чтобы ты носила. Постоянно.
По интонации Лили поняла, что это упрек. И больше за время обеда не прозвучало ни слова.
Независимо от последнего, очень странного по тону и смыслу письма, Вы очень хороший парень, поэтому я не оставлю без ответа и это Ваше письмо. Но я не уверена, что такая “типичная обывательница”, как я, может быть Вам хорошим другом.
Ну а переходить на “ты”, мне кажется, еще слишком рано.
В Авесте у моего отца был свой личный термометр. И каждый день на рассвете, просыпаясь, как по будильнику, в половине пятого, он нащупывал его в ящике прикроватной тумбочки и, не открывая глаз, засовывал в рот. Всякий раз он медленно и размеренно считал про себя до ста тридцати.
Ртутный столбик вот уже много месяцев доходил до одной и той же отметки. Отец на секунду приоткрывал глаза – пристально вглядываться в тонкие черточки на шкале особой необходимости не было. Он клал термометр на место и, повернувшись на другой бок, снова засыпал. Тридцать восемь и две, все время одно и то же, ни больше ни меньше. Лихорадка, словно бесшумный вор, появлялась, крала надежду и исчезала в рассветной дымке. А в восемь часов, когда мой отец вставал, температура снова была нормальной.
Дорогая Лили! Какой же я остолоп! Ну какое имеет к Вам отношение вся эта ерунда, которую я нагородил! Горячо жму Вам руку, Миклош.
Постскриптум: Даже не знаю, могу ли я это послать Вам?
Письмо обычно путешествовало в почтовых вагонах шведских железных дорог двое суток. Когда было получено это последнее, с объяснениями отца, Лили и Шара забрались с ногами в постель, и Лили прочитала его подруге.
– “Постскриптум: Даже не знаю, могу ли я это послать Вам?”
Шара задумалась:
– Да прости ты его.
– Уже простила. – Перекатившись на край кровати, Лили протянула руку и вытащила из тумбочки конверт. – Я нарочно не стала заклеивать. – Она поискала абзац, который хотела показать Шаре. – Вот, пожалуйста:
Да, мой друг, ты действительно “остолоп”! Но если будешь вести себя хорошо, мы сможем перейти на “ты”! Если и в следующем письме мое обращение к тебе не изменится, сие будет означать, что мы остались друзьями.
Она торжествующе посмотрела на Шару.
Та улыбнулась, но все же заметила:
– Ох эти мужчины!
* * *
В караульном помещении лагеря стояло четыре велосипеда, на которых желающие могли добраться от леса до города. Теперь, когда в Авесте резко повернуло на холод и снежные шапки на елях не таяли даже днем, под лучами солнца, отцу и Гарри пришлось закутаться с головой, чтобы за пятнадцать минут, пока они ехали, не отморозить уши.
Дожидаясь очереди на главном почтамте города, они долго отогревали окоченевшие пальцы, зажав руки между коленями. Отец был смертельно бледен. С их места были видны три застекленные кабины, которые в этот момент были заняты. Мой отец сидел будто на иголках.
Наконец одна из кабинок освободилась. Служащая за стойкой сняла телефонную трубку и, глядя на моего отца, что-то проговорила, после чего махнула ему рукой. Мой отец вскочил и, покачиваясь, как пьяный, двинулся к пустой кабине.
В этот момент на другом конце Швеции Юдит Гольд, едва не сбивая с ног нянечек и врачей, сломя голову понеслась по лестнице. Лили и Шара сидели с книгой на подоконнике.
– Лили! Лили! – ворвалась Юдит Гольд в палату. – Тебя к телефону!
Та обернулась, но не сразу ее поняла.
– Да беги же! Тебе звонит Миклош!
Лили вспыхнула и спрыгнула с подоконника. Во весь дух она бросилась вниз – в цокольный этаж, где для пациентов был оборудован переговорный пункт. Медсестра, как раз выходившая в это время из помещения, уставилась на нее с изумлением. На столе рядом с аппаратом лежала телефонная трубка. Лили резко остановилась, помедлила, потом потянулась за трубкой и осторожно поднесла ее к уху.
– Я слушаю…
Мой отец там, на почте, откашлялся. И, как ни старался, начал на октаву выше, чем он хотел:
– Именно так я и представлял ваш голос. Просто мистика!
– Я запыхалась. Бежала. Тут всего один телефон, в главном корпусе, и мы…
– Вы отдышитесь, – затараторил отец. – А я буду говорить, хорошо? Я вам звоню, чтобы сказать: представляете, со вчерашнего дня через Лондон или Прагу можно посылать домой письма авиапочтой! Можно писать на венгерском! И даже телеграфировать! Вы сможете наконец-то найти свою маму! Я был счастлив, я сразу решил: сейчас же вам позвоню, поделюсь!
– О боже.
– Я что-то не так сказал?!
Лили стиснула трубку так, что рука ее побелела.
– Мамочка… Я не знаю… не знаю их адреса. Из старой квартиры нам пришлось переехать в дом со звездой… я не знаю, где она может жить теперь. Боже мой.
Мой отец наконец обрел бархатистый тембр голоса.
– Ну да! Какой же я идиот! Но мы можем дать объявление! Подадим для нее объявление в газете “Вилагошшаг”! Ее сейчас все читают! Я тут скопил денег, так что организуем!
Лили изумилась. Несмотря на весь драматизм момента, в голове у нее мелькнуло: получая пять крон в неделю, на это не скопишь.
– Откуда у тебя столько денег?
– Я об этом тебе не писал. То есть вам, дорогая Лили. Простите.
У Лили перехватило дыхание и, возможно, даже подскочила температура.
– Давай перейдем на “ты”, – пробормотала она.
Почтовое отделение Авесты в этот момент показалось отцу дворцом. Он восторженно вскинул кулак, показывая сидевшему в двух шагах от кабины Гарри, насколько он счастлив.
– Так вот, представляешь, у меня есть дядюшка, который живет на Кубе… Но я тебе напишу потом, это долго рассказывать.
Слова иссякли, и они замолчали.
Оба крепко сжимали трубки, притиснув их к уху.
Лили нарушила молчание первой:
– Как ты? Я имею в виду – физически.
– Я? Отлично. Все анализы отрицательные. В левом легком есть небольшое пятнышко. И немного жидкости. Остаточные явления плеврита. Но это не очень серьезно. Я сейчас нахожусь в середине лечения. А как ты?
– Тоже все хорошо. Ничего не болит. Велено принимать железо.
– А температура?
– Повышенная. Это нефрит. Ничего особенного. Говорят, вязкость крови понижена.
– Какой у тебя показатель СОЭ?
– Тридцать пять.
– Это ужасно!
– Ничего ужасного! Аппетит у меня отличный. Я те-бя очень жду… мы вас ждем!
– Да, да, я как раз этим занимаюсь! Готовимся! А по-ка… Я тут написал тебе стих.
– Мне?! – Лили покраснела.
Мой отец набрал в легкие воздуха и закрыл глаза.
– Прочитать?!
– Ты его наизусть знаешь?
– А то как же.
Времени на раздумья не было. По правде сказать, мой отец посвятил Лили уже целых шесть стихотворений. И нужно было выбрать одно, что повергло его в отчаяние. Как бы не ошибиться!
– Называется “К Лили”! Ты слушаешь?
– Да, я слушаю.
Мой отец, не открывая глаз, прислонился к стенке кабины.
Я наступил на замерзшую лужу – треснула корка на ней. Сердце мое осторожнее трогай: стоит нажать сильней, хрустнет и разобьется защита – наледь, которой оно покрыто.– Ты еще здесь?
У Лили от волнения застучало в висках.
Он не слышал ее – только чувствовал, что она на другом конце провода.
– Да, здесь.
Отец тоже был сам не свой. Он охрип. В трубке что-то шуршало, слова шелестели в ней, как морской прибой.
– Ну, тогда я продолжу:
Тронь же его невесомым касаньем, радостным мотыльком там, где прячется и не тает боль моя – льдистый ком. Нежно погладь ее легкой рукою – вытечет, выпадет светлой росою…[2]Глава пятая
Помещение, предоставленное госпиталем в распоряжение “Лотты” – женской добровольческой организации Швеции, было убогой каморкой без окон, где едва помещался письменный стол. Напротив стола посетителей ожидал венский стул.
Сотрудница “Лотты” фру Анна-Мария Арвидссон чуть ли не после каждой записанной фразы старательно очиняла свой карандаш. Изъяснялась она по-немецки, отчетливо выговаривая слова, чтобы Лили понимала все тонкости. Она уже все объяснила этой очаровательной молодой венгерке. Посвятила ее даже в некоторые детали, которые ее не касались. Например, в то, что Швеция, приняв на своей территории так много больных людей, пошла на немалый риск. И хотя в основном все затраты взял на себя Международный Красный Крест, возникают и непредвиденные расходы. И при этом она еще не сказала о существующих до сих пор трудностях с размещением! Нет, нет, как бы ей ни хотелось помочь, она не может поддерживать такого рода частные инициативы.
– И вообще, вы должны это знать, дорогая Лили, что я в принципе не считаю полезными такие визиты.
Лили уже и самой наскучило повторять одно и то же, но она все же не отступала:
– Но ведь только на пару дней. Кому они помешают?
– Никому. Но зачем? Проехать чуть ли не всю страну. Это большие деньги. И куда определить этих парней? Здесь триста больных! Это госпиталь, а не пансион! Вы об этом подумали, милая?
– Я не видела их полтора года, – умоляюще посмотрела на нее Лили.
Фру Анне-Марии Арвидссон привиделась на сверкающем столе пылинка. Она стерла ее платком.
– Предположим, я разрешу. Как ваши родственники будут питаться? В бюджете “Лотты” такие расходы не предусмотрены.
Лили пожала плечами:
– Как-нибудь. Мы придумаем.
– Как легко у вас все решается, Лили! Эти парни ведь тоже находятся в лагере. Я даже не представляю, на что они купят билеты!
– У нас есть общий родственник, который живет на Кубе.
Анна-Мария Арвидссон вскинула брови. Записала несколько слов на лежавший перед ней лист бумаги. И принялась затачивать карандаш.
– И этот родственник прямо с Кубы будет финансировать их вояж?
Лили заглянула в глаза чиновнице:
– У нас очень дружная, любящая семья.
Фру Анна-Мария Арвидссон наконец рассмеялась:
– Вижу, вас не переубедишь. Хорошо, я попробую что-нибудь сделать. Но не считайте это обещанием.
Лили восторженно вскочила с места. И, неловко перегнувшись через стол, звонко чмокнула фру Анну-Марию Арвидссон. Выбегая, она опрокинула стул.
Фру Арвидссон тоже поднялась, аккуратно поставила стул на место и, достав носовой платок, стала задумчиво стирать со щеки след благодарного поцелуя.
* * *
На стокгольмском вокзале раввин Эмиль Кронхейм проворно поднялся в вагон. Это был аскетичного вида худой человек с невообразимой копной непослушных волос.
С тех пор как шведские власти возложили на него почетную миссию – служить в эти трудные времена духовной опорой своим соплеменникам и единоверцам, его имя и адрес можно было увидеть на доске объявлений в каждом реабилитационном лагере Швеции. И по этой причине не менее трех недель в месяц Эмилю Кронхейму приходилось проводить в дороге. Он объездил страну вдоль и поперек. Иногда проводил групповые беседы, иногда же часами, до наступления темноты, в почти неподвижной позе выслушивал кого-нибудь одного, приободряя его только движением глаз. И никогда при этом не уставал.
Единственным и, надо сказать, довольно забавным пристрастием Эмиля Кронхейма была… селедка. Перед сельдью в сладком маринаде он устоять не мог. Вот и теперь, сидя с газетой в купе, он время от времени брал с пергамента очередной аппетитный ломтик и отправлял себе в рот. За окном проносились припорошенные первым снегом деревья.
Прибыв в Экшё, он спустился по лесенке из вагона. Здесь шел дождь. Раввин поспешил по мокрой платформе к выходу.
В госпитале, насколько он знал, на излечении находились лишь три его соплеменницы, от одной из которых несколько дней назад он получил письмо. Но ведь одна душа – тоже живая душа. И Кронхейм, не раздумывая, отправился в утомительное путешествие.
И вот он сидел теперь в той же слепой каморке в цокольном этаже, где несколько дней назад вела прием фру Анна-Мария Арвидссон. Раввин в поношенной серой паре сосредоточил свой взгляд на мухе, плясавшей между точилкой и остро заточенными карандашами.
Послышался стук, и в дверь просунулась голова Юдит Гольд.
– Разрешите?
Раввин улыбнулся:
– Как раз такой я вас и представлял. Вы знаете, дорогая…
– Юдит Гольд.
– …вы знаете, дорогая Юдит, по вашему почерку я мысленно нарисовал ваш портрет. И можете похлопать меня по плечу: я попал в десятку. Кстати, миром в значительной мере управляют такого рода предчувствия. Наполеон перед битвой при Ватерлоо… О, какая вы бледная! Может, воды?
Графин с водой стоял на столе. Раввин наполнил стакан. Юдит Гольд с жадностью выпила воду и села.
– Мне стыдно, – пролепетала она.
– Мне тоже. Как всем из нас. Потому что есть за что. Вот, к примеру, вы, Юдит, – чего вы стыдитесь?
– Того, что я написала вам это письмо. И что вынуждена доносить…
– Так не доносите! И забудьте про это!
– Я не могу.
– Как не можете! Пожмите плечами да и наплюйте на все, что хотели мне рассказать! И пусть у вас больше голова не болит. Забудьте. Поговорим лучше о другом. Вот, скажем, о мухах. Как вы относитесь к мухам, Юдит?
Эмиль Кронхейм указал на жужжащую над столом муху.
– С отвращением.
– А вот этого лучше остерегаться. Отвращение легко переходит в ненависть. А за ненавистью последует агрессия. Потом возникнет идеология. И кончится дело тем, что на протяжении всей жизни вы будете преследовать мух.
Юдит Гольд завороженно смотрела на муху, которая в этот момент села на край стакана. Она нервно сглотнула:
– У меня есть подруга.
Юдит Гольд замолчала. Она ждала вопроса или какого-то жеста, но Кронхейма, казалось, интересовала только эта нахалка муха, сумасбродно разгуливающая по столу.
Так что пришлось ей начать самой:
– Речь идет о моей подруге Лили. Ей восемнадцать. Она еще очень неопытная и наивная.
Раввин сомкнул глаза. Слушал ли он вообще?
– Ей вскружил голову один мужчина… молодой человек с Готланда… Точнее, теперь он уже в Авесте. Смотреть на это нет сил! Лили потеряла рассудок! Наблюдать за этим со стороны просто невыносимо!
Раввин, который только что балагурил, перескакивая с пятого на десятое, сидел теперь, смежив глаза. Неужели уснул?
Юдит Гольд заплакала.
– Это моя подруга, самая лучшая. Я души в ней не чаю. Когда ее привезли, она была кожа да кости! Такая потерянная! Одинокая! А потом начала переписываться с этим вертопрахом. Да он негодяй! Обещает ей золотые горы! Дошло уже до того, что он собирается к ней приехать, прямо сюда, в госпиталь! Простите, что я говорю так путано. Но я знаю одно – что Лили еще просто ребенок.
Юдит Гольд чувствовала, что потеряла нить. Ей хотелось все объяснить от начала и до конца. Объяснить, чего она опасается и что для этих страхов есть все основания. Но раввин не только не помогал ей, но, напротив, вводил ее в замешательство. Он, казалось, не слушал ее. Сидел, вытянувшись, закрыв глаза.
Минута прошла в молчании.
Неожиданно реб Кронхейм запустил руку в лохматую шевелюру. Стало ясно, что он вовсе не дремал.
Юдит Гольд всхлипывала и шмыгала носом.
– Я прошла через столько ужасов. Столько раз сдавалась. И вот выжила. Уцелела. А Лили – да она же еще девчонка!
Эмиль Кронхейм сунул руку в карман.
– На подобные случаи я держу при себе чистый носовой платок. Пожалуйста.
* * *
Как раз в эти дни мой отец придумал, как ему обмануть судьбу. Относительно своей внешности иллюзий у него не было. Даже несмотря на то, что весил он уже целых пятьдесят кило, а с лица стали исчезать отвратительные нарывы, он был полон всяческих комплексов.
Поначалу просьба отца привела Линдхольма в изумление, но поскольку речь шла не о поездке, он решил: почему не порадовать бедолагу. И, подойдя к шкафу, достал из незастекленного нижнего отделения небольшой фотоаппарат. Потом отыскал в ящике письменного стола фотопленку на двенадцать кадров и вручил все это моему отцу, который с сияющей физиономией стоял посреди кабинета.
* * *
Бараки были отделены друг от друга большими участками с вековыми соснами, подпиравшими кронами хмурое небо. На один из таких участков и отправились Миклош, Гарри и Тибор Хирш. Там отец торжественно протянул Тибору фотоаппарат. Хирш был старшим среди обитателей их барака, ему исполнилось уже пятьдесят два. Волосы на его голове так и не отросли, и кожа пестрела темно-красными крапинами и пятнами.
– Ты был фотографом, так что я в тебя верю. – Мой отец заглянул в глаза Хиршу. – Для меня это вопрос жизни и смерти.
Тот долго изучал фотокамеру “Экзакта”.
– Знакомая марка, – наконец кивнул он. – Идеальный получится снимок, ручаюсь…
– Нет, нет, – перебил его мой отец, – только не идеальный.
– То есть как?!
– Сделай смазанный. Так мне нужно.
Хирш уставился на него. А мой отец добавил:
– Потому я и попросил тебя. Ты же профессионал…
Хиршу вспомнилось не столь уж далекое прошлое.
– В определенном смысле – да. Я ведь радиомеханик и ассистент фотографа. Бывший. Так чего ты хочешь?
Мой отец указал на Гарри:
– На снимке должны быть двое. Гарри и я. Гарри пусть будет четким, а я размытым. Можешь так сделать?
– Что за чушь! – возмутился Хирш. – Зачем тебе это?
– Не имеет значения! Скажи – сможешь или не сможешь?!
Радиомеханик и ассистент фотографа Тибор Хирш колебался. Но поскольку отец глядел на него умоляющим взглядом, да еще потому, что он был настоящим товарищем, Хирш отбросил профессиональную гордость.
И минут через пять придумал, как сделать моего отца почти неузнаваемым на фотографии. Гарри он поставил на передний план. В полупрофиль, под самым выгодным углом. К счастью, из‑за туч временами выглядывало блеклое солнце. Хирш встал против света, что обещало придать снимку художественную выразительность. Тем временем мой отец должен был бегать туда-сюда в нескольких метрах позади Гарри, пока Тибор Хирш, щелкая затвором, снимал эту постановку.
Милая Лили, ты самая настоящая маленькая колдунья! Ты просто очаровала меня во время телефонного разговора! Теперь я сгораю от любопытства, желая узнать, такая ли ты в реальности, какой я тебя представляю по твоим письмам. Если окажется, что ты не такая, это будет беда, но настоящая беда грянет, если ты именно такова! Я нашел одну фотографию, на которой меня можно видеть. Правда, выгляжу я на ней так, будто меня напугало какое-то чудо-юдо и я со всех ног бегу в симпатичный зеленый домик. Но я все же пошлю ее…
На четвертом этаже госпиталя, у окна в углу коридора, стояла искусственная пальма с такой бесподобной кроной, будто пальма и впрямь была родом из Южного полушария.
Под этой роскошной пальмой в укромном углу и нашли убежище три подруги.
Лили рассматривала фотографию через увеличительное стекло, потом передала лупу Шаре и Юдит Гольд. Проблема была не в их зрении. Им нужно было как-то смириться с фактом, что расплывчатая, едва различимая, чешущая куда-то фигура за спиной Гарри и есть мой отец.
Неожиданно над головами девушек склонился Свенссон, главный врач госпиталя.
– О, так вот зачем барышням понадобилась моя лупа!
Все трое одновременно вскочили.
– Мужчины? Венгры? – кивнул главный врач на снимок.
Лили смущенно протянула ему фотографию:
– Мой двоюродный брат.
Свенссон долго изучал фото.
– Симпатичный. Наконец-то я вижу уверенный взгляд.
– Нет, вот этот, который сзади! – поколебавшись, показала Лили на размытую фигуру за спиной Гарри.
Доктор Свенссон поднес фотографию к самым глазам. И тоже попытался разглядеть пробегающего в отдалении молодого человека, но так ничего и не разобрал.
– А я думал, что он попал в кадр случайно. Загадочно.
Расчет моего отца был безошибочным. Загадочная фигура на заднем плане была неким обещанием, залогом будущего. Свенссон разочарованно протянул девушкам фотографию, а те, хихикая, вернули ему его лупу.
* * *
А теперь я позволю себе неслыханное нахальство, отчасти по отношению к тебе, а отчасти – к твоей подруге Шаре, которой передаю дружеские приветствия. Дело в том, что мы с Гарри раздобыли тут изрядное количество хлопчатобумажной пряжи кошмарного серого цвета, которую волшебные женские руки могли бы превратить в довольно приличный свитер.
Хотел бы просить вас сделать это, и, конечно, как можно скорее.
На следующий день, на рассвете, Лили, сев в кровати, достала из-под подушки носовой платок. И, аккуратно свернув, вложила его в приготовленный почтовый конверт, что лежал на тумбочке.
…с искренними чувствами посылаю тебе эту безделицу. К сожалению, получилось не так красиво, как мне хотелось, а поскольку здесь нет утюга, то разглаживать этот платочек пришлось под подушкой…
Вообще здесь становится все холоднее, и, пока нам не выдали зимних пальто, выходя на прогулку в сад, мы напяливаем на себя по две кофты…
Юдит Гольд, высунувшись из-под одеяла, заметила на лице Лили выражение тихого счастья, что отнюдь ее не обрадовало.
* * *
Почту в лагерь привозили во второй половине дня, после тихого часа. Обычно за письмами отправлялся на вахту Гарри и, вернувшись, громко зачитывал имена:
– Миши, Адольф, Лицман, Григер, Якобович, Йо-жи, Ене, Шпиц, Миклош…
Мой отец получал писем более чем достаточно, но в последнее время в восторг его приводили весточки только от одного человека. Если отправителем была Лили, у него не хватало терпения дойти до своей кровати и он уже на ходу с жадностью вскрывал конверт.
На этот раз из конверта выскользнул носовой платок. Отец подхватил его с пола и стал обнюхивать.
…То, что за отсутствием утюга ты гладила его под своей головой, делает его для меня только более ценным… Ты можешь мне объяснить, отчего твои письма доставляют мне все большее и большее счастье?
Извини, что пишу карандашом, но ответить хочу немедленно, а чернила кто-то унес.
Бесконечно и горячо пожимаю руку. Миклош.
* * *
В госпитале в Экшё на первом этаже был и клуб – помещение с желтыми стенами, сценой и красным плюшевым занавесом.
Когда Шара придумала устроить музыкальный вечер, подруги рассчитывали, что послушать их придет хотя бы женское отделение с четвертого этажа. Каково же было их удивление, когда зал на двести человек оказался заполненным выздоравливающими солдатами, среди которых, будто изюм в тесте, вид-нелись и шведские “фрёкен” с косами, и медсестры в хрустящих крахмальных халатах и кокетливых чепчиках.
Программа включала только четыре номера. Шара пела, а Лили аккомпанировала ей на фисгармонии. После трех венгерских песен Шара исполнила шведский национальный гимн.
Она не дошла еще и до середины, когда солдаты, плохо выбритые, в пижамах, гремя сиденьями всех двухсот стульев, повскакивали и, фальшивя, подхватили гимн.
Эти шведы уже начинают действовать мне на нервы. Им хочется, чтобы мы без конца прославляли их доброту… Я безумно тоскую по родине!!!
Глава шестая
Клара Кёвеш приехала дневным поездом, свалившись на отца как снег на голову. Денег у нее хватило только на дорогу от ее лагеря, расположенного под Уппсалой, до Авесты. Но это нисколько не волновало Клару – обо всем остальном, по ее убеждению, должен был позаботиться мой отец.
От станции ее подбросил почтовый автомобиль, так что последние километры она проделала с величайшим комфортом. Когда она выбралась у ворот из машины, было около трех часов дня.
Подруги по несчастью прозвали ее Медведицей, к чему были свои основания. Ходила она неуклюже, вразвалочку, руку пожимала по-мужски крепко. Кроме того, всю ее фигуру покрывал шелковистый пушок, который при определенном освещении делал ее похожей на пушистого медвежонка. Губы у Клары были припухшие, чувственные, нос ястребиный, а огромную голову обрамляла пышная темно-каштановая копна непокорных кудрей. В общем, это было явление!
Она вихрем влетела в барак и, вызвав всеобщее замешательство, завопила:
– Миклошка, ну вот и я! Я приехала!
В палате все замерли. Мой отец подумал было, что это дурацкое недоразумение. Он просто не мог узнать в этом нелепом создании ту пылкую остроумную девушку, с которой с завидной регулярностью он переписывался вот уже второй месяц.
Когда мой отец затеял в середине лета обширную переписку с венгерскими девушками, на сто семнадцать посланий, доверенных бутылочной почте, он получил восемнадцать ответов. В конце концов переписка завязалась с девятью девушками, не считая Лили. И одной из них была Клара Кёвеш. Мой отец был не в состоянии сразу остановиться. Писание писем доставляло ему физическое наслаждение, помогало осмыслить многие вещи, к тому же его глубоко волновали судьбы всех этих женщин. Но его письма этим девяти женщинам не шли ни в какое сравнение с признаниями, адресованными Лили.
С Кларой Кёвеш они были близки в вопросах мировоззрения. Во время войны та распространяла социалистические листовки, за что была арестована.
Клара бросилась к моему отцу и с ходу расцеловала его:
– Вот к чему я готовилась не одну неделю!
Обитатели барака так и ахнули. Перед ними предстало девяносто кило женской плоти – словно по волшебству, невзирая на правила, разрешения, медицинские и все прочие предписания, материализовалась в трех измерениях их мечта.
– К чему ты готовилась? – клацнул зубами отец в железных объятиях Клары.
– К тому, чтобы нам соединить сердца! На вечные времена!
Наконец Клара отпустила его. Выхватив из сумочки письма, она швырнула их в воздух. И гордо окинула взглядом парней, которые уже встали и собрались вокруг них. Несомненно, было в ее появлении нечто театральное.
– Вы хоть знаете, желторотики, кто среди вас живет?! Это же новый Маркс! Новый Энгельс!
Письма отца осыпались праздничным конфетти. “Желторотики” застыли как околдованные. А отец был готов провалиться сквозь землю.
Клара уже тащила его куда-то за руку, а он в отчаянии делал Гарри знаки, умоляя его сопровождать их. Они втроем отправились на прогулку по лесной дорожке. Клара, притиснув к себе отца, завладела им словно игрушкой. Гарри шел сзади, ожидая, чем все это кончится. Моросил мелкий дождь.
– Вот что, Клара, – попытался отец взять спокойный и рассудительный тон. – Я переписываюсь со многими девушками. С очень многими.
Она рассмеялась:
– Ты хочешь заставить меня ревновать, цыпленок?
– Ну вот еще! Я просто хочу, чтобы ты была в курсе дела. Переписка для нас – это, можно сказать, единственное развлечение. Не только для меня, но и для всего барака. Вот и случилось недоразумение.
– Никаких недоразумений! Я в тебя влюблена, цыпленок! Ты – мой светильник разума! Я тобой восхищаюсь! Ты будешь моим учителем и возлюб-ленным! Ты, конечно, немного закомплексован, но я тебя вылечу!
– Повторяю, я пишу очень много писем. Ты должна это знать.
– Все гении комплексуют. Я знаю это по опыту, у меня таких двое было, еще до войны. Я всему тебя научу, ты согласен, цыпленок? Ведь я уж не девушка! Нет, друг мой, далеко не девушка! Но тебе я смогу быть верной, я это чувствую. Что за мысли, что за слова ты писал мне! Я их наизусть помню! Хочешь, перескажу?
В страстном порыве Клара прижала к себе отца и осыпала поцелуями все лицо и даже очки. Линзы их затуманились.
Но с близкого расстояния даже через обслюнявленные очки мой отец вдруг заметил в ее глазах невыразимое отчаяние. Панический страх быть отвергнутой.
И от этого неожиданного открытия мой отец успокоился.
– Клара, позволь мне сказать, пожалуйста!
– Я только хотела добавить, что буду ухаживать за тобой, если что. Сама я уже поправилась. Могу жить вне лагеря. Я буду работать! Я поселюсь поблизости от тебя! Так что ты хотел мне сказать?
Мой отец высвободился из ее объятий. И повернулся лицом к Кларе Кёвеш.
– Хорошо. Излагаю факты. Я пишу много писем, но главным образом потому, что у меня необыкновенный почерк. Что заметили и другие. Парни в нашем бараке этим пользуются. К сожалению, это не я писал тебе письма, а мой друг Гарри. Он мне диктовал их, потому что мой почерк – не то что его каракули. Он пишет как курица лапой, не разберешь. Увы, такова действительность. Вышло так, что при моем посредничестве ты втюрилась в светлый разум Гарри, о чем я сожалею.
Клара изумленно оглянулась на Гарри и под моросящим дождем шагнула к нему:
– Так, цыпленок, выходит, что это ты – мой гений?
Гарри кивнул. И указал на отца.
– Он только писал. А мысли… – Он скромно ткнул себя в лоб.
Клара переводила взгляд с одного на другого. Мой отец был невзрачный очкарик с металлическими зубами. А Гарри – весьма импозантный, с гусарскими усиками под носом и с излучавшими неподдельную страсть глазами. И Клара, решив, что ей лучше поверить отцу, взяла Гарри под руку.
– Ну, цыпленок, смотри, я проверю. Внешность меня ничуть не волнует. Форма губ, цвет глаз, смазливость физиономии – все это ерунда. Меня, если хочешь знать, возбуждает только духовное содержание. Прогрессивные и возвышенные идеи приводят в экстаз, я ими упиваюсь.
Гарри остановил ее и, повернув к себе, облапил одной рукой ее пышный зад, а другой взял Клару за подбородок.
– Я тебя не разочарую, – сказал он и жарко поцеловал ее в губы.
Мой отец почувствовал, что самое время смываться. Теперь они не заметят, что он исчез. И действительно, когда он дошел до конца тропинки и оглянулся, то увидел, что парочка, мило обнявшись, удаляется под плотной завесой дождя вглубь леса.
* * *
После инцидента с Кларой мой отец наложил на себя трехдневное покаяние. И не писал Лили ни единой строчки. А на четвертый день он забрался по горло в горячую воду в единственной на весь лагерь служебной ванной.
Ключ от этого помещения, навевавшего воспоминания о комфорте мирных времен, можно было получить на центральной вахте, и этой возможностью мой отец часто пользовался. Ванная находилась в отдельном строении в стороне от бараков. Дверь мой отец, как обычно, оставил незапертой. Дымя сигаретой, он во всю глотку орал какой-то революционный марш, хотя чем-чем, а музыкальным слухом он похвастаться никогда не мог.
Дверь неожиданно распахнулась.
И на пороге возникла старшая медсестра, малютка Марта, которая замахала ручками, разгоняя клубы табачного дыма. Левой рукой отец попытался прикрыть свой срам.
Марта метала громы и молнии:
– Миклош, что вы здесь делаете?! Спрятались, что-бы подымить?! Да как вам не стыдно?! Миклош, сколько вам лет? Вы уже не сопливый школьник, чтобы такое себе позволять!
Мой отец швырнул сигарету в ванну. И правой рукой тоже начал махать, перемешивая дым над водой. Но больше, чем дым, его смущала его нагота, и он предпочел прикрыться обеими руками.
Медсестра в огромном крахмальном чепце подступила уже к самой ванне.
– Для вас это смерть! – кричала она в лицо отцу. – Каждая сигарета на день сокращает вам жизнь! Вы понимаете это, Миклош!? Отвечайте мне, голова садовая! Понимаете?!
Лили, мой милый друг, я должен тебе кое в чем признаться. Нет, это еще не то признание, о котором я не осмеливаюсь писать, – речь о том, что у меня ужасный голос, и вообще мне медведь на ухо наступил.
Но, как все антимилитаристы, я обожаю горланить марши, когда принимаю ванну.
Нас здесь так опекают, что не знаешь, куда деваться! Мы должны соблюдать режим, тихий час и прочие прелести. А больше других нас опекает малышка Марта – напоминающая Микки Мауса старшая медсестра, венгерская жена нашего главного врача, господина Линдхольма.
Напоминающая Микки Мауса старшая медсестра Марта, не помня себя от гнева, бросилась через парк. Дорога до вахты занимала не меньше пяти минут, и с каждым шагом гнев Марты только усиливался. Распахивая дверь привратницкой, она чуть не сорвала ее с петель.
За четыре дня до этих событий Гарри, не в последнюю очередь благодаря неистощимому терпению Клары Кёвеш, вернул себе утраченную, как казалось, мужскую силу. Хотя девушка уехала немного разочарованной, переписку они решили продолжить. Однако Гарри вошел во вкус.
На сей раз его выбор пал на дневную вахтершу – дородную девицу, которую все называли слонихой Фридой. Он и сам не мог разобраться в прихотливых зигзагах своих вожделений. Казалось, эпоха, когда его привлекали женщины бледные, с осиными талиями, непостижимым образом канула в Лету.
Когда Марта, словно разгневанный ангел, появилась в дверях, Фрида и облаченный в пижаму Гарри как раз разыгрывали прелюдию. Они даже не успели друг от друга отпрянуть. Гарри еще повезло – разговор шел по-шведски, и он мало что понимал.
– Фрида, это ты продала Миклошу сигареты?
Фрида, крепкой рукой прижимавшая к себе Гарри, даже не ослабила хватки.
– Всего две штуки. Ну три.
– Это последняя твоя выходка! Еще раз поймаю – пеняй на себя! – прокричала Марта и оглушительно бухнула дверью привратницкой.
Фрида, конечно, снабжала желающих сигаретами не просто так. Незначительная маржа, с которой она продавала их, служила довеском к ее не слишком солидной зарплате.
Если честно, мне нравится, когда мужчина курит, но ты в данном случае исключение. Пожалуйста, соблюдай меру! Сама я, кстати сказать, не курю…
* * *
Лили вошла в палату словно сомнамбула. Молча села на койку. От нее исходило такое отчаяние, что лежавшая в кровати Юдит уронила на живот книгу, которую читала уже в третий раз, теперь по-английски. То был роман “Тэсс из рода д’Эрбервиллей: чистая женщина, правдиво изображенная” Томаса Харди.
Шара, которая в это время наливала себе чай, обернулась и, бросившись к Лили, встала перед ней на колени.
– Что случилось?!
Лили молчала, бессильно опустив плечи.
Шара потрогала ее лоб:
– У тебя жар. Где градусник?
Юдит Гольд тут же кинулась за термометром, который они держали на блюдечке у окна. Лили, не сопротивляясь, позволила им отвести руку и сунуть под мышку градусник. Подруги уселись напротив нее. И с перепуганным видом ждали.
Оконные ставни отчаянно сотрясал ветер. Под их ритмичный, размеренный скрип Лили тихо проронила:
– Меня кто-то выдал.
Юдит Гольд привскочила на койке:
– Что сделал?!
Лили разглядывала свои тапочки.
– Я встречалась сейчас с этой дамой из “Лотты”. Она сказала, что я солгала…
Наступила пауза. Шара вспомнила имя дамы.
– Анна-Мария Арвидссон?
Лили глухим голосом продолжала:
– …что Миклош… не мой двоюродный брат, а посторонний мужчина, который пишет мне письма…
Юдит Гольд вскочила и забегала по палате:
– Откуда она взяла?
– …и поэтому она не дает разрешения. Он не приедет! Он не приедет!
Шара бросилась на колени и поцеловала обе руки Лили:
– Мы что-нибудь придумаем, Лили. Не волнуйся. У тебя жар.
Но та не могла оторвать взгляд от тапочек.
– Она показала письмо. Его послали отсюда.
– Кто?! – воскликнула Юдит Гольд.
– Она не сказала. Сказала только, что ей написали, что я солгала, Миклош мне не двоюродный брат, как я говорила ей, и поэтому разрешения она дать не может.
Шара вздохнула:
– Мы будем писать. Мы будем просить, чтобы к нам допускали гостей. Просить до тех пор, пока им не надоест.
Юдит Гольд тоже повалилась к ногам Лили.
– Лилике, дорогая!
Лили наконец подняла глаза и окинула взглядом подруг:
– И кто меня так ненавидит?
Шара встала и вытащила из-под мышки подруги термометр.
– Тридцать девять и две. А ну-ка в постель. Надо Свенссону сообщить.
Они уложили Лили и укрыли ее одеялом. Сама она двигаться не могла, и приходилось с ней обращаться как с малым ребенком.
– Ты ему очень нравишься, – бросила Юдит Гольд, чтобы отвлечь внимание.
Шара не поняла:
– Кому Лили нравится?
– Свенссону. Он с нее глаз не сводит.
– Ну брось ты! – махнула Шара рукой.
Но Юдит Гольд ковала железо, пока горячо.
– В таких вещах я не ошибаюсь.
* * *
Мой отец стоял у ограждения эстакады и смотрел вниз. Под ногами змеились, пересекались и убегали куда-то за горизонт, в бесконечность стальные рельсы. Небо было свинцово-серое, мрачное.
В отдалении на дороге показался Гарри. Подбежав к переходу, он, перепрыгивая через две ступеньки, кинулся вверх по лестнице. Отец заметил его, только когда, тяжело дыша, он остановился рядом.
– Ты что, прыгать собрался?
Мой отец мягко улыбнулся:
– С чего ты взял?
– По глазам вижу. Я все понял, когда ты умчался после раздачи почты.
Под мостом, обдавая их клубами траурно-черного дыма, загромыхал товарняк. Мой отец крепко сжал перила:
– Я не прыгну. Нет.
Гарри облокотился с ним рядом. Они провожали глазами удаляющийся состав. Когда ленточка поезда почти растворилась вдали, отец вытащил из заднего кармана брюк скомканное письмо. И протянул его Гарри:
– Я получил вот это.
Уважаемый Миклош! Прочитав Ваше объявление в сегодняшнем номере “Сабад Неп”, я спешу известить Вас, что Ваши отец и мать 12 февраля 1945 года погибли во время бомбежки в австрийском городе Лаксенбурге, куда их отправили на работу из лагеря. Я близко знал Ваших родителей, и это именно я пытался помочь им, устроив в хорошее место за пределами лагеря, на кофейную фабрику, где было сносное обращение, питание и жилье. Мне бесконечно жаль, что приходится сообщать Вам эту скорбную весть. Андор Ружа.
Мой отец был со своим отцом в непростых, запутанных отношениях. Владелец “Гамбринуса”, известный в Дебрецене книготорговец, был человек горячий, шумный и скорый на руку. Перепадало и его жене, даже когда старик не был выпивши. А выпивал он, к сожалению, крепко. Но мать моего отца все же часто заглядывала к мужу в лавку, приносила обед, груши, яблоки.
Мой отец вспоминал, как в один замечательный день он, мальчишка, стоя на вершине стремянки, так увлекся романом Алексея Толстого “Петр Первый”, что выпал из времени и пространства и, затаив дыхание, следил за интригами царедворцев. Мать пришла за ним вечером. Стояла весна, и на ней была элегантная широкополая шляпа лилово-красного цвета.
– Мики, уже семь часов, а ты еще не обедал. Что ты читаешь?
Мальчишка оторвался от книги. Женщина в пурпурной шляпе показалась ему знакомой, но он не мог понять, откуда он ее знает.
Сложив письмо, Гарри молча вернул его моему отцу. Они навалились на ограждение и тупо смотрели на рельсы. Над головами у них ошалело носились по небу какие-то быстрокрылые птицы.
Миклош, мой дорогой, я убита той страшной реальностью, которую открыло тебе это письмо из Сольнока. Я не могу найти слов утешения…
В тот же день отец сел на велосипед и поехал в Авесту, на кладбище. Сеялся мелкий дождь. Отец без определенной цели бродил из конца в конец по кладбищу и иногда, наклонившись над надписью, пытался шепотом прочесть какое-нибудь необычно мудреное шведское имя.
Не сердись на меня, что я так холодно, с таким кретинским цинизмом принял этот удар… Вчера был на местном кладбище. Я надеялся, что МОИ там, на дне общей ямы, может быть, ощутят ЧЕРЕЗ ЗАГРОБНЫЙ МИР, ЧТО ИХ ПОМНЯТ… Все, довольно об этом.
Лили внезапно села в постели. Была поздняя ночь, слабая лампочка над дверью едва освещала палату. Лицо ее было в холодном поту. На соседней кровати Шара, сбросив с себя одеяло, лежала, свернувшись калачиком. Лили скользнула к подруге и опустилась на колени.
– Ты спишь?
Шара, будто только того и ждала, повернулась к ней и ответила так же шепотом:
– Мне тоже не спится!
Лили, юркнув к подруге в постель, взяла ее за руку. Лежа навзничь, они смотрели на потолок, на который качающаяся за окном береза отбрасывала странные тени. Наконец Лили прошептала:
– Известие получил. Родители. Под бомбежкой.
Шара глянула в сторону тумбочки, на которой лежало письмо моего отца:
– Боже мой!
– Я посчитала. Триста семьдесят три дня. Столько дней я не слышала ни о мамочке, ни о папочке.
Раскрыв широко глаза, они смотрели на путаные узоры, которые рисовал им на потолке ветер-экспрессионист.
Глава седьмая
Небольшой фургон, доставлявший и забиравший почту, прибывал в лагерь в три часа дня. Из машины выскакивал человек в куртке с меховым воротником, шел назад, распахивал дверцы и выбирал из серого мешка соответствующие конверты. На эту возню у него уходило обычно несколько минут.
Затем он шел к окрашенному охрой почтовому ящику, напоминавшему скорее небольшой чемодан, и, прежде чем швырнуть в него отсортированные конверты, открывал ключом днище ящика, чтобы письма, что уходили из лагеря, упали в подставленный снизу пустой полотняный мешок.
Волнующее наблюдение за этой рутинной процедурой входило в распорядок дня моего отца. Он непременно должен был убедиться, что его письмо не упало в результате чьих-то злокозненных происков мимо мешка.
Лили, милая, я совершенно уверен, что не сегодня завтра ты получишь добрую весть! Письмо наверняка написано и лежит в кармане твоего отца, и он ищет возможность осуществить невозможное: каким-либо образом отправить его тебе в Швецию.
* * *
В военном госпитале курить без риска быть пойманным можно было только в одном месте. Помещение это, служившее по утрам душевой и обычно до вечера пустовавшее, находилось на третьем этаже.
Юдит Гольд выкуривала полпачки в день, тратя на сигареты все карманные деньги. Шара тоже курила, но не более трех сигарет. Ну а Лили просто сопровождала их.
Глубоко затянувшись, Шара задумалась:
– Может, в город сходим после обеда. Я отпросилась.
Юдит Гольд сидела на краю душевого поддона, подтянув под себя ноги.
– Что там делать?
– Можно, наконец, сфотографировать Лили – для Миклоша.
Лили искренне ужаснулась:
– Упаси господь! Он увидит меня и задаст деру.
Юдит Гольд умела пускать дым красивыми правильными кольцами.
– Это идея. Сфотографируемся втроем, чтобы потом вспоминать все это.
– Когда – потом? – удивилась Шара.
– Ну, когда-нибудь. Когда будем в других краях. Когда будем счастливы.
И все трое задумались.
А потом Лили заявила:
– Я уродина. Не буду фотографироваться!
Шара шлепнула ее по руке:
– Ты, подруженька, дура, а не уродина.
Юдит Гольд, проводив глазами колечко дыма, устремившееся к приоткрытой форточке, загадочно улыбнулась.
* * *
В отделении связи мой отец наклонился к окошку стеклянной стойки. И сказал по-немецки, дабы не было никаких недоразумений:
– Я хочу подать телеграмму.
Молодая почтовая служащая, тоже в очках, ободряюще посмотрела на моего отца:
– Адрес?
– Экшё, лагерь для иностранцев, Керунгсгорден, 7.
Барышня стала быстро заполнять бланк.
– Текст?
– Два слова. Два венгерских слова. Я продиктую по буквам.
Та обиделась:
– Просто скажите, я запишу.
Отец глубоко вздохнул. И по слогам, на звучном венгерском, произнес:
– Се-рет-лек, Ли-ли.
Барышня покачала головой. Что за мудреный язык.
– Нет, давайте лучше по буквам.
Мой отец принялся диктовать по буквам. Они терпеливо продвигались вперед, одолели начальные звуки, но потом споткнулись. Отец, протянув руку в окошко, схватил руку, в которой почтовая барышня держала карандаш, и стал ее направлять.
Это было непросто. Дойдя до заглавной L, она бросила карандаш и просунула бланк отцу:
– Заполняйте сами.
Зачеркнув все ее каракули, мой отец своим замечательным четким почерком написал:
Szeretlek, Lili! Miklós.
И вернул ей бланк.
Почтовая служащая тупо уставилась на непонятные ей слова:
– Что это значит?
Мой отец замялся:
– Вы замужем, барышня?
– У меня есть жених.
– О! Я вас поздравляю! В этой телеграмме сказано… в ней написано…
Отец знал, как перевести на немецкий самую прекрасную и самую простую на свете фразу. И все же не мог выдавить ее из себя. Тем временем барышня подсчитала слова.
– Две кроны. Ну, так скажете, что это значит?
И тут мой отец запаниковал.
– Отдайте! – побледнев, закричал он. – Я вас прошу! Извольте вернуть!
Барышня пожала плечами и выложила бланк на стойку. Схватив телеграмму, отец разорвал ее. Он чувствовал себя идиотом, а также трусом, и поэтому вместо объяснений смущенно хмыкнул, кивнул и пулей выскочил из почтового отделения.
* * *
В этот день, поздно вечером, на бетонной площадке с торчащим из трещин бурьяном, парни, кутаясь в одеяла, как обычно, сидели вокруг дощатого стола, скудно освещаемого электрической лампочкой. Сидели в дремотной тишине, закрыв глаза или тупо уставясь в неоштукатуренную кирпичную кладку.
Мой отец стоял, привалившись спиной к стене и зажмурив глаза. Казалось, он спал.
Новых стихов сейчас посылать не буду, кроме одного сонета. У меня более грандиозный замысел: обдумываю сейчас план романа. Темой будет путешествие в товарном вагоне двенадцати разных людей – мужчин, женщин, детей – немцев, французов – венгерских евреев – образованных и безграмотных. Как их везут в концлагерь. Из безопасной жизни в смерть. Об этом – первые двенадцать глав.
А следующие двенадцать будут повествовать об освобождении. Пока это все очень сыро, но желание взяться – огромное.
Пал Якобович, мужчина тридцати лет, у которого постоянно дрожали руки и врачи даже не пытались утешить его надеждой на излечение, мерно раскачивался на скамейке и молитвенно бормотал:
– Боже, Боже, услышь мою молитву и пошли мне женщину, красивую, темненькую, а не найдется темненькой, то пошли хоть светленькую…
Тибор Хирш, радиомеханик и ассистент фотографа, сидевший на другом конце стола, не выдержав, рявкнул на Якобовича:
– Придумал о чем молиться! Не смеши народ!
– Молюсь, о чем я хочу!
– Якобович, ты уже не мальчишка, тебе тридцать лет.
Якобович взглянул себе на руки и правой вцепился в левую, чтобы как-то умерить тремор.
– Тебя это не касается!
– В твоем возрасте мужчины уже не вздыхают по женскому полу.
Якобович повысил голос:
– А что они делают? Письку дергают?!
– Ну зачем эти пошлости!
Якобович впился ногтями в руку, пытаясь сдержать проклятую дрожь.
– Что должен делать тридцатилетний мужчина, Хирш?! Объясни! – заорал он.
Хирш пожал плечами:
– Подавлять желания. Принимать бром. Ждать своего часа.
Якобович ударил по столу:
– А я больше не желаю ждать! Я достаточно ждал.
Он вскочил и умчался в барак.
Мой отец, продолжая стоять у стены, усмехнулся уголками рта.
Лили, моя дорогая! О, с каким удовольствием я бы выругался сейчас! Для меня это способ выпустить пар, такой же, как для девушки – выплакаться. Это просто кошмар, как мы тут распустились… Я очень хочу раздобыть для тебя книгу Бебеля “Женщина и социализм” – надеюсь, она у тебя пойдет.
Лили свернулась под одеялом и заплакала. Было уже за полночь. Шара, услышав скулящие звуки, проснулась, вскочила с кровати, откинула одеяло и погладила Лили по волосам.
– Ты чего плачешь?
– Так.
– Приснилось что?
Шара юркнула к Лили под одеяло, и они стали разглядывать потолок, как делали чуть ли не каж-дую ночь. Неожиданно над ними выросла Юдит Гольд:
– Меня пустите?
Девушки потеснились, и Юдит Гольд тоже забралась в постель.
– А кто такой Бебель? – спросила Лили.
– Какой-то писатель, – хмыкнула Юдит Гольд.
Шара села. Тут была уже сфера ее интересов. В таких случаях она принимала позу учительницы и, как правило, даже поднимала вверх указательный палец.
– Не какой-то! Это изумительный человек!
Лили вытерла слезы.
– Говорят, у него есть книга… “Женщина и социализм”.
Юдит Гольд, которую раздражало всезнайство Шары, а левацкие идеи просто бесили, тут же парировала:
– Чего стоит одно название! Ой, держите меня! Сейчас побегу читать!
Но Шару это ничуть не смутило.
– Это лучшая книга Бебеля! Меня она многому научила.
Юдит Гольд пожала под одеялом руку Лили. И, не желая уступать первенство в вопросах литературы, решила открыть новый фронт:
– Это поэт твой тебе морочит голову?
– Да, он пришлет мне книгу. Как только сможет.
– Выучи из нее наизусть отрывки. Сразишь его наповал.
Шара, продолжая сидеть, воздела указательный палец:
– Главная мысль “Женщины и социализма” заключается в том, что в прогрессивном обществе женщина является равноправным партнером мужчины. И в любви, и в борьбе, и во всем остальном.
Юдит Гольд криво усмехнулась:
– Дурак он, ваш Бебель. Уж точно он не был женат. Наверное, сифилитик был.
Шара кипела от ярости, в голове у нее крутилась куча разных ответов, но выбрать какой-то один она так и не смогла. И без слов повалилась на спину.
Книгу я с нетерпением жду. Шара когда-то уже читала ее, но с удовольствием прочтет еще раз.
* * *
По прибытии в Авесту обитателям барака выдали две настольные игры и шахматы. Описания настольных игр были на шведском, а сами игры показались им примитивными, так что, опробовав их однажды, они их забросили.
Зато за шахматы велись настоящие бои. Чаще всего играли Лицман и Якобович. Лицман якобы был даже чемпионом Сегеда. Они играли на деньги, что давало им некоторые преимущества в притязаниях на доску. Лицман, как всегда, комментировал партию. Вот он поднял слона и, описывая им круги в воздухе, завопил:
– Берегись! За-ши-буу! Ша-ха-хаах!!!
Якобович надолго задумался. Вокруг толпились зеваки. И в этой напряженной предматовой тишине, как удар колокола, прозвучал торжествующий вопль Хирша:
– Жива!!!
Радиомеханик и ассистент фотографа сидел в кровати, размахивая письмом:
– Жива! Моя жена жива!
Все молча уставились на него.
Хирш встал и оглянулся по сторонам. Его лицо сияло.
– Жива! Понимаете?!
Он двинулся по палате. Шагал между койками и, будто флаг, держал над головой только что полученное письмо.
– Жива! Жива! Жива! – вопил он.
Первым к нему присоединился Гарри. Он подскочил к Хиршу сзади, положил руки ему на плечи и подстроился под его ритм. Они ходили между кроватями по бараку и распевали, будто триумфальный марш:
– Жива! Жива! Жива! Жива!
Потом к ним примкнули Фрид, Григер, Облат и Шпиц. Горячая, неудержимая жажда жизни била через край. Не выдержав, отец тоже пристроился сзади, а за ним и все остальные из шестнадцати уцелевших, которые жили в бараке. Впереди, воздев над головой флаг-письмо, шел Хирш, за ним шествовали другие, а в хвосте – Якобович и Лицман.
Бесконечной длинной змеей процессия вилась по палате, отыскивая все новые маршруты. Они держали друг друга за плечи, но потом смекнули, что можно прыгать и по кроватям, по столам и по стульям – главное, чтобы не нарушался ритм.
– Жива! Жива! Жива! Жива! Жива! Жива! Жива! Жива!
Сегодня один из моих друзей, Тиби Хирш, получил письмо из Румынии о том, что его жена жива и находится дома. Но еще в Бельзене я разговаривал с тремя людьми, которые утверждали, что видели, как ее застрелили…
* * *
Это яркое триумфальное интермеццо наконец побудило отца к решительным действиям для того, чтобы добиться поездки.
Он знал, что каждую среду Линдхольма можно было застать вечером в главном здании. Набросив поверх пижамы пальто, он пробежал по двору и постучал в кабинет врача.
Линдхольм предложил отцу сесть и выжидательно посмотрел на него. Кабинет освещала только настольная лампа, пятно света не доходило до глаз врача, и они оставались в тени. Что немного смущало отца.
– Я хочу поговорить с вами о душе, господин главный врач.
Свет падал только на подбородок и нос Линдхольма.
– Ну, это загадочная субстанция.
Пальто мой отец бросил на пол. И в замызганной полосатой пижаме походил на какого-то средневекового праведника.
– Иногда она поважнее, чем тело.
Линдхольм сцепил замком пальцы рук.
– Психолог приедет к нам через неделю…
– Нет, доктор, я хочу обсудить это с вами. Вы читали “Волшебную гору”?
Линдхольм откинулся в кресле, и лицо его окончательно скрылось в тени. Он стал человеком без головы.
– Да, читал.
– Со мной то же, что с Гансом Касторпом. Извращенная тоска по здоровью… это больно почти физически…
– Могу вас понять.
Мой отец наклонился вперед:
– Так дайте мне разрешение! Я прошу.
– А при чем здесь это?
– Если я съезжу… к двоюродной сестре… хотя бы на пару дней, если представлю себе, будто я здоров…
Линдхольм перебил его:
– Это мания, Миклош, я умоляю, расстаньтесь с ней!
– С кем я должен расстаться?
Линдхольм вскочил, окончательно скрывшись в тени.
– С этой манией! С помешательством на поездке! Со своим упрямством! Одумайтесь наконец!
Отец вскочил. И тоже перешел на крик:
– Не одумаюсь! Я поеду! Я должен!
– Это будет летальное путешествие! Вы умрете!
Беспощадный диагноз Линдхольма завис в воздухе, как какая-то жуткая птица. Мой отец видел лишь освещенные ноги врача, точнее, часть брюк от костюма, поэтому приговор он мог бы оставить и без внимания.
В наступившей тишине слышалось только их возбужденное дыхание.
Линдхольм, видимо устыдившись, повернулся к шкафу, открыл дверцу, закрыл ее и снова открыл.
Мой отец стоял бледный как полотно.
Линдхольм неожиданно перешел на шведский.
– Простите, простите, – повторял он, – простите меня.
Потом вынул из шкафа картонный чехол и, подойдя к смотровому экрану, щелкнул выключателем. Комнату залил холодный матовый свет. Врач наложил снимки на экран. Все шесть.
– И где же находится на излечении ваша, как вы говорите, кузина? – спросил он, не оборачиваясь к отцу.
– В Экшё.
– Снимите пижаму. Я вас послушаю.
Мой отец сбросил с себя верх пижамы, Линдхольм взял фонендоскоп.
– Дышите. Глубже. Вдох, выдох. Вдох, выдох.
Друг на друга они не смотрели, хотя стояли лицом к лицу.
Мой отец усердно дышал. Линдхольм прослушивал его долго и с таким видом, словно он наслаждался какой-то далекой неземной музыкой. И вдруг спокойно сказал:
– Три дня. Для прощания будет достаточно. Как врач, я считаю… А впрочем, какая разница… – И мах-нул рукой.
Мой отец натянул пижаму.
– Спасибо, господин доктор!
Лили, дело за тобой, действуй быстро, по-умному! Мы должны провести эту “Лотту”! Мне понадобится бумага, на шведском, от твоего врача – о том, что как медик он поддерживает посещение. Своего я уговорил!
Линдхольм смущенно крутил в руках фонендоскоп. В приглушенном интимном свете настольной лампы он вытащил из заднего кармана бумажник.
– Забудьте. Это я говорю вам как врач. Душа… Иногда о ней лучше не вспоминать…
Он собрал снимки и положил их в конверт. Затем выключил экран, вытащил из бумажника небольшую, в несколько сантиметров, потертую фотокарточку и протянул ее моему отцу.
На фотографии была запечатлена белокурая девочка. Она стояла с мячом у стены, недоверчиво глядя в объектив.
– Кто это, доктор?
– Моя дочь. Она умерла. Погибла в аварии.
Мой отец боялся пошевелиться. Линдхольм тяжело переступил с ноги на ногу, скрипнула половица. Голос его звучал хрипло:
– Жизнь, случается, нас наказывает.
Мой отец большим пальцем погладил лицо девчушки.
– Это от первого брака. Ютта. Марта вам рассказала вторую половину нашей истории. А это – первая.
* * *
На этот раз Лили с подругами решили организовать более продолжительную программу. В клубе на первом этаже Шара, которой Лили аккомпанировала на пианино, исполнила восемь песен, в том числе две венгерские, одну – Шумана, две – Шуберта, и даже несколько опереточных шлягеров.
Солдаты и медицинские сестры принимали их с бурным воодушевлением. После каждого номера Лили и Шара элегантно и скромно раскланивались на высокой сцене. Особенно льстило Лили, что среди зрителей был и главный врач, господин Свенссон. Он сидел в середине первого ряда, держа на коленях трехлетнюю дочь, и после каждого номера восторженно топал ногами.
В конце вечера он подошел к смущенно сидевшей за пианино Лили и поздравил ее. Девушка залюбовалась ребенком, который не капризничал, не заснул на концерте, а, напротив, явно наслаждался происходящим.
– Можно мне взять ее на руки?
Свенссон передал ей дочурку. Лили прижала ее к груди, а та рассмеялась.
Тем временем в зрительном зале солдаты обступили Шару. Упрашивать ее спеть что-нибудь на бис – просто так, без сопровождения – долго не пришлось. Шара выбрала печальную песню о разлуке возлюбленных. У многих солдат, хотя по-венгерски они не понимали ни слова, в глазах заблестели слезы.
Лили тоже охватила невыразимая грусть.
Несколько дней назад я был в городе и бродил в одиночестве по заснеженным улицам.
Смеркалось. В конце улицы, отлого идущей вверх, мой отец выдохся и сошел с велосипеда. Метров два-дцать он шел, толкая его вперед, а затем остановился.
Окна дома даже со стороны улицы, где он стоял, были не занавешены, и вся комната была как на ладони. Увиденное напоминало картину бытового жанра из прошлого века. Глава семейства читал, жена сидела за швейной машинкой. Между ними в деревянной люльке лежал младенец и, как видно было даже из‑за ограды, играл с куклой и улыбался беззубым ртом.
На окне не было занавесок, и можно было заглянуть в квартиру простых рабочих… Я почувствовал, как я неимоверно устал. Двадцать пять лет, и сплошная череда бед. У меня не осталось воспоминаний о безмятежной семейной жизни – такой я не знал. Возможно, поэтому я ее так безумно жажду… Не желая все это видеть, я поспешил уйти…
Глава восьмая
Лили без конца обнимала дочурку доктора Свенссона.
А Шара, окруженная растроганными мужчинами в больничных пижамах, продолжала петь:
Птица, птица малая В сад мой залетела, Вить гнездо уютное Начала несмело…Доктор Свенссон коснулся руки Лили:
– Я получил письмо из Авесты, из мужского лагеря. От одного моего коллеги, главного врача. Он женат на венгерке.
Лили вспыхнула.
– Да, да… – пролепетала она.
– Речь о вашем двоюродном брате.
– О брате?
– Не знаю, как вам сказать. Письмо привело меня в замешательство.
Девчушка на руках Лили вдруг резко потяжелела. Она осторожно поставила ее на пол.
– Мы планировали, что он навестит меня.
Врач взял дочурку за руку. И кивнул:
– Да, об этом и речь. Разумеется, я согласен. Я разрешаю.
Лили вскрикнула и поймала руку доктора Свенссона, чтобы расцеловать ее. Главный врач с трудом ее вырвал.
Внизу, в зрительном зале, Шара пела очередной куплет.
Мне мои завистники Счастья не простили И гнездо несвитое Взяли разорили…[3]Свенссон убрал руку за спину.
– Но вы должны знать кое-что.
– Я знаю все!
Свенссон глубоко вздохнул:
– Нет, этого вы не знаете. Ваш двоюродный брат тяжело болен.
Лили почувствовала, как что-то сдавило ей сердце.
– Да?
– Болезнь легких. Тяжелая. Необратимая. Вы понимаете немецкое слово irreversibel?
– Понимаю.
– Меня долго терзали сомнения, надо ли вам рассказывать. Но это ваш родственник. Вы должны быть в курсе. Он не заразный.
Лили погладила белокурую малышку по волосам:
– Не заразный. Я понимаю.
Когда Шара закончила песню, наступила глубокая тишина. Слышалось только, как напевала крохотная дочь Свенссона – словно откуда-то издали доносилось слабое эхо.
Свенссон приложил к губам дочери указательный палец. И эхо тоже умолкло.
– Вы, дорогая Лили, должны поберечь себя. Вы тоже еще не в порядке. Отнюдь нет.
У девушки так пересохло во рту, что она не смогла ответить.
* * *
Отцу, хоть он этого не показывал, все-таки не давал покоя диагноз Линдхольма. Дело в том, что он не поверил врачу, но укрепить его в этом неверии могло только заключение дополнительного эксперта. По-этому он попросил Якобовича, который в мирное время работал в Мишкольце санитаром хирургического отделения, оценить снимки. На практике сие означало, что нужно было взломать кабинет Линдхольма. Гарри, готовый на все, что обещало волнующие приключения, с энтузиазмом присоединился к компании.
В узком коридоре главного корпуса горела только лимонно-желтая лампочка ночного света. Мой отец, Гарри и Якобович, словно тати ночные, крались к кабинету Линдхольма. Все трое были в пальто, надетых поверх пижамы.
Гарри держал наготове обрезок проволоки. Он не раз хвастался, что до войны какое-то время состоял в банде, занимавшейся ограблением мастерских. И якобы даже специализировался на взломе замков.
Он долго возился с замочной скважиной. Мой отец уже начал жалеть о затее. Он смотрел на их акцию как бы со стороны и с трудом удерживался от смеха. Но вот наконец Гарри удалось вскрыть замок, и они проникли за дверь.
Действовали они, как заправская шпионская группа. Отец знаком указал Гарри на шкаф. И тот снова пустил в ход отмычку.
Светильники они зажигать не решились, но в эту ночь было полнолуние и кабинет Линдхольма заливал призрачный лунный свет. Трое мужчин чувствовали себя сказочными героями.
Но вот щелкнул замок – Гарри справился и со шкафом. Скользнув к нему, мой отец пробежал пальцами по картонным конвертам. Он помнил, что его досье было где-то посередине. Он нашел его и вздохнул, затем вытащил из конверта рентгенограммы и передал Якобовичу.
Санитар хирургического отделения комфортно устроился в кресле Линдхольма и, подняв один снимок к лунному свету, принялся изучать.
В этот момент неожиданно распахнулась дверь, раздался щелчок выключателя, и кабинет затопил яркий свет трех стосвечовых ламп.
На пороге стояла старшая медсестра Марта, жена Линдхольма. Крохотные ее груди подпрыгивали от волнения.
– Что здесь делают господа пациенты?
Господа пациенты в разномастных пальто поверх одинаковых полосатых больничных пижам вскочили. Снимки выпали из рук Якобовича. Они молчали, ситуация говорила сама за себя. Марта вперевалочку подошла к снимкам и неспешно, по одному собрала их с пола, что только усилило всю пикантность этой немой пантомимы.
– Можете идти, – повернулась она к честной компании.
Господа пациенты, как побитые, потянулись на выход.
Но моего отца Марта остановила:
– А вы задержитесь, Миклош.
Было почти слышно, как у Гарри и Якобовича с сердца свалился огромный булыжник. Дверь за ними закрылась.
Мой отец с выражением величайшего раскаяния на лице повернулся к Марте, которая уже восседала в кресле Линдхольма.
– Что вы хотели узнать? – спросила она.
Мой отец заикался.
– Мой друг Якобович, он как бы врач… Был… до того, как его… Короче, я хотел, чтобы он оценил эти снимки.
– Разве Эрик не сделал этого?
Мой отец разглядывал свои башмаки с незавязанными шнурками.
– Да. Конечно. Он сделал.
Марта смотрела на него так пристально, что он вынужден был ответить на ее взгляд. Старшая медсестра кивнула – мол, она приняла все к сведению, ей все ясно, чего тут не понимать. Поднявшись, она вложила рентгенограммы в конверт, нашла его место среди выстроенных в алфавитном порядке досье и закрыла шкаф.
– Эрик делает для вас все, что может. Вы самый любимый его пациент.
– Меня каждое утро лихорадит. Тридцать восемь и две.
– В наше время в мире еженедельно регистрируют новые препараты. Все может еще измениться.
Внутри у отца неожиданно что-то сломалось. И это произошло так быстро, что он не успел опо-мниться. Словно земля разверзлась от невиданной силы землетрясения. От стыда и бессилия он как подкошенный рухнул на пол и обхватил голову руками. Его сотрясали рыдания.
Марта тактично отвернулась.
– Вы прошли через страшные испытания. И выжили. Выжили, Миклош! И не смейте теперь сдаваться, когда все уже позади!
Отец долго не мог ответить. Если это был плач – то плач раненого животного. Он пытался произнести что-то осмысленное, но язык не слушался.
– Нет… не сдамся.
Марта смотрела на него в полном отчаянии. Он сидел, скрючившись, на полу, закрывая руками голову. Старшая медсестра подошла к нему:
– Полно, Миклош. Возьмите себя в руки.
Оба долго молчали. Он уже не плакал, но так же держался за голову и пытался как можно сильнее съежиться.
Наконец он смог снова заговорить:
– Хорошо.
Марта присела рядом.
– Посмотрите-ка на меня.
Раздвинув костлявые локти, отец поднял на нее глаза. И Марта, теперь уже снова сухим строгим тоном старшей медсестры, приказала:
– Дышите глубже.
Мой отец попытался дышать размеренно.
– Раз-два, раз-два, – командовала сестра. – Глубже. Медленней.
Грудь моего отца поднималась и опускалась. Раз-два. Раз-два. Медленно. Глубоко.
Милая, дорогая моя малышка Лили, я не настолько глуп, чтобы не понимать, что болезнь, которая меня здесь удерживает, когда-нибудь да пройдет. Но я знаю своих собратьев по разуму. Я знаю, с какой отвратительной жалостью они произносят: чахоточный…
* * *
В Экшё, посреди госпитального парка, стоял музыкальный павильон – круглый, изящный, под темно-зеленой деревянной кровлей, с открытой эстрадой и тонкими столбиками белых колонн. В эту ноябрьскую пору на эстраде под ледяным ветром кружилась только сухая листва. Лили, которую в будние дни еще не пускали за территорию госпиталя, любила скрываться здесь. Когда становилось невмоготу терпеть больничные запахи, она бежала к павильону, прислонялась спиною к колонне и, если погода стояла погожая, купала лицо в лучах выглядывающего временами солнца.
Но теперь дул противный ветер, и Лили и Шара, в тяжелых казенных пальто, как заведенные ходили вокруг колонн.
Я страшно сержусь на тебя, мой Миклошка! Как может серьезный и умный мужчина двадцати пяти лет быть таким безнадежным олухом?! Неужели тебе недостаточно, что я, зная все о твоей болезни, жду не дождусь твоего приезда?!
* * *
Примерно в это же время в Авесту прибыли двое мужчин в костюмах и галстуках, которых тут же проводили в венгерский барак. Они были из посольства. Остановившись посередине комнаты, они воздели над головой перевязанный лентой радиоприемник. И один из гостей торжественно объявил:
– Это радио во временное пользование вам посылает венгерский завод “Орион”! Пожалуйста, слушайте на здоровье!
От имени барака радио принял Тибор Хирш.
– Спасибо! Для нас сейчас голос родины важнее любых лекарств.
Аппарат водрузили на стол, мой отец отыскал розетку, и Гарри включил приемник. Волшебный зеленый глазок индикатора вспыхнул, и раздалось шипение.
– Будапешт! Будапешт найдите! – скомандовал один из посольских.
Не прошло и минуты, как приемник заговорил по-венгерски:
Дорогие радиослушатели, семнадцать часов пять минут. Передаем обращение правительственного уполномоченного по репатриации к находящимся за пределами нашей страны соотечественникам: “Все венгры, которые сейчас слушают эту передачу в разных концах земли, должны знать, что душой мы с ними, мы о них не забыли. В последующие минуты я расскажу им и всем венгерским радиослушателям о тех мерах, которые нами приняты для возвращения домой наших соотечественников…”
Поздно вечером парни уселись во дворе, поставили на дощатый стол приемник и подключили его к сети. Дул сильный ветер, лампочка над их головами отбрасывала эфемерный свет. Последние полчаса перед сном обитатели барака обычно проводили здесь, на открытом воздухе. Но радио к этому времени непрерывно работало уже шестой час. Натянув на пижамы свитера и пальто и кутаясь в одеяла, они только что головой не влезали в подмигивающий им “кошачьим глазом” приемник.
По радио транслировали из Вашингтона выступление американского сенатора Клода Пеппера. Излагая пять фраз в одной, диктор переводил. Затем последовали будапештские новости. И все эти новости, сплетни, обрывки репортажей вихрились в их головах, как налетающий с севера колючий порывистый ветер.
На вокзал Келети прибыл второй эшелон с военными преступниками.
Введен в строй новый понтонный мост у площади Борарош.
Успешно завершено обучение первого женского взвода венгерской полиции.
На Большом бульваре прошел конкурс на ловкость официантов.
Во втором туре командного первенства по боксу Михай Ковач из “Вашаша” потрясающим хуком с правой отправил в нокаут Рожняи из команды “Чепель”.
* * *
Наступило воскресенье. Темно-серый автомобиль Бьёркманов подкатил к госпиталю, и Лили, дожидавшаяся их на вахте, забралась на заднее сиденье.
После службы они отправились домой и сели за праздничный стол. Свен Бьёркман прочел предобеденную молитву. Пока фру Бьёркман разливала суп, глава семьи бросил взгляд на Лили и остался доволен: подаренный ими серебряный крестик сверкал у девушки на груди. Из‑за сложностей с языком разговор, как всегда, не клеился. Хозяин писчебумажной лавки спросил по-шведски:
– Что дома, Лили, нет ли каких новостей?
Лили опустила глаза. Она поняла вопрос. И покачала головой.
Бьёркману стало ее жалко:
– Знаешь что? Расскажи о своем отце!
Лили пожала плечами: да разве это возможно?
А Бьёркман решил, что ей непонятны его слова, сказанные по-шведски. И он, дирижируя ложкой, принялся объяснять, так что взмок от старания.
– Твой папа! ПА-ПА! Папенька! Твой отец! Понимаешь?!
Лили кивнула. И сказала, оправдываясь:
– Я слишком плохо знаю немецкий…
Но Бьёркман упорствовал:
– Не беда! Рассказывай по-венгерски! А мы будем слушать! Поверь, мы поймем! Ты просто рассказывай! По-венгерски! Мы слушаем!
Это казалось абсурдом. Ложка в руке Лили задрожала. Но все Бьёркманы замерли в ожидании. Даже дети. Лили вытерла рот салфеткой и уронила руки в подол. Она посмотрела на крестик, висевший поверх ее джемпера. И тихим голосом начала. По-венгерски.
– Мой папа, мой дорогой, мой любимый папочка… У него голубые глаза. Голубые-преголубые, они так и светятся. Он самый добрый на белом свете.
Семья Бьёркман изумленно слушала. Владелец писчебумажной лавки сидел, склонив голову набок, не шевелясь, зачарованный музыкой незнакомого странного языка. Что понимал он в его мелодии, в его ритме?
– Папочка не высокий… но и не низкий… он очень любит нас… по профессии он коммивояжер, продавец чемоданов.
Шандор Райх, папочка, продавец чемоданов, на рассвете каждого понедельника тащился вдоль улицы Хернад с двумя огромными корабельными кофрами фирмы “Вулкан фибер”, в которых, будто в матрешке, скрывались, один в другом, еще десятки чемоданов и саквояжей поменьше.
Эта картина так ясно встала перед глазами Лили, что она, и не закрывая их, видела даже тень папочки, отбрасываемую весенним солнцем на стены домов.
– …Всю неделю папочка пропадает в провинции. Но в пятницу, к выходным, возвращается к нам… Мы живем рядом с Келети, специально снимаем квартиру именно у вокзала. В понедельник утром папочка снова отправится в путь со своей коллекцией. Пройдет вдоль по улице Хернад до Келети. А в пятницу снова вернется домой с чемоданами. А мы уж его заждались…
Слова без особых трудностей перенесли ее в прошлое. Они сидят за празднично накрытым столом в квартире на улице Хернад: папочка, мамочка и их восьмилетняя дочка Лили. А во главе стола восседает еще один человек, небритый мужчина в дряхлом пальто, застегнутом так, чтобы не было видно его грязной рубашки и драных штанов. Папочка хотел было стащить с него это пальто, но махнул рукой. Незнакомец ногтем с черным ободком грязи смущенно колупает солонку.
– …В пятницу вечером у нас всегда праздничный ужин. И папочка всегда приглашает кого-то из бедных евреев. Так он встречает субботу. А бедняка он обычно находит где-нибудь у вокзала…
Свен Бьёркман, казалось, все понимал. На глаза его навернулись слезы. Он сидел неподвижно, слегка приспустившись на стуле. По лицу жены блуждала мечтательная улыбка, и даже двое детишек, замирая с поднятой ложкой, время от времени вскидывали на Лили распахнутые глаза.
– …Таким образом каждую пятницу наша семья увеличивается до четырех человек…
Лили не смела взглянуть на грудь, где висел серебряный крестик…
А вечером, пока они долго ехали в Экшё, фру Бьёркман рассказывала Лили о сложных премудростях шведской системы усыновления и опеки. Ее ничуть не смущало, что девушка в лучшем случае могла лишь догадываться о теме ее возбужденного монолога. Как бы то ни было, жена Бьёркмана почувствовала облегчение, рассказав наконец о плане, который они со Свеном вынашивали уже не одну неделю.
Лили уж давно исчезла за двойными дверями госпиталя, а Бьёркманы все махали ей, прислонившись к своей машине.
…Миклошка, не забудь о своем обещании найти друга для моей лучшей подруги Шары! Шара старше меня, ей недавно исполнилось двадцать два…
* * *
Измученный никотиновым голодом, мой отец бегом пробежал расстояние до привратницкой. Он вошел без стука. Фрида и Гарри отпрянули друг от друга.
– Мне только сигарет… – пробормотал отец.
Фрида вырвалась из объятий Гарри и, даже не застегнув блузку, подлетела к шкафу, откуда вытащила деревянный ящик. В нем навалом, без упаковки, лежали сигареты нескольких марок.
– Сколько тебе? – сверкая вывалившимися грудями, ухмыльнулась Фрида.
Отец страшно смутился. И без слов показал: четыре. Фрида послюнявила пальцы и выхватила из ящика четыре сигареты. Мой отец достал из кармана мелочь, и они обменялись.
Гарри обнял девушку сзади и поцеловал ее в шею:
– Дорогая, дай ему бесплатно. Это мой лучший друг. Он помог мне вернуть потенцию.
Фрида игриво взглянула на моего отца, пожала плечами и отдала ему мелочь.
Что касается твоей просьбы, то просто беда! Нас, венгров, всего здесь шестнадцать, но ни один из них не подходит для Шары. Поначалу я хотел было взять с собой Гарри, но теперь уже не хочу…
* * *
После последнего триумфального выступления музыкальные вечера в Экшё участились. Свенссон позволил Шаре и Лили манкировать половиной тихого часа. В два часа пополудни девушки запирались в актовом зале и репетировали. Главный врач даже раздобыл им ноты.
В одной из тетрадей они обнаружили целую коллекцию произведений Леонкавалло. И спустя неделю представили публике “Маттинату”, самый известный из его шлягеров. Сопрано Шары в этой возвышенной романтической песне взмывало под небеса. От избытка чувств она картинно раскидывала руки. Лили тоже переняла этот манерный утрированный стиль и обрушивалась на клавиши, будто ястреб на свою жертву. Вот когда они пожалели, что у них не было концертных платьев. По правде сказать, у них не было вообще никакой подходящей одежды, и по этой причине обе вышли на сцену в больничных халатах, едва прикрывавших ночные сорочки.
Юдит Гольд сидела среди солдат – в том ряду, где, кроме нее, не было ни одной женщины. Она гордо выпрямилась: быть венгеркой в этот момент было приятно.
L’Aurora, di bianco vestita, Giá l’uscio dischiude al gran sol[4].Не иначе, что-то особенное витало тогда в атмосфере, ибо в тот же вечер в Авесте, в трехстах семидесяти семи километрах к северу, тоже царило безудержное веселье.
Не догадываясь о разительном совпадении, парни по предложению Григера и с его же блистательным сопровождением на гитаре стали петь ту же самую серенаду Леонкавалло. Как будто небесный хормейстер, взмахнув палочкой, через ангелов известил их о том, что им следует петь. Во всяком случае весь барак – немного фальшивя, но дружно, раскрепощенно и, кстати, по-итальянски – грянул “Маттинату”.
В Экшё солдаты все больше пьянели от музыки. Зал утопал в блаженных улыбках. Шара вскидывала руки к потолку, Лили, казалось, вот-вот вознесется над стулом.
А парни в бараке в порыве энтузиазма повскакивали на столы и кровати. Гарри подбежал к Григеру и тоже стал дирижировать.
Ove non sei la luce manca, Ove tu sei nasce l’amor![5]Мой отец стоял впереди других, его захлестнула горячая волна счастья, будущее казалось ему прекрасным. В конце концов, “Маттината” – это гимн любви, и отец справедливо считал, что этот гимн его товарищи исполняли именно в его честь.
* * *
А еще посылаю пряжу на свитер вместе с размерами. Надеюсь, ты не обидишься?
Отец, еще когда разговаривал с Лили по телефону, намекнул ей, что благодаря богатому кубинскому дядюшке он может позволить себе немного больше, чем другие обитатели лагеря. Старший брат его матери, дядя Хенрик, вписал себя в семейные анналы тем, что в 1932 году, прихватив фамильные драгоценности, отбыл на Кубу. И уже из Гаваны он, не испытывая угрызений совести, послал родственникам в Дебрецен фотооткрытку в сопровождении восторженных слов о своей новой чудесной родине.
В детстве мой отец часто разглядывал черно-белую фотографию, запечатлевшую многолюдный гаванский порт в непогожий дождливый день. Лицо дяди Хенрика ему не запомнилось – на нем, кажется, были щегольские усы и сияющие под пенсне глаза, но за это он не ручался.
На гаванской фотооткрытке, которую члены семьи в течение многих лет, ужасаясь, показывали друг другу как доказательство непростительного предательства, можно было увидеть огромный трехтрубный лайнер и множество “фордов” на набережной. В кадр попали также какие-то изможденные, кожа да кости, портовые грузчики; так что будущее дяди Хенрика нетрудно было представить.
Однако дядюшка с подмоченной репутацией и не думал заниматься погрузкой судов. На следующей фотографии, которую он прислал несколько лет спустя, явно чтобы поиздеваться над завидущими родичами, – на фотографии четкой, прекрасного качества, дядя Хенрик обнимал полукровку жену в окружении полудюжины бегающих ребятишек.
Хенрик с широколицей женщиной стояли на террасе, во рту у дяди висела сигара, а на обратной стороне фотоснимка его корявым почерком были начертаны две фразы:
Я в порядке. Стал совладельцем плантации сахарного тростника.
Мой отец, как только увлекся эпистолярным жанром, сразу вспомнил о своем дядюшке как о возможном источнике финансирования. И – была не была – написал ему, что ему посчастливилось пережить великую европейскую бойню и теперь он находится на лечении в Швеции. Перед глазами отца, словно видение, стояла картина. Еще подростком он грезил о Кубе, листая в “Гамбринусе” выпущенный в два-дцатые годы альбом. На этой воображаемой фотографии дядя Хенрик лежал в гамаке на той самой террасе. Он раздобрел и весил, наверное, килограммов сто двадцать. Терраса в воображении отца была на высоком холме, и с нее открывался потрясающий вид на море.
Так ли жил дядя Хенрик или даже еще роскошней, это нам неизвестно. Во всяком случае, на письмо отца он не ответил, зато три недели спустя все-таки обозначился, о чем можно было судить по отправителю перевода: это он, дядя Хенрик, прислал ему восемьдесят пять долларов.
Для отца это был капитал.
Уже в день получения перевода с Кубы он купил в какой-то провонявшей уксусом лавочке самую жуткую в мире пряжу неопределенно-грязного цвета. Затем новоиспеченный владелец четырех мотков хлопчатобумажной пряжи организовал для Лили подачу объявления в венгерскую газету “Вилагошшаг”, трогательный текст которого он сам же и сочинил. Это была единственная возможность попробовать разыскать из Швеции ее мамочку.
В местной кондитерской на дар дяди Хенрика – пусть он был и не царским – он смог также купить три шоколадных бисквита, которые попросил уложить в картонку и перевязать золотистой ленточкой. Но самым серьезным его вложением был отрез на пальто – три с половиной метра материи, которую, терзаясь сомнениями, он долго выбирал в единственном в городке магазине тканей.
Вот теперь наконец-то все было готово к поездке.
Глава девятая
Мой отец ехал целые сутки. Ему много раз пришлось пересаживаться. Иногда он сидел в купе у окна, иногда – за отсутствием лучшего места – жался у самой двери. Временами в поезде было так жарко, что он снимал тяжеленное бесформенное пальто и, аккуратно сложив его, клал себе на колени. От жары у него иногда запотевали очки, и он, достав из кармана брюк Лилин носовой платок, протирал им линзы. Больше всего он оберегал картонку с пирожными и в каждом купе выбирал для нее самое безопасное место, чтобы, чего доброго, не помялась!
Иногда он задремывал, а очнувшись, смотрел в окно. Мимо мелькали станции: Ховста, Эребру, Халльсберг, Мутала, Мьёльбю.
Однажды, уже после Мьёльбю, входя в купе, отец поскользнулся и грохнулся на пол. И случилась большая беда: левая линза его очков разлетелась вдребезги!
…Мне пришлось смотаться в Стокгольм, чтобы лично решить в Комитете по делам иностранцев вопрос о билете на поезд. А знаешь что – я целую тебя. Твой Миклош.
В коридоре есть два закутка. Один из них – совершенно уединенный. Мы весь день можем там сидеть под огромной искусственной пальмой, никому не мешая. Ну так и быть – тоже целую тебя. Лили.
…В первый же вечер, когда я приеду, я должен буду тебе кое-что сказать – за мгновение до того, как расстаться с тобой перед сном! Ну а я целую тебя не “так и быть”, а самым серьезным образом, и причем многократно. Миклош.
У Шары в репертуаре есть еще одна песня, которую ты наверняка знаешь, – это песня китайских кули… Я тебя очень жду. И целую тебя много раз. До встречи. Лили.
Закуток в коридоре – это замечательно, не люблю разговоров на публике… Мысленно глажу по волосам (разрешаешь?) и многократно тебя целую. Миклош.
Утром я проснулась оттого, что у меня чешется левый глаз. Я сказала Шаре, что это хороший знак! До скорого свидания, целую. Лили.
Я прибываю первого, в 6.17 вечера! Целую тебя с любовью и много раз. Твой Миклош.
* * *
Первого декабря в Экшё валил густой снег. Платформа и пути на станции маленького городка были под открытым небом. Навес построили только перед входом в двухэтажное, с изящным тимпаном, главное здание.
Из состава с тремя вагонами вышел только один пассажир – мой отец. По шаткой нелепой походке узнать в нем донжуана было затруднительно. Под тяжестью чемодана, оттягивавшего плечо, он немного кренился вправо. Потрепанный фибровый чемодан, который ему одолжила старшая медсестра Марта, на всякий случай был перетянут шпагатом. В левой руке отец бережно нес коробку с тремя шоколадными бисквитами.
Лили и Шара ждали его перед главным зданием. Лили судорожно сжимала руку своей подруги. За спиной девушек, в длинном черном пальто с пелериной, стояла медсестра, которую Свенссон выделил для сопровождения своих пациенток на станцию.
Мой отец, завидев группу встречающих, смущенно осклабился. И этой ужасной гримасой испортил все. В бледном свете станционных фонарей ярко блеснули железные зубы из “виплы”.
Девушки испуганно переглянулись и сконфуженно потупились, уставившись на перрон.
Мой отец приближался к ним сквозь густую снежную кисею. Теперь было уже хорошо видно, что левая линза его очков заклеена газетной бумагой, в которой была оставлена только щелочка, чтобы видеть хоть что-то и левым глазом. Осколки стекла он скрепил полчаса назад, залепив их обрывком свежего номера “Афтонбладет”. Мой отец приближался к ним по заснеженному перрону; полы чужого, на два размера больше, зимнего пальто хлестали его по лодыжкам. От холода или, скорее всего, от волнения глаза у него слезились. Это было заметно издали по правому, прикрытому толстой линзой глазу. При этом он широко улыбался, обнажив ряд железных зубов.
И Лили перепугалась насмерть. Оставалось еще какое-то время, секунд пять, пока он не приблизится к ним на расстояние слышимости. Не шевеля губами, словно ее хватил удар, она прошептала Шаре:
– Забирай! Поменяемся!
И когда мой отец был уже в трех шагах, добавила слабым голосом:
– Умоляю тебя! Пускай ты будешь Лили!
Медсестра, стоя за спиной подруг, растроганно наблюдала, как щуплый молодой человек в шутовском пальто приближается к ее подопечным и бережно ставит на снег свой видавший лучшие времена фибровый чемодан.
К самому важному в своей жизни свиданию мой отец подготовился основательно. Он составил короткую – всего из трех фраз, – но эффектную речь, которая содержала слова, которым он придавал магическое значение. И в дороге, казавшейся нескончаемо долгой, в душных жарких купе без устали повторял ее про себя то скороговоркой, то медлительно и торжественно. Но теперь от захлестнувшего его счастья он потерял дар речи. Глядя со стороны, можно было подумать, что он забыл, как его зовут, но в действительности у него просто перехватило дыхание. И поэтому, не сказав ни слова, он просто протянул руку.
Шара бросила на нее взгляд. Ну, хоть руки у парня красивые. Длинные пальцы, изящная ладонь. И она решилась.
– Лили Райх, – подала она руку отцу.
Тот крепко пожал ее. И повернулся к Лили. Девушка быстро и энергично потрясла ему руку и звонко представилась:
– Шара Штерн, подруга Лили!
Мой отец все еще только ухмылялся полным металлической “виплы” ртом. Он был не в силах заговорить, обреченный на немоту.
Так они и стояли.
Наконец он протянул Лили перевязанную золотистой ленточкой коробку с бисквитами. Медсестра выпрыгнула вперед и выхватила у девушки пирожные. Она сама понесет! И, ласково глянув на моего отца, скомандовала:
– Идемте!
И они пошли. После некоторых колебаний Шара взяла моего отца под руку. Лили, потупив глаза, присоединилась к ним. На мгновение у нее появилась мысль подхватить отца под руку с другой стороны, но тут же ей показалось, что это будет уж слишком интимный жест. Медсестра, в своей чудной островерхой шляпе, с красивой картонкой в руке, шествовала позади.
Снег валил огромными хлопьями.
На пути к госпиталю им нужно было пересечь большой парк. Они пробивались по целине. Мой отец, продев одну руку под локоть Шары, в другой тащил перевязанный бечевкой чемодан. Лили с медсестрой шли, немного отстав от них.
И вот почти в самом геометрическом центре парка, спустя восемь жутких минут молчания, в какой-то счастливый миг, словно по воле свыше, мой отец вновь обрел дар речи. Он откашлялся и остановился. Опустил чемодан на снег и, вытащив руку из-под локтя Шары, повернулся к Лили.
Пока они шли, снегопад прекратился. И все четверо, застывшие будто хлебные крошки на белом овальном фарфоровом блюде, походили сейчас на героев какой-то сказки Андерсена. У моего отца был приятный мужской баритон.
– Именно такой я тебя представлял. Всегда. В своих снах. Здравствуй, Лили.
Лили оцепенела, потом кивнула. Словно камень свалился с ее души. Все казалось естественным. Они обнялись.
Шара и медсестра невольно отступили на шаг.
А спустя полчаса они уже сидели в закутке коридора за пальмой. Там стояли два кресла с потертой текстильной обивкой. Отец бросил пальто на спинку и поставил рядом с собой чемодан. Они просто сидели, изучая глазами друг друга, разговаривать им не хотелось. Иногда они улыбались. Ждали.
Наконец отец водрузил чемодан на колени и, распутав шпагат, открыл его. Отрез на пальто был аккуратно уложен сверху. Он достал его и, словно младенца, бережно протянул Лили:
– Тебе привез.
– Что это?
– На зимнее пальто. Осталось только сшить.
– На пальто?!
– Ну, ты же писала, что мерзнешь. Не выдали зимних пальто. Тебе нравится?
У Лили, помимо комплекта одежды, который она получила по прибытии в Швецию, была только юбка в национальном стиле, болотного цвета жилетик да ржаво-коричневый головной убор, смахивающий на тюрбан, – эти вещи ей подарили Бьёркманы.
Ворсистый плотный темно-коричневый материал, ласкающий ее руку, будил воспоминания о мирной жизни. Лили душили слезы.
А отец мой добавил:
– Битый час выбирал. Не разбираюсь я в зимних пальто. В летних – тоже.
Лили ощупывала материю, словно пытаясь расшифровать пальцами вотканные в нее потаенные коды. И даже понюхала ткань.
– Замечательно пахнет.
– Вот в этом дрянном чемодане вез. Боялся, по-мнется. Но ничего, слава богу. Представляешь, мне этот чемодан старшая медсестра дала. Одолжила.
Лили помнила все. Письма от моего отца она про-читывала не менее пяти раз. Сперва быстро, вза-хлеб, а потом, сбежав в ванную, перечитывала еще дважды, основательно, обдумывая каждый абзац. И позднее, через пару дней, прочитывала письмо еще дважды, подставляя на место написанных слов другие. О Марте она была наслышана.
– Микки Маус!
– Ну да!
Как же много всего хотел ей сказать отец! Фразы так и роились в его голове. С которой начать?
В кармане у отца оставалась еще одна сигарета, он вынул ее вместе со спичками.
– Не возражаешь?
– Я-то не возражаю! А твои легкие?
– С ними порядок. Они тут, на месте.
Мой отец показал на грудь.
– Зато сердце! Боюсь, сейчас выпрыгнет.
Лили гладила пальцем ткань, ощущая под ним дорогие ворсинки.
Мой отец закурил и выпустил изо рта сизую, в завитках, струйку дыма, собравшегося под потолком в облачко.
Наконец они заговорили, и фразы, бурные, незаконченные, хлынули, словно прорвало плотину. Они волновались, перебивали друг друга, спешили, стремясь наверстать упущенное.
Не говорили только о самом важном.
Ни тогда, ни позднее.
* * *
Мой отец не рассказывал ей о том, что в концлагере Берген-Бельзен он три месяца сжигал трупы.
Как он мог рассказать об источаемом горой трупов смраде, от которого слезились глаза и першило в горле? Можно ли было глаголами и эпитетами описать этот страшный труд? Описать, как из рук то и дело выскальзывали покрытые коростой конечности и с глухим стуком падали обратно на окоченевшие тела?
А Лили была не в состоянии рассказать ему о дне своего освобождения.
Почти полдня потребовалось ей, чтобы доползти от барака до каптерки – стометровое расстояние она одолела за девять часов. Солнце нещадно жгло ее обнаженное тело. Немцы уже разбежались. Лили запомнился только такой момент: под вечер она сидит, прислонившись спиной к стене, в немецком кителе и купает лицо в лучах солнца.
Но как оказался на ней этот офицерский китель, она не знала.
Мой отец не мог, не в состоянии был рассказать ей, что перед тем, как его перевели на сжигание трупов, он был санитаром в тифозном бараке. В семнадцатом, самом страшном блоке их лагеря он раздавал полумертвым людям баланду и хлеб. На рукаве у него была повязка с надписью Oberpfleger[6]. Или рассказать о том, как Имре Бак постучал ему из окошка? А потом опустился на четвереньки и залаял, как бешеный пес? В Дебрецене, в утраченные навсегда времена, Имре был его лучшим другом. Он нуждался в лекарстве? Возможно. Или в добром слове. Но туда, в блок тифозных смертников, просто так было не вой-ти. Через грязное стекло отец видел, как Имре упал и красивая, светлая его голова ткнулась в лужу. Он был мертв.
Лили ни слова не говорила ему – ни тогда, ни позднее – о двенадцати днях, проведенных в товарном вагоне на пути в Германию. Могла ли она рассказать о том, как на седьмой день обнаружила, что можно слизывать иней, намерзший за ночь на стенку вагона? Ее мучила жажда, безумная жажда! И покуда она лизала стенку вагона, рядом с нею двадцатый час кряду визжала Терка Косарик. Терке, быть может, еще повезло. Потому что Терка Косарик к тому времени лишилась рассудка.
Мой отец не рассказывал про убийственный мордобой в городской больнице Бергена. Он весил тогда двадцать девять кило, в грузовик его отнесли на руках. И потом он несколько недель провел на больничной койке. Дородная немецкая медсестра трижды в день, подняв его легкое будто перышко тело, вливала в него литр рыбьего жира. Рядом с ним лежал польский еврей стоматолог. Ему было уже тридцать пять, он говорил на нескольких языках, знал, кто такие Бергсон, Эйнштейн и Фрейд. И вот через полтора месяца после освобождения лагеря этот врач за полкило сливочного масла до полусмерти избил более несчастного, чем он, француза. Нет, об этом мой отец не рассказывал.
Правда, и Лили ничего не рассказывала ему о бергенской городской больнице. Она лежала там в женском отделении, наверное, недалеко от отца. Был май, стояла весна, война закончилась. Ей дали бумагу и карандаш. И попросили написать свое имя и дату рождения. Лили крепко задумалась. Как же ее зовут? И не могла вспомнить. Хоть убей, не могла. И от мысли о том, что уже никогда не вспомнит, как ее зовут, пришла в неописуемое отчаяние.
Не говорили они о подобных вещах.
Спустя два часа мой отец погладил ее по волосам и, неловко привстав, чмокнул девушку в носик.
* * *
Было уже за полночь, когда медсестра тактично остановилась в трех метрах от них. Лили поняла, что им следует временно попрощаться. Отца проводили на второй этаж, в четырехместную палату, куда его определили на следующие две ночи.
Мой отец разделся и натянул пижаму. Он был так безумно счастлив, что до рассвета как заведенный ходил по комнате между окном и дверью. В половине четвертого, вконец опьяненный, он все же заставил себя лечь в постель. Но так и не смог заснуть.
На следующий день в девять утра, сразу же после завтрака, они снова уселись под пальмой. Когда в одиннадцать Юдит Гольд спускалась на вахту за почтой для женского отделения, то заметила, как Лили и отец, сдвинув головы, о чем-то воркуют в углу коридора. Юдит Гольд быстро отвернулась, застыдившись внезапно нахлынувшей удушающей ревности.
А Лили как раз собиралась сделать отцу самое трудное для нее признание. Она перевела дух.
– Я совершила ужасный грех. Об этом никто не знает. Даже Шара. Но тебе расскажу…
Мой отец наклонился вперед и коснулся ее руки:
– Мне ты можешь рассказывать все.
– Мне стыдно… я… я…
Лили осеклась.
– Ты не должна ничего стыдиться, – с уверенностью сказал отец.
– …я не знаю, как это объяснить… это ужасно… когда нужно было сообщить свои данные… еще перед погрузкой на шведский корабль… нет, не могу сказать…
– Ты можешь!
– …я… я… вместо имени мамочки, ее зовут Жужанна Херц, словом, вместо ее имени… я и сама не знаю, просто не понимаю, почему я его не могла назвать. Я соврала! Не сказала, как зовут мамочку, ты понимаешь?
Схватив руку отца, Лили сжала ее. Лицо ее было бледное, почти белое.
Мой отец закурил, как всегда, когда крепко задумывался.
– Ты хотела поменять судьбу! Это ясно.
Лили задумалась над его объяснением.
– В самом деле. Как здорово ты сказал! Поменять судьбу! Я тогда даже не размышляла над этим, решение как-то само собой пришло! Стать другой. Не еврейкой. Достаточно одного слова, и я превращусь…
– Из лягушки в царевну.
Мой отец обожал всяческие сравнения. Но, возможно, почувствовав, что сказал банальность, он добавил:
– Со мной тоже такое было. Но я струсил.
– Там на пирсе, лежа на носилках, я сказала, что мамочку зовут Розалия Ракоши. Откуда я взяла фамилию Ракоши? Понятия не имею! Розалия Ракоши, так и сказала. Вместо настоящего имени мамочки!
Мой отец загасил окурок в жестянке.
– Успокойся. Уже все прошло.
Лили помотала головой:
– Ничего не прошло, вот увидишь! Потому что еще я сказала им, что еврей у нас только папочка, а мамочка, Розалия Ракоши, – католической веры! И я тоже – сказала я – католичка, ты представляешь?! Я хотела покончить с этим. С еврейством! С меня довольно!
– Это можно понять.
Она заплакала. Мой отец выхватил из кармана бережно хранимый платочек. Лили закрыла лицо руками.
– Нет-нет, это страшный грех! Непростительный! Ты первый, кому я рассказываю. А еще я должна тебе рассказать, что по воскресеньям я хожу к шведам! В семью Бьёркман. Все думают, будто это просто так. Но нет! Я хожу к ним, потому что они тоже католики. Мы ходим на службу! У меня и крестик есть!
Она вынула из кармана сложенный вдвое конверт. Развернула его и достала серебряный крестик. Мой отец недоверчиво взял его, повертел в руках и задумчиво потер лоб ладонью:
– Ну, тогда мне понятно.
– Что?
– Понятно, почему твоя мамочка до сих пор не откликнулась. Почему не пишет.
Лили забрала крестик, вложила его в конверт и убрала в карман.
– Почему?
– Тебя же нет в списках! В тех, которые публиковались во многих венгерских газетах. В официальных списках! Ведь там указаны твое имя и, как это положено, имя матери – Розалии Ракоши. Но это другая девушка. Это не ты! Я думаю, твоя мамочка в Будапеште эти списки читала, она тебя ищет и твое имя видела, только не поняла, что это ты и есть! Ведь она ищет Лили Райх, мать которой зовут Жужанна Херц.
После этого объяснения Лили вскочила и, воздев руки к небу, будто античная статуя, на минуту застыла. А потом бросилась на колени, пытаясь расцеловать руки моего отца. Он отпрянул и в замешательстве спрятал руки за спину.
Лили, еще не поднявшись с колен, быстро пришла в себя. И, взглянув на отца, прошептала:
– Это нужно отпраздновать! То, что ты такой умница!
Она снова вскочила и с воплями “Шара! Шара!” помчалась по коридору.
Глава десятая
В середине того же дня, в выложенной желтой плиткой столовой госпиталя – неприветливом, напоминавшем сарай помещении, где женщины обедали на полчаса позже мужчин, мой отец решил, что пришел наконец черед наглядно продемонстрировать свое отношение к этому бренному миру.
На четвертом этаже госпиталя находились в ту зиму на излечении двадцать три женщины. И теперь все двадцать три, включая и трех молодых венгерок – Лили, Шару и Юдит Гольд, – собрались вокруг моего отца. Острым ножом с деревянной ручкой отец разрезал шедевры кондитера из Авесты – три шоколадных бисквита. Сначала он разделил каждое пирожное пополам, потом на четыре, потом на восемь частей. И вот перед ним уже было двадцать четыре крошечных, с ноготок, кусочка.
Мой отец был в ударе. Забравшись на стул, он заговорил по-немецки, стараясь выдержать речь в возвышенном стиле:
– Разрешите вас просветить относительно коммунизма. В основе коммунизма лежат три идеи – равенство, братство и справедливость. Что вы только что видели? Три шоколадных бисквита. Трое из вас, дорогие девушки, могли бы их проглотить в минуту. Но я эти три пирожных – которые, между нами, могли бы быть молоком, хлебом, трактором или нефтяными залежами – поделил на части. Изволите видеть. И сейчас их раздам народу. То есть вам! Угощайтесь!
И он указал на стол, где лежали пирожные. Дошла ли его изощренная ирония до слушательниц, наверное, было не важно. Возбужденные речью девушки двинулись к блюду, и каждая взяла по кусочку. Лили смотрела на отца восхищенным взглядом.
Кусочки пирожного будто ветром сдуло. Девушки и женщины проглотили их, не заметив. Шара расчувствовалась:
– Так красиво о сущности коммунизма еще не говорил никто.
И лишь Юдит Гольд не съела доставшийся ей, символический, можно сказать, кусочек пирожного. Она держала его в руке, пока он не растаял и не стек с ее пальцев на пол шоколадно-коричневой липкой массой.
* * *
Ранним вечером третьего декабря Лили под присмотром кутающейся в пелерину медицинской сестры проводила отца на станцию. Когда поезд трогался, мой отец, уцепившись за поручень, стоял на последней площадке хвостового вагона и махал до тех пор, пока станция с неоклассическим главным зданием не исчезла за поворотом.
А Лили еще долго стояла на заснеженном обледенелом перроне. И в глазах ее серебрились слезинки.
* * *
Закрыв за собой дверь тамбура, он двинулся по вагону. Любовное стихотворение родилось в четырехместной госпитальной палате, на вторую ночь его пребывания в Экшё. Днем, когда он хоть на минуту оставался один в ванной комнате или в лифте, отец продолжал шлифовать и править его. Прочитать его Лили он тогда, разумеется, не осмелился.
Но теперь, когда колеса стучали по рельсам, под этот ритмичный ускоряющийся перестук музыка стихотворения звучала все громче. Она так и рвалась из души. Рвалась с такой силой, что он не мог, да и не хотел совладать с этой музыкой. С перевязанным бечевкой чемоданом он шел по вагонам. Газетная бумага, которой заклеено было разбившееся левое стекло очков, уже расползалась. Но отца это ничуть не смущало. Он декламировал. Громко. Декламировал по-венгерски.
И стих воспарил, заглушив перестук колес. Отец шагал по вагонам, как какой-нибудь коробейник, предлагающий людям купить стихи. Полупустые купе оставляли его равнодушным. Он вовсе не собирался садиться! Ему хотелось как можно скорее одарить ощущением общей судьбы незнакомых ему пассажиров, которые, кто изумленно, а кто и сочувственно, смотрели на человека, вопившего что-то на непонятном им языке. Возможно, кто-то из них распознал в нем влюбленного трубадура, между тем как другие, что тоже вполне вероятно, сочли его безобидным придурком. Однако восприятие его творчества нимало не волновало отца: он шел дальше и продолжал декламировать:
Тридцатый час, идет тридцатый час, как жизнь моя по рельсам понеслась – по жарким рельсам, что твердят осанну… Я в зеркале – счастливый – о, как странно! Тридцатый раз по шестьдесят минут, и каждый миг – ты тут, ты тут, ты тут! Ведь правда, мы одно и наши руки теперь не разомкнутся и в разлуке? Ведь правда, ты на битву позовешь, и вместе мы преодолеем дрожь и улыбнемся, тесно сдвинув плечи, в лицо невзгодам – как тогда, при встрече? Моя идея – как заря во мгле, я друг и брат всем людям на Земле. Теперь же предо мною все яснее две звездочки сияют не тускнея![7]Отцу казалось, что это и есть те самые строфы, которые он вынашивал всю свою жизнь. Да, это Поэзия с большой буквы! Стих, который, исторгшись из солнечного сплетения, вбирает в себя жгучую музыку сердца и точную математику разума. Поэтому, дочитав до конца, он начал читать стих сначала, потом еще и еще раз, при этом никак не обозначая голосом, что начинает заново. Бесконечная раскаленная душевная колея, казалось, сливалась в эту минуту с бесконечными ледяными рельсами шведской железной дороги.
Позднее, когда он несколько успокоился и был в состоянии контролировать свои чувства, он уселся в одном из пустых купе. Его мучил испепеляющий жар. Лихорадка? Ломило кости, а кожа казалась совсем истончившейся, как он ощущал это только по утрам. Термометр он всегда носил при себе, в кармане, в металлическом изящном футлярчике. Отец выхватил его, сунул в рот. И, закрыв глаза, стал считать. А потом с удивлением констатировал, что на сей раз симптомы его обманули. Ртутный столбик дополз только до тридцати шести и трех – так что зря он паниковал.
Он повернулся к окну. Мимо проносились темные, пересыпанные снегом поля и стройные сосны.
О милая, милая, милая! Милая Лили, я не знаю, как мне благодарить тебя за эти три восхитительных дня? Для меня это значило больше, гораздо больше, чем что бы то ни было…
Моему отцу достаточно было зажмуриться, чтобы увидеть себя и Лили сидящими в закутке госпитального коридора под пальмой. Два кресла с потертой обивкой одно против другого. Брошенное на спинку пальто, фибровый чемодан на каменных плитках пола. Первые полчаса с их смущенным молчанием. Они сидят и просто глядят друг на друга, и им вовсе не хочется разговаривать.
Моя дорогая малышка-глупышка Лили, а теперь я хочу рассказать тебе, какой сохранилась ты в моей памяти.
Картина первая: 1 декабря, вечер. Пальма – бесстыжее это растение – трясет своей зеленью, а ты, улыбаясь, закрыла глаза. Такая славная, умопомрачительно обаятельная!
Лили вдруг спросила его – мой отец, разбирайся он в музыке, мог бы даже сказать, на какой ноте прозвучал вопрос:
– Это сегодняшняя газета?
Она задала его тоном серьезной учительницы. Отец, разумеется, ничего не понял. Какая еще газета?!
Тогда Лили сняла с него окуляры и попыталась прочесть слова на клочке газеты, которым отец заклеил разбившееся стекло. Он облегченно вздохнул.
День второй. Твои голубые глаза под красным тюрбаном. Взявшись под руку, мы идем по улочке.
О, этот чудный переулок – совсем как в кино!
Они гуляли по Касернгатан – Казарменной улице, – дул сильный ветер, мой отец шел посередине, поддерживаемый с двух сторон Лили и Шарой, и, стараясь перекричать ветер, рассказывал им сначала о необыкновенной лапше с маком, которую готовила его мать, потом перешел на антропоморфизм Фейербаха и, наконец, изложил ботаническую систему Линнея. Вот когда пригодились познания, которые он почерпнул на вершине стремянки в “Гамбринусе”.
Совершенно продрогнув, они завернули в кино. В кармане отца таились еще какие-то крохи, оставшиеся от восьмидесяти пяти долларов дяди Хенрика. Шла какая-то американская мелодрама под символическим, как показалось отцу, названием “Лабиринты любви”. Зал на дневном сеансе был почти пуст. Билеты они купили в самый последний ряд. Сидя между девушками, на экран он особенно не глядел, а украдкой рассматривал профиль Лили, и для этой цели клочок “Афтонбладет”, прикрывавший его левый глаз, служил замечательной маскировкой. В один из моментов, когда незадачливый главный герой, поскользнувшись на пролитом масле, покатился на зад-нице к ногам рассмеявшейся пассии, мой отец, осме-лев, незаметно дотронулся до руки Лили. И она ответила, пожав его руку.
Не буду продолжать – у меня обрывалось сердце, когда все закончилось! А потом – мы идем из кино, и на перекрестке дорожек в парке…
Парк, в котором, застывший в камне, сидел Карл Линней, тем временем погрузился в сумерки. Мой отец решился.
Шара, тактично обогнав их на несколько метров, вытянула перед собой ладонь, как будто по заданию метеослужбы вела наблюдение за снежинками. Мой отец оценил этот тонкий маневр.
Они прошли под каменным взглядом Линнея. Под ногами поскрипывал снег, а в небе ярко сияли звезды.
Мой отец остановил Лили, погладил ее по лицу горячими, как огонь, пальцами – что, учитывая десятиградусный мороз и отсутствие варежек, объяснить с точки зрения биологии невозможно – и поцеловал ее. Лили прижалась к нему и ответила на его поцелуй.
Карл Линней задумчиво смотрел на них с высоты.
Шара, довольная тем, что наконец перестала слышать за спиной нервирующий скрип двух пар башмаков, двинулась в конец парка. Она медленно считала про себя. Дойдя до ста тридцати двух, она все еще была одна. Это наполнило ее радостным чувством. Ее сердце забилось сильнее, и она улыбнулась.
Понедельник. Без особых событий. Только фотограф. Не правда ли, ты тоже думала о том, что же скажет мамочка, увидев нас вместе на фото?
Фотостудия находилась на Тредгордсгатан – Садовой улице, – в доме под номером 38. Мой отец прихватил оттуда примитивный черно-белый буклет, который хранил всю жизнь.
Фотограф был вылитый Хамфри Богарт – смазливый высокий молодчик в пиджаке и галстуке. Он долго усаживал их и подыскивал нужный ракурс. Всякий раз, когда он легонько касался колен Лили, чтобы сдвинуть их чуточку вправо или чуточку влево, мой ревнивый отец нервно вздрагивал. Наконец, удовлетворенный, Богарт скрылся за аппаратом, накинул на себя черное покрывало и долго давал указания, как следует держать голову. Потом он снова выскочил из-под накидки, подбежал к отцу и стал вчитываться в газету, которой была залеплена левая линза очков. Окуляры он попросил убрать. Вернувшись в свое укрытие, минут пять он дергал туда-сюда объектив, затем снова выскочил и, подбежав к отцу, зашептал ему на ухо.
Мой отец покраснел – Богарт на безупречном немецком объяснил ему, что он как фотограф все понимает, но и клиент его должен понять, что при таком ярком освещении могут возникнуть проблемы, а если выразиться яснее, то существует опасность, что не вполне презентабельные металлические коронки клиента приведут к нежелательному эффекту. Он, как мастер художественного портрета, полагает так, что идеальный семейный снимок получится, если Лили будет от души смеяться, а мой отец только слегка растягивать губы в улыбке. Лично он, Богарт, рекомендовал бы именно это решение.
Через полчаса в салоне на Тредгордсгатан первые фотографии молодой пары были готовы.
…в тот вечер, проводив меня вниз, ты уже опустила решетку лифта, но перед тем, как лифт тронулся, я притиснулся к ней лицом…
Вечером второго дня Лили попрощалась с моим отцом перед лифтом. По коридору сновали медсестры. Лили вошла в лифт. Она была в ночной рубашке, в халатике и спустилась на второй этаж только ради прощального поцелуя. Она уже опустила решетку лифта, когда мой отец притиснулся лицом к белым крашеным прутьям, надеясь в этом отчаянном положении заполучить от Лили еще один поцелуй. Он прижался так сильно, что на его лице остался решетчатый отпечаток. Лифт двинулся вверх, а он продолжал стоять, пока в шахте не скрылись Лилины тапочки. В это время ему на плечо опустилась чья-то рука.
Перед ним стоял в белом халате Свенссон.
– Вы говорите по-немецки, не так ли?
– Говорю. Понимаю.
– Хорошо. Есть одно обстоятельство, о котором мне бы хотелось с вами поговорить.
Мой отец даже не сомневался, на какое обстоятельство намекал главный врач. Но в этот необыкновенный момент у него не было ни малейшего желания спорить со специалистом.
– Я все знаю, господин доктор. Мои легкие пока что…
Но Свенссон прервал его:
– Я имею в виду не вас. Вы не так меня поняли.
Мой отец облегченно вздохнул. А Свенссон, слов-но бы ничего не заметив, продолжил:
– Я хотел бы просить вас поберечь эту девушку. Она удивительное создание.
Мой отец горячо кивнул. Свенссон взял его под руку, и они стали прогуливаться. Коридор опустел, они были вдвоем.
– Знаете ли, по жестокому капризу судьбы я попал в международную группу врачей, которая присутствовала при освобождении женского лагеря в Берген-Бельзене. Как хотелось бы мне забыть этот день. Но, увы, это невозможно. Всех, в ком мы смогли обнаружить хоть малейшие признаки жизни, уже вывезли. На голом бетонном полу оставались уже только мертвые… около трехсот обнаженных или одетых в лохмотья безжизненных тел. Сплошь скелеты килограммов по двадцать… Словно бы детские.
Остановившись в пустынном коридоре госпиталя, Свенссон устремил взгляд куда-то вдаль. Он стал каким-то потерянным, как будто это воспоминание причиняло ему невыносимую боль. Мой отец с изумлением наблюдал, как лицо главного врача исказила гримаса. Но он продолжал монолог, время от времени прерываясь:
– …Я еще оглянулся, ну мало ли что… и не поверил своим глазам… я заметил, как шевельнулся палец… понимаете, Миклош? Вот так, как я вам показываю, будто голубь последний раз шевельнул крылом… или дрогнул от ветра листик.
Рука его была поднята на уровень глаз, а указательный палец согнут.
– Так мы спасли нашу Лили, – хрипло добавил он.
* * *
Даже годы спустя мой отец с содроганием вспоминал выражение лица Свенссона и его воздетую руку с подрагивающим указательным пальцем. Все это неразрывно слилось в его памяти с другим видением, пережитым в Экшё: поезд, пыхтя, отходит от станции, он стоит на задней площадке хвостового вагона и машет рукой до тех пор, пока полукруглый тимпан станционного здания не исчезает за поворотом; в этот миг его охватывает безумное счастье, оттого что после отхода поезда он удержал в глазах живой облик Лили. Достаточно было просто зажмуриться – и перед ним вставала картина, увиденная им напоследок.
Лили машет ему, стоя на заснеженном обледенелом перроне. В глазах блестят слезы. И ее пальцы… Мой отец утверждал совершенно уверенно, что маленькую руку Лили, ее хрупкие пальцы он видел как бы вблизи, крупным планом. На таком расстоянии это было, естественно, невозможно, и все же… Стоя у двери, он цеплялся за поручень, поезд набирал скорость, а он, закрыв глаза, видел, да, видел пальчики Лили, чуть подрагивающие, как тонкие прутики на ветру.
* * *
– Берегите ее! Любите! – повернулся к отцу в тот последний вечер Свенссон. – Как было бы замечательно…
Он сделал паузу. И в течение долгих секунд молчал. Отцу показалось, что он подыскивает подходящее немецкое слово.
– Что было бы замечательно? – спросил он.
Свенссон задумался. И мой отец догадался: немецкий язык здесь совсем ни при чем. Главный врач подошел к той черте, переступать которую он не хотел. Свою фразу он так и не закончил, зато неожиданно и красноречиво обнял отца за плечи.
* * *
Добравшись до Эрваллы, мой отец пересел в другой поезд. Здесь тоже нашлось место у окна. И в стекле, за которым угадывался ночной пейзаж, он увидел свое небритое и осунувшееся лицо.
Во вторник уже с утра я был мрачнее тучи: последний день. Как и вечером в воскресенье, мы снова гуляли по площади Стадсхотель. И вкус твоих губ в этот день мне удалось ощутить только вскользь.
В последний вечер, во вторник, они опять сели в кресла под пальмой.
Лили плакала. Мой отец держал ее за руку и не мог сказать ничего утешительного. Потом Лили стала рассказывать ему о своей семье:
– Вчера мне приснилась наша квартира. Я видела, как мой папочка собирает свои чемоданы. Это был понедельник, еще только светало. Я знала, что он вот-вот уйдет. Знала во сне, что до конца недели мы его не увидим. Тебе не кажется это странным?
Она стала описывать утреннюю церемонию. И забыла про слезы, про то, что квартира их находится в дальней стране, которую, может быть, ей больше уже не увидеть; она рассказывала об этом так живо, как будто вспоминала вчерашний пикник. Сборы папочки представлялись ей занятной игрой: Шандор Райх, продавец кожгалантереи, в понедельник ни свет ни заря собирает свою коллекцию. В два самых больших чемодана он вкладывает те, что поменьше, а в тех меньших уже упакованы еще меньшие, ну а в самый маленький, красный детский чемоданчик вложены портфели и дамские сумочки. И невозможно поверить, что это несметное количество кожевенных изделий помещается в двух больших корабельных кофрах.
Собственно говоря, глубокая привязанность Лили к своим родителям моего отца озадачивала. Сам он сохранил в памяти только один яркий моментальный снимок своего отца. И не мог понять, по какой причине то или иное воспоминание делается для нас значительным: потому ли, что мы видели эту сцену только однажды, или потому, что она повторялась неоднократно.
В конце концов, не исключено, что именно так заканчивался каждый воскресный обед. Отец моего отца заправляет за ворот камчатную салфетку. Густые волосы его сверкают от бриолина. Его жена, мать моего отца, которая на запечатленной картинке предстает растрепанной, подносит ложку ко рту. Суп с зеленым горошком… да, в белой фаянсовой супнице на середине стола дымится тот самый суп с горошком и с плавающими капельками жира на желто-зеленой поверхности. На скатерти, в мелких тарелочках – горки поджаренного хлеба. Все это мой отец видел совершенно отчетливо. Видел и самого себя – мальчишкой в черном жилетике, сидящим напротив матери. Отец моего отца, неведомо почему, вдруг разражается криком, срывает с груди салфетку, вскакивает и одним махом сдергивает со стола скатерть.
Мой отец запомнил именно этот момент. Над супницей взлетают горошины, желто-зеленая жижа, выплескиваясь, ошпаривает ему колени, а гренки разлетаются в разные стороны, как крылатые ангелочки.
В тот вечер, под сенью искусственной пальмы, мой отец, держа руку Лили в своей, рассказал и об этом.
Тогда Лили переменила тему:
– Я больше не хочу…
– Чего ты не хочешь?
– Ужасно сказать. Но мне хочется быть другой.
– Другой?
– Не такой, как папочка с мамочкой.
К ним подошла Юдит Гольд, которая принесла им чай. Она невольно услышала их разговор.
– А какой же ты хочешь быть, Лилике?
Та подняла на нее глаза, потом на отца. И тихо, но твердо ответила:
– Не еврейкой – уж точно!
В этой фразе, возможно, скрывалась и доля враждебности.
Юдит Гольд растерла на столике капельку чая и резко ответила:
– Ну это уж не вопрос желания.
И с напыщенным видом, как будто Лили оскорбила лично ее, удалилась.
Мой отец задумчиво посмотрел ей вслед.
– Я знаю одного епископа, – заявил он. – Мы напишем ему. Что хотим перейти в христианство. Ты согласна?
Мой отец, по своей привычке, сильно преувеличивал. Разумеется, никакого епископа он не знал. Но был уверен, что рано или поздно, если постарается, он такого найдет.
Лили погладила его по руке:
– Ты не сердишься?
Но отец уже плыл по течению.
– Да я тоже об этом думал.
* * *
В ночном поезде, по дороге в Авесту, глядя, как мимо окна проносятся станции, мой отец решил для себя проблему. Нет, конечно, мысль принять христианство ему в голову раньше не приходила. Ему просто было не важно, что он еврей. Уже подростком его настолько поглотила Идея, эта новая вера, что для такого рода старья в душе его просто не осталось места. Если это так важно для Лили, решил он, то он найдет какого-нибудь священника. Или епископа. Да самого Папу Римского, уж если на то пошло.
Поезд миновал Муталу, Халльсберг, Эребру. Мой отец, сидя в купе, сочинял письмо.
Ну вот, моя милая, моя дорогая Лилике, ты знаешь теперь, что я человек, навсегда обрученный с идеей борьбы за свободу и справедливость, которой увлечены сегодня сыны всех народов. И если ты будешь (ведь это так?) моей спутницей в повседневной жизни, то и в этом будь мне верным товарищем!
Ты вышла из буржуазной среды – стань теперь боевой и стойкой социалисткой!
Ты ведь правда этого хочешь? До Рождества, когда мы, надеюсь, снова увидимся, я буду считать дни!
(А с епископом, как только приеду в Авесту, я договорюсь.)
Обнимаю и крепко-крепко целую. Твой Миклош.
Глава одиннадцатая
Едва мой отец уехал из Экшё, как там разразился скандал. Началось с того, что на следующий день под конец завтрака в столовую вошел доктор Свенссон и постучал ложечкой по стакану.
От резкого звука гомон в столовой утих, все повернулись к врачу.
Свенссон говорил нервно:
– Я прошу отнестись к моему сообщению спокойно и с полным доверием. Сегодня я получил известие, которое внесет в вашу жизнь некоторые изменения… Шведское министерство здравоохранения решило расформировать лагерь в Смоландсстенаре. Все жители этого лагеря, которые находятся на лечении в нашем госпитале, отправятся вместе с остальными.
Свенссон хотел продолжать, но дальнейшие слова его поглотил взрыв эмоций. Девушки и женщины повскакивали с мест, одни радостно обнимались, другие визжали, третьи, выкрикивая что-то на разных языках, пытались пробиться к главному врачу. Тщетно Свенссон стучал ложечкой по стакану, пытаясь восстановить порядок.
…утром в большой суматохе нам объявили, что лагерь наш ликвидируется и всех нас в ближайшее время отправят в другой, очень крупный лагерь в сотнях километров отсюда… Но по крайней мере мы будем ближе друг к другу и мне не придется далеко ехать, чтобы тебя навестить.
Три молодые венгерки бросились в палату собирать вещи. И тут Лили обнаружила пропажу.
Когда полчаса спустя комиссия составляла протокол о случившемся, она была уже в состоянии невменяемости. Приступы плача следовали один за другим, наконец ей сделали укол успокоительного, от которого она впала в ступор; она лежала на койке, скорчившись, и не реагировала на вопросы.
Рассказывать комиссии о случившемся уже который раз принималась Шара.
– Я уже говорила. Он был открыт, – показала она на единственный шкаф в палате.
Шкаф в углу и теперь был распахнут, он был почти пуст – все вещи девушек умещались на нижней полке.
Светловолосый, с ослепительно-белой кожей мужчина в очках переводил слова Шары на шведский начальнице местного отделения “Лотты”.
Протокол составляла фру Анна-Мария Арвидссон.
– Как выглядел материал? – спросила она.
Шара погладила по спине скорчившуюся Лили.
– Лилике, как он выглядел? Я ведь видела только мельком…
Но Лили лишь тупо смотрела расширившимися зрачками на стоявшую за окном березу. Шара попыталась ответить вместо нее:
– Отрез на зимнее пальто. Коричневого цвета. Ворсистый. Ей двоюродный брат подарил.
Мужчина в очках шепотом перевел.
– Это могло случиться, пока нам в столовой делали объявление. Все были там.
Фру Анна-Мария Арвидссон швырнула ручку:
– Кража в госпитале – такого у нас еще не бывало! Я просто не знаю, что можно тут предпринять.
– А я знаю! – стукнула по столу дама из “Лотты”. – Мы найдем пропажу. И вернем владельцу.
* * *
Вернувшись в лагерь, мой отец отметился в канцелярии и пошел в барак, чтобы переодеться. Был полдень, он знал, что все в это время в столовой.
Он вошел в комнату и тут же отпрянул. Две обу-тых в башмаки ноги над средним рядом кроватей описали в воздухе полукруг. Мой отец уронил на пол чемодан. А потом сделал вещь совершенно бессмысленную: снял очки и протер уцелевшую линзу. Когда же он водрузил очки снова на нос, то понял, что это не галлюцинация. Из‑за навесного шкафчика с того места, где он стоял, верхняя часть помещения была не видна. Но, шагнув вперед, он увидел и тело: серые брюки, ремень.
Тиби Хирш!
Он повесился на крюке, на котором висела лампа в жестяном абажуре. Под ногами повешенного валялось письмо. У отца задрожали все члены, ему пришлось сесть. Шли минуты. Мой отец чувствовал неодолимое желание прочитать письмо. Чтобы унять эту дрожь и ужас. С того места, где он сидел, видно было, что внизу письма темнеет печать.
Значит, официальное!
Мой отец обо всем догадался: он понял, что в этом письме содержится, еще до того, как поднялся и, пошатываясь, подошел к висящему на веревке телу. Но он все же решил проверить. Не поднимая последнего письма, полученного радиомехаником и ассистентом фотографа, и даже не нагибаясь, мой отец увидел, что это за извещение. Копия свидетельства о смерти Тиборне Хирш, урожденной Ирмы Кляйн.
И отец тут вспомнил, что ведь он так сразу и написал Лили, что жену Хирша, насколько он знал, застрелили еще в Берген-Бельзене. Он знал об этом, еще когда по бараку вилась длинной змеей торжествующая процессия. Почему же он подавил в себе это чувство? Почему он не бросился к Хиршу, чтобы встряхнуть, отрезвить его?
Но когда? Когда он мог это сделать?
Быть может, когда Тибор Хирш сел в кровати, размахивая письмом? Когда он завопил: “Жива! Моя жена жива!”? Мог ли он тогда подбежать к нему, встряхнуть, проорать в лицо: ничего подобного, нету ее в живых, она сдохла, трое видели – ее пристрелили как бешеную собаку?!
Или можно было сделать это позднее?
Но когда, когда?
Когда Хирш, будто флагом, махая над головой письмом, двинулся между койками, вопя, как осанну, то слово? Тогда? Или когда к нему присоединился Гарри, когда положил руки ему на плечи и они стали скандировать, будто на демонстрации: “Жива, жива, жива, жива!”?
Что он мог сделать в эту минуту, когда страх, судорогой сводивший им все нутро, неожиданно отступил, сменившись ликующим заклинанием? Как мог он остановить это извержение?
“Жива, жива, жива, жива, жива, жива!”
Может, вскочить на стол и перекричать этот хор? И что бы он мог кричать? Одумайтесь?! Придите в себя, идиоты?! Поймите же, наконец, что вы остались одни, их нет, они умерли, превратились в дым – все, кого вы любили! Я это видел! Я знаю!
Он не сделал этого. Он встал в ряд, мой отец стал четырнадцатым кольцом той змеи, частью целого, которое, потеряв рассудок, отказывалось верить в то, чего уже не изменишь.
И вот на крюке перед ним висело безжизненное тело Хирша.
* * *
Вечером, когда действие успокаивающего немного ослабло, Лили почувствовала себя достаточно сильной, чтобы вместе с Шарой пойти в канцелярию и подать официальное заявление о краже.
К тому времени, как она получила письмо моего отца, который, прибыв в Авесту, быстро выяснил, как у шведов принято поступать в таких случаях, Лили уже сделала первый официальных шаг.
Но они оба знали, что в этом году нормального зимнего пальто у Лили не будет.
Дорогая, единственная моя Лилике! Нужно подать заявление в полицию о совершении кражи неизвестным лицом. Ты должна написать его по-немецки, в трех экземплярах (один директрисе, один в Комитет по делам иностранцев и один в полицию), указав, что конкретно пропало: пальтовая ткань, три с половиной метра, коричневая, в мелкий рубчик…
Но как раз в это время происходили события поважнее. Во вторник утром девятерых девушек, в том числе трех венгерок, находившихся в госпитале в Экшё, отвезли на автобусе в Смоландсстенар. Там, на станции, было настоящее столпотворение, и беспрерывно шел снег.
Большинство обитателей лагеря сидели уже в вагонах, и прибывшие из Экшё спешно поволокли свои котомки и чемоданы по чавкающему грязью перрону. Свенссон с медсестрами в черных пелеринах бегали вдоль состава, как военный наряд каритативного назначения. Они пытались всех успокоить. Было море слез, поцелуев и слякоти. Из динамиков разносилась веселая музыка.
Лили, Шара и Юдит Гольд разыскали вагон с подругами по бараку, которых они не видели уже три месяца. Все кричали и обнимались. А потом опустили окна и стали посылать воздушные поцелуи доктору Свенссону. На перроне показалась медсестра на велосипеде, с огромной кожаной сумкой через плечо. Она резко звонила в звонок, и народ перед ней расступался. Медсестра везла вторничную почту – организаторы позаботились обо всем. Накидку, чтобы не мешала ей при езде, медсестра подоткнула выше колен.
– Почта! Почта! – закричала она, спрыгнув с велосипеда.
Велосипед со звоном упал на перрон. Вытащив из сумки конверты, медсестра стала зачитывать имена, стараясь перекричать громкоговоритель:
– Шварц, Вари, Бенедек, Райх, Тормош, Леман, Сабо, Бек…
Фру Анна-Мария Арвидссон тоже суетилась на станции. Услышав фамилию Лили, перед которой она чувствовала себя несколько виноватой, она взяла у медсестры конверт и двинулась вдоль состава, чтобы отыскать девушку в этом вселенском столпотворении. Она радовалась, что сможет вручить ей письмо – как она полагала, от моего отца. Она тоже кричала, повторяя имя Лили, но голос ее терялся в какофонии звуков.
Вдруг в нескольких метрах от себя она наконец-то увидела девушку. Лили, свесившаяся из окна, тоже заметила фру Арвидссон. Пальто дамы было по колено заляпано грязью. Она раскраснелась и тяжело дышала. Над головою фру Арвидссон держала конверт и выкрикивала имя Лили.
– Анна-Мария! Анна-Мария! – окликнула ее Лили.
Услышав, что Лили назвала ее просто по имени, она растрогалась, протянула письмо и при этом, поймав руку девушки, пожала ее.
– Наверняка твой друг! – тихо засмеялась фру Арвидссон, давая понять, что она тоже на стороне любви.
Лили глянула на конверт, и кровь отхлынула от ее лица. На конверте была будапештская марка, а адрес написан был заостренным почерком. Перепутать его было невозможно. Она сорвалась с окна, и Шара едва успела подхватить ее, чтобы не разбилась.
– Почерк мамочки, – прошептала Лили, судорожно сжимая письмо.
Шаре пришлось на нее прикрикнуть:
– Ну-ка дай! Ты помнешь!
Она попытался забрать у подруги конверт, но Лили не отпускала.
Юдит Гольд высунулась из окна и крикнула пробегавшему мимо Свенссону:
– Райх получила письмо от матери!
Свенссон тут же затормозил, остановилась и вся его свита. Медсестры в черных пелеринах окружили его, как стая ворон. Вместе с доктором они поднялись в вагон.
В крохотное купе набилось не меньше пятна-дцати человек. Лили все еще не решалась распечатать конверт, она целовала, разглаживала его. Пришлось Свенссону вмешаться:
– Ну распечатывайте же, Лили!
– Я боюсь, – подняла она полные слез глаза.
Потом глубоко вздохнула и отдала конверт Шаре:
– Распечатай ты.
Шара не мешкая вскрыла конверт, из которого выпали густо исписанные листки. Она протянула их Лили, но та помотала головой:
– Читай! Я прошу тебя!
Свенссон сидел уже рядом с Лили, обхватив ее руку своими. О письме из Будапешта, видимо, уже прошел слух, потому что перед купе, в коридоре, и внизу под окнами толпились люди. Шара, дабы не обмануть торжественного ожидания, решила, что будет читать громко и с выражением, декламируя, как на сцене. Она понимала, какой это необыкновенный момент, но голос подвел ее. Легко справлявшаяся со сложнейшими ариями Шумана, Шара на этот раз начала хриплым и прерывающимся голосом.
Дорогая, единственная, бесценная моя Лилике! В газете “Вилагошшаг” было напечатано ваше объявление: три венгерские девушки, находящиеся в Швеции, разыскивают своих близких!
Лили явственно видела перед собой галерею на этаже их дома по улице Хернад, зеленую дверь их квартиры, потертый халат на мамочке. В дверь звонят. Мамочка открывает, перед ней стоит Бёжи и, размахивая свежим номером “Вилагошшаг”, кричит. Что именно она кричит, Лили не понимает, но это не так уж важно. Ясно только, что она кричит, напрягая жилы на шее, шлепает по газете, по последней странице, где разместили в рамочке набранное крупным шрифтом объявление. Еще она видит, как мамочка вырывает у Бёжи газету, смотрит на объявление, видит имя – ее, Лили, имя, и падает как подкошенная.
Лили слышит, как перед обмороком, или уже очнувшись, мамочка говорит:
– Я всегда знала, что наша малышка Лилике умная и находчивая!
А в купе Шара, справившись с первым волнением, обрела наконец свой голос. Свенссон продолжал держать Лили за руку.
И вот после года кошмаров свершилось чудо! Что я чувствовала, описать словами я даже и не пытаюсь. Я только благодарю Всевышнего, что он дал мне дожить до этого.
Бёжи бросается в кладовку, приговаривая на бегу: “Уксус, уксус”. Находит его на второй полке сверху, вырывает зубами пробку, нюхает. И кидается назад к мамочке, которая все еще лежит у входа. Бёжи брызгает уксусом ей в лицо, чтобы привести в чувство. И вот мамочка, чихнув, открывает глаза. Она смотрит на Бёжи, но слова ее обращены к Лили:
Твой дорогой папочка, к сожалению, домой еще не вернулся. Он в Австрии, в Вельсе. После освобождения он был там госпитализирован с кишечными коликами (в мае), и с тех пор о нем никаких вестей. Я надеюсь, что наш добрый Бог не оставит его и он вернется, чтобы теперь уже вместе радоваться жизни.
Лили, правда, не могла точно определить, какие части письма читает Шара, а какие она совершенно явственно, так, что не перепутаешь, слышит из уст своей мамочки, как будто она прямо тут сидит, в этом душном купе, и когда речь заходит о чем-то важном, говорит сама, останавливая ее подругу. Вот, к примеру, две фразы, которые были прочитаны голосом Шары:
Начиная с восьмого июня, когда вернулся из Аушвица муж Релли, я живу у них, и собираюсь здесь оставаться, пока кто-то из вас не приедет домой. Только уж поскорей бы, о господи!
По квартире распространяется резкий запах уксуса. Мамочка с помощью Бёжи поднимается и, шатаясь, идет к умывальнику, чтобы омыть лицо. А затем садится на табурет, разворачивает на коленях газету и семь раз, чтобы быть уверенной, что эти несколько строчек она не забудет никогда в жизни, перечитывает объявление.
Даже не знаю, с чего начать. Чем ты занята целый день? Что ты ешь? Как ты выглядишь? Исхудала, поди? И есть ли у тебя белье? Мы лишились всего. К сожалению, из вещей, которые отправляли в провинцию, ни одной не вернулось, ни тканей, ни зимних пальто, ни платьев, ничего, одним словом. Но об этом ты, душенька, не горюй…
Ну а в этом, произнесенном на одном дыхании монологе Лили безошибочно распознала голос мамочки. Только она могла так назвать ее – душенькой! И никто другой! Никогда! Душенька… душенька… Боже мой, хорошо-то как!
Свенссон не понимал из письма ни слова, но лицо его сияло от счастья и гордости точно так же, как лица присутствовавших в купе венгерок. Оглянувшись по сторонам, Шара перевела дыхание и продолжила:
Ну а чтобы тебе сообщить приятное – новенькое твое пианино, которое ты получила на восемнадцатилетие от своего драгоценного папочки, уцелело! Знаю, Лилике, что это тебя обрадует.
Сидя на табурете, мамочка разглаживает пахнущую свежей типографской краской газету и с мягкой улыбкой проговаривает про себя письмо. Она сядет за него немедленно. Ведь оно уж давно написано, десять месяцев она сочиняла его по ночам, так что воспроизвести легко, она знает в нем каждую запятую и уже миллион раз проверила орфографию – нельзя же, в конце концов, в таком важном письме допускать ошибки. Она нараспев бормочет слова.
Сердце мое, если есть такая возможность, ты должна кварцевать руки, ноги и даже голову, потому что, я думаю, твои замечательные кудряшки из‑за витаминной недостаточности поредели, а может, ты даже переболела и тифом. Так что не пренебрегай этим, душенька. Я хочу, чтобы по возвращении, да поможет тебе Господь, ты была такой же красоткой, как прежде.
Какая-то медсестра в пелерине из штаба Свенссона побежала к начальнику станции – задержать отправление, пока главный врач в поезде. А Свенссон, застыв на месте, все сжимал руку Лили. Девушки стояли в купе, прижавшись друг к другу, их лица сияли. Голос Шары через опущенное окно был слышен даже на опустевшем перроне.
О бедном Дюри никаких вестей нет, все четверо Карпати выжили, Банди Хорн, по слухам, попал в русский плен. В объявлении нет ничего о Жужи, что ты знаешь о ней, красавица моя душенька, ведь вы отправлялись вместе?
В горле Лили стал набухать комок. Когда угасала ее двоюродная сестра Жужи, легкая как пушинка, с улыбкой на личике и мириадами вшей на изъеденном язвами теле, они лежали в зловонном бараке в обнимку. Как она умерла, в какой момент – об этом тоже она никогда не будет рассказывать.
В пропахшей уксусом кухне мамочка, словно почувствовав, что ступила на минное поле, вдруг замолкает. С крана на раковине срывается капля воды. Она поворачивается к Бёжи и начинает плакать. Та обнимает ее, и они плачут вместе.
Лили явственно слышит, как мамочка, всхлипывая на плече у Бёжи, говорит:
Поскорей бы обнять вас, других желаний у меня теперь нет, только бы мне дожить до этого. Мы вас ждем, миллион раз целую. Любящая тебя до безумия мамочка.
Лили была почти в трансе. Она не запомнила, как вышли из купе Свенссон с сопровождающими. Говорят, будто главный врач и медсестры, перед тем как покинуть вагон, церемонно обняли ее и расцеловали. А потом Свенссон со свитой, будто живая скульптурная группа, еще долго стояли под снегопадом на открытом перроне, пока поезд окончательно не скрылся за поворотом.
Дорогая моя и единственная Лилике!
Не могу рассказать тебе, в какой восторг меня привела эта новость! Ведь ты помнишь, как я говорил тебе, говорил, что на этой неделе ты получишь письмо от мамочки! С каждой секундой я люблю тебя все сильней! Ты такая прелестная, славная девочка! А я такой вредный и злой мальчишка! Но ты ведь меня воспитаешь?
Глава двенадцатая
Как-то утром мой отец исчез из обнесенного забором лагеря, но до обеда никто не заметил его отсутствия.
Искать его начали после полудня. Сперва – Гарри и Фрида, привыкшие к тому, что перед обедом отец заглядывал к ним в привратницкую, чтобы разжиться на вечер парой сигарет. Поскольку за сигаретами он не явился, Гарри спросил Якобовича, где и когда он видел в последний раз моего отца. В час дня о том, что его любимый больной пропал, стало известно и Линдхольму. Проверили велосипеды – все были на месте. А когда мой отец не явился и на обед, то встревожились не на шутку.
Линдхольм отправил шофера осмотреть всю дорогу от лагеря до городка – вдруг отец пошел зачем-то на почту и по пути ему стало плохо. Сам же доктор тем временем обзвонил все места, где он в принципе мог появиться: отделение связи, кондитерскую, железнодорожную станцию. Но нигде в этот день моего отца не видели.
Его исчезновение все связывали с трагическим самоубийством Тибора Хирша. Ведь его обнаружил отец. Потом Гарри предположил, что отец сбежал из‑за приближавшегося Рождества. О празднике в бараке было много разговоров, хотя по религиозным соображениям почти никто из них его не отмечал. Но, по мнению Григера, моему отцу, как социалисту, Рождество было глубоко безразлично и расстроиться из‑за какого-то там семейного праздника такой человек не мог.
Старшая медсестра Марта, явившись в барак, допросила всех по отдельности, а потом долго стояла над логовом моего отца – она была очень близка к тому, чтобы взяться за его переписку. Все письма отец регистрировал и складывал в картонную коробку. В строгом порядке в ней стояли триста конвертов, при этом письма, полученные от Лили, были перевязаны желтой шелковой ленточкой. Марта взяла в руки коробку, но все же преодолела в себе искушение. Рановато, решила она, и дала отцу еще одну ночь.
А в этот момент он шел по лесу в семи километрах от лагеря, шел размеренным прогулочным шагом и размышлял. Он не мог объяснить себе, почему именно в это утро его охватило смешанное с тревогой отчаяние. В чем причина?
Это утро не отличалось ничем особенным от других. На рассвете он измерил температуру. Потом позавтракал. Написал письмо Лили. Сыграл партию в шахматы с Лицманом и отправился в лечебную часть, чтобы еще раз поговорить с Линдхольмом о запланированном на Рождество приезде Лили и пройти дежурный осмотр.
Может, причина в этом. В равнодушном взгляде врача, с которым тот отпустил его. Послушал легкие и махнул рукой. В этом жесте?
Мой отец остановился в сосновом бору. Где-то над головой шелестел ветерок. И он неожиданно понял, что все началось именно с этого рассеянного жеста Линдхольма, случайно толкнувшего первую косточку домино. Он вышел из здания с упавшим сердцем. В этот дурацкий диагноз он никогда не верил. И отметал его как недоразумение. Ну и пусть себе умники говорят, он-то знает, что это не так!
Но в то утро еле заметное мановение кисти Линд-хольма пришлось ему как удар в солнечное сплетение. Он не мог вздохнуть. Он умрет! Исчезнет, как исчез Хирш! Освободят от вещей его шкафчик, перестелют постель. Вот и все.
И он отправился. Пошатываясь, вышел из лагеря, дошел до перекрестка, а на перекрестке том повернул не налево, в сторону города, а направо, к лесу. Здесь он бывал нечасто. Сначала он шел по бетонной дороге, но она вскоре кончилась, перейдя в какую-то колею. А потом иссякла и колея, и осталась лишь узкая тропка, возможно проложенная зверями. Он пошел по ней. Тропинка позднее расширилась, приведя его на большую заснеженную поляну.
И здесь он окончательно заблудился. Не сказать, чтобы его это сильно расстроило. Блуждать по лесу было приятно, он даже наслаждался тем, что заигрывает со смертью. С этой курносой. Ну и пусть он погибнет, и что с того? Жил, любил, сколько было отпущено. И исчезнет, как след дикого зверя. Он начал читать стихи. Сперва про себя, потом вполголоса. А потом перейдя на крик. Он шел среди высоченных сосен и одного за другим читал классиков. Аттилу Йожефа, Гейне, Бодлера.
В конце дня, после приступа кашля, ему стало жалко себя. Жить ему не хотелось, но и замерзнуть в лесу тоже желания не было. И он двинулся к северу, где, по его расчетам, должен был находиться лагерь, хотя в этом он был не совсем уверен.
* * *
В восемь вечера Линдхольм позвонил своему коллеге Свенссону в Экшё. Он не знал, что два дня назад лагерь Смоландсстенар перевели в Бергу. Свенссон был удивлен исчезновением отца и не знал, как его объяснить, но на всякий случай дал Линдхольму номер телефона лагеря в Берге. В одиннадцать, так и не дождавшись моего отца, Линдхольм решил позвонить молодой венгерке, которая могла знать о нем больше других.
По какой-то причине он звонил из привратницкой – может быть, потому, что оттуда он мог наблюдать за дорогой, на которой, как он надеялся, в любой миг мог появиться отец.
* * *
В новом лагере, в Берге, девушки были уже второй день. Их разместили в таком же длинном и не-уютном бараке, как обитателей лагеря для мужчин в Авесте. Они уже улеглись, когда появился посыльный, сказавший, что Лили ждут в главном здании к телефону. Она выскочила из кровати и, накинув на себя пальто, побежала. Шара, крикнув ей вслед, что чует неладное, сунула ноги в туфли и бросилась ее провожать.
Тем временем мой отец, еле волоча ноги, показался из‑за поворота и поплелся к шлагбауму. Линд-хольм заметил его, когда в трубке раздался тоненький перепуганный голосок девушки.
– Лили?! Я сейчас дам вам Миклоша! – закричал он, хотя понимал, что до вахты отец дотащится только минут через пять. – Ждите! Он уже на подходе!
* * *
Мой отец уже не надеялся, что когда-нибудь доберется до лагеря. Когда он решил, что смерть от холода это не его выбор, и повернул на север, стараясь держаться своих следов, его охватило чувство не-уверенности. Почему-то ему казалось, что он ходит по кругу. Контуры его рифленых подошв на снегу расплывались, потом рядом появилась вторая цепочка следов, а в одном месте – в чем он готов был поклясться – он даже шел по следам медведя. Он испугался. Но, к счастью, вскоре вновь отыскал отпечатки своих ботинок.
Но когда его собственный след неожиданно оборвался посреди тропинки, он вконец растерялся. Казалось, будто проходивший здесь человек вдруг взлетел на крыльях. Был, и нету его.
Солнце зашло, и еще безнадежней похолодало. Каждый шаг стоил отцу мучений, он до крови стер ноги, в голове стучало, он беспрерывно кашлял. Тонкий серп полумесяца едва освещал лес. Он то и дело падал, утыкаясь коленями в мелкий колючий снег. Он уже ни на что не надеялся. Останавливаться было нельзя, это он знал, и остатки сил концентрировал только на самой ходьбе: раз-два, раз-два, раз-два. Но в глубине души он уже сдался. Ему показалось, что неподалеку кто-то кричит или ухает – он понятия не имел, есть ли в Швеции зимой совы. “Крик совы – это зов запредельного мира” – хорошая начальная строчка, подумал он, но сможет ли он ее записать? Никогда. Теперь уже никогда.
И тут он увидел привратницкую и шлагбаум и Линдхольма с телефонной трубкой в руке за окном с решетчатым переплетом. Уж не бредит ли он?
Добрых десять минут понадобилось ему, чтобы проделать последние пятьдесят метров. Он ввалился в сторожку, Линдхольм посмотрел на него и передал ему трубку:
– Лили Райх. Вы хотите с ней говорить, Миклош?
Лили долго не могла понять, что значила эта затянувшаяся пауза. Неизвестный мужчина из Авесты то и дело ее успокаивал, обещая дать моего отца. Она думала, что, наверное, неполадки на линии. Трубка потрескивала и жужжала ей в ухо.
И только спустя минуты наконец послышался умирающий голос отца:
– Слушаю.
– У тебя все в порядке?!
Что он мог ей ответить?
– Да. Конечно.
Лили успокоилась.
– Ну вот, мы уже разместились!
– И как?
– Ты представить себе не можешь! Кошмар! Это просто кошмар! Я не стала тебе писать! Ничего, что я жалуюсь?
Мышцы на лице отца одеревенели, он с трудом выговаривал слова:
– Ничего.
Он пытался выиграть время и негнущимися пальцами усиленно растирал лицо. Линдхольм тоже смущал его, он стоял так близко, что отцу приходилось сжиматься, чтобы не соприкасаться с ним.
– Ну что там? Расскажи… – наконец спросил он.
– Деревянные секции, все дорожки в ухабах, ужасно… Ночью от холода не могла заснуть, утром горло болело, температура.
– Да. Понятно.
– И во всем бараке нет уголка, где можно присесть. Ни стола, ни стульев! Целый день гуляли по “лагерштрассе”, как собаки бездомные. Представляешь?
– Ну да.
Отец впал в оцепенение. В голове было пусто. Хотелось лечь и закрыть глаза.
Лили слышала, что он не в своей тарелке. Обычно энергия в нем била ключом, он ей слова сказать не давал. А тут угнетающее молчание. Она решила продолжить:
– Я с утра не нахожу себе места, настроение отвратительное! Все время хочется плакать. Безумно тоскую по дому!
– Понятно.
Лили пришла в замешательство. Отец говорил каким-то чужим голосом. Ледяным. Чуть ли не враждебным. Оба с минуту молчали.
Вчера… этот разговор, он был просто ужасен – я не мог говорить нормально. Я хотел сказать, что безмерно люблю тебя и сочувствую. Прости, что я этого не сказал, но именно это я чувствовал… Еще несколько дней, и я увижу тебя!
Лили еще прошептала в трубку:
– Ну тогда…
Но моего отца хватало только на это единственное идиотское слово.
– Понятно. Понятно, – повторял он, как дятел.
– С тобой все в порядке?!
– В порядке.
Лили была перепугана насмерть. Голос ее упал.
– Я хочу, чтобы ты написал письмо мамочке… авиа… Адрес теперь у нас есть… И все рассказал бы про нас…
Линдхольм видел, что мой отец хотел только спать, других желаний у него не было.
– Хорошо. Обязательно.
Они вновь замолчали.
…вчера, когда я повесила трубку, у меня было странное чувство… как будто на меня опрокинули ушат ледяной воды! Твой голос звучал так чуждо и холодно, что я даже подумала: а может, ты разлюбил меня?
Что-то щелкнуло. Связь прервалась. Лили была бледна как смерть. Шара обняла ее, и они направились к выходу.
– Совсем чужой голос. Наверное, что-то случилось.
Шаре казалось, будто она понимает, что именно.
– Это все из‑за друга, который покончил с собой. Из‑за него. Он, бедняга, не может очухаться…
Взявшись под руку, они пошли в барак. В эту ночь Лили не сомкнула глаз.
Глава тринадцатая
На следующий день по случаю открытия лагеря устроили танцы. В огромное, как ангар, помещение, называемое почему-то столовой, прибыл оркестр: пианист, ударник и саксофонист. Играли шведскую легкую музыку.
Некоторые девушки танцевали, ничуть не смущаясь, что, кроме трех музыкантов, в зале не было ни одного мужчины. Но большинство просто сидели за празднично накрытыми столами, меланхолично глядя перед собой. Было пиво, печенье, колбаски.
Лили, Шара и Юдит Гольд расположились в сторонке от остальных. В столовую вошли двое мужчин, что-то спросили у окружающих и уверенно двинулись к ним. Один из них, когда они подошли к девушкам, приподнял шляпу.
– Вы Лили Райх? – спросил он.
Лили осталась сидеть. Он обратился к ней по-шведски, она ответила по-немецки:
– Да, это я.
Мужчина достал из кармана полоску ткани. И тоже заговорил по-немецки:
– Вы узнаете?
Лили вскочила и выхватила ткань у него из рук:
– Конечно!
Она провела кончиками пальцев по ворсинкам и протянула полосочку Шаре, чтобы тоже проверила.
– Посмотри! Ведь это мой материал на пальто?
Второй мужчина тоже снял шляпу:
– Разрешите представиться. Инспектор полиции Свюнка из Экшё. А это коллега Берг, сотрудник охра-ны госпиталя.
Коллега Берг кивнул. И взял разговор в свои руки.
– Отрез ткани – три с половиной погонных метра, ширина девяносто, – о пропаже которого вы заявили, был обнаружен нами при осмотре госпиталя. Мы нашли его в коридоре, в нижнем отделении шкафа для медицинского оборудования и инструментов. Сударыня, вы мои слова понимаете?
– Да.
– Так вот. Материал был разрезан на узкие полоски шириной в несколько сантиметров.
Он забрал у них ленточку и встряхнул ее. Лили онемела. Оркестр играл медленную мелодию, под которую по паркету трогательно кружились женские пары. Лили, желая убедиться, что она правильно поняла немецкую речь, повернулась к Шаре:
– Это верно? Разрезали? На полоски?
Шара в шоке кивнула.
А полицейский инспектор Свюнка добавил:
– Мы считаем, что ткань не хотели украсть. Ее кто-то хотел уничтожить.
Оркестр заиграл новый танец, перейдя на живую ритмичную польку. Посередине зала остались всего две пары, но плясали они от души. Лили ошарашенно смотрела на ленточку, сиротливо повисшую в руке грузного охранника госпиталя.
– Кто это сделал, сегодня определить уже трудно. Но если хотите, сударыня, мы опросим всех ваших подруг. – Инспектор обвел рукой зал. – Задача не из простых, но если вы пожелаете…
Лили протестующе замахала руками. Выразить что-то словами она не могла. И только смотрела на частицу своего пальто, которое уже никогда не сошьют. Лоскуток шириной сантиметра в четыре все еще висел между большим и указательным пальцами господина Берга.
* * *
Подруги в молчаливом ожесточении шагали между бараками по неосвещенной аллее лагеря. Руки были засунуты в карманы форменных телогреек. Был мороз, свистел ветер. Вдруг Лили остановилась и пробормотала себе под нос:
– И кто же меня ненавидит так сильно?
А Шара словно бы догадалась о чем-то.
– Завидуют твоему счастью.
Юдит Гольд зло скривилась:
– На твоем месте я этого так не оставила бы. Пусть расследуют, кто из девушек это сделал! Хотела бы я посмотреть ей в глаза!
Шара пожала плечами:
– Как ты это расследуешь!
– Ну, не знаю! Надо поговорить по душам! Устроить обыск!
Лили горько рассмеялась:
– Что искать-то? Ножницы? Или нож?
Но Юдит не унималась:
– Откуда мне знать! Ножницы, нож, что угодно! Может, ткани клочок!
Они пошли дальше. Шара представила это себе.
– Так она при себе и носит! У сердца! Ну и наив-ная же ты, Юдитка.
– Я просто считаю, что надо все прояснить. Нельзя такое на тормозах спускать. Я так думаю.
Лили смотрела под ноги на заледеневшую грязь.
– А я этого не хочу знать. Что я могла бы сказать ей?
Юдит Гольд озлобленно прошипела:
– Что заслуживает! Плюнула бы в глаза этой дряни!
– Я? Еще чего! Я ее пожалела бы, – сказала Лили великодушно, но все же не очень уверенно.
* * *
Линдхольм не спрашивал моего отца, зачем и куда он пропал в этот ужасно длинный день. Он велел приготовить ему горячую ванну и вколол жаропонижающее. А через три дня счел нужным проинформировать моего отца о своем окончательном решении. Они сидели с ним на диване как два добрых приятеля.
– Я знаю, Миклош, что вас это огорчит, но я не даю согласия на приезд сюда вашей кузины на Рождество.
– А в чем причина?
– Нет места. Экспедиторский барак заполнен. Но это только одна причина.
– А вторая?
– В прошлый раз я вас отпустил попрощаться, вы помните? Даже будь вы здоровы – а вы больны, – я и тогда не приветствовал бы посещение мужского лагеря женщинами. Вы, как поклонник литературы, должны это знать…
– Что я должен знать?
– Вы однажды упомянули “Волшебную гору”. Телесность, как бы это сказать, она будоражит. Это опасно.
Мой отец вскочил и бросился к двери. Решение Линдхольма казалось бесповоротным. Что же произошло за три дня? Как он потерял скрытую, молчаливую благосклонность врача? Мой отец отчаянно искал спасительную стратегию, чтобы сломить непреклонность Линдхольма. Нужен официальный путь! Его он еще не пробовал. Уже взявшись за ручку двери, он повернулся:
– Господин главный врач, я прошу изложить это в письменном виде!
– Послушайте, Миклош, наши отношения…
Но отец прервал его.
– Наши отношения меня не интересуют, – сказал он тихо и угрожающе. – Изложите все письменно! В трех экземплярах. Я отправлю это в вышестоящие органы!
Линдхольм тоже вскочил, ошарашенный.
– Да идите вы к дьяволу! – заорал он.
– Я пойду, но не к дьяволу, а в посольство Венгрии! Потому что вы ограничиваете мои права! Вы обязаны дать мне свидание с родственницей! Пожалуйста, изложите ваше решение на бумаге!
Таким тоном с Линдхольмом еще никто не разговаривал. Он изумленно посмотрел в упор на отца и сухо проговорил:
– Покиньте мой кабинет!
Мой отец повернулся и захлопнул за собой дверь.
Пока он шел по длинному коридору, он, к своему удивлению, смог трезво обдумать случившееся. Что, собственно, происходит? Врач ограничивает его в свободе передвижения. Аргумент хороший и в целом правильный. С другой стороны, эта страна приняла его. Лечит. И Линдхольм может утверждать, что ограничивает свободу в интересах его излечения. Он же может ответить на это, что платят за это удовольствие не шведы, а Международный Красный Крест. Другими словами, в конечном счете он не должен отчитываться перед шведской “Лоттой” и быть благодарным ей. И если, положим, ему придет в голову провести Рождество в Стокгольме, в каком-нибудь ночном баре, то кто может этому воспрепятствовать?
Он запутался. Кто он здесь в самом деле? Пациент? Беженец? Эмигрант? Временный постоялец? С собственным статусом – вот с чем надо ему разобраться! Но кто его может определить? Шведские власти? Посольство Венгрии? Больница? Линдхольм?
В отдалении за спиной у него распахнулась дверь, и главный врач, выскочив в коридор, прокричал отцу:
– Вернитесь, Миклош! Давайте поговорим!
Но мой отец больше не имел желания спорить с Линдхольмом.
Дорогая, единственная моя Лилике! Я страшно зол на себя и пребываю в полном отчаянии. Но я не сдаюсь и обязательно что-то придумаю!
* * *
Днем в огромной столовой царила тоска. Это было единственное общее помещение в Берге. Выбор у девушек был невелик. Можно было валяться в бараке на койке, гулять по лагерю на пронизывающем ветру или сидеть в этом загроможденном столами сарае и дожидаться ужина.
В этот день Лили наконец-то решила попробовать взяться за Бебеля. Мой отец уже в котором письме словно бы между прочим напоминал ей, что книгу в мягкой обложке он послал ей два месяца назад. Она долго прятала ее, стараясь засунуть подальше от глаз. Уже обложкой своей она вызывала в ней недоверие: на читателя сурово смотрела женщина с гордо вскинутой головой, базедовы глаза ее были выпучены, зрачки расширены, на ветру развевались длинные волосы.
Минут десять Лили читала. В ней копилась злость. Наконец, дойдя только до четвертой страницы, она вне себя от ярости захлопнула книгу и швыр-нула ее в дальний угол столовой:
– Да его невозможно читать!
Шара вязала свитер из пряжи неопределенно-грязного цвета, которую им прислал отец.
– Кого невозможно?
– Ну Бебеля! Меня бесит уже само название! “Женщина и социализм”! Как можно придумать такое название? А внутри и того хуже!
Шара отложила вязанье, пошла за книгой и, подняв ее, отряхнула пыль.
Вернувшись к столу, она протянула ее Лили.
– Суховато написано, я согласна. Но если ты почитаешь дальше…
– Я не буду читать! Надоело! Уж лучше вообще ничего не читать! Тоска зеленая, как ты не понимаешь?!
– Между прочим, там есть чему поучиться. Например, ты могла бы по ней понять образ мыслей Миклоша.
Лили, как какую-то гадость, оттолкнула от себя книгу:
– Его образ мыслей я знаю. Но книгу читать не буду.
Шара вздохнула и снова взялась за вязание.
Дорогой Миклошка! Книгу Бебеля я скоро пошлю обратно. К сожалению, из‑за нервотрепки и здешних условий у меня не хватает терпения, чтобы ее читать.
Через большие пыльные окна столовой сеялся серый свет. Юдит Гольд заглянула в одно из них, чтобы проверить, там ли подруги, вместе ли Шара и Лили. Как же они близки друг другу, даже когда они ссорятся! Юдит Гольд часто чувствовала себя рядом с ними лишней, но еще никогда ей не было так тоскливо от собственного одиночества. Неужто теперь это навсегда? И у нее никого не будет? Ну ладно, с мужчинами не везет, с этим она смирилась. Но чтоб не было даже подруги, такой, чтобы навсегда, настоящей?! И ей вечно придется к кому-то подлаживаться? Выпрашивать ласку? Быть благодарной за доброе слово, за совет, за близость? Да кто такая эта Лили Райх?!
Она отошла от окна и поспешила к бараку. В спальне, где они жили, было двенадцать кроватей. У входа стояли металлические шкафы. Юдит вошла, открыла ключом один из шкафов и достала свой чемодан. Этот желтый, с медными пряжками чемодан, набитый рыбными консервами, ей прислал еще в августе двоюродный брат из Бостона, ее единственный уцелевший родственник. Шпроты, скумбрию и селедку они съели, раздали другим, а чемодан этот она иногда доставала, гладила его и представляла себе, как пройдет с ним по главной улице Дебрецена, где жила до войны. Но возможно, она не вернется в Дебрецен. Кто у нее там остался? Возможно, поселится в Швеции. Найдет работу, мужа и дом. Да, мужа! Как знать? Настойчивым иногда везет.
В бараке она была одна. Из внутреннего кармашка желтого чемодана она вынула кошелек. В нем она и хранила его. И теперь, вынув из кошелька, она сжала лоскут в кулаке. Она и сама не могла понять, зачем его спрятала. И вообще: зачем сохранила? Ведь его могли запросто обнаружить. Впрочем, этого она не боялась. Ну кому придет в голову рыться в ее чемодане? Если только… Если только два этих неприятных типа из Экшё не решат все же разгадать загадку! Кто их знает? Лучше избавиться от него.
Лоскут ткани так и жег ей ладонь. Ворсистая дорогая материя, которую однажды ночью, в Экшё, она с таким наслаждением кромсала ножницами на куски. У нее на это были причины. И никто не имеет права ее осуждать! Никто!
Юдит Гольд бросилась в туалет и закрылась там. На прощание она еще раз понюхала лоскуток. Потом бросила его в унитаз, вздохнула, потянула цепочку. И хлынувшая из бачка вода унесла его.
Глава четырнадцатая
Линдхольм провел несколько бессонных ночей, прежде чем позвонить Лили. Своими сомнениями он поделился с Мартой. Маленькую медсестру тоже ошеломила прогулка отца по окрестным лесам. И она согласилась с мужем, что ситуация непростая и, может быть, объяснение с девушкой что-то прояснит. Линдхольм попросил ее быть беспристрастной свидетельницей разговора, и если он зайдет слишком далеко, то знаком одернуть его.
После обязательных вступительных слов он быстро перешел к делу:
– Побег Миклоша – это, с одной стороны, понятное проявление паники. А с другой…
В Берге, в помещении лагерной вахты, стояла Лили, на сей раз одна, и слушала, прижав к уху трубку. В надежде, что это звонит мой отец, она пробежала пол-лагеря, ее сердце бешено колотилось, и теперь, когда в трубке послышался голос Линдхольма, ей потребовалось время, чтобы успокоиться. Ей хотелось, чтобы главный врач поскорее раскрыл цель своего звонка.
– А с другой стороны?
– А с другой – это столкновение с правдой. Я лечу его уже пятый месяц, милая Лили. И за это время он ни разу, поймите, ни разу не взглянул в лицо правде. То есть своей болезни, если быть точным. Я собираюсь сказать вам жестокую вещь, дорогая Лили, вы готовы?
– Я ко всему готова. А может быть, ни к чему. Но все-таки говорите, доктор.
Линдхольм, сидя в своем удобном кресле, глубоко вздохнул:
– Миклош должен взглянуть в лицо смерти, если быть совсем точным. За то время, пока я лечу его, пришлось четырежды выкачивать жидкость из легких. Да, мы можем его лечить – но не можем вылечить. Он же, из ложного героизма, до сих пор отвергает диагноз. Это способ защиты, отказ от реальности. Вы меня слушаете, Лили?
– Я слушаю.
– И вот теперь, когда он намеренно заблудился в лесу, он впервые позволил реальности пробиться в ту башню слоновой кости, которую он для себя построил. А значит, мы подошли к поворотному пунк-ту, дорогая Лили. Вы меня слушаете?
– Я слушаю.
– Возможны травмирующие последствия. Непредсказуемые, дорогая Лили. Поэтому я хотел бы просить вас о помощи. Решение вовсе не в том, чтобы распалять в нем несбыточные желания. Вы меня слушаете, дорогая Лили?
– Я слушаю.
– Эта женитьба, которую вы задумали, не только абсурд и безумие, но теперь уже, в данный момент, вещь просто губительная! Миклош уже не способен отличать мир реальный от царства вымысла. Вы знаете, дорогая Лили, в чем, собственно, заключается символический смысл этого его побега?
– Скажите, доктор.
– Это сигнал тревоги. Сигнал для меня, лечащего врача, и для вас, дорогая Лили, которая его любит.
– Что же мне делать?
– Покончить с этой комедией. Искренним словом. Любовью. Как можно мягче.
В течение всего разговора Лили стояла, опираясь о стену привратницкой. Но тут она резко оттолкнулась.
– Послушайте теперь вы, господин главный врач. Я с уважением отношусь к вашим выдающимся профессиональным качествам. К богатому опыту. И к мировым достижениям медицинской науки со всеми ее пилюлями и рентгенами, микстурами и шприцами. Я ко всему отношусь с уважением! Но я вас прошу, умоляю: оставьте нас! Дайте нам помечтать! Я на коленях прошу: разрешите нам наплевать на науку! Умоляю вас слезно, господин главный врач: разрешите нам выздороветь! Вы меня слушаете?
Во время разговора Линдхольм подозвал к себе Марту, и теперь они вместе прильнули к трубке, доносившей до них пылкие заклинания Лили.
– Да, я слушаю, – грустно выдавил из себя главный врач.
* * *
За два дня до Рождества 1945 года мой отец решился на отчаянный шаг. Он предложил Гарри вместе, без разрешения и без денег, попытаться добраться до Берги. Перед этим он долго раздумывал. Официальный путь в конце концов был отвергнут. Он сулил лишь изнурительную и с неясным исходом борьбу в лабиринтах чужой правовой системы. И хотя убеждения диктовали ему именно это, чутье подсказывало другое.
Добраться до Берги можно было только с тремя пересадками. А это три поезда, три кондуктора. Язык у обоих был хорошо подвешен. К тому же двое худых и неважно одетых больных людей – что с них взять? Уж как-нибудь пожалеют, решили они, была не была.
В день Рождества они вышли из лагеря, пешком добрались до станции и забрались в отправлявшийся как раз поезд.
…Как ты думаешь, дорогая Лили, что, если в следующем номере “Виа Свецика” опубликовать такой текст: “Объявляем о нашей помолвке”? Только это! И наши имена.
Милый Миклош! Напиши также мамочке! И на какие деньги ты это сделаешь?! А знакомому епископу ты уже написал?
Они провалились уже при первой встрече с кондуктором. Он смотрел на них с изумлением. И дважды им повторил:
– Билеты, пожалуйста. Ваши билеты.
Мой отец мило улыбался:
– Нет билетов. У нас нет денег. Мы венгры, больные из лагеря, из Авесты.
Но кондуктора это ничуть не разжалобило.
На следующей остановке он высадил “зайцев” из поезда и доложил о них начальнику станции.
От Авесты они отъехали только семнадцать километров. Кто-то распорядился, чтобы двух беглецов доставили назад в лагерь междугородным автобусом. И на этот рейс билеты им были уже не нужны.
А в Авесте тем временем заседала могущественная комиссия, на которой решали, как наказать отца за его поведение.
Дорогая, единственная моя Лилике! Полчаса назад нас вернули в лагерь, где разразился грандиозный скандал! Тарарам был такой, что не берусь тебе описать.
Линдхольм снова сделал отцу рентген. А на следующий день пригласил его, чтобы ознакомить с результатами. Мой отец сел, закрыл глаза и затеял опять свою игру с судьбой – балансирование на стуле. Откинувшись назад, он оторвал передние ножки стула от пола. Теперь нужно было сконцентрироваться и, удерживая равновесие, перемещать центр тяжести еще дальше назад. Если удастся зависнуть в самой верхней точке, положим, на пять секунд, то, значит, поправился. Окончательно!
При этом они разговаривали о последствиях его побега. На сей раз главный врач говорил с ним сочувственно-мягким тоном:
– Наломали вы, Миклош, дров. Директор лагеря и куратор в ярости.
Мой отец отклонялся на стуле все дальше.
– И что они могут мне сделать?
– Переведут вас.
– Куда?
– Кажется, в Хёгбу. Есть такая деревня на севере. Мнение специалиста их не интересует.
– Но за что? За то, что я попытался навестить двоюродную сестру?
– За нарушение правил. За побег. Обращаю ваше внимание, Миклош, что это уже второе ваше исчезновение за короткое время. Но вы должны знать: я на вас не сержусь. Вообще-то я понимаю вас. Вы, очевидно, думаете: а не все ли равно!
Стул под моим отцом приблизился к верхней точке дуги. Шлепнется он сейчас или нет? Это был главный вопрос. Мой отец поинтересовался:
– Что показал вчерашний рентген?
– Не могу вас порадовать, как бы мне ни хотелось. Каждый следующий снимок, в том числе и вчерашний, лишь подтверждает, что ваши легкие…
Бац! Передние ножки стула с грохотом опустились на пол. Мой отец в упор посмотрел на врача:
– Но я все равно поправлюсь!
Линдхольм вздрогнул от стука. Он поднялся и, не глядя отцу в глаза, протянул ему руку:
– Не пойму я, что вы за зверь такой, Миклош. Наив-ный и вместе с тем одержимый. Упрямый и обаятельный остолоп. Я вас полюбил. Очень жаль с вами расставаться.
* * *
Весть об изгнании из Авесты нисколько не потрясла моего отца. Он тут же нашел на карте Хёгбу, куда ему предстояло переместиться. Беспокоило только, что теперь он окажется еще дальше от Берги. Он отправился в комнату старшей сестры.
– Не могли бы вы мне еще раз одолжить чемодан?
Марта, Микки Маус, как он называл ее про себя, шагнула к отцу, без слов поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. А потом перешла к наставлениям:
– По утрам принимать лекарства. И бросить курить. Обещаете? Так скрепим уговор!
Они пожали друг другу руки.
Во второй половине дня мой отец начал паковать вещи. От всего лишнего он решил избавиться и уместить все свои пожитки в видавший лучшие времена чемодан. Белье много места не заняло, но была еще куча книг, разных блокнотов, газет! И разумеется, письма! В той самой огромной коробке.
Изгнание из лагеря показалось отцу символическим. Теперь можно сбросить с корабля весь балласт, что тянет его на дно. Он готовился к этому уже давно, да все как-то не решался. Открыв коробку, он вынул из нее кипу конвертов, перетянутых шелковой ленточкой. То были письма от Лили. А все остальные, урожай пяти месяцев – в том числе письма Клары Кёвеш, весточки от наивной шестнадцатилетней девушки из Нирбатора, бесконечные жалобы двух разведенных женщин из Трансильвании и много еще других, – он сгреб в охапку и направился в сторону душевой. Ведь, чтобы сказать всю правду, надо добавить, что когда мой отец вернулся от Лили из Экшё, он еще состоял в переписке с восемью женщинами. Тогда, в начале декабря, он написал им всем, что счастливо обзавелся невестой, в которую безумно влюблен. Две из них моего отца поздравили.
Всю эту внушительную охапку отец притащил в душевую и там поджег. Глядя на истлевающие в огне строчки, он про себя с ироничной усмешкой отметил, что в этом костре сжигает сейчас и того донжуанствующего графомана, каким он когда-то был.
И тут он услышал звук скрипки.
Посреди комнаты, с инструментом в руках, на столе стоял Гарри. И играл “Интернационал”.
А потом вдруг откуда-то появились и остальные. Из-под кроватей, из‑за шкафов, из‑за распахнутой двери – так было задумано. Не было никого – и вот они, все десять парней. Как в театре.
Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный И в смертный бой вести готов. Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем – тот станет всем!Это пели его товарищи. Лаци, Йошка, Ади, Миклош Фаркаш, Якобович, Лицман. А Гарри с невинным видом аккомпанировал им на скрипке.
…Сегодня меня, как нарушителя дисциплины, неисправимого бунтаря и смутьяна, переводят в Хёгбу. Десятеро моих друзей тут же заявили, что они без меня не останутся здесь ни минуты. Едут Лаци, Гарри, а также Якобович…
Парни двинулись из барака и потащили с собой моего отца. Они шествовали с песней по направлению к главному корпусу. Впереди шел Гарри со скрипкой, за ним – весь отряд. В коридор высыпали десятки врачей, медсестер и других сотрудников. Только сейчас можно было заметить, что их делами здесь занимается целая рать. Некоторые лица мой отец видел впервые. Многие никогда не слышали эту символическую, призывающую к борьбе песню, да к тому же еще на венгерском. Десятеро молодых мужчин бодро вышагивали, сцепившись руками друг с другом, и во всю глотку орали гимн.
Это был триумф!
Мой Миклошка, я страшно огорчена той бедой, которая свалилась на нас, потому что мы захотели еще раз встретиться…
Моя дорогая Лили, каждая минута, проведенная вместе с тобой, казалась мне целой жизнью, так сильно и безгранично я люблю тебя! Ты знаешь, когда я думаю, что от того момента, когда мы навеки соединимся, нас отделяют долгие месяцы, меня охватывает отчаяние!..
Миклошка, единственный мой! Я постараюсь договориться в Берге, чтобы меня отпустили к тебе!
* * *
Директриса, пригласив Лили в скромно обставленный кабинет, предложила ей сесть. Это была костлявая дама в очках. Лили готова была поклясться, что за всю жизнь она ни разу не улыбнулась. На столе перед дамой лежала коробка.
– Я рада вас видеть, дорогая Лили. Я только что разговаривала с господином Бьёркманом. – Она кивнула на телефон. – Он просил позвонить ему, когда вы получите эту посылку.
Директриса слегка подтолкнула коробку к Лили:
– Это вам. Можете вскрыть.
Лили развязала шпагат, раскрыла коробку и выложила на стол ее содержимое: две плитки шоколада, несколько яблок и груш, капроновые чулки и Биб-лию. Директриса с довольным видом откинулась на спинку стула:
– Господин Бьёркман просил меня подыскать вам в Берге какую-нибудь семью.
Открыв Библию, Лили с разочарованием обнаружила, что она на шведском, а значит, ей ничего не понять в ней.
– Я вижу, вы носите подарок Бьёркманов…
Лили схватилась за серебряный крестик, висевший у нее на груди:
– Ношу.
– Господин Бьёркман просил передать: они вас обнимают, молятся о вас. И счастливы, что вы нашли свою мать. Как вы отнесетесь к тому, чтобы по воскресеньям вас и здесь опекала семья добрых католиков?
Лили почувствовала, что наступил подходящий момент. Она решила играть в открытую, не лукавить и не искать обходные пути, а обрушиться на начальницу, как кавалерийский полк.
– Я влюблена!
Дама опешила:
– А при чем здесь это?
– Пожалуйста, помогите мне! Я влюблена в человека, которого только что перевели из Авесты в Хёгбу. Я хочу поехать к нему! Я должна!
Наконец-то она сказала это. Она посмотрела на директрису так умоляюще, как только могла. Дама сняла очки и протерла платочком стекла. Она была, видимо, сильно близорука, потому что подслеповато щурилась.
– Вы говорите об одном из двух венгров, совершивших на прошлой неделе побег из Авесты?
Это звучало враждебно. Лили хотела все объяснить.
– Да, но у них были на то причины…
Начальница прервала ее:
– Я решительно осуждаю такие поступки.
Она надела очки и строго взглянула на Лили, которая повторяла свое:
– Но я люблю его! И он меня тоже! Мы хотим пожениться!
Директриса пришла в изумление. Это новое обстоятельство нужно было взвесить.
– Как вы познакомились?
– По переписке! Мы переписываемся с сентября.
– Вы с ним встречались?
– Однажды он приезжал ко мне в Экшё. Мы провели с ним три дня! Я буду его женой.
Директриса подвинула к себе Библию и стала ее перелистывать. Было ясно, что она тянет время. Когда она подняла глаза, в них стояла такая печаль, что Лили захотелось ее пожалеть.
– Это смешно! После четырех месяцев переписки вы решили связать свою жизнь с чужим человеком?! Я полагала, что вы серьезная девушка!
Лили поняла, что убедить эту даму ей не удастся, но все-таки не сдавалась.
– Вы замужем?
– А при чем здесь это?
Директриса захлопнула Библию и уставилась на свои некрасивые узловатые пальцы.
– Однажды у меня был жених. Но это закончилось горьким разочарованием. Горьким и поучительным.
Глава пятнадцатая
Обстановку стокгольмской квартиры Эмиля Кронхейма трудно было назвать уютной. Но был один исторический аргумент, который этот изъян оправдывал: вся эта темная и громоздкая мебель служила еще прадеду, потом деду, а потом отцу раввина. Возможно, даже парчовым шторам и тем было больше века: они висели на больших окнах, расползаясь от ветхости и давно потеряв изначальный цвет. Но реб Кронхейм чувствовал себя в этой обстановке вполне комфортно и думать не думал ни о ремонте жилья, ни о переезде.
Кухня была завалена грязной посудой. Госпожу Кронхейм давно уже не смущал селедочный запах, который на посетителей действовал как атака горчичным газом. Каждую новую порцию раввин выкладывал на чистую тарелку, что служило причиной постоянных конфликтов с женой.
Госпожа Кронхейм, как обычно, сидела на кухне и беспомощно озирала разбросанную повсюду замасленную посуду. Да разве управишься тут?
Раввин закричал ей из комнаты:
– Нет, ты только послушай!
А теперь Лили даже решила отказаться от своей веры. С этим парнем, который своими письмами вконец заморочил ей голову, они планируют перейти в христианство! Между тем он – тяжелый туберкулезник! К тому же он утверждает – по-моему, лжет, – что знаком со стокгольмским епископом. Умоляю вас, ребе, помогите ей!
Раввин, сидя за столом в гостиной, перечитывал отдельные пассажи письма и при этом, не глядя протягивая руку к тарелке, один за другим отправлял в рот кусочки селедки.
– А кто это пишет? – откликнулась госпожа Кронхейм из кухни.
Раввин с изумлением констатировал, что маринад от селедки нарисовал на скатерти какие-то странные мистические фигуры.
– Одна круглолицая барышня с усиками под носом, некая… – глянул он на конверт, на котором уже красовалось селедочное пятно. – Некая Юдит Гольд.
Госпожа Кронхейм решила, что рано или поздно ей все же придется взяться за посуду, что ее не радовало.
– Ты с ней знаком?
– Да. Однажды, несколько месяцев назад, я навестил ее в Экшё. Мы с ней беседовали о мухах.
– Опять какая-то притча, я так понимаю?
Раввин проглотил очередной ломтик селедки. И почмокал губами.
– Сама доброта и сентиментальность. И не прочь поплакать.
Госпожа Кронхейм вздохнула.
– Кто? – спросила она.
– Эта Юдит Гольд. Но в глубине души… ты даже не знаешь, что у нее внутри…
Жена его поднялась и стала собирать тарелки, в сердцах швыряя их в таз.
– Зато ты знаешь. Ты у нас кладезь мудрости.
Раввин помахал письмом:
– Печаль и психическое расстройство. Вот что у нее внутри. Это уже третье письмо. Опять кляузничает мне на свою подругу. И надо думать, не только мне.
* * *
Моего отца с его преданными друзьями разместили в маленьком городке Хёгбу, что на севере Швеции, в двухэтажном пансионате. Встретил их некий Эрик, большеголовый мужчина в костюме, который назвался куратором и зачитал им правила внутреннего распорядка. Кроме того, что питаться они должны были в строго определенное время, три раза в день, от них почти ничего не требовали. Раз в неделю нужно было являться в Сандвикен, на обследование. Мой отец сразу понял, что все это будет пустой тратой времени.
Отчаяние их еще больше усилилось, когда они поднялись по лестнице, чтобы заселиться в комнаты. На двадцать человек выделили три помещения; в комнаты, предназначенные для загородного семейного отдыха, втиснули по семь коек. Платяные шкафы вышвырнули в коридор. Большеголовый Эрик, стоя в дверях, наблюдал, как они распределяли кровати и, рассевшись с чемоданами на коленях, тянули время, не желая их распаковывать. Куратор также предупредил их, что курить в комнатах воспрещается, и с тем удалился.
В этой мышиной норе нас семеро: Лаци, Гарри, Йошка, Лицман, Якобович, Миклош Фаркаш, бывший эмигрант, попытавший счастья в Америке, ну и я. Пока нет ни стола, ни шкафа. Хорошо – есть центральное отопление. Но постели! Соломенный тюфяк и такая подушка, на какой я последний раз лежал в пересыльной тюрьме.
Мой отец облюбовал себе кровать под окном. Не желая поддаваться всеобщему унынию, он, насвистывая, вынул из чемодана фотографию, запечатлевшую его с Лили в Экшё, и поставил на подоконник, прислонив к стеклу. Его замысел заключался в том, что когда он проснется, то первым, на чем остановится его взгляд, будет улыбка Лили.
* * *
В первый же день они вместе с Гарри отправились на автобусе в городок и разыскали там ювелирную лавку. Куратор предупредил их, что владелец той лавки – старик привередливый. У входа висел медный колокольчик, зазвеневший, когда они отворили дверь. Гарри держал в руках скрипичный футляр.
Ювелир, вопреки ожиданиям, оказался любезным, весьма благородного вида седым господином с сиреневым галстуком-бабочкой. У отца был готовый, продуманный до мельчайших подробностей план.
– Мне нужны обручальные кольца.
Ювелир расплылся в улыбке:
– Может быть, вы знаете и размеры?
Мой отец достал из кармана стальное колечко. Он сорвал его еще в Экшё со шторы. И оно идеально сидело на пальце Лили.
– Это для невесты. Второе будет для меня.
Любезный старик взял стальное кольцо, прикинул размер, протянул руку за спину и вытащил из настенного шкафа маленький ящичек. Покопавшись в нем, он воскликнул:
– Извольте!
В руке он держал золотое колечко. Вынув из-под прилавка раздвижной калибр, ювелир сопоставил размеры. И, кивнув, спрятал золотое колечко в карман.
– Разрешите ваш пальчик, – игриво взглянул он на моего отца.
Взяв руку моего отца, он замерил толщину безы-мянного пальца, похмыкал, вытащил из шкафа другой ящичек и, не колеблясь, извлек из него еще одно золотое кольцо.
– Извольте примерить, – протянул он его отцу.
Мой отец надел на палец кольцо. Размер подходил идеально.
Золота я не люблю, потому что всегда вспоминаю, сколько низких страстей, подлости и коварства с ним связано. Но эти кольца я буду любить, поскольку они соединят два наших сердца, два кровотока…
Отец с Гарри живо переглянулись. Приближалось решающее мгновение.
– И какова цена? – спросил мой отец.
Старик на минуту задумался. Как будто он тоже сейчас размышлял о том, сколько низких страстей связано с этими безделушками. И наконец сказал:
– Двести сорок крон. За оба.
Мой отец не повел и бровью.
– Видите ли, какое дело: я живу рядом с Хёгбу, в пансионате, там сейчас реабилитационный лагерь, если не знаете.
Старик, аккуратно поправив бабочку, сдержанно кивнул:
– Что-то слышал.
– Я должен вас посвятить в некоторые детали. Не так давно я занял там весьма важный пост.
Ювелир сразу заулыбался:
– Важный пост! О, это замечательно!
– Должность платная, с ежемесячным содержанием. И я думаю, за четыре месяца мне удастся собрать эту сумму, то есть двести сорок крон.
Мой отец нисколько не привирал. В то утро, когда маленькая венгерская колония с чемоданами на коленях обдумывала свое незавидное положение, парни решили избрать его своим представителем. И он согласился отстаивать их интересы. Венгры, к которым присоединились также поляки с греками, постановили всеобщим голосованием, что будут отщипывать ежемесячно небольшую часть от карманных денег. И эти средства передавать отцу в виде вознаграждения.
Старик казался растроганным. Однако разбрасываться золотыми кольцами было не в его правилах.
– Прежде всего, поздравляю вас. Может быть, это станет началом блестящей карьеры. Но я дал зарок своей матери, еще в молодости и, может быть, несколько легкомысленно. Так вот, я клятвенно обещал ей – а мы, сударь, династия старая, двухсотлетняя, – что никогда и ни при каких обстоятельствах не буду давать деньги в долг. Вы можете называть меня бессердечным, но согласитесь, сударь, что клятва, данная матери, нерушима.
Мой отец, который заранее подготовил запасной вариант, энергично кивнул:
– Я венгр. Прошу посмотреть мне в глаза. Вы считаете, я похож на мошенника?
Ювелир слегка отступил назад:
– Что вы, сударь! У меня на мошенников глаз наметанный. Вы совсем на них не похожи, я вас уверяю.
Решающий момент наступил. Мой отец под прилавком пнул Гарри по ноге. Тот вздохнул и положил на прилавок футляр. С печальным лицом он извлек из футляра скрипку и протянул ее старику. Мой отец заговорил медленно и отчетливо, полагая, что именно так можно произвести эффект.
– Да, – сказал он, – нетрудно было предположить, что вы не дадите кредит незнакомцу. Поэтому я подумал, что на время, пока из моей зарплаты наберется необходимая сумма, мы могли бы оставить в залог этот инструмент. Он стоит не меньше четырехсот крон. Я прошу вас принять его.
Старик, вооружившись лупой, досконально обследовал скрипку. Ее подарили Гарри музыканты из шведской филармонии, еще летом, когда прочитали в одной из газет о том, что на острове Готланд на излечении находится переживший трагические испытания молодой скрипач. И стоила эта скрипка гораздо больше четырехсот крон. Мать старого ювелира едва ли стала бы возражать против этой сделки.
* * *
Раввин Кронхейм с трудом выбрался из междугородного автобуса. В дальней дороге у него онемели ноги, стоял адский холод, а тут еще снова повалил снег. Осведомившись, как пройти к женскому лагерю, он зябко запахнул пальто и двинулся в путь.
* * *
Через несколько дней отцу представился случай доказать, что в любой ситуации он в состоянии справиться с возложенными на него обязанностями.
Все сидели в убогой столовой пансионата – десять венгров, греки, поляки, румыны. И ритмично, как заведенные, барабанили ложками по столам. Отчаянный стук продолжался, пока в столовую не при-мчался куратор, большеголовый Эрик.
– Господа, что случилось? – испуганно завопил он, стараясь перекричать оркестр ложкарей.
Стук тут же прекратился.
Мой отец, держа в руке вилку, поднялся из‑за стола.
Ты только представь, дорогая Лилике, я стал настоящим боссом! Теперь я “фертрауенсман” – доверенное лицо коллектива, что связано с некоторыми обязанностями, но за это мне платят семьдесят пять крон в месяц…
Отец зацепил в тарелке картофелину и поднял ее:
– Эта картошка гнилая!
Эрик застыл в замешательстве. Но видя, что на него устремлены все взгляды, решил соответствовать роли куратора. Он подошел к отцу и осторожно понюхал картофелину, стараясь при этом не морщиться.
– Ну и что? Рыбой пахнет.
Мой отец держал наколотую на вилку картофелину как вещественное доказательство.
– Но гнилая ведь. Она и вчера была подозрительной, а сегодня это уже очевидный факт. Гнилая.
Молодой грек в вязаной шапочке, которую он не снимал даже на ночь, вскочил и по-гречески закричал что-то вроде того, что он будет жаловаться в Красный Крест!
Мой отец мягко остановил его:
– Сядь на место, Тео! Это моя работа.
И вежливо пригласил Эрика сесть с ним рядом:
– Присаживайтесь вместе с нами.
Эрик заколебался.
Мой отец отодвинул стул:
– Я хочу, чтобы вы отведали.
Куратор присел на краешек стула. А Гарри уже нес пустую тарелку с прибором. Отец аккуратно снял с вилки картофелину и водрузил ее на середину тарелки:
– Прошу вас. Приятного аппетита.
Эрик встревоженно оглянулся по сторонам. Пощады ждать неоткуда. И надкусил картофелину. Мой отец, устроившись рядом с ним, флегматично смотрел, как он жует и глотает. Куратор попробовал отшутиться:
– Есть даже привкус акулы. Но я акул обожаю. По-моему, очень вкусно.
Отец без единой эмоции на лице зацепил на вилку вторую картофелину и положил на тарелку Эрика.
– Вы так думаете? Ну, если вкусно, то кушайте, гос-подин куратор. Кушайте на здоровье!
Деваться Эрику было некуда. Он съел и вторую. Правда, она шла труднее, но он все же справился.
– Уверяю вас, никаких проблем. Все в порядке.
– Ах, в порядке? Тогда угощайтесь еще.
Мой отец ускорил процесс и, выкладывая картофелины одну за другой, соорудил на тарелке целую горку. Все встали, столпившись у них за спиной.
Дорогая, единственная моя Лилике, ты только представь себе, куратор весь побледнел, однако, как бывший прапорщик, вел себя героически и до конца убеждал нас в том, что это вполне съедобно…
Эрик решил, что лучше уж поскорее закончить весь этот цирк. И принялся уплетать картошку.
– Вполне съедобно. Неплохо. Чего вам не нравится…
Но его уже сильно подташнивало. Он то и дело пил воду. И продолжал героическое сражение с внушительной порцией. Управившись с последней картофелиной, он поднялся и, едва не упав, ухватился за край стола. Мой отец взял его за плечи и повернул к себе:
– Вы, конечно, прекрасно знаете, что наше питание вплоть до последней картофелины оплачивает ЮНРРА – администрация помощи при ООН! И не надо считать обитателей лагеря попрошайками, которые должны целовать вам руки за гнилую картошку!
Парни зааплодировали. Именно этого они и ждали от моего отца, такого тона – иначе за что же ему платить?
Эрик, сдерживая икоту, схватился за живот:
– Вы неправильно понимаете ситуацию.
И упал. Живот его раздирала такая боль, что он царапал ногтями пол, готовый вот-вот зарыдать.
Глава шестнадцатая
В Берге все обитательницы лагеря обедали вместе, за столами, сдвинутыми в три длинных ряда. В помощь двум работницам кухни, обслуживающим столы, на неделю назначали еще трех дежурных, но и их было недостаточно. Накормить сто шестьдесят девушек удавалось только за полтора часа.
Эмиля Кронхейма в столовую проводила не-улыбчивая директриса. Раввин уж привык к строгим полувоенным порядкам, царившим в таких лагерях, но зрелище это всякий раз приводило его в уныние. К директрисе у него была только одна просьба – предоставить ему отдельное помещение где-нибудь поблизости от столовой.
Юдит Гольд сидела достаточно далеко от входа, но как будто что-то почувствовала. Неожиданно для себя она вдруг повернулась к двери. Дверь отворилась – и на пороге появился раввин! Юдит стало не по себе, ее прошиб пот. Она попыталась сосредоточиться на еде, концентрируя все внимание только на ложке, окунаемой в красный томатный суп.
Директриса направлялась к ним. Вот она уже возвышалась рядом. Юдит Гольд еще глубже уткнулась в тарелку.
– К вам посетитель, – тихо шепнула начальница.
Юдит вскинула голову. Ей было странно, что никто не слышит, как громко колотится ее сердце.
Лили поднялась:
– Ко мне?!
– Из Стокгольма. Господин раввин. Он хочет поговорить с вами.
– Раввин?! Из Стокгольма?!
– Поторопитесь. Он должен уехать обратно двухчасовым поездом.
Лили посмотрела поверх голов на Эмиля Кронхейма, который стоял у входа. Раввин дружелюбно кивнул ей.
Рядом с огромным залом столовой было помещение поменьше. Со столовой его связывало застекленное окно, через которое когда-то, видимо, подавали еду. Юдит, стоило ей немного вытянуться, могла наблюдать за ними. И время от времени ее так и тянуло бросить взгляд в сторону окна. Юдит видела, как они представились друг другу, а потом сели. У нее задрожали руки, и пришлось отложить ложку в сторону. В том, что раввин не выдаст ее, не разоблачит, Юдит Гольд нисколько не сомневалась. Но все же ее почему-то терзала и грызла безысходная тягостная тоска.
Расположившись в тесной бывшей раздаточной, раввин выложил на стол свой карманный брегет и завел пружину. Размеренный ход часов, по его расчету, должен был создать общее настроение. Какое-то время они слушали тиканье, потому что Лили тоже не собиралась нарушать молчание. Когда раввин счел, что достигнут эффект “стеклянного колпака”, без которого душеспасительные беседы не стоят ломаного гроша, он наклонился вперед и пристально посмотрел на Лили:
– Ты потеряла Бога.
Карманные часы продолжали тикать.
Лили не спросила, как смеет этот незнакомый мужчина заглядывать в ее душу. И даже не удивилась тому, почему ее это не удивляет.
– Нет. Это Бог потерял меня.
– Это недостойно – придираться к таким мелочам.
Лили пожала плечами. Стол был накрыт вязаной салфеткой. Она стала ее теребить.
– А кстати, с чего вы взяли? – спросила она.
Раввин откинулся на скрипнувшем под ним стуле.
– Это не важно. Знаю. У тебя ведь и крестик есть?
Лили покраснела. Как он догадался? Она ощупала в кармане конверт, в котором хранила маленькое распятие. С тех пор как они покинули Экшё, она надевала его всего один раз – когда упрашивала директрису разрешить ей поездку. Но это не помогло.
– Да. Крестик есть. Мне его дали. Нельзя?
Кронхейм погрустнел:
– Скажу прямо – от радости я не прыгаю.
Брегет размеренно и неспешно отсчитывал время.
– Послушай, Лили. Нас всех точат сомнения. Малые и большие. Но это еще не повод для того, чтобы отворачиваться.
Лили ударила по столу. Брегет подскочил, как резиновый мячик.
– Вы там были?! Вы с нами ехали?! Вы ехали в том вагоне?!
Она говорила шепотом, но кулаки ее сжались и тело напряглось как струна.
Кронхейм показал на других, на тех, что сидели за стеклом в столовой:
– Я не буду тебя утешать, дескать, то было испытание. Нет, после того, что было, я не смею тебе так сказать. Бог тебя потерял – хорошо. Вернее, нехорошо, я тоже с ним из‑за этого спорю. Спорю и гневаюсь. Я ему не прощаю! Как он мог с нами так поступить? С тобой! С ними!
Раввин сунул часы в карман – больше они ему не понадобятся. Он вскочил, опрокинув стул, и, не обратив на него внимания, стал расхаживать от стены до стены: четыре шага туда, четыре обратно. Он буквально метался по тесной каморке.
– Нету, нету этому оправдания! Это тебе говорит ребе Эмиль Кронхейм! Нет и нет! Но ведь сколько погибло твоих собратьев! Миллионы! Миллионы забиты, как скот на бойне! Нет, не скот! Со скотом так не обращаются, как обошлись с нашими соплеменниками! Однако же, черт возьми, тела этих миллионов еще не остыли! Мы еще не закончили поминать их! А ты уже оставляешь нас?! Отворачиваешься? Не Богу должна ты воздать справедливость, он этого не заслуживает! А тем миллионам! Как ты можешь предать их?!
Юдит Гольд наблюдала из‑за стола, как раввин, что-то выкрикивая, взволнованно бегает из угла в угол. Какое счастье, что она сейчас здесь. Что ей приходится выносить только этот мирный гул, только звяканье ложек и приглушенные голоса девушек. Правда, нет аппетита. К мясу с рисом, которое только что принесли, она даже не притронулась. От еды ее воротило.
* * *
Миклошка, мой дорогой! Сегодня здесь был раввин из Стокгольма, который читал мне моральные проповеди в связи с нашим решением перейти в христианство. Представления не имею, каким образом он об этом узнал. Уж не твой ли епископ его просветил?
Это письмо Лили побудило моего отца к срочным действиям. И запутанную проблему со сменой конфессии он задумал решить очень просто. Он нашел в телефонной книге адрес и телефон ближайшего сельского прихода. Чем меньше приход, полагал мой отец, тем меньше хлопот. С деревенским священником ведь договориться проще, чем со столичным епископом. Все вопросы он обсудил сначала по телефону, после чего отправился на автобусе из Хёгбу в расположенное неподалеку Евле.
В селе он увидел ту дружелюбную и простую деревянную церковь, на какую он втайне рассчитывал. Сквозь окна над хорами лился яркий солнечный свет. Католическому священнику с непрестанно трясущейся головой было уже за восемьдесят. Мой отец накануне наведался в городскую библиотеку Хёгбу и основательно подготовился к разговору. И расчет его полностью оправдался. Стоило ему только упомянуть о видах религиозных общин в католичестве и различных обетах, а также сказать, что он и Лили, двое простых евреев, собираются связать себя брачными узами в этом храме, как в глазах старика заблестели слезы.
– Откуда вы знаете о таких вещах?
Мой отец, ничуть не смутившись, продолжал с важным видом:
– …То есть мы, я и моя невеста, собираемся присоединиться к католической вере, дав не торжественный, то есть пожизненный, а простой обет, который может быть временным…
Тут у священника задрожали и руки. Он вынул платок и принялся вытирать глаза.
– Ваше рвение, юноша, меня восхищает до слез.
Мой отец почувствовал себя на коне, визуальная память не подвела его и на этот раз. Он едва не дословно цитировал соответствующие пассажи церковной литературы.
– Вы поправьте меня, отец, если я ошибусь, но, насколько я знаю, простой обет носит односторонний характер и те, кто его приносят, в данном случае я и моя невеста, будут нести обязательства перед общиной, но община не будет нести таковых перед ними. Торжественный же обет, в отличие от простого, является двусторонним, когда обязательства не могут быть уничтожены ни принесшим обет, ни общиной!
– Откуда такие познания, сын мой?
– Мы относимся к смене конфессии очень серьезно.
Старик оживился, вскочил и поспешил к ризнице. Мой отец едва поспевал за ним. Священник достал огромных размеров церковную книгу и окунул перо в чернильницу. Чернила в ней были зелеными, что привело моего отца в восторг.
– Вы меня убедили. У меня не осталось сомнений в серьезности ваших намерений. Я запишу ваши данные. А вы позвоните мне, когда ваша невеста сможет приехать сюда из Берги. Как только мы сговоримся о времени, я вне очереди назначу обряд крещения. Могу вам сказать одно, Миклош: за время служения я никогда не сталкивался с таким похвальным усердием.
* * *
В этот период переписка между отцом и Лили стала особенно интенсивной. Иногда они писали друг другу по два раза в день. Вечером 31 декабря мой отец ушел в комнату, считая немыслимым для себя напиваться вместе с другими в столовой пансионата. Он лег на кровать, положил на грудь фотографию Лили и поклялся выжить. Он повторял про себя эту клятву, пока не заснул. И когда на рассвете Гарри с честной компанией, шатаясь, ввалились в комнату, то застали отца в одежде, лежащим навзничь; он плакал во сне, а из-под его ладони выглядывала фотография Лили.
Жизнь моя, дорогая Лилике!
Чтоб ей провалиться, этой “Виа Свецика”! Я оплатил объявление и послал безупречный текст. А они допустили в нем эту фатальную опечатку! С ужасом посылаю тебе. Эти болваны нас с тобой перепутали, и получилось, что я – твоя нареченная!
* * *
В Берге тоже был новогодний вечер. Лили аккомпанировала Шаре на пианино. В репертуаре была оперетта. Песенку Бони из “Королевы чардаша” пришлось повторять три раза – настолько ошеломляющим был успех. Остальная часть вечера выдалась более грустной. Шведский оркестр из трех музыкантов играл бальную музыку, многие танцевали, плакали. К ужину подали красное вино – по литру на каждого.
Днем за обедом я снова думала о тебе, потому что была томатная подливка, а ты ведь ее обожаешь! Сладкий мой пупсик, как я люблю тебя!
* * *
В первый день нового года все давали какие-нибудь обеты. Якобович, начиная с июля, когда он встал на ноги, всякий раз за едой прятал в карман кусок хлеба. Он знал, что это глупо, что хлеб здесь дадут и завтра. Но у страха глаза велики. Так вот, Пал Якобович первого января 1946 года дал себе обещание, что больше не будет рассовывать по карманам хлеб. Гарри поклялся, что будет соблазнять девушек только по любви. Лицман дал слово уехать в Израиль. А мой отец решил, что, как только вернется домой, засядет за изучение русского языка.
Мы непременно должны мечтать, и мечтать о многом, не об одной только самоцельной любви! Наше будущее – это и труд, и призвание, и служение обществу!
В ночь на первое января в Берге девушки пели венгерский гимн.
Жизнь моя, драгоценный Миклошка! А когда ты по-едешь в Стокгольм к стоматологу?
* * *
Через неделю мой отец сел в автобус. Морозы в ту зиму стояли, каких давно уже не бывало. Термометр показывал минус двадцать один. Стекла автобуса покрылись ледяной коркой, как будто чьи-то заботливые руки упаковали его в станиолевую фольгу. Трясясь в одиночку в этом серебристом блеске, он ехал в Сандвикен.
Дома я собираюсь работать только в газете, предназначенной для трудящихся, а если не выйдет, сменю профессию. Хватит с меня буржуев!
Утром того же дня Лили не хотела вставать. Не могла заставить себя. Около полудня Шара и Юдит Гольд силком вытащили ее из постели и, как безвольную куклу, одели. Раздобыв салазки, они по очереди возили подругу по центральной дорожке лагеря.
Милый, единственный мой Миклошка! Еще нико-гда, ни секунды не тосковала я так по дому. Я готова отдать десять лет своей жизни, лишь бы перенестись сейчас в родные края!
Тем временем мой отец сидел в завернутом в станиоль автобусе, как шоколадная крошка, забытая в коробке из-под конфет. Тихо урчал мотор. Отец полностью отключился от внешнего мира – в салоне, мягко раскачивавшемся на рессорах, было благостное тепло и райское освещение. Он нащупал в кармане какой-то тонкий и заостренный предмет.
Запускаю руку в карман – и что обнаруживаю? Губную помаду “Mitzi 6 Carmin”. Я купил ее в прошлый раз и забыл тебе отослать. Ну что ж, передам при встрече. И первым делом мы испытаем ее на устойчивость к поцелуям. Хорошо?
Лили неслась на салазках. Шара и Юдит Гольд теперь впряглись в них вдвоем. Им очень хотелось утешить ее, и они надеялись, что катание в ясный морозный день подействует на нее благотворно.
Перед моими глазами – твое письмо, я прочитала его уже раз двадцать. Всякий раз в нем обнаруживается что-то новое, и с каждым мгновением я все больше шалею от счастья!
Ой, ой, ой! Как я люблю тебя!!!!!
Я видела странный сон. Отчетливый, как наяву. Я раньше таких не видела. Мы вернулись домой. На вокзале меня встречали мамочка с папочкой. А тебя со мной не было! Я была одна!
Лили снилось, как она прибыла на Келети. На вокзале море людей, но никто не толкается, никуда не бежит. Встречающие, сотни людей, стоят неподвижно, с застывшими взглядами. Единственное движущееся пятно во сне – это паровоз: пыхтя дымом, он торжественно подкатывает к перрону под стеклянной крышей вокзала. Дым постепенно окутывает толпу, но потом рассеивается, и в свинцовом утреннем свете со ступенек вагонов спускаются люди. Все тащат тяжелые чемоданы. Но встречающие – сотни, а может быть, тысячи – все так и стоят, застыв на месте.
Лили в красном платье в белый горошек и огромной широкополой шляпе. Заметив в неподвижной толпе мамочку с папочкой, она бежит к ним, но расстояние между ними не сокращается ни на шаг. И это ее изумляет. Она припускает быстрее, у нее уже пересохло горло, ей нечем дышать. Но расстояние так и не сокращается. Родители от нее в каких-нибудь десяти метрах. Лили отчетливо видит погасшие печальные глаза мамочки. Но папочка, к счастью, весел. Он раскинул руки, готовясь обнять свою дочь, но Лили так и не удается до него добежать.
* * *
В Сандвикене рентгеновский кабинет находился в клетушке, где едва помещался сам аппарат. Для моего отца в это время рентгеновский аппарат стал уже врагом. Его уже столько раз просвечивали, столько раз ему приходилось вжимать свои узкие плечи в ледяное стекло, что при виде этого аппарата в нем поднималась горячая волна ненависти.
Он закрыл глаза и попытался подавить в себе отвращение.
С врачом, Ирен Хаммарстрём, установить столь же доверительные отношения, как с Линдхольмом, мой отец не смог. Хотя Ирен была очень внимательной, мягкой и трогательно красивой. Она смотрела на отца всегда пристально, как будто пыталась постигнуть какую-то великую тайну.
Сейчас, стоя у окна, она разглядывала на просвет снимок. Мой отец тем временем занялся своей обычной игрой: откинувшись на спинку стула, он стал медленно отклоняться назад. При этом он не смотрел на Ирен Хаммарстрём. Он пытался зависнуть в воздухе.
Неожиданно докторша у окна изумленно хмык-нула:
– Я не верю своим глазам.
Мой отец приблизился к точке, когда дело решали уже буквально микроны. Малейший просчет – и он опрокинется, как подбитая кегля.
Ирен Хаммарстрём взволнованно подошла к столу и нашла один из его старых снимков. Подбежав к окну, она стала сопоставлять две рентгенограммы.
– Смотрите, – обратилась она к отцу, который в этот момент сместился еще на волосок назад, – вот ваш июньский снимок. На нем пятно размером с монету в пять эре.
Цирковой номер отца приблизился к кульминации. Стул балансировал уже на двух ножках, подошвы отца оторвались от пола.
– А вот сегодняшний. Пятно едва различимо. Это какое-то чудо. Что вам сказал главный врач, доктор Линдхольм?
В этот момент мой отец достиг физического предела. Благодаря предшествующим тренировкам он умудрился зависнуть между небом и землей, как зависает в поднебесье изготовившийся к броску сокол. Как изваяние.
– Он сказал, что мне осталось полгода.
– Немного жестко, но объективно. Я тоже, наверно, пришла бы к такому выводу.
Сольный номер отца продолжался.
– Что вы хотите этим сказать?
– Что этот снимок привел меня в замешательство.
– А что на нем?
– Я могу вас теперь обнадежить. Так держать! Как у вас с предутренним повышением температуры?
Продержаться чуть дольше не получилось, но и те пять секунд были явно из мира чудес. Мой отец опрокинулся вместе со стулом. Ирен Хаммарстрём, бросив снимки, подскочила к нему:
– О боже, что с вами?!
Расшибся отец основательно, и все-таки на лице его сияла улыбка.
– Ничего страшного, просто я заключил сам с собой пари.
Глядя на его кошмарные зубы из “виплы”, Ирен Хаммарстрём решила, что направит региональным властям запрос, нельзя ли помочь этому симпатичному молодому венгру и со скидкой, а может быть, и бесплатно привести его рот в божеский вид.
* * *
Это был незабываемый день.
Отец вернулся в пансионат, вошел в комнату и увидел, что парни встречают его стоя навытяжку. Он терялся в догадках, откуда они узнали, что он пошел на поправку. Но так как лица его друзей сияли от счастья и гордости, ни о чем другом он не мог и подумать. Он сел на кровать и стал ждать.
И тут парни, не разжимая губ, начали напевать. То была ода “К радости” Бетховена.
Когда загадочность торжественной церемонии перешла уже все границы и бессловесный хор достиг в исполнении гимна небывалых высот, мой отец откинулся на кровати и, закрыв глаза, унесся под небеса – и вот тут Гарри неожиданно выхватил газету и, словно боевую реляцию, молча протянул отцу.
В газете были стихи. Черные буквы на белом листе. По-шведски.
На третьей полосе “Виа Свецика” было курсивом набрано: Till en liten svensk gosse – “Шведскому мальчишке”. А выше – имя поэта. Моего отца.
Стихи мой отец писал в уме. Писал днями, неделями. И когда уже чувствовал, что готово, просто переносил стихотворение на бумагу.
Однако на этот стих у него ушло не больше десяти минут. Он сидел в шезлонге на палубе, жевал печенье, ощущая во рту ванильно-малиновый вкус. На корабле заревел гудок. Они медленно отдалялись от берега. Женщины – неподвижный велосипедный отряд – смотрели вслед удаляющемуся кораблю. Совсем рядом, рукой подать, лежала страна, которая на какое-то время, а может быть, и надолго примет его к себе. За печенье, казалось отцу, он должен их чем-то отблагодарить. Он напишет для шведских детей стихи. Напутствие, совет, поучение, захватывающее своей силой, которую он почерпнет в своем страшном опыте.
Он разминал языком рассыпчатое печенье и повторял про себя первые две строки:
Братишка, вот уже который год лицо Европы безобразят шрамы…И уже видел перед собой адресата, белобрысого шестилетнего малыша – шведского мальчишку, – который стоит, прижимая к груди плюшевого медвежонка, и изумленно глядит на отца.
И полились одна за другой строки, которые было труднее запомнить, чем сочинить. Когда корабль развернулся и на всех парах устремился в открытое море, стихи были уже готовы.
Братишка, вот уже который год лицо Европы безобразят шрамы, но смотришь ты без слез на самолет, серебряный от лунной амальгамы. Воздушных ты не пережил тревог и разве что в кино слыхал сирену: в своем краю ты спать спокойно мог и не рывком взрослеть, а постепенно. По карточкам тебе давали хлеб и башмаки, – но ты играл с друзьями, когда ровесник твой, живой скелет, шагнул навеки в газовое пламя. Когда ж, братишка, ты из паренька светловолосым станешь великаном, все слезы соберутся в облака и прошлое прикроется туманом… Но вспоминай порою, милый брат, о призрачном ребенке, чьи игрушки – осколки разорвавшихся гранат, наставники – наставленные пушки. И сыну объясни, как подрастет, что истина не в грохоте орудий и оттого, что ствол твой дальше бьет, счастливей на Земле не станут люди. Машинки, кубики – но не ружье клади сынишке в ящик для игрушек: пусть никого он в жизни не убьет, пусть ничего он в жизни не разрушит[8].Гарри похлопал отца по плечу:
– Твою карьеру я взял в свои руки. Я нисколько не сомневался в твоем согласии и послал стихо-творение в стокгольмскую газету. Попросил их перевести. Но написал, чтобы перевод поручили не ремесленнику, потому что стихи написал выдающийся венгерский поэт. Ты, Миклошка. Это было три месяца назад. И вот в сегодняшнем утреннем выпуске они их опубликовали! Перевод я проверил. Неплохо.
Остальные по-прежнему стояли навытяжку и напевали оду. Мой отец поднялся и обнял Гарри, пытаясь не разреветься. Все же выдающемуся венгерскому поэту это как-то не подобает.
* * *
То был поистине поворотный день, в чем он смог убедиться еще до полуночи.
В дверь постучали, сказав, что отцу звонит какой-то мужчина. Он уже спал и, проснувшись от стука, не сразу сообразил, где находится. Накинув пижаму, с разрывающимся от волнения сердцем, он бросился вниз к телефону.
Голос был незнакомый.
– Я разбудил вас?
– Ничего страшного.
– Виноват. Это реб Кронхейм из Стокгольма. У меня разговор к вам.
У отца мерзли ноги, и он потирал голую ступню ноги об икру другой.
– Я слушаю.
– Нет, не по телефону! Как вы могли подумать!
– Извините.
– Вот что, Миклош. Завтра утром я приеду на поезде в Сандвикен. У меня будет два часа, а потом я отправлюсь обратно. Предлагаю встречу на полпути.
– Если хотите, я подъеду в город.
– Нет, нет! Я настаиваю, встретимся на полпути. Эстанбюн вас устроит?
Эстанбюн был первой остановкой по дороге в Сандвикен. Мой отец много раз проезжал мимо на автобусе.
– А где в Эстанбюне?
– Выйдете из автобуса и отправитесь в сторону Сандвикена. На первом перекрестке свернете направо и двинетесь дальше, пока не дойдете до бревенчатого моста. Там я буду вас ждать. Вы запомнили?
Мой отец лишь недоуменно кивнул.
– Вы позволите еще раз ваше имя?
– Эмиль Кронхейм. Стало быть, завтра в десять. У бревенчатого моста. Не опаздывайте!
Раввин завершил звонок. Весь этот разговор он провел так напористо, что только теперь, стоя с гудящей трубкой в руке, отец спохватился, что он не спросил, по какому поводу хочет встретиться с ним раввин.
* * *
Наутро, доехав до Эстанбюна, мой отец вышел из автобуса. Следуя указаниям, он дошел до угла, повернул направо и спорым ходом минут за двадцать добрался до моста.
Эмиль Кронхейм, разомлевший, в черном, до пят, пальто, расположился на большом валуне у другого конца моста. Отец изумился, увидев перед собой человека, который спокойно сидел на морозе, не прихлопывая, не притопывая – как будто на привале у озера во время летней загородной прогулки.
– Ну что, ты доволен жизнью? – издали, через мост, рявкнул раввин.
Отец замер на месте. Своей жизнью он был не просто доволен – жизнь была восхитительна. Однако ему было непонятно, что имел в виду этот гротескный тип за мостом.
– Реб Кронхейм?
– А то кто же? Ты мне вот что скажи: о каком таком католическом епископе ты рассказывал басни Лили? Если о стокгольмском, то я с ним прекрасно знаком. Обаятельная персона.
И тут отца осенило. Он вспомнил письмо, в котором Лили поминала раввина, читавшего ей моральные проповеди. Ну конечно! Кронхейм тот раввин и есть! Ему казалось, что он все понял. Теперь этот раввин за него возьмется. О, дьявол! И стоило ради этого тащиться в Эстанбюн!
– Епископ нам больше не нужен.
– Готов биться об заклад, что ты нашел кого-то другого.
Бревенчатый мост длиной метров в тридцать был перекинут через овраг. Внизу и по сторонам стояли на страже вековые ели. На запорошенных снегом ветвях застыло в искрящемся свете безмолвие. Ни дуновения ветерка, ни птичьих голосов. Величественную красоту природы нарушали только их вопли.
– Ваша взяла, ребе. Я нашел в Евле замечательного старика. Он обещал окрестить нас.
Кронхейм на другом конце моста запустил руку в свою жесткую, будто проволока, шевелюру.
– Лили уже не настаивает на этой глупости.
Мой отец решил посмотреть этому человеку в глаза и, пройдя по мосту, протянул ему руку:
– А мне она написала обратное.
– Что она написала?
– Что некий раввин из Стокгольма взялся читать ей нотации. Непонятно, как он пронюхал о наших намерениях. Что-то вроде этого.
– Твоя обворожительная невеста не могла употреб-лять столь циничные выражения. Пронюхал… Я не ищейка!
– А действительно, ребе, как вы узнали? Мы никому об этом не говорили.
Кронхейм взял моего отца за локоть, прошел с ним до середины моста и, опершись на перила, окинул взглядом окрестности.
– Ты когда-нибудь видел что-то более грандиоз-ное? Сто лет назад это выглядело точно так же. И да-же тысячу лет назад!
Величественный пейзаж был и впрямь пугающе восхитителен. Повсюду, насколько хватало глаз, простирался густой хвойный лес, присыпанный снежной пудрой. Мой отец решил, что пора взять последнее из препятствий на своем пути.
– Послушайте, ребе. До войны я счел бы подобный шаг бегством. Но теперь это вполне осознанное и самостоятельное решение.
Кронхейм не смотрел на отца. Казалось, его целиком поглощало восторженное любование природой.
– Ничем не оскверненная первозданная красота.
Мой отец решительно продолжал:
– Я думаю о судьбе нашего будущего ребенка. К тому же я никогда не был верующим. Я атеист, и вы вправе меня презирать за это. Но могу вас заверить: наше решение о принятии христианства не имеет ничего общего с трусостью.
Раввин как будто не слышал его.
– Этот лес стоит здесь испокон веку. Положим, мост, с которого мы обозреваем его, кто-то построил. Но тоже из дерева! Ты видишь здесь хоть толику инородного материала? Железа, меди, стекла? Не видишь, не так ли, сын мой?
– Вы об этом хотели со мной говорить, ребе? О деревянном мосте в Эстанбюне?
– В том числе и об этом.
Мой отец был сыт его аллегориями. Он и так испытывал угрызения совести, и вот, когда он уже подавил их, явился этот взъерошенный человечек, толкующий ему о девственной красоте природы. Он, конечно, все понимал, чего тут не понимать! Много тысячелетий, все так! Но если Лили желает креститься, он сметет с их пути все препятствия, страхи, таящиеся в глубине души сомнения.
Мой отец поклонился:
– Рад был встретиться с вами, ребе. Наше решение окончательное. И никто не заставит нас изменить его. Всего доброго.
Он повернулся и твердым шагом пошел по мосту. Но, дойдя до его конца, обернулся. Эмиль Кронхейм, как будто только того и ждал, выхватил из кармана пальто письмо и замахал им.
– Ненавижу себя за это, – воскликнул он, – но как говорится в Писании… А может, таких вещей в нем и нет… Короче, сын мой, я предлагаю тебе заключить со мной грязную сделку.
Отец тупо уставился на него.
– Иди посмотри, что здесь сказано!
Раввин тряс письмом. И призывно махал рукой. Мой отец неохотно повернул назад.
– Я написал прошение, такое прочувственное, что невозможно читать без слез. Ты подпишешь, и сегодня же я доставлю его в Стокгольм. Я не я буду, если не добьюсь положительного решения, можешь не сомневаться! Единственное условие: свадебный обряд в стокгольмской синагоге буду проводить я! Разумеется, под хупой! Расходы на свадебную одежду, на церемонию и дружеский банкет беру на себя. И плевать нам на “Лотту”. Они будут обязаны предоставить молодой паре отдельную комнату – например, в Берге.
Мой отец посмотрел на бумагу. Бумага была на шведском. Насколько он мог понять, это было умело составленное прошение, адресованное шведскому представительству Международного Красного Креста.
– Они такими делами не занимаются.
– Не скажи! Они еще будут гордиться. Стучать себя в грудь! Они это используют. Раструбят в газетах. Ведь о чем идет речь? О том, что двое несчастных изгоев, вернувшихся с того света и теперь опекаемых ими, заключают союз во имя продолжения жизни. Кстати, что сказал врач?
– О чем?
– О туберкулезе, конечно.
– Вы и об этом знаете?
– Я обязан вникать в детали. Это моя работа.
– Я выздоравливаю. Каверна стала затягиваться.
– Слава богу.
Кронхейм обнял моего отца и шепнул ему на ухо:
– Ну как, заключаем сделку?
Мой отец дрогнул. Он уже формулировал про себя письмо, в котором объяснит Лили, что взрослому человеку, а уж социалисту тем более, не стоит зацикливаться на религии.
Глава семнадцатая и последняя
После этого события приняли головокружительный оборот. Раввин, как и обещал, быстро добыл необходимые разрешения. Не прошло и двух месяцев, как Лили и отец стояли уже под хупой в Большой синагоге Стокгольма. Кронхейм оплатил прокат, и Лили была в платье из белой тафты, а отец – в черном смокинге. После свадебной церемонии состоялся фуршет. Шведский король Густав V направил молодой паре, пережившей все муки концлагеря, восторженную телеграмму.
Еще до свадьбы, в феврале, мой отец неделями страдал в кресле стоматолога, поскольку Кронхейм настоял на том, чтобы зубы из “виплы” ему заменили на фарфоровые.
– Как можно с тобой целоваться, сын мой? Я посоветовался с общиной. И община единодушно решила собрать деньги на зубного врача. За три дня было собрано шестьсот крон. Я нашел для тебя первоклассного протезиста, вот адрес.
* * *
Эмиль Кронхейм мог потирать руки от удовольствия. Он действительно замечательно все устроил. Однако радость его еще в начале марта, до церемонии, подпортил один визит.
Все началось с двух долгих нетерпеливых звонков в дверь его квартиры. Эмиль Кронхейм – не будем скрывать – закусывал, как всегда, селедкой, просматривал американский журнал комиксов и от души хохотал. Дверь открыла его жена, которую так изумил возбужденный вид незнакомой девушки, что она пригласила ее в гостиную прямо в пальто, меховой шапке и оставлявших на полу грязные следы калошах. Раввин, не оборачиваясь, выудил из маринада очередной ломтик селедки.
– К тебе пришли, – с трудом сдерживаясь, чтобы не шлепнуть его по рукам, прошипела госпожа Кронхейм.
Он смущенно вскочил и вытер пальцы о штанину, на что у госпожи Кронхейм вырвался тяжкий вздох:
– О господи! Брюки!
У Юдит Гольд над верхней губой на усиках еще серебрились снежинки. Она походила на Санта-Клауса в женском обличье. Кронхейм предложил ей сесть.
– О, мой прилежный корреспондент! Прошу вас, Юдит.
Юдит Гольд села, даже не расстегнув пальто. Гос-пожа Кронхейм тактично удалилась на кухню.
– Я видела вас, когда вы были в Берге. Спасибо, ребе, что не выдали меня.
Кронхейм пододвинул к посетительнице тарелку:
– Селедочки маринованной не желаете?
– Я не люблю.
– Как можно не любить селедку? Это же витамины! Источник жизни! С какой стати я должен был вас выдавать? Милая Юдит, я благодарен вам за то, что в последний момент успели предупредить меня.
С калош Юдит Гольд продолжала стекать вода.
– Нет, последний момент наступает только теперь!
– Бог мой! И ради этого вы ехали ко мне в Стокгольм?
Юдит Гольд поймал руку раввина.
– Мы должны спасти Лили.
– Спасти? От кого? Что ей угрожает?
– Замужество! Вы только представьте, моя подруга собирается выйти замуж!
Кронхейм хотел освободить руку, но Юдит Гольд вцепилась в нее мертвой хваткой.
– Любовь – это ведь замечательно. А брак – скреп-ляющая ее печать!
– Да, но на ней хочет жениться мошенник! Брачный аферист!
– Ах вот как? Ну, это уже серьезно. Откуда вам это известно, Юдит?
В комнату вошла госпожа Кронхейм, которая принесла печенье и чай. Раввин сладости не любил.
– Ешьте, пейте. Отогревайтесь. А я, с вашего позволения, останусь при селедочке.
Чай и ванильное печенье Юдит Гольд оставила без внимания. Она не замечала, что в гостиной, уставленной темной громоздкой мебелью, пышет жаром изразцовая печь. И не сняла с себя даже шарф.
– Выслушайте меня, ребе! Вы всего не знаете, я прошу вас, выслушайте! Представьте себе мужчину, который добыл имена и адреса девушек, находящихся на излечении в шведских реабилитационных лагерях!
– Представил.
– А теперь представьте, что этот мужчина садится и пишет всем этим девушкам письма! Вы понимаете? Всем подряд!
Раввин положил в рот ломтик селедки.
– Я вижу перед собой очень упорного человека.
– И письма все одинаковые! Один и тот же слащавый текст. Как будто написанный под копирку! А потом он идет на почту и отправляет все эти письма девушкам. Вы видите это перед собой, ребе?
– Неужели? Не может такого быть! Откуда вы это взяли?
Юдит Гольд торжествующе посмотрела на раввина. Теперь пробил ее час! Она выхватила из сумки мятое, выцветшее письмо.
– Вот, смотрите! Мне он тоже прислал, еще в прошлом году, в сентябре! Только мне и в голову не пришло отвечать, я сразу его раскусила! Что вы на это скажете? Лили получила точно такое же! Я видела, я читала! Другим было только обращение. Вы можете это проверить! Расследовать!
Кронхейм разгладил письмо и внимательно изучил его.
Дорогая Юдит! Наверное, Вы привыкли к тому, что, когда разговариваете по-венгерски, к Вам может обратиться незнакомый Вам человек – на том основании, что он тоже венгр. Что поделаешь – не то нынче воспитание.
Вот и я только что фамильярно к Вам обратился на том основании, что мы с Вами земляки. Я не знаю, встречались ли мы в Дебрецене, где я был – до того, как Родина загнала меня в трудовой батальон – сотрудником городской газеты, а отец мой держал книжный магазин в помещении епископского дворца…
Раввин покачал головой:
– Действительно, необычно.
Юдит Гольд готова была расплакаться.
– И к этому аферисту собирается привязать челнок своей жизни моя подруга!
Раввин задумчиво положил себе в рот еще один ломтик селедки.
– Челнок жизни… Как это поэтично. Привязать челнок жизни.
* * *
Спустя пятьдесят с лишним лет моя мать, в девичестве Лили Райх, которую я расспрашивал, а помнит ли она тот момент, самый первый, когда она решила ответить на письмо моего отца, долго перебирала в памяти давно похороненные воспоминания.
– В какой точно момент, я не помню. Ты знаешь, когда в сентябре меня перевезли на скорой из Смоландсстенара в Экшё и я вторую неделю лежала прикованная к постели, неожиданно я увидела над своей кроватью Шару и Юдит Гольд. Они привезли из Смоландсстенара кое-что из моих вещей. В том числе и письмо твоего отца. Юдит Гольд сидела на краю кровати и уговаривала меня ответить этому несчастному парню. Ведь этот бедняга, больной журналист из Дебрецена, поди, очень надеется. Потом Шара и Юдит Гольд ушли, а я продолжала лежать. Мне было запрещено даже выходить по нужде. Лежала, скучала, письмо валялось перед глазами. А дня через два или три я попросила у медсестер бумагу и карандаш.
* * *
В июне 1946 года Лили и моего отца, вместе с другими пожелавшими вернуться на родину венграми, определили во второй по порядку транспорт. Из Стокгольма на самолете их доставили в Прагу и в тот же день посадили на поезд, отправлявшийся в Будапешт.
Взявшись за руки, они сидели в душном, наби-том людьми купе. Когда уже миновали границу, мой отец с виноватой улыбкой поднялся и выбрался в крошечный и невообразимо грязный клозет. Он запер за собой дверь. Термометр в изящном металлическом футлярчике по-прежнему был при нем. Поезд медленно, мотаясь из стороны в сторону, катил по только что восстановленному пути. Мой отец сунул градусник в рот, зажмурился и ухватился за ручку двери. Под стук колес он начал считать до ста тридцати. Досчитав до девяноста семи, он открыл глаза.
Из разбитого, сколотого по краям зеркала на него смотрел исхудалый небритый очкарик, с торчащим изо рта градусником, в не по росту большом пиджаке. Он приблизился к отражению. И что же, теперь он всегда будет видеть эту рожу? Этого типа с испуганными глазами, навеки прикованного к термометру?
И он принял решение. Выхватив градусник изо рта и даже не посмотрев, до какого деления дополз ртутный столбик, он швырнул его в унитаз. Потом бросил следом футлярчик и дважды, решительно и со злостью, нажал на спуск.
В этот июньский вечер, в девять часов, на вокзале собралась огромная толпа, что было удивительно, потому что поезд следовал вне расписания и о его прибытии не сообщали по радио. Новость распространялась из уст в уста. Мамочка, например, то есть мать Лили, случайно услышала ее в 6‑м трамвае, в час пик, когда какая-то тетка в платке кому-то кричала о ней через весь вагон. В этом поезде после девятнадцатимесячного отсутствия возвращалась домой ее дочь.
На Лили было красное платье в белый горошек. В весенние месяцы она стала полнеть и во время последнего взвешивания весила семьдесят с половиной килограммов. А на моем отце, который прощался со Швецией, набрав только пятьдесят три кило, болтались штаны.
Они были в последнем вагоне. Сначала, груженный двумя чемоданами, по ступенькам спустился отец. Мамочка бросилась к Лили, и они, обнимая друг друга, долго-долго стояли в молчании. Потом мамочка обняла моего отца, которого здесь никто не ждал, разве только товарищи по борьбе, но это было чуть позже и доставило ему мало радости.
Мамочка все еще надеялась, что вернется и ее муж, отец Лили, папочка, но реальность была такова, что по дороге из Маутхаузена торговец чемоданами Шандор Райх наткнулся на продуктовый склад, где набросился на копченую колбасу и сало. Той же ночью его увезли в лазарет. И через два дня он умер от заворота кишок.
На вокзале в тот вечер было душно и пыльно. Лили, мамочка и мой отец, поглядывая растроганно друг на друга, ковыляли сквозь гудящую взволнованную толпу.
А я еще целых два года, сгорая от нетерпения, готовился в тишине к своему появлению.
Послесловие
Мои отец и мать переписывались в течение шести месяцев, с сентября 1945‑го по февраль 1946 года, до тех пор, пока не поженились в Стокгольме. Долгие пятьдесят лет я ничего не знал об этой их переписке. А в 1998 году, после смерти отца, моя мать, словно бы между прочим, передала мне две увесистые пачки писем, перевязанные шелковыми ленточками – василькового и пурпурно-красного цвета. В глазах ее я видел надежду и опасения.
Разумеется, история их знакомства была мне знакома. Не в деталях, не в подлинной глубине, а на уровне анекдота. “Твой отец сразил меня наповал своими посланиями” – так вспоминала о давней истории моя мать, и на лице ее появлялась очаровательная гримаса. Швеция тоже упоминалась – как туманное ледяное царство, где-то там, в верхней части карты. Тайна, Север, величие… Казалось, они скрывают что-то постыдное о том, как все началось.
Но письма хранились, в течение полувека они их перевозили с места на место, но никогда их не доставали, никогда не цитировали, не говорили о них. В первую очередь я хотел понять именно это: что значит эта преданная забвению память, это прошлое, упакованное в изящную коробку, которую запрещено вскрывать.
Спросить моего отца я уже не мог, но маму расспрашивал – упорно и изощренно. Обычно она только пожимала плечами: “Давно это было. Сам знаешь, отец твой был человек застенчивый. Мы хотели забыть об этом”.
Как же так?! Почему?! Как можно предать забвению эту стеснительную и прекрасную, неловкую и возвышенную любовь, свет которой даже через полвека лучится от этих строк? И когда в отношениях между родителями случались кризисные моменты – почему бы и нет, ведь во всяком браке моментов таких предостаточно, – то почему они, чтобы защититься, чтобы почерпнуть силы, ни разу не развязали оберегающую эти письма тесьму? Или позволим себе более сентиментальный вопрос: не-ужели за пятьдесят два года совместной жизни в отношениях моих родителей не было такого момента, когда замирало время? Когда по комнате пролетали ангелы? Когда кто-то из них, просто из ностальгии, не захотел раскопать спрятанный за книгами сверток – вещественное свидетельство их встречи и их любви?
Ответ я, конечно, знаю: такого момента не было.
* * *
В одном из писем отец писал, что обдумывает план романа. Он хотел описать путешествие в товарном вагоне, этот полный совместно пережитого ужаса долгий путь до немецких концлагерей, то есть книгу, которую вместо него написал потом Хорхе Семпрун.
Почему он так за него и не взялся?
Я догадываюсь почему. Мой отец вернулся на родину в июне 1946 года, из его семьи уцелела только младшая его сестра, дом родителей был разбомб-лен, и от прошлого не осталось следа. Зато будущее складывалось так, как он и мечтал. Он стал журналистом, стал работать в левых газетах. А потом, в начале пятидесятых годов, его письменный стол оказался в коридоре редакции.
Когда именно мой отец потерял веру, я не знаю. Возможно, она пошатнулась в 1949‑м, после показательного процесса Райка, ну а в 1956‑м родителей занимала в первую очередь мысль о том, чтобы эмигрировать.
Я помню, как мой отец стоял на кухне, в едкой вони кипятящихся на плите простыней, и в отчаянии шипел моей матери: “Ты хочешь, чтобы всю оставшуюся жизнь я мыл посуду? Ты этого хочешь?”
Они остались.
Во времена Кадара он стал известным журналистом-международником, одним из основателей и заместителем главного редактора весьма качественного еженедельника “Мадьярорсаг”. А роман о поездке в товарном вагоне так и не написал, и даже стихи перестал сочинять.
Убежден, что вера в идею, доведенная сперва до религиозного поклонения, а потом обернувшаяся покорным смирением, погубила, разрушила в нем писателя. Что доказывает: таланта для творчества недостаточно. Еще нужно, чтобы тебе повезло со средой.
Ну а письма, может быть даже неосознанно, они бережно сохраняли, перекладывая их из одного потаенного места в другое. И это – по-настоящему главное. Они их хранили, пока по решению моей матери, которое с того света молчаливо одобрил и мой отец, они наконец не дошли до меня.
Сноски
1
Перевод Марины Бородицкой.
(обратно)2
Перевод Марины Бородицкой.
(обратно)3
Перевод Наума Гребнева.
(обратно)4
Аврора уж солнце встречала, / Покровы раскинув свои (итал.). Русский текст А. Мертен.
(обратно)5
Буду любить я образ твой нежный, / Не для любви ли ты создана? (итал.)
(обратно)6
Старший санитар (нем.).
(обратно)7
Перевод Марины Бородицкой.
(обратно)8
Перевод Марины Бородицкой.
(обратно)



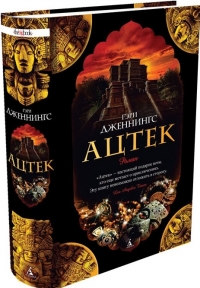

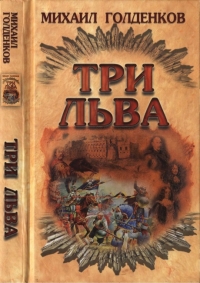
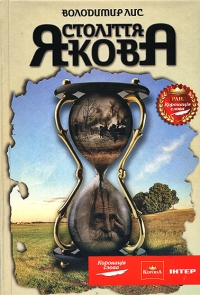
Комментарии к книге «Предрассветная лихорадка», Петер Гардош
Всего 0 комментариев