Виктор Точинов Молитва Каина Повесть времен царствования Екатерины Великой[1]
Пролог Лягушачий князек и Царь-жаба
Ника нес свою шестиаршинную жердь на плече, оперев серединой, чтоб не клонилась, и шагал деловито и серьезно.
Алеша, напротив, развлекался, как только мог придумать: то подхватывал жердь за конец и, зажавши под мышкой, изображал рыцаря на турнире, то поворачивал поперек пути и шел по одной линии, будто ярмарочный канатоходец.
Ника, чуть не лишившись зрения от неловкого движения брата, благоразумно поотстал, – пусть себе тешится.
Тем временем кустистая пустошь закончилась, впереди зеленели заросли камыша, братья миновали их быстро, приблизившись к первым чистым разводьям. Здесь жерди потребовались не для игры, для дела: ими надлежало нащупать неприметную при взгляде сверху тропку– гать, ведущую якобы дальше, к самой сердцевине болотца.
Ника, впрочем, полагал, что Митрошка, подпрапорщиков сын, все им наврал и тропку они не найдут.
Митрошка врал, как дышал, легко и естественно, и все про то ведали. И все же многие попадались на его выдумки, уж слишком складные получались истории.
Чего стоила, к примеру, байка, что у местных чухонцев языки имеют устроение, весьма отличающее их от языков нормальных людей. Языки у чухонцев даже не раздвоенные, на манер змеиных, но делятся натрое! Да, да, именно так, и если заставить каким-то обманом чухонца выставить подальше язык (чего они, чухонцы, по ясным причинам избегают делать), то всякий сможет заметить по бокам два извивающихся дополнительных отростка.
Чушь и полная ерунда, и скушать этакое блюдо сможет лишь самый доверчивый из малолетков, годов пяти, а шестилетний уже усомнится? Нет, все зависит от того, под каким соусом и с каким гарниром повар подаст свою стряпню, порой и рассудительные молодые люди одиннадцати лет от роду кушают и не морщатся…
Митрошка свое блюдо подал с шиком французского кулинара: обложенное гарниром из мелких и достоверных подробностей и политое соусом – отсылками к свидетелям, реально существовавшим…
К тому же имелась у вранья Митрошки особенность: какой-то подтверждающий вранье резон, очевидный и убедительный, он намеренно не поминал – чтоб слушатели сами припомнили и получили подтверждение как бы со стороны. Так случилось и в тот раз: братья сообразили ненароком, что иные чухонские имена и названия и впрямь созданы не для языка с обычным устройством, не вдруг и выговоришь…
В общем, они с Алешей скушали. Поверили.
И даже упросили папеньку завернуть в чухонскую деревушку, под хитро выдуманным и благовидным предлогом. Но там опозорились, пытаясь повторить опыт Митрошки, якобы раскрывший ему великую чухонскую тайну, и были взяты с поличным, и по спросу во всем сознались… После чего папенька опыт довершил самым решительным образом: велел троим чухонцам высунуть со всей мочи языки, вознаградив каждого гривенником. А в качестве финала научного экзерсиса прописал сыновьям горячих, немного, но чувствительно.
После того случая приступились они с братом Митрошку бить, но тот отвертелся, растолковав: не к той чухне ездили, то были ижорцы, а особенные языки лишь у карелов да шумилайненов, – и так убедительно сплетал правду с вымыслом, что они не то чтобы вновь поверили, но все ж оставили Митрошкино вранье под вопросом.
Словом, если затеялся бы кто-то учредить Департамент врунов или же Враль-коллегию, то Митрошка бы имел все виды на блестящую там карьеру.
И вот теперь история с Царь-жабой, живущей якобы здесь, на болоте.
Нет тут никакой Царь-жабы, и тропки к середине болота тоже нет. После конфуза с чухонскими языками (и после выписанных горячих) Ника относился к вранью Митрошки с опаской, Алеша же загорелся новой историей, он вообще был непоседливее брата.
Едва Ника решил звать брата домой – поиски гати длились уж с полчаса, успеха не принося, – над болотцем прокатился крик:
– Наше-о-о-ол! Истинно, вот она, гать!
Голос у Алеши был звонким, но крик в тумане прокатился глухой, искаженный, словно и не брат крикнул, чужой кто-то с той же стороны…
Ника оборотился, сам он уже тыкал в воду жердью лишь для вида, на успех поисков не надеясь.
Алеша стоял с лицом возбужденным, раскрасневшимся. И что он там нащупал, поди пойми. Ника подошел, проверил своей жердью, и впрямь, – под слоем воды и болотной жижи что-то твердое прощупывается. Коряга?
Коряг тут хватало – и виднелись над водой, и валялись, где посуше. Иные были затейливо перекручены и изогнуты, и торчавшие из них заостренные остатки ветвей или корней напоминали рожки: словно повыползали из топи черные и многорогие болотные гады, – и застыли, одеревенели.
Он пощупал рядом – твердо. Перенес конец жердины на аршин вперед – тоже твердо. Не бывает таких коряг. Значит она, тропа. Хоть в чем-то Митрошка не врал… Никакой радости Нике сей вывод не доставил. Потому что если не врал и в остальном – то существо здесь можно встретить не самое приятное…
Час стоял ранний. Поднялись и вышли они на рассвете, а болото было недалече. Никто бы, разумеется, в такую рань их на прогулку не отпустил, не зайди даже речь о топи. Но они и не спрашивались.
Над болотом низко стелился туман, доходя местами где до груди, где до пояса. Был он не слишком густ, но уже чуть вдали все виделось смутно, а еще дальше так и вовсе ничего не разглядеть.
И куда ведет гать – если протянута без извивов, в прежнем направлении, не понять. Может там и впрямь трон Царь-жабы, может что иное, а может вовсе ничего нет… Ну вот проложили зачем-то путь через болото, чтоб не обходить, круга не давать, – а Митрошка про то разведал и все остальное досочинил.
Пойти в туман и проверить, что там, не хотелось.
– Может, другим разом сходим? – предложил Ника. – Гать нашли, пометим ее, а потом днем сходим, безтумана, зряче.
Алеша задумался ненадолго. Посмотрел критически на себя, на брата, и постановил:
– Нет уж, вдругорядь я сюда не сунусь. Нам и за сегодняшнее пропишет папенька ижицу, а за другой раз повторит, да сильнее… Так зачем нам за один грех две кары влачить? Все единым разом покончить надо.
Рассуждение Алеши показалось брату основательным. Вид у них был и впрямь не тот, чтоб обойтись без ижицы. План похода сюда предусматривал, что высокие, почти до колен, сапоги сохранят своих владельцев от болотной грязи, а будучи сняты, скроют все следы прегрешения.
Но всем ведомо, что сбываются планы гладко на бумаге, да еще при устном их обсуждении. На деле же братья порядочно извазюкались, даже на добравшись до гати. И поход их незамеченным и безнаказанным не останется.
– Тогда пойдем, – согласился Ника.
– Семь бед – один ответ!
– У нас всего две беды намечались… – возразил Ника, любивший точность; в науках, связанных с черте жами и вычислениями, он был сильнее брата, Алеша брал свое в дисциплинах, требующих более воображе ния, чем усидчивости.
– Неважно, семь иль две, – махнул рукой Алеша. – Пошли, я первый!
Он любил быть первым, а Ника не возражал, он был лишен тщеславия, уж уродился таким.
Они ступили на гать, погрузив сапоги почти доверху, но нимало не беспокоясь, что доведется хлебнуть через край, – внутрях и без того давно хлюпало.
Пошли… Алеша первый, Ника поотстав на длину жердины, даже чуть далее, брат и здесь мог затеять игру с палкой, он такой. Двинулись в туман, к трону Царь-жабы, – если, разумеется, верить вруну Митрошке…
Многие, говорил им Митрошка, не различают Царь-жабу с лягушачим князьком и ошибаются. Лягушачий князек хоть всего лишь раз в сто лет в одном болоте родится, но встретить его можно много где, болот-то на свете хватает. Охотник Селифан, что с деревни Крутицы, Клыкино тож, встретил лягушачего князька минувшей осенью, когда ходил по уток, и даже застрелил. Всю зиму князек провисел к него в амбаре, на показ, но стух весной и выкинуть пришлось. И многие ходили смотреть того князька, и он, Митрошка, ходил. Но ничего особого в лягушачем князьке не имеется: лягуха и лягуха, только размеров невиданных, с большого зайца примерно, да еще под кожей у князька кое-где мясистые желваки наросли, с кулак примерно будут.
Царь-жаба же иное дело… Она только здесь водится, на их болоте, потому как болото не простое, особенное. Ну, так уж повезло им… Болото у них хоть невелико, да бездонное. Нет, конечно, где-то все ж дно имеется, может в версте, может в двух от поверхности. А на вид неглубоко – вода прозрачная, и кажется, вот оно, дно, рукой достанешь. Но если взять жердину, хоть десятисаженную, и торчком в то дно опустить – до конца вся уйдет, твердого не нащупает. Нет там дна, одна видимость, жижа илистая… Для Царь-жабы такая жижа – самое разлюбезное дело, она в ней живет-обитает, и чем больше жижи, тем лучше, потому как на зиму Царь-жаба на дно ныряет, до весны спать, да только если мелкое дно, доступное, тогда спится ей не крепко и тревожно, – вынырнет вверх и замерзнет враз, окостенеет от морозу. Многие видали, как лягухи по зиме костенеют, вот и Царь-жаба так же. Только лягухи потом оживут и вновь заскачут, а Царь-жаба нет – оттаявши, в жижу черную и зловонную превратится. Таким манером по всем болотам Царь-жабы и перевелись, только здесь одна и осталась. Одну из последних, по зиме замерзших, кривой Евдоким нашел, тот, что мельник под горой Пулковской. Давно уж тому, лет с десяток будет. Увез к себе, чтоб народ подивить, да сдуру не в холодных сенях положил, а в дом затащил. Утром глядь: лужа черная на полгорницы, и смердит, хоть святых выноси. Многие ту лужу видели и смрад тот нюхали, потом половицы Евдокиму пришлось менять, так все въелось…
Длинные жердины братья Волковы прихватили как раз для проверки рассказа о бездонности их болота – гать и вдвое меньшими нащупать можно. Когда удалились от стены камыша саженей на тридцать-сорок, пришло время проверки.
Проверять выпало Нике – Алеша шел впереди, нащупывая дорогу, а братова жердина оставалась не при деле. Если застрянет, не вытащится – убыток небольшой, одной обойдутся.
– Ну давай, проверяй, – понукал Алеша, остановясь и поворотившись к брату.
– Может, на возвратном пути? – предложил Ника. – Одна хорошо, а две надежнее.
– Да вон уже, трон виднеется! Совсем рядом… давай, проверяй.
Ника всмотрелся в ту сторону, куда указывал брат. Там и вправду проступал сквозь туман некий предмет, большой и темный. Смутно проступал, толком не разглядеть. Алеша стоял к нему ближе, чем брат, и, возможно, мог видеть лучше.
По словам Митрошки, у Царь-жабы, как у любого себя уважающего монарха, имелся трон. Выглядел он как огромный старый пень – не палаты царские вокруг, болото все же.
Многие на болото ходили и пень тот видели, и он, Митрошка, ходил. Большой пень, основательный, так и Царь-жаба не мала, лягушиный князек рядом с ней – как воробей рядом с аистом. И они, Ника и Алеша, могут к пню сходить, если гать найдут. А саму-то Царьжабу по светлу не увидать, спит она днем, лишь по ночам появляется, если ее не потревожить, конечно. А вот пень посмотреть братья могут.
Тут уж даже Алеша возмутился: чего им ради в топьто лезть? Ради пня обычного? Уж они пней повидали…
Митрошка остался невозмутим. Пень тот не обычный, а огромадный, такой пень еще поискать. А главное – отметины там есть, на пне, от когтя Царь-жабы, по бокам весь тот пень изодран, и следы когтя хорошо видны. Тем когтем Царь-жаба цепляется, когда на трон залезть хочет.
Коготь же у нее всего один, и на одной передней лапе, на правой. Зато какой! По размеру как сплавной багор будет, только костяной и острее в десять раз. Да то по пню хорошо видать – дерево мореное, прочное, а взрезано глубоко, словно баклушка липовая.
Другая передняя лапа, левая, у Царь-жабы и того странней, – ну точно рука человечья. Все при ней, и пять перстов, и гнутся, где полагается, и ногти нормальные, плоские, с когтями не схожие. А почему оно так, Митрошке неведомо. Но Царь-жабы все такие были, у мельника Евдокима от той, что нашел, коготь уцелел, в жижу не обернулся. Он его к палке подвязал, и ведро из колодца доставал, если обронит, и многие тот коготь видели. Но потом отвязался и утонул невзначай, до сих пор, верно, в колодце лежит.
И еще одна особость у Царь-жабы имеется. Та лапа, что с когтем, у нее удлиняться может по хотению. Не безразмерно, но далеко – то лапа как лапа, а то выпрыгнет будто, когтем зацепит, и обратно втянется…
Позже, поразмыслив, Ника понял: выпрыгивающая когтистая лапа – очередной Митрошкин хитрый кунштюк: пусть-ка братья вспомнят, что у лягух язык тем же манером работает, сравнят, призадумаются…
Брат настаивал, и Ника нехотя тыкнул жердью в разводье совсем рядом с тропой, думая, что уж там-то до конца не уйдет. Дно там – вернее, верх жидкого илу, – виднелся в полуаршине от поверхности. Конец жердины коснулся того как бы дна и пошел дальше невозбранно, словно и нет там ничего, одна видимость.
Половина жердины ушла вниз без приложенных к тому усилий. Нике стало неприятно… Сделает он, или Алеша, лишь один ошибочный шаг – и так же ухнут в топь. Нет, неправильно, не то слово. Ни ухнут, и ни ахнут, и ни охнут… Разве что булькнут, – потом, пузыри пустив.
– Уткнулась? – спросил Алеша.
– Ежели бы… Сам держу.
– Ну так не держи, далее опускай…
Он стал опускать. Дна не было, сопротивления ила тоже. Вскоре над водой торчал коротенький, ладонью ухватить, огрызок жердины. Была и нету, вся там.
– А еще дальше? – не унимался Алеша. – Руку в воду спустивши?
– Зачем? Думаешь, еще на четверть лишнюю опущу, так и дно нащупаю?
Ему не хотелось макать руку в воду, тянуться к илистому дну… вдруг там и впрямь этакое… с когтем…
Умом он понимал, что ежели Царь-жаба не существует, то руку макать можно смело, а если паче чаяния существует, то достанет своим выскакивающим когтем даже тут, на гати, макай, не макай… Он все понимал, но руку в воду опустить не хотел.
Но Алеша настаивал, и Ника вдавил вниз торчавшее над водой и слегка, самую малость, обмакнул кисть руки. Вода была теплее, чем он ждал.
– Бечевку не взяли… – сказал Алеша. – Вторую б надвязали, и туда ж…
Нике идея не понравилась. Надвязали бы, и обе жерди канули бы, так что не вынуть… А Митрошка настаивал категорически, что нельзя тут ходить без слег – слегами он называл длинные палки, братьям такое слово было непривычно. Ежели в топь провалишься, первое дело поперек слегу бросать, за нее держаться, тогда не пропадешь.
В общем, хорошо, что не взяли бечевку…
И тут бечевка как на грех сыскалась в кармане у Алеши. Вернее, не совсем бечевка – бечевочная праща.
Алеша этим летом затеял освоить древнее искусство Давида, но после двух высаженных окон поостыл и теперь приискивал, кому бы пращу подарить или с кем сменяться.
Ника решил, что надо произвесть опыт: попробовать вытянуть первую жердину обратно. Решил – и потянул, не откладывая.
И тут произошло странное. На несколько вершков жердина вышла легко, а затем замедлилась, пошла туго и вовсе остановилась – всей своей силы Ника к ней покамест не приложил.
Он не мог взять в толк, что произошло… Кабы палку стиснули объятия болотного ила, так она и сразу бы не двинулась… А так пошла и словно бы потом зацепилась за что-то. Разумеется, внизу, в иле, может быть все, что душе угодно… Вот только зацепиться за «что угодно» палке решительно нечем… Гладкие жердинки у них, не только все сучки срублены, но даже кора с них ошкурена. Палку – там, внизу – можно было остановить, лишь за нее зацепившись, либо ухватившись. Большим острым когтем. Или лапой, напоминающей человечью руку.
Алеша не замечал раздумий брата – отложив свою жердинку, он разбирал пращу, спутавшуюся в кармане.
Ника не понимал, что ему лучше сделать: пытаться все же вытащить жердину, либо бросить и сказать брату, что застряла.
Ничего надумать он не успел – жердина ощутимо дернулась, опустившись примерно на вершок. Рука хорошо ощутила не то рывок, не то толчок, передавшийся по палке откуда-то снизу.
«Алеша!», – хотел крикнуть он, но ничего не получилось, с пересохших губ сорвалось нечто невнятное и негромкое, словно глотку стиснула чужая рука, не дозволяя проходить крику.
Палку вновь дернули снизу, и она утонула еще на вершок. Он вцепился двумя руками, держа изо всех сил, толчки повторялись, но он уже не пускал жердь вниз, не понимая, к чему это делает, но казалось, что отпустит – и случится… он сам не знал, что случится… ничего хорошего…
– Лешка! – сумел он наконец крикнуть.
– Погоди, узлом схлестнулась… не распутать… – досадливо откликнулся брат.
– Палку тянет! Из рук рвет!
– Ой, ври… Не тягаться тебе с Митрошкой, братец…
– Говорю же… – Ника осекся, сообразивши, что происходит.
Кто-то там, в глубине, отнюдь не пытался отобрать жердь, зачем она ему. Тот, кто сидел в топи, по жерди поднимался. Перехватываясь то когтем, то пятипалой лапой. Своим дурацким тыканьем в глубину он невзначай пробудил Царь-жабу.
Он увидел сквозь слой прозрачной воды: ил как раз у жердины начал горбиться, взбухать огромным нарывом… Что-то протискивалось сквозь жижу к поверхности, и немаленькое.
Ника завопил во весь голос. И толкнул жердину от себя, вниз.
Ил тут же пришел в подвижность, вода взмутилась на большом протяжении, став непрозрачной. Движение Ники никак не могло вызвать такие возмущения…
Он отпрянул на другой край гати, чуть не свалившись по ту сторону. И услышал громкий всплеск там, где стоял Алеша. Царь-жаба, вспугнутая движением Ники, метнулась туда… Он хотел крикнуть: «Спасайся!», но, едва поворотившись, увидел, что брата на гати нет. И рядом нет. Алеши вообще не было видно, лишь валялась наискось тропы его брошенная жердь.
Ника застыл. Он не понимал, что нужно сделать. Будь все на реке или озере, он уже нырнул бы на помощь, он умел глубоко нырять с открытыми глазами и долго задерживал дыхание.
Но здесь не река и не озеро. Сюда нырнув, никому и ничем не поможешь, только сгинешь рядом без толку…
Он сообразил, что надо протянуть жердь, чтоб Алеша мог ухватиться, но не мог понять, куда ее протягивать. Водная поверхность по левую руку от гати колыхалась на большом протяжении, волновалась, отражая что-то происходившее под водой, но где именно был источник возмущений, не понять.
Ника метнулся к жерди, чтобы попробовать наудачу нащупать брата, все же лучше, чем стоять истуканом.
Шагнул раз, два, – и вновь замер. Он увидел руку. Рука поднялась из воды по запястье и тянулась к нему. Возмущения воды прекратились. Рука торчала над гладкой поверхностью.
Жердина уже не была нужна, он мог бы дотянуться и так, не сходя с гати.
Ника медлил. Мгновения тянулись годами, но он медлил и не понимал, как брат оказался там, пронырнув сквозь топь…
Потом он услышал зов, призыв о помощи. Бессловесный жалобный стон. Он мог усомниться: как такое возможно, звуки из-под воды не доносятся, – но слышал и не сомневался.
По пальцам тянувшейся снизу руки пробегала легкая дрожь, и были они неправильного цвета, сероватосинего.
Он понял, что брата у него больше нет. Брата сгубила Царь-жаба, а сейчас доберется до него.
Ника бросился по гати назад, умудряясь чудом не промахнуться и не свалиться в топь. Жалобный зов о помощи преследовал и стал громче и настойчивее, но он уже не верил мороку.
Он почти выбрался, здесь уж было мелко и твердое дно, и он был в шаге от сухого, от болотных кочек, поросших мхом, когда почувствовал краем глаза какое-то движение сзади, он начал оборачивать голову на бегу и сумел заметить нечто длинное и загнутое на конце, стремительно рассекшее воздух, но больше не успел ничего, и туманное утро сменилось для Ники бездонной черной ночью.
Он рухнул на самой границе двух сред, ноги остались в воде, остальное тело на суше, и лежал недвижно. Лужица крови плеснулась из его головы на зеленый мох. Рядом, у самой щеки, случилась коряга, и часть крови пала на нее.
Коряга была черная, затейливо перекрученная и изогнутая, и торчавшие из нее заостренные отростки напоминали рожки: словно выполз из топи многорогий болотный гад, – и решил полакомить себя свежей кровью.
I Каин
Под утро приснилось, что он снова в Ливорно. Это мог быть любой из средиземноморских городов: узкие улочки, прокаленные солнцем, двухэтажные желтые домишки с крохотными балкончиками, никаких примет, позволяющих определить место… Но там, во сне, стоя на неровных, разнокалиберных булыжниках мостовой, он знал точно: Ливорно.
Где-то невдалеке было море, он не видел его, не поворачивал взгляд в ту сторону, но чувствовал ни с чем не сравнимый запах, некий cocktail de la mer из легких ароматов морской соли, и корабельной смолы, и высыхающих на берегу водорослей…
Но он не смотрел на море. Он смотрел вверх. Потому что на балкончике, прямо у него над головой, пел карлик – гнусная, богосквернящая пародия на человека. Тельце искореженное, перекошенное; ветхое и неимоверно грязное рубище доходило до середины бедер, едва прикрывая срам, – вот и вся одежда. Босые ножки карлика, казалось, побывали в руках безжалостной прачки, скрутившей их тугим жгутом, словно досуха выжимая белье, да так и оставившей.
Лицо же уродца… На лицо он почему-то не мог взглянуть или не желал: взгляд скользил по искривленным ногам, по заплатам рубища, – и не поднимался выше. Да и ни к чему: он спешил… Не знал и не помнил, куда и зачем, однако спешил, и надо было уходить с этой улочки, но подошвы будто прилипли, намертво приклеились к раскаленной мостовой.
Потому что карлик пел. И как пел!
Слов он не смог разобрать, не угадывал даже язык – точно не итальянский и не латынь, да и не в словах дело… Завораживал, не дозволяя сойти с места, голос отвратного создания: высокий, чистый, играючи бравший самые трудные ноты… Ангельский голос. Словно и впрямь где-то на крыше, за трубой, притаился певший ангел, – а уродливый бесенок, передразнивая, открывал рот да воздымал руки над головой.
Он слушал. Пение становилось все громче, а мелодия – все тревожнее. Тени домов сгустились, выхватывая, вырезая из мостовой куски – пятна непроглядного мрака. Солнце палило нестерпимо. На желтые фасады – сверкающие, ослепляющие – было не взглянуть. И – никого, ни единой живой души на странной улочке, лишь одинокий слушатель концерта на непонятном языке, застывший на границе света и тени.
Он понимал: надо уйти, и немедленно, и понимал другое – не уйдет. Нет отсюда путей.
Карлик взял вовсе уж высокую и громкую ноту, нестерпимую для уха. Тянул и тянул – долго, бесконечно долго, так не сможет никто из рожденных под небом, не хватит воздуха в легких… Голос уже не казался принадлежавшим ангелу, разве что падшему.
Он хотел крикнуть: «Замолкни! Прекрати!» – но остался безгласен.
Терпеть далее не было никакой возможности, и он понял, что не выдержит, что голова сейчас развалится на куски от демонического крещендо.
Но вместо того не выдержал город, да и весь окружающий мир. Небо от зенита до горизонта раскололось, расселось огромной черной трещиной, словно на небесные сферы обрушился исполинский колун, сжатый неведомо чьими исполинскими руками.
За трещиной не было ничего, черная бездонная пустота. От нее поползли в стороны, зазмеились новые трещины, раскалывая и небо, и землю, и до сих пор невидимое море… Солнце разлетелось на пылающие осколки.
И они погасли. Дома проваливались в черную пустоту, проваливалось и исчезало все, и скоро не осталось ничего – лишь он и дьявольское пение, уничтожившее все сущее…
Потом он тоже перестал быть. Потом проснулся.
Бричка стояла. В щель раздернувшегося полога сочился рассвет. Снаружи лениво и без азарта переругивались два голоса, причем один был южнорусским, с малороссийской мягкостью произносил согласные. Другой явно принадлежал местному туземцу-чухонцу. Он не знал, зачем это определил… Машинально, по привычке.
Даже не вслушиваясь в суть разговора, он понял: бричка на станции, и ругаются ямщики. Судя по рассветному часу, станция Пулковская, последняя перед столицей. Поспать удалось чуть более трех часов. Не так уж плохо для тряской дороги…
За много лет он выработал привычку: вставать сразу же, едва пробудившись. Даже когда поспал мало. Телу лучше знать, в чем оно нуждается. Нужен сон – тот придет даже под пушечную канонаду. А ежели не пришел или рано ушел… Значит, не так уж нужен.
Возможно, с годами, ближе к старости, теорию придется пересмотреть. Возможно, пузырек с лауданумом станет верным и надежным спутником… Но он допускал такую перспективу лишь умозрительно и в глубине души был уверен, что до старческой немощи, – а вкупе с ней до отставки и пенсиона, – не доживет.
Едва начнет сдавать: ослабнет рука, или близорукость поразит зрение, или, что всего хуже, утратится не раз выручавшее чувство опасности, – тут-то все и закончится. Оно и к лучшему… Старости он побаивался. Он не знал, как с ней бороться, а ежели бы и знал, все равно проиграл бы. Но лет хотя бы с пяток еще прожить надеялся – днями, на Сорок воинов-мучеников, ему сравнялось сорок семь. Для его поприща – долгожитель, патриарх с Мафусаиловым веком…
Лошади оказались выпряжены. Северьянов куда-то отлучился, а рядом вяло переругивались двое, спор шел о деньгах, но в суть он вникнуть не успел, – при виде его спорщики тут же смолкли.
Ямщиком, вопреки первому мнению, был лишь один из них, из местной чухны, из водской, – от русского по виду не отличить, но говор выдает.
Зато второй сразу вызвал подозрение… Казак, лет тридцати, по виду не увечный, – что он делает здесь, вне полка? В военное-то время?
Обувь с одеждой скорее приличествуют верхнему Дону, или же среднему: на ногах мягкие, без каблуков, сапоги-ичиги и синие казачьи шаровары, но в них заправлена русская рубаха, а низовые казаки предпочитают носить вместо нее бешмет… Меж тем тип внешности более характерен для низовых, чьи предки нередко мешали кровь с турчанками да черкешенками: черноглазый брюнет, и по лицу ощущается присутствие азиатских кровей… Да и говор не верховой.
Казак был непонятный.
Он же всего непонятного не любил – и спиной, не разобравшись, к непонятному не оборачивался.
Примолкнувшие спорщики от его пристального взгляда повели себя по-разному. Ямщик бочком, бочком, да и в сторонку. Казак остался на месте, смотрел без смущения.
– Кто таков? – спросил он, мысленно составляя словесный портрет казака и сравнивая, опять же мысленно, с теми розыскными листами, что помнил.
Память у него была безупречная, многие завидовали. Но не вспомнилось ничего определенного, а под общие приметы многих подвести можно… Не слишком-то благонадежен портрет словесный в видах опознания, – в отличие от маслом писаного, так ведь на каждого Ваньку-душегуба живописцев не напасешься. Эх, вот придумали бы затейники-немцы механизм, чтобы сам парсуны человечьи писал, да не долгими часами, а разом: дернул рычажок, повертел ручку, – и вот он, твой Ванька: и с лица, и с профиля, и в полный рост… Цены бы такому механизму в розыскных делах не было.
Казак приблизился, доложил бодрым голосом:
– Полка Кутейникова урядник Иван Белоконь, ваш бродь! Ныне в своекоштном отпуску для поправления здоровья.
Он не стал поправлять и растолковывать, что обращаться к нему следует не «ваше благородие», а «ваше высокоблагородие», – ни к чему служивому голову гражданскими чинами забивать.
– Ранен? Под Перекопом? Иль под Гёзлевом?
Вопрос был с подвохом, из двух названных дел казаки Кутейникова участвовали лишь в первом.
– Никак нет, вашбродь, в сеголетошной кампании не довелось. В минувшей был в деле под Бендерами, так и там Господь сохранил. В Лисаветграде, на зимних хвар терах, занемог: гнили и ноги, и грудь. Божьей милостью едва выживши… На поправку пошел, да ослабший стал дюже, и от службы на год отставлен.
Звучало все складно. Но одежда, не соответствовавшая типу лица и говору, оставалась темным пятном.
– Кутейников… Кутейников… – сказал он раздум чиво, словно припоминая. – Кутейников Ефим…
Он замолк и прищелкнул досадливо пальцами, словно и впрямь позабыл, как величают полкового командира. Тут бы казаку и помочь, подсказать, ан нет, – молчал. Он спросил сам:
– Как по батюшке-то полковник ваш будет?
– Дык… Ефим Митрич они…
– Точно… Худая память стала, дырявая… Сам-то откуда?
– Станица Глазуновская, что на реке Медведице.
Все правильно, в полку Кутейникова тамошние казаки и служат… И он спросил напрямую:
– А раньше где жил?
– Дык аксайские мы спервоначально… Батька с Ми нихом Хотин-город воевал, там и сгинул, когда мамкаеще мною тяжела ходила. Через семь годков вдругорядьзамуж вышла, за глазуновского казака, туда и перебра лися.
Теперь все совпало и сложилось. Но раз уж начал, так следует и последнюю неясность прояснить: каким ветром занесло болящего казака в питерские палестины?
Он спросил, и Иван Белоконь доложил, по-прежнему без запинки: добирается, дескать, чтобы повидаться со старшей сестрой, с Феклой, семь годков уж не видались. Та здесь замужем за приказчиком купцов братьев Глазьевых.
Ишь, как брат к сестре прикипел, через пол-России к ней поехал… Впрочем, случается. Тем более что рос с отчимом, да еще на новом месте, среди чужих людей. Не диво, что ближе сестры никого у подрастающего казачонка не было.
Складно, складно… Да вот только вступил казак в еще одну ловушку, сам того не заметив.
Купцы-то Глазьевы старой веры держатся… И приказчиков подбирают из единоверцев. А тем жениться на никонианке – такого и представить нельзя. Все бы ничего, на Дону старообрядцев с преизбытком, и не его то забота, пусть ими Синод занимается. Но…
Но казак осенил себя крестным знамением – машинально, сам не заметив за разговором, – когда упомянул Господа и свое исцеление. И перекрестился троеперстно.
– Из староверов будешь? – спросил он, уверенный, что казак уже не помнит свой машинальный жест.
И узнал, что урядник Иван Белоконь веру сохранил отцовскую, православную. А вот сестра, та перешла к старообрядцам-поповцам, по их чину молится… Но он, Иван, так полагает: Господь един для всех, и в рай всех праведных пустит, кто б как пальцы в знамении не складывал…
Последние сомнения отпали: казак был правильный.
– Бумаги-то в порядке? – спросил он уже для проформы.
– В порядке, вашбродь, – отрапортовал Белоконь, и даже потянулся рукой за пазуху, решив предъявить.
– Оставь, – махнул он рукой.
Не будь бумаги в порядке – не добрался бы казак сюда с южных краев. Разумеется, можно пересечь всю Россию хоть вдоль, хоть поперек, – без паспорта, без подорожной, вообще без единого документа. На каждом проселке рогатку не поставишь… Вот только появление на почтовых станциях при такой методе передвижения категорически исключается.
Тем временем подошел Северьянов и слабым, едва слышным голосом доложил:
– Беда… лошадей нет… и смотритель запил…
Дожили… Ближайшая к столице почтовая станция, между прочим.
– А я совсем плох, – продолжил Северьянов. – Думал, и сюда не доеду… Свалюсь, думал, с козел и помру…
Болезнь и впрямь развивалась стремительно: ввечеру выглядел унтер слегка занемогшим, а сейчас – больным до крайней степени. Щеки ввалились, на скулах алые пятна, глаза воспаленные…
– Ноги не держат, ва… барин, – пожаловался Северьянов; как ни был он плох, а в последний момент со образил, сглотнул «ваше высокоблагородие» и заменил на «барина». – Знобит, в голове черти горох молотят…Подвел я вас, барин.
Он задумался на мгновенье: тащить с собой Северьянова неразумно. Да и службу кучерскую тот уже не справит, не в силах. Но и бросать его тут, на попечение запившего смотрителя, не хочется.
– Не винись, Никифор, с любым случиться может.
Он приучал себя – и уже начало получаться – обращаться к Северьянову по имени, всегда, – и на людях, и наедине. Потому как барин, называющий кучера по фамилии, выглядит как белая ворона в стае ворон обыденных, серо-черной расцветки.
Только вот борода, приказ отпустить кою Северьянов получил из тех же соображений, покамест лишь портила дело: толком еще не выросла, выглядела длинной и густой щетиной, и напоминал якобы кучер более всего… ну да, беглого солдата. Теперь, с учетом новаций минувшей ночи, – изрядно занедужившего беглого солдата.
– Приляг в бричку, отдохни, – скомандовал он. – Я со смотрителем потолкую, вдруг да протрезвеет… А ежели фельдшер или доктор невзначай среди проезжих есть, к тебе пришлю.
Он бы мог и сам сесть на облучок, управился бы. Нельзя… В мундире чиновника восьмого класса – ни в коем разе нельзя. Всякий, увидев такое, изумится и запомнит надолго.
Тут в разговор вмешался казак Иван Белоконь. При появлении Северьянова и видя, что вопросов у «вашбродя» как будто больше не имеется, казак отступил в сторону, но далеко не ушел. Занял промежуточную позицию: вроде как и не участвует в беседе с кучером, просто так тут стоит, воздухом свежим дышит, – но все слышал и все видел. А теперь вмешался:
– Так околодок же тут есть фелшарский, вашбродь! Во-о-н тамочки, за своротом, за ольхами не видать. И четверти версты не будет…
Раньше никакого околотка тут не имелось… Но все в жизни меняется, а он давненько не был в столице.
Он испытующе посмотрел на Белоконя, начиная понимать, отчего тот не уходил, хотя интерес «вашбродя» к его персоне по видимости иссяк. Урядник, понятное дело, по недостаточности средств ни на почтовых, ни на обывательских ездить не может. Добирался сюда с оказиями, на козлах с ямщиками, за малую плату.
Но здесь развилка, влево уходит дорога на Софию и Большое Кузьмино, – тот, кто довез сюда Ивана, туда свернул. А казаку бить ноги целый перегон не хочется, и он договаривался с чухонцем, да в цене не сошлись. И тут, как дар небесный, «вашбродь» с серьезно занедужившим кучером, – можно не только добраться бесплатно, но и подзаработать малость.
Северьянов, услышав про фельдшера, не стал спешить забраться в бричку, а казак, не догадываясь, что взвешен и измерен, неверно истолковал значение пристального взгляда.
– Не извольте сумлеваться, вашбродь, в лучшем видеоколодок: подфелшар там нашенский, не дохтуришка немецкий, от великого ума не залечит. Пьет крепко, но вечерами, а на службе блюдется. И знающий: хошь те кровь отворит, хошь рожки поставит, и снадобьев с ма зями полка цельная.
Ты-то откуда то ведаешь? Не иначе как пьянствовал ночью со знающим подфельдшером, не имея где заночевать…
План действий вырисовывался такой: сначала смотритель и лошади, потом – Северьянов и околоток. Завтрак и все утренние процедуры отложить до прибытия, время раннее, а перегон невелик. Но вопрос с кучером надо решить немедля.
– Слушай меня, казак. Я сейчас лошадей раздобуду, а ты соберись. Свезешь нас до околотка, потом меня – в город. Четвертак серебром. И водка с расстегаем в «Трехруках». В меру водки, в пропорцию.
Глаза у Ивана были черные, с бесинкой. И в них сейчас отчетливо заплескалась радость. Но лицо казак постарался сделать обиженное: как так, дескать, грех за такие труды сулить меньше полтины – столица тут уже под боком, чай, и цены уже столичные…
Торговаться не хотелось, и он сказал, упреждая:
– Ежели мало – иди, с чухной дальше толкуй. Я подменного ямщика дождусь, он хоть дороже, зато казна заплатит.
– Эх, вашбродь… Домчу ласточкой!
– Тогда собирайся.
– Дык нищему ж собраться, только подпоясаться. Тючок торочный у меня в ямщицкой стоит, – казак кивнул на дверь, – вот и весь пожиток.
– Ну так забирай…
И он двинулся к смотрителю, прихватив лежавший на облучке кнут. Кнут у Северьянова был не простой, хоть выглядел как обычный ямщицкий. Но погонять лошадей им надлежало с осторожностью, чтобы за перегон не истиранить животин до смерти.
И в беседе со смотрителем усердствовать не следовало. Чтобы не убить первым же ударом.
…Люди пьющие манерой своего утреннего поведения делятся на два разряда. Одни поутру спят, не добудишься. Другие, их меньше, в долгом сне не нуждаются: просыпаются ни свет ни заря и начинают промышлять опохмелку, докучая желающим поспать просьбами о чарке или деньгах, если же достаточны, – о компании.
Титулярный советник Ларионов, пулковский станционный смотритель, принадлежал ко второму разряду. И вместе с тем к подразряду питухов достаточных: перед ним уже стоял водочный штоф, – большой, осьмериковый, и едва початый.
Компании Ларионов не искал. Пил в одиночку, и пил уже несколько дней, судя по валявшимся вокруг штофам и полуштофам. Судя же по тяжелому духу, не проветривал, не мылся и не менял белье он столько же. Здесь смотритель все эти дни пил, здесь и спал, – ненадолго прикладывался на покрытый кошмой топчан и вновь вступал в борьбу с зеленым змием.
Лет Ларионову было немало, и изрядную их часть станционный смотритель посвятил служению Бахусу, отчего выглядел еще старше…
Под глазом у титулярного советника красовался огромный синяк, полученный, судя по оттенку, дня три назад. Сомнений нет – как бы ни развивался запой, манкировать своими обязанностями Ларионов начал уже тогда. И, видимо, был подвигнут на их исполнение, – можно пари держать, гвардейцем, едущим по казенной надобности. Военные-армейцы тоже не сахар для нерадивых смотрителей, но руки сразу не распускают.
А сегодня титулярному советнику не повезло еще сильнее…
В качестве увертюры к разговору кнут рассек воздух и хлестнул по штофу. Тот был добротный, с толстыми стенками, но разлетелся так, словно был бокалом ажурного муранского стекла… Чему удивляться не стоило – ежели умеючи махнуть, а он умел, то вшитая в кончик кнута пуля летит со скоростью пистолетной.
Штоф развалился. Сильно запахло водкой дурной очистки. На столе случился маленький потоп: смыл крошки, подтопил объедки и всерьез угрожал жизни двух невезучих тараканов.
Ларионов не издал ни звука. Разинув рот, он глядел на водочный потоп с ужасом и изумлением, словно Ной-пропойца, забывший по пьянке Божье повеление и не построивший ковчег. Здоровый глаз у Ноя Ларионова широко распахнулся, и даже щелочка другого глаза, подбитого и заплывшего, стала чуть шире.
Затем глаз и щелочка уставились на владельца карающего бича. Ужаса на лице Ларионова стало меньше, но не терпящая пустоты природа немедленно возместила ущерб лишней порцией изумления.
Наверное, смотритель ожидал увидеть очередного гвардейца. Но увидел человека в мундире всего лишь Коммерц-коллегии, чиновники коей не славятся рукоприкладными выходками.
Но не объяснять же, что мундир никакого отношения к занятиям своего владельца не имеет, и выбран лишь ввиду того, что меньше вызывает подозрений: контора у Коллегии расквартирована в Москве, три экспедиции – в Санкт-Петербурге, а чиновники по разным надобностям разъезжают по всем губерниям, примелькались…
Объяснять не надо. Кнут все растолкует лучше.
И растолковал… Еще один свистящий взмах – и плетеная кожа змеей обвила ножку стула и буквально-таки выдрала его из-под смотрителя.
Затем началась процедура протрезвления, вразумления и возвращения к служебным обязанностям, и, возможно, даже к семейному очагу, ежели таковой у пропойцы еще сохранился… Проще говоря, началась порка.
Хватило десятка или чуть более ударов – аккуратных, пуля ударялась об пол рядом с телом, а плетеный кончик рвал мундир и портил кожу, но плоть до кости не рассекал. Когда смотритель вспомнил о своем дворянском достоинстве и о том, что таковое никак не предполагает телесных наказаний, и даже попытался сформулировать сию мысль, и даже был близок к успеху, – он решил, что достаточно. Вовремя подошел, что ни говори. Осилил бы смотритель с утра хоть полштофа, его уже ничто бы не проняло…
Он прекратил экзекуцию, позволил Ларионову – покрасневшему и встрепанному – подняться на четвереньки, а затем и на ноги.
Взял за шиворот, подтащил к часто забранному окну, показал на двор.
– Бричку видишь? Вели заложить курьерских.
Ларионов, только что лицом напоминавший сваренного рака, побледнел. Стоял, растерянно переводя взгляд с брички на кнут. Затем попытался обяъснить дрожащим похмельным голосом, очень вежливо и осторожно, чем может грозить не только ему, но и чиновнику Коммерц-коллегии самовольное распоряжение лошадьми, предназначенными исключительно для фельдеъгерской службы и для важных персон, в генеральских чинах пребывающих.
Тут не просто в отставку пойти придется, с позором и аннулированной выслугой, – а у него до пенсиона недостает всего пяти месяцев. Тут, милостивый государь, еще и несомненный визит в Петропавловку предстоит. В гости к обер-секретарю Шешковскому. А от этого господина, бывает, и баронессы пешочком домой уходят, когда он их отпустить соизволит. Потому что в карету сесть не могут. И вообще сесть не могут, стоя потом кушают и спят на животе немалое время.
Так что выбор у него, у смотрителя Ларионова, простой: порка обыденная либо порка с лишением пенсиона, за который он четверть века страдал на проклятой своей службе.
Вывод из сей речи не прозвучал, но подразумевался: хоть засеки, а курьерских не дам.
Степан Иванович будет доволен, когда услышит эту историю. Обер-секретарь Сената и фактический глава Тайной экспедиции потратил немало времени и сил, чтобы создать именно такую репутацию своей службе.
На самом же деле, ежели собрать всех дворян, якобы пострадавших от кнута «инквизитора», а слухами о пострадавших полнятся и обе столицы, и губернии, – собрать и заголить им якобы пострадавшие места, наплевав на приличия, то выяснится странное и удивительное… А именно то, что все свои показания они давали, даже пальцем не тронутые, – запрет государыни соблюдался строжайшим образом.
Иногда хватало просто мрачного вида казематов Петропавловки – не без задней мысли выбирал Степан Иванович место для присутствия, – и кнута, лежащего на столе… Иногда, для упорствующих, за тонкой перегородкой в соседнем помещении разыгрывали спектакль: кто-нибудь из нижних чинов хлестал арапником мешок с отрубями, а коллежский регистратор Пивобрюхов, талантом к лицедейству не обделенный, поначалу жалобно и натуралистически стонал, потом начинал вопить во весь голос… На том ломались даже записные упрямцы.
Сам он вступил в службу еще при Ушакове, когда кнут и впрямь был в чести, и даже баронессам, действительно, порою доставалось: иногда, как сегодня, приходилось вспомнить былое и напомнить другим, – но лишь вдали от присутствия и в мундире чужого ведомства… Рассказывать правду о нынешнем положении дел Ларионову он не стал. Нельзя, да и не поверит. Достал из потайного кармана бумагу, развернул перед носом смотрителя. Скомандовал:
– Читай.
Титулярный советник ко всему прочему был близорук: сощурил правый, здоровый глаз, забегал взглядом по строчкам… Документ предписывал выдавать его предъявителю лошадей вне очереди, а при нужде и курьерских, для фельдъегерской службы и генералов предназначенных, – а в книгу станционную проезжего не вписывать.
Предъявителю меж тем показалось, что Ларионов суть документа уже понял, и теперь внимательно изучает лишь одну строчку… Имя запоминает, наябедничать решил, пропойца.
– Не туда смотришь. Сюда смотри – на печать и на подпись.
Подписали бумагу двое: генерал-прокурор Сената князь Вяземский и обер-секретарь Шешковский.
А на вписанную в документ фамилию и впрямь внимание обращать не стоило… Таких документов и таких фамилий он сменил множество. Назови ее кому в Экспедиции – не поймут даже, что речь идет об их сослуживце… Зато прозвище Каин все и всем объянсит.
Каином его прозвали коллеги, прозвали за глаза, не решаясь произнести в лицо, но он знал о том, разумеется. Прозвище придумано было ими лишь за отметину – за шрам, спускающийся с головы на висок. Но оказалось уместным, и не только за шрам.
За Авеля тоже.
II Беглый
От Пулкова дорога шла под гору, бричка катила легко. Да и лошади курьерские не шли в сравнение с обычными подменными. Человек, назвавшийся Иваном Белоконем, правил ими с удовольствием, век бы так ездил…
Но иногда бег резвых лошадок замедлялся, – когда названый Иван оглядывался на полог брички и призадумывался: а кого он, собственно, везет? Придумать ничего не удавалось, и не понукаемые животины сбавляли ход…
Уже на станции он заподозрил, что ахсесор – личина, прикрывающая истинное нутро. Точно так же, как его самого скрывает от мира личина умершего Ивана.
Ну с чего бы, растолкуйте, устраивать чиновнику купеческих дел допрос случайно повстречавшемуся казаку? И зачем ему, чиновнику, знать, как величают по батюшке полкового командира Кутейникова? У чиновника, будь он взаправдашним, иные заботы должны быть, и познания совсем иные…
Пытал вашбродь «Ивана Белоконя» с умом, с подковыркой… Так и на съезжей вряд ли пытают… Едва отвертелся, не сбился, не спутался, благо и Иван ему не чужим был, и отчасти сегодня не Иванову, а свою жизнь пересказывал.
И кучер тот ряженый… Не в бороде даже недорощенной дело, бороду и на пожаре опалить недолго. Но даже когда отрастет борода, кучер на кучера будет походить, лишь сидя на облучке. Потому как с утра плох совсем был, едва по двору станции брел, – но все равно походкой не крестьянской. Не за плугом ему ходить доводилось, и не навоз в хлеву лаптями топтать. На плацу его гоняли, заставляли носок вытягивать да всей подметкой об землю бить… И самого, небось, шпрутенами били, за непонятливость… Крепко та наука въелась, ничем не вытравишь. А на отслужившего свой срок и подчистую уволенного кучер не похож, слишком молод. Да и не стараются отслужившие солдаты крестьянами притворяться – напротив, всем видом своим подчеркивают, что не землепашцы они и не курощупы, а герои отгремевших баталий, отставные воины государыни… Армяк или зипун отставник не наденет, невместно ему. Этот же – надел и вид делает, что и службы не знал, и шпрутенов не нюхал.
А уж когда его как бы барин за кнут схватился и к смотрителю пошагал – все сомнения растаяли: не тот, совсем не тот, за кого себя выдает. Не можно ахсесору кнутом титулярного учить, не по чину.
Генералы – особливо из молодых, кто волею государыни-матушки из поручиков да штабсов на самые верха вспорхнули – те могут, тем законы не писаны, они их сами сочиняют да государыне на подпись несут. Но ахсесор занюханный?! Не бывает…
В ту минуту названый Иван не выдержал, тишком прошел в станцию. И слышал через дверь: вашбродь без дураков, взаправду станционного лупцует… Не для блезиру кнут прихватил.
Он, за дверью стоючи, не стал дожидаться, чем та наука завершится. Вернулся к бричке и призадумался: с кем же таким-энтаким нелегкая дернула связаться? Не лучше ли отказаться, пока не поздно, – маловато, дескать четвертака-то, – и дай Господь ноги от беды подальше?
Порешил остаться. Он в последний год все чаще и чаще принимал решения рисковые, пытая судьбу: да или нет, орел или решка? Раз за разом выпадал орел. Судьба-судьбинушка словно предлагала сыграть по-крупному, поставив голову на кон, и сулила великий выигрыш… Он не понимал, чего ждет от него судьба или к чему подталкивает, он метался и искал ответ у знающих людей. Люди говорили разное и не могли взять в толк, что он ищет… В лучшем разе ответ сводился все к тому же, что сказал старый фелшар в Лисаветграде, задумчиво разглядывая шрам странной формы на его груди: «Ну чисто царский орел о двух головах… Пометила тебя судьба, братец, ох пометила… Для великих, знать, дел жизня твоя сохранилась…»
Он и сам понимал, что помечен. Избран. Не мог добиться – для чего…
И сюда, на Пулковскую станцию, занесли все те же поиски ответа… Насчет сестры он солгал, сестра жила в Таганроге, и к питербурхским купчинам-мануфактурщикам Глазьевым его вела другая планида… Глазьевы держали связь со скитами Севера, с мудрыми старцами, ушедшими в затерянные пустыни… Может, те знали ответ? Касаемо своей веры он ихбродю не врал, но вырос в таких местах, что мог перекреститься и на тот манер, и на этот, и к иконе при нужде мог подойти по старому чину, подозрений не вызвав… Он взаправду считал, что Господь примет всех, не разделяя на никониан и раскольников.
Вот только помогут ли старцы сыскать, наконец, путь и предназначение? Уверенности не было, но куда еще податься, он пока не знал.
Началась его дорога, – извилистая, как полет летучей мыши, – несколько месяцев назад, в гарнизонном гошпитале Лисаветграда…
А до того, до тридцати почти лет, жил он самой обычной жизнью, как жили деды и прадеды на вольном Дону от века. На двадцатом году попал в службу, и пошло, как заведено: три года в полку, потом два года в станице на внутренней службе, потом снова в полк…
В первый же строевой срок подгадал на войну с Фридрихом, под самый ее конец. Больших баталий не случалось, но в поиски ходил и саблю с клинками прусских гусар скрещивал, был отмечен в приказе…
Вернувшись в станицу, засватался и женился – на есауловской казачке Софье, до службы он не с ней миловался-дролился, но та не дождалась. Любви большой меж ними не было, однако жили ладно, баба попалась годная, и по дому работящая, и все при ней. В положенный срок родили сына, – а потом снова в полк, в Польшу.
Большая война вновь прошла стороной, да и не было там такой войны, как минувшая, – то тут полыхнет, то здесь, но пожар покамест не занимался, а они с командой объежз али селения староверов, давно там обосновавшихся, и склоняли – кого лаской, кого таской – возвращаться из-под польского орла под расейский: одна голова хорошо, но две-то лучше, всем ведомо… Иные соглашались, иные нет. Кое с кем из старообрядцев свел знакомства, и позже они пригодились.
Жизнь катила по наезженному кругу: вернулся в станицу, заделал с Софьей девочку. Сам желал сына, второго, с одним-то, пока взрастет, разная напасть стрястись может, их-то вон у матушки шестеро мальчиков родилось, а до возраста только двое дожили… Но случилась дочка.
А чуть погодя случилась война с турками, – нынешняя, доднесь тянущаяся… И вновь в полк, но теперь и полк, и он угодили в самое пекло.
Воевал справно, славу предков и Дон не посрамив. Стал подхорунжим, а после и хорунжим, за Бендеры получил личную благодарность графа Панина и рубль серебряный из графских рук принял за отвагу. Хотел на память тот рубль сберечь, да не сберег, пропил.
Обыденная жизнь обычного казака… И завершилась бы, как у всех: сложил бы голову в чужом краю, а то и уцелел бы, дожил до седин и выписался бы со службы, дождался бы внучат, рассказывал бы им про свои подвиги и про графский рубль…
Но все пошло иначе. Не то что голову не сложил – царапины не получил в жарких схватках с турками и крымчаками. А в Лизаветграде, на зимних хвартерах, не уберегся. Такая хворь скрутила, что отходил, к смерти готовился… Не его одного скрутила, в щелястом бараке полковой больнички вповалку лежали сорок с лишком душ, а рядом срочно сколачивали барак новый, для вновь заболевших… Говорили, что армия подцепила неведомую заразу от турок, басурманы тоже мерли, как мухи по осени.
Он умирал. Причастился святых даров у полкового священника, вместе с другими отходившими, – так рассказывали, сам он не помнил, и отходную молитву, над ним прочитанную, не услышал.
И умер. И пролежал два дня в холодной, и был отпет с другими в полковой церкви, и сгорела, среди прочих, тоненькая заупокойная свеча – его свеча…
Нижних чинов хоронили вповалку, в общей яме. Ему, как хорунжему, полагалась домовина, – пусть и плохонькая, из гниловатых досок слаженная.
Когда приколачивали крышку, он застонал. Негромко, но его услышали… Позже он иногда задумывался: кому достался тот гроб, где он успел полежать?
Из сорока с лишним душ, умиравших в больничке, выжил он один. Был отпет, чуть не зарыт, но выжил… Лекаря дивились. Он медленно шел на поправку, потом еще медленнее восстанавливал силы, на войну полк ушел без него.
Хворь оставила свои метки – два шрама на грудях от лопнувших язв, и на лядвеях, у паха… А еще – наверное, что-то лопнуло в голове, и снаружи шрам не был виден.
Трудно остаться тем же, умерев и воскреснув… В списки полка, откуда был вычеркнут, его вновь вписали… Вписаться в размеренную жизнь допрежних времен он не смог.
Он не понимал, для чего оставлен жить… Но свято верил, что есть в том некий скрытый смысл и надеялся до него докопаться. Одно знал точно: жить, как прежде, не сможет.
Он испросил и без труда получил отпуск. На месте не сиделось, а в станицу возвращаться резона не видел: он – прежний он – умер, и Софья теперь вдова, а дети сироты… Он не знал, послала ли полковая канцелярия родным письмо, опровергающее известие о его смерти… Ему было все равно.
Поехал в Таганрог, не зная куда еще ехать. Там жила сестра, и муж ее с ходу втравил шурина в рискованную затею, попахивающую кандалами и Сибирью… Он, не задумываясь, тогда в первый раз сыграл в орлянку с судьбой, – без страха и сомнений, умершему и отпетому пугаться нечего.
Ему в тот раз выпал орел – попал в розыск, но сумел скрыться. Зятю и его дружкам выпали кандалы и решетка.
Потом было разное… Он стал беглым – одним из многих, бредущих по стране невидимыми тайными тропами куда-то по своим потаенным делам.
Он не брел. Он метался, не зная толком, куда ему надо попасть и к чему надо стремиться… Не единожды его ловили, но всякий раз он умудрялся вскоре сбежать. Судьба манила постоянной удачей, судьба намекала на ждущие его великие дела – но он не мог понять, на какие…
Спустя месяц после Таганрога он убил человека. Впервые убил не в бою, не на войне, – ради валенок и полушубка, чтобы не замерзнуть в холодной весенней степи, еще покрытой снегом.
В понятиях его прежнего то был грех и грех непростительный. Он новый не терзался ни мига: Господь сохранил не для того, чтоб окочуриться от мороза, и все сделано по справедливости.
Убивал и после, но лишь при нужде… Корысти в том не было. Но если бы он понял, в чем его стезя, и понял бы, что для пути по ней требуются деньги, – прикончил бы, не задумываясь, хоть тысячу человек, по алтыну за перерезанную глотку.
Его искали, и искали все с большим тщанием, розыск шел не только на Дону, но и по всем сопредельным южным губерниям. Он подумывал уйти в Азию, но однажды проснулся и двинулся в другую сторону – в Польшу. Там уже полыхала война, настоящая, не былые стычки. Он нашел знакомцев-староверов, те, как и прочие, не смогли помочь, но дали совет о северных скитах и братьях Глазьевых…
Он сомневался, что сможет забраться так далеко тайными тропами. Места чужие, незнакомые, и люди живут другие, он будет там белой вороной, издалека заметной…
И тем не менее двинулся в путь. Он начал уставать от своих бесплодных метаний. Заарестуют – значит, судьба шутковала, заманивала, чтобы под конец монета упала решкой…
Монета в очередной раз упала орлом. На постоялом дворе под Воронежем он случайно встретил сослуживца и своего доброго знакомца, урядника Ивана Белоконя, – расстались они в Лисаветграде и о позднейших художествах однополчанина Иван ничего не ведал. Урядник тоже был в долгом отпуску, бумаги имел в порядке, а возраст и приметы у них оказались схожие. Повторилась история с полушубком. Белоконь не мог не умереть.
Когда Иван умер, он забрал бумаги, а окровавленное тело оттащил подальше от дороги, густо завалил хворостом, надеясь, что дальнейшими похоронами займутся лесные зверьки.
И стал жить как Иван Белоконь. Он считал, что так справедливо. Кто-то из мертвых однополчан забрал его домовину, пусть худую, из гниловатых досок, но его. А он забрал бумаги мертвого однополчанина, все справедливо, каждый берет, что нужнее.
…Чем больше раздумывал названый Иван о сегодняшней встрече на Пулковской станции, тем вернее приходил к мысли, что она не случайна. Случайностей вообще в жизни не бывает, все Господом продумано наперед и подчинено единому плану, лишь мы, грешные, не всегда понять тот замысел в силах. Даже чаше всего не в силах.
Но здесь-то все прозрачно, как вода в кринице. Встретился он с человеком, выдающим себя за ахсесора, неспроста. Разминуться им было куда легче, чем повстречаться, – но повстречались. Двое разных, однако в чем-то схожих путников, прикрытых чужими личинами…
И чтобы понять, что значит и что сулит их встреча, надо разобраться, с кем свела судьба.
Чем больше верст ложилось под колеса брички, тем навязчивее всплывала в голове одна история – за месяцы странствий слышал он ее в разных изводах.
Самым складным показался рассказ, прозвучавший в дому старообрядца Осипа Коровкина, – тот держал нечто вроде станции, только не на столбовой дороге, а на невидимом, всю державу пересекающем тракте, коим движутся странники беспашпортные, властью не жалуемые, и ей, власти, платящие той же монетой. У Коровкина можно было отсидеться и подхарчиться, и дождаться оказии – обоза с надежными людьми, что и вопросов лишних не зададут, и, проезжая заставы, спрячут беглого так, что с собаками не отыщешь.
Люди под кровом Осипа случались разные, и истории из их уст звучали самые удивительные. Прозвучала и эта, из уст беспашпортного странника Митрофана, – не раз уже слышанная, но изобилующая многими новыми подробностями и показавшаяся наиболее правдивой.
Царь-амператор, заточенный неверной супружницей, дескать, не скончался от колики, как то в манифесте писано… Убили ведь государя, убили псы смердючие, злочинные енералы с обер-ахфицерами, – а за что убили, всем ведомо: за указ о вольностях крестьянских, уже подписанный, лишь печати державной дожидавшийся… Указ тот, верным канцеляристом выкраденный, многие видели и в подписи руку государеву признали, и списки с него по всей Расее разошлись, да не о нем речь. (Слушатели согласно кивали: и впрямь, есть такой указ, слыхали.) Так вот, убили государя, да не до смерти. Рубанули палашом гвардейским по голове, упал он, кровью облившись, – посчитали, что помер, оставили, пошли думу думать, как перед народом православным от злодейства своего отвертеться.
А государь-то жив был, поранен сильно. Его солдат верный, в карауле стоявший, на себе вытащил, в надежном месте укрыл, выходил-вылечил. Вернулись злочинцы – ан только кровь на полу. Взъярились они, да поздно уж. Тогда енералы с ахфицерами мужика первого встречного, из деревни соседствующей, схватили и, подушкой удавивши, в царские одежды обрядили. И лежит теперь тот мужик, именем Архип Кутьин, в золотом гробу на самом главном питербурхском кладбище. У него, у Архипа, вдова с тремя детишками осталась, и многие от нее ту историю слышали, и он, Митрофан, слышал.
А царь-амператор таится до поры, спасение свое чудесное народу не открывает. Он с тем солдатом верным по Расее странствует, все неправды начальничьи узнает да записывает… Из дворца-то, вестимо, много ли разглядишь? И когда вернется государь на престол свой законный, коемуждо по делам его и воздастся, никто из злочинцев больших и малых не утаится, не отвертится.
Амператор в странствиях своих оборачивается то ахфицером в малых чинах, то чиновником полету невысокого, а то и вовсе человеком простого звания, купцом али мещанином, казаком али солдатом, – менять личины надобно, супостаты его и губители не забыли, кто в золотом гробу лежит, ищут государя, чтобы сгубить уж окончательно.
И порой выходят на след псы смердючие, да не по силам им злодейство свое довершить: у государя заступников меж простого народа хватает. В прошлом годе, например, в Купянской слободе совсем уж чуть не схватили амператора законного, да не вышло: другой солдат, фамилией Чернышев, выручил. Благо звали его случаем, как и амператора, Петром Федорычем, – вот и выдал себя за государя, погоню по ложному следу пустил. За то и пострадал, в Нерчинск пошел, в каторгу, но истинный Петр Федорович на свободе остался. С Брянского полка тот солдат Чернышев был, и многие его знали, и он, Митрофан, знал. (Слушатели вновь кивали: дело Чернышева было громкое, слухи ползли).
Такая вот история…
Он ее слушал, да на веру не шибко брал, хоть и звучала складно… В чудесное спасение верил – ему, чудом смерти избежавшему, что же не поверить, да и свидетельств хватает: то тут, то там государя видывали, даже если многие врут, то дыма без огня не бывает.
Сомневался он в другом: в разведывании государем бед народных и злодеяний начальничьих. Столько лет тот при старой государыне состоял, а потом и сам на трон сел, – что ж тогда-то за народ не заступился?
По его разумению, спасшийся государь совсем иным заниматься должен был. Людей искать, государыней обиженных, на свою сторону их поворачивать, да не простых людей, а тех, кто у власти стоит, кто полками командует… И у казаков заступу искать, к сабле да фузее привычных. Потому как простые-то людишки за правильного царя восстанут, спору нет, – да как пушка в них картечью пальнет, враз и разбегутся, и один император останется…
Сегодняшняя встреча ложилась в тот, у Осипа Коровкина услышанный рассказ, как ключ в замок.
Чиновник, но, без всяких сомнений, ряженый. И кучер ряженый, причем из солдат, опять же сомнений в том нет. И по возрасту кучер подходит – мог у Ропшинского дворца в карауле стоять девять лет назад. И «чиновник» с виду на пятом десятке, как раз в годах Петра Федоровича. И шрам, застарелый шрам на голове, – не от гвардейского ли палаша, часом?
Титулярного поучил кнутом ряженый чиновник по-царски, о том и спору нет, – сразу видно, власть привык над людьми иметь большую, не ахсесорскую…
Вдобавок впечатление от знакомства с «чиновником» совпадало с собственным понятием названого Ивана о том, чем должен заниматься спасшийся государь, – как сабля совпадает с ножнами.
Казачья жизнь ему ведома, по вопросам видно. И с начальством воинским, с полковниками, знакомство водит. А вот про беды народные не выспрашивает, не интересуется… Оно и правильно, тут ведь главное – на трон вернуться, а уж после народ челобитными да жалобами императорский дворец до балкона завалит.
И возвращение, если хорошенько о том поразмыслить, должно состояться скоро… Лет прошло достаточно, чтобы со всеми верными сговориться, в одну команду их сбить, – дабы по тайному сигналу та команда единым разом выступила. А после того царю-императору надо непременно к Питербурху двигаться, но не ранее…
Здесь женино покушение на власть началось, здесь ему и конец должно положить. И главные из сильных здесь, но разговор с ними можно вести, лишь за спиной полки имеючи, по сигналу готовые выступить.
Ну так они и едут… Прямиком в Питербурх.
Он верил и не верил своим догадкам одновременно… Неужели в том его планида и состоит? Оказаться у руки государевой в самый решительный час, когда монета императора в воздухе зависла, и любое дуновение решку на орла сменить может? Ухватив того орла за лапы, можно в такие высоты взлететь, что малороссийский казак его сиятельство граф Разумовский снизу с завистью поглядывать будет.
Ежели, конечно, в бричке сидит государь…
Ежели…
А ежели нет?
Он раздумывал, что сделает тогда от лютого разочарования с непреднамеренным самозванцем, когда бричка подъезжала к Средней Рогатке, – и до Лиговского канала, служившего границей городу, оставалась половина пути… Он никогда не бывал в северной столице и не знал этих названий, просто увидел впереди заставу – и в тот миг уверился вернее прежнего.
Обычно на таких заставах у шлахбаума дежурит офицер в невеликих чинах: подпрапорщик, много прапорщик, да пара-тройка инвалидов у него в подчинении. Но здесь все же столица, и можно было ждать, что в караульной будке обоснуется усиленный наряд.
Но не настолько же усиленный…
Впереди синели мундиры драгун, те только что прибыли, разворачивались. Не менее полуроты, определил он наметанным взором.
Он немедля вспомнил всадника в фельегерском мундире, обогнавшего их на съезде с Пулковской горы – тот несся галопом, несся так, словно земля горела под копытами, словно в сравнении с важностью и срочностью донесения ничего не стоила сохранность и коня, и собственного седалища.
И все сложилось, одно к одному.
В бричке государь. Опознал его кто-то и донес, или по иной причине, но злочинцы проведали о появлении императора, стерегутся, подняли в ружье солдат…
– Беда, – сказал он негромко, поворотившись к пологу. – Тревогу сыграли, и дорогу драгуны перекрыли, не проехать.
Государь не спал, полог тут же раздернулся.
III Некрасивая
«…если бы знала я, милая Наташенька, если бы только могла предположить, какая скука ездить на своих из дальней подмосковной в Петербург, то всенепременно изобрела бы предлог, дозволяющий остаться с тетушкой и выехать вместе с ней осенью, на перекладных, и не терпела бы сейчас мучений народа Моисеева, истомленного бесконечным странствием.
Но душа моя, милая Наташа, уже рвалася в северную столицу, и каждый день отсрочки казался нестерпимым, тем более два месяца, кои любезная наша Клавдия Матвеевна посвятила бы, вне всякого сомнения, разносолам и вареньям, привлекши и меня к их заготовлению, ибо полагает, что будущей жене и матери семейства без знания всех тонкостей сего искусства никак не обойтись. Хотя, отмечу на полях, ее пример свидетельствует, что старой деве рекомые умения не менее приличны… однако не будем о грустном.
Долженствует признать, что по истечении нескольких дней пути возня с горшочками и бочонками, отмеривание сахару и приготовление рассолов с маринадами уже не представлялись мне столь унылым занятием, как недавно, или по меньшей мере не занимающим все сутки напролет… Но сделанный выбор, увы, изменить оказалось поздно.
Бежав от тетиных докук, я угодила в плен дорожной скуки…
Мне кажется, Наташенька, что невзначай я сочинила стихотворную строфу, но муза, едва заглянувши в окошко кареты, почувствовала флюиды нестерпимого моего уныния и, упорхнувши, принудила меня продолжить скучной прозой.
Итак, мы едем на своих, попечительствуя более об отдыхе и кормлении лошадей, нежели о скорости продвижения к цели нашего путешествия… Но все на свете имеет завершение и окончание, и, начав письмо в Любани, надеюсь завершить оное еще в пути и пишу эти строки на Ям-Ижорской станции, где лишь один перегон отделяет нас от Северной Пальмиры.
Станция Ям-Ижора знаменита меж проезжающими великолепным вкусом ухи из форелей, коих весьма искусно удят здесь туземцы в водах быстрой и прозрачной реки, и все путешествующие московским трактом считают своим долгом и обязанностью отмечать тот вкус в дорожных письмах: не избегла бы общей участи и я, но спасение от столь банальной траты чернил и бумаги пришло в лице папеньки, счевшего, что двадцать копеек серебром за фунт рыбы непомерно дорого.
Скажу тебе по секрету, милая моя Наташа, что негаданное – ибо никто не мог предвидеть и тем паче ожидать почти единовременной кончины и Гаврилы Петровича, и Марьи Афанасьевны, и Володеньки, – негаданное превращение папеньки в богатого помещика, владеющего тремя с лишком тысячами душ, произвело с натурой его некую эволюцию, способную, вероятно, даже позабавить человека, наблюдающего за ней со стороны.
Не скажу, что сделался он схожим с г-ном Гарпаговым, – надеюсь, ты помнишь, Наташенька, сего персонажа из французской комедии, что стал переиначивать на русский лад кузен твой Аристарх, да забросил на втором действии? Но тратит папенька, мне кажется, даже менее, нежели в те дни, когда все благосостояние наше состояло в неполной сотне душ, словно опасается, будто нежданное богатство исчезнет, обернется поманившим призраком, истает, как утренний туман под лучами солнца.
Наверное, возросшая папенькина рачительность благонадежнее для семейства, чем безудержное мотовство, в кое ударяются, по слухам, столь многие, обретшие достаток внезапной прихотью Фортуны. К тому же проявляется означенное качество у папеньки в малом, на переезд же к брегам Невы он средств не пожалел и категорически настроен на покупку там жилища, сообразного новому нашему положению.
Оглашенная на семейном совете причина сего перемещения состоит в нежелании жить вдали от Петеньки, оставив того наедине со всеми соблазнами, неизбежно грозящими молодому человеку неполных двадцати лет от роду, впервые оказавшемуся в отрыве от семейства, на новом поприще и в новой среде.
Однако ж есть причина и другая, не названная прямо, но выводы о ней я смогла сделать из услышанных обмолвок и из обрывков разговоров, смолкающих при моем появлении. Она проста: отдав сына в службу, наш папенька решил, что пришла пора озаботиться делами дочери и твердо вознамерился Устроить Мою Судьбу. Прегрешение против грамматических правил допущено неспроста, именно так и надлежит передавать случайно услышанные мною слова папеньки…
Ты понимаешь, Наташенька, что сие для меня означает… Нет, едва ли ты способна представить все многообразие чувств, возникавших и сменявших друг друга в душе моей, особенно сейчас, долгой дорогой, не богатой на внешние впечатления.
Их трудно изложить посредством гусиного пера и чернил, но все же предприму сию попытку. Ты знаешь, милая Наташа, что назвать меня красивой мог бы лишь записной льстец, но таковых не находилось, и за годы, минувшие со дня осознания мною сего прискорбного обстоятельства, я с ним смирилась и…
Хотя кому я лгу? Смирения не оказалось среди предуготовленных для меня Создателем душевных свойств и качеств, равно как красоты не оказалось среди свойств внешних и наружных…
Бедность, казавшаяся еще недавно неизменной константой моего существования, вкупе с отсутствием красоты есть сочетание убийственное как для романтических надежд молодой девушки, так и для матримониальных расчетов ее родителей. Но юность не желает мириться с очевидным, и я упорствовала в необоснованной идее, что найдется все же принц, способный оценить ум и душевные качества, помещенные не в самую блистательную оболочку… Нельзя сказать, что все мои потуги огранить свой разум, данный природой, но развивавшийся стихийно, пропали втуне, и мне не жаль часов и дней, проведенных за беседами с мсье Дютре, вовсе не для меня нанятым, и за штудиями в богатой дядюшкиной библиотеке, в то время как сверстницы мои, едва постигнув азы грамотности, преуспевали в науках и познаниях иных: в рукоделье и в ведении домашнего хозяйства…
Увы, все благотворные изменения от знакомства с Плутархом и Светонием ограничились внутренней моей сферой, вовне же печальные обстоятельства остались прежними, чему порукой список сватавшихся ко мне женихов, составивший всего (несколько слов густо зачеркнуты). Равно как и чтение новых французских романов предоставило мне сугубо теоретические познания о (вновь зачеркнуто, на сей раз четыре строки).
На двадцать втором году жизни, милая Наташа, я окончательно утвердилась в мысли, что в лучшем случае обрету дарованное Гименеем счастие с мужчиною значительно старше меня, с вдовцом или же с потерявшим здоровье на военной службе… Я даже пыталась найти преимущества в грядущем повороте дел, и даже находила их, ибо мы всегда стараемся отыскать светлые стороны в обстоятельствах, повлиять на кои не в силах.
И вдруг все изменилось волшебным образом.
Не мною отмечено, что тысяча душ приданого (а именно столько назвал папенька в случайно услышанном разговоре) делает дурнушек привлекательными, а привлекательных – ослепительными красавицами… Я сознаю, Наташенька, сколь незавидна бывает судьба девиц, привлекших лишь деньгами охотников за приданым, и все же льщу себя надеждой, что со мной такого не случится, что богатство, пусть и став первым поводом для знакомства, все же позволит проявить мне то, чем я досель бесплодно надеялась когда-нибудь пленить предназначенную мне половину. По меньшей мере у меня появится возможность, отнятая капризом природы и жизненных…»
На этой строке письмо обрывалось – карета покинула Ям-Ижору, тряская дорога заставила закрыть чернильницу и убрать складной пюпитр.
Сейчас в неспешном продвижении вновь случилась длительная заминка, но Машенька Боровина, давно прискучив мелкими дорожными неприятностями, не доискивалась ее причины. Воспользовавшись случаем, она достала письмо, в надежде успеть ежели не перебелить, то хотя бы закончить черновик, – в суете, неизбежно воцарящейся по приезду, будет не до того.
Перечитала написанное – и письмо показалось сухим, никак не передающим всех ожиданий, и волнений, и легких тревог, и безудержных надежд, что наполняли ее душу в последние недели… Наверное, даже не в отсутствии у нее эпистолярного таланта заключается главная трудность. Просто нет на свете слов, что смогли бы донести ее состояние до Наташи. Та не поймет, или же поймет лишь умозрительно, не в силах прочувствовать, – подруга с младых лет не могла пожаловаться на огрехи внешности, а позже – на внимание кавалеров. Нет, не поймет…
Однако письмо все же надлежит закончить и отослать, – обещала написать с дороги. Надо только, переписывая набело, переиначить тот абзац, где ее занесло не туда и речь зашла о французских романах, и о чувствах, мыслях и снах, ими вызванных.
Но планам Машеньки не суждено было сбыться, – в карету вернулся папенька, после Ям-Ижоры ехавший на передовом возке их небольшого каравана. Оказался он весьма не в духе, задержка получалась нешутейная: дорогу перекрыли войска, никого не пуская. Причем к кавалерии, появившейся первой, сейчас подошла в подмогу пехота, осталось подкатить пушки и обоз, да возвести ретрашимент позади шлагбаума, – и можно достойно встретить турок, не иначе как высадившихся десантом. Прямо на берег Царскосельского пруда, очевидно, высадившихся…
Речь папеньки была наполнена сарказмом, но на лице читалась тревога, и немалая. Машенька считала, что знает, в чем причина. По молодости папенька служил в пехотном полку, причем расквартированном здесь, в окрестностях столицы, – что для армейского, а не гвардейского офицера стало большим везением.
Несколько лет папенькиной службы как раз угодили на череду событий, о коих в книгах не прочтешь, по крайней мере в тех, что будут отпечатаны в ближайшие полсотни лет, а то и подолее. Она знала о тех событиях немногое, по смутным и обрывочным разговорам взрослых, вовсе не для ее ушей предназначенным… Неспокойно было в то время в Санкт-Петербурге, то и дело кто-то кого-то свергал с трона, либо изгонял с мест, в самой близости от него расположенных: то Бирона, то Миниха, то Остермана, то регентшу Анну Леопольдовну… Беспокойные годы папенька не позабыл, и Маша помнила, какое стало у него лицо не так уж давно, при известии о воцарении матушки-государыни… Такое же, как сейчас. Крайне встревоженное.
Ибо поучаствовать в исторических событиях ему довелось, хоть и на третьих ролях. Каждый раз поднимали в ружье полки и перекрывали въезды-выезды из столицы, и никто из поднятых по тревоге ничего не понимал в происходившем – не только нижние чины, но и офицеры-армейцы.
Примерно так же, по словам папеньки, ничего не ведали солдаты, напрочь перекрывшие для проезда Среднюю Рогатку – так именовалось место, где они застряли.
Обидно… Самую малость не доехали.
Маменька, доселе мирно дремавшая и эпистолярным досугам дочери не мешавшая, стряхнула дрему и объявила, что им с Машуней долженствует непременно прогуляться к заставе и посмотреть хоть издали на происходящее. Если впрямь в столице происходят события исторические, ей стыдно будет рассказывать впоследствии внукам, что все изменения в судьбах отечества их бабушка проспала в карете.
Словам о внуках сопутствовал выразительный взгляд на Машеньку, словно она и только она несла ответственность за грядущее появление в семействе Боровиных проказливой и докучающей вопросами малышни.
Папенька резонно возразил, что ничего и никого, кроме солдат, перекрывших дорогу, они не увидят. И главные события, если даже таковые происходят, имеют место очень далеко отсюда.
Но маменька оставалась непреклонна. Для нее, заядлой провинциалки, даже выезд в первопрестольную становился событием историческим, поводом для воспоминаний и рассказов. А тут движение войск, пехота, кавалерия, офицеры, мундиры, шпаги… И пушки… Пушки ведь скоро подъедут?
Папенька вздохнул и не стал спорить. Он давно отвык спорить с супругой.
Пошли втроем… Машенька, кстати, склонялась к материнскому мнению. Папенька, понятное дело, на исторические события еще тридцать лет назад насмотрелся, а им взглянуть хоть одним глазком не мешает.
Проезжих перед шлагбаумом скопилось на удивление немного. Хотя место было бойкое, именно здесь сходились воедино три тракта: приведший их сюда Московский, и Варшавский, и еще один тракт, не длинный, но содержавшийся не в пример лучше двух первых, – соединял он столицу с Царским Селом, с резиденцией государыни-императрицы.
По разумению Машеньки, за то не столь уж малое время, что они простояли у Средней Рогатки, здесь должна была скопиться длинная вереница самых разных экипажей. Но нет, кроме их кареты и трех возков с пожитками, виднелись еще три крестьянских упряжки, явно едущие не из дальних мест: две телеги, груженые мешками с мукой, да дроги с хлыстами нестроевого леса. Еще стояла пароконная грузовая фура, крытая, вид у нее был казенный, но откуда едет и что везет, не понять.
Была еще бричка, стоявшая поодаль, наособицу, – дорогая, с кожаным новеньким верхом, а стати коней смогла оценить по достоинству даже Машенька, ни в коей мере не лошадница.
И все. Больше ни повозок, ни всадников. Странно… Обычно глашатаи не объявляют в людных местах о наступающих исторических событиях, не призывают мирных обывателей сидеть дома, воздержавшись от поездок. Исторические события, так уж заведено, случаются неожиданно для людей, в тайных пружинах истории не сведущих.
Но папенька растолковал: на подеъздах к столице тройное кольцо застав, первую они проехали беспрепятственно, а сразу после того дорогу перекрыли. Он давно заметил и удивился: катят вроде неспешно, но никто, вопреки обыкновению, не обгоняет.
Вид брички и впряженных в нее добрых коней вселил в папеньку надежды.
– Курьерские… Как бы не генерал едет. Ему-то шлагбаум подымут, может, и мы проскочим…
– Не высоко его подымут, думаю, – возразила ма менька. – В аккурат для брички. А карета-то враз за стрянет, ежели без смазки поехать…
Карета их действительно была высока, да на крыше громоздилась куча поклажи, но родительница явно имела в виду не размеры, выделив голосом слово «смазка».
Ее рачительный супруг насупился и отрезал:
– Тогда ждать будем. Не на неделю они тут встали…
Маша тогда и представить не могла, насколько папенька прав в предсказании срока задержки… Вернее, в каком смысле он прав.
А вот догадка касательно генерала опроверглась почти сразу же: из брички появился человек в мундире статской службы – какому ведомству соответствует цвет обшлагов и воротника, Маша не знала, да и родители ее, наверное, тоже… Но чин не генеральский, сразу видно.
Чиновник неизвестного ведомства пошагал в сторону заставы с весьма решительным видом. Следом, чуть поотстав, держался его кучер – чернобородый и одетый по-казацки.
– Понапрасну сходит, не пропустят, – уверенно заявил папенька, враз потерявший интерес к чиновнику, едва лишь выяснилось, что в чинах тот невеликих.
Машенька тем временем поглядывала окрест – но не видела никаких признаков не то что большого города, но даже предместий.
Невдалеке от Рогатки виднелись два обширных здания – одно, по правую руку, деревянное и одноэтажное, переживало не лучшие свои дни. Краска со стен почти вся облупилась, и лишь уцелевшие кое-где ее пятна дозволяли понять, что некогда здание было желтого колера. Окна лишились стекол, крыша в одном месте обвалилась.
Каменное здание, стоявшее напротив, выглядело жилым, нарядным. Тоже одноэтажное, оно казалось раза в полтора выше своего разваливающегося визави – вместо низенького фундамента здесь имелся высокий, в человеческий рост, полуподвал.
Папенька на вопрос дочери ответил предположительно: наверное, каменное здание – новый дорожный дворец, для царского отдыха при путешествиях в загородную резиденцию. А деревянные, на снос обреченные руины – дворец старый, в годы папенькиной службы только он тут и стоял, уже тогда никудышный, и шли разговоры о постройке нового.
Иных жилых домов поблизости не виднелось – караулка при шлагбауме не для житья предназначена. По левую руку от тракта места были повыше, тянулись обработанные поля, за ними, вдали – группа одноэтажных небольших строений, вроде даже каменных, но в точности издалека не понять.
Справа местность понижалась, на болотистой луговине рос кустарник, невысокий и редкий, еще дальше зеленели заросли рогоза, и смутно виднелось среди них зеркало воды – не то болотистое озерцо, не то болото с чистыми разводьями.
По луговине тянулось, огибая болотце, некое подобие дороги: две слабо накатанные колеи.
Машенька, как справедливо указала в письме, среди своих достоинств смирение не числила. Более того, даже имела в характере склонность к выходкам отчасти дерзким и отчаянным, приносившим в детские годы немало синяков и шишек. При виде слабоезженой дороги сразу подумала: будь они не на тяжеленной карете, а на повозке легкой и проходимой, могли бы объеахть заставу, наверняка ведь имеются въезды в город не только по столбовым дорогам, и все стежки-дорожки перекрыть никакого гарнизона не хватит.
Проследив направление Машенькиного взгляда, папенька выдал нечто странное, словно бы неудачно подражая птичьему чириканью:
– Кикерейскино…
Женская часть семейства в четыре глаза с изумлением уставилась на новоиспеченного помещика-трехтысячника, пытаясь понять, что прозвучало: непонятная и не смешная шутка? Или же так впервые проявило себя начинающееся расстройство разума?
– Не зыркайте… Место так кличут чухонцы – и бо лотце, и что окрест: Кикерейскино. При государыне Ан не Ивановне так же и рогатку повелели назвать: Кике рейскинская застава. Ну-ка, Машута, выговори-ка, ты у нас девица книжная, с понятием…
Она попыталась. С первого разу не получилось.
– Вот-вот. – Папенька довольно улыбнулся. – Нижние чины язык ломали, докладывая… А ошибется – зуботычина. Порядок в те года понимали… не забалу ешь…
За разговором они медленно двигались к шлагбауму, никуда не спеша. Почти дошли, когда папенька сказал:
– Никак флаг подымать затеялись… Неужто госуда рыня проезжает?
Над фронтоном каменного здания тянулся к небесам флагшток. И к его веревке действительно крепили полотнище. Но от намечавшегося зрелища подъема флага Боровиных отвлек скандал, разгоравшийся неподалеку. Вернее, новая стадия скандала…
Зачинщиком выступал давешний чиновник, прикативший на бричке. Папенька, понимавший в караульной службе, оказался полностью прав: никто для чиновника шлагбаум поднимать не собирался, невзирая на срочную казенную надобность, к коей апеллировал владелец брички.
Но сейчас дело зашло далеко – Машенька повернулась на голоса, зазвучавшие громче прежнего, и увидела: солдат в синем мундире держал в руках ружье с примкнутым штыком, и не просто держал – приложил к плечу, направил ствол прямо в голову чиновника. Целился, но пока пытался урезонить словесно. Тот медленно, шажок за шажком, надвигался на солдата.
– Да он пьян, видать! – возмутилась при виде такого зрелища госпожа Боровина. – Мало что в живых людей метится, так еще в человека благородного, начальственного…
– В своем праве солдат, – произнес папенька незнакомым, очень холодным тоном. – В караул заступил – тут тебе ни генерал, ни сенатор не указ, и ежели шагнут за черту запретную, стреляй, или на штык прими. А не выстрелишь, пропустишь, – сквозь строй, под тыщу шпицрутенов. Раньше так бывало, а ныне не знаю, что за оплошку на посту полагается. Но не чарка с печатным пряником, верно вам говорю.
Солдат закричал уже в голос:
– Не доводи до греха, вашбродь! Застрелю!
Чиновник сделал еще шажок.
– Сейчас убьет, – сказал папенька спокойно, с каким-то даже холодным удовлетворением.
– Машуня, отвернись! – немедленно скомандовала маменька. – Не гляди!
Она бы и отвернулась, но оцепенела, не могла оторвать взор от двух людей и от железной палки между ними, готовой плюнуть огнем и смертью. Она никогда не видела, как убивают. Даже как сами умирают, в своей постели, не видела.
Маменька обхватила ее за плечи, с силой развернула. И в тот же миг Машенька позабыла и про солдата, и про его ружье, и про чиновника, играющегося со смертью…
Она увидела флаг – тот заполз на самую вершину флагштока и как раз сейчас развернулся от порыва ветра.
Флаг был черный. С красным госпитальным крестом посередине.
Она прочитала достаточно книг, чтобы сразу понять, что флаг означает.
– Чума, – сказала Маша мертвым голосом.
– Как есть чумовой, – согласился папенька, безот рывно наблюдавший за солдатом и чиновником и ничего не понявший. – Ну точно свинца ведь откушает…
Но маменька смотрела в ту же сторону, что дочь…
– Чума-а-а!!! – вскрикнула она тонко и пронзительно.
После ее крика над Средней Рогаткой повисла гробовая тишина, сменившая негромкий людской ропот, так что слышно стало, как стрекочут кобылки на лугу.
Затем тишину разорвал выстрел, грянувший со стороны шлагбаума.
IV Каин
Ни полкового, ни ротного знамени у драгун с собой не имелось, но он сразу опознал и шитье на мундирах, и эполеты, плетеные из желтого и синего гаруса.
Вологодский драгунский полк… Хуже придумать трудно. Ну разве что расквартировать на Средней Рогатке отряд турецких спахов.
Он предпочел бы иметь дело с кем угодно еще… С ландмилицкими кавалеристами нового набора, недавно севшими в седло. Или даже с регулярами, к войне привычными, однако к войне правильной…
Но вологодские драгуны…
Эти способны на все. И ждать от них можно всего… Как от бродячего пса, встреченного в военное лихолетье на пепелище: тот может завилять хвостом и лизнуть руку, а может и в глотку вцепиться, ежели успел поживиться неприбранными трупами, отведать человечины…
Причина в том, что Вологодский полк недавно побывал в Польше, на Правобережье: был переведен туда с Сибирской линии аккурат к Уманским событиям.
В Польше в те дни все резали всех, проявляя небывалую для просвещенного столетия жестокость. Поляки, оставшиеся верными королевской власти, воевали с поляками Барской конфедерации; конфедераты, отбиваясь от коронных войск, не щадили заодно всех иноверцев-диссидентов[2] (для католиков иноверцев, разумеется).
Иноверцы не оставались в долгу, платили католикам той же кровавой монетой, но, логике вопреки, меж собой диссидентов общая напасть не сплотила: православные русские не щадили панов и ксендзов, но не только их – русским, державшимся греко-католической веры, тоже пришлось хлебнуть лиха от соплеменников.
Разумеется, не остались в стороне от кровавого безумства и жиды, от века страдающие при любых польских усобицах, – вот и ныне их истребляли все, кому злосчастные потомки Авраамовы подворачивались под горячую руку, до плеча замаранную в крови…
А еще терзали польскую землю набеги крымской конницы. И янычарам не сиделось спокойно в Балте и Аккермане. И наемники, собранные в Польшу генералом-авантюристом Дюмурье со всей Европы, отрабатывали саблями и штыками полученное золото французского короля.
Все, кто мог, столпились у ложа агонизирующей Речи Посполитой – урвать свой кус от живого еще, кровоточащего тела.
И драгуны-вологодцы с головой, по самую маковку, окунулись в тот кипящий котел, что представляло собой злополучное, в муках умирающее королевство – некогда грозный супостат России, ныне вызывающий лишь презрение, не злорадное даже, но жалостливое…
Драгуны исполняли волю императрицы. Наводили порядок. Пытались утихомирить кровавый шторм, бушевавший у рубежей империи. Пытались вернуть королю Станиславу хоть некое подобие былой власти, а его разноплеменным подданным – хоть некое подобие былой мирной и безопасной жизни.
Но с обезумевшими от человечины псами ласка не помогает. С обезумевшими от крови людьми тоже. Не сразу, но вологодцы научились-таки не просто отвечать выстрелом на выстрел, и ударом на удар, – но рубить и стрелять первыми… Потому что права на ответный выстрел враг порой не давал, и вырезанные на постоях команды могли бы то подтвердить – те немногие из солдат, кто чудом уцелел.
Они платили сторицей. Усмиряли жестоко, без сантиментов. Не разбирая, кто свой, кто чужой. Казакам Железняка доставалось не меньше, чем их заклятым врагам-конфедератам.
Усмирили… Залили пожар кровью.
Но и сами, по безжалостной логике войны, превратились в кровавых псов, приучившихся к человечине.
Полк вернулся в Россию. Расформировывать его резонов не нашлось: знамен вологодские драгуны не утрачивали, в позорное бегство не обращались…
Но если у ног виляет хвостом и ластится пес с окровавленной мордой, только что перегрызший глотку соседу, – есть повод поразмыслить…
На бумаге полк остался. На деле – прекратил быть: поделили на малые команды, разослали по всей России, от Смоленска до Олонца.
Каким ветром занесло одну из команд драгун-вологодцев к Средней Рогатке, он не знал… Но занесло, на его беду. Этих бумагой с подписью Шешковского не запугаешь – ими самими до сих пор детей пугают в южнопольских местечках.
Самое обидное, что он давненько водил знакомство с шефом Вологодского полка, с генерал-майором Иваном Иванычем фон Веймарном, и бывал у того в имении под Ямбургом, и даже на медведя вместе хаживали… Но Веймарн сейчас далеко, в Польше, а свора его псов – здесь. И натасканы они не на медведя.
С такими мыслями он смотрел не в дуло драгунской фузеи – в глаза солдата, ее державшего. По глазам всегда видно, сможет или нет выстрелить тот, кто целится в тебя. И последний миг перед выстрелом, когда палец приходит в движение, спуская курок, тоже в глазах отражается.
Он видел: этот сможет, выстрелит. И все равно медленно приближался… Рисковал, но выбора не имелось, ему нужен был офицер, главный над командой. Но покамест он видел только унтеров. С ними говорить бесполезно, у них приказ… и фузеи с палашами… и привычка стрелять и рубить первыми…
Потом он услышал пронзительный женский вопль и увидел чумной флаг, отвлекся на миг, и миг чуть не стал последним, – драгун выстрелил. Возможно, палец солдата, напрягшийся на спусковом крючке, дернулся от крика, прозвучавшего рядом, над ухом.
На самом деле фузея при стрельбе почти в упор не так страшна, как представляется со стороны людям несведущим. Между тем мигом, когда курок ударяет по кремню, и вылетом из ствола пули имеется пауза, недолгая, но достаточная для человека привычного. Пока искры долетят до полки, пока вспыхнет на ней затравочный порох, пока огонь пройдет внутрь и воспламенит заряд… Даже если затравочный порох хорош – французский или добрый русский, – можно успеть пригнуться или отпрянуть в сторону. А уж если на затравку дурной порох пущен, что в войсках не редкость, фузея вообще «тянет», бьет с таким запозданием, что можно успеть чихнуть, и здоровья себе пожелать, а уж потом начинать от пули спасаться.
Так что рисковал он с умом. Думал и от свинца уклониться, и офицера звуком выстрела привлечь. Но отвлекся на крик, на черный чумной флаг, и упустил момент, когда курок ударил по кремню…
Он припал на одно колено, чувствуя, что не успевает, что свинец все же чиркнет по темечку.
Пуля безвредно ушла ввысь… Драгун выстрелил непроизвольно, и в последний момент отвел оружие, успел вздернуть дуло фузеи на пару вершков кверху.
К шлагбауму подбегали еще шестеро, уже на бегу начинали поворачивать в его сторону дула фузей, – но пока брали на испуг, курки не взведены…
– Назад подай! – рявкнул ему уверенный голос, унтерский, и тут же скомандовал уже солдатам:
– На-а-води! Товсь!
Фузеи поднялись, выстроились в ровную линию. Щелкнули взводимые курки. Он, не раздумывая, быстро поднялся, отошел. С шестью пулями враз не разминешься, тут уже не риск начинается: ежели кто команду «пли!» в таких обстоятельствах станет дожидаться, того вовне церковной ограды хоронить полагается, как форменного самоубивца.
Офицер так и не появился… Он отошел и понял, что надолго застрял у Средней Рогатки. Он ненавидел это место, имелись тому причины. Бывал проездом, куда денешься, но проезжать всегда старался быстро, не задерживаясь, если в экипаже – носа не казал из кареты или брички, если верхами – глядя только перед собой, ни взгляда не бросая по сторонам…
Теперь поневоле пришлось осмотреться. Надо как-то выбираться, а он пока не знал, как.
Чумной флаг над въездом в Санкт-Петербург стал неожиданностью… Ладно бы Москва, оттуда давно доходят нехорошие слухи, пусть никто допрежь и не решался произнести во всеуслышание страшное слово – назови беду по имени, тут она и пожалует, а так, глядишь, и пронесет…
И на южных окраинах неладно, и в армии, сражающейся с турками… Но и там доктора, врачующие вспышки мора, боятся произнести страшный диагноз.
Значит, пока он был в разъездах, произошло нечто, не дозволившее и далее закрывать глаза на очевидное. В Москве произошло, скорее всего. О том, как обстоят дела на юге, он имел более свежие сведения.
Наверное, мор вырвался из фабричных кварталов Замоскворечья, и делать вид, что его нет, стало невозможно, весть дошла сюда, и объявлен чумной карантин, чтобы северная столица не повторила судьбу первопрестольной. И ему теперь надо… черт!
Северьянов…
Он высказался по-русски так долго и затейливо, что стоявший рядом Иван взглянул с уважением, видать, не ждал этакого загиба от «вашбродя».
Они с Северьяновым ехали с юга, ехали быстро, без остановок, нанимая через два перегона на третий подменных ямщиков, чтобы унтер мог поспать, отдохнуть. И фальшивого кучера сразила нежданная хворь спустя… он посчитал в уме и понял: да, самое время проявиться чумной заразе. Разумеется, «подфелшар» в околотке определил у Северьянова нервическую горячку, ну да с похмельного недоучки спрос невелик, да и с трезвого тоже.
Если у Северьянова случилась чума, то… Он не думал о том, что провел в одном возке с заболевшим достаточно времени, чтобы не избегнуть заразы. И о том не думал, что, заразившись, получит смертный приговор. И похуже, чем получают в судейской коллегии, – тут и государыня приговоренного не помилует, и веревка с виселицы не оборвется…
Все когда-то умрут, а он и так зажился, печаль о другом. Он понял, что зря добивался разговора с офицером. В столицу ему нельзя… Принесет он туда черный мор или нет, – проверять на живых людях не полагается. Проверяют такое в карантине.
Надо хотя бы передать в присутствие бумаги, сейчас надежно спрятанные, – так, что не найти, не разломав бричку в щепки. Нет, тоже не годится… Без его слов, без его рассказа о событиях последнего месяца цены бумагам немного. Рапорты он не писал и не отправлял, избегая даже малейшего риска, – дело архиважнейшее, и надлежало доложить о нем лично Шешковскому, с глазу на глаз…
Значит, надо написать сейчас, не медля. Кратко, на составление долгой записки времени нет, но обо всем. Придется позабыть и о каллиграфии, и о витиеватых уставных обращениях. Степан Иванович поймет, для него тоже дело первее всего.
– Иван! Сам видишь, что творится: не проехать. Мне надо срочно по службе отписать, дело важное, государ ственное. Пригляди покамест за служивыми: как зашевелятся, народ начнут сгонять, предупредишь.
Белоконь кивнул понятливо.
– Не извольте беспокоиться, вашбродь, в лучшем разе исполню!
Толковый казак вроде бы… Может, если пронесет, к службе его привлечь, вместо Северьянова?.. Ладно, позже о том поразмыслит, не до того сейчас.
В бричке он достал походный письменный прибор, и вскоре перо забегало по бумаге. Все писать – и до утра бы не управился. Излагал кратко, пунктами. О заговоре, созревшем в венгерском Прехове, где ныне обосновалась выбитая из Польши верхушка конфедератов, о нитях, протянувшихся во Францию, в Турцию, в Россию. О том, что задумали конфедераты не много и не мало: повторить историю с лжецаревичем Димитрием – подготовили самозванца на роль покойного императора, якобы чудом спасшегося. Не солдата беглого, и не другого человека низкого звания, способного прельстить и обмануть лишь простой народ: все сделано по высшему разряду – и портретное сходство, и речь французская и немецкая, и знание персон и обычаев придворных, и бумаги поддельные наилучшей пробы. Тут и не только солдаты или казаки в обман введены будут, тут и полковые командиры в сомнение впадут, с дивизионными вместе… Да что там полковники с генералами – пожалуй, и наследник, отца по малолетству плохо запомнивший, поддаться на обман может.
А чтобы все сомнения в нужный момент в уверенность превратились, планируют супостаты цареубийство.
Скончается скоропостижно государыня, а лжегосударь тут как тут: в одеждах царских, с лентой Андреевской, со свитой из дворян и с бумагами дома Романовых, происхождение подтверждающих…
И все слухи, что сейчас по России ползут, – и те, что сами собой зародились, и те, что трудами агентов конфедератских распущены, – на него, на самозванца сработают…
О том, что самозванец мертв, он написал. Не стал лишь сообщать, чья рука прикончила фальшивого императора. Ежели выживет, сам расскажет. Ежели нет, коли судьба в чумном бараке сгинуть, – мертвым почести с орденами ни к чему…
Но написал, что получена отсрочка недолгая, на месяцы, не на годы. За первым-то Лжедимитрием невдолге и второй воспоследовал, и третий… Натаскают и конфедераты нового Лжепетра, и бумаги новые состряпают… О документах фальшивых, у мертвого самозванца изъятых, распространяться не стал, – содержимое бумажника Шешковскому само все расскажет.
Он заканчивал, переносил в письмо последние имена из своих шифрованных, для себя сделанных заметок, когда послышался голос Ивана:
– Началось, вашбродь, народ к шлахбауму гонят, поспешайте…
Он раздернул полог, взглянул наружу. Успел… Сейчас прибывших отконвоируют по карантинным баракам или в другое место, но сначала приказ должны зачесть, и тут уж без офицера не обойдется… Послание уйдет к Шешковскому.
Он поспешил… Вписал два последних имени, расписался, торопливо присыпал песком. Не дожидаясь, пока чернила впитаются, откинул кошму, нажал в двух секретных местах, тайник раскрылся.
Он быстро достал объемистый бумажник, раскрыл, проверил… Все на месте – огромные бумаги с огромными двуглавыми орлами, тиснеными золотом. Убрал фальшивки на место, добавив к ним свое письмо.
Там же, в тайнике, лежала пара небольших пистолетов – двуствольных, серебром отделанных. Заряженных, разумеется. К ним прилагалась небольшая, изящной формы пороховница с затравкой, тоже серебряная. А в пистолетных рукоятях, в нарочито сделанных для того полостях, хранились по два запасных заряда. Прибрал пороховницу и пистолеты в карманы, а те, что лежали в бричке под рукой, оставил, велики. Забрал увесистый пояс с деньгами, торопливо распахнул камзол, готовясь надеть пояс под сорочку…
Он делал все очень быстро и в спешке утратил часть всегдашней осторожности: не приметил, что в малую щель полога за ним некоторое время наблюдал внимательный глаз – черный, с бесинкой. И не подозревал, что своими действиями только что окончательно и бесповоротно утвердил соглядатая в его предположениях. В совершенно ложных предположениях.
– Погодьте малость, ихбродь щас выйдет, – услышал он голос Ивана и действительно вышел.
Трое драгун подошли к бричке, избегая, впрочем, приближаться. Выглядели они странно… Надо понимать, до тех пор, пока по ветру не заплескался чумной флаг, солдаты и сами не знали, зачем сюда отряжены. Зато потом все поняли. Лица у всех были теперь замотаны тряпками, только глаза виднелись. От тряпок отчаянно разило уксусом и водкой, запах отчетливо доносился за десяток шагов.
Солдаты не произносили ни слова, но поторапливали жестами: двигайте, дескать, все собрались, вас двоих ждут.
Они с Иваном пошагали к шлагбауму, драгуны держались позади, не приближались, но терпкий уксусно-водочный дух все равно догонял.
Он мимолетно подумал: интересно, догадалось ли драгунское начальство загодя перемешать водку с уксусом? – иначе ведь перепьются к вечеру, канальи.
Народу и экипажей у Средней Рогатки прибыло, пока он занимался письмом, но не намного. Пара-тройка дворянских экипажей, несколько крестьянских возов. Он заметил, что драгуны – опять-таки не приближаясь – рассекли небольшую толпу на несколько стоявших наособицу кучек людей. Те, кто прибыл недавно, стояли отдельно, и мужики были отделены от людей дворянского звания. Оно и правильно… Тех, кто порознь ехал и здесь, у заставы, сблизиться не успел, выдерживать в карантине лучше раздельно, не то один зараженный и всех остальных за собой потянет…
Драгунский ротмистр, взгромоздившись на бочонок, зачитывал приказ Чичерина, генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга. Не весь приказ, разумеется, лишь выжимки, касавшиеся бедолаг, угодивших в карантин. Лицо ротмистр тоже укутал, обмотал тряпками, хотя держался от подозреваемых в болезни еще дальше, чем подчиненные: осторожничал. Букву «р» он категорически не выговаривал, но с некоторым усилием речь разобрать удавалось…
Объявленный срок карантина ударил, как обухом по затылку: сорок дней!
Он-то думал, что объявят неделю, много две… Но генерал-полицмейстер, очевидно, счел, что в данном случае лучше пересолить.
В любом случае план действий не меняется: когда закончит ротмистр свою речь, надо подобраться к нему и переговорить. Вплотную не подпустят, да и не надо, – неважно, что сторонние уши услышат разговор, секретов никаких в нем не прозвучит, все тайное укрыто в запертом бумажнике… А передаст он бумажник только посланцу Шешковского, ему лично известному.
Прочие слова ротмистра, о предписанных условиях содержания, он слушал невнимательно. Понял лишь, что людей дворянского и простого звания надлежит содержать раздельно, а на какую сумму тем и другим отпустят в день продуктов, пропустил мимо ушей, – в еде он был неприхотлив, а половину денег все равно разворуют. Что-то еще звучало про изъятие под расписки лошадей и экипажей, он вновь не стал пытаться понять картавую речь: лошади казенные, а из брички все важное и нужное изъято.
Наконец речь завершилась, офицер наладился слезать с бочонка.
Он выжидал этого момента, подобравшись так близко, насколько позволили драгуны. Громко обратился поверх голов, назвал имя, чин, место службы, – настоящее, Экспедицию.
Ротмистр в разговор вступил, не смог отказать: люди из карантина не всегда отправляются в чумной барак, а врагов себе наживать в Тайной экспедиции кому ж захочется? Но откликнулся неохотно, с небрежением, и ответ его кольнул, как иглой в сердце:
– Вологодского д'агунского полка секунд-'отмистр Ка'ин.
Каин?
Сообразил быстро: Карин, конечно же, есть такой дворянский род, Карины, семейств несколько, под Симбирском у них имения, и еще дальше, под Уфой, недавно пожалованные. Но в первый миг показалось, что как-то ротмистр узнал его прозвище, мало кому известное, – и строит издевки.
Он коротко объяснил ротмистру, что надлежит сделать: сообщить все то, что он сейчас сказал, лично обер-секретарю Шешковскому, и растолковать, куда угодил его подчиненный. О возможном вознаграждении даже речи не завел: Степану Ивановичу услугу оказать и без того дорогого стоит.
Ротмистр повел себя странно: выслушал, ни слова в ответ не произнес, слез с бочонка и пошагал в строну Путевого дворца, – нового, каменного.
Он пытался что-то крикнуть вслед, но тот не обернулся, а драгуны уже наседали, командовали, дворян повели к старому и ветхому дворцу, а всех прочих – куда-то вдаль, мимо болотца, называвшегося некогда Кикерейскино. Он сделал жест Ивану, уводимому с остальными: крепись, мол, казак, атаманом будешь. И отвернулся, он не хотел смотреть в ту сторону.
К экипажам никого не пустили и вещи взять не дозволили, – не велено, мол. Кто с чем был, так и пошли.
Компания для вынужденного сорокадневного общения подобралась небольшая. Он сам, семейство помещиков Боровиных: отец, мать и дочь, девица на выданье. Да еще некий Савелий Иванович Колокольцев, чиновник двенадцатого класса.
Помещение, соответственно, им тоже предоставили невеликое, вернее, два смежных помещения, в видах соблюдения приличий и раздельного проживания мужского и женского полу: двери в двух комнатенках выходили в коридор, и имелась третья, комнатенки соединявшая. Имелась очень давно, а затем куда-то подевалась, и даже занавесить опустевший проем никто не озаботился. Так что приличия соблюдать удалось бы лишь при обоюдном к тому стремлении обитателей и обитательниц карантина.
Оба окна были спешно заколочены доской-горбылем, неплотно, свет сочился в щели, кое-как освещая апартаменты. Одну из внешних дверей тоже наглухо заколотили, а над второй сейчас трудились плотники, прорезая окошко на манер тюремного.
Плотники заразы опасались не меньше драгун и загнали от греха всех, и мужчин, и женщин, на «женскую» половину. Здесь оказалась кровать, лишь одна, ветхая, но преизрядных размеров, с балдахином. И на ней лежал даже матрац, набитый конским волосом, но постельное белье отсутствовало.
Но все же по беде мамаша с дочерью могли спать вдвоем, мужчинам же повезло меньше – в их комнате стоял лишь топчан, ничем не прикрытый – голые доски. Хотите, делите его на троих и спите по очереди, хотите – на полу ночуйте, разница небольшая. Более ничего в карантинном помещении не имелось, вообще ничего. Видно было, что оборудовали его наспех, спешно исполняя приказ, и заботились лишь о том, чтобы подвергнутые карантину не начали разбегаться…
На вопросы, будет ли предоставлена другая обстановка, хотя бы самая необходимая, ну хотя бы кадушка с крышкой для справления естественных потребностей, – ни плотники, ни охранявшие их драгуны отвечать не желали. Возможно, сами не знали.
Велит, дескать, начальство выдать кадушку, – выдадим, нам не жалко. Не велит – на пол ходить будете. А покамест не приближайтесь-ка особо, а то неровен час…
Кадушка с крышкой вскоре у них появилась, ее отгородили занавесью из рогожки. Появился тюфяк – паршивый, соломенный – для топчана, и еще два таких же для спанья на полу, и три попонки. Потом доставили пять табуретов, неказистых, но сидеть можно. И бадью с питьевой водой, к ней был приделан ковшик на цепочке.
После появления бадьи дверь заперли, дальнейшее общение продолжалось через тюремную отдушину.
К вечеру обещали свечи, по смене постельного белья и два таза для умывания. Даже посулили горячей воды раз в два дня, чтоб мылись, не вшивели.
Жизнь налаживалась… Но сорок дней?! Безвылазно?! Именно так. Если повезет. А если нет, то чумной барак где-то недалече…
Колокольцев – лет за плечами он имел немного, а ума еще меньше – никак не желал принять внезапно приключившееся изменение в судьбе. За час извел всех жалобами на то, что к завтрашнему полудню непременно должен быть в присутствии, ну вот всенепременнейше, ну вот хоть кровь из носу… Столоначальника своего он боялся больше, чем совокупно чумы, холеры и всех прочих известных докторам болезней.
Помещик Боровин – мужчина крупный, грузный, в годах, – взгромоздился на табурет, сидел безмолвно, покачиваясь взад-вперед, будто маятник. Табурет скрипел, но пока держался. Выглядел помещик безмерно, до немоты, ошарашенным. Ничем и никем он не интересовался.
Супруга его, Алевтина Петровна, сходствуя с мужем корпулентной фигурой, в общении являла ему противоположность: не медля познакомилась с обоими мужчинами, охотно говорила о себе и семействе и тут же стала пытаться создать некое подобие уюта, невзирая на всю скудость имевшихся к тому средств.
Она же предложила – и получила согласие двумя мужскими голосами при одном воздержавшемся – поделить апартаменты следующим образом: та комната, что с топчаном, пусть будет общей, а к себе дамы будут удаляться на ночь. Ибо жить там невозможно – они и сами видели, что мимо кровати только бочком, по стеночке, протиснуться можно…
Дочь Боровиных, Мария, была то, что французы называют charmant lutin, очаровательный бесенок. Стройненькая, фигурой не в отца и не в мать удалась. Не красавица, далеко не красавица, но пикантна весьма, глазки ох и озорные… Если переодеть ее из нелепого деревенского платьица, да прическу по столичной моде, да бриллиантики в ушки, так на балу сидеть в уголке не будет: кавалеры такими, живенькими, куда как интересуются… Пока же она сидела как раз в уголке, но не в прострации, подобно родителю, а с большим интересом поглядывала на чиновников, оказавшихся их нечаянными соседями.
Никто из четверых опасности не представлял – ни для Каина, ни для его бесценного бумажника. Сделав сей вывод, он немедленно потерял большую часть интереса к четверым случайных сожителям.
И вернулся к своим мыслям… Размышлял о ротмистре Карине и непонятном его поведении. Ужели драгунский офицерик шутки вздумал шутить с Тайной экспедицией? Может, зуб имеет на Шешковского?
Все равно, должен ведь понимать, что манкировать прозвучавшей просьбой никак не полезно для карьеры и будущности… Можно допустить, что к Шешковскому он все же послал, во избежание неприятностей, но даже виду не показал по причине неприязни к обер-секретарю Сената, столь характерной для петербуржского общества…
Если так, то надо ждать. Степан Иванович пошлет сюда человека немедленно…
Он ждал. Тянулись томительный часы. Единственным развлечением стал ужин, он к нему не притронулся, и остальные тоже, кроме Колокольцева, – тот уплел две порции жидкого горохового зобанца столь аппетитно, что всем стало понятно: при жалованье чиновника двенадцатого класса даже такая жалкая похлебка не всякий день на стол попадает.
Потом минула ночь, проведенная на полу, на шуршащем соломенном тюфяке – топчан по старшинству занял Боровин. Спали не раздеваясь, обещанное постельное белье так и не принесли.
Потом был завтрак, не обильный – вволю белого хлеба хорошей выпечки и по кружке горячего кофия. Кофий был кофием лишь по названию.
Вновь потянулись тоскливые часы. Помещик не заговорил. Машенька – она попросила называть себя так – освоилась, сдружилась с Колокольцевым, о чем-то они шептались в углу, посмеивались. Алевтина Петровна поглядывала на их шушуканья неодобрительно, но пока не вмешивалась.
Потом был обед, на диво неплохой, все откушали с аппетитом: наваристые щи с расстегаями, да баранье рагу на второе. Десертом подали яблоки, но он их в рот не брал много лет, имелись тому причины… Запивали квасом, вина не полагалось.
Никаких намеков на врачебный осмотр… Он не удивился. В чумные доктора своей волей крайне редко идут, попадают на сию стезю чем-то проштрафившиеся медики, запойные пьяницы и прочая того же сорта братия… Их не враз найдешь и доставишь.
Отобедав, стало ясно: никуда Карин не посылал. Не стал бы медлить Шешковский столь долго… Надо справляться самому.
Он мог уйти – хоть по-тихому, хоть с кровью, два пистолета остались при нем, никто не стал обыскивать: не совсем арестанты все же, да и приближаться боязно. Мог, но решил попробовать иной путь, сохранилось у него оружие посильнее не то что пистолета, но даже пушки: набитый монетами пояс. Он удалился за рогожку, якобы по надобности. Достал из пояса четыре золотых империала, поразмыслив, добавил к ним пятый, – бить, так уж наповал, для рядового драгуна это жалованье за… за… он понял, что не помнит величину солдатского жалованья, закончил мысленно иначе: за немалый срок.
Затем он отделил мзду для Карина, сожалея, что сразу не намекнул на нее ротмистру, – и тут уж отсчитал не пять золотых, понятное дело.
Переговоры с драгуном, явившимся на стук, затянулись: служивый хотел получить деньги сейчас, а ротмистра известить позже. Каин настаивал на обратной последовательности действий. Тяжко вздохнув, солдат сообщил: ихбродь сейчас в отсутствии, обещались быть ввечеру, тогда он и доложит, – и тут же потребовал империал в задаток.
– Не дам, пропьешь, – строго сказал он. – Вечером все получишь.
Все исполнит, сомнений нет, – на золото смотрел, как кот на рыбицу живую, трепещущую…
И он стал ждать вечера.
V Беглый
Сомнения человека, назвавшегося Иваном Белоконем, почти отпали, когда государь грудью пошел на фузею со взведенным курком.
Так безрассудно – видно ж было, что солдат и сам взведен, вот-вот выстрелит, – мог поступить только человек, с малолетства привыкший, что он над всеми начальник, что солдаты перед ним во фрунт тянутся, а оружие ни в жисть не направят.
Нелегкая судьба кое-чему государя научила, но иные ухватки навсегда с людями остаются, с ранних лет и до седин.
Вполне он уверился, подглядев на сборы государя в покидаемой бричке.
В секретном месте таилось именно то, чем должен владеть царь-император, скрывающийся от супостатов. Пистоли, по виду точно царские. Полный пояс казны. А самое главное – бумаги императорские, он видел их недолго, краем глаза, но сразу понял: конечно императорские, такая бумажища даже генералу не по чину, с орлом-то золотым, чуть не в четверть крылья распластавшим…
Он. Государь.
Называл его по прежнему «вашбродем», виду не подавал. Надо будет, сам все государь обскажет, откроется. Сейчас, решил он, главное – далеко от государя не отходить, нужность и полезность проявлять. А уж там судьба не подведет, он крепко верил в свою судьбу.
Легко сказать… С фузеей-то удачно повернулось: признал солдат государя в самый последний миг, не иначе, и дуло отвел. А вот с рохмисром не заладилось… Из злочинцев, видать, тот рохмиср. Не стал государя слушать, когда тот хотел верным людям в столице весточку послать.
Да тут еще чума проклятая, да указ, что враги государя царицке своей подложной на подпись сунули. Придумали же – здоровых людей под замком держать. А его, названого Ивана, вообще запирать глупо. Ну какая же чума к нему, судьбой избранному и помеченному, пристанет? И какой замок удержит?
Но заперли, супостаты. Разлучили с государем, порознь в узилищах держат…
Должно выбираться, постановил он. Самому выбираться, и государя выручать. Уж зачтется ему дело благое, без сумления.
Постановил он то на другой день, как очутился в преизрядном сарае, вроде как в сенном, да не по-русски устроенном. Чухна здешняя сарай отстроила, должно быть. И согнали сюда всех людей простого звания, кто в недобрый час у рогатки случился: крестьяне, да мещане меньшим числом, да двое лошадных офеней, а может, и по-иному их тут зовут… Но казак он один. И то сказать – разве ж степного орла этакий курятник удержит?
Не удержал… Первый день он приглядывался: что за двери тут, крепки ли стены и запоры, да где стража стоит, да как сменяется… Дуриком-то лишь медведь на рогатину ходит, да и то один раз: али приколют, али поумнеет, вдругорядь на дыбки не подымется, с четырех лап охотника подомнет…
Вторым днем, как вечереть стало, за дело взялся. Прилег у стеночки, сморило, дескать: кошмой накинулся, да ножом-то нижнюю доску и пробил. Та толстая была, но у земли сопрела в труху, получаса не трудился. Время в аккурат рассчитал – как раз смерклось, а в сарае и допрежь мрак фараонов стоял.
Выбрался, приладил обломок доски обратно, да и ушел, никто и не заметил. Хорошо ушел, по-тихому, без крови и без пальбы всугонь… Всегда бы так.
Оружием он был не богат. Нож добрый, да, – длинный, отточен так, что сам режет. А второе оружие и не оружие даже – снасть для татьбы ночной, выиграл в зернь как-то случаем, да сберег, понравилась. На вид как отвес плотницкий – гирька граненая на снурочке. Но крутанешь умеючи – свистит гирька, глазом не видна, и голову враз ломает. А если весь снурок распустить, да лукнуть особым манером – горло стянет не хуже аркана татарского. Полезная снасть, в общем.
Но более всего он не на нож, и не на отвес полагался, – на удачу свою неизбывную.
Пошагал к государю сразу. Медлить не резон: ночи здесь короткие даже на исходе лета, а разведать многое надо: и где сам государь, и как сторожат. Может, нынче ночью и не удастся выручить. Тогда в будущую уж точно…
Думал так, а повернулось все иначе.
Едва вернулся к рогатке, глядь: ведут надежу-государя от деревянной хоромины к шлахбауму и караулке. У рогатки факелы горели, да две лампы масляные, большие, на столбах, – издаля признал государя. Идет, не связан, не в железах, сзади и поодаль два драгуна держатся, с фузеями.
Мимо караулки прошли, и дальше идут, к кустам поближе, а там темно, чуть припозднился бы, так иль не заметил бы государя, иль не признал.
Встали втроем в сумраке, смутно видимые, ждут чего-то. Ну так дождутся: подберется поближе да обоих драгунов и кончит без шума. В караулке и не поймут, решат, что шавка в кустах завозилась. И вся ночь у них с государем в запасе…
Начал подбираться, а тут из караулки – рохмиср давешний, морда опять в тряпку завернута. И туда, к государю и драгунам.
Раз уж решил, то что двух кончать, что трех, разницы большой нет. Но он хотел сначала послушать, подобравшись тишком. Чтоб промашки не случилось – ну как рохмиср государев верный человек, а злочинцем прикидывался?
Подкрался, под конец пластуном полз, кусты там негустые росли. Не совсем в упор подобрался, но рохмиср с государем поодаль друг от дружки стояли, не пошепчешься, – и он все слышал.
И лучше бы не слышал…
Подбивал государь и склонял рохмисра на свою сторону, а тот отнекивался, цену набивал и денег больших требовал, непомерных, – видать, таких во всем поясе с казной и не было…
Тогда государь с другого краю зашел. Сумку кожаную показывал, где царские бумаги лежали, и растолковывал… так сразу не понять, о чем, слов много не нашенских говорил.
А когда понял названый Иван, о чем государь толкует, – словно небо ему на темечко грохнулось.
Государь не государь оказался. И ладно бы лишь это, в том вины нет, что спутник его случайный обознался…
Но обернулся бывший государь самым главным государевым ненавистником. Следил он, дескать, за государем в чужой земле, где тот скрывался, и выследил, и греха не побоялся, в царской крови руки измарал…
Нет больше помазанника божьего Петра Федорыча. Теперь уж насовсем нет. Не нашлось другого солдата верного.
О чем дальше разговаривали двое, он не слышал, вернее, ни слова не мог понять, все в уши, да мимо головы шло…
Судьба-планида поманила и обманула. Только что он был чуть не первым царевым сподручником, в тяжкий час императора выручающим. И кем стал единым мигом? Никем. Вновь беглецом беспашпортным, пути своего не знающим…
Он потерял то, что не увидеть и не пощупать: обретенный было жизненный смысл да виды на будущее. Но больно стало так, словно фелшар в гошпитальной палатке пилит раздробленную ядром ногу… Боль потери рвала грудь на куски, искала выхода. Он понял, что должен убить лжецаря, и немедленно. Пока не завопил от боли во весь голос, не начал биться в припадке о землю головой… Такое с ним случалось в одиноких бесплодных странствиях.
Четверых зараз не осилить, и стоят неудобно, вразнобой… Рохмиср далеко драгун поставил, чтобы разговор те не слыхали, – не подскочить к ним с ножом, успеют из фузей пальнуть. Пускай… Зарежет лжецаря, и будь что будет.
Не успел. Распрощались они с рохмисром, тот к себе в караулку, а лжецаря обратно повели, прежним манером, – он впереди, драгуны несколько сзади.
Пожалуй, пожить еще доведется… Если не зевать, всех троих кончить можно. А раз так, то следует всенепременно кожаную сумку с бумагами забрать, она так и осталась у цареубийцы, снурком к запястью прикрученная.
Шагали трое без торопливости, он же двинулся быстро, но кружно, оставаясь во тьме и подсекая им путь. Ичиги дозволяли бежать без самого малого звука. Дождался, когда уйдут от караулки подальше, – ну, не подведи, судьба-судьбинушка…
Один драгун так и не слышал ничего, пока граненая гирька ему в висок не вломилась. Пусть на том свете мнит, что молнией убило. Но хрустнула голова громко, второй услышал. Начал оборачиваться – хрусть! – шапка слетела, кусочки головы в стороны брызнули, а первый-то еще и упасть не успел.
А он – к лжецарю скоком. Тот быстро все скумекал, пистоль свой из кармана тянет… Ну на ж тебе, за государя истинного!
Прямо в сердце черное, злодейское нож воткнулся… Нет, не так… Он думал, что воткнется, но тот ткнулся и встал, рука вперед скользнула, ладонь и пальцы чуть не до кости рассеклись. Нож выпал под ноги.
Вот змей… Кольчугу носит, или панцырь… Крутнул отвес, а лжецарь уж пистоль свой вскинул, и…
В общем, оба разом они сподобились – один ударить, другой пальнуть.
Громыхнуло. Огонь в лицо дыхнул, и вроде как ветерком по щеке мазнуло… Впритирочку пуля прошла, но все ж не зацепила. А гирька дело сделала, рухнул супостат, как срубленный.
Он рядом присел, и за сумку. Про пояс с казной и не помыслил, да и то сказать: казны можно еще где добыть, а бумаги-то царские одни на белом свете, других таких не сыщешь…
Но сумку ту не иначе немцы делали, хитра. Снурок вблизи цепочкой обернулся, и крепкой, не порвать. И на руку не петелькой простой накинута, браслетка там, не расстегнуть никак, рука кровит, пальцы склизкие стали…
А с караулки уж бегут, сапогами грохочут, и от каменной хоромины тож, всех выстрел всполошил.
Попробовал внутрь сумки сунуться, одни лишь бумаги забрать, ан нет – замочек там, на вид никчемный, как игрушка дитячья, а с лету не открыть, не сломать…
Тут его заметили. Фузея грохнула, затем вторая. Так и ушел, ничего не взявши…
И мало что прибытка никакого, – еще и нож там оставил, не успел подобрать, с сумкой завозившись…
Потом-то понял: сразу надо было подымать, да кожу на сумке взрезать… Но по горячке не додумал.
Бежал спервоначалу, куда глаза глядят. Потом охолонул, левей стал забирать, к болотине. Едва ль по следу собак пустят, но кто знает. Не странника, чай, в степи за заячий полушубок прихлопнул, а двух солдат при службе и цельного ахсесора.
Под ногами зачавкало, отшагал по мокрости с четверть версты, потом опять на сухое место вышел.
Далеко ушел, заставы уж не видать и не слыхать. Решил остановиться, дух перевести, рану перевязать, та все еще кровила, но послабже. Нашел в кармане тряпицу, не особо чистую, но другой все одно не имелось, – обмотал кое-как.
Задумался: куда теперь? Места чужие, и ни единой звезды не видать, все за тучами, – не заблукать бы. Круг в темноте заложит, к заставе утром выйдет… Лучше уж на месте рассвета дождаться. Костерок бы запалить, невеликий, с бережением, – так даже огнива нет. Ничего нет… Одна лишь гирька на снурочке осталась.
Тут заметил: впереди непонятное что-то светлеется. Не мог взять в толк, потом все ж понял: костерок горит, понимающим человеком устроенный. Маленький, и в ямке разведен. Пламя со стороны не видать, но вблизи можно свет разглядеть, из ямы вверх выбивающийся.
Не пастухи костер жгут, и не ребятишки в ночном. Тем стеречься некого…
Стал подбираться сторожко, гирька наготове. Решил, что ежели один там кто – тогда тепло костерка ему сейчас нужнее, ичиги плохо воду держат, и после болотины в них хлюпало. И харчи, буде там найдутся, ему нужнее тоже.
А не один… Тогда поглядеть надо.
Один… И с лица вроде как знакомый…
Пригляделся: ну точно, тот ямщик-чухонец, с кем на станции они не сторговались…
Чухонец был степенный, в годах, изрядно старше названого Ивана. И здесь, в пустынных палестинах, у лиходейского потаенного костерка, смотрелся не на своем месте.
Гирька убралась в карман, стало любопытственно: каким ветром сюда чухну занесло? Вроде при деле состоял, а сейчас от людей таится, словно самый взаправдашний беглый. Может, какая подмога от чухонца случится?
Подошел открыто, окликнул.
Чухонец признал, пригласил к костерку. Там у него котелок с варевом булькал, – угостил. Жидковатая похлебка оказалась, и не пойми из чего, но на пару схлебали всю, прямо через край, когда поостыла, ложек не было.
Разговорились. У чухонца случилась беда – лишился воза с товаром, чужого. Не хотел в карантин, решил объехать заставу стороной, глухим проселком. Да и налетел на лихих людей. У тех, когда чума, праздник, – и в домах оставленных шуруют, и на дорогах озорничают пуще обычного. Отобрали воз с конями и поклажу, и прибили, ладно хоть не до смерти.
И как теперь расплатиться, чухонец не знает. Нет, он не в беглые решил податься. В мортусы. В трактире, где он горе заливал, болтали, будто большие деньги сулят тому, кто согласится трупы чумные подбирать да хоронить. Да только никто не соглашается, к чему все деньги, если сегодня ты, а завтра тебя крюком зацепят да к яме поволокут?
А он, чухонец, решил согласиться. Такие у него дела, что хоть в петлю лезь, хоть в бега подавайся, без денег никак… Но доподлинно все разузнав, передумал, и от чумных бараков ушел. Денег там не платят вообще никаких, ни больших, ни малых. Туда другим заманивают. По тюрьмам да острогам охотников ищут: кто доживет до конца службы, тот полное прощение получает, кроме тех, кто на государыню злоумышлял или в смертоубийстве повинен, таких в мортусы не зовут. И не только прощение: чистый пашпорт сулят, какое имя скажешь, то канцелярия и впишет. Иные соглашаются, но немногие: в чумной яме пашпорт тоже без надобности…
Услышав про новый пашпорт, названый Иван призадумался. Тот, где Белоконь вписан, теперь кровью замаран. Новый бы пригодился, в самый раз бы сейчас пришелся.
Но не токмо в новых бумагах дело, он и без них привычный… Но – привычный в своих местах, где людишек знает, пособить готовых… Здесь все чужие кругом, а за двух драгун и за ахсесора искать его будут рьяно, всюду будут искать, да только не в чумных бараках. Вон как драгуны даже от карантина шарахаются…
Выспросил у чухонца, как те бараки найти. Оказались они недалече, от заставы версты две, не более. Так даже лучше, под свечкой всегда темнее… Но по ночному времени те бараки не отыскать, заплутает, надо утра дожидаться.
Дожидались, толкуя обо всем, что под язык попадало.
Сначала он рассказал про войну и графский рубль, обидным образом пропитый.
Потом чухонец завел про случай из ямщицкой свой жизни, но про скушный. Названый Иван перебил, о чем-то спросив, разговор ушел в сторону и ненароком свернул на то место, где они сидели, на окрестности болотца с чухонским названием, тут же вылетевшим из головы, не для русского разумения оно оказалось.
Оказалось, костерок в ямке, неприметно, чухонец запалил неспроста, да не казенных людей опасаючись, бумаги-то у него в порядке. Стережется другого: силы нечистой, что на болоте здешнем издавна пошаливает.
Названый Иван согласно кивал: известное дело, хуже болот для душ христианских только церквы оскверненные да жальники позаброшенные, где люди нерусские зарыты, некрещеные. Кикиморы, небось, шалят?
Но здесь шалили не кикиморы.
Выяснилось, что была поблизости деревня чухонская, да не той чухны, к какой его знакомец принадлежит, не водской, с русскими людьми и одеждой, и обычаями схожей. Шумилаены там жили, белобрысые и рыбоглазые, потом сселили их куда-то, да не о том речь.
Так вот, у кузнеца тамошнего двойня народилась, а жена родами померла. Да и как не помереть, двоих рожаючи зараз, не по одному, не по очередке: младенчики-то сросшимися с утробе получились, да так срослись-перепутались, что не враз поймешь, что там где от которого.
Случаются такие уродцы изредка, но не живут, помирают быстро.
А этот, или эти, все никак не отойдут – пищат, ворочаются, хотя, понятно, никто с ними не нянькался, не обмывал, не пеленал, как в угол положили, так и лежат. Сильно живучие удались.
К ночи кузнец их писка не выдержал, он и без того от смертушки жены любимой не в себе был. В рогожный куль исчадия свои запихал, к болоту снес, к энтому самому, да и утопил, камень привязавши. До самого конца отродье трепыхалось, попискивало.
А болото тут невелико, но глыбкое. Порою мнится, что совсем без дна болото. Его ж потом, при царице Лисавете, засыпать затеялись, чтобы комары в дорожный дворец не летали, царский спокой не тревожили. Возили и щебень, и глину, и дрянь всякую многими возами, и он, чухонец, возил. Все в прорву уходило, а она как была, так и есть. Отчаялись, и другой дворец потом чуть поодаль строили, чтобы комары не долетали.
Вот и утопил кузнец потомство свое, диаволом помеченное, в бездонной прорве. Тут бы и истории конец, но она начиналась только.
Нехорошие дела на болоте начали твориться. То из ребятенков кто пропадет, а то и взрослый канет с концами, а иные возвращались, да странное рассказывали.
Болото – такое место, что нет, нет, да и возникнет там надобность. Даже если клюква не растет, а здесь не росла, все одно: то рогоза по зиме высохшего нарезать, овин покрыть, то мха набрать, щели конопатить, то еще что…
Ходили люди. И пропадать начали. А ребятенки-то и без нужды везде лазают… И тоже пропадали.
Меж шумилаенов слух пошел: дескать, перкела… У них ведь так – где что нечисто, так сразу перкела, энто вроде диавола нашего, что русского, что водского, – только на их рыбоглазый лад. Может, через то они от болота и съехали, может, и не сселяли их, дело давнее.
Не стало шумилаенов, а перкела не угомонился. И с русских деревень, и с водских прибирало болото жителей, кто поблизости к нему случался.
Да что там другие, он, чухонец, и сам тут кой-што повидал, когда с прочими засыпать болото ездил. Может, и приблазнилось все, да только вряд ли, сильно уж с явью схоже…
Рано утром случилось. Один он на возу к болоту приехал, так уж вышло, обычно-то пять-шесть повозок разом… А тут один. Разгружали и все в прорву сыпали кандальники, их поутру пригоняли, но чутком позже, подождать пришлось.
Ну он и слез с воза, поразмяться. И голос услыхал, жалобный такой, словно помощи кто кличет… Он туда, сквозь рогоз продрался, увидел, – и сомлел. Там вода начиналась уже, а из воды рука торчит, к нему тянется. Тонкая рука, небольшая, не мужицкая и не бабья, – или ребенка, или девицы молодых лет… Одна лишь рука, ничего более, словно глыбь кого-то уже с головой засосала, а он все вверх из последних сил стремится…
И зовет на помощь, а каким манером, не понять, не должон звук с под воды доходить, пузыри разве что булькающие… Ан доходит. Без слов, только голос, но жалобный-жалобный, и понятно, что помощи просит.
Но чухонец не поддался соблазну, знал нехорошее давно про те места… Думал, байки пустые, а тут вона как… Повернулся, и дай Бог ноги. На сухое вылез, на воз взгромоздился, не на козлы, на самый верх, да и просидел так, пока кандальники не притопали.
За рассказом развиднелось, потом и солнышко взошло, пригрело. Названый Иван засобирался, а чухонец вздремнуть прилег, – ночью-то уснуть и не чаяли, зябко, к костерку жались, руки к углям тянули. А теперь потеплело.
Распрощались, названый Иван пошагал в ту сторону, где бараки, и порядочно отошел, но передумал и вернулся.
Неправильно получалось: никто не будет знать, где он сокрылся. Никто, кроме чухонца. А тот денег не раздобыл, может, и впрямь в бега ударится. Без сноровки долго ему не бегать, споймают быстро, и на съезжей все расскажет. И про Ивана Белоконя тоже, про того тут долго всех будут выспрашивать, и знающих, и не знающих. Не будет справедливо, если он из-за чухны в железа угодит.
Он подошел к погасшему кострищу, доставая гирьку. И справил все по справедливости. Теперь никто меж мортусов, при чумных бараках его искать не придумает…
Но в мортусы он все же не сподобился.
К другому делу приставили, совсем уж гиблому, пропащему: в самом бараке за чумными уход вести… То был прямой и верный путь в яму с известью, но он не стал отказываться, полагаясь на свою планиду.
Вот как оно случилось:
Барак пока пустовал, а второй и не достроен был, под крышу подвели, но даже стропилы еще с одного края не стояли. Не навезли покамест чумных, ни с карантинов, ни с прочих местностей. Но лекари уже наготове ждали.
Для них отдельная времянка из досок склочена была, худая, щелястая. Углом к бараку примкнула, вроде как флихель к господскому дому. Как позже оказалось, у них там зараз и околодок был, и житье, и канцелярия чумная, и аптеха, хотя какие там уж снадобья для чумных, одна видимость…
Внутрях сидел, с утра угощаясь водкой, один лишь человек, и оказался знакомцем: подфелшар Аверьяныч с околодка при Пулковской станции. Названый Иван не удивился, таким пропойцам самое тут место.
Подфелшар узнал, принял с радушием:
– Здоров, казак! Водочки откушаешь?
Кто ж не откушает, после зябкой-то ночи, близь болота проведенной?
Аверьяныч набулькал не щедро. Названый Иван еще в станционном околодке отметил: без компании пить подфелшар не любит, но лишней тороватостью привлечь собутыльников не спешит.
Выпивши, заговорили о деле, и Аверьяныч сразу огорчил: здесь в мортусы, казак, не попадешь, хоть видно по тебе, что нуждаешься… Он кивнул на одежку как бы Ивана, измаранную землей и кровью – и своей, и той, что из проломленной драгунской головы во все стороны полетела.
– Но не выгорит у тебя, казак, – сочувственно говорил подфелшар. – Здесь, в чумном гошпитале, по штату мортус числится один. И место занято, промешкал ты. У нас-то нет нужды по градам и по весям колесить да мертвецов отовсюду собирать… Барак вон он, ров за ним недалече, – арестанты вчерась за полдня выкопали. Подцепить помершего крюком, да ко рву стащить, да известью присыпать, – вот и вся докука. Да с карантину сюда раз в день занемогших сопроводить. Служба не хлопотная, на нее двоих много будет. И мортуса в ту службу уж наняли, да такого мортуса… Увидишь его, так не враз позабудешь…
Аверьяныч вздохнул, поскреб щеку. Брился он редко, страдая утренней дрожью рук и досадуя потратам на цирюльника, и лицом напоминал спину молодого, едва народившегося ежонка, – сивая щетина росла не густо, но пеньки ее толщину имели примечательную.
– А главную-то, казак, команду мортусов набирают по градоначальничей линии… Полиция, стало быть, на бирает. Вот туда, казак, и наведайся.
Последние слова Аверьяныч произнес глумливо, не иначе как решив свести близкое знакомство с граненой гирькой. Но быстро исправился, сказав, что есть при гошпитале иная ваканция, и едва ли охотники сыщутся, разве что силком кандальника сюда определят, да только кто его тут стеречь станет? А награда обещана та же, что мортусам. Вон там, у канцеляриста, пачечка чистых пашпортов лежит. – Аверьяныч кивнул на изрядный железный ящик, прикованный к стене двумя цепями.
Выглядел ящик солидно, но придумка с цепями была от честных людей и для добротных стен. А из здешних, дощатых, пробои выдернуть – плевое дело. Не стащить, правда, ящик в одиночку, но вдвоем управиться можно.
– Что за служба?
– Санитарная… Страждущих обихаживать в чумном бараке… Вот ты пойдешь?
Он поразмыслил и сказал:
– Пойду. Налей-ка вдругорядь.
Изумленный Аверьяныч налил аж до краев, вопреки своему обычаю. Но отговаривать не стал, напротив, изобрел вдруг множество резонов, представляющих намерение собеседника не столь безрассудным… Не иначе как опасался, что, не сыскав санитара, его самого отправят в барак, чумных страдальцев обихаживать.
– А кто за главного у вас тут будет?
– За главного ихсокобродие Коппель, Медицинской канцелярии надворный советник… Он согласно указу гошпиталем заведует. Но издаля заведует, тут, мню, и не объявится ни разу.
– Ну а кто ж тогда здесь, при бараках, за начальника?
– Дык у нас…
Аверьяныч не договорил, поскреб в сомнении свою ежовую щетину, и тут дверь открылась, зашли двое.
– …вот они за главных, вдвоем, Фридрих Альфре дыч да Генрих Альфредыч. Превеликих познаний меди кусы.
– Немчура? – уточнил он.
– Она и есть… Затирают нашего брата, русского лекаря, ходу не дают… Сидят по верхам, в канцеляриях-дехпартаментах, и токма своим протекцию делают…
Медикусов, кроме их прямого назначения, недурно было бы поставить на огороде, пугать ворон и прочую вредную птицу. Оба высоченные, тощие, ну натурально две ольховых стоеросины. И нарядились пугалами – плащи чуть не до пят, с башлыками, и не то провощенные, не то еще чем-то пропитанные. Башлыки наверх надеты, а под ними – личины скоморошьи, святочные: птичьи головы с длинными клювами, и вместо птичьих очей не просто дырки для глаз, а стекляшки круглые вставлены.
На затертого их стараниями русского лекаря и на его собеседника немцы внимания не обратили. Молча начали разоблачаться, сняли плащи, личины… Оказались они, к удивлению как бы Ивана, совсем юными, хоть и ростом удались с лихвой. А еще – лицом одинаковые, не просто братья, как можно было понять из единого для двоих отчества, – братья-близняшки, поди разбери, кто тут Фридрих, кто Генрих.
Небось и сами не знают толком, небось в младенчестве их батька с мамкой перепутывали, да не по разу.
Их-то, любопытственно, за что сюда упекли? Лица не пропитые – видать, в чем ином согрешили… Отрезали, небось, чего лишнего, – да не простому человеку, а в чинах пребывающему. Немчуре лишь бы резать, вон и тут у них на столе железки острые разложены-наточены, лежат, часа своего поджидают.
– По нашенски-то разумеют?
– Ни в зуб ногой.
– Как же начальствуют?
– Дык я ж и перевожу… И то сказать, что тут ко мандовать? Живых – в барак, мертвых – в яму.
– Неужто по-ихнему знаешь? Врешь, небось…
– Не сумлевайся, казак… Гляди, щас про тебя доложу.
И Аверьяныч заговорил с немцами. Звучала речь его и впрямь на немецкий лад – словно кобель погавкивал.
– Was sagt er[3] – сказал не то Генрих, не то Фрид рих.
– Er wieder betrunken[4], – откликнулся его брат.
– Ну как, согласные на мою службу? – поинтересовался названый Иван.
– Согласны… Вот только сумление их разбирает: с чего бы ты, казак, все же в чумной барак-то наладился? Ладно б мортусом, тот хоть на палку с крюком, а все ж от чумных подалее…
Он решил ответить немцам напрямую, без толмача. Поймут, разберутся.
Взял со стола ножичек лекарский малый, – ручка железная, острие небольшое, человека не враз и зарежешь. Надпорол одним махом ворот, разорвал чуть не до пупка рубаху, раздернул в стороны.
Он любил жесты красивые, эффектные, хоть и не знал такого слова.
– Глядите, господа медикусы! Не страшна мне чер ная хворь! Не прилипнет, знак на мне есть!
Фридрих с Генрихом уставились на его грудь, на метки, оставшиеся после гошпиталя в Лисаветграде, – одна, затейливая, напоминала двухголового орла, другая была попроще, кругловатая, как шрам от пули.
– Die Beulenpest[5], – сказал один близнец.
– Ohne Zweifel[6], – сказал другой.
– Der Glückspilz[7]… – вздохнул, о чем-то запечалившись, первый.
– Für das, was die Schweine Glück[8]? – сказал второй, что-то желая узнать, судя по тону.
– О чем пытает? – спросил названый Иван, ничего не понявший в тарабарщине.
– Антересуется, много ль водки пьешь, – растолковал Аверьяныч.
– Скажи, в плепорцию пью, здоровьем не вышел, больше ведра зараз не влазит, – сказал он, решив удивить немчуру, еще в прусскую войну довелось отметить, как дивятся тамошние людишки способностям русских к питейному делу.
Аверьяныч перетолмачил. Немцы-близнецы удивленными не выглядели, видать, пообвыклись в Расее. Квакнули что-то еще по разу и потеряли интерес к вновь рекрутированному санитару.
Подфелшар объяснил:
– Велят, если перстень вдруг найдешь у больных и померших, али крест золотой нательный, али еще что дорогое, – так чтобы с найденным в кабак не бежал, чтоб сюда нес и мне под отчет сдавал, строго с энтим у нас.
Строго так строго, не за крестами нательными он сюда заявился.
Вскоре названый Иван получил здешний мундир: провощенный плащ, и сапоги, и длинные, по локоть, перчатки. В придаток выпросил рубаху, взамен замаранной и разорванной: дали плохонькую, не беленую, но иных тут не имелось.
Только личину птичью не выдали: дескать, ни к чему она тебе, один раз уже черной смерти избегнувшему.
Он запечалился – отпугивать заразу страхолюдным клювом и стеклянными очами считал глупым, но под личиной уж точно никто бы его не узнал. Но не надолго: упрятал бороду под высокий край плаща, башлыком накинулся, тот спереду сполз ниже носа. Взял в руки обломок зеркала, что на стене висел, глянулся, опустив тот пониже: и так не опознают, разве что под ноги заползут, снизу вверх глядючи.
А затем и первых заболевших подвезли, с дальней заставы, – карантин собрался там большой, не чета малому, среднерогаточному.
Длинная открытая фура с болящими катила медленно, и позади нее шагал мортус – при всем параде, в плаще и личине. При виде его названый Иван изумился. Всякого он насмотрелся, за войны и за странствия, но такого… Нет, не видывал.
VI Каин
Он не сразу сообразил, где он и как сюда попал, и такого с ним не случалось давненько. Обычно, едва проснувшись, он тотчас понимал, где довелось уснуть.
Сейчас же не менее минуты смотрел на склонившееся над ним женское лицо, не мог взять в толк: кто это? И где он, тоже не понимал… По истечении минуты тоже не понял.
– Очнулись, Николай Ильич? – спросила женщина, нет, девица… лицо вроде знакомое… но как же ее зовут…
Полутемная комната была освещена странным образом: свет шел полосами, словно от нескольких фонарей со слегка приотворенными дверцами, и выхватывал из полутьмы, подсвечивал отдельные детали. Одна полоса осветила балдахин над его головой, некогда роскошный, а ныне обветшалый, с обрывками выцветшего глазету, большей частию ободранного, и с гарусовыми кистями, траченными молью. Другая – кусок стены, где за расползшейся обойной тканью виднелись доски. Третья же – лицо девушки, единственное живое и свежее пятно в этом мертвом царстве.
«Кто вы?» – хотел он спросить, не получилось, он сделал над собой усилие, разлепил губы и все-таки произнес:
– Кто вы?
– Я Маша, Маша Боровина, вы не помните? Мы вместе в карантине.
Глаза ее блестели, голос звучал волнительно, слегка подрагивал… Давно так на него не смотрели девушки, и не обращались подобным тоном тоже давно.
Маша… Машенька, так она просила ее называть… Память неохотно возвращалась.
– Я помню, Машенька… – сказал он.
С каждым словом язык и губы слушались все лучше, но улыбнуться, как намеревался, толком не получилось. Он и в лучшем своем состоянии плохо умел улыбаться.
Он чувствовал, что слаб, и сомневался, что сумеет встать. Из тела словно кто-то повыдергивал мышцы, заменив их мягким льняным очесьем. Голова категорическим образом не желала ни о чем размышлять… Словно решила, что, вспомнив Машеньку, потрудилась сегодня для своего владельца с избытком и спешно отправляется на вакацию.
На волосах ощущалось нечто чужеродное… Он потянул было туда руку, движение ее удавалось с трудом.
– Не троньте, у вас там рана, – предупреждающе сказала Машенька.
Он оборвал свой жест, раз уж все прояснилось. Рана так рана, не впервой… И стал пытаться размышлять дальше.
«Карантин, – зацепился он за произнесенное Машенькой слово, – мы вместе в карантине… но не только же вместе с ней… да, нас пятеро… в заброшенном Путевом дворце, в двух смежных комнатах с заколоченными окнами…»
Пятеро…
Прислушался: ни единого звука, свидетельствующего о присутствии людей, из соседнего помещения не доносилось, даже самого слабого.
– Что с остальными? – спросил он с нехорошим подозрением.
– Папеньку забрали. И Савелия Иваныча с ним вместе, третьего дня. И маменьку. Последней, сегодня утром.
Третьего дня?! Который же день он лежит?
Он ничего не стал спрашивать, он понял вдруг, что и глаза у Машеньки поблескивают, и голос чуть подрагивает отнюдь не от манерного девичьего волнения…
Глаза полны слез. А в голосе прорывается сдерживаемое рыдание.
– Я думаю, Николай Ильич, мы тоже очень скоро умрем.
Она сказала это удивительно спокойно, учитывая содержание слов, и голос дрожал не более, чем когда напоминала свое имя.
А затем словно вешний паводок прорвал плотину мельницы – земляную, разовую, от лета до весны возводимую.
Она рыдала в голос, стоя на коленях у кровати и сложа голову ему на грудь. Он ощущал себя неловко.
Он не умел утешительно лгать. Он лгал лишь на службе и в интересах дела.
И попытался ободрить ее, сказав правду: чумной барак – не смертельный приговор для всех без исключения, попавших туда. Порою страждущие выживают, выздоравливают и возвращаются оттуда. Он самолично знал двоих таких (на деле он знал троих, но не догадывался о том).
Не стал лишь прибавлять, сколь редко происходят выздоровления… Пусть умрет с надеждой.
Сам он ничему не расстроился и ни на что не надеялся. Смерть – значит, смерть. С каждым случается, самая заурядная строка в конце любого послужного списка.
Он ждал, что рыдания затянутся, и придумывал, что же сказать еще… Но прекратились они на изумление быстро. Машенька поднялась на ноги, отворотила от него зареванное лицо. Извинилась, все еще сдавленным голосом, и вышла. За перегородкой заплескала вода. Умывается в тазу, понял он.
Замечательных душевных качеств девица… Не надо бы ей умирать.
Он вновь поднял взгляд на обветшалый балдахин… Вот уж не мог помыслить, что придется ждать смерти, лежа на царицыной кровати. И даже обещанное белье выдали, пусть и грубоватое, дешевое.
Императрица Елизавета здесь почивала, он не гадал, он знал наверное: работами по возведению дворца некогда руководил его отец. И он бывал здесь подростком, когда эти стены лишь возводились. И вот жизненный круг замкнулся… Почти замкнулся… А если вдруг окажется, что чумные бараки располагаются на болоте Кикерейскино – а так, судя по всему, и есть – тогда…
Он оборвал рассуждение. Запретил себе его продолжить… О чем он там? Да, о покойной императрице… Дочь Петра, поднявшись к трону на штыках лейбкумпании, приобрела на все оставшуюся жизнь некую манию – опасалась, что кто-либо повторит сей coup d'Etat уже в отношении нее. И среди прочих способов бережения ввела и такой: ни разу не ложилась две ночи кряду в одну постель, случайным образом меняя спальни и в Зимнем, и в Царском Селе… И даже здесь, в скромном и невеликом Путевом дворце, государыню поджидали сразу три спаленки – на случай, если остановка в пути подгадает на ночной или послеобеденный час…
Царствующая же императрица, хоть и сама взошла на престол не самым мирным способом, не желает…
Мысль ожгла, как удар хлыстом. Он вспомнил все. Всю свою эпопею последних дней: от встречи с казаком Иваном Белоконем на Пулковской станции – до расставания с ним же, когда тот поставил кистенем точку в их знакомстве. Впрочем, знакомство могло продолжиться… Он выстрелом сбил казаку удар, и только оттого сейчас жив. Но и казак ответил тем же, попортив точность прицела – он не был уверен, что пуля вошла между глаз, как метился. Могла скользнуть по черепу, могла вообще пролететь мимо.
Но дело не в казаке… Дело вовсе не в казаке… И разлеживаться ему нельзя.
Он отдал приказ телу, невзирая на все отговорки не желающей повиноваться плоти. И очутился на ногах. Пошатнулся, чуть не рухнул обратно. Ухватился за столбик кровати, устоял. Голова откликнулась, как и ждал, – резким всплеском боли, по счастию, недолгим.
В дверном проеме возникла Машенька, привлеченная его движением и явно желавшая водворить больного обратно. Но остановилась, смущенно отвела взор – на нем была лишь сорочка до бедер, что он надевал под панцырь.
– Отпустило меня, Машенька, на ногах держусь, – солгал он (исключительно в интересах дела). – Где моя одежда?
Невдолге он сидел на табурете, одетый, и Машенька разбинтовывала ему голову. Сначала отнекивалась, но он настоял: дескать, лучше понимает в ранах, должен сам поглядеть.
Увы, плохонькое зеркало – небольшое, мутноватое, без рамы, – дополнившее обстановку за время его беспамятства, делу не помогло. Как ни вертел головой, как ни скашивал глаза, рану разглядеть не смог. Ощупать тоже толком не мог, малейшее прикосновение отдавалось болью.
Он снял зеркальце со стены, примерился им к углу топчана. Вопросительно глянул на Машеньку.
– Не жаль?
– Бейте, чего уж теперь…
Затем она вдруг озорно улыбнулась, встряхнула волосами, пушистыми, нежными, став снова похожа на charmant lutin, очаровательного бесенка.
Как она сохранила такие волоса, удивился он, потом вспомнил, что сулили бадейку горячей воды, наверное, и щелок вытребовала…
– Бейте! – приказала Машенька. – Вдребезги! На сей предмет я сердита с малолетства!
И тут же улыбка исчезла с лица, как свечку задули. Вспомнила… На миг забылась и тут же вспомнила…
«Не годится ей умирать», – подумал он вновь о том же. Подумал с несвойственной ему растерянностью, он не терпел задачи, что не мог решить, и препоны, что не мог преодолеть… Он ненавидел быть бессильным, но здесь и сейчас, на его месте, бессилен был бы любой.
Он раздраженно ударил зеркало об угол топчана и расколол на три куска, хотя хватило бы двух.
Мерзавец Белоконь угодил аккурат по старой ране, как нарочно метил, – и он почувствовал, что круг времен смыкается все туже. Дворец, болото, теперь вот новая рана на том же месте…
Рана была неглубока, хоть и обширна. Крови наверняка пролилось немало, но кость цела. С чего же он тогда провалялся три дня и четыре ночи? Потом сообразил: то было не одно лишь беспамятство от удара. Но и последствия минувших полутора месяцев, когда поспать ему удавалось по три-четыре часа, крайне редко долее. Годы уж не те, и тело при первой оказии взяло свое…
Он вообще не понимал, отчего еще жив. Как уцелел не от казачьего кистеня, а позже. Почему ротмистр Карин не приказал своим надежным людям добить, списав все на Ивана… У него непременно должны быть среди драгун избранные и доверенные, на все готовые по слову командира.
Но не добили… Раз так, надо приводить себя в порядок.
– Обед уж был? – спросил он, определив примерное время по расположению солнечных пятен.
– Вскоре принесут, – сказала Машенька, посмотрев с легким осуждением: как, дескать, можно на пороге Вечности заботиться о низменных материях?
И можно, и должно. Голода он не ощущал, но подкрепиться необходимо. Потому что для него еще ничто не завершилось – он не знал главного: удалось или нет ему спасти императрицу?
* * *
Первое подозрение мелькнуло, когда драгун громко пригласил его на выход: он приблизился к двери, и солдат тихонечно, чтоб не услыхали другие, добавил:
– Бумаги возьми, вашбродь. Человек, тебе потребный, ждет.
А про империалы и не вспомнил. Ни тогда, ни позже. Небывальщина… Да точно ли тот солдат был? С тряпкой, обмотавшей лицо, толком не разобрать. Говор тот же, окающий, так ведь и полк-то Вологодский…
Утраченный интерес к золоту еще полбеды. Странно другое… Допустим, Карин послал-таки в Экспедицию. Пусть с задержкой, или у посланного вышла заминка на ближней заставе, что на Лиговском канале.
Но ведь он тогда, у шлагбаума, к ротмистру обратившись, ни слова не сказал о том, что должен передать Шешковскому бумаги. Степан Иванович, разумеется, должен был сообразить, чего добивается подчиненный, застрявший в карантине. Но посланец обер-секретаря не стал бы откровенничать ни с ротмистром Кариным, ни, тем паче, с его солдатами – в Тайной экспедиции служат люди иной закалки.
Так почему драгун сказал про бумаги?
Бумажник он взял – раз уж о документах знают, глупо оставлять их в карантине. Но шагал в сторону караулки, готовый ко всему. Пистолеты в карманах, и порох на их полках сменен на свежий. Стилет в ножнах, пришитых к изнанке рукава. Ну а с панцырем он сроднился, тот стал как вторая кожа, даже спать при нужде не мешал… Он надеялся: если ротмистр затеял какую-то каверзу, то панцырь может стать сюрпризом… Для многих уже становился.
Никакого посланника Шешковского на Средней Рогатке не оказалось. Беседовали с ротмистром Кариным, тот требовал денег за услугу, но как-то странно требовал… Казалось, что возможные неприятности со стороны Тайной экспедиции Карина не волнуют. Встречаются такие люди, спору нет, но и для жадного дурака, способного забыть обо всем при виде золота, ротмистр держал себя неподобающе.
Неправильно торговался… Словно бы хотел проверить, с какой суммой готов расстаться его визави, и не более того. Желает понять, сколько денег в поясе, чтобы решить, стоит ли рисковать, отобрав все?
Последняя мысль показалась наиболее истинной. И он склонялся к запасному плану, продуманному на тот случай, если подкуп не поможет.
Применительно к нынешним обстоятельствам план был таков: хорошенько обидеть Карина и двух его головорезов, по возможности не до смерти. И уходить пешком, не зарясь на драгунских коней. Сойти с тракта, добраться до внутреннего кольца застав. И там повторить попытку связаться с Шешковским. Два раза подряд не повезти не должно… Но если уж не повезет… Тогда придется рискнуть и прорываться в город. Не хочется, но придется. То, что вызревает в Прехове, может оказаться пострашнее любой чумы, и соберет больше жизней. Смута ведь собрала…
Но потом ротмистр Карин сказал несколько слов, и все разительно поменялось.
Слова были тайным опознавательным знаком, parole, как не слишком правильно называют его французы – одно секретное слово кто-нибудь и случайно произнести может…
Тайная экспедиция на то и Тайная, что всем известны и доступны те ее чиновники, что в присутствии сидят или хотя бы туда наведываются. Но есть и такие, что нарочито порог не переступают, служат в другом ведомстве, там чины и ордена получают, но на деле подчинены Шешковскому. А есть и такие, что не служат нигде, и агенты есть тайные в иных державах… Всем им друг друга как-то узнавать надо, если доведется столкнуться – по воле обер-секретаря, или же случаем…
Для того тайные слова и существуют. Произнесет их кто – и ясно: пред тобою соратник, в одном строю стоит, хоть и не видывали друг друга никогда.
Ротмистр тайные слова произнес.
Но Каин понял иное: пред ним враг, причем один из самых опасных и матерых.
Потому что тайные слова меняются время от времени, и ротмистр назвал parole старый, уж два с лишком месяца не действительный… И не за золото было куплено тайное знание – пыткой перед смертью вырвано, в ином случае двурушник переметнувшийся и новые бы слова сообщил…
Он вдруг похолодел, хоть вечер был не зябкий. Все сходилось, все складывалось один к одному…
Он не знал, разумеется, всех агентов Экспедиции, пропадавших и погибавших в последние месяца, про всех лишь Степан Иванович ведает, – однако те, о ком он знал, сгинули в Польше. Но не это главное…
У Кариных поместья под Симбирском, а в те края ссылали немало плененных поляков до недавних пор (теперь, после многих побегов, шлют подалее, в Сибирь, а то и в Камчатку), но это совсем не главное – ротмистр в Польше бывал, мог и там переметнуться, прельстившись на деньги или что иное.
Главное – жизнь императрицы.
Он не сумел дознаться, как именно конфедераты планировали цареубийство – занимались тем среди врагов другие люди, не те, что натаскивали самозванца.
Умозрительно грешил на попытку отравления: так надежнее всего, ибо убивец с кинжалом или пистолетом слишком многим случайностям подвержен, а волки в прехтовском логове собрались матерые, играли наверняка…
Сейчас, на поросшем кустарником лугу, невдалеке от караулки, он понял, как ошибся… Опытность в розыскных делах – вещь бесценная, но его подвела. В молодости он участвовал, хоть и на вторых ролях, в расследовании дела братьев Блюментростов – в бытность одного из них лейб-аптекарем, а второго лейб-медиком с подозрительной частотой начали умирать императоры и императрицы дома Романовых, – за пять лет на троне побывали четверо, и все, освободившие престол, умирали якобы своей смертью, от естественных причин.
Тот опыт сыграл злую шутку, он взял в голову отравление – и о других версиях всерьез не думал… И проглядел очевидное, два дня перед очами так и маячившее… Команда вернувшихся из Польши головорезов, неизвестно чьим начальственным попущением угодившая под Санкт-Петербург в караульную службу…
Сомнений нет, что большая часть драгун верна присяге, хоть и попривыкли к дурным делам в Польше. Но вся команда и не нужна… Достаточно десятка, много двух десятков оборотней, отобранных из прочих и отряженных в караул в день проезда императрицы. И Средняя Рогатка сменит имя на Кровавую Рогатку.
Он понял все, но не знал, что сделать.
Он мог убить ротмистра, не сходя с места, но боялся ошибиться и не суметь исправить ошибку.
Что, если Карин не главарь? Что, если он лишь нанятый пособник, и за спиной его скрывается какой-нибудь унтер или даже неприметный солдатик, говорящий с едва заметным польским акцентом, а то и без акцента?
Беда небольшая, будь он полностью уверен, что разминется с пулей из драгунской фузеи – на расстоянии, как ни странно, сие сложнее, чем при стрельбе почти в упор, не виден миг спускания курка…
Убьют – и что?
Ему-то разницы нет, он так иль этак, по разумению ротмистра, отсюда не уйдет, даже избегнув чумы: Карин своим самозванством отрезал себе пути к отступлению, и угодивший к нему в руки чиновник Экспедиции должен умереть, не связавшись с начальством.
Ему-то все равно, да дело пострадает.
Дознание никто не проведет, и команду не уберут подальше от столицы, предварительно взяв под арест оборотней. Он оборвет вершок, – все корешки останутся на месте, и Рогатка все же станет Кровавой.
Он понял все – и начал отчаянную игру. Игру человека, обреченного на смерть, – со своим убийцей, считающим, что все козыри на руках.
На кону стояли три ставки.
Он должен был уйти с этой луговины живым.
Он должен был уйти из карантина, и не в чумной барак.
Он – на случай, если первые две ставки не сыграют, – должен был убедить Карина, что заговор конфедератов раскрыт, что в Экспедиции все о нем ведают, от альфы до омеги, что партия заговорщиками проиграна, не начавшись. И что единственное спасение для ротмистра-изменника – немедленное бегство.
Он сделал вид, что поверил картавому убийце, что принимает его за посланца, даже за наперсника Шешковского. И рассказывал ему то, что написал вчера для обер-секретаря, благо тайны конфедератов и без того были известны если не ротмистру, то тем, кто скрывался за его спиной.
Блеф состоял в постоянно вворачиваемых ремарках: «как известно его высокородию», «как уже знает Степан Иванович», «как я ранее докладывал рапортом»…
Как новое и неизвестное он преподнес то, что в записку не попало: подробности смерти самозванца. Дескать, именно это и есть важнейшая новость, что он везет Шешковскому, остальное обер-секретарю и без того ведомо. Расписал в красках, до мелких подробностей, как умирал Лжепетр польской выделки, и свою в том роль не преуменьшил, и даже в качестве подтверждения извлек из бумажника и показал роскошные самозванческие документы…
Теперь он радовался, что второпях написал записку для Шешковского сухо, коротко, пунктами. Лишних пояснений нет, и листок, буде попадет в чужие, враждебные руки, станет похож отнюдь не на рапорт, а на краткий меморандум, сводящий воедино давно известное, но разбросанное по разным документам.
Только что произведенные выводы о драгунской команде тоже пошли в ход: он осведомился, как у своего, не знает ли ротмистр, насколько продвинулось дело о выявлении заговорщиков-цареубийц в армейских полках? Мол, когда он уезжал, круг подозреваемым изрядно сузился, – не заарестовали, часом, с тех пор супостатов?
Ему казалось, что он близок к выигрышу. Ротмистр от свалившихся на голову известий выглядел не просто озадаченным – потрясенным до глубочайшей степени. Под конец явно пытался скомкать разговор и уйти. Даже бумажник, кой наверняка собирался забрать, не стал требовать…
Он возвращался в карантин с чувством победителя. Надеялся, что возвращался ненадолго, что нынче же ночью уйдет, – запугать и обратить в бегство Карина неплохо, но куда лучше доставить в каземат Петропавловки. Очень уместно будет там смотреться Вологодского д'агунского полка секунд-'отмистр Ка'ин, а даже его картавость при допросах не помешает…
А потом появился невесть откуда Иван Белоконь, словно бы накушавшийся в своем карантине болотных мухоморов. И перевернул все с ног на голову, попутно раскроив означенную часть тела.
* * *
Разбитой головой ущерб от покушения Ивана не исчерпался.
Пропали пистолеты, и стилет, и пояс с деньгами, и даже панцырь с тела сняли. Но, что главнее всего, – пропал бумажник с документами.
По рассказу Машеньки, когда его, бесчувственного и окровавленного, вернули в карантин (а времени после выстрела минуло изрядно), на запястье была лишь браслетка с обрывком цепочки. Внесли его папенька и Савелий Иваныч, коих для сей работы вывели на улицу. Они же с маменькой, приняв попечение над больным, браслетку сняли, чтобы не делала препятствий кровотоку. Не враз разобрались, как снять, снималась она хитро, но сняли.
Он – уже сейчас, отобедав – спросил, где браслетка, и, получив, обследовал дотошно. Цепочка оказалась не порвана, перекушена в одном звене чем-то острым, вернее всего клещами или слесарскими щипцами. Бумажник взял не казак Иван, тот в лучшем разе имел времени лишь выдернуть пистолет из ослабшей руки. Бумажник находился у ротмистра, и он вновь порадовался, что записка никак не опровергнет его выдумки, прозвучавшие на луговине.
Интересно, ротмистр при обыске сам рискнул касаться подозреваемого в чуме, или кого-то из нижних чинов заставил? Вопрос был из области отвлеченной риторики, ответом Каин не интересовался.
Он поглядел сквозь щели досок, застивших окно, и обнаружил новацию: внизу, как раз под их комнатами, дежурили пять драгун, при палашах и фузеях. Под иными окнами, сколько он мог видеть, постовых не стояло.
Когда принесли обед, он скрылся в женской половине, решив, что лучше и далее числиться серьезно больным, едва не умирающим: все блюда и напитки через дверное окошко получала лишь Машенька, наученная должным образом на случай, если спросят про его здоровье. По справке от нее выяснилось, что принесли обед двое солдат, лишь с палашами, как и было заведено в первые два дня. Но сопровождали их еще четверо, вооружившись, словно в бой, и так всегда бывает после нападения Ивана. Постоянно у их двери солдаты не дежурят, но где-то невдалеке, на стук появляются быстро – опять же вчетвером, оружные.
Все стало на свои места. Ротмистр битый волк, хоть и взволновался, да голову со страху не потерял, и в тот же час в бегство не ударился. Или вовсе не имеет такого намерения, или ведает, что ополоумевших, сломя голову несущихся беглецов ловят допрежь прочих, – и тогда сейчас подготавливает свой уход.
Он, Каин, жив лишь потому, что ротмистр не мог исключить такую возможность: если Шешковский ждал возвращения своего конфидента к определенному сроку, то способен понять, что с тем стряслось, и начнет розыск по карантинам. Слишком многие слышали слова, сказанные поверх драгунских голов у шлагбаума, чтобы спрятать концы в воду и от всего отпираться.
Ему дали отсрочку, дозволяя помереть самому, от раны в голове или же чумы. На чуму ротмистр должен полагаться более – если из пятерых карантинированных трое заболели, у оставшихся шансов выжить нет. По крайней мере шансов, видимых без увеличивающего стекла…
Но отсрочка дана. А чтобы Каин не использовал ее для иного – карантин обратили в добротно охраняемую темницу.
Разумно. Он сам бы не сделал лучше, окажись на месте ротмистра и зная, что знает тот. Из чего следовал печальный вывод: ежели не помрет сам, добьют, – когда придет час бегства или же минет некий срок, а люди Шешковского не объявятся. Он тоже не стал бы церемониться с попавшим в руки врагом.
Бежать сейчас он не мог, и к вечеру, дождавшись тьмы, не мог: силы восстанавливались медленно.
Обед, вполне пристойный по здешним меркам, укреплению ослабшего тела весьма посодействовал. По карантину Каин двигался свободно и с Машенькой говорил без прежнего мучительного напряжения, и вообще выглядел оправившимся. Но сам чувствовал: на то, чтобы вышибать двери, либо прыгать в окна, либо вступать в безоружную схватку с караулом, сил никоим образом не достанет.
На окончательную поправку он отвел себе сутки, решив спытать судьбу через ночь. Дольше мешкать не след. Ротмистр сейчас как на иголках сидит… нет, как на саблях острых, вверх повернутых и до сердца дойти способных. Его, как пуганую ворону, любой куст напугать может. Нежданный визит начальства, например, или случайно заданный вопрос, показавшийся двоесмысленным. Под петлей ротмистр ходит, изменникам причитающейся, сам то понимает и в каждом встречном шпиона Экспедиции подозрить готов… В любой миг сорваться может.
Но сутки придется выждать… Точь-в-точь как ротмистр – не то на иглах, не то на саблях сидючи.
Он выжидал… Коротал время, общаясь с Машенькой, старался хоть немного рассеять ее уныние. Рассказывал о разном, о странствиях своих по России и по Европе (что мог рассказать, разумеется, тайного не касался).
Иногда отвлечь получалось, Машенька забывала, где они и что им грозит, живо спрашивала о том и об этом. Но чаще слова пропадали всуе, она их слышала и даже отвечала что-то, но по лицу было видно: думает о своем, о нехорошем.
Близился ужин, но до того принесли горячую воду, действительно с толикой щелока. Он вновь укрылся в женской и, лишь выждав уход солдат, подошел к двери, снес бадейку, – двухведерную, Машеньке не осилить.
Был опять изгнан на ту половину, Машенька помылась, затем отправила и его: дескать, горячую расходовала с бережением, полбадейки осталось. Он с удивлением уловил в ее голосе нотки Алевтины Петровны, обращавшейся к супругу, и понял, что у запертых и обреченных жить совместно мужчины и женщины поневоле сложатся отношения, отдаленно напоминающие брак…
Помылся, жалея, что нет чистой смены. По русскому обычаю перед смертью надо бы одеть… Свернуть, что ли, дулю костлявой: погодь, дескать, пока пошлю до прачки? Авось замедлится с ударом, отложит косу ненадолго…
Немногим позже принесли ужин, он вновь укрылся. Машенька, приняв ужин, окликнула его, чтоб не спешил, она позовет. Помедлив и дождавшись зова, он вышел на общую половину, удивился: доселе трапезничали с коленок, по отсутствию мебели. Теперь все пять табуретов были составлены у топчана в некое подобие стола, застелены небеленой чистой простыней и сервированы по скудным их возможностям… Горели шесть свечей – уже смеркалось, и в щели меж досками почти не проходило свету.
Еще удивило вино, две бутылки, неужто начали выдавать? Удивился он вслух, и Машенька растолковала: вино купила своекоштно, потратив оставленный маменькой перстенек.
Он ждал, что будут снова рыдания, и пожалел, что затронул, не ведая, тему о маменьке. Ошибся, она лишь пригласила пожаловать к столу.
Он понял, что Машенька симпатична ему все больше, и сложись жизнь иначе, он хотел бы иметь такую дочь.
Каин все еще не смекнул, к чему клонится. Он не был глуп, но понимал в сыске, а в молодых девушках – куда как меньше.
Ужин закончился. Бутылка опустела, а вторая ополовинилась.
– Я знаю, что некрасива, – произнесла Машенька, чуть отодвинувшись по топчану и поворотясь к нему. – Молчите, не перебивайте! Мне трудно это сказать… Я готовила слова, как вы очнулись, и сочинила красивые и возвышенные, но все они куда-то растерялись. Я буду говорить по-простому, не смейтесь, пожалуйста. Вы мне очень симпатичны, Николай Ильич. Случилось так, что я не раз представляла именно таким, как вы, своего будущего мужа. Не внешне, но сутью: он будет старше меня, знала я, и намного, но останется молод душой, он будет не красавец, но приятной внешности, он будет послуживший и познавший жизнь, – однако обретет через то не цинизм, но опыт и мудрость… Я думала жить с таким человеком, сколько отпустит Господь, любить и уважать его, рожать ему детей. Потом все обернулось иначе, а теперь нам с вами предстоит скорая смерть. Мне показалось, Николай Ильич, что невзирая на дурную мою наружность, вы не испытываете ко мне отвращения. И я хочу вас просить… Сознавая все неприличие и всю бестактность моей просьбы, но все же оправдывая ее чрезвычайными обстоятельствами… Я хочу вас просить, Николай Ильич: станьте мне мужем на эту ночь.
Он встал из-за стола, сделал несколько шагов по комнате, не понимая, что нужно и можно сказать. Предложенное было невозможно, нелепо и немыслимо, но как объяснить, не обидев, он не знал.
Придумать не успел: она тоже встала, подошла, положила руки ему на плечи. Сказала, глядя в глаза:
– Мне сравняется двадцать два на Святки. Сравнялось бы… Я никогда не целовалась с мужчинами. Даже не целовалась… Лишь папенька чмокал в лобик, да Петенька в щечку. Я хочу знать, как это бывает. И про все остальное хочу знать – как. Я ждала любви, но дождалася смерти. Ежели вы откажете мне в этой милости, мне будет плохо умирать.
Она оказалась на коленях одним быстрым движением, смотрела снизу вверх.
Каину хотелось ударить кулаком о стену и расшибить до крови…
VII Каин
Ему хотелось ударить кулаком о стену и расшибить до крови… Он сдержался.
С осторожностью поднял ее с колен, усадил на топчан. Действовал с величайшей аккуратностью, чтобы ни единый его жест не мог быть истолкован ни как небрежение, ни в обратном смысле… Сам же лихорадочно размышлял, что сказать.
Он старался не иметь дел с женщинами, и не потому, что природа не дала к тому возможности или же наградила другими предпочтениями.
Он давно постановил, что станет последним в роду, не достоин его род продолжения, – и твердо соблюдал постановленное. Не о женитьбе речь, о ней и не помышлял: он не желал, не ведая о том, случайно оставить потомков даже на стороне.
Ранее мужская конституция порой брала свое – в России он изредка бывал у гулящих, разведав с точностью, какая из них бесплодна. В странствиях по Европе посещал жриц любви с меньшей осторожностью, знал, что любая maotresse du bordel впасть в тягость подопечным ни в коем разе не позволит.
В последние годы желания возникали все реже. Он думал, что добился своего, и мнил, что победил судьбу. Наверное, такое мнят лишь глупцы, – а не ведающая поражений судьба наказывает их. Посылая, например, Машеньку Боровину, обреченную умереть и никогда даже не целовавшуюся с мужчинами…
Он попытался ее отговорить, сочинив наспех несколько резонов. Начал с малого. По своим меркам с малого. Для других, знал, такой резон иногда перевесит все прочие.
– Вы верующая, Машенька? Я разумею не верувнешнюю, что нас по заведенному обычаю сопровождаетот купели и до отпевания, но глубокую душевную уве ренность, никакими сомнениями не поколебленную.
Сам он сомнения испытывал, и немалые, но речь шла не о нем.
– Я верую в Господа нашего, – просто ответила Машенька.
– Тогда задумайтесь: стоит ли платить жизнью вечной за одну лишь ночь, заполненную весьма сомнительными удовольствиями? Сомнительными во всех смыслах, заверяю вас, ибо физиологическое устройство девичьего организма способно… вернее, не способно…
Он замялся, не зная, как лучше растолковать, и понял, что невзначай привел два резона вместо одного.
– Не объясняйте, Николай Ильич, я читала… Да, япрочла изрядно книг, и не пеняю на память, и долго здесь, в карантине, размышляла над сим вопросом… Нет, не о физиологии, она того не стоит, – о жизни вечной как рас плате за грех прелюбодеяния. И я нашла ответ.
Она сделала паузу, собираясь с мыслями. Каин приготовился слушать, любопытствуя: что надумала? Провинциальные дворяночки в богословии искушены мало, две-три молитвы заученных, да стих из Библии перед сном прочитанный, – вот и все богословие. А если уж страничку «Четьи Минеи» по складам одолеет, так то теология высшего разряду… Что, впрочем, не мешает помещичьим дщерям исправно следовать зову природы, порой и допрежь законного брака, никакими изысканиями то не оправдывая.
И тут Машенька его поразила. Почище, чем кистень разбойного казака Ивана.
– Когда христиан притесняли язычники, – начала она, – давно, при Диоклетиане, общины их часто слу чались рассеянными, а пастыри схваченными. И собор иерархов… Лаодикийский, кажется, я не помню наверное… в общем, собор утвердил право христиан в последней крайности самим вершить таинства. Они могли исповедовать друг друга в темнице, пред лютой смертью, вотсутствие пастыря, и отпускать грехи. И другие таинства могли… Но только в последней крайности и только пред ликом смерти. Никто постановление не отменил с тех пор, о нем, мне думается, позабыли. Мы с вами, Николай Ильич, пребываем именно в крайности. И пред ликом неминуемой смерти. И батюшки, все, что на свете есть, для нас не существуют как бы, ни один сюда не придет. И если мы, двое христиан, с чистыми сердцами и искренней верой, наречем себя мужем и женой, греха не будет и Господь нас повенчает.
Он понял, что в теологическом диспуте разбит наголову. Лишь не уразумел, как у нее получилось. Диоклетиан… Лаодикийский собор… Таких слов дворяночкам, из сельской глуши прибывшим, знать не полагается. Их и городские-то благородные барышни не знают…
И он решил спуститься с горних высей на почву твердую и привычную. Сказал со вздохом:
– Вот вы, Машенька, сами и ответ дали, для меня отрицательный. «С чистыми сердцами», – не про меня сказано. Вы ж слышали, где я служу? Напомню, если запамятовали: в Тайной канцелярии. В той, что Канце лярией кнута по всей России кличут, чаю, и до вашихмест известия о нас докатились. И в нашем ведомствесердце чистое никак не сбережешь. Грешник я, Машень ка, великий грешник, и ни в коем разе вас не достоин.
Вот так… Пускай легенда, Степаном Ивановичем придуманная, и его подчиненному хоть разок послужит.
– Пустое, Николай Ильич, что болтают… Разве и папенька мой в грех великий впадал, когда Петеньке за дело розог прописывал? Я ж вижу, Николай Ильич, что вы за человек. Ну вот скажите мне, что хоть раз кого под кнут отправили из злобы, или из зависти, или из корысти… Только помните, что мы вдвоем стоим пред Господом и пред смертью, и лгать нам никак нельзя сей час.
Лгать он не стал. Сказал истинное:
– Не в кнуте дело, Машенька… Кровь у меня на руках. Жизни людей лишал, и не раз. Вот это уже грех самый настоящий, доподлинный. Против божьей заповеди.
Он считал сей аргумент окончательным, завершающим диспут. Не хотел его приводить, чтоб не провести остатнее время в ссоре, но пришлось.
Он ошибся, он снова в ней ошибся… Он не привык так часто и так много ошибаться.
– Нет, Николай Ильич, клевещете вы на себя, наговариваете. Смертоубийство на войне – грех прощаемый, а у вас хоть и статский мундир, и война тайная, – но война-то все та же: за Отечество наше, за веру, за госу дарыню… На такой войне врага убить не грех, но под виг. Однако я другое поняла сейчас… Не в вас причина сомнений ваших, во мне. Да, я дурна собой, я знаю… И все же… я… я…
Речь Машеньки сбилась, глаза ее стремительно наполнялись слезами. Он понял, что сейчас произойдет. Он часто это чувствовал, обычно дело касалось выстрелов и ударов клинком, но наполненные слезами девичьи глаза – оружие посильнее кинжала или пистолета.
Она зарыдает. Он будет утешать, обнимет. И произойдет, что произойдет. Чему произойти не должно.
Он заговорил намеренно спокойным тоном, даже несколько торжественным, надеясь предотвратить поток слез как-то иначе, не приближаясь:
– Я клянусь всем, во что верю, и не солгу в свой смертный час, Машенька, когда скажу, что увидев васвпервые, счел вас не красавицей, но очень симпатичнойдевицей, и даже подумал, помнится, что вы charmant lutin, это по-французски значит…
Он замялся: дословный перевод мог показаться обидным, надо передать смысл…
– Я знаю, Николай Ильич, что это значит.
– Vraiment vous parlez français[9]?
Эта фраза обычно подразумевала три варианта ответа для большинства благородных девиц: недоуменное молчание, или «уи, тре маль», или «уи, комси-комса».
– On m'a dit que j'ai un accent du sud, – сказала Машенька. – Mon professeur était originaire de Provence[10].
Выговор напоминал скорее верхневолжский, чем провансальский, но слова Машенька произносила верно, в глаголах не путалась… Он мог бы, разумеется, не сходя с места назвать имена девиц, говорящих по-французски лучше Машеньки, но все они были дочерями столичных сановников, иные и в Европе побывали…
Но рыдания, видимо, отменились. Он попробовал пошутить, хотя умел плохо:
– Ежели вы, Машенька, сейчас заговорите со мной на правильной латыни либо же по-итальянски, я буду вынужден…
Он не закончил. Она зарыдала у него груди, все получилось неожиданно, он не понимал, отчего так, вроде бы уже успокоилась…
Потом, сквозь рыдания, Каин расслышал: она не может, она пыталась, но у дядюшки Гаврилы Петровича случились всего две книжки на итальянском, еще не разрезанных, она пыталась прочесть, но мало понимала и забросила, а латынь она изучила, и читает хорошо, но учила по книгам, поговорить не с кем, и латынь у нее, без сомнений, неправильная, и она… и они…
Он понял, что лучше не шутить, коли не умеешь. Он-то хотел сказать что-то глупое и банальное, вроде «буду вынужден съесть свою шляпу», а она вообразила, что речь идет о первохристианском браке пред лицом смерти и Господа… Дурак, одно слово.
Шквал рыданий лишь крепчал, и Каин остановил его единственным способом, что придумал. Машенька Боровина наконец узнала, как мужчины целуют не в лобик и не в щечку. Ей, похоже, понравилось.
А Каин пожалел, что подлый ротмистр украл из рукава стилет вместе с ножнами. Ему хотелось ткнуть стилетом в ладонь, чтоб насквозь. Чтобы прогнать наваждение. Он чувствовал себя нехорошо. Возможно, это выпитое вино стучало в виски. Возможно, подал первую весть черный мор, таившийся до поры. Или все-таки стоило отлежаться подольше после кистеня Ивана.
Он понял, что попал в ловушку. Куда он ни шагнет, что ни сделает, случится непоправимое. Одно из двух непоправимых событий… Он решил выбрать меньшее из двух зол. И ошибся, как часто ошибался в последнее время…
Машенька вновь потянулась к нему, уже не столь неуверенно, уже словно бы имея право на него. Но он все решил.
За ужином и разговором все свечи погасли, кроме последней, да и та догорала. Он порылся на полке, нашел еще одну, запалил, поставил на стол.
– Присядьте, Мария, – сказал он, как говаривал в присутствии, подозреваемым.
Сам остался на ногах, ступил назад и оказался в темноте, за кругом света от двух свечей.
Она не послушалась и смотрела недоуменно. Он не стал настаивать, почти не обратил внимания. Он мысленно уже шагнул за черту и хотел закончить побыстрее.
– Мария, я не могу, я не имею права обращаться к Господу ни с какими просьбами. И с вами быть я не мо гу, я недостоин вас, хоть вы и вбили в голову обратное ошибочное мнение. С тем грехом, что я ношу в своей душе, не возможны ни раскаяние, ни прощение, ни ис купление, ни…
Он понял вдруг, что тянет время. Что ходит вокруг да около, и не может приступить к главному. Понял и сказал, словно спрыгнув в холодную воду:
– У меня был брат. И я его убил. Вот и все… Теперьступайте, Мария, вам не надо со мною быть.
В тот миг, когда он сказал «убил», догоравшая свеча мигнула и погасла. Он понял, что это знак. С ним часто случались знаки.
Машенька ослушалась его слов в первый раз, ослушалась и теперь. Села, почти рухнула на топчан, словно ноги не держали. Он по-прежнему стоял в темноте, за кругом света.
Она молчала.
Она очень долго молчала.
Он понял, что ей не найти слов, чтоб оправдать его, даже если б захотела. Не придуманы такие слова. Но он отчего-то желал, чтоб захотела и нашла…
Она молчала, и он думал, что надо помереть первым, и побыстрее, он не мог быть рядом с ней такой, молчащей, теперь навсегда замолкнувшей, – но как ее повезут умирать, не мог видеть тоже. Он подумал об драгунах под окном, об их палашах и фузеях. Впервые он решал, как дать половчее себя убить, впервые за долгие годы, и от того ему было странно…
Она заговорила. Голос был мертвый.
– Ежели то, что вы сказали, Николай Ильич, – правда, то я не просто дурна собой. Я еще лишена и зрения, и разума. Я не могу думать такое про себя. И я не могу верить, что вы солгали мне или пошутили. Вы ошиблись. Вы почему-то ошиблись, но мне не угадать, в чем. Расскажите мне все. Сказав такое, надо рассказать все. Иначе не стоило начинать.
Теперь молчал он.
Он думал, что других таких нет. Что так, как она сейчас, не сказал бы ему никто. Он не хотел, чтоб она умерла. Он не мог допустить, чтоб она умерла. И ничего не мог сделать, чтоб случилось иначе. Мог только умереть первым.
Еще подумал, совсем уж ни к селу и ни к городу, что если б все было другим и вся жизнь была бы другая, если б сейчас жил где-то брат Алеша, а он не был бы Каином, и не гуляла бы вокруг черная смерть, тогда…
Тогда бы он пошел к ее папеньке, к Аполлону Матвеевичу Боровину.
И просил бы ее руки.
Не на одну ночь, на всю жизнь, сколько там ни отмерено…
Жаль, что не сложилось.
VIII Машенька
Он оставался там, в темноте, и молчал. Ей было страшно, она уж приучила себя к мысли, что не будет жить с этим человеком, вообще не будет жить; теперь вот получалось, что и умереть придется без него, в одиночестве. Она боялась так умирать.
Она встала и шагнула в темноту. Взяла его за рукав и почувствовала, как дернулись, как напряглись на миг под тканью мышцы, и тут же вновь ослабли. Не отпуская рукав, провела его к топчану. Он не противился, шагал безвольно; усадив его, произнесла, присев рядом и самочинно перейдя на «ты»:
– Теперь говори. Теперь говори мне все, не молчи.
Она не просила, но приказывала. Она устала просить о чем-то людей и судьбу. Он молчал. Она встряхнула его, как тряпичную куклу, и встряхнула еще, сильнее, забыв про все приличия.
– Говори же, не смей молчать!!
Она кричала, понимая, что все напрасно, что она доживет отпущенные ей часы с человеком, ушедшим в свои мысли и утонувшим в них. Сейчас она сожалела, как никогда, что нелепо потратила жизнь – пусть тогда и казалась, что вся жизнь еще впереди – на мертвые и не нужные книги, что мало общалась с людьми и плохо знает их, вообще не знает. И теперь очень стремится, но не умеет помочь…
Весь жизненный замысел ее разрушился, и душевные качества оказались на поверку столь же пусты и никчемны, как и внешние… Ей больно было то сознавать, но лгать себе она не могла и не хотела.
Заговорил он, когда Машенька уже отчаялась что-либо услышать. Но заговорив, не смолкал долго.
Рассказал о том, что началось все здесь, буквально здесь, в недостроенном Путевом дворце, что возводил его отец. Помянул о том, что видит несомненный знак в том, что завершается все там же, где зачиналось, что круг замкнулся. И продолжилось все здесь же, на болотистой пустоши, именуемой чухонцами Кикерейскино, в самом центре ее, на небольшой, но бездонной топи.
Именно туда отправились двое недорослей, подгоняемые неуемным любопытством, желанием проверить дурацкую легенду… Отправились двое, но вернулся один, – вернее, был принесен оттуда посланными отцом людьми. Он, Ника-Каин, вернулся: сгубивший брата и навсегда отмеченный за то Каиновой печатью. В самом физическом смысле отмеченный, она видела шрам, сползающий на висок…
Ей хотелось сказать, что на деле отметка оказалась не навсегда, что казачий кистень как раз содрал тот кусок кожи, и что новая рана перекрыла след от старой… Но она промолчала, не желая сбивать рассказ.
Он поведал все в подробностях и деталях: как искали «Царь-жабу», как брат провалился в топь, а он не протянул ему руку помощи, не откликнулся на зов, дозволил умереть… Забоялся бесплотного призрака, порожденного своими страхами и взбудораженным своим воображением, и сгубил живого человека, настоящего. Собственного брата, рожденного с ним в один день. Как потом пролежал чуть не месяц в нервической горячке – и привидевшиеся в бреду видения тоже отнес на происшествие в болоте, пытаясь как-то оправдать свое злодейство, и почти уверился, что голову и впрямь рассек ему коготь Царь-жабы, но не острая оконечность коряги…
Сказка была складной и удержала его от немедленного желания пойти и утопиться в том же болоте, или что иное над собою проделать, – оттого, наверное, и взялся за сочинительство терзаемый горячкой мозг.
Но сказки хороши лишь для детей.
Он возрастал и изучал науки, и чем дальше, тем яснее становилось, что нет на свете никаких «Царь-жаб», да и «лягушиных князьков» не встречается… Кусочки сказки отваливались от были, и становилась та проста и неприглядна: он сгубил брата. Убил своей рукой, не протянутой в самую важную и нужную минуту.
Мысль эта оформлялась и взрослела вместе с ним, он не хотел с ней жить, и когда пришла пора, выбрал службу, куда не многие стремились, и тот ее раздел, где долго не заживались.
Он отчего-то зажился и дожил до нового витка сомнений, пришедшего после десятка лет службы: а вдруг и правда что-то было, что-то таилось там, под обманчивой гладью болотца? Не демоническая сила, принимающая лягушачий облик, разумеется, – но некое малоизвестное и крайне редко попадающееся существо, вполне реального животного происхождения?
Он бывал по службе в Европе, неплохо овладел тамошними наречиями и при оказиях стал искать знакомства с учеными, превзошедшими натуралистические науки… И здесь искал, в Петербурге, в Академии.
Ученые люди, не зная о его беде, все надежды губили безжалостно: нет и не было таких существ, и лишь необразованность простых сословий порождает мракобесные выдумки… Один прибыток от впустую истраченного времени случился: герр Мессершмидт, лейденский натуралист, зоолог и ботаник, растолковал причину давнего морока. Есть, дескать, такое растение, на болотах произрастающее (запамятовал сейчас его латинское название, а русского герр не знал), – неприметное, стебельки едва надо мхом болотным возвышаются. Толку от травки никакого, вреда тоже, никто и внимания не обращает. Лишь в начале лета, несколько дней, растение цветет и некие дурманящие ароматы выделяет. Если ветерок дует, все ничего, а в безветрие, да еще низко склонясь, надышаться можно до беспамятства иль до видений наяву… Наверное, он надышался, что вины его не уменьшает, – не мороков пугаться надо было, а брата спасать. Он испугался и не спас. Потом он отучил себя бояться. Но, вооружившись новыми своими качествами, вернуться в прошлое не мог.
Он думал, что нового и худшего оборота в той истории не случится, все страшное уже произошло, и с этим ему жить. Он ошибался, и выяснилось еще одно, вовсе уж неприятное обстоятельство… Когда скончался отец, он был в службе четырнадцатый год и, разбирая семейные бумаги, узнал новое, ранее неизвестное: оказывается, у отца имелся брат… Причем, что удивительно, тоже родившийся с отцом в один день, но внешне отличавшийся. О существовании дядюшки он никогда не слышал – тот умер до его рождения, на двенадцатом году жизни. Нечаянно убился, играя в свайку… Брат его, отец будущего Каина, тоже принимал участие в игре.
Совпадение показалось странным, а служба приучила его не верить в совпадения и доискиваться до причин странностей.
Еще глубже в недрах семейного архива он обнаружил историю своего двоюродного деда, в малолетстве залезшего на дерево за птичьими гнездами, свалившегося и отошедшего после двухнедельной болезни… Там было иное, братья оказались не близняшками, но погодками, и все же нашлось сходство: на дереве упавший находился совместно с братом.
Предшествовавших поколений архив не касался, но он неплохо освоил науку розыска… Две вакации провел в разъездах по былым местам жительства предков, поколесить пришлось немало, дворян в те века испомещали произвольно, забирая поместия в одних губерниях и выделяя на других концах державы. По губернским архивам и по церковным записям смертей и рождений он проследил историю рода до времен Бориса Годунова, упустив лишь три звена в цепочке, выпавшие из-за пожаров и бедствий Смуты.
Древо его предков было ровным и прямым, ни единого побега в сторону. Девочки в семье не появлялись ни разу. Мальчики рождались всегда по двое, иногда зараз, иногда, реже, разделенные годом или несколькими. До взрослых лет доживал лишь один из двоих. Всегда – лишь один. Метрические книги не давали понятия о причинах смерти, но он был уверен, что бывали они самые разные, включая болезни. Трудно заподозрить младенца девяти дней от роду, что он, невольно или злоумышлением, помог скончаться брату, рожденному в один день с ним…
Он понял, что на роду лежит проклятие. И заподозрил, кто родоначальник… Да, да, тот самый, первый… Он не мог доказать свое подозрение, но и отделаться от него не мог. Он решил окончить затянувшуюся историю. Слить в никуда помеченную кровь… На грех самоубийства не пошел, хотя ему, наверное, хуже бы не стало… Постановил уйти, не оставив потомства.
И вот он в шаге от своей цели. И если бы не встретил ее, Машеньку, то прошел бы оставшийся путь со спокойной душой. Теперь он смятен и… И он не отказал бы ее просьбе и даже сам желал бы того же, и не из жалости и снисхождения, но вследствие глубоких чувств, что она у него вызывает… Однако он верит, что она останется жить. Он вопреки всем очевидностям верит в это. А потому – нельзя.
Вот и все. Теперь уж верно все.
Его жизнь и впрямь была полна знаками… Едва договорил, свеча погасла.
Машенька пожалела, что девиц не принято учить медицинской науке, да и не помогла бы наука, наверное, ей сейчас – доктора плохо знают, как лечить раны и ушибы, что случаются внутри головы, без видимых глазом следов. Попробует сама, невеликим своим разумением…
Она не хотела говорить, не видя собеседника, но не могла нарушить момент, завозившись с новой свечей. Тогда она протянула руку и коснулась его лица, пусть будет хоть так… И произнесла:
– Ты все умелости сыска превзошел, да не видишь простого. Кто сказал, что род твой проклят, а не из бран? Он избран, и избравший не дозволяет рассеяться крови и силе его между народами. Может, потомкутвоему великие дела суждены были, а ты мешать затеял ся… А что до брата твоего… Я, верное, – сейчас, в последней крайности и пред ликом смерти, – могла б отпустить тебе невольный грех, по малолетству совершенный. Но ты в том не нуждаешься. Ты сам себя судил, как мало кто себя судит. И раскаялся, и все искупил, свою жизнь не жалея и многие другие жизни спасавши…Ты только с Господом помирись, Коленька. Ты сердит и в обиде на него за все, а так нельзя умирать… Обратись хоть без молитвы, хоть своими словами, он услышит.
Она замолкла, пальцы, лежавшие на его щеке, спали вниз. Машенька тихонько добавила:
– Сделай, что мы хотим.
Довольно долго в темноте не звучало слов, потом она шепнула:
– Оно расстегивается спереди…
IX Каин
Машенька уснула, он понял это по дыханию и несколько выждал, чтоб наверное не разбудить.
Потом тихонько соскользнул с императрициной кровати, не скрипнув, не зашуршав. Столь же тихо пробрался в общую, огня не высекал, не желая производить даже малого шума, – заполночь небо расчистилось, показалась луна, и сквозь щели пробивались теперь полосы не живого солнечного света, но белесого, мертвого… Ему их хватило, чтоб прибрать раскиданную по полу одежду, и для прочего.
Присел ненадолго на топчан, чувствуя себя истомленным. Но быстро поднялся, времени оставалось все меньше, ночи об эту пору недолгие, а он должен был исполнить обещанное, пусть и безмолвно обещанное…
Прошел к стене, где за его беспамятство появились два простеньких неокладных образка, встал на колени. Он не любил это положение, – вернее, не любило его тело, о чем немедленно дала знать нога, попорченная польской саблей.
Вслух не заговорил, решив, что Он услышит по-любому, а Машеньку пробудить не хотелось.
Господи, мысленно обратился он, я не буду рассказывать все свои прегрешения, Ты и так о них ведаешь, коль уж ведаешь все. И о брате моем ведаешь, и о всей крови, что я пролил, и о всей лжи, что я изрек… И то, что я усомнился в Тебе и бытии Твоем, потом уверился снова, а после усомнился пуще прежнего, Тебе ведомо. Я давно, с младых лет не просил Тебя ни о чем, Господи, я носил на челе печать Твою и не смел просить. Теперь она снята с кожей и кровью, и я прошу: сделай так, чтоб жила женщина, ставшая мне женой пред ликом Твоим. Пусть душа моя сгорит в безднах, пусть распадется в ничто, как прах мой распадется в яме с известью, пусть предсмертные муки мои будут страшны, а посмертные еще страшнее, – но сохрани ей жизнь. Я не могу обещать, что вера моя станет тверже алмаза, коли Ты сохранишь жизнь жене моей: я даже не узнаю о том… Но я верю: Ты есть, Ты всеблагой, и она будет жить.
Он поднялся с колен, чувствуя себя неловко… Хоть бы знак явил…
Знак не явился.
Стучать нельзя было категорически, и он позвал солдат тихим-тихим свистом, изобразив, как смог, губами сигнал военного рожка: тревога, тревога, вставай скорей, тревога! Если Польшу прошли, в любом сне услышат, пробудятся…
Пробудились. Когда окошко распахнулось, он в свете фонаря первым делом поднес палец к губам, потом сказал тихонько, но командным голосом:
– Доложите по команде: я заболел, и мне нельзя здесь быть и лишнего часу.
Они тут же шарахнулись взад, вжались спинами в стену напротив. Но глаза из-под тряпок поглядывали недоуменно и недоверчиво. Солдаты подозревали какую-то каверзу, никто из обреченных не менял своей волей карантин на чумной барак, все до последней возможности цеплялись за надежду, что прицепилась хворь обычная, не чумная…
Он до сих пор оставался в сорочке до бедер, что надевал под панцырь… И показал им наметившийся бубон, только что обнаруженный в мертвенном лунном свете.
Поверили, ушли… Он беззвучно оделся, стал ждать.
Потом подумал, что расставаться совсем без прощания нехорошо. Обои здесь, в бывшей комнате прислуги, были некогда дешевые, бумажные. Он поискал, среди висящих со стен клочков, какой побольше и почище, сорвал, но после вспомнил, что графитный карандаш – хороший, каберленский – лежит в нарочитом отделении бумажника, и, следственно, у ротмистра Карина. Чем заменить его, не придумал…
Знать, не судьба.
Х Беглый
Пили они третью неделю, постоянно, но не в лежку, чтоб на ногах оставаться.
Сначала пили всемером: и сам названый Иван, и второй санитар, Егорка, и Аверьяныч, и канцелярист Ванюшин, и трое солдат-инвалидов, невесть за какие грехи сосланных нести службу при чумных бараках…
Немцы, братья Альфредычи, компанией брезговали, а гошпитальный мортус… Про мортуса разговор отдельный.
Но и без немчуры с мортусом водки уходила прорва, ладно хоть надворный ихсокобродь Коппель оказался с пониманием, даром что немец… Или кто-то, под ним сидевший, оказался… Но водки слали вволю, и с уксусом ее загодя, указу вопреки, не смешивали. И все равно едва хватало, а иначе тут никак.
Потом питейная компания исподволь, помалу, стала уменьшаться. Один из инвалидов заболел и угодил в барак, на нары. Затем двое других двинули в бега, не желая повторять судьбу первого, а новых пока не прислали.
Санитар Егорка оказался не просто человеком преступным и разбойным, это названого Ивана не страшило, но не понравился обхождением, злым и грубым. И справедливости не понимал: рвал и с померших, и с пока живых больных, что увидит. Его названый Иван сволок ночью к яме и присыпал густо известью, чтоб не виднелся. Для начала, понятно, гирькою угостивши. Он посчитал, что и один управится по бараку: второй так и пустовал, недостроенный, больных оказалось менее, чем опасались.
Компания ужалась до трех человек, но водка отчего-то убывала по-прежнему. Может, Альфредычи отливали втихаря, к себе уносили, или мортус прикладывался в одиночку, когда никто не видел.
Так вот, мортус…
Человеков такого устройства названый Иван досель невидывал, а повидал в своих странствиях многих. Был мортус низенький, росточком до подвздоха, а ежели башлык снять, так и менее, но мортус не снимал никогда. В общем, аккурат по пояс Альфредычам-стоеросинам.
Но в ширину и в толщину раздался мортус знатно… Словно растили его с младенчества в низком деревянном коробе, прорезавши в крышке дыру под голову, – но кормили при том на убой, и вся его жизненная сила, не имея доступа подняться кверху, в рост, подалась в стороны.
Силен был мортус необычайно, к яме мертвяков, даже самых дородных, волок легко и без натуги, словно льняные снопы… Названый Иван встречал и ранее карликов-горбунов, силой не обделенных, но их мортус был словно бы горбат и спереду, и сзаду, и даже с боков. Что-то торчало из тела во все стороны, натягивало провощенную ткань плаща, а что, названый Иван знать не желал, и в баню б вместе с мортусом даже за рубль серебряный не пошел…
Но тот в баню не просился и плащ свой не снимал никогда, и личину птичью, – хоть урод, да с понятием: смекнул, наверное, что добрым людям с его обличия и водка-то в нутро не проскочит, обратно изблюется…
К тому же мортус был немым. Лишь мычаньем разнозвучным мог что-то пробовать сказать, да кто ж с таким говорить захочет.
Хотя Аверьяныч утверждал, что дара речи мортус не лишен и все обсказал про себя ему, подфелшару, в подробностях, на службу подряжаючись… Но ежели случилось то не до обеденного часу, – веры Аверьянычу никакой, он ввечеру хоть с пугалой огородной по душам переговорит да в санитары или мортусы ее запишет.
Приблудился к ним мортус откуда-то поблизости, с рассветом появлялся, по темну уходил, где ночи коротал, непонятно, да никто и не доискивался, все только рады были, что не с ними ночует.
Сегодня утром их компания, и без того уж невеликая, вовсе сократилась – канцелярист Ванюшин на службу не пришел, он тоже ночевал на стороне, постойничал в деревушке по соседству. И то сказать, начальник, хоть и малый, и запойный.
Альфредычи жили тут же – выгородили трудами инвалидов клеть в другом бараке, с того его конца, где крышу настелить успели… Как восемь вечера по их часам исполнится, – они туда, и ни ногой наружу. Хоть пожар случись, хоть потоп, хоть мертвецы восстань из ямы с известью, – до утра ни ногой. Такой уж у немчуры порядок. Ну да гошпитальным людям только вольготнее с того жилось… Не тем, понятно, кто в бараке на нарах.
Что с Ванюшиным стряслось, они не знали. Может, занемог, может, тоже в бега наладился. Но ключи от железного ящика как-то очутились у Аверьяныча. Видать, канцелярист их тут прятал, а подфелшар подглядел. Сказал, что канцелярскую работу покамест сам справит, грамоту ведает…
Названый Иван решил, что пора уходить, засиделся. Хватит судьбу дразнить. За дни, тут проведенные, он разузнал кой-што у инвалидов, да и Егорка покойный повидал жизни, пока был жив, и по пьянке наболтал интересного…
К северным скитам, как оказалось, попасть можно и Питербурх миновав, и купчин Глазьевых не тревожа… И ноги не надо бить, версты мерить. На берег канала Минихова добраться нужно, не так уж далеко он, и барку подождать северную, онежскую, – они видом и от здешних, и от волжских отличны. На тех барках люди плавают правильные: и припрячут, и довезут, и дальнейший путь обскажут… Не просто так, вестимо, слово надо знать петушиное. Егорка слово знал и перед смертью поведал, хоть и покочевряжился поначалу.
Деньжат он от Егорки унаследовал, ему они по справедливости нужнее. И нож утерянный возместил, даже два раздобыл, но оба не сильно нравились. Увесистый, с тяжелым обушком, нож-косарь хорош был рубить, а к прочему пригоден мало. Глотку по беде еще вскроет, а вот приколоть кого коротким ударом не сгодится… Он взял для такого дела ножик лекарский, с узким тонким лезвием подходящей длины: сталь была добрая, а ручка дурная, железная и гладкая, от крови склизкой станет – не удержать. Он поправил беду, смазав ручку рыбим клеем и обмотав бечевкой плотно, виток к витку. Пока послужит, а после и что получше судьба пошлет.
Дело оставалось за пашпортом. А тут как раз случилась не то отлучка, не то пропажа канцеляриста, и ключи оказались у подфелшара. Названый Иван решил, судьба шлет знак: не мешкай, засиделся.
Он все же выждал до вечера, до ухода немцев к себе, те иногда заглядывали в железный ящик. Аверьяныч, понятно, к тому времени накушался прилично. Но без него не обойтись, грамоте названый Иван был не учен.
Он понадеялся, что пить подфелшар умеет, и даже руки спьяну так не трясутся, как утрами, авось и с пером совладает… Захочет ли до срока пашпорт заполнять, обещанный по окончании службы? Уговорю, решил он, не впервой, и не таких уговаривал…
Уговаривать не пришлось, у Аверьяныча случилось нынче с водки настроение благодушное и игривое, а бывало и по-иному.
– Пашпорт, казак? Справим… Два надо, два справим… Хоть во все тебя запишу, для запасу… Разлей пока…
Подфелшар поскрежетал ключом в скважине, потом другим в другой, вынул чистые пашпорта с печатями, их было там немного, с десяток. Названый Иван бросил быстрый взгляд внутрь ящика, денег не увидал – бумаги с именами-званиями больных, да книга, свиной кожей обшитая, что братья-медикусы с собой таскают, да еще бумаги, непонятные…
– Кем впишешься, казак? Надумал имя-то? Ну думай, а пока выпьем…
Выпили, Аверьяныч громко икнул и предложил:
– Хошь, Коппелем впишу, надворным советником? Во фрунт все на заставах станут… Мне ж не жаль для человека хорошего… Хошь генералом нарисую, хошь самим императором Петром Федорычем… Не желаешь ли?
Он на пьяную подфелшарскую болтовню внимания не обращал, всурьез раздумывая, кем вписаться. Надоели чужие имена, ох и надоели, словно каждый раз кусок мертвечины к живому телу пришивал…
Надумав, он сказал имя, и отчество, и фамилию.
– По званию кем станешь?
– Казак станицы Есауловской.
А как еще… Ни крестьянином, ни мастеровым не прикинуться, и стати не те, и ухватка…
– Не хошь быть генералом… тебе видней…
Подфелшар обмакнул перо и начал писать, но дело у него не заладилось. То в фамилии ошибется, – чего, дескать, длинную такую выбрал, казак, возьми попроще… То приметы напишет неправильные, а то и вовсе чернилом лист зальет.
Смятые испорченные пашпорта летели в печурку и занимались там на углях: близилась осень, ночи стояли холодные, приходилось подтапливать. У названого Ивана сердце кровью обливалось от такой подфелшарской нерачительности, порою новому пашпорту цена – жизнь человеческая…
Когда чистых пашпортов оставалось лишь три, Аверьяныч наконец довел работу до конца без помарок.
– Панкратов, Емельян, Иванов сын… Ну, наливай, Емеля, крещенье не обмыть великий грех.
– Погодь, приметы зачитай, а опосля обмоем…
Приметы оказались правильными – и пашпорт Ивана Белоконя свернулся на углях в трубочку, почернел и перестал быть. И названый Иван перестал быть Иваном.
Он потянулся к новому пашпорту, но Аверьяныч прикрыл рукой.
– Погодь, погодь, Емелюшка… Не первый день тыживешь и ведаешь: за спасибо такие дела не делают…Поделиться придется по справедливости, чем у больных-то в бараке подразжился… Делись, Емельян, делись…
Гирька была загодя обмотана тряпкою, чтоб кровь в околодке не лить, следов не оставлять, – пускай потом беглого Аверьяныча тоже ищут, на других меньше сил потратят.
Из-за тряпицы удар вышел послабже, пришлось добавить.
– Не понимаешь ты справедливости, – сказал Емельян, сматывая снурок.
Путь подфелшару по любому лежал в яму, Егорке в компанию. Иначе с пашпортом Емельяна Панкратова долго по воле не погуляешь. Три чистых пашпорта он тоже прибрал, чего им пропадать.
Пристроив Аверьяныча в яму, он долго смотрел вниз, разглядывая все в лунном свете, хотя в прошлый раз постарался поскорей уйти и не дышать вонью, а больше и не бывал.
Неправильная была яма… Он трупы не считал, что мортус из барака забирал, но и в первый раз показалось, что пустовата могила, мертвых мало… Думал тогда, что помнилось. Но сейчас наверное видит: недостача немаленькая…
И он все понял.
Так вот чем Фридрих с Генрихом в клети своей занимаются, от народа честного спрятавшись… Слыхал, слыхал он, что для немца-дохтура нет слаще соблазна, чем православное тело осквернить, на куски порезать да требуху выпустить…
А тут-то им раздолье… Никто за мортусом не следит, к яме не суется, вот он и ложит умерших в сторонке, а потом к немчуре сплавляет потихоньку.
Может, и сослали-то их сюда, проведав о таких забавах? Или своей волей пошли, этаким мертвячьим изобилием приманенные?
Он призадумался. И решил, что оставлять немчуру за спиной опасно. В лицо они его знают, без башлыка видели, а что по-русски не разумеют, так Аверьяныч не последним толмачом на свете был.
Окошки в жилье Альфредычей имелись, но задернуты были плотно, внутрь не подглядеть. Но там они, куда им деться.
Дверь ломать не пришлось, вместо засова на нее приладили железный крюк, и Емельян поддел его косарем, просунув в щель. Вошел тихонько в маленькие вроде как сени, занавесками выгороженные, сторожко глянул в щелку…
Мертвецов, порезанных в куски, тут не было. Зато увидел кровать, и не пустую, и понял, что Фридрих или Генрих привел гулящую, а то и вдовушку с деревни, и надо срочно придумать справедливую причину для нее, ибо…
Тут его чуть не стошнило. Потому что он обозрился, и ни гулящей, ни вдовушки не оказалось, одни Альфредычи, и даже смотреть, чем они занимались, было срамно и мерзостно…
Он убил их, не приближаясь, подлинше размотав снурок. Убил с омерзением, словно давил сапогами болотных гадов, склизких и зловонных. И к яме не потащил, даже не приблизился к мертвым голым телам.
Он остался один на весь гошпиталь, если сбросить со счету умиравших в бараке… Но одного из них сбрасывать не следовало. Ихбродя, принятого невзначай за императора. Тот, по расчетам Емельяна, должен был отойти уж дня три как, да все не отходил… Живуч, как кошка, оказался. А вдруг на поправку двинет?
Ему ль, Емельяну, не знать, что такое случается… В барак он заглядывал давненько, и надо проверить: если отмучался, то можно уходить, а если нет… Тогда помочь надо, страдания облегчить.
Он отпер и отворил дверь барака, приготовил лекарский ножик…
И тут случилось нежданное. Околодок примыкал к бараку на дальнем конце от двери, а барак был длинный. И оттуда, от околодку, долетел звук копыт. Он присмотрелся, но луна, как на грех, сейчас задвинулась за тучку. Послышался стук в дверь и знакомый громкий голос:
– Эй, кто-нибудь! Отк'ыть немедленно! Госуда'ственное дело!
Рохмиср… Принесла ж нелегкая… Ни разу носу не казал, а тут… Но один, без драгун, – значит, не арестовывать приехал…
– Здесь я, вашбродь, иду… – подал он голос.
И в самом деле подошел, оставив дверь открытой и пряча лекарский нож за спиною. Рохмиср стоял, держа в поводу коня, только…
Только оказался вовсе не рохмисром! Луна вернулась на небо, и ошибки быть не могло: лицо без тряпки и не опознать, но голос тот же, ни с кем не спутаешь, а мундир чужой, фельегерский… Чудеса.
– Санита'?
– Точно так, вашбродь.
– Волков, Николай Ильич, коллежский асессо', – помнишь такого?
– Что ж не помнить…
– Жив ли? Или…
Не забрать ли он того решил, часом? Нет, так не гоже…
– Сегодня ахсесор помрет, вскорости, – пообещал Емельян. – Да тока ты первее…
И ткнул лекарским ножиком в сердце, прежде чем рохмиср, ряженый в фельегеря, успел удивиться.
– И-и-э-э-э… – сказал рохмиср и упал мертвым.
Да что ж за ночь выдалась, а? Не уйти спокойно и мирно… Кто еще пожалует? Может, надворный Коппель прикатит?
Чуть позже он понял, что серчал зря. Ряженый рохмиср заявился не просто так, а с подарками. Да еще с какими!
Все, что Емельян, тогда звавшийся Иваном, не смог забрать у лжецаря – рохмиср сам сюда доставил в полной сохранности. На теле его, под мундиром, нашелся и пояс с казной, и та самая сумка кожаная, что на запястье лжецаря висела… А в тючке небольшом приседельном – среди прочего и панцырь свернутый, и пистоли царские, чуть Ивана-Емельяна на тот свет не определившие… И нож в ножнах, узкий, длинный… Справный нож, теперь лекарскую безделку и выкинуть можно.
Ужель в бега собрался рохмиср? Ему-то с чего?
Осмотрел добычу в околодке, пристроив коня к коновязи, а рохмисра оставив, где лежал. Первым делом глянул, на месте ли царские бумаги. Здесь… Остальное, бывшее в сумке, он осмотрел без интереса. Письмецо, что ихбродь Волков писал в бричке, два пашпорта, две подорожных, еще несколько листков, непонятных… Видать, рохмиср и свои бумаги сюда подложил. Да ни к чему они, в печку надо бы отправить… Вот царские, с орлами, – иное дело. Пригодятся… Для чего, он и сам пока в точности не знал, но пригодятся.
Емельян постоял мгновение с ненужными бумагами в руке. Он не догадывался, даже заподозрить не мог, что держит сейчас нити жизней многих людей, живущих далеко и понятия не имеющих о существовании беглого казака.
Но он держал, и монета судьбы тех людей зависла в воздухе.
Он открыл дверцу у печки.
Монета начала падать орлом.
Он махнул пачечкой бумаг раз и другой, сдувая золу. Ни единой красной точки не заметил, все угли догорели. Он не стал возиться с новым огнем, кинул бумаги на стол. Пусть их, все равно к нему касательства не имеют…
Монета упала решкой. И нитям многих судеб суждено было оборваться.
Он сложил все обратно в тючок, лишь панцырь решил надеть сразу, и надел. Пришелся впору, фигурой с ихбродем они были схожи. И хорош – легкий, прочный, не жмет, не трет… Немцы делали, не иначе.
(Емельян ошибся – панцырь сработали во Флоренции. Или не ошибся, тамошних насельников он равно счел бы немцами…)
Он решил носить обновку всегда, не снимая. Поди угадай, когда та потребуется… Рохмиср вот снял, или же промедлил надеть, – и теперь лежит, остывает. Ихбродь Волков в энтом деле лучше понимал.
Выйдя с околодку, он сбился с ноги, как запнувшись. Конь был на месте. Рохмиср исчез.
Оклемался?!
Уполз?!
Емельян всматривался в темноту и ничего не видел, редкие тучки ползли по небу, то и дело закрывая луну, и сейчас как раз закрыли.
Он имел верную руку и не мог промахнуться мимо сердца… После такого удара никто не оклемается.
Наконец просветлело, он вновь зашарил взглядом по сторонам, и увидел фигуру, которую нигде и ни с кем не мог перепутать.
Мортус… Подцепил рохмистра крюком и тащит. Да только не к яме погребальной и не к немцам для надругательства, да и не грешили тем Фридрих с Генрихом, они себе другую забаву придумали… Мортус не пойми зачем тащил тело в сторону болота. Так что же, он и других туда наладил? Зачем?
Он припустил следом, решив, что надо закончить дело. Он оставил бы урода жить, пусть на ярмарках честной народ веселит. Но тот сам выбрал судьбу, притащившись в неурочный час и увидев мертвого рохмисра. Ляжет с остальными, и тогда работа будет окончена.
Он думал, что догонит мортуса, даже не переходя на бег. Место неровное, кочковатое и кустистое, тут мертвяка таскать тяжко, не то что от барака к яме.
Не тут-то было. Мортус двигался споро, словно тащил свой груз по ровному льду. Пришлось бежать, пока трусцой. Мортус почувствовал погоню, обернулся, – и тут же наддал, так и не бросив мертвое тело.
Прибавил ходу и Емельян. Погоня – дело азартное, он чувствовал, что догоняет, но мортус еще раз оглянулся, стряхнул рохмисра с крюка и побежал налегке.
Невиданное дело – казак, молодой еще и в полной силе, гнался за кривоногим карликом-уродом – и не мог догнать. На два десятка шагов приблизился – и все, только не отстать сил и хватало.
Тучки как-то кончились, луна светила, не прекращая, и облегчала погоню, но помочь ее успеху не могла.
Мчался мортус к середине болота, к топи. Если знает тайную тропку-гать, может уйти…
Емельян на бегу распустил снурок, метнул гирьку особым манером.
Есть! Отбегался!
Он подскочил к упавшему, достав нож-косарь и готовясь довершить дело. Мортус молча бился, стараясь разорвать опутавший тело снурок, но тот был хоть и тонок, да плетен из конского волоса, из самого отборного, от молодой кобылы-двухлетки. Троих людей на таком снурке подвесить, и то выдержит.
Мортус закричал, пронзительным тонким криком без слов, и Емельян убедился, что все Аверьяныч наврал, и даром речи урод не владеет.
Махнув косарем, как саблей, он сбил на сторону личину – чтоб не мешала удару, чтоб клинок не скользнул по ней, чтоб вошел точно в глазницу.
И не понял, куда бить…
Открывшаяся рожа была чем угодно, только не человеческим ликом.
Словно кто-то, сильно злой на мортуса, порубал лицо его в куски, перемешал и склеил в беспорядке… Да еще подбавил куски от чужих лиц – видел Емельян рожу недолго, но показалось, что глаз там не два, а больше, а ртов так точно два – второй, перевернутый и оскаленный, виднелся там, где полагается быть лбу, а прямиком из губы того рта росло сморщенное, свернутое ухо…
Большего он в лунном свете не разглядел. Снурок лопнул. И тут же что-то резко ударило в бок, скрежетнуло по панцырю, удар был так силен, что Емельян не устоял на ногах.
Когда поднялся, мортус вновь бежал, но догонять его уже не хотелось… Он повернул назад, за спиной послышался громкий всплеск, и он мысленно пожелал уроду насмерть потонуть в болотной жиже…
Рохмисра он оставил, где тот лежал, сил тащить к яме не осталось. Мимолетно удивился, что не нашелся нигде багор мортуса, хоть возвращался Емельян тем же следом, и багор должен был попасться под ноги… Ну и пусть с ним.
Ихбродя Волкова на его нарах не оказалось. Знать, мортус начал ночные труды не с рохмисра, и Волков мертв, к живым мортус не приближался. Одной заботой менее.
…Светало. Седло оказалось не казацкое, неудобное, но Емельян не обращал внимания, соскучившись ездить повозками и стосковавшись по верховой езде. Решил проехать, скока сможет, к северу, к Минихову каналу, – полями, вне дорог – и там бросить конягу, барышников не искать.
Он надеялся, что навсегда убрался из проклятых мест и вернется иной дорогой. Он проехал довольно к северу, когда понял, что едет не туда… Что больше не хочет попасть в северные скиты, к мудрым старцам.
Емельян хотел в степь, хотел вдохнуть полной грудью ее вольный воздух – совсем не тот болотный и сырой, что здесь.
Он не привык отказывать своим хотениям – и завернул коня, и двинул на восток, встречь солнцу, не щурясь от бьющих в лицо лучей. Он не ведал, что впереди великая война за справедливость, и едет он навстречу громкой своей славе, и лютой смерти, и долгой посмертной памяти… Он просто ехал домой.
Эпилог Машенька
Клавдия Матвеевна Боровина уж поджидала Машеньку из карантину и внедолге поняла, что племянница ее в тягостях.
Тут надобно отметить одну особенность, присущую характеру тетушки. Способная охать, ахать, приходить в волнительность и чуть ли даже не впадать в обмороки по разным пустяковым поводам, в моменты суриозные Клавдия Матвеевна действовала по-военному решительно: оценив степень угрозы и силы противников, не мешкая составляла план действий и, опять же немешкотно, принимала меры по его исполнению. Словом, из Клавдии Матвеевны мог выйти недурной армейский командир, родись она мужчиной.
Так все случилось и при нынешней напасти.
Спрошенная прямо, Машенька открылася без тени смущения, однако же ни слова не услышала из пустых попреков, обычных при таких оказиях: сделанного не воротить, а тетушка хоть и осталась по бесприданности своей в положении старой девы, но в молодых годах давала «волю чувствам», пусть и избегнув нежелательных последствий оного.
Разведав диспозицию, тетушка оценила имевшиеся в распоряжении силы и средства, и оказались они скудны: возня с вступлением в силу духовной Аполлона Матвеевича предстояла не малая и не быстрая, тогда как Хронос со всей решимостью выступал на стороне противника.
Тем не менее план баталии был составлен споро и в исполнение приведен незамедлительно.
Буквально днями спустя к Машеньке просватался жених, Николай Сергеевич Охотин.
Отставленный недавно из армии в чине капитана, он прозябал в тринадцати верстах, в наследственной деревушке своей, пришедшей в полное запустение за годы его службы. Прошлым годом Охотин уже проявлял интерес к Машеньке, но ее неожиданно изменившиеся обстоятельства приостановили сватовство на самой его предварительной стадии.
Тетушка, составивши план кампании, немедля посетила Николая Сергеевича в его руинах: он найден был ею мужчиной доброго нрава и малопьющим, а увечье его признано незначительным – рука, поврежденная турецкой картечью, плохо сгибалась.
Получив подтверждение о неизбывности былых намерений, Клавдия Матвеевна с решительностью истинно военной, не убивая время на околичности и намеки, открыла капитану все обстоятельства и все перспективы, ожидающие его: как финансовые (после вступления в силу духовной), так и… словом, все перспективы.
…Беседа жениха с невестою длилась три четверти часа, и в завершении ее Машенька дала согласие, выразив его так:
– Я вижу, что вы хороший человек, Николай Сергеевич, и я согласна стать вам верной женой и добрым другом. Но не судите строго, что ближайшие месяцы, а может быть, и годы, меж нами не сможет быть взаимной любви. Я обещаю вам, что при возникновении к тому возможности приложу все усилия, дабы обрести к вам сие чувство.
Николай Сергеевич, мужчина и впрямь положительных качеств и к Машеньке расположенный, был доволен. И до конца дней своих не подозревал, что немалую роль в ее решении сыграла такая безделица, как его имя.
Свадьбу справили столь же по-военному стремительно. И близнецы Охотины, Коленька-младший и Платоша, появились в апреле в срок, с некоторой натяжкою считавшийся приличным.
В святцах того дня был и Алексий, так уж выпало, и Николаю Сергеевичу имя приглянулось, но супруга его встала стеной… Дразнить судьбу она не желала.
Духовная вступила в силу, и семейство стало достаточным. А после и вовсе богатым – когда брат Марьи Аполлоновны, Петр, не успевши обзавестись семьей, сложил голову при Силистрии…
Став зажиточной помещицей, Марья Аполлоновна приобрела одну своеобычность, подмеченную соседями и ставшую основой для пересудов меж ними, – впрочем, не злоязычных пересудов. Немалую часть семейных средств Марья Аполлоновна тратила на медицину, пригласивши на постоянное жительство в усадьбу доктора не последнего разбора и выписывая из столиц лекарства, самые лучшие. На ребячьи игры подраставших сыновей она поглядывала с большим подозрением, категорически воспретив игру в свайку и лазанье на деревья, равно как и походы в обществе дворовых ребятишек в лес иль на болото.
Характер у молодой помещицы был дамасской стали, и сыновья не ослушались.
Но судьбу обмануть не удалось, и Платоша скончался на девятом году, от глотошной.
За гробом она шла с мертвым лицом, но с сухими глазами. И за все отпевание, и за все похорона не обронила ни слезинки, что дало повод для новых пересудов, менее благожелательных.
После того увлечение медициной стало позаброшено: прижившийся, но не оправдавший надежд доктор был отставлен, а новый не приглашен, выписывание столичных лекарств прекратилось.
Других детей в семье Охотиных не народилось.
Овдовев на тринадцатом году брака (в последние времена его меж супругами и впрямь сложились отношения, напоминавшие любовь), она спустя год предприняла путешествие в Петербург, где вела розыск в архивах, касавшихся давней чумы.
Розыск принес результат озадачивающий: запись о поступлении в чумной госпиталь коллежского асессора Волкова имелась, но дальнейшая судьба Николая Ильича осталась непонятной: ни в длинном списке умерших, ни среди пяти строк списка оправившихся имя его не значилось.
Вернувшись, Марья Аполлоновна жила как прежде, лишь приобрела привычку сидеть подолгу в качалке, устремив взгляд на ведущие к усадьбе пропилеи и словно бы поджидая гостей…
Скончалась она сорока трех лет, от внезапного приступа грудной жабы.
Никто и помыслить не мог, что причиною приступа стала бричка с новеньким кожаным верхом, катившая пропилеями, – заплутавший чиновник губернского казначейства искал спросить дорогу.
Каин
Когда-то давно, очень давно, им еще не сравнялось по двенадцать, они приступили к папеньке с вопросом: отчего так получается, что они – близнецы, и разом родились, да несхожие? И лицом, и статью, и характером… И в науках Алеша успевает в одних, а Ника в других совсем, брату не столь интересных?
Такой вопрос уже звучал, но в тот раз папенька как-то отшутился, а тут растолковал все обстоятельно. Дескать, родились они вместе, да не в один день. Именины-то в разные дни справляют: маменька ночью разрешилась, и Ника потому Никой и крещен, что первым шел, да подгадал на Николая, воина-мученика Севастийского, а Лешенька вторым случился, уж после полуночи, и назван в честь Алексия Константинопольского. А еще латиняне в древние времена подметили, что имена судьбу определяют, вот и у них с той ночи судьба по разным дорожкам двинулась…
Объяснение показалось убедительным. Ника его послушал, да и позабыл, но Алеша в таких делах дотошнее был… Неделей спустя пришел к брату, яблоко в руках держит – большое, наливное, красное. Яблочный сезон у них не наступил, но папеньке прислали откуда-то. Ника свое уже съел, лаком всегда был до яблок, а Алеша сберег.
Брат напомнил тот разговор с папенькой: про ночь их рождения, про имена и про судьбы… И сказал, что в жития заглянул, и не понравилось ему там увиденное. Святые их заступники хоть и оба мученики, да по-разному мучились… У Николая, воина севастийского, все быстро завершилось: в озеро бросили, да тем же днем и преставился… Алексий же Константинопольский месяцами в темнице страдал, мучения всякоразные принимаючи… И казнь потом принимал очень долгую, все никак отмучиться, отойти не мог.
Не нравится ему, Алеше, такая разница в судьбах. Ну как есть не нравится… Ника не понял: именами, что ли, брат поменяться надумал? Алеша пояснил: не именами, судьбами. Просто руки давай пожмем, да и скажем вслух: ты мою судьбу берешь, а я твою.
Брат всегда был большим придумщиком, и Ника часто соблазнялся его затеями, но тут… Как-то оно… Не стоит.
Алеша в придачу к судьбе посулил яблоко. То аппетитным таким показалось, аж слюнки потекли… Да и что тут такого, пустые слова.
Так он получил чужую судьбу. В придачу к яблоку.
Яблоко съелось тем же часом, судьба же протянулась на всю жизнь. И на смерть тоже.
* * *
Он умирал, и не мог умереть, и в редкие минуты просветления рассудка не понимал, отчего так. Другие, поступившие сюда с ним, уже отправились далее, в яму, а он все жил.
Он чувствовал – интуитивно, на логические выкладки сил недоставало, – что не доделал и не довершил чего-то, но не знал, чего именно.
Когда рассудок в очередной раз просветлел, он открыл глава и увидел, что ложе его озарено светом, показавшимся после темноты барака удивительно ярким. Свет был белый и тянулся, как дорога, к двери, вопреки обыкновению широко распахнутой.
Он понял, что это знак, коего ждал так упорно после глупых слов своих, сказанных у стены с двумя неокладными образами.
Знак был явлен слишком поздно. Сил встать и пойти Николай Ильич не сохранил.
Потом был бой, последняя схватка, на сей раз с собственным телом.
Он оказался на ногах, едва не умерев. И пошагал по белой и светлой дороге. Ног он не чувствовал и не ощущал шагов – казалось, снизу струится белый поток, и он плывет по нему, как сорвавшийся с цепи бакен.
За дверью путь продолжился, разделив всю внешнюю тьму на две половинки. Он понял, куда ему указывают, куда он должен пойти и что сделать, и огорчился, что не сообразил все сам гораздо ранее.
Он шел по понижающейся болотистой луговине, меж кочек и кустов, и знал, что сил ему достанет дойти до самого сердца болота. Силы не его, силы ему дадены, – круг следует замкнуть до конца, а искупление должно завершиться.
Все было как тогда.
Под ногами почавкивала вода, он ее не ощущал.
Потом он услышал звук, негромкий, но нараставший, – зов, молящий о помощи, бессловесный, однако же звучащий для него понятно: Ника, Ника, Ника, Ника…
Потом он увидел руку, воздетую над водой в отчаянном призыве.
Все было, как тогда, и он замедлился и остановился, хотя был только что уверен, что шагнет на помощь, не колеблясь.
Наверное, там и впрямь торчала из воды не рука брата, но левая лапа Царь-жабы, существующей вопреки всем мнениям ученых мужей, а он даже при смерти не желал сводить знакомство с этим существом…
Призыв о помощи сменил тональность и стал громче, и грозил в любой миг обрести иное словесное наполнение: Каин, Каин, Каин…
Он знал, что Машенька ошиблась, что искупление не завершено и прощение не даровано.
Иногда он думал, что всю его непутевую жизнь предрек Алеша, предрек давным-давно, узнав на уроке грамматики о существовании анаграмм и тут же сообразивший, как можно переделать имя брата, придуманное любящей маменькой: Ника-Каин, Ника-Каин, Ника-Каин, Ника-Каин! – дразнил он и смеялся, а позже все позабылось, а еще позже всплыло.
Он шагнул вперед.
Он долго жил Каином.
Он не хотел им умереть.
Царь-жабы не существует в природе, ученые не дадут соврать.
Там рука его брата, протянутая сквозь годы, над всей его бестолковой жизнью. И над нежданной и короткой любовью.
Здесь должно было быть глубоко, уже выше колен, но он двигался легко, словно посуху.
Он коснулся тянувшихся к нему пальцев и почувствовал живую и теплую человеческую руку.
Сомкнувшийся круг времен сжался столь же туго, как ледяная хватка на его горячечном запястье, и собрался в одну точку.
Каин встретился с Авелем.
Сноски
1
Журнальный вариант.
(обратно)2
В Польше XVIII века термин «диссиденты» имел не политический, но исключительно религиозный смысл.
(обратно)3
Что он сказал? (нем.)
(обратно)4
Он снова пьян (нем.)
(обратно)5
Бубонная чума (нем.)
(обратно)6
Несомненно (нем.)
(обратно)7
Счастливчик (нем.)
(обратно)8
Зачем свиньям счастье?(нем.)
(обратно)9
Вы действительно говорите по-французски?
(обратно)10
Мне говорили, что у меня южный акцент. Мой учитель был родом из Прованса.
(обратно)






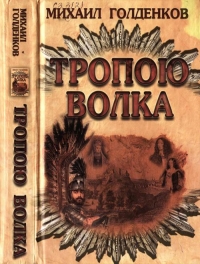
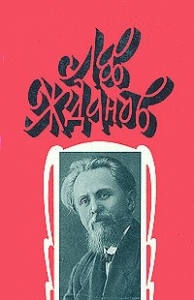
Комментарии к книге «Молитва Каина», Виктор Павлович Точинов
Всего 0 комментариев