Михаил Колосов
Новые крылья
Памяти Михаила Алексеевича Кузмина.
С нежностью через столетие.
Очень жаль. Очень жаль, что не вел я дневника, как это он делает, Михаил Александрович, Миша. Впрочем, я и так все хорошо помню. Разве можно забыть? В первый раз я услышал о нем… Да! Как раз говорили о его дневнике, что есть такой Демианов, литератор, и его знаменитый дневник. Когда это было? Год назад, в 9-м. Я этот дневник потом видел. Ах, это я сильно вперед забегаю. А ведь он как делает, я подсмотрел: записи у него за каждый день, будто ежедневно ведет, а он и неделю может не браться, а то и месяц, а потом уж садится и все заполняет, но обязательно, чтобы всякий день был описан.
Год назад, почти год…
15 декабря 1909 года (вторник)
Я стоял в театре на лестнице. Задумался, замечтался, вдруг, очнулся от громкого разговора. Говорили молодые франты, человек пять, друг на друга все похожие. Что Демианов пишет в дневнике обо всех и всем показывает. И спорили, хорошо ли, что показывает? А написано там такое, что показывать стыдно, а он ничего не стыдится и, как будто, даже специально это делает, для скандальной репутации. Я несколько времени прислушивался, но тут же забыл и снова задумался о своем деле.
16 декабря 1909 года (среда)
К Танюшке приходили подруги из гимназии, пили чай, смеялись, щебетали. Та, что высокая, с толстой, как будто привязанной косой, принесла тетрадь со стихами, и как только девицы ушли, Танюшка с ней заперлась.
17 декабря 1909 года (четверг)
К утреннему чаю сестра вбежала сама не своя. Она сегодня вовсе не ложилась, весь керосин сожгла. Всю ночь просидела с той тетрадкой. Они с подружками переписывают туда стихи, кому какие по вкусу. Я собирался уже идти по делу, она меня в прихожей остановила, «послушай только», прочла такое нежное. У меня где-то внутри, в голове, в самой середке защекотало почти нестерпимо и ноги слегка ослабли. Таня говорит: «Хорошо? Это господина Демианова». И я ушел с этим.
18 декабря 1909 года (пятница)
Не помню что было.
19 декабря 1909 года (суббота)
У Кирсанова имянины. Сильно напился.
20 декабря 1909 года (воскресенье)
Мамаша дулась за вчерашнее. Танюшка ходит виноватая, словно это она явилась поздно и на бровях.
21 декабря 1909 года (понедельник)
От скуки взял у сестры книгу почитать. Да только уж на середине вспомнил, что читал это. Как быстро все забывается! Нужно будет самому заниматься. Ну и что, что пришлось бросить гимназию? Дело житейское. А как бы мне вовсе не отупеть и не опуститься.
22 декабря 1909 года (вторник)
Сегодня сменой декораций командовал новый художник Супунов. Как справедливо выразился Кирсанов, «дельный человек и уважительный». Когда все было почти готово, к нему подошел швейцар и сказал что-то на ухо. Он удивленно спросил: «Как? Михаил Александрович?» Потом, рассеянно так, огляделся: «Кончайте, братцы, без меня». И вышел.
23 декабря 1909 года (среда)
Были с Т. на катке. Она там встретила Красновых и оставалась еще с ними, а я ушел. По дороге заглянул в лавочку к букинисту, но ничего не купил, не было настроения. Все-таки я одинок.
24 декабря 1909 года (четверг)
Ничего.
25 декабря 1909 года (пятница)
Все то же.
26 декабря 1909 года (суббота)
Был в бане на девятой линии. Уходя, ко мне подошел сзади какой-то господин, хлопнул меня по плечу: «Tiens! C’est vous?!»[1] Я обернулся, несколько времени посмотрел рассеянно. «Простите, я вас не знаю». Он смутился, сказал, что обознался и отошел. Странный такой господин, с какими-то нечеловечески большими глазами, непонятно какого возраста и очень сильно пахнет розой. Мыло, что ли, у него какое заграничное?
27 декабря 1909 года (воскресенье)
Покупал своим подарки. Потратился несколько больше, чем ожидал. Но это уж всегда так. Таня-то будет довольна, можно не сомневаться. А вот мамаша – бог знает.
28 декабря 1909 года (понедельник)
Встретил старого приятеля еще по гимназии. Конечно сразу разговоры, что да как? И что нужно видеться. Он теперь студент. Зовет на вечер к знакомым. Так настаивал, что я пообещал, но пойду ли? Скорее всего, не стоит идти. У него теперь свой кружок, я им не ко двору. А когда-то очень были дружны.
29 декабря 1909 года (вторник)
Стригся у Б. Кажется, плохо подстриг. Ну, да мне и ни к чему красоваться, отрастет.
30 декабря 1909 года (среда)
Записка от Г., напоминает про вечер. Наверное, догадался, что не приду. Настоятельно зовет.
31 декабря 1909 года (четверг)
С мамой и Таней зажигали елку, попели немножко, Таня почитала, да и легли.
1 января 1910 года (пятница)
Целый день слонялся неприкаянный. Вдруг, в шестом часу заезжает Гриша за мной, чтобы вместе ехать к его знакомым. Тут уж было не отпереться. Да и хотел ли я отпираться-то? Только, что это вошло ему в голову обязательно меня тащить? Ума не приложу. Столько не виделись, и, вот, такие дружеские проявления.
На вечере сначала было скучно. Пили шампанское, поздравляли весьма уныло. Сестра хозяйки играла на фортепьяно, кто хотел, танцевал. Затеяли, было, шарады, но быстро кончилось. Я услышал как кто-то тихо сказал: «Демианов наверное». Потом услышал смех и шум в прихожей, и вошли пять или шесть господ в черных пиджаках, все, как мне показалось, друг на друга похожие. Тут и началось веселье. Шум, смех, пение. И веселые сплетни были, и о ком-то из царской семьи даже, и стихи читали и спорили. Я потом только освоился немного и уж тогда разглядел, что один из этих господ ни на кого не похож. Он сел за фортепьяно, такой изящно-тонкий, и заиграл. Я никогда ничего подобного не слышал, это были песенки, очень милые, всего семь или восемь, а может быть, и десять, и каждая продолжала другую, и все они между собой были связаны в одну любовную историю слегка запутанную и странную. Кое-кто подпевал. Я понял так, что изящный господин играет собственное сочинение. Голос у него не сильный, но приятный тенор, и такая трогательно-нежная картавость, которая не раздражает, а напротив ласкает даже слух.
Потом мы сидели друг друга насупротив и улыбались. Он смотрел, смотрел на меня и вдруг говорит:
– Простите, мы, кажется, с вами раньше видались, а имени я не припомню вашего.
Я подумал, как он забавно произносит «простите», «припомню», так это мягко получается у него, нежно даже. А сам молчу как дурак. Смутился, да и не знаю что сказать. А он все смотрит, брови поднял удивленно.
– Что вы?
– Я, видите ли… мы с вами… недавно в бане, по ошибке. Вы, может быть, за другого меня приняли. Вот там и видались. Не вспомните? – Огромные глаза всё смотрят, что-то в них такое, уж мне-то никак не описать. И вдруг расхохотался.
– Tiens! C’est vous! И долго так хохотал, до слез прямо.
– Так будем же знакомы, Демианов. – И я взял в свою ладонь маленькую тонкую руку, теплую в холодных кольцах. – Михаил Александрович.
– Так это вы? – Я все держал руку и смотрел во все глаза. Демианов! – Я о вас слыхал, то есть, читал, то есть, сестра моя очень восхищена.
– Сестра?
– Да. Татьяна.
– Ну, а вы сами?
– Я тоже. Очень.
– Да вы же мне так и не назвались.
И я назвался. Он улыбнулся и сказал что ему приятно. Что уж тут приятного. Я-то растерялся совсем. Вот вам и Демианов. Таня не поверит. Пили шампанского много, затеяли, все же, шарады, с новой компанией очень даже весело разошлось. Уходили вместе, я, Демианов и его одинаковая свита, так я их окрестил. Я почти ничего не соображал. Мы с Демиановым шли под руку и всю дорогу дурачились. Это уж утро было.
2 января 1910 года (суббота)
Голова болела целый день. От Гриши записка. Отчего-то грустно. И пусто как-то на душе. Что-то будет со мной?
3 января 1910 года (воскресенье)
Мама приболела. В церковь сходили с Таней. Всё как всегда.
4 января 1910 года (понедельник)
В театре неожиданно на лестнице столкнулся с Демиановым. Так странно, я, как будто, ждал. То есть, конечно, я совсем не ожидал его увидеть, но почему-то мало удивился. Он сделал большие глаза, а они у него и так большие, и как-то выдохнул мне в лицо прямо: «Это вы?!» Я говорю: «Я здесь уж давно работаю». Он меня на это невпопад, как-то без предисловий всяких, пригласил завтра в «Одинокую кошку». Конечно, я никогда там не был, разумеется, я растерялся, но этого совсем не было видно. Я, небрежно так, сказал, что приду. Если бы я рассказал это Тане, она бы задохнулась от восторга, но мне никому ничего не хочется рассказывать. Рассказывать-то в сущности нечего, и ничего такого особенного со мной не случилось. Возможно, пока не случилось?
5 января 1910 года (вторник)
Ну и приучил я своих домашних! Был почтительным сыном и добрым братом на свою голову! Вот, теперь, если вечером идти не на работу, так обязательно нужно дать отчет, с кем и куда, и к кому, и надолго ль? Отвертелся кое-как, насочинял. Что же было говорить им? А, может, я им и правду сказал, ведь, Гриша там наверняка будет, а я сказал, что с ним иду. Про эту «Кошку» такую-рассякую, уж, сколько и слухов, и сплетен, и пересудов. И легенды, и страсти, чего только я не наслушался. В театре за кулисами только о ней и говорят, особенно маленькие актрисы, те аж до визга доходят, кто там и как наскандалил. И актеры там все, и поэты, и художники и я вот теперь иду.
Как только вошел, не успел даже толком в этом аду растеряться, дым, чад, шум, полумрак, но какой-то парнишка сразу же подбежал ко мне и повлек за собой. Среди сотни голов я уж разглядел большие глаза, слегка навыкат и кудряшки, красиво разложенные по лысеющей голове – Михаил Александрович! И новый художник Супунов тут же, и те господа, которые мне раньше казались одинаковыми.
Выпил слишком много. Что я там натворил? Кажется, наговорил лишнего, нахвастался.
6 января 1910 года (среда)
Проснулся в незнакомой комнате. От того, что кто-то постучал и приоткрыл дверь немного, но тут же закрыли, на это в углу отозвалось фортепьяно, и там за дверью кто-то хихикнул детским или женским голосом. Я совершенно не знал, где нахожусь, не мог припомнить, как ни старался. Одежды своей я тоже не увидел. Что это, шутка что ли? Но тут вошел Михаил Александрович, и, улыбаясь, стал спрашивать, как я спал, и не болит ли голова, и где я хочу завтракать. Я по-дурацки, наверное, стал извиняться, за то, что может быть вчера, нехорошо себя вел. М.А. меня успокоил, и подал мою одежду, чем смутил меня окончательно. Он сказал, что его домашние сейчас садятся завтракать и нас тоже приглашают, но если мне неловко, то мы можем к Палкину пойти, что денег у него немного, но позавтракать нам хватит. Я уж так засмущался, что самому стало своего смущения стыдно, оделся кое-как, и мы вышли на улицу.
М.А. живет в семье своей сестры, она его старше, у него пять сестер и все они старше его. Та, у которой он живет, Варвара, замужем за Панферовым, хорошим человеком, чиновник он, кажется, и у них трое детей. Старший племянник Сережа ненамного М.А. младше и они большие товарищи, он тоже мнит себя литератором и во многом подражает дяде. Нынешний муж матери ему отец не родной и у него другая фамилия, какая-то нерусская, я не запомнил.
Я о себе тоже рассказал. Про Таню немного и про маму, про то, как умер отец, и как я теперь работаю в театре.
После завтрака мы разошлись, попрощавшись до скорой встречи, не зная, когда и где встретимся снова. Да и встретимся ли?
Дома, конечно, переполох. Но это уж так и надо было ожидать, ничего удивительного. Все то же: объяснения и расспросы, и выговоры. Как это все неприятно.
7 января 1910 года (четверг)
Рождество. Ничего замечательного не было. Скучно. Какой интересный человек Демианов и странный, никогда, никогда не встречал я никого подобного. Увижу ли его еще?
8 января 1910 года (пятница)
Что если рассказать Тане? А, собственно, что рассказывать?
Интересно, если бы Т. была старшей сестрой, как бы мы жили? Верно, я был бы совсем другим.
9 января 1910 года (суббота)
Записка! От М.А. Вот уж действительно не ожидал. Принесли в театр, разыскали меня. Ничего особенного: «Приходите в «Кошку». Сегодня пойду.
В «Кошке» все те же, знакомые теперь лица: Гриша, Супунов, Окунев, Умилев с супругой, племянник М.А. Сережа, Носков и Дудников. Мне они все не так интересны. В какую-то минуту я ощутил себя лишним, совершенно посторонним. В самом деле, чего притащился? Ну, положим, я пришел по приглашению. А зачем он меня пригласил? Чем я могу быть интересен для него? Конечно, он писатель. Ну и что? Как тип он меня, что ли, хочет вывести? Да уж тип-то я еще тот, такими типами пруд можно прудить. И, тем не менее, мы сидели в углу, в сторонке и весь вечер тихонько разговаривали, а когда сильно захмелевшие знакомые уж начали расходиться, и мы пошли. М.А. взял меня под руку, чтобы не упасть.
10 января 1910 года (воскресенье)
Встретились возле церкви, как договорились. М.А. улыбался, Таня рот раскрыла, когда я их представил. Конечно полезла со всякими девичьими глупостями, но я ей не мешал. Во-первых, у М.А., наверное, много таких поклонниц, молоденьких, восторженных и оттого глупеньких, а во-вторых, я и сам не хотел нелепо выглядеть, дергая бедную Таню и показывая, что ее излияния меня задевают. Наверное, потому М.А. сказал, что у меня угрюмый вид.
Дома было и разговоров, и впечатлений, как после спектакля.
11 января 1910 года (понедельник)
Теперь моя Таня только об одном говорит. Мне это немного неприятно. Недозавтракав, сбежал в театр.
12 января 1910 года (вторник)
А чего я жду? Каждый раз особого приглашения? Что если просто самому придти?
13 января 1910 года (среда)
Еще раз перечел то стихотворение в Таниной тетрадке. Есть в этом что-то такое, о чем я боюсь думать.
14 января 1910 года (четверг)
Конечно, я и сам мог бы пойти. Да и не только в «Кошку» заявиться, а даже и дорогу мог бы вспомнить и как-нибудь, так, запросто нанести визит. Только что я для него? Да и сам-то я что же? Так бы вот просто взять и пойти, к чему эти глупые сомненья? От чего они?
15 января 1910 года (пятница)
Поздно вечером после работы заглянул в «Одинокую кошку». Из знакомых никого не увидел. Господи, и зачем только заходил!
16 января 1910 года (суббота)
Ходил в баню на девятую линию. А разве я ожидал кого-то там встретить?
17 января 1910 года (воскресенье)
С Таней в церковь. И скука целый день. Ни визитов, ни записок. Ничего.
18 января 1910 года (понедельник)
Прогулки ради прошел до ресторана Палкина и возле него еще прогулялся в окрестностях. Кажется, видел дом, в котором живет господин Демианов, но зайти не решился. Ни к чему вроде бы.
19 января 1910 года (вторник)
В театре столкнулся с говорившими между собой, Супуновым и Демиановым, мне показалось, что они ссорились. М.А. мне очень обрадовался. Я тоже был очень рад его видеть. У них, оказывается, сегодня какой-то домашний вечер. М.А. будет петь и читать что-то новое. Он позвал приходить с Таней.
Вечером я, не заходя домой, отправился на квартиру к Демианову. Не знаю, почему не взял я Таню. Без нее как-то свободнее. Может быть, в другой раз.
Оказалось, что сегодня именины племянницы М.А., но детский праздник устроили отдельно, а взрослая компания собралась в гостиной. Сестра М.А. полная приятная женщина, совсем на него не похожа.
И в семье-то он ни на кого не похож, что уж о прочих говорить.
М.А. пел и читал стихи, потом играл на фортепьяно и все танцевали. Потом, в самый разгар уже веселья мы вдвоем с ним вышли курить. Я рассказал ему о своих планах на самообразование, что только планами они и остаются, что никак не удается взяться за ум, что как только начинаю, тут же и забрасываю. Он кивал, улыбался, а потом предложил заняться со мной и спросил, чем я желаю. Я почему-то сказал французским. Он посмотрел пристально, потом отвернулся к окну и сказал: «Французским? Прекрасный выбор. Вот вам первый урок: je vous aime»[2]. Он взял мою руку в свою, я не отнял. Он хотел обнять меня и приблизился. Мне стало страшно неловко, я вырвался и убежал.
Целую ночь я не спал. Как глупо, как нелепо все вышло. Я должен был держать себя в руках, объясниться и не обидеть такого человека. Вероятно, мы никогда больше не будем видеться. Даже если встретимся случайно, нам обоим будет неловко. Что я наделал!
20 января 1910 года (среда)
Послал Танюшку, сказать в театре, что болен. Мне и вправду нездоровится, весь день не вставал.
21 января 1910 года (четверг)
Когда мама сказала, что ко мне посетитель, справляется о здоровье, я, конечно, подумал что из театра пришли. А это Михаил Александрович! Напрасно я думал, что при первой же встрече сквозь землю провалюсь, только удивился очень. Честное слово, я его никак не ожидал! Он сказал: «Лежите, не беспокойтесь» и сел на стул возле кровати. Помолчали немного, а потом М.А. просто так и душевно говорит: «Не сердитесь на меня ради бога, а французским давайте, все же, будем заниматься, я вот и книгу принес». И улыбнулся робко так, даже просительно. Я чуть не расплакался. Хотел, было, кинуться что-то объяснять, но смешался только и запутался. Мы смотрели друг на друга и улыбались. Был у нас и первый урок. Очень весело.
22 января 1910 года (пятница)
На работе все интересуются здоровьем. А что я скажу? Здоровье мое улучшилось и на душе хорошо.
23 января 1910 года (суббота)
Встретились возле театра, гуляли, обедали. Теперь моя мысль во мне окончательно оформилась. И вполне я бы мог объясниться. Сказать ему, как сразу, если не понял, то почувствовал, что это любовь. Как недолго отвергал это чувство, а почти тут же смирился и поддался ему. Как очень ценю и понимаю, что важнее его теперь нет для меня человека. Но только вот одного я не могу. Никак не могу, и нет никакой возможности себя пересилить. Духовную сторону вопроса я вполне принимаю, но не физическую. Сказать: «Простите, я вас тоже люблю, но никак не могу с вами так…» Вполне мог бы сказать я это. Но всё как-то ни к чему. Не станешь же говорить ни с того ни с сего, так, после слов, что обед был хороший.
24 января 1910 года (воскресенье)
В первый раз зашел к М.А. в 11. Сказали, еще спит. Я прошелся часа два, зашел снова – нет дома. Что же это? Глупо было бы принимать на свой счет. Но я немного беспокоюсь. Хотел идти искать, но раздумал, не так уж много мест я могу предположить, ошибусь почти наверное.
25 января 1910 года (понедельник)
М.А. заходил в театр ко мне и к Супунову. Курили и болтали на лестнице. Мне хотелось немного поговорить наедине, но художник все никак не уходил, а потом меня позвали работать.
26 января 1910 года (вторник)
Стараюсь аккуратно готовить уроки, которые дает М.А. Он придумал писать мне французские записки. Я уже четыре с посыльными получил. Ничего в них такого нет. Что он думает о том вечере? Обижен ли на меня? Расстроен ли? Спросить я не посмею, а догадаться никак нельзя.
27 января 1910 года (среда)
День и ночь думаю об одном. В сущности, подобное признание выговорить непросто. А получить отказ, такой нелепый, стыдный даже! И после, как ни в чем не бывало, смеяться и вместе обедать. Что это может значить? Как мне понимать? «Дорогой друг, между нами произошло недоразумение характера обыкновенного, со мной такое случается сплошь и рядом. На нет и суда нет. Я не подразумевал ничего серьезного. А только зря вы испугались, миленькое бы вышло приключение». Или же: «Друг мой, вы мне дороги бесконечно! Я вас ценю и понимаю. И никоим образом не хотел вас оскорбить. Простите мне мою неловкость, и останемся по-прежнему друзьями. Потому что важно для меня быть подле вас, пусть даже любя и не обладая». Так как же мне понимать? Вероятно не так и не эдак, а на деле что-то третье, совсем простое.
Дома и на работе то же. Все перемены только у меня внутри.
28 января 1910 года (четверг)
Наша дружба начинает обзаводиться привычками и обыкновениями. Есть уже у нас и «наш» столик и «наша» скамейка и Палкин «наш». Подумать только! Так еще недавно мы были незнакомы, и, встретившись в нашей бане, были вовсе друг другу чужие.
29 января 1910 года (пятница)
Все же, французский дается мне трудно. Когда М.А. объясняет, я понимаю все прекрасно. Но вот слова новые запоминаю плохо, и тут же, почти, забываю всё, что затвердил. Сам М.А. знает и итальянский, и английский и по-немецки читает, и даже с латыни переводил Апулея. Куда мне до него! Он говорит, что нужно как сквозь чащу сквозь язык продираться, читать и читать, пусть каждое слово со словарем. Я не могу так, слишком быстро становится скучно. Немного мне, конечно, за это стыдно. Но уж такие мои способности.
30 января 1910 года (суббота)
У меня вечер был свободен. Я зашел за М.А., и мы вместе ездили везде. Заходили к его знакомым, надолго нигде не оставаясь. Было весело и суетно. Все это происходит как не со мной, словно сон. Но мне хорошо, давно я не чувствовал себя так легко и радостно, почти как в детстве. Сколько же он знает людей! Ужас!
31 января 1910 года (воскресенье)
Весь день провел со своими. К М.А. отправлял записку, но ответа не было. Скучно и тяжело на душе. Таня делает нелепые сцены, вероятно, ей хочется каких-то роковых признаний. Поискала бы для этого себе ровесников – пора. Читал то, что М.А. велел, но без настроения и халтурил. Что-то поделывает мой дорогой учитель?
1 февраля 1910 года (понедельник)
В театре ко мне подошел Супунов, и дружески поздоровавшись, передал, что М.А. нездоров и просит меня, его навестить. Я смотрел, стараясь узнать его отношение, заметить в тоне и манерах что-нибудь такое, сам даже толком не знаю что, может быть какую-то особую осведомленность. Но ничего заметно не было, он говорил сдержанно и просто, как всегда.
Освободившись, тут же помчался к Демианову. Оказывается, он часто страдает головными болями, и вчера целый день лежал. А сегодня ему уже лучше. М.А. показал мне новый журнал со своими стихами, и я выпросил в подарок. Он пошутил о том, что сестра моя к нему неравнодушна, я сказал: «Отчего же? Я и сам ваш поклонник». – «Мой поклонник? Вы?» – «Да. Очень». И я прочитал то, что помнил наизусть, то самое, нежное. Демианов сделал удивленное лицо: «Вам это нравится?» Я сказал, что это самое лучшее. – «О чем же это по-вашему?» Я сказал, чтобы он не думал, что я ничего не могу понять, что я все понимаю и даже лучше чем можно представить. Он еще больше выразил удивление: «Что ж такое вы понимаете?» – «Если хотите, я считаю, что только такая любовь имеет смысл». Он сделал сценическое лицо: «Какая же»? – «Не делайте такой вид, вы этим обижаете меня, вы знаете, о какой любви я говорю. И только в ней я вижу высший смысл и подлинное содержание. Я думаю все время о том вечере. Знайте, что я, может быть, даже раньше вас почувствовал то, что вы тогда сказали, и это очень важно для меня». Он отвернулся, как тогда. «Странно, я подумал что вы…» – «Я очень много пытался представить, что вы подумали, и очень боялся всего, что вы могли подумать. Знайте только одно: я не хотел вас обидеть, вы мне очень дороги». Он подошел и обнял меня. Я провел рукой по спине. Какой он тоненький! Но его полураскрытые губы встретились только с моей щекой, потому что в последний момент я отвернулся: «Простите меня. Я не могу». Я тут же хотел уйти, он пошел за мной: «В чем дело? Объяснитесь! Я что противен вам?» В коридоре навстречу шла горничная, она это слышала и улыбнулась, отворачиваясь, я это точно видел. Мне стало ужасно неловко, М.А. все еще требовал объяснений, и мы вернулись к нему в комнату. Я объяснил, как умел. Он убеждал меня, он такой любви не понимает, для него любовь без обладания невозможна. К полуночи сошлись на том, что он может немного потерпеть и подождать.
Придя домой, я даже не обдумывал происшедшее, слишком уж устал.
2 февраля 1910 года (вторник)
Проснувшись утром, почти сразу получил записку, по-русски: «Простите меня. Вчера я был груб и глуп. Я вас люблю и понимаю. М.Д.» Мог ли я о большем мечтать! Теперь всё у нас будет хорошо.
3 февраля 1910 года (среда)
Стригся у нового парикмахера. Кажется ничего. Новые сомнения меня одолевают. И мысли все об одном.
4 февраля 1910 года (четверг)
Я давно хотел взглянуть на дневники. Сколько ходит слухов. Да и сам М.А. неоднократно при мне упоминал. Но чтобы показать! Никогда и намека не было. И вот сегодня событие. Сидя в комнате у М.А., мы как обычно немного занимались (читали Лафонтена), немного болтали и смешили друг друга. Я взялся представлять maître Corbeau[3] и чуть не сломал стул. М.А. пошел принести чайник, я остался. От нечего делать перебрал все книги на столе. И вдруг увидел тетрадь. С надписью 1909-1910. У меня аж сердце зашлось. Я начал листать, но от спешки и волнения не смог разобрать почерка. Услышал шаги и всё положил сейчас же на место. М.А. принес чаю, но я что-то слишком уж разволновался. И скоро простился до завтра.
А что если попросить? Ведь говорят же, что он многим читал и даже о них самих.
5 февраля 1910 года (пятница)
Вместе гуляли, катались. М.А. подарил мне свою карточку и сделал надпись на ней «Милому и дорогому. Такого как вы я всегда ждал. М. Демианов». Придя домой, я долго метался, не знал, куда ее пристроить. Выставлять на обозрение домашних никак не хочу. Если в книгу спрятать, так их тоже Таня берет. Просто наказание. Ничего от них не спрячешь. Положил пока в свою французскую тетрадь, но нужно бы придумать место получше.
6 февраля 1910 года (суббота)
Теперь, если я не в театре, и если не занят М.А., мы всё время вместе. Ходим везде, делаем визиты. Я обрастаю знакомыми страшно быстро, это, конечно, с легкой руки М.А. Часто бываем в «Кошке» и все дни мои снова так похожи друг на друга, что даже путаются и не очень точно можно сказать, когда и что было. Но теперь это не скучное нудное существование, а милая веселая дружеская суета. Как я счастлив.
7 февраля 1910 года (воскресенье)
С М.А. меня везде и все хорошо принимают. Он для меня словно рекомендательный документ от самой высокой особы. Для меня это было в диковинку поначалу, но уже привыкаю. Замечаю, что стал смелее и развязней особенно в присутствии М.А.
8 февраля 1910 года (понедельник)
Записка от С.: «Не подумайте ничего плохого, но прошу вас, на вечер к Умилевым завтра не приходить. При встрече объясню». Господи! Только этого мне не хватало. Что он интригует? Я вовсе не обязан его слушаться.
9 февраля 1910 года (вторник)
Встретились с М.А. на вечере, как и договаривались. С. тоже был там, он поздоровался и улыбался, как ни в чем не бывало. Я хотел, было, объясниться, но не вышло. Позже всех пришел какой-то господин, высокий. Меня тут же позвал Валетов и всё удерживал разными нелепыми разговорами, а М.А. тут же скрылся из виду, вновь пришедшего тоже видно не было. Что же, С. меня об этом предупреждал? Или, может быть, М.А. его попросил? С ума сойти можно! Кое-как отделавшись от Валетова, я стал бродить по квартире и разыскивать М.А., его нигде не было. Я подумал, что он ушел без меня, оделся и вышел на лестницу. Там они стояли вдвоем с тем высоким и никого не замечали. Я пошел домой.
10 февраля 1910 года (среда)
В театре я подошел к С. и прямо его спросил, что все эти интриги значат? Он очень смутился, говорил, что вчера могло все что угодно случиться и что, возможно, мне нежелательно было видеть разные некрасивые сцены. В общем, я все понял. Бедный С. тут не при чем, да и не нужно было его впутывать. А ходил я, может быть, и зря, не хочу ничего знать о том высоком. И выведывать ни за что не буду. Впрочем, себя обманывать глупо: я ничего не хочу об этом знать, потому, что и так знаю, догадался. Да и трудно ли догадаться-то?
11 февраля 1910 года (четверг)
Что, в сущности, изменилось бы, если бы были в нашей жизни объятья и поцелуи и вся та любовь, которой хочет М.? Пожалуй, мы стали бы еще ближе, совсем как родные. Впрочем, не испытав, я не могу этого утверждать. Что же меня держит, в самом деле?
12 февраля 1910 года (пятница)
У М.А. болела голова, и я приходил с ним сидеть. Свет не зажигали. В темноте я мочил полотенце в тазу с холодной водой и клал ему на голову. Говорили мало. Про вечер вторника не было сказано ни слова, хотя я был уверен, что он станет объяснять, и хотел благородно от этих объяснений отказаться. Насколько я успел узнать его, он любит сцены и объяснения, конечно, мне он ужасных сцен не делал, но я чувствую, что в этом прав. Не знаю, почему он не заговорил про вторник. Наверное, действительно слишком болен.
13 февраля 1910 года (суббота)
М.А. заходил ко мне в театр. Голове его лучше. Улыбался. Уходя, взял мою руку, и пристально поглядев в глаза, попросил не думать о нем плохо. Я ничего не ответил, а нужно было.
14 февраля 1910 года (воскресенье)
М.А. не видел и никаких известий не получал. День провел с Таней. На улице очень холодно. Вечером дежурил в театре.
15 февраля 1910 года (понедельник)
Я сочинил для М.А. стихотворение. Это акростих, он показывал мне такие, и мне очень понравились. Первые буквы составляют фамилию Демианов. И, как мне кажется, вышло немного похоже на его манеру.
Думаю о Вас ежеминутно.
Ежечасно жду известий.
Мне без Вас и муторно и нудно.
И не могу усидеть на месте.
А Вам не до меня: мчитесь туда-сюда,
Нарасхват среди знакомых и прочих.
Обо мне вспоминаете не всегда.
Вот вам повод – восемь робких строчек.
Как только написал, сразу очень захотелось показать ему. Я даже переписал аккуратно, и тут же хотел послать, но подумал немного и засомневался. Разумеется, высмеивать он не станет, я уверен, но какой оценки можно ожидать? Не знаю. Страшновато. Самого его не видел целый день и ничего не получал.
16 февраля 1910 года (вторник)
От М.А. французская записка. Разобрал и написал ответ даже. Хотя, с писанием по-фр. у меня дела хуже всего обстоят. Читаю кое-как и кое-как что-то говорю, но вот написать правильно ни слова не могу. Сверяюсь со словарем и с книжкой и каждое слово выправляю. Какая мука французское правописание! На улице очень холодно. Когда же весна? В своей французской записке позвал М.А. на каток.
17 февраля 1910 года (среда)
Были с Т. на катке. Она, как всегда, встретила знакомых. Я ждал М.А., то есть, ждал и не ждал. Ждал, но не думал что придет. Пришел. Вместе катались. Потом пошли к Палкину обедать. Я рассказал М.А. про свое стихотворение. Он очень заинтересовался и даже обрадовался, что я написал стихотворение. Я обещал показать. Теперь я уверен, что он меня похвалит.
18 февраля 1910 года (четверг)
У Т. на катке появился ухажер. Теперь она может без меня кататься. По-моему она счастлива, по крайней мере, весела эти дни.
А я что-то затосковал. В театре мне работать надоело. Вот если бы у М.А. было много денег, я попросился бы к нему в компаньоны или даже слугой. Но денег у него нет, перебивается кое-как от случая к случаю, часто занимает у друзей и знакомых. У меня вот тоже. Он потому и живет у сестры, что почти всегда без денег.
19 февраля 1910 года (пятница)
Гриша приходил ко мне в театр. Стал было сплетничать про М.А., но я его оборвал, так что пришлось ему сплетничать о других. Интересно, что он думает о нашей с М.А. дружбе? Да и не только он. Уж конечно нафантазировали бог знает что!
20 февраля 1910 года (суббота)
У Танюшки роман определенно. С таким смешным лохматым мальчиком, наверное, тоже гимназист. Она ничего не рассказывает, а мы с мамой не расспрашиваем пока, только улыбаемся друг другу. Я, все же, собрался с духом и отправил свое сочинение Михаилу Александровичу по городской почте. Посмотрим, что из этого выйдет. Как подумаю – дух захватывает, но приятно.
21 февраля 1910 года (воскресенье)
Не сговариваясь, встретились с М.А. возле церкви. Очень удачно, пусть и не очень нежданно. Я, конечно, надеялся, что там увидимся, но не был уверен, поэтому страшно был рад. Демианов пригласил меня к своему приятелю, сказал, что зовут его Аполлон Григорьевич Вóльтер, что это его хороший товарищ и что рассказывал ему про меня, и он хочет познакомиться. Я полюбопытствовал, не француз ли этот господин и не родственник ли Вольтéра? М.А. Заулыбался, сказал, я сам все увижу. Еще мне стало любопытно, что М.А. про меня рассказывал? Но тоже ничего я не узнал, только что «волноваться не надо, плохого не говорил». Приехали к Вóльтеру. Да! Если и был у него в роду кто из французов, то в незапамятные времена. Он оказался полным, круглолицым, мягким господином со светлыми волосами и глазами. Такой кругленький, уютный. Какой уж там Аполлон! А тем более Вольтéр. Но человек очень добрый и приятный. Радушно встретил нас. С М.А. они обнялись. Я чувствовал себя легко, словно не только М.А., но и я тоже давнишний хороший товарищ милого Аполлона Григорьевича. У Вольтера остались мы обедать. Сам он кушает в невероятных количествах и чрезвычайно много пьет вина. И других так же потчует. От выпитого я не в меру разоткровенничался, стал жаловаться на судьбу, на то, что вынужден работать в проклятом театре, вместо того чтобы получать хорошее образование, что пыльные декорации мне опостылели и снятся в кошмарах. А.Г. меня утешал, он так растрогался, что чуть было не заплакал. Он говорил, я еще молод и все может измениться, и теперь у меня есть друзья он и М.А., которые меня не оставят. Добрый, милый человек. Пришел домой от него очень поздно. Мама нездорова. Оказывается, Таня возле нее весь день просидела.
22 февраля 1910 года (понедельник)
Был доктор. Говорил, в сущности, то же, что всегда. Климат нам менять не по средствам, нечего об этом и думать. А все что помогает, мама сама лучше доктора знает. Она права была, не нужно было и звать его. Но я так не могу. Как только ей хуже делается, я тут же за доктором.
Супунова в театре не было и от этого там было еще тоскливее.
Записок не получал и не писал. Читал книгу, которую взял вчера у Вольтера. Все же, он очень занятный и приятный человек. Вот кто уж точно ни на кого из знакомых М.А. не походит, в «одинаковой свите» не затеряется. У него у самого-то свиты нет? Если бы были, они могли бы зваться Вольтерьянцами.
23 февраля 1910 года (вторник)
Стихотворение мое М.А. получил. Наконец-то! Судя по всему, он мной доволен и считает, что у меня есть способности. Написал мне похвалы, немного даже слишком. Он считает мне нужно еще писать. Вообще-то я в себе на этот счет сомневаюсь. Но одна мысль, недавно меня посетившая, не дает мне покоя: Что если М.А. совершенно потеряет ко мне интерес из-за моего, на его взгляд, необъяснимого целомудрия? Несомненно, если бы я ему писал, он не отвернулся бы от меня слишком быстро. Это для меня спасение. Но буду ли я в силах? Сомнения меня тревожат. Во всяком случае, сегодня не могу приступить к поэтическим экспериментам – слишком взволнован похвалами М.А. и его новым ко мне вниманием.
24 февраля 1910 года (среда)
Сегодня прямо с утра засел писать. Измарал бумаги без счета. Но так ничего и не вышло. Как же можно вот так просто сесть и написать? В прошлый раз я чувствовал необыкновенный душевный подъем, особое вдохновение. Но испытаю ли когда-нибудь это вновь? Дано ли мне? Очень расстроенный и разочарованный поплелся на дежурство в театр. Маме немного лучше, но она все еще не встает.
25 февраля 1910 года (четверг)
Наверное, М.А. хвалил меня за то стихотворение просто потому, что хорошо ко мне относится и я ему небезразличен. Впрочем, если это и так, что же в том плохого? Не того ли я хочу добиваться и впредь? Его небезразличие, вот что важно, а не то, выйдет из меня писатель или нет. Но писатель пока не выходит. А дорогое внимание нужно завоевывать. Вторые сутки скриплю бедными своими мозгами – ничего. Читал Лафонтена, уже кое-что могу понимать без перевода, но мало.
26 февраля 1910 года (пятница)
Вот что получилось сегодня ночью.
Обрывки недочитанных романов
Смешались в безотчетное виденье,
Где я, конечно, в центре всех событий
И в окруженье так давно знакомых
Чуть надоевших даже персонажей.
Так быстро замелькали эпизоды,
Не поспевая мысленно за ними,
Я отпустил в свободное паденье
Свое сознанье и заснул спокойно.
В рифму пока не выходит, но это тоже стихи, я такие видел у Михаила Александровича.
Перепишу чистенько и отнесу ему при случае. Может быть даже сегодня, если маме станет получше.
27 февраля 1910 года (суббота)
Ко мне в театр вдруг явился Ап.Григ. Вот это происшествие! Никак его не ожидал. Он сказал: «Чему вы удивляетесь? Мы теперь с вами приятели, как и с Михаилом Александровичем». Хотел утащить меня обедать, но я не смог уйти. У него в нашем театре ложа, звал заходить. А вечером они с М.А. заехали вместе и увезли меня в ресторан. Я всё думал подсунуть М.А. свое сочинение, но не находил удобного случая, все мне хотелось большего внимания с его стороны. И при Вольтере тоже было немного неловко. А, может быть, и нужно было при Вольтере, пусть он бы тоже посмотрел. Ап.Григ. спрашивал сколько у меня в театре жалованье, я сказал. Он нашел, что не так уж велико и что за такое жалованье действительно можно найти, что-нибудь получше, для «такого приятного молодого человека» как я. Что же тут найдешь? Я и в театр-то случайно попал, знакомые папы устроили, когда его не стало.
Домой пришел поздно ночью. Маме лучше, но Таня смотрит с упреком.
28 февраля 1910 года (воскресенье)
Перед работой заглянул ненадолго к М.А., отнес свое стихотворение. Он был в восторге. Я не преувеличиваю. Хотел взять с меня слово писать ежедневно. Слово я бы дал, но не сдержу его, это точно. Слишком тяжело дается. Труднее французского. В театре был рассеян, все валилось из рук. Старался придумать хоть что-то. Куда там! Вот тебе и взялся за гуж. Но надо было видеть, как радовался М.А. моему стихотворению, как хвалил меня. И как его удовольствие передавалось мне почти физически. Какое чувство я испытывал от похвалы, как в детстве от материнских ласк. Прямо-таки нега во всем теле. Испытать такие минуты снова, для этого уж ничего не пожалеешь. Буду сочинять. После театра долго сидел за столом с открытой тетрадью. Так и заснул. Когда чуть не свалился со стула, перелег на кровать.
1 марта 1910 года (понедельник)
Проснувшись утром, вдруг почувствовал необыкновенное озарение и написал, все же! Слава богу! В первые минуты всё перечитывал и перечитывал написанное, испытывая гордость и восторг. Но как только начал остывать, тут же засомневался, бросился исправлять то одно то другое, все несовершенства и промахи. Черкал, черкал и закончил отчаяньем. Бросил все и ушел. Бродя по улице, надумал зайти к А.Г. посоветоваться. Недолго поколебавшись, будет ли удобно, зашел. Вольтер был дома. Он выслушал меня благосклонно. Конечно, я не все сказал. Так только, что М.А., дескать, находит способности и требует их развивать, и о своих сомнениях. А.Г. потребовал показать стихи. Я взял у него бумагу и переписал по памяти. А.Г. заглядывая через плечо, нашел, что у меня хороший почерк. Стихи он похвалил, я указал на сомнительные места, и мы вместе решили, как будет лучше. А.Г. говорит, что я больше должен себе доверять и у меня есть вкус. Добрый, славный Аполлон напоил меня чаем. Так ушел я от него сытый, обласканный, и полный самых радужных надежд.
М.А. Демианову
Моя душа в любви не кается.
И твердой плоти вопреки
Ни обо что не спотыкается
Все помыслы мои легки.
В тебе узнал свою фантазию.
Ее давно берег любя.
Еще когда ходил в гимназию,
Уже мечтал узнать тебя.
Твои глаза и очертания
Я не предвидел в снах своих,
Но общность мысли и желания
Соединяет нас двоих.
Моя душа ни в чем не кается.
Я знаю, что мне суждено.
На чувство чувство откликается.
Не говорите мне: «грешно»!
Переписал и послал с запиской.
2 марта 1910 года (вторник)
М.А. мною доволен. Он написал специально для меня стихи, с посвящением. Настоящие. Когда они будут напечатаны, то посвящение мне будет стоять впереди. Замечательно. Вот это действительно стихи. Такие изящные, всё на своем месте. Ни прибавить, ни отнять. Совершенство. Я с ним тягаться и не берусь. Только хотел доставить ему удовольствие. Он меня хвалит, я и рад. Так получается, что и себе удовольствие доставил. Себе возможно даже большее. И теперь мне хочется снова и снова его испытывать.
Оказывается, Вольтер очень богат, и даже известен как меценат и покровитель художников и поэтов. А я ни сном, ни духом! Вот это положение. Я-то держался с ним как с милым чудаковатым простачком, добрым любителем покушать. Остается провалиться мне на месте. Впрочем, может быть, я и преувеличиваю, не такой уж я невежа и был с ним довольно учтив.
Холодно невообразимо. Когда же весна?!
3 марта 1910 года (среда)
Написал А.Г. письмо с благодарностью за помощь и советы. Рассказал, что М.А. меня хвалит. И, даже, сделал признание, что мне это ужасно нравится. Переписал ему то стихотворение, которое получил от М.А. в подарок, похвастался.
От М.А. записка с заданием, нужно не лениться. Очень боюсь, что французского мне, все же, не одолеть.
Новые мысли и новое настроение. Я уже не тот одинокий и прокисший юноша. Хочется жить!
4 марта 1910 года (четверг)
Сегодня у нас спектакль. Немного освободившись, забежал к Аполлону в ложу. Пьеса для него скучная, поэтому он страшно обрадовался, что я заглянул. Но пришлось быстро бежать на место, следить за декорацией. И потом, с ним были вовсе незнакомые мне люди, так что я почувствовал себя немного неловко. Между прочим, А.Г. представил меня как начинающего поэта. Тоже мне поэт! И смех и грех.
5 марта 1910 года (пятница)
Мне понравилось составлять акростихи. В сущности это никак нельзя назвать поэзией. Для меня это занятные головоломки вроде китайских, только с не очень строгими правилами. Так и сяк можно повернуть, а правильное решение рано или поздно выйдет. Очень занимательно и весьма приятное развлечение.
Слова и мысли стынут в тишине.
Кто в этом мире помнит обо мне?
Усталость голову склонила мне на грудь.
Как хочется забыться в сладком сне,
А думы грустные все ж не дают уснуть.
Как раз сейчас я ничего подобного не испытываю, но где-то было, кажется, у Пушкина, сказано, что о любви лучше всего писать именно тогда, когда от нее свободен. Что-то в этом роде. Наверное, это для всякой вещи справедливо. Я весел и счастлив, думаю о своих друзьях, мечтаю о весне, строю планы. Какая уж тут скука? Ну, может быть, немного взгрустнется иногда, но это так, ничего.
Мое знание французского, как тришкин кафтан: в одном месте штопаю – в другом рвется. Не успеваю хорошенько усвоить новый урок, тут же спохватываюсь, что старый уже из головы вон. Если бы не М.А., я давно бы уже отчаялся.
6 марта 1910 года (суббота)
Сегодня собрались у М.А. я, Супунов и Сережа. Они говорили о каком-то их знакомом, которого я не видел. И, вспомнив, с ним связанную историю М.А. предложил прочесть нам, что он писал об этом в своем дневнике 2 года назад. Наконец-то и я удостоился послушать знаменитые дневники! М.А. разошелся и прочел не только связанное с тем знакомым, но еще и из другой тетради, из той самой, которую я тогда листал, о событиях не таких далеких. Я, осмелев, попросил прочесть о нашем знакомстве, но М.А. сказал, что обо мне прочтет в другой раз и посмотрел со значением, так что я понял, он не хочет читать при племяннике и Супунове. Но теперь уж я поймаю его на слове, и, когда-нибудь, обязательно заставлю прочесть.
7 марта 1910 года (воскресенье)
Приходил человек от Аполлона Григор. с запиской. Он зовет меня к себе на вечер. Сегодня. Как назло у меня дежурство в театре, но, может быть, удастся сбежать. Попрошу Кирсанова побыть за меня.
Вечером у А.Г. столпотворение. Приехала его племянница из Москвы. Она, оказывается, довольно известная особа, художница и музыкантша. Ольга Ильинична. Гостей несчетно собралось ее приветствовать! Милая молодая дама с приятными манерами, белокурая. Держится смело, но не вульгарна отнюдь. Мне она очень понравилась. Я чувствовал себя немного заброшенным, Демианова, почему-то, не было. Ни с кем, почти, из гостей я не знаком. Аполлону не до меня. Не зная, куда себя деть, я вышел зачем-то в переднюю. И, вдруг, зазвонил телефон. Повинуясь необъяснимому порыву, я почему-то снял трубку. Не знаю почему, ведь никогда раньше не сделал бы этого в чужом доме. И о чудо! Это вызывал Михаил Александрович! Он не меньше меня был удивлен, когда узнал, с кем говорит. И попросил немедленно приехать к нему, мне показалось, он чуть не плачет, но может быть это из-за телефона. Разумеется, я тут же поспешил разыскивать свое пальто. Ко мне подошла горничная и стала мне помогать. И тут за спиной у меня нежный голос сказал: «Вам с нами не хорошо?» Вот теперь только понял я, что такое значит «бархатный голос». Обернувшись, увидел Ольгу Ильиничну, она улыбалась мне, держа незажженную папиросу. Я дал ей спичку, она закурила. Само собой получилось как-то, что мы разговорились. Если стараться припомнить всё, что мы говорили, ничего кроме вздора и не вспомнится. Но говорили мы довольно долго, она все время курила свои папиросы, а я зажигал ей спички одну за другой. Боже мой! Как мог я забыть, что мне нужно к М.А.? Когда приехал я, выяснилось, что он прождал меня два часа. Бедный М.А. снова с головной болью. Как он мучается! Я снова мочил ему полотенце и рассказывал про вечер и про Ольгу Ильиничну. М.А. морщился и стонал. От боли, конечно, не от моего же рассказа. Он держал мою руку, и время от времени, клал себе на лоб. Домой явился поздно, но это уж стало мое обыкновение.
8 марта 1910 года (понедельник)
Я рассказал Супунову о приезде О.И. А он ее отлично знает, они даже состоят в одном обществе художников «Второе Возрождение». У них давно уже задумана выставка всех членов общества, но никак не осуществляется. Теперь Супунов надеется, что при помощи Ап.Григ. дело пойдет веселее. Ольга Ильинична выставляет свои работы под псевдонимом Хельга Брандт. Брандт – это фамилия ее мужа, с которым она разошлась в Москве.
Заходил к М.А. Ему лучше. Почему-то он не одобряет мое знакомство с племянницей Вольтера. И советует с ней дружбу не водить. Отчего это? Неужели они не любят друг друга? Есть ли у М.А. причина ее не любить? Ничего он мне не рассказал и вообще выглядел мрачным и немного капризничал. Не занимались. Не было настроения и у него, и у меня. В семье М.А. трудно сейчас с деньгами, он попросил взаймы 3 р. Я дал. Но не думаю, что это очень ему поможет.
9 марта 1910 года (вторник)
После работы заходил в «Одинокую кошку». Знакомых видел, но не близких. Поэтому сразу почти ушел. Гулял немного по улице. Холодно. Гуляя, составлял свою головоломку. Вот что получилось.
Ах, этот голенький бандит!
Мне в сердце прямо стрелкой острой
Удачно как попал и просто.
Ранение мое саднит.
У мамы снова невозможно распухли пальцы и колени. Ее припарки перестали помогать. Было бы у меня много денег! Я маму бы поместил в хороший санаторий за границей, а сам уехал бы с М.А. путешествовать. Как он хорошо рассказывает об Италии! Сейчас он в бедственном положении, но ему хоть есть о чем вспоминать. Он где-то был, что-то видел. Счастливый.
10 марта 1910 года (среда)
Показал М.А. своего Амура. Он сделал задумчивое лицо, спросил: «Помните, тогда, вы сказали мне, что только такую признаете любовь, что она только и должна быть такая. Какая же это «такая» любовь, по-вашему?» Я растерялся, очень неожиданно он спросил. – «Я, может быть, не сумею это хорошо выразить. Хотя, я много думал об этом. Одно и то же чувство усиленное вдвойне. Полное согласие и понимание безусловное. Женщина – создание непостижимое, отличное от нас до отчуждения. А человека, себе во всем подобного, можно любить так, что вы оба одно будете чувствовать. Не знаю, как объяснить, но понимаю это очень хорошо. Взаимное проникновение, растворение в другом. Кажется, так». В конце я уж чуть ли не шепотом говорил и покраснел очень. М.А. взял мою руку: «Да. Да. Дорогой мой, мой родной. Вы – мой брат, вы – я сам, вы мой милый сыночек. Вы мой единственно близкий». Он привлек меня к себе и гладил по голове, по спине, по рукам и целовал глаза и щеки. Было хорошо, но что-то держит меня. Сам себя не понимаю. Я мягко отстранил его. – «Почему вы не хотите?» В его глазах прямо слезы стояли. Мне очень хотелось его утешить, приласкать, но я боялся снова зажечь в нем страсть, поэтому только слегка погладил руку, тонкую, в холодных кольцах. – «Милый мой, простите меня. Я не могу. Не знаю что со мной. Что-то меня не пускает. Будьте великодушны, дайте мне еще время». Он вздохнул и кивнул головой. Такой несчастный, как мальчик, которому не дали игрушку, трогательный до слез. Посидели еще немного, разговор не клеился. Сережа зашел к нему. А я скоро ушел.
11 марта 1910 года (четверг)
Кирсанов, вдруг, стал читать мне проповедь, чем несказанно удивил. Мол, про меня стали ходить нехорошие сплетни, что я связался с … и тут он выговорил отвратительное слово, которое я повторять не хочу. Рассказывал, какой я хороший парень и убеждал с плохой компанией дела не иметь. Якобы у меня за спиной уже смеются и показывают пальцем. Не замечал. Не знаю, что на него нашло. А, главное, откуда он взял эти слухи? Ну, кто может в театре про меня сплетничать? Да и вообще, интересоваться мною. Я – личность незначительная. Супунов, проходя мимо, махнул мне рукой, и, когда я пошел за ним, Кирсанов нехорошо и неприятно громко ухмыльнулся мне вслед. Видимо, надо так понимать что это он, Кирсанов, плохо почему-то отнесся к моим новым друзьям. И все интриги происходят единственно в его голове. Ну да бог с ним. После работы зашли с С. к М.А., не застали, поехали в «Кошку». Просидели там допоздна, но было довольно уныло.
12 марта 1910 года (пятница)
Ап.Григ. позвал меня к себе запиской. Поил чаем, показывал разные безделушки, откуда только ни привезенные. И везде-то он был, и в Индии и в Китае, про Европу я уж не говорю. Курили сигары. Мне стало от них нехорошо. Аполлон, когда говорит доверительно, обнимает за плечи или кладет руку на спину, слегка поглаживая, или очень приближает лицо к лицу. Я не придавал этому раньше значения. Но, теперь, когда я несколько иначе взглянул на такие его манеры, надо признать, что отвращения они у меня нисколько не вызывают. Аполлон, все же, очень приятный и занятный человек, очень мне симпатичный. Я спросил его про О.И., и он показал мне ее рисунки, какие у него были. Она рисует цветы и каких-то мифических животных. Людей, которые, судя по портрету Аполлона, сами на себя не похожи. Но Ап. говорит, это больше их внутренняя сущность передается. Безусловно, он в таких вещах лучше меня понимает. Сказал, что собирается устроить выставку Ольги и ее товарищей «Возрожденцев», хочет заняться как можно скорее. Нужно будет обрадовать С., не зря он надеялся на доброго Вольтера.
Телефонировал М.А. Ап.Григ. сказал, что я у него, и через час мы уже втроем опять чай пили. Уходили, конечно, с М.А. вместе. Шли под руку. У него был немного кислый вид, может быть, опять голова начинает болеть.
13 марта 1910 года (суббота)
К нам приходил Гриша. Рассказывал презабавные вещи. Он увлекся всякой мистикой и колдовством. Делал страшные глаза и уверял в разных глупостях. Позвал нас с Таней на собрание спиритов. Я бы ни за что не пошел, но Таня загорелась, ей любопытно. Не одну же ее туда пускать. Пришлось и мне согласиться пойти.
Что-то я давно не принимался за свой французский. Нужно не лениться.
Садился было писать стихи, но ничего не вышло.
14 марта 1910 года (воскресенье)
Мама собиралась с нами в церковь, но идти так и не смогла. Таня пошла одна, а мы с мамой остались дома.
М.А. приходил к нам обедать. Танюшка была на седьмом небе. И маме он тоже очень понравился. Они наперебой перечисляли друг другу мои способности (какие уж там у меня способности!) и строили для меня какие-то невозможные, несбыточные планы. Когда мы остались одни у меня в комнате, он рассказал о присущем ему свойстве очаровывать матушек и тетушек, они от него бывают без ума. Он рос в женском кругу, кроме сестер у него еще три тети, очень милые старушки, а одна из них напоминает ему покойную маму, о которой он ужасно тоскует. Бедный М.А.! Я обнял его, чтобы немного утешить, он положил мне на плечо голову, и мы постояли так немного. Такой он тоненький, несчастный, бесконечно милый. У меня от нежности к нему чуть слезы не полились. Мы повздыхали немножко и сели заниматься. М.А. со мной очень терпелив, все мне прощает и лень, и бестолковость. Он теперь еще итальянскому хочет меня учить. Куда там! Я французского-то хорошенько не осилю. Договорились вместе идти в библиотеку за книгами. Позвали Таню, М.А. почитал нам свои стихи, и я пошел его провожать. Дорогой размечтались о том, как хорошо было бы жить вместе. Дойдя почти уже до его дома, долго стояли и разговаривали. Я звал его приходить еще, да и мама с Танюшкой очень звали, когда он уходил.
15 марта 1910 года (понедельник)
Проснулся среди ночи, испытав наслаждение, удивление и немного испуг оттого, что всё уже произошло между нами. Ах, нет! Только приснилось. Но так удивительно ясно и правдиво. Поразительно. Желаю я этого? Не знаю. Не могу понять себя. Боюсь ли я? Нет. Но почему же не могу? Он дорог мне и мил почти до боли. Я думаю о нем с нежностью и даже с благоговением. Что же, не хочу я осквернять моего благоговения? Нет, не то. Разумеется не то. Какая глупость! Разве можно осквернить свое чувство, проявив его к тому, кого любишь? Что же мне мешает? Вот в этом моем сне, от которого я так тревожно проснулся, я желал непременно, немедленно, не мог и не хотел терпеть, и ни о чем, кроме своего желания не думал. А наяву, в те моменты, когда действительно все могло произойти, у меня были сомнения. Да, да. Видимо все дело именно в этом. Оставалось сомнение, и я осознавал его, оно-то меня и останавливало. Легкое, почти неощутимое сознание того, что может случиться это, а может, и нет. Вот и не случалось. Ведь, если бы я испытывал такую страсть, что и думать не мог ни о чем, что могло бы удержать меня?
Но откуда это сомнение, эта рассудочность в нежные минуты? Неужели моя любовь недостаточно сильна? Или я холодный и расчетливый по природе своей?
Бедный, милый М.А.! Дорогой Миша.
Сердце понемногу успокоилось. Я встал вымыться. И, хотя, было еще очень рано, снова ложиться не стал. Сел зубрить глаголы, стараясь не думать больше ни о чем, а особенно о своем сладком сне.
Потащился в театр какой-то разбитый. На работе был вял и рассеян. Так на меня подействовал этот сон.
Вечер провел дома с мамой и Таней.
16 марта 1910 года (вторник)
Ходили с М.А. в библиотеку и к букинисту. Вместе обедали. Потом вместе пошли в театр. Я работать, а он к Супунову. Я рассказал С. о намереньях Аполлона. Они с М. А. очень обрадовались и стали наперебой строить планы, как лучше сделать выставку. Меня позвали в кулису, а М.А. еще оставался с С. в мастерской. Когда я вернулся, его уже не было. С. сказал, что, уходя, он забрал и мои книги тоже, обещал сам занести их ко мне домой, чтобы они здесь не завалялись. Милый, добрый М.А.! Меня это очень растрогало. Дорогой мой Миша! Я теперь так его для себя называю. Хотя, в глаза, по-прежнему, Михаил Александрович.
Супунов у нас в театре последние дни. Заканчивает готовить свой спектакль, и потом придет другой художник. И, вообще, он собирается в Москву. А для выставки, которую организует Ап.Григ., он все поручит друзьям из «ВВ». Мне будет его не хватать в театре. Я очень расстроен.
Со стихами у меня ничего не выходит. Хоть друзья о них постоянно спрашивают. Никак не получается. Только одна измаранная бумага остается после моих попыток. Меня это огорчает. Боюсь, что М.А. во мне разочаруется.
Купил себе шапку, как у Супунова. Когда он уедет, будет о нем память. Впрочем, он еще не уехал, а я уже тоскую. Очень уж неприятно станет без него в театре. С кем я там останусь? С Кирсановым?
17 марта 1910 года (среда)
Вольтер вызвал меня запиской «для серьезного разговора». Почему-то я подумал, что речь пойдет о М.А., и примчался немедленно. Пока бежал до него, страшно беспокоился. Все мне чудилось что-то нехорошее. Но того, что оказалось, я никак ожидать не мог. Ап.Григ., потчуя меня китайским чаем, мягко так и осторожно напомнил мои жалобы на работу в театре. Я прибавил, что ко всему прочему еще и Супунова там теперь не будет, а от своих прежних товарищей я отдалился. Теперь и вовсе можно будет помереть там с тоски. Ап.Григ. посмеялся благодушно и заявил, что смерти моей не допустит, а хочет сделать мне предложение. У него было два секретаря, а теперь остался только один. Этот один секретарь со всеми делами не справляется, и Вольтеру нужен еще помощник. Он предложил мне место у себя и на 60 р. в год больше, чем мое жалованье в театре. Да еще просил сразу же не отказываться, а хорошо подумать. Какое там отказываться! Вот только, может быть, я не справлюсь? Но Вольтер заверил, что первое время сам мне поможет во всем разобраться, и что я быстро всему научусь. Нужно будет заниматься его бумагами, ездить по поручениям, писать для него письма и принимать тех посетителей, кого он сам принять не может. Второй его секретарь ведет больше дела финансовые. Приходить нужно к нему каждый день, но можно будет когда и пропустить. Он обещал быть ко мне не строгим. Добрейший Аполлон! Разве может быть он слишком строгим! Я не мог даже и мечтать о таком счастье. Только вот боюсь очень не справиться. Впрочем, обратно в театр я всегда успею возвратиться. На прежнее место. Не в наш, так в другой возьмут.
Все-таки Вольтер дал мне время опомниться и спокойно все обдумать. Я попрощался и побежал к М.А. советоваться, но его не было. Я оставил отчаянную записку и погулял еще возле его дома около часа, он все не приходил. Но я решился. Быть секретарем Ап.Григор. лучше, чем прозябать за пыльными кулисами.
Весь вечер был сам не свой. Мамаше не стал ничего говорить, она начнет отговаривать. Столько переживаний и сомнений. Ночь почти не спал.
18 марта 1910 года (четверг)
Утром отправился в театр за расчетом. Решился окончательно. По дороге забежал к Вольтеру, но он еще спал. В театре рассчитали. С замирающим сердцем пошел к Вольтеру опять. Что если он подшутил надо мной или передумал? Но Ап.Григ. встретил меня с распростертыми объятиями и стал весело посвящать в дела. Он даже выдал мне вперед немного денег. Так что я теперь богат. Нужно будет немного дать М.А. и купить ему перчатки, те, на которые он заглядывался. Просидели с Аполлоном до обеда и вместе обедали, потом он отправил меня до завтра домой. Все это как во сне! Не могу поверить. По дороге зашел в магазин купить для М. перчатки.
М.А. наконец-то был дома. Как приятно делать подарки дорогому человеку! Я рассказал о своих переменах. М.А. сначала хмурился и сомневался, но видя, как я счастлив, тоже повеселел. Вечером он пошел меня провожать, а потом я его провожал немного обратно. Я чувствую необыкновенное возбуждение и душевный подъем. Опять не усну. Написал стихотворение, но, кажется, не очень-то удачное.
М.А. Демианову
Не расставаясь вместе идти домой.
Направо ваш кабинет, налево – мой.
Посередине в уютной столовой
Пить чай и вести разговор толковый.
Вечерами гости – пение, шум и смех.
Наш общий дом весел и открыт для всех.
Если ночью страшный сон приснится,
Можно постучать и страхом поделиться
А в воскресенье вместе выйти к причастию.
Вот мои мечты, вот что такое счастье.
Пожалуй, не покажу.
19 марта 1910 года (пятница)
Объявил дома о своих делах. То-то было переполоху! И вздохов и причитаний. Как только престали тревожиться, все же, решили, что перемены к лучшему и порадовались за меня.
С Вольтером разбирали его письма, потом он мне объяснил все про выставку «Возрожденцев», где будут выставляться, и что нужно устроить. На следующей неделе я от его имени поеду хлопотать.
Вечером собрались с Танюшкой к спиритам. Я отговаривал, но безуспешно. Встретились с Гришей, пошли. В доходном доме, в номерах темная комната, завешанная тряпками душная и освещенная свечами. Посредине круглый стол, за столом человек восемь. Еле-еле и нам нашлось место. Всем командовала нелепо одетая старушка, вызывали дух Гоголя. Блюдце кроме непристойностей ничего не показывало. Мне это быстро надоело, я стал разглядывать присутствующих. И так был удивлен, что и передать нельзя, когда встретился глазами с Ольгой Ильиничной! Вот так сюрприз! Она меня тоже узнала почти сразу, улыбнулась, показала глазами на дверь и мы вышли. Я помог ей зажечь папиросу и стал удивляться, тому, что здесь ее встретил. – «Я и сама не подозревала, что попаду в такую жуткую дыру!» – «Хотите, уйдем? Только я здесь с сестрой, в общем, это она любопытствует». – «Нечего нам здесь делать, ни вам, ни мне, ни сестре, зовите ее и пойдемте, мы, когда-нибудь, сами устроим спиритизм еще лучше, я вас приглашаю». Я позвал Т. и мы втроем вышли на свежий воздух. Отвозили О.И. домой на таксомоторе, дорогой она ругала горе спиритов и смешила Таню. Попрощавшись с О.И., пошли пешком домой. Таня много расспрашивала про О.И., где я познакомился, кто она, кто ее муж, вот уж чего не знаю! Захотела непременно видеть ее рисунки, я обещал взять у Вольтера. О.И. Тане очень понравилась. Слава богу, вечер не был испорчен из-за Гриши и глупых спиритов. Но, какая неожиданная и чудесная встреча! Вот и не верь в волшебство после всего, что случилось.
20 марта 1910 года (суббота)
С Вольтером разбирали его бумаги. Я начинаю понемногу вникать. Собственно, я ему нужен скорее для компании, такое у меня создалось впечатление, но надеюсь, что я ошибся хотя бы отчасти, и все-таки работа моя будет для него не совсем бесполезна. Видел его другого секретаря, очень серьезный господин лет сорока, немного надменный, но вежливый. Дмитрий Петрович Лошаков. Его поручения мне тоже придется выполнять. В общем, я доволен, но, посмотрим, что будет. Прислуги в доме Ап.Григ. немного, однако, я еще всех не успел узнать. Митю его я уж видел много раз, хороший парень, тихий, обходительный. Ту горничную, которая помогала мне на вечере искать пальто, зовут Марусей, милая девушка, улыбчивая и простая.
М.А. не видел. Дома всё по-прежнему. Только мама беспокоится относительно моего нового места.
21 марта 1910 года (воскресенье)
К Вольтеру не ходил.
М.А. обедал у нас. Подумать только! Он ревнует меня к Ап.Григ. Дулся, куксился, и, наконец, признался. Я увещевал его, как мог и уверял, что ревность здесь вовсе неуместна. Чтобы совсем его утешить, я все-таки показал стихотворение, которое не собирался показывать, так как не был уверен, что хорошо вышло. М.А. был в восторге, обнимал меня и целовал. Мы снова замечтались вдвоем так сладко. О лучшей жизни, о том, как все можно будет устроить, когда дела наши наладятся. Вместе путешествовать в Рим и в Венецию, жить в маленькой квартирке, принимая редких близких гостей. Как было бы хорошо нам вместе! А пока дела его совсем неважные. Он немного зарабатывает переводами и тем, что печатают его редко в журналах. Наследства покойных родителей он никак не может получить. Вот уже несколько лет длится у них какая-то тяжба за это наследство. Не знаю, в чем там дело, да М.А. и сам не очень-то знает, тяжбу ведет его тетка, сестра матери, но как видно от нее мало толку. Да и какой из старушки адвокат?
Провожал его до самой парадной. На прощание крепко обнялись, оба посмотрели, не наблюдает ли кто, и разом рассмеялись. Милый, дорогой мой Миша! Вся моя жизнь теперь связана с ним так тесно, что невозможно представить силу, способную разорвать эту связь.
22 марта 1910 года (понедельник)
Ездили с Аполлоном выбирать помещение для выставки. На Мойке нашли вполне подходящую квартиру, в первом этаже, с выходом на улицу, никто в ней давно не жил. Тут же сговорились с хозяином, он в том же доме занимает другую половину. Дали задаток. Дел теперь невпроворот. Нужно нанять людей штукатурить и красить стены, белить потолки, натирать пол, в общем, приводить помещение в порядок. Нужно обегать всех художников, со всеми договориться, кто что даст, и чтобы вовремя. Устроить перевозку картин. Нужно поместить объявления в газеты, заказать афиши в типографии. И много еще других дел. С завтрашнего дня начну хлопотать.
Забегал к М.А., которого не застал. Где он ходит?
Возле дома встретил Таню с ее лохматеньким кавалером, позвал их к нам, но они не пошли.
Дома сел заниматься. И хорошо, усердно проработал два часа, так что сам собой был доволен. Конечно, я теперь могу заниматься лучше, потому что не устаю, как в театре. Но что-то еще будет, поглядим. У Вольтера я еще толком ничего и не делал.
23 марта 1910 года (вторник)
С утра ездил по делам. Нанимал рабочих и маляров. Заходил в типографию. Заезжал к художнику Краснову. Обедал дома. После обеда поехал к Вольтеру, но он меня скоро отпустил. Что за прелесть эта работа на Ап.Григ.! Бог мне его послал. Нет. Это бог мне послал М.А., а вместе с ним и все хорошее, что есть теперь в моей жизни.
Написал Мише нежную записку. И некоторое время просидел, составляя стихотворение, но ничего не вышло. Ох уж эти друзья! Они преувеличивают мои таланты, захваливают и заставляют меня самого временами думать о себе лучше, чем я есть на самом деле. И тут же разочаровываться.
24 марта 1910 года (среда)
Езжу везде. Хлопочу о выставке. Познакомился кое-с кем из художников «ВВ». Ольгу Ильиничну еще не видел, но к ней тоже надо будет. Свободного времени, все же, остается достаточно, чтобы заниматься. Миша будет мною доволен. Только нехорошо, что он ревнует к Вольт.
На улице еще холодно, но в воздухе, все же, чувствуется приближение весны. Скорее бы!
Может ли кто-то сравниться с Вами!
История с литературой таких не знают.
Хвалю Вас самыми нежными словами,
А ругаю тех, кто Вас не любит и ругает.
Истинное счастье такого друга встретить.
Лучше Вас нет никого на этом свете!
25 марта 1910 года (четверг)
С Вольтером разбирали его переписку и приводили в порядок бумаги. Я увидел папку с рисунками О.И. и попросил для Тани. Тут же мне пришла в голову мысль, что когда поеду на квартиру к О.И., можно будет взять Таню с собой, может быть, она покажет нам мастерскую. А еще нужно бы съездить к Супунову, пока он не уехал. Вот удивится он, когда узнает, куда я перешел из театра. Нет, я определенно всем доволен. Вольтер просто душка. И Лошаков совсем не надменный, как мне вначале показалось. Все ко мне добры и приветливы. А дела мои нетрудные и очень весело их исполнять.
После обеда, проведав рабочих, заехал за М.А., и мы вместе отправились к С. в мастерскую. Ехали на извозчике, хохотали и дурачились.
У С. пили чай с баранками. М.А. с некоторым сарказмом рассказал ему о моем новом месте. С. улыбался и дразнил М.А. Я урезонивал их обоих. Смотрели картины. Вместе выбирали, какие лучше дать на выставку. Я уверил С., что если он, все же, от нас уедет, то может не беспокоиться, я сам за всем прослежу и о его работах позабочусь особо. Мы с М.А. дружно уговаривали его остаться. Но он настаивает на том, что ему непременно нужно в Москву. Что там у него? Нам не говорит, секретничает.
С. спросил, у кого из возрожденцев я успел побывать. Я сказал, что видел только Краснова. – «А у Правосудова еще не были?» – «Еще не успел». – «Но, вероятно, побываете?» – «Думаю, всех придется объехать, Аполлон Григорьевич мне поручил художников, и вообще выставку». – «Жаль, что меня здесь не будет». М.А. сказал С.: «Коля, перестань». Не знаю, что ему не понравилось, но С. «перестал», и мы снова занялись его картинами.
По дороге домой я расхваливал картины С., которые мне, и вправду, очень понравились. Особенно похожие на сказочные пейзажи и натюрморты в синих, как у Вольтера, комнатах. М.А. улыбался и рассказывал мне о живописи. Сколько всего он знает!
26 марта 1910 года (пятница)
Хорошо выспавшись, проснулся довольно поздно. Да еще валялся с книжкой. Встал не торопясь. Зашел постричься. Потом в лавочку за сахаром и чаем. Напившись дома чаю, отправился на Выборгскую к Правосудову. Вот уж никак не думал, что ждет меня такой удар. Сам Правосудов впустил меня. Глядя на него, я так растерялся, что не сразу смог объясниться, кто я и зачем к нему. Как болван стоял и смотрел. Он-то меня, конечно, не узнал, да и не мог узнать. Но я не ошибся. Правосудов оказался тем самым высоким господином, с которым я видел М.А. тогда на лестнице, и о котором меня предупреждал С. Кое-как от его расспросов я пришел в себя и изложил суть дела. Он провел меня в мастерскую. Первое, что я увидел – неестественно большие глаза, глядящие с портрета на стене. Полуоткрытый рот и смешные немного кудряшки, прикрывающие лысеющий лоб. М.А. на портрете выглядел слегка карикатурно. Но как точно было выражено то, что Вольтер называл внутренним содержанием! Этими полуоткрытыми губами и глазами, увеличенными до абсурда, и тем, как кудряшки расположены на голове. Правосудов за моей спиной сказал, мне показалось, как-то печально: «Это Демианов, поэт». Когда я отвечал, что знаю его, горло у меня перехватило, и я поперхнулся.
Занялись делом. Я записал, какие Правосудов хочет дать картины на выставку, их названия и размеры. Рассказал ему о планах А.Г., благо этот рассказ у меня уже заучен, я ведь ему не первому говорил. Все это как во сне. Сам не заметил, как оказался уже далеко от дома Правосудова, забрел в незнакомые переулки. Что мне думать? Как мне все понимать? Я не хочу думать о том, что их связывает, для меня это слишком тяжело. Но не видеть эту связь и не замечать теперь уже невозможно. Взял извозчика, поехал к Вольтеру. Дорóгой все время думал, думал, думал.
А.Г. заметил во мне перемену и проявил участие. Но что я могу ему рассказать? Между прочим, он близкий товарищ М.А. и, уж наверное, знает много больше меня о Правосудове. Но мне и не нужны подробности. Сердце мое само все чувствует, и потому, ему тесно в груди.
Вольт. отпустил меня до завтра. Я собирался вечером поехать к О.И. и взять с собой Таню, но что-то не было настроения, решил отложить. Скажу В., что не застал ее. Весь вечер лежал на кровати. Таня меня жалеет, принесла мне чаю, и, ничего не говоря, погладила по руке и посмотрела так, как будто все знает. Милая, добрая девочка. Ведь ей тоже тяжело. И за мамой и за мной приходится ухаживать, а гимназию, притом, не бросает. Успевает все. По духу она гораздо взрослее, чем ее подруги, может быть, даже взрослее, чем ее старший брат.
Написать М.А., объясниться? О чем? Разве у меня есть право ревновать?
Всю нежность из огромных глаз,
Из губ раскрытых поцелуи,
Все то, что есть в душе у Вас,
И что так преданно люблю я
Повесят на стене одной
С селедкой, штофом и капустой.
Так образ милый и родной
Принадлежит теперь искусству.
27 марта 1910 года (суббота)
Спал мало и тревожно, преследуемый одним странным видением. Я маленький, лет семи, и рядом со мной кучерявая девочка меньше меня с лицом М.А. и так же, как у него уложенными на лбу волосами. На какой-то неизвестной даче, но во сне это дача наша. Мы с малышкой спрятались среди малиновых кустов возле забора и демонстрировали друг другу свои неприличные места. Несколько раз я просыпался, и каждый раз, засыпая, видел это снова.
Проснулся разбитый и подавленный. Поднялся с трудом, кое-как привел себя в порядок и поплелся к В.
В., оказывается, еще вчера уехал в гости. И до сих пор не являлся. Митя напоил меня чаем, а Дмитр. Петр. усадил разбирать счета. Вольтер приехал во втором часу и лег спать. Я ушел домой. Хотел зайти к М.А., но раздумал. Ничего не могу с собой поделать, все время думаю о них с Правосудовым. Возможно, я неверно поступаю, не хотя ничего знать об их отношениях, потому что нафантазировал себе уже бог весть что, сверх всякой меры. Сам себя мучаю.
К вечеру собрались с Таней поехать к О.И. О.И. удивилась, но была нам рада. У нее сидели какие-то господа, пили вино. Мастерская О.И. не на этой квартире, далеко. Договорились поехать туда завтра вместе. Таню тоже возьмем. Они с О.И. очень нравятся друг другу, и, быть может, даже подружатся. Гости О.И. разговаривали о своем. Можно было понять, что речь шла об их знакомом, о его странном поведении в последние дни. Один из господ сказал, тоном слегка пренебрежительным: «Видимо без женщины здесь не обошлось». И тут моя Таня, довольно бесцеремонно зачем-то встряла в их разговор и заявила: «Бывает, что мужчины мужчин любят». Несколько мгновений длилась пауза, господа смотрели на Таню изумленно. О.И. громко расхохоталась, обняла Таню, поцеловала в щеку и весело продолжила: «А женщины женщин!» Тогда господа тоже посмеялись, но было видно, что они несколько ошарашены. Договорившись на завтра, мы с Т. пошли домой пешком.
От М.А. записка, сетует, что не являюсь. Все же я нужен ему!
28 марта 1910 года (воскресенье)
Прямо с утра отправился к М.А. Он еще не вставал, но меня пустили. Вместе пили кофий, весело болтали. Я смотрел, как он одевается. Вместе пошли в церковь, а после поехали к А.Г.
Вольтер, увидев нас вдвоем, заулыбался и поздравил меня. Я смутился, сделал вид, что не знаю о чем он. Вот как несложно меня разгадать! Неужели все мою любовь видят и понимают?
Дмитр. Петр., несмотря на воскресенье, забрал меня к себе в помощники. Когда я освободился, М.А. уже уехал. Я простился с Вольт. и побежал на встречу с Таней, чтобы вместе ехать к О.И. Потеплело, и даже немного выглянуло солнышко, все-таки весна потихоньку наступает. И настроение прекрасное. О.И. и Таня уже встретились и ждали меня. Они тоже веселые, шутят и дурачатся. О.И. выглядела гораздо моложе, и красивее, чем она мне раньше казалась. В мастерской у нее те же мифические животные, только маслом. Т. от них без ума. О.И. обещала и для нее что-нибудь написать. Портретов мало, и никого на них я не узнал, что, может быть, и к лучшему. О.И. отыскала бутылку Шабли, и мы уселись пьянствовать. Говорили о пустяках, очень много смеялись. О.И. называла меня сладким мальчиком, совсем расшалившись, целовала в губы меня, а потом и Таню, за то, что она на меня похожа. «Бросайте вы этих…», и тут она сказала то самое слово, которое я слышал от Кирсанова, попрекавшего меня нехорошими знакомствами. Таня хихикнула, а я покраснел: «Если я правильно понял, кого вы имеете в виду, то вы не должны так о них говорить». – «Отчего же? Я всё зову своим именем». – «Вы ничего не знаете». – «Это вы, мой дорогой, еще много не знаете, но если хоте, я вас научу. Подумайте об этом». Я и вправду немного задумался, но О.И. с Таней снова принялись шалить, и я развлекся. После того как вино кончилось, О.И. вздумалось ехать кататься.
Вернулись мы домой поздно ночью. Мама в панике уже собиралась идти за квартальным.
29 марта 1910 года (понедельник)
Ходил проверять рабочих. У них почти уже все готово. Вероятно, на следующей неделе можно будет начинать перевозить картины. Художников участвуют шестеро. Я не был еще у Окунева и Седого, но, надо полагать, товарищи их уже известили. Во «Втором Возрождении» О.И. единственная женщина. Любопытно было бы знать, как они принимают, того, кто хочет вступить.
А.Г. уехал к знакомым в Царское. И мне пришлось принимать его посетителей, слава богу, приходили только двое. Хорошо, что Аполлон не министр. Заезжал к Окуневу. Дома записка от Тани, она уехала с О.И. в какие-то гости. Я вышел, чтобы пойти ее разыскивать, но тут они с О.И. вдвоем подкатили на таксомоторе. Мы позвали О.И. выпить чаю. Таня показывала ей свои гимназические рисунки. О.И. их нахваливала, она находит у Т. талант, и считает, что ей нужно заниматься живописью. Она даже предложила дать ей несколько уроков. Но Таня сомневается.
Провожал О.И. до дома. Она спросила, подумал ли я о том, что она мне говорила. Я не захотел поддержать эту тему. Она, остановившись вдруг, повернулась ко мне, заглянула в глаза и сказала: «Вы погибнете, бедный мальчик». На прощание О.И. поцеловала меня в щеку. Духи ее пахнут жасмином, уходя прочь, я еще некоторое время нес с собой этот запах. Я не понимаю ее, она меня тревожит. А Таня! Верно, скоро и она из знакомой, милой девочки обратится в существо непонятное и чужое, станет женщиной.
От М.А. записка французская и по-русски немного приписано снизу. Он заходил сегодня к Вольтеру, но ни его, ни меня не застал. Бедный, дорогой мой Миша!
30 марта 1910 года (вторник)
Провожали Супунова. Были Вольтер, Правосудов, Демианов и я. Еще Валетов и другие господа из одинаковой свиты. Я все наблюдал за П. и М.А., за их взглядами и улыбками. Впрочем, улыбок не было, они будто дуются друг на друга. Поссорились? А, может быть, просто не хотят показывать чувства при посторонних. В ресторане на вокзале Демианов сидел рядом со мной, но против Правосудова. Я так внимательно за ними наблюдал, что временами не слышал даже, с чем Вольтер ко мне обращается, и несколько раз ответил невпопад. Все разговоры были вокруг выставки. Еще обыкновенные в такой компании остроты и немного легкого философствования, тоже обыкновенного, после выпитого вина. Вольтер очень много ко мне обращался, хотя, прекрасно видел, что мне не до него. Вероятно, нарочно хотел меня развлечь, ведь все он знает и понимает. Может быть, даже лучше меня самого. Правосудов меня почти совсем не замечал. Возможно, только делал вид, но скорее, я и впрямь ему безразличен. А вот Д.… Кончилась их связь или еще длится? И что мне нужно ожидать?
Супунов прощался со мной сердечно, чем невероятно меня растрогал. Даже обещал написать мне из Москвы. Все-таки он очень хороший человек, а больше всего хорош тем, что не имеет романа с Демиановым. Но это уж моя горестная шутка. Знаю, что не имею никаких прав на ревность, а все же, ревную. Ведь не пустые это были слова, когда он говорил, что любит? А теперь, выходит, любит еще и другого? Или все дело только в том, чего еще не было между нами?
С вокзала я, Демианов, Правосудов и кое-кто из «одинаковых» поехали к Вольтеру. У Вольтера продолжили пить вино, затеяли карты. Не играли я и Правосудов. М.А. проиграл 3 р. и больше не стал. Как ни следил я за ними, но, все же, Вольтер меня отвлек. Ответив ему, обернулся и обнаружил, что тех двоих уже нет в гостиной. Противный Вольтер! Не терпелось ему пристать ко мне со всякими пустяками. Разумеется, глупо злиться на В. Не знаю, на что тут злиться, разве только на себя. Я был уже порядочно пьян, стал прощаться, заявляя, что поеду нанимать полотеров, для выставочных комнат. Меня удерживали, урезонивали, но напрасно. Чуть не в слезах я ушел. Ни за какими полотерами я, конечно не поехал. А пошел домой с намереньем переодеться и устроить засаду возле дома М.А., чтобы видеть, когда он вернется и будет ли один. Придя домой, разделся, но от выпитого вина и отчаяния одеваться уже не хотелось. Я достал карточку М.А., и сидел над ней, проливая слезы. Не слышал, как вошла Таня. Внезапно она обняла меня, стала целовать в щеки и лоб. Она тоже плакала и приговаривала: «Ты погибнешь, Саша! Ты погибнешь!» Что такое?! Неужели это О.И. ее научила? Или женщины чувствуют лучше? Я не вижу для себя никакой опасности в любви к М.А. Только мысль о Правосудове мне невыносима.
31 марта 1910 года (среда)
Проснулся с больной головой. И ужасно было стыдно. Перед Вольтером, перед Таней, перед М.А. Не хотелось никому показываться на глаза.
Пил чай с мамой и Таней. Таня, наконец, решила заниматься с О.И. рисунком. Я почему-то не в восторге от этой затеи, но думаю, занятия Т. не повредят. После чаю поехал-таки нанимать полотеров. Потом к Вольтеру. Он тоже с головной болью и вид имел довольно кислый. Вчерашние гости разошлись уже под утро, играли. В. отправил меня с поручениями, и я целый день катался по городу. Это меня исцелило. На улице мрачно, но не так холодно, и уже пахнет весной.
Таня ушла рисовать к О.И. Я съел холодный обед и пошел за ней. О.И., как всегда, весела и приветлива. Очень увлечена своей идеей сделать из Т. художницу. Они совсем уже подружились, даже делают заговорщические лица и намекают друг другу о чем-то им одним понятном. Пожалуй, для Тани такая подруга, как О.И. подходит больше, чем девочки из гимназии. О.И. играла для нас на фортепьяно и пела. Мы с Т. даже подпевали ей немного. Было весело. От моих утренних страданий не осталось и следа. Только М.А. меня, все же, беспокоит.
Чужие руки держат Вашу руку.
Чужим глазам открыт Ваш нежный взгляд.
Я не хочу терпеть такую муку.
А, все же, сам в себя пускаю яд.
Воображение мое меня тревожит.
И снова снится, что в чужой руке рука.
Вы с каждым днем все ближе и дороже,
Но ревность тяжела мне и горька.
Показать ему или нет? Знает ли он, что я ревную? Нужно ли ему это знать?
1 апреля 1910 года (четверг)
Всё те же хлопоты целый день.
В пятом часу заехал к О.И., думая, что Т. у нее. Но сестры у О.И. не было. Она была одна. Угощала меня мочеными яблоками, говорила: «Кушайте, мой сладкий, вы так прелестно кушаете». От чего я смущался, краснел и чуть не подавился яблоком. Это, разумеется, О.И. развеселило. Она принялась гладить меня по голове, а потом села ко мне на колени, поцеловала в губы. Как просто это все вышло. Духи, другие, не жасмин, душные и сладкие ударили мне в голову. Какая она везде мягкая! Я испытал непреодолимое влечение и отвращение совсем немного. Сидя на маленьком диванчике, курили папиросы. Я слушал, как она рассказывала свое детство, и думал о М.А.
Всякий скажет, какую следует считать настоящей из этих двух любовей, и, верно, всякий ошибется.
2 апреля 1910 года (пятница)
Возил Вольтера осматривать помещение. А.Г. в восторге. Скоро начнем перевозить картины. По пути заехали в типографию. Там пришлось устроить небольшой скандал, но думаю, с афишами тоже разрешится благополучно. Потом я поехал с другими поручениями, а Вольт. домой.
Приехав к В. уже к обеду, обнаружил у него М.А. Я немного дулся и отворачивался. В. Оставил нас вдвоем. М.А. хотел объясниться, но я делал вид, что не понимаю его. В конце концов, он тоже делает вид, что не догадывается, почему я сержусь. А, если уж и правда, ему невдомек, то каким же нужно быть нечутким и бессердечным. Крутить роман с Правосудовым при мне, а после, как ни в чем не бывало, у меня же требовать объяснений. Неслыханно! Невозможно. Я бросил М.А. в столовой и ушел к Вольт. в кабинет. Вольт. посмотрел вопросительно, но ничего не сказал. Я стал отчитываться ему по дневным поручениям. Пришел М.А. и молча сел на диван. Бедный милый Вольтер промямлил что-то про желудочные капли и ушел теперь уж из собственного кабинета. Тут я не удержался и стал высказываться раздраженно в том духе, что не желаю никаких объяснений с человеком, для которого любовь и верность – пустые звуки, который ищет лишь плотских утех. И много еще наговорил подобного. Но Правосудова не упомянул ни разу. Я видел, что на него мои слова действуют ошеломляюще, но удержать себя не мог. Наговорив обидных упреков, я вышел из кабинета. Вольтер курил в гостиной. Я сел на стул и закрыл лицо руками. А.Г. подошел и стал гладить меня по голове мягкой теплой рукой, и говорить слова немного бессмысленные, но утешительные. Потом оказалось, что М.А. ушел, ни с кем не попрощавшись. У меня сжалось сердце. Что же это? Конец? Доброму А.Г. что остается? Только бормотать утешения. Разве имел я право с ним так говорить? Все кончено. Нет! Ничего теперь не исправить.
Таня дома. Рисует.
Мне сделалось так тоскливо и муторно на душе. Не вполне отдавая себе отчет, я оделся и отправился к Ольге. Она как всегда приветливая, ароматная и мягкая. Поила меня коньяком и ласкала. Очень хотелось пожаловаться ей, спросить совета, как быть теперь с М.А. Но я промолчал.
3 апреля 1910 года (суббота)
Утром Ольга не хотела отпускать меня, пока я не выпью с ней кофию. А я торопился скорее домой, успокоить своих. Несвежее белье и нечистая совесть, на душе тяжело. Противно. Дома большого переполоха не было. Но мама, все же, ночью не спала. Таня улыбается, она догадалась, что я остался ночевать у Ольги. Ей кажется, что я должен быть счастлив.
Заезжал в мастерскую к Супунову, проследить, как упаковывают картины. Потом к Окуневу и к Вольт. Будто между прочим, Вольт. сказал, что ему телефонировал М.А., но я ничего не ответил. Как мне быть? Вечером сидел дома. Старался заниматься, но теперь уже мне не до французского, так болит душа.
Кто на кого теперь обиделся?
Я сделал больно или мне?
А только целый день не видеться
В обиде тяжело вдвойне.
Моим поступкам нет названия.
И ваши тоже хороши.
Но разве стало расставание
Лекарством для больной души?
Кто должен попросить прощения?
Кто первым подойдет без слов?
Для сладостного возвращения
Я, право же, на все готов.
Отослать ему свое стихотворение? Оно нехорошо, возможно, но, все же, лучше тяжелых нудных объяснений. И потом, ему всегда приятно было получать от меня стихи, пусть и несовершенные.
4 апреля 1910 года (воскресенье)
В ответ на свое стихотворение получил записку: «Приезжайте ради бога! Как можно скорее. Д». Счастье мое невозможно выразить словами! М.А. встретил меня легко и весело. Не было меж нами никаких объяснений. К чему они? Только всё портят. Целовались, пили чай. М.А. читал мне свои дневники. Теперь я лучше понимаю его.
5 апреля 1910 года (понедельник)
Всё хорошо!
6 апреля 1910 года (вторник)
Те же хлопоты целый день.
Таня принесла записку от Ольги – хочет меня видеть. Пошел. У нее сидели художники и среди них Правосудов. Боже правый! И здесь он. Я с ними ненадолго задержался. Вечером лежа в постели, старательно разбирал французский роман, который дал мне Миша. Бесценный мой учитель! Ни на кого его не променяю.
7 апреля 1910 года (среда)
Начали перевозить картины. Суета, ругань, беспокойство. Вольтер в центре событий, полный, мягкий, единственный невозмутимый. Видел Ольгу, звала к себе. Я обещал. Правосудова тоже видел. Сосредоточен, ни на кого не смотрит, на меня во всяком случае. Ревнует ли он Демианова?
Заехал к Мише. Он поил меня чаем, читал стихи, рассказывал задуманный роман. Его зять обычно на лето нанимает для семьи дачу, и в этот год Миша поедет с ними. Хоть это будет не раньше середины мая, а все же предстоящая разлука меня огорчила. Миша шутил над тем, что я горюю до времени, а мне теперь невесело думать о лете. Из «одинаковых» завалились к М. Носков и Дудников, конечно, давно не вижу я меж ними никакого сходства, но такое уж у них прозвание. Они рассказывали новости, хохотали. Мне стало скучно, я ушел. К Ольге не собирался, но заехал и остался до утра. Она очень хвалит Таню. Даже хочет потребовать вывесить ее рисунки, с подписью, что это работы ученицы госпожи Брандт. Чего тут больше, способностей Таниных или Ольгиного тщеславия, пойди пойми. Наедине с Ольгой мне все время хочется ее трогать, руки сами тянутся. Ее тело совершенно удивительно на ощупь. У меня даже превращается в дурную привычку, вроде навязчивых действий, постоянно мять его и тискать. Она принимает это за чрезмерную настойчивость. Как легко она отдается! Меня даже несколько смущает такая легкость.
8 апреля 1910 года (четверг)
Заезжал в типографию. Афиши готовы. Вольтер простудился, лежит в постели, чихает. Бедный Аполлон! Митя возле него очень трогательно хлопочет. Занимались перепиской, но скоро у него усилился жар, и мне пришлось уйти. Гулял по Невскому. Заходил в лавки, просто так, поглазеть. Этим приказчикам лучше не попадаться! Чудом унес ноги, ничего не купив. Хоть денег почти нет, но могли всучить и в долг. А, все же, присмотрел себе несколько галстуков и модный пиджак. Миша к галстукам питает слабость. Нужно будет купить и ему. А мне не мешает приодеться получше. Как только получу что-нибудь от Вольтера, непременно побалуюсь обновкой.
Как быстро и чудесно переменилась моя жизнь. И сам я теперь совсем другой. Миши дома не было, но я, почему-то, так и ожидал. Ноги, как будто, сами понесли к Ольге. У Ольги в гостиной плотно занавешены окна, полумрак и свечи. Они с Таней во что-то такое играли, я им помешал. Таня была немного раздосадована тем, что я явился не вовремя. Открыли шторы, впустили свет. Чтобы утешить Таню, и всем повеселиться, сели гадать по книжке. Взяли Онегина. Тане вышел «убогий француз», мне «я другому отдана и буду век ему верна», и еще всякий вздор. Но было занятно. Мы все пророчили друг другу разные небылицы, фантазировали, Таня разоткровенничалась немного слишком. В нервическом возбуждении, таинственно настроенную я повел ее домой.
Прощаясь, Ольга делала мне знаки, чтобы я вернулся. Но, придя домой, снова идти к ней было неловко перед домашними, и я остался. Сел разбирать французский роман, что-то плохо он у меня движется, слишком быстро я над ним засыпаю.
9 апреля 1910 года (пятница)
Бедный Вольтер совсем раскис. Мы с Мишей сидели у него в гостиной и играли в карты. Время от времени являясь на жалобные призывы скучающего А.Г. Впрочем, он быстро от нас утомлялся и даже начинал дремать, тогда мы снова возвращались на свою позицию. Миша очень увлекательно рассказывает о своем новом романе, но, кажется, он его немного забросил в последние дни. Надо полагать, на публику эта вещь произведет ошеломляющее впечатление. Ничего подобного еще никогда и ни у кого не было. Страшно только, как бы не нашлось среди критиков слишком много кирсановых. Литературное общество, в котором состоит Миша, недавно созданное им и его товарищами, со многими из них я еще не знаком, собирается по средам на квартире у Вячеслава Петрова. Миша считает его в некотором роде своим учителем и очень дорожит его мнением обо всем. Позвал меня в среду на их собрание. Я немного сомневаюсь, стоит ли идти. Миша читал мне стихи этого Петрова. Ничего замечательного я в них не увидел, хоть и числится этот Петров среди лучших поэтов Петербурга. М. был разочарован, и даже немного обижен тем, что я ничего не понял. Отчасти чтобы утешить его, но и для собственного удовольствия, я стал декламировать его стихи и восторженно их хвалил. М. был растроган почти до слез. Милый, дорогой, прекрасный мой поэт! Целовались прямо в гостиной Вольтера. В поцелуях украдкой, в боязни быть застигнутыми врасплох, есть особая прелесть и наслаждение.
10 апреля 1910 года (суббота)
Мы с Таней оба в горячке. Как в детстве, как всегда. Маме с ее распухшими ногами и пальцами, трудно теперь за нами ухаживать. Но, слава богу, мы больны не тяжело. Целый день грезил во сне и наяву. Пытался брать книги в постель, но чувствую себя слишком слабым. Нетяжелая болезнь может быть даже приятной, когда есть покой, тепло и горячее питье, приготовленное мамой.
11 апреля 1910 года (воскресенье)
Болен. Записка от Ольги. Письмо от Миши. И кто-то приходил справляться от Вольтера. Был доктор.
12 апреля 1910 года (понедельник)
Все еще болен. Несколько даже хуже. Тяжелые тревожные сны. Я, кажется, кричал и метался. Это жар на меня так действует. Миша приходил. Сидел рядом, клал руку на лоб. Я брал ее, подносил к губам и целовал. Он утешал меня ласковым шепотом, когда мама принесла чай, сам меня поил.
13 апреля 1910 года (вторник)
Болен. Скучно. Жар постепенно уходит. Миша не приходил. Не болен ли и он?
14 апреля 1910 года (среда)
Чувствую себя лучше, но еще очень слаб. Таня не встает. Никуда не выходил. Написал Вольтеру, Ольге и дорогому М. Посидел немного с французским романом. Бывает так, что слов почти совсем не понимаешь, а смысл, все же, угадываешь.
15 апреля 1910 года (четверг)
Таня все лежит. Доктор был у нее. Мне гораздо лучше, но выходить еще не решаюсь, слабость в ногах и голова немного кружится. От Миши записка, он действительно, бедненький, заболел. От В. сам Дмитрий Петр. приезжал обо мне справляться. Все меня ждут, всем я нужен. И даже художники сетовали, что приходится обходиться без моей помощи. Вот не ожидал! Наши возрожденцы вовсю развешивают картины. Даже не верится, что выставка скоро состоится, и что все мои усилия не только не напрасны, а принесут плоды.
16 апреля 1910 года (пятница)
Не чувствуя себя совсем здоровым, все-таки пошел к А.Г. После нескольких дней болезненного заточения всё вокруг для меня ново и немного странно. И сам я обновленный, еще растерянный, не вполне готовый возвратиться к обыденной жизни.
Ап.Григ. обрадовался мне несказанно. Он меня никак не ожидал так рано, сам он еще хлюпает носом и поперхивает, но аппетит его никогда не страдает. Усадил меня с собой завтракать. Солнце светит в окна, на улице все тает, и заливаются птички. На праздничной неделе, вероятно, будет открыта наша выставка. Аполлон доволен. Выплатил мне жалование, на радостях и к празднику прибавил целых 5 р. Дмитр.Петр. уехал куда-то к родным на неделю. Мы вдвоем с Аполлоном сели разбирать счета. Потом писали письма. Так как не совсем еще оправился, я быстро устал и при первой же возможности поехал домой. По дороге зашел в лавку купить подарки всем своим. У нас Ольга, приехала навестить Таню, и меня, конечно, а я-то, не дождавшись, упорхнул. Ольга смеялась: «Вот так больной!» Девочки к Т. тоже заходят, но ей не до чего, совсем, бедняжка, расхворалась. Несмотря на усталость и легкий жар, я пошел провожать Ольгу. Погода прекрасная, если б не болезнь, гулять бы только и кататься. Ольга звала к себе, но я обещал в другой раз.
Миша бедный болеет, дома письмо от него. Нужно непременно навестить моего дорогого друга.
Т. меня беспокоит, я уже почти совсем здоров, а ей все еще очень плохо.
17 апреля 1910 года (суббота)
Тихо, по-домашнему разбирали с Вольтером счета и бумаги. Я пригрелся на солнышке, светившем в окно, и чуть не задремал. Пообедав, поехал снова хлопотать о выставке. У наших уже все почти готово, споры улажены. Картины, развешанные по стенам, смотрятся торжественно и солидно, совсем иначе, чем в мастерских.
Заходил к Мише. Жар у него не сильный. Лежит. Читал мне новые стихи. Изящные и благозвучные, как музыка. Кое в чем я узнаю себя, наши прогулки и разговоры. Все же, я ему не безразличен. Это мне как бальзам на душу. Мишина сестра дала нам чаю. Расспрашивала меня. Я рассказал о нашей выставке, она одобрительно кивала. Как пристально не смотрел я на нее, но так и не увидел меж ними сходства. Подкинули им Мишу, не иначе. Сестра относится к нему очень нежно, совсем по-матерински. А Миша любит покапризничать. Сережа заходил сидеть с нами. Миша мне самому пиджак покупать запретил. Вот весело выбирать будет вместе! Скорее бы уж он поправлялся.
Тане немного лучше, даже взялась нарисовать кое-что. Даст бог, завтра, в праздник мы все будем более или менее здоровы.
18 апреля 1910 года (воскресенье)
Солнце в окна, колокола звонят. Христос воскресе! Т. еще лежит, но, кажется, ей лучше, повеселела. Поздравив своих, поехал за М. Христосовались, поздравляли. Вместе с яичком вручил ему галстук. Он очень растрогался. После церкви поехали к Вольтеру разговляться. Гостей тьма, все целуются. То один, то другой садится к роялю, музыка и пение непрерывно. Стол ломится. Никогда еще у меня не было такого праздника, мы дома всегда скромно справляем. Мне даже стало немного грустно за маму с Таней, как они там бедные одни? Столько было гостей, что Ольгу я не сразу увидел. Подошел поздравить. Она и в губы тоже поцеловала. Я еле удержался, не сделав поцелуй глубже и не взяв ее за талию. Так сильна во мне, хоть и недавняя, а все же привычка. По выражению ее лица я понял, что она почувствовала мое желание. М подошел к нам, они христосовались. Он сказал, улыбаясь, несколько иронично: «Ах, да. Вы же знакомы». Ольга тоже улыбнулась и ответила ему в тон: «И очень близко». М. позвал к роялю петь. Он сел играть, пели романсы, потом он играл свои веселые песенки. Когда усаживались за стол, Ольга громко позвала меня по имени и указала место подле себя. Вольтер запротестовал, сказал, что я буду сидеть с ними. Ольга стала спорить. Меня это очень смутило. Наконец расселись все рядышком. Я между В. и Ольгой, Миша от В. по другую руку. Хлебосол В. потчевал нас с утроенной силой, без конца подливал мне вино, целовался, и, наконец, потребовал выпить с ним на брудершафт и звать его на «ты». Миша тоже был весел. Хоть пил он мало, а дурачился и чудил получше других пьяных. Сыпал стихотворными экспромтами, весьма фривольного содержания, говорил невероятные парадоксы, перегибался ко мне через необъятного Вольтера, то с одной стороны, то с другой, или старался обнять его и меня одновременно, на что у него, конечно, рук не хватало, и мы втроем чуть не валились прямо на стол. Когда я поглядывал на Ольгу, она улыбалась мне, но довольно сдержанно. Вопреки своему нраву, она не хохотала над нашими выходками, однако меня совсем не заботило, что Ольга такого поведения не одобряет, я веселился от души. То и дело она трогала ножкой мою ногу под столом, но я не очень-то обращал на это внимание, хотела она унять меня или просто скучала, мне было не до того. Напившиеся допьяна гости устроили веселую неразбериху. Кто о чем говорит, кто что поет, кто с кем пляшет – ничего не поймешь. Меня тоже утащили танцевать М. и незнакомая дама, мы кружились втроем, потом вдвоем с Мишей, потом уж просто всё вокруг меня кружилось. Курили прямо в гостиной, от чего всё казалось как в тумане, да и в голове у меня тоже не было ясно. Встав из-за стола, гости разбрелись по углам по всему дому, составились пары и кружки. Мы с М., совсем расшалившись, изводили Вольтера. Наряжали его, закутывая в дамские шали, и заставляли танцевать с нами. Несчастный Аполлон молил о пощаде и никак не мог от нас вырваться. Наконец, устав немного, и оставив В. в покое, мы с М. уселись в укромном местечке на диванчике. Курили, строили планы, он читал стихи и опять заявлял невозможные вещи, от которых я только глаза выпучивал. Он взял мою руку и надел на нее одно из своих колец. Еле втиснутое на палец кольцо никак больше не снималось, и М. увидел в этом знак, говорящий о нашей вечной дружбе. К нам подошла Ольга. М. сказал, что на козетке нам всем втроем не поместиться, я принес для нее стул и зажег ей папиросу. Некоторое время молчали. «Михаил Александрович, – начала Ольга, – зачем вам Саша, скажите на милость?» – «А он, что же, вам принадлежит?» – «Нет, но у меня есть глаза и совесть, я вижу, что вы непременно хотите им завладеть, вот я и спрашиваю, зачем вам Саша? Откажитесь. Для вас, мой дорогой, одной победой больше или меньше, роли не сыграет, а одна незагубленная судьба, быть может, зачтется вам свыше, вы же очень набожны, не правда ли?» Что это она такое? Зачем? Я просто не знал, куда мне деться, и повторял только тупо: «Оля! Оля!» Она оборотилась ко мне: «Саша, я не понимаю тебя. Разве не говорила я, «оставь их», а теперь скажу, «беги от них», иначе беда». – «Полно вам, Ольга Ильинична, – заговорил с улыбкой М., – Не я, так вы его погубите, и чем же лучше, что вы?» – «Я лучше. Я беру только тело, а душу оставляю в покое. А вы – ловец душ, Михаил Александрович, берегись его, Саша». Я готов был сквозь землю провалиться, М. улыбался спокойно и ласково. Ольга встала и пошла от нас. Бросив М. на ходу, что сейчас вернусь к нему, я побежал догонять О. Схватив ее за локоть, немного даже грубо, я заговорил взволнованно: «Что же ты, Оля! Что ты наделала? Зачем тебе вздумалось обижать его? Ты ничего не знаешь и ничего не можешь понимать. В конце концов, ты не имела права так с ним и со мной!» Она посмотрела устало, погладила по щеке и предложила оставить «этот содом» и уехать к ней. Я сказал что останусь. Возвращаясь к М., я увидел его уже вместе с Ап.Григ. и услышал как М. говорит Вольтеру раздраженно: «Подлая интриганка!» Заметив меня, они замолчали, но тут же Миша взял меня под руку, стал шутить и напевать, но мне уже не было весело. Растерянный, отрезвевший я безвольно предался в руки Аполлона, который стал опять поить меня и угощать сладостями. Сам того не желая, напился до бесчувствия.
19 апреля 1910 года (понедельник)
Очнулся еще затемно, часа в четыре, разбитый, с головной болью, и поехал досыпать домой.
Разбудил меня смех и веселые женские голоса. Это Ольга у нас, заехала навестить и поздравить Таню. Жалела очень, что Таня так разболелась, целовала ее и голубила. Я был сдержан, отворачивался и отвечал односложно. Все походило на то, что эти Ольгины нежности и мне отчасти предназначались. Смотри, мол, я бы и тебя погладила и приласкала, если бы ты вел себя лучше. Проводил Ольгу молча, только до извозчика. Когда она уехала, снова завалился спать. Второй раз разбудила меня мама. Миша приехал проведать меня и поздравить моих с праздником. Мама его угощала, они болтали без умолку, как хорошие кумушки. Потом сидели с М. у меня. Я был угрюм, сказал, что еще страдаю с похмелья, разговор не ладился, и М., наконец, ушел. Я обратно лег, на этот раз не сразу, но, все же, заснул опять. В третий раз проснулся уже под вечер. Приснилось мне все это что ли? И Ольга была, и Миша. По мне, так не видеть бы их обоих. Проклятое кольцо никак не снимается. Походил немного по комнатам, поболтал с Таней. Ей лучше, стала понемножку вставать. От нечего делать лег спать уже совсем.
20 апреля 1910 года (вторник)
Человек от Вольтера с запиской. Ждет меня к себе. С некоторым удивлением ощутил, как послание это вызвало во мне досаду и чуть ли не отвращение. Что если не ходить? Что если бросить всё и вернуться в театр? Впрочем, что мне театр? С каким удовольствием уехал бы я отсюда, отправился бы, куда глаза глядят, как можно дальше. Вот прямо сейчас встал бы и уехал, не собравшись даже. Если бы не мама и Таня! Я привязан к этому городу, к этой квартире, а теперь еще и к ним. Что я для них? И что они для меня? Если задуматься, что они вообще такое? Художники-поэты, эстеты-декаденты. Каково мое среди них место? Играют как с котенком, которого тискают и целуют, пуская в носик слюну, думая, что это доставляет ему удовольствие. Мучают и умиляются. А что же котенок? Рано или поздно и он должен выпустить когти, а то замучают вовсе. И все-то они меня насквозь видят, и каждый-то себе понимает, что для меня лучше. Они люди необыкновенные, они одарены свыше, уж обычный-то мальчишка, наивный и необразованный у них как на ладони. Что может быть в нем непонятного? Вот вам и объект для ваших тонких игр, занимайтесь. Вам тело, мне душу, а там видно будет, возьмем да поменяемся. Тьфу, мерзость какая. Быть при них в подобной роли не желаю ни за что. Кем-нибудь другим пусть манипулируют. Написал Вольтеру, что больше у него не служу, и отослал половину выданных им денег. Лежал, задумавшись, впрочем, не задумавшись, а так. Пустота. Как быть дальше, не знаю. Мама с Таней подумали, что я снова расхворался, я не стал их переубеждать, но отказывался от всего, что мне предлагали. Чем же мне избавиться от идиотского кольца? Видно, все же, придется завтра пойти в театр, узнать про место.
Вечером к нам явился сам Вольтер, потребовал объяснений. Сначала я дерзил и говорить отказывался, но добрый мягкий Аполлон меня успокоил, и, вытягивая слово за словом, мало помалу уразумел в чем дело. «Да за что же ты на меня осерчал, дорогой мой? Я уж к тебе со всей душой. Не хочешь знаться с Демиановым – бог с ним, и с Ольгой тоже не встречайся, дело твое, а я-то, кажется, ни чем тебя не обидел». – «Как вы не понимаете, если я с вами связан, то от них уж никуда не денешься». – «Вот еще! Мы сами по себе, и без них обойдемся. Хочешь, в Москву с тобой уедем завтра?» – «Аполлон Григорич! Я бы хоть сейчас уехал, да как я оставлю своих?» – «А мы ненадолго, так только, недели на две и дела у нас там найдутся. Грандиозное дело хочу затеять. Ты приходи завтра, я тебе расскажу». Аполлон погладил меня по руке, по голове своей пухленькой мягонькой ручкой, еще раз позвал приходить, а уходя, оставил на столике присланные мною деньги, ничего о них не сказав. Когда он ушел, мне захотелось разрыдаться. Полежав еще немного, я встал и взялся, как следует, за снятие кольца.
21 апреля 1910 года (среда)
Утром поплелся к Аполлону, на душе все еще тяжело и неспокойно. Вольтер, встретил меня сердечно, искренне и просто порадовался, что я, все же, пришел. Потихоньку занялись делами. Аполлон рассказал мне свою новую идею. Он это давно замыслил, но всегда откладывал, а теперь есть средства. Хочет организовать в Москве или у нас театр нового искусства. Познакомился уже с нужными людьми, знающими толк в этом деле. Мне, с моим унылым настроением, все видится в мрачном свете. – «Вот и поступлю рабочим к вам в театр». – «Что ты, Сашенька! Я из тебя еще директора сделаю». Добрый человек Вольтер и милый, но боюсь, что сел я не в свои сани. Выйдя от него, заехал в театр, говорил с Кирсановым, на мое место взяли человека пьющего, негодного, так что директор хоть сейчас вернет меня обратно. Но и за кулисами теперь показалось мне все чужим, ничего там нет для меня привлекательного. Гулял по улицам, пока не замерз. Дома, слава богу, никаких гостей и известий, не знаю, как бы я вел себя, окажись они.
22 апреля 1910 года (четверг)
Кончаем с Вольт. последние приготовления к выставке Второго Возрождения. На празднование открытия я не собираюсь идти. Будут там и Дем. и Ольга, не знаю, как держаться с ними. Так я привык, что не мыслю себя без занятий и бесед с Демиановым, без Ольгиных ласк. Должен ли я отказаться от всего, что мне дорого и мило? Все еще нахожусь под впечатлением пасхальных разговоров. Не то что бы я обижаюсь, а недоумеваю, неужели для них это только пустая игра? У меня холодеет внутри от такого предположения. Нет. Не пойду на открытие. В. грезит Москвой и новым театром. Даже выставка ему стала почти безразлична. Дома письмо от Супунова. Вот удивится он, если вместо ответного письма я сам явлюсь к нему. Таня почти совсем уже здорова. На днях собирается возобновить свои занятия с О. Что если с нею О. тоже играет? Это было бы уж слишком. Что там она у нас? Специалистка по части телесной? Или когда речь идет о Тане, а не обо мне, у нее другой интерес? Нехорошо это все. Противно. Уехать бы и своих увезти. Но невозможно. Супунов хорошо пишет о Москве, скоро сам ее увижу.
Какая странная игра
Где я как мячик.
С кем остается до утра
Красивый мальчик?
Была податлива, нежна
И так хотела!
Моя душа ей не нужна,
А только тело.
Она не знает, надо как.
Другой возьмется.
С моей душой наверняка
Он разберется.
Пришлет записку «je vous aime».
И я ликую!
А после узнаю, что всем
Он слал такую.
Потом, на вечере сойдясь,
Ведут беседу.
Очки считают, находя
Свою победу.
Неинтересна мне игра,
Где я ведомый.
В своей постели до утра
Останусь дома.
Не слишком ли я преувеличиваю? Мухе скучно и она превращается в слона. А, все же, на открытие не пойду.
23 апреля 1910 года (пятница)
Погода чудесная. Солнце, теплынь, птицы заливаются. Ходили с Т. в лавочку, потом в церковь, потом прошлись немного. Танюшка болтала без умолку, а я, несмотря на запах весны, был немного не в духе. Все думал о своем.
Теперь свободен, сам себе принадлежу.
Как будто заново вчера родился.
Куда хочу один везде хожу,
В пиджак по собственному вкусу нарядился.
Не жду записок, не гляжу в окно,
Не повторяю Ваше имя бесконечно.
Не мучаюсь: что верно? что грешно?
Без вас все просто, и для прочих безупречно.
Зачем же я в уединении своем,
Таком, казалось бы, достойном и желанном,
Все время думаю, как были мы вдвоем,
Как мы мечтали, сколько было планов.
Ничем не занят у меня заветный час.
И занимаюсь и гуляю в одиночку.
Мои стихи как будто не для Вас,
Но Вы присутствуете в каждой строчке.
Когда я приехал, Вольт. в хорошем настроении собирался на праздник открытия. И слышать не хотел моих отказов. Но мне удалось его убедить. Я перечислил дела, которыми мог бы заняться, пока он празднует, и поручения сам себе назначил. Вообще создал видимость человека занятого, которому не до увеселений, да еще и хлопочущего в его интересах. Он неохотно со мной согласился. В конце концов, перед поездкой в Москву, действительно, нужно кое-какие дела уладить. Хлопот хватит. Да еще в отсутствии Дмитр.Петр. Впрочем, как только Вольт. со мной согласился, я уже не был так уверен, что не хочу пойти на открытие. Все же, и я кое-что сделал для этой выставки, а праздновать будут другие. Обидно. Демианов заехал за Вольтером, чтобы вместе отправиться на выставку. Я был намеренно сдержан и видел, что он видит, но не понимает в чем дело. Вольтер же, напротив, представлялся беспечным и переводил в шутку все вопросительные намеки Демианова и мои холодные почти колкости. На улице разъехались в разные стороны. Они в автомобиле Вольтера на выставку, я на извозчике в банк. Как только остался один, пожалел смертельно, что с ними не поехал, первая мысль – приказать извозчику поворачивать, но сдержался. Бедный, милый Демианов, как он был удивлен и встревожен моим холодным приемом. А я-то тоже хорош! Впал в амбицию. Ах, на меня влияние, ах они пользуются мной! Давно ли я был благодарен только за то, что имею возможность говорить с таким необыкновенным человеком, как М.А. А Ольга что же? Обладанию этой женщиной любой позавидует. А я, имея, такую любовницу и такого друга и учителя, еще и недоволен. Дурак. Уладив кое-какие дела, поехал на выставку. Наших там уже никого не было, только посторонние посетители. Видно, отправились праздновать в ресторан. Но в ресторан я уж не поехал за ними, чего доброго опять напьюсь, да еще и сделаю сцену, не дай бог. Хоть на положение свое я смотрю теперь совершенно иначе, я, все же, решил воздержаться до поры. Интересно, заметил ли М., что нет кольца у меня на пальце?
24 апреля 1910 года (суббота)
Заезжал к М. Его сестра принимает меня почти как своего, усадила за общий стол пить чай. Я-то надеялся наедине с М. посидеть. Видел его зятя. Молчаливый, спокойный, меланхоличный даже. М. говорил про него, что он очень строг с домашними, однако, вид имеет совсем не тирана. Тетка М. была у них за чаем, и всё толковала о том самом деле, с наследством, так что увести М. в сторону не было никакой возможности. Но по его глазам я видел, что он рад моему приходу. Я тоже как мог, показывал глазами, что угрюмость моя прошла, что всё по-прежнему. Потом М. и его зять поехали провожать тетушку, а я потащился к В. Дмитр.Петр. вернулся, выставка готова. Ничего теперь нам не мешает ехать. Так что Вольтер решил не откладывать и выехать прямо сегодня вечером. Билеты велел купить в 1-й класс. Для меня невозможная роскошь, а для него иначе невозможно. Наш божественный Аполлон должен иметь все самое лучшее. Никак не мог осознать, что завтра буду уже в Москве! В радостном и тревожном возбуждении плохо соображал, что делаю и как. Действовал как заведенный механизм, хлопотал о билетах, давал телеграммы, делал распоряжения о багаже Вольтера, ездил домой собираться, потом опять к Вольт. Там уже Митя взял на себя все заботы, и мог бы я успокоиться, да куда там! Разволновался еще сильнее, места себе не находил. Телефонировал М., сестра сказала, они с зятем еще не возвращались. Хорошо было бы, если б он успел нас проводить. Обедали. Снова вызывал М., зять вернулся, а он поехал куда-то к знакомым. Что за наказание! К каким знакомым, никто не знает. Написал прощальную записку Ольге, но показалось как-то нелепо, порвал. Вольт. потешается надо мной по-доброму. Ему-то что! Он, весь мир, почитай объехал, а я дальше Павловска не был нигде. На вокзале я отчаянно вертел головой, до последнего момента ждал, что М. приедет проститься. Поезд уже тронулся, Вольтер закричал в окно, чтобы я заходил, а мне пришла ужасная мысль, что больше никогда мы с М. не увидимся. Такая напала тоска и одиночество, до боли в сердце.
В вагоне ни с чем не сравнимый, такой чудесный запах путешествия. За окном поля, леса, луга сменяют друг друга с поразительной скоростью, очаровательное зрелище. Не мог оторваться часа два, пока совсем не стемнело. Как только сели в вагон, Митя тут же принялся суетиться вокруг Вольтера. Дома я почти не замечал, принимал как должное его заботы. Тут, в поезде, как-то особенно бросилось в глаза, что Митя над Вольтером как наседка хлопочет, как мать над дитятей. Переодевает, укутывает, подтыкает одеяло, все время, что-нибудь ему в рот пихает. То о чае для него хлопочет, то чтоб ему не дуло. Все печется, чтобы было ему покойно и удобно. Вольтер принимает все Митины заботы спокойно, почти безразлично, но никогда ему не перечит, слушается. Очень забавно и трогательно за ними наблюдать. Уложенный и укутанный Митей Вольтер, скоро захрапел. Я же еще долго вглядывался через темное окно в бегущую мимо дорогу, думал о своих домашних, о Демианове, еще больше теперь дорогом мне и близком, о Вольтере с его Митей, о Москве, что-то меня там ждет. На станции хотел, было, выйти из вагона, но овладело мною какое-то странное, задумчивое оцепенение, и я продолжал тихонько сидеть у окна, глядя на снующих мимо носильщиков, фонари и станционных рабочих.
Вольтер дремлет на диване.
Ароматный чад кругом.
Грусть, что еду я не с Вами.
О! какими же словами
Нашу встречу назовем.
25 апреля 1910 года (воскресенье)
Проснувшись, тихо лежал, слушая, как стучат колеса, вдыхая необыкновенный вагонный запах, к которому нельзя принюхаться, сколько не дыши, и, наблюдая, как хлопочет Митя над Вольтером. От этих его хлопот веет какой-то домашней нежностью и уютом, даже в вагоне становится необыкновенно хорошо. Ехать бы так всегда!
Сразу же с вокзала телеграфировал Демианову: «Я с Вольтером в Москве. Жаль, не успел проститься. Вы лучше всех. Мечтаю возвратиться, чтоб вместе в Вами в путешествие пуститься». Эх! Не догадался я раньше намекнуть Вольтеру, чтобы он и М. позвал с нами. Не о том думал перед отъездом. А ведь это мысль! Если будет удобный случай, попрошу Аполлона его вызвать сюда. Ошарашенный, роскошью Метрополя, оставшись в своей комнате, долго не мог прийти в чувства. Даже сесть мне было, словно, неловко. И водопровод, и ватерклозет и телефон тут, всё для меня одного. Так ходил туда-сюда, все осматривал, ощупывал, пока Вольтер не прислал за мной, чтобы идти в ресторан. После обеда, отдохнув, поехали с визитами. Занятно узнавать места, виденные раньше на картинках, и ново и старо одновременно. Родственников и друзей у Вольтера в Москве много, дотемна всех объезжали. Чуть не каждый приглашал переселиться к нему, но вечером мы вернулись в гостиницу, так как Вольтер обожает тамошние рестораны. Наконец, оказавшись в постели, долго не мог уснуть на новом месте. Впечатления, обрывки разговоров, все перемешалось у меня в голове. Как-то там наши? Видели бы они меня! Хотел телефонировать М., но побоялся переполошить всех его домашних звонком в такое время. Нет, непременно нужно уговорить Вольтера вызвать М. сюда.
26 апреля 1910 года (понедельник)
С утра телефонировал Демианову. Вероятно, поднял его с постели. Он был растерян, но очень обрадовался. Я тоже потерялся, не всё, что хотел, сказал ему. Как чудесно, что можно вызвать по телефону в любую минуту и услышать дорогого человека за тысячи верст. Навещая знакомых, Вольт. повсюду раструбил о своем новом начинании. Кем-то из них рекомендованный, явился к нему человек. Странный, неопрятно одетый, с выпученными глазами и коричневым лицом, морфинист что ли? Фамилию я не расслышал. Много пил водки, не пьянея, сбивчиво и скоро говорил о новом театральном искусстве. Вольтер от него в восторге, уверяет, что тот гений. Ап.Григ. не вылезает из ресторана, туда непрерывно кто-то приезжает, и всё его знакомые. Я отпросился поехать к Супунову. На квартире его не было, но мне указали, где его мастерская. Разыскивая С., заблудился. Еле выбрался, взяв извозчика и кое-как втолковав ему, куда мне нужно. Но зато на С. впечатление произвел своим приездом потрясающее. Он так удивился, что уронил все, что держал в руках. Пили чай с баранками, весело болтали. Я чувствовал в нем близкого и хорошего товарища. Даже выложил ему пасхальную историю, но так, что оба мы только посмеялись. Может быть, нужно было рассказать по-другому и спросить совета? Да уж ладно. Изложил ему затею Аполлона. С. говорит, что с подобными идеями теперь многие носятся, но, возможно, что именно у Аполлона выйдет что-то путное. Кроме него никто не имеет столько связей среди художников, актеров, музыкантов и литераторов. Не много среди них найдется тех, кому бы Вольтер не помог деньгами или протекцией. Что же еще нужно? Деньги есть, люди отыщутся подходящие. Очень может быть, что выйдет новый театр. Я пожаловался на то, что Ап. только пьянствует в Метрополе, сделал визиты и засел, и, кажется, никуда больше оттуда не собирается. С. заверил меня, что там только и только так подобные дела и начинаются. Позвал меня с собой посмотреть декорации. Вернувшись от С., Аполлона застал на прежнем месте, за тем же занятием, только окружение его изменилось. У себя в номере брал ванну. Лег спокойный и почти счастливый.
Никогда Вы не были мне ближе,
Чем теперь, когда от Вас я далеко.
Ваших глаз и тонких плеч не вижу,
Но представить все могу себе легко.
Никогда мне не были дороже,
Даже сдержанные ваши «нет» и «да».
Телефон приблизить Вас не может,
Но душа моя летит по проводам.
Никогда я с вами не расстанусь,
Даже если вновь придется уезжать.
В помыслах своих так и останусь,
Сидя подле за руку держать.
27 апреля 1910 года (вторник)
Странный со мной случай. В мастерской у С., я, войдя, не сразу его заметил в темном углу. Маленькое тщедушное существо, похожее на мышку. Остренький носик, темные глазки-бусинки, узенькое бледное личико. С. сказал: «Племянник. Двоюродный. Алеша». Он поклонился из своего угла, одной головой, слегка только привстав, да так там и остался. Мы с С. болтали, вспоминали Петербург, наш театр, я звал его к Вольтеру, но он отказался, работает. Выйдя на улицу, услышал, как меня окликнули господином и по фамилии, женский голос, на Ольгин немного похожий. Обернулся – нет, не женский, детский. Этот племянник Супунова, подросток, почти дитя. Лет пятнадцать ему от силы, а то и меньше. Догнал меня, пошел рядом. – «Я желал бы с вами поговорить приватно, если вы имеете время». Вот еще новости! О чем же он желает приватно со мной говорить? – «Ведь вы начинаете как поэт? И близко дружите с господином Демиановым? Вы секретарь господина Вольтера?» Что никакой не поэт не стал возражать, со всем согласился. – «Я желал бы поговорить с вами о стихах». Боже мой! Что за недоразумение?! – «Позвольте мне зайти к вам. Когда вам будет удобно меня принять?» Удивлен и растерян до крайности, но делаю хорошую мину, как могу. – «Приходите, пожалуй, ко мне в гостиницу. В Метрополь. Завтра или сегодня часа в два». – «Я приду». И ничего не прибавив больше, пошел прочь. Глядя ему в след, я подумал тупо: «Il a l’air fragile»[4]. Только потом уж поняв, что это значит, и что уроки Демианова, все же, даром не прошли. Навестив Вольтера на его посту, закусив и выпив с ним немного, поднялся к себе. Наверху, в коридоре встретил Митю, он не в духе, жалуется на Вольтера, на его кутеж, на то, что денег уже, бог весть, сколько просажено зря. Ругает Москву и просит уговорить Ап.Григ. как можно раньше отправиться домой. Он не понимает, зачем мы сюда приехали, откровенно говоря, я уже тоже не понимаю. Театр мы организовывать могли и дома, да еще и с бóльшим успехом. А тут прозябаем прямо. У себя в номере ходил из угла в угол, выглянул в окно и не столько увидел его, сколько угадал, малюсенькая фигурка на Театральной площади. «Il a l’air fragile». Вот привязалось! Высунулся, окликнул его, позвал подняться. Он сидел у меня, молчал. Погрыз предложенную конфетку, действительно, мышоночек. – «Я вот собственно с чем». Протягивает журнал, московский. Что такое?! Стихи Демианова, а впереди моя фамилия – посвящение. Напечатано раньше чем в Петербурге, у меня аж волосы дыбом на затылке. Сделал лицо недоумевающее, что, мол, от меня нужно? – «Скажите это правда?» – «Что вы?» – «Вот, всё что в стихах». Как мог, делал вид, что не понимаю о чем он, а сам-то прекрасно уж понял, что его интересует. Вот это мальчик! – «Не знаю, что вам сказать. Разве так спрашивают?» – «Понимаете, мне очень нужно знать, я совсем один, и если есть люди, которые…– замолчал, потупился». В конце концов, разве я сторож его морали? – «Все это есть. И все это правда». – «Умоляю вас, расскажите!» Я, собственно, почти как он, немногим старше и не слишком опытен. Когда я усмотрел на себя влияние, меня это страшно смутило, а он, вот, сам ищет вожатого. Я предложил ему быть на «ты». Понемногу разговорились не так принужденно, как поначалу. Показал ему кое-что из своих стихов. Рассказал, слегка, может быть, приукрасив кое-где, наш роман с Демиановым. Почитал стихи М.А., какие помнил. А то самое, нежное, даже несколько раз. Он так умилительно раскрывал свои черненькие глазки, в каком-то чуть не мистическом восторге, и шептал: «Я ничего не знал. Я ничего не знал!» Ходил провожать его до Никитских ворот. На прощание он попросил его поцеловать. Я коснулся губами его полуоткрытых теплых и влажных губ, пахнущих конфетами. Так пошел он от меня просвещенный, посвященный. Странный случай. И странный мальчик. А я-то хорош! Нашелся соблазнитель юношей.
Вольтер на своем месте. Не надоело ему.
28 апреля 1910 года (среда)
Ап.Григ. вручил мне адреса, по которым нужно съездить, осмотреть помещения для театра.
Телефонировал Демианову. Он кисел, говорит, что скучает, но несколько равнодушно. Неужели, с глаз долой – из сердца вон? Может, голова у него, болит опять? Или дома что-то не то?
Заехал за Мышонком, позвал его с собой, все же, вместе веселее. Он Москву еще плохо знает, мало где бывал один. Так целый день вместе заблуждались и выбирались, то пешком, то на извозчике. Болтали непрерывно. Мышонок большой фантазер. Слушаешь и не знаешь, чему верить в его рассказах, а что он тут же, сочинил, прямо на ходу. Он и не скрывает, что любит выдумывать. Обедая в трактире, вместе сочиняли истории о волшебной стране Розовых Грез с ее обитателями китайским юношей Сюнь Пэ, украинцем Барковщиной, французом мёсьё Лямуром, и фламандкой фрёкен Пипи. Таких насочиняли сказочек, сам Демианов мог бы, если не позавидовать, то удивиться. Немного хулиганские, однако. Но было очень, очень весело. До вечера время промчалось незаметно. Только когда уж стало темнеть, сообразили, что Мышонку давно нужно домой. Отвез его.
Вечером с Вольтером были в театре. А после он опять в свое не успевшее еще остыть ресторанное кресло, а я к себе в номер.
mon cœur, genou, ceux-ci [5]
Мсье Монкёр картежник и маркёр
Побил свою жену мадам Жену
За то, что не спросив, с мсье Сёси
Уехала кататься на такси
la bouche, carotte, les dents [6]
Властительница душ мадам Лябуш
Открыла рот: вошел мсье Карот
Ему решительный отпор был тут же дан
Драчливыми кузенами Ледан
l’amour, naïve, nouveau [7]
Мсье Лямур проделав вальса тур,
И закружив мадмуазель Наив,
Натер ступни и утомился до того,
Что спать пошел домой к мсье Нуво
29 апреля 1910 года (четверг)
Купил в подарок Демианову книги и старые карты, которые ему, наверное, пригодятся. Будем, сидя за ними мечтать о путешествиях. В. то ли не понимает моих намеков, то ли не хочет звать сюда М. Да, может, мы и сами скоро уедем. В конечном счете, Митя, выходит, прав – денег проживаем много, ничего, почти, не делая. Я рассказал Ап.Григ. о просмотренных помещениях и отвез его в два места, самые, на мой взгляд, подходящие. Он пока ни на что не решается. А не дурно было бы для нового театра выкупить нашу «Одинокую кошку». Заведение известное с самой что ни на есть подходящей стороны. Перестроить немного, наших же друзей пригласить для оформления, и, вот вам, пожалуйста, готовый театр нового искусства. Поделился своим соображением с Вольтером. Он, кажется, доволен такой выдумкой, сомневается только, согласится ли хозяин «Кошки» ее продать. Выглядит он усталым, нездоровым. Переселился, все же, из ресторанов в свою комнату.
Вызывал Демианова, рассказывал ему наши дела, повеселил выдумками Мышонка. Милый М.! Скучает обо мне, говорит, что я ему снился. Так как ресторанами Вольтер уже сыт, надо полагать, увидимся скоро.
Вечером Супунов повел меня к знакомым. По дороге передавал ему всё, что М. говорит о петербургской выставке. Успех. Много говорят о ней, и даже кое-кто из критиков пишет хвалебно. С. почему-то удивился.
Вот так дом! Вот так знакомые! В центре внимания странные бородатые люди, молодые, лет по тридцати, на вид очень ученые, но как будто на что-то злые. Ругают Петербург помойкой, возрожденцев вырожденцами. С. на мои удивленные вопросительные взгляды только лукаво улыбался и делал знаки молчать. А бородачи всех ругали, Петрова, всю его, как они говорят, секту, Демианову досталось больше всех, его прямо-таки ругательски ругали. Я чуть не подавился, услышав. Супунов, не скрываясь, потешался, видя мое изумление, теперь уж ясно, зачем он меня сюда притащил. Слава богу, ко мне обращались мало, и то только дамы, а бородачи больше друг другом были заняты и своей критикой всего современного. Ну и компания! На обратном пути С. в отличном настроении смеялся и вышучивал всех, меня, бородачей, Демианова, возрожденцев. Мне такие забавы непонятны. Расспрашивал его про Алешу. Тот живет с матерью – двоюродной сестрой Супунова и отчимом. Есть у него две младшие сестры-двойняшки, дочери отчима и бабушка. Ни с кем в семье бедный мальчик не близок, и вообще, его считают, чуть ли, не юродивым. Лет ему, оказывается не 13-14, как я думал, а уже 16. В гимназию он никогда не ходил, его учили дома приходящие учителя. Собирается держать экзамен в Московский университет. Все это из Супунова пришлось силком вытягивать, они не очень-то дружны. Мышонок просто приходит к нему в мастерскую и сидит тихонечко в уголочке. Я попросил С. быть с ним поприветливее, ведь мальчику так одиноко. Он способный и очень милый. С. удивился, что я принял в его племяннике такое участие. Я взял с него слово впредь быть с Алешей внимательней, глядя на меня, он посерьезнел, а сам я растрогался почти до слез, так стало жалко маленького Мышонка, а вместе с ним и себя почему-то.
Начнем сначала. Это я, Наивен и смущен немного,
А это комната твоя,
В которую вхожу с тревогой.
Постойте, или это сон?
Я у себя, а входит он.
Такой же робкий и смешной,
Как я с тобой, так он со мной.
И что я слышу! Тот же тон.
И жест и мимика твоя.
Но на моем-то месте он. Помилуй бог! А где же я?
Начнем сначала. Он со мной,
Ты за моей стоишь спиной,
Я за спиною у него.
Кто с кем из нас? Кто за кого?
Опять сначала. Погоди!
Так можно тронуться умом
Ты далеко, я здесь один,
Вернее, с ним теперь вдвоем.
Никто не думал подражать,
Или других изображать,
Но вышло все само собой.
И вот мы с ним, как мы с тобой.
30 апреля 1910 года (пятница)
Ночью Вольтер разбудил меня, прибежав ко мне в комнату, и, объявив мою идею с «Кошкой» гениальной. А я подумал: «Что же это значит? Отъезд? Неужели сегодня?» И почему-то испытал разочарование. – «Нет! Москва наше новое искусство не примет. Здешние патриархи театра нашего не допустят». Вот те на! Как будто он с нами был вечером и своими ушами слышал бородачей. Значит, едем. И мое укромное гнездышко придется покинуть. Чего ж мне еще? Погостил – знай честь. Разве думал я оставаться тут на всю жизнь? А все-таки жаль уезжать, номер мой стал для меня родным. Как быстро привык! И дорогого друга Супунова жалко оставлять, и милого маленького Мышонка. Снова он будет одинок и заброшен. До рассвета курили, строили планы. Рассказывали друг другу свою жизнь. Когда Ап.Григ. пошел спать, я, спустившись вниз, на площадь, еще немного побродил до тех пор, пока пустая тихая Москва не проснулась и окончательно не заполнилась, приняв обычный дневной облик. Тогда уж я вернулся к себе. И, несмотря на бившее в глаза солнце, заснул быстро и сладко, даже штор не задернув.
Телефонировал Демианову. Рассказал о бородатых хулителях, развеселивших С., о наших с В. планах. Он тоже загорелся, всё одобряет, для нового театра хочет дать несколько своих пьес и к ним напишет музыку.
Занимались с Вольтером его московскими делами, которые тут же нашлись, как только запахло отъездом. Вернулись поздно, уставшие, даже в ресторан не пошли. Подумать только! Всего лишь несколько дней прошло, а я буквально чувствую, как сильно переменился. Так Москва на меня повлияла. И мне тревожно думать о возвращении домой, ведь уже не возможно для меня вернуться прежним. А значит стану всем чужим? Неловко делается при мысли о доме.
Страна Розовых Грез.
Китайская сказка
В небольшой рыбацкой деревне жил юноша Сюнь-Пэ. Пригожий лицом и очень добрый. Однажды во время ужина он заметил, что рис, который подала ему матушка, светится необыкновенным розовым сиянием. Сюнь-Пэ удивился, но так как был очень голоден, доел все до конца. В ту же ночь странный сон приснился юноше. Прекрасный воин в расшитом зóлотом одеянии звал его к себе в гости в страну Розовых Грез, столица которой далеко внизу по течению реки Дай-Вэ.
– Я, – говорил прекрасный воин, – твой дядя и покровитель. Я давно знаю и люблю тебя. Завтра я пришлю за тобой корабль. Не огорчай же меня, обещай, что будешь моим гостем.
Сюнь-Пэ обещал.
Проснувшись утром, юноша как обычно поел риса, который уже не светился и был гораздо хуже на вкус, чем вчерашний. И отправился ловить рыбу. В самое жаркое время он устал и прилег отдохнуть возле своих сетей. И вдруг увидел роскошный корабль, подплывающий к берегу. Из него вышли люди в дорогих одеждах и позвали юношу по имени.
– Нас прислал твой дядя, – говорили они, – скорее отправимся к нему, он ждет тебя с нетерпением.
В чудесной стране Розовых Грез Сюнь-Пэ был счастлив. Он и его покровитель проводили время в удовольствиях. Они сладко пили и ели, играли и развлекались. И ночи их были страстны и коротки. Юноша забыл от счастья обо всем на свете. О своей бедной рыбацкой деревне, о ее жителях и даже о милой матушке.
Однажды вечером прекрасный воин вошел в его покои.
– Я пришел попрощаться с тобой, – сказал он Сюнь-Пэ.
– Как? – Огорчился юноша. – Разве мне пора уезжать, дядя?
– Нет, это я должен покинуть навсегда нашу чудесную страну Розовых Грез. Знаю, ты не останешься здесь один. Ведь одиночество в этой стране невозможно.
– Почему же ты уходишь и покидаешь меня?
– Мы были так счастливы и беспечны, что ты не заметил, конечно, как прошли многие годы. Теперь я отправляюсь в другую страну, Далекую и Печальную. А ты остаешься. Но волшебный розовый рис уже успел принести новые плоды. И ты недолго будешь скучать. Прощай.
После того, как его друг удалился, Сюнь-Пэ подошел к зеркалу и очень удивился. Он увидел прекрасного воина в расшитом зóлотом одеянии.
Сюнь-Пэ пришлось лечь спать в одиночестве. А на следующее утро он отдал приказание своим слугам отправиться на лучшем корабле вверх по течению реки Дай-Вэ и доставить дорогого гостя в страну Розовых Грез.
1 мая 1910 года (суббота)
На вокзале, стоя подле вагона, Митя сердится ужасно и ругается последними словами. Мы с ним остаемся, а милый Алеша уезжает с Вольтером в Китай за китайскими болванами для нового театра. Может статься, никогда мы больше не увидимся. Хотел поцеловать его на прощание, но та самая девочка, моя дачная подружка, с лицом и волосами Демианова влезла к нему на руки, прижимается, голубит и никому не дает приблизиться. Я заплакал даже от обиды. Проснулся весь мокрый. Брал ванну. Ходил по воде. Новое, чудесное ощущение можно испытать, набрав в ванну воды, и, погрузившись, откинуться на спину, а ноги, согнув, прижать покрепче к животу и опустить ступни так, что б они были под таким же углом к поверхности воды, как к полу, когда на нем стоишь. И вот шлепай пятками себе, да чувствуй какое было бы у ног твоих ощущение, если б шел по воде. Забавно и удивительно, ни с чем не сравнимо. Милая моя ванна, как же жалко оставлять тебя. Придется ли еще когда побывать в подобной роскоши? Да, может быть, еще и приедем, у Вольтера здесь тоже дела есть. Отобедали напоследок в ресторане. Попрощаться ни с кем не успел. Поехали. И зачем только приезжали? Но мне-то, положим, грех жаловаться. Всё лучше путешествовать, чем дома сидеть. Вот бы еще за границей побывать! Поехать бы компанией. И с В., и с Демиановым, и с Супуновым, да и Мышонка бы захватить с собой, милый мальчик, неужели не увижу его больше?
В вагоне Митя снова захлопотал над драгоценным своим Ап.Григ., клал ему грелку под правый бок, заваривал чай, укутывал пледом. Я почувствовал свою отстраненность от них и немного печальное одиночество. Захотелось сказать: «я люблю тебя». И я проговорил эти слова одними губами. Ни к кому я не обращался, скорее кто-то из глубин моей души, впрочем, не знаю, кто и откуда, обращался ко мне.
2 мая 1910 года (воскресенье)
Ап.Григ. в вагоне расхворался. Привезли его, уложили. Телефонировал М. Говорили долго, пока нас не разъединили. Аполлону пустили кровь, он заснул. Я уехал домой. Дома всё то же. Даже немного странно мне это видеть, что всё по-прежнему. Скучно. Поехал к Дем. Ходили с ним в церковь. Возвращались под руку, велело потихоньку болтая. Потом пили у них чай с Сережей и его сестрой. Я рассказывал московские нравы, живописал бородачей тамошних в самом ужасном виде, впрочем, немного комически. Потом сидели в комнате у М., он показывал написанное, я выкладывал новости, какие не успел выложить раньше. Вручил ему подарки. Приблизив лица, рассматривали карты. Целовались, возились слегка.
3 мая 1910 года (понедельник)
Москва как сон. Словно и не ездил никуда. Аполлону что-то совсем сделалось худо, воспалилась печень и высокое кровяное давление. Посидел с ним немного. Так он плох, что даже страшно делается, как бы не умер. Но Митя говорит, что так уж было раза два и обошлось. Бедный Ап.Григ.!
У нас застал Ольгу. Поначалу был отчужден, и, не зная, как держаться, чувствовал себя неловко. Но они с Таней меня развеселили, и мы втроем пошли гулять в Таврический. Ольга нахваливает Т., ее успехи в рисовании. Но Т., вдруг заявила, что художницей быть не хочет, а непременно будет поступать на медицинские курсы. Это что-то новое. Гуляя, развлекались тем, что разглядывали публику. Хохотали так, что даже получили выговор от одной пожилой дамы, от чего притихли на минутку, и тут же опять взорвались. Видел кое-кого из знакомых Демианова, но не кланялся. Узнав, что Ап.Григ. серьезно болен, Т. вызвалась его навестить. Я сказал, что не знаю, будет ли это удобно, но она настаивала. Что это за подвижнические настроения у нее?
4 мая 1910 года (вторник)
Письмо от Мышонка. Я не ждал так скоро. Можно было предположить, что знакомство наше, хоть и недолгое, не оборвется просто так. Конечно, ничего не стоит узнать у Суп. адрес, ему мой, мне его. Я и планировал именно так поступить, но он меня опередил. И какое странное письмо: совсем немного приличествующих обстоятельствам, почти пустых слов для меня, а все остальное – для М.А. В письме, адресованном мне, он открыто обращается к Демианову. Зачем он делает это? Не лучше ли было адресоваться прямо к нему? Впрочем, не без объяснений на этот счет, надо сказать, довольно кратких, и, в сущности, ничего не объясняющих. Он желает иметь в моем лице посредника. Вот забавно! Выпала мне честь, перевезти его в лодочке вниз по течению. И что за мысли у него! Я его старше и, некоторым образом, опытнее, но никогда ничего подобного во мне не рождалось. Поразительно. Он же на вид совсем ребенок. Да и годами тоже не слишком-то велик. Один случай тут мне припомнился, не случай даже, так, разговор. Как-то раз, катались в автомобиле с вместе с Демиановым, Вольтером и Супуновым, мы с С. говорили о своем, и я почти не обратил внимания, не придал значения, а теперь вот всплыло. Аполлон и Дем. заметили на улице парня, давно проехали, а они всё продолжали говорить про него, и Д. сказал тихонько о нем, или о ком-то на него похожем: «вот природно педерастическая красота». Ну, бог с ними, с этими «красавцами», не о том речь. Откуда взялись в Мышонке такие фантазии? Неужели, действительно, природное? Может это быть? А со мной, тогда, как? Ведь и я считаю именно такую любовь единственно верной, но во мне это как-то рассудочно. А у них, неужели такой вот инстинкт? Но, письмо от Мышонка я получил уже вечером, а с утра сидели с Таней у больного. Несчастный Митя не спал возле него всю ночь и был нами отпущен отдохнуть. Таня уверила его, что из нее прекрасная сиделка и старательно играла взятую на себя роль. Не без успеха, надо признать. Я, как мог, утешал и развлекал бедного Аполлона. Пришедший доктор Таню похвалил, ей одной в сторонке разъяснял все предписания, таким образом, признав в ней, чуть ли, не коллегу, после чего она стала еще больше усердствовать и держаться со всеми нами несколько свысока. Еле увел ее вечером домой. Бедняжка Вольтер. Доктор советует, как только станет ему немного лучше, тут же ехать в Германию на воды. Но сам В. стонет об Италии. Только бы он поправлялся, там уж все равно куда.
5 мая 1910 года (среда)
Почти не спал. Утром с письмом от Мышонка явился к Демианову, совсем забыв, что он никогда в такое время не встает. Пил чай с его домочадцами. Они планируют уже переезд на дачу. Конечно, Д. не в восторге от такой перспективы. Но если они уедут, то в городе остаться у него не будет никакой возможности. Наконец, проснувшийся М., увел меня в свою комнату. Завязался у нас оживленный разговор, и, говоря, я все думал, что не хочется мне показывать ему письмо. И что, если не показывать? Была у нас обычная возня. Он настаивал. Я отказывался. Он обижался.
Дорóгой к Вольтеру я размышлял, совершил ли преступление, утаив от М. то, что было ему предназначено? Да полно, действительно ли ему?
Шептался с Аполлоном. Немного рассказал, немного прочел, не переставая изумляться, откуда это в мальчике? Такое!: «С детства (с детства! каково?!) осознал в себе потребность чувствовать грудью биение второго, мужского сердца. Клал одну свою ладонь в другую, представляя на ее месте, в своей большую мужскую руку». У В. глаза загорелись, еще весь черный от разлития желчи, а туда же: «Мы его с собой в Италию возьмем!» – Мы ему, Аполлон Григорьевич, не нужны. Демианов его кумир. – «Я был подкидышем, потерянным младенцем. Как со звезды упал на землю, оказавшись в мире чуждом и несовершенном, в котором обречен на мучительное одиночество. Мне было страшно. Но теперь я успокоился. Я знаю, Вы живете в мире, к которому я принадлежу. Я узнал Вас с первой строки, с полуслова понял, что нашелся».
Оставив В. отдыхать и Таню там же, ушел гулять один. Думал о том, что, все же, нужно показать письмо Д. Вряд ли ему в диковинку подобные признания. Он пишет и публикует такое, о чем другие даже думать боятся. Он единственный. В сущности, это ни что иное, как письмо к поэту восторженного юного почитателя. Вот и причина, по которой он не осмелился прямо к нему писать. А через меня, это все равно, что сказать: «Вы с таким-то знакомы? Передайте ему мои комплименты». А я-то что вообразил? Или, может быть, черт возьми, поддаться на Вольтеровские искушения и сделать, так как он придумал? Как бы это могло быть? Скажем: «Вы избрали Александра своим посредником, адресуясь ко мне, пусть же он им останется, отвечает вам его рука под мою диктовку. Пусть он станет свидетелем начала нашей дружбы, нашим проводником». Не слишком ли это? Нет. Нет. Невоможно. Разве я смогу писать за Демианова? Да и совесть мне не позволит. Дома написал Мышонку, что с нежностью вспоминаю наши путешествия по Москве, продолжаю сам немного развивать наши забавные фантазии, что Демианова еще не видел, но уверен, что ничего неуместного или недостойного в его обращении к М.А. не нахожу, и, при случае, с удовольствием расскажу ему о своем московском друге и покажу письмо.
6 мая 1910 года (четверг)
Знаю, что мне делать! Я сам предложу М. тройную игру. Что проку будет в моем обмане, даже с посвященным в него Вольтером? Разве не М.А, дороже мне всех друзей на свете? И кого я больше ревную его или маленького Мышонка? Нет, к чему тут ревность? От ревности одни неприятности, в сторону ее. У хозяина «Кошки» был с письмом от Вольтера, он обещал посетить нашего страдальца. М. едет завтра с зятем нанимать дачу. Договорились поехать вместе. Мне на лето для мамы и Тани тоже хоть бы комнатку небольшую нанять. М. очень рад, что я с ними еду, и что не исключена возможность не совсем разлучаться. Он очень тоскует, не хочет уезжать от друзей. Играл мне на фортепьяно, пел. Я все никак не мог подобрать слова получше, чтобы рассказать о Мышонке и оттого получалось, будто я страшно интригую и напускаю туману. Прочел ему китайскую сказку, которую он очень хвалил, и «французские» хулиганские стишки. Наконец, достал заветный конвертик. М. улыбался, рассказывал мне о своем детстве, как они играли с соседскими мальчишками, изображая охоту диких леопардов, бросаясь друг на друга, валя на землю и прижимая изо всех сил руками и ногами, кусая шею и дыша в ухо. От чего он испытывал странное чувство во всем теле, похожее на зуд или щекотку где-то глубоко внутри, и что заставило его очень рано начать заниматься онанизмом. Как совсем маленьким любил забираться на колени к своему дяде, и как буквально неистово ласкал и зацеловывал его, отчего тот приходил в смущение, смущение это он замечал, но до поры не понимал его. Вместе писали ответ Алеше. М. специально для него сочинил стихи, благодарил за откровенность, утешал его тем, что, став немного старше, и потому свободнее несколько от условностей, он обязательно отыщет дружбу и любовь, что юноша с таким живым умом и прекрасной душой, возвышенной, тонкой, не останется непонятым и одиноким. За этим занятием я почувствовал необыкновенную нашу близость и такую нежность к милому моему, дорогому другу, что сам первым стал целовать его в губы. А там уж и вовсе потерял голову.
Лежали тихонько обнявшись, изредка нашептывая ласки. Потом, одевшись, пили чай, М. радовался предстоящей поездке за город. Я решил нанять для своих на лето дачу, чего бы мне это не стоило.
Ах, разве было неизбежно,
То, что зовешь ты так небрежно
Fatalité[8],
тебе видней, конечно,
Легко меня ты сделал нежным,
И пуговицы пиджака
Уже не держат, и рука,
Касается волос слегка.
«Фаталитэ» твоя сладка,
Но так тобой наречена,
Что быть всегда обречена
И тайны вовсе лишена.
А я назвал бы новизна.
Я бы назвал ее борьбой
И вдохновеньем и мольбой
И нашей общею судьбой
И счастьем сделаться тобой.
7 мая 1910 года (пятница)
За город съездили чудесно. Гуляли по первой молодой травке, даже устроили небольшой пикник с пивом. Я договорился на счет комнаты для своих неподалеку от дачи, которую нанял «наш» зять. Маме хорошо будет летом побыть на воздухе и на солнышке посидеть.
Откровенничали с М, о Правосудове. Да, у них была связь. Тяжелая, мучительная для обоих любовь, которая может еще и не вполне прошла. Но М. хочет освободиться. Он обижен на Прав., оказывается, в нехорошую историю между ними была еще и женщина замешана. А еще оказалось, что его новая повесть, недавно напечатанная в «Ручье», всю эту историю рассказывает почти без всяких изменений. И все участники почти своими именами названы. Смешно, что Окунева, близкого друга Прав., он нарек Карасевым. Повесть я читал, и теперь мне все ясно. И на многое я смотрю другими глазами. Как ни странно, после наших откровений, я стал даже несколько лучше относиться к Правосудову.
8 мая 1910 года (суббота)
С хозяином «Кошки» почти договорились. Дает нам в аренду свою ресторацию на 3 года, с правом перестроить помещение под свои нужды. Так что, даст бог, будет у нас театр. Скоро начнем с Дмитр.Петр. хлопотать. Только бы А.Г. поправлялся скорее.
Был у Ольги. Сплетничали с ней о Правосудове с Демиановым. Та женщина – ее хорошая подруга, и Ольга рассказала много такого, о чем М. умолчал. Хоть у них со своей стороны совсем другой взгляд на эту историю, я, все же, склонен считать пострадавшим М. Он свой для меня, а они чужие, он мне бесконечно близок, а они почти безразличны. Разумеется, я приму его сторону, что бы ни было. И считаю это правильным. Кто же пожалеет и посочувствует нам сердечно, как ни близкие, а истинно близких так мало. Мы должны беречь друг друга. Ольга показывала новые картины. В одной я узнал Таню, но надо признаться, с трудом. Такою-то видит О. ее внутреннюю суть. Что-то сомнительно. Но критиковать не стал. Попросил ее нарисовать для меня портрет Демианова, хоть она почти враг ему, а все-таки, очень любопытно как она его понимает.
В., откинувшись на подушки, с закрытыми глазами: «Как там ваш цыпленочек поживает?» Я сначала не понял, о чем он, подумал, не бредит ли, а потом догадался, что он просто нехорошо запомнил, как я прозвал московского Алешу, и засмеялся: «Он мышонок, Аполлон Григорьевич, не цыпленок». – «Да? Жаль. Цыпленок был бы повкуснее». Милый наш гастроном!
9 мая 1910 года (воскресенье)
Гуляли с Демиановым в Таврическом, ходили под руку, рассматривали типы. Потом пили у них чай, а после чаю играли в карты с зятем и Сережей. Мы с Сережей выиграли. Побыли немного с М. в его комнате, когда я уходил, он не пошел меня проводить, а остался лежать на кровати, кажется, снова голова. Таню встретил возле дома, возвращавшуюся от каких-то знакомых. По-моему, она сильно повзрослела за последнее время, но для меня так и останется маленькой девочкой, какой я ее с детства видел. Хоть бы одним глазком взглянуть на всех нас через десять или двадцать лет. Что-то с нами будет?
10 мая 1910 года (понедельник)
Целый день провел в присутственных местах, измотался, отупел. Вечером от Вольтера долго говорил с М. по телефону. Т.к. я был немного не в духе, слегка ссорились и нудно объяснялись, но под конец помирились.
Таня взялась учить латынь. Принесла из библиотеки медицинские книжки. О. обещает сводить ее к Петрову на колокольню. Он живет где-то высоко в мансарде и любит сидеть у окна, обозревая оттуда окрестности, а поскольку у него на все свой взгляд и суждение обо всем со своей колокольни, то его обиталище так и было прозвано. Забавно выходит, что Т. попадет на его колокольню раньше меня и раньше с ним познакомится. Я даже испытал что-то вроде ревности. Не могу сказать, что Петров заранее мне симпатичен, скорее наоборот, но он связан с Демиановым, а все что с ним связано, важно для меня.
11 мая 1910 года (вторник)
Аполлон в больнице. Я пришел, а его нет. Дм.Пет. рассказал, что вечером ему опять стало хуже и доктор объявил о необходимости операции. Аполлона увезли. Я очень испугался. Кажется, в первый раз так сильно испугался за кого-то. Что, если он не выдержит, умрет? В больнице меня к нему не пустили. Поехал к М., известил его. Оба сидели мы притихшее, подавленные. Но потом ничего, развеселились. У М. опять страшная нехватка денег, дал ему, сколько мог, впрочем, немного, что у меня есть? Говорили о литературе. М. очень интересно рассказывал о древних поэтах. Умнейший, образованнейший человек, не перестаю восхищаться. Я попросил его почитать. Он читал новые главы из романа, а потом еще дневник. Роман выходит чудесный. Мифы и легенды эллинов, перенесенные в современность. Древние боги снова спускаются с Олимпа на землю, приняв человеческое обличие, обряжаются в костюмы по последней нашей моде, разъезжают в автомобилях, а людей заставляют переживать необычайные приключения. Я так сладко замечтался, слушая. Демианов для меня и сам как небожитель. Может он один из них? Выходили погулять ненадолго, вернулись снова к нему. Остался ночевать.
12 мая 1910 года (среда)
Проснувшись и выпив чаю, сразу же поехали в больницу, проведать В. Но выяснилось, что к нему еще не допускают. Я отправился по делам, а М. куда-то к знакомым. Дорогой мне пришло в голову, что вот и я и Дмитр.Петр. продолжаем хлопотать о передаче «Кошки» и по другим делам, как будто ничего не случилось. А ведь, в любой момент может оказаться все это ненужным, начнутся другие хлопоты с похоронами и наследниками. О, как нехорошо мне сделалось от таких мыслей. Неужели может это быть, что не будет Аполлона? Еще я подумал о Мите, как он останется без Ап.Григ., и о том, оставит ли Аполлон ему что-нибудь после себя. Вероятно, они уж думали об этом, а может быть, даже и говорили. Какой это мог бы быть разговор? А.Г. говорит слабым голосом, держа его руку: «Вот, Митя, завещаю тебе столько-то тысяч». А Митя отвечает, всхлипывая: «Мне ничего от вас не нужно. Только бы вы жили». Или наоборот, спокойно и твердо: «Я в вас, Аполлон Григорич не сомневался». Впрочем, вряд ли Митя холоден и корыстен, он в своем А.Г. души не чает. Желал бы я иметь такого слугу? А кто бы не желал? Всякий не откажется от подобной преданности, но не всякий сам на нее способен. Нет, я не смог бы так служить. Даже М.А.
13 мая 1910 года (четверг)
Мышонок снова пишет нам обоим в одном письме. Я сначала хотел отнести М. не читая, но потом, все же, прочел сам. Он очень удивляет меня. В нем чувствуются совершенно необычные задатки. Вероятно, из него выйдет нечто. Выдающееся, возможно. Думаю, что Демианов это почувствовал. Я тоже задумывался, задумываюсь и теперь о себе, о любви, обо всем, что несколько выходит за рамки в этой жизни, но у меня всё совершенно иначе. Спокойнее и тупее. Вот я и удивляюсь снова и снова, откуда в нем это? Какой-то необъяснимый душевный надрыв. Мучительный поиск, именно мучительный, беспокойный. И ищет-то он гораздо глубже. Фантазии его смелее и изощреннее. Какой гибкий ум и какая-то врожденная искушенность. Во мне снова червячок ревности закопошился, Демианову он будет больше меня интересен, да что там Демианов, он сам по себе больше меня интересен во всем. Очевидно, что он не оригинальничает нарочно, а действительно оригинален и немного растерянно чувствует себя среди других, обыкновенных людей, ничем не примечательных. И так велика в нем тяга отыскать себе подобных. У меня ничего этого не было. Меня как будто подобрали на дороге, так, походя. Я просто плыл себе по течению, конечно задумываясь, куда же это меня несет, но грести почти не пытался. И осознавать такое о себе обидно мне.
Бедный Вольтер! Жутко думать, как это разрезали его и снова зашили. Т. объясняет мне об операциях с ученым видом, смакуя подробности. Медицина теперь ее болезнь. Мама, кажется, довольна. Т. и раньше за ней хорошо ухаживала, а теперь уж взялась лечить, каждый день сочиняя новые способы. Комнату свою постепенно превращает в лабораторию, натащила всяких склянок. Почему-то я не могу вполне всерьез принять ее увлечение, хотя сам понимаю, что напрасно.
14 мая 1910 года (пятница)
Днем хлопоты. Вечером Ольга водила нас с Т. на колокольню к Петрову. Я так и знал, что он мне не понравится. Какой-то он весь религиозно-мистический. Умничает неприятно, временами юродивого напоминает. Нынешняя жена у него четвертая, что ли, по счету. Что они в нем находят? Хотя, она тоже неприятная. А что Демианова привлекает, я, может быть, догадываюсь, впрочем, не вполне. Петров заявил, что мы с ним заочно хорошо знакомы. Забавно. Неужели, он обо мне наслышан больше, чем я о нем? На колокольне своей он на всех имеет большое влияние, у них там прямо культ его, между тем, сам он, очевидно, пребывает под влиянием жены. Больше не пойду туда. Точно колокольня. Петров главный колокол, а все остальные ему подзванивают, уже только оттого, что вокруг него оказались и деваться некуда. А за веревки жена его противная дергает. Между прочим, он надавал мне целую кучу ненужных литературных советов. У них там, наверное, одно из любимых занятий, поучать начинающих литераторов. Да я-то о своей «литературе» получше его знаю. Желание хоть отчасти приблизиться ко всему, что для меня теперь так дорого – вот что такое мои, с позволения сказать, стихи. Но уж кому-кому, а Петрову вовсе не нужно об этом знать. Он для меня совсем чужой. Любопытно было бы взглянуть, как Демианов держится с ним. А, может, мне лучше не видеть этого.
15 мая 1910 года (суббота)
Наконец допустили меня проведать А.Г. Он держится молодцом. Теперь уж я не боюсь, что умрет. «Кошку» берем в аренду с июня, к новому сезону, как раз, все будет готово. Оформлять театр будут Супунов и Правосудов.
Новое занятие нашлось для нас с М.А. – письма Мышонка. Вместе читали, долго говорили о нем. М.А. верит всему, что он пишет. Я же, зная Мышонка, многое принимаю просто за его фантазии. Вот, например, что касается того офицера, уж больно он идеальный персонаж и как-то очень уж быстро вышел на сцену. Слишком впрок пошли Мышонку советы дорогого нашего учителя, которые он даже не начал еще толком давать. Мы с М.А. заключили пари, я уверен, что подпоручик фантазия, он – что, несомненно, реальное лицо.
Таниным экзаменам скоро конец. Буду перевозить их с мамой на дачу. Возможно, поедем вместе с М.А. и семейством.
Демианов показывал портрет, писаный с него в юности. Поразительно, почти точная копия классической головы Антиноя. Я и раньше слышал о том, что он был похож, но чтобы так! Возможно, художник намеренно преувеличил тогда сходство, но теперь, взглянув на М. несколько другими глазами, я вижу эти губы и нос действительно необыкновенно похожи. Глядя на античные статуи, белые как мел, я никогда не мог увидать в них живых людей, а теперь вот отчетливо представляю живого Антиноя. А, между прочим, у нашего Антиноя тоже был в юности офицер, даже князь. Может быть, поэтому он так верит в мышонкиного, а, может быть, и у него это прекрасная легенда. Тогда получается своего рода заговор между ними, молчаливый и трогательный.
Миша хочет ехать в Москву, а не на дачу. Я его понимаю. Впрочем, в Москве тоже будет дачный сезон, а С. мы уже выписали в Петербург.
16 мая 1910 года (воскресенье)
Таня спросила меня, как-то вдруг, ни к чему, часто ли я вспоминаю папу. Я ответил, что часто. Но так ли это в действительности? Пожалуй, что нет. Но я не чувствую ни раскаяния ни неловкости. А еще я подумал, что папа, пожалуй, не одобрил бы моих знакомств. Особенно с Д. Впрочем, если бы он был жив, все было бы по-другому. Я и в театре бы не оказался, кончил бы гимназию, пожалуй, и в университет бы поступил. Да что толку теперь об этом думать. Нет. Я почти не вспоминаю его. Я его любил, когда он был жив, но теперь я совсем не чувствую, что мне его не хватает.
С Митей и М.А. ходили в церковь, ставили свечки за здравие А.Г. Потом ходили гулять в Таврический. М.А. был невесел и я что-то затосковал. Все же, мысль об отце меня стала занимать. Смог бы он запретить мне что-нибудь, когда я уже не ребенок, ну, хоть вот ходить в Таврический с грамотными, как Демианов выражается, друзьями? А еще смешно, что Мышонок верит в свою исключительность, в особое свое предназначение, именно потому, что он не таков как другие. Видел бы он, сколько их тут, особенных, у нас по Таврическому слоняется. Нет. Это что-то я слишком зло иронизирую, разве можно сравнить Демианова с ними со всеми! Несомненно, он стоит выше. Да и у Мышонка очевидны большие задатки. Завидую я им что ли? Un peu, peut-être[9].
17 мая 1910 года (понедельник)
Был у Правосудова в мастерской. Так славно мы с ним посидели, попили чаю, он показывал свои новые рисунки и эскизы костюмов. Я попросил его сделать для меня копию с портрета Демианова и рассказал про Антиноя. Правосудов улыбался, он согласился со мной, что теперь, пожалуй, сходство М.А. с идеальным юношей не очевидно, но если знать, и отыскивать специально, то вполне можно найти. Я в обычной своей манере расчувствовался слишком и слишком разоткровенничался, чего немного стыжусь. Рассказал, какое впечатление произвел на меня тот портрет, когда я впервые его увидел и еще про девочку из своих снов. Правосудов человек очень сдержанный и спокойный, он сделал вид, что не заметил моих откровений, тех, что слишком, а с некоторой карикатурностью своего творения согласился. Расстались мы очень тепло, он звал меня к себе. Девочку с лицом Демианова он изъявил желание нарисовать непременно.
Бедный А.Г. еще слишком слаб. Все мы, как можем, утешаем и жалеем нашего дорогого Вольтера. Митя возле него почти неотлучно, зарос, осунулся и подурнел. А.Г. недоволен этим. Вообще он очень капризный больной, довольно малейшего повода, чтобы его раздражить или вызвать недовольство. И нельзя упрекать его: он так любит жизнь и удовольствия, которых теперь лишен. Вместо изысканных кушаний – пресные кашки и горькие лекарства, вместо путешествий – постоянное лежание, вместо тонких духов – бесконечный дурной запах, вместо хорошеньких веселых мальчиков – нудный небритый Митя.
18 мая 1910 года (вторник)
Мишель не хочет на дачу. Прямо до слез доходит. Казалось бы, что ему? И фортепьяно там есть и те же все занятия. На природе писателю разве не благодать? Куда там! Пойди, уговори его, слушать ничего не хочет, он оплакивает разлуку с «милыми друзьями».
Как обещал, зашел за Правосудовым, чтобы свести его навестить Вольтера. Он показывал эскизы костюмов к новому балету. Ожидая, пока он будет готов, я перебирал его старые рисунки и несколько выпросил себе в подарок. У В. посидели недолго. А.Г., вроде бы, чувствует облегчение, дай-то бог! Выйдя из больницы, пообедали с Сергеем в ресторане. Мне нравятся очень его манеры. Он абсолютно спокоен всегда и во всем. Представляю себе их вместе: импульсивный Демианов и Правосудов – сама невозмутимость. Прямо как Ленский с Онегиным – лед и пламень. Мы всё говорили, как ни странно, больше я, а Сергей молчал и улыбался своей особой улыбкой спокойной и оттого печальной. Оказывается, с Ольгой у него тоже был роман, по крайней мере, я так догадался. Кстати, Ольга хочет устроить нечто совершенно невероятное. Выйдет ли у нее, не знаю, но она затевает праздник в честь Аполлона, у Аполлона же в доме и в честь его выздоровления, но без него самого, так как сам-то он все еще в больнице. Впрочем, такие безумия очень в духе всех, так сказать, «наших». Думаю, что многие соберутся. На прощание с Сергеем мы почему-то обнялись. Так просто это вышло без всякой принужденности, я бы сказал естественно. Вот неожиданная дружба! Удивительно.
19 мая 1910 года (среда)
А.Г. очень смеялся, узнав про затею своей племянницы: «без меня меня женили», но, кажется, он даже доволен. Мишель предложил этот праздник Аполлона устроить в Античном духе. Всем нарядиться в туники, выбрать жрецов и виночерпиев, в виночерпии, разумеется, самых красивых, потому что на них должны быть только набедренные повязки. А.Г. потребовал тогда соорудить его статую в полный рост и жертвоприношений подле нее. – «Заколите мне молоденького козленочка». Но после сошлись на том, что с козлятами он будет управляться сам по возвращении, а мы уберем изваяние цветами и плодами. И всю ночь будем танцевать вокруг. Возвращаясь от Аполлона, М. опять канючил, что не хочет уезжать, я напомнил ему про праздник, он развеселился, но без прежнего воодушевления, скорый отъезд на него, все же, давит. Я рассказал ему про беседы с Правосудовым, он посмотрел задумчиво и говорит: «Берегитесь его». Я сделал удивленное лицо, он ответил на это: «Сергей Юрьевич прекрасный человек, безусловно, один из лучших, но он может сделать больно, сам того не желая и не подозревая, может быть». И помедлив немного: «К тому же он женат». Что он такое себе вообразил? Кажется, я никаких поводов для подозрений не давал. Проводил его и, не заходя, отправился домой пешком. Купил дешево рамки для рисунков Сергея, развесил по стенам у себя в комнате.
20 мая 1910 года (четверг)
Семья М.А. и мои переехали на дачу, а сам он пока ко мне. Не так я себе все представлял, по правде сказать, вообще никак не представлял. Когда он уже перебрался, я почувствовал досаду и раздражение. Не на него, ни в коем случае, а так. Я очень хорошо разобрался в том, что почувствовал, потому, что меня самого удивило, что это я? Разве Мишель неприятен мне? Разве не свершилось так скоро и так нежданно, то о чем оба мы мечтали? Жить вместе, пить чай вдвоем в своем укромном гнездышке, никому больше не принадлежащем, тихонько заниматься каждый своим делом, а потом весело вместе. И поцелуй на ночь с пожеланием доброй ночи. Как это все было для нас желанно, чудесно и недоступно. И вот, пожалуйста. А раздражился я на то, что своим скорым переездом мой дорогой друг лишил меня возможности хотя бы недолго насладиться полным одиночеством и свободой. Когда еще представится случай побыть наедине, без своих, полным хозяином себе и своему одинокому обиталищу? Так что, поначалу я был сильно не в духе. М., конечно, все видел, вряд ли он понимал, в чем тут дело, но потом, когда, я увидел, что он замечает мое недовольство и смущен, тут же все прошло. Милый, добрый, дорогой мой Мишель! Только бы он не подумал, что я не рад ему, или огорчен его соседством. Сам-то он радовался как ребенок, весело устраивался и планировал столько всего, что можно было подумать, мы теперь всегда так будем жить. Первое чаепитие наше слегка было лишено своей несравненной прелести, отчасти потому, что я все еще немного дулся, хоть и запретил себе, отчасти же просто оттого, что наяву происходило, а не в мечтах.
Никуда не выходили, были вдвоем. Раздевшись при известных обстоятельствах, после даже одеваться не стали, а так и ходили весь день, кого нам стесняться? М. заявил, что на праздник Аполлона я должен стать одним из виночерпиев, а виночерпии непременно, по его мнению, должны ходить совсем обнаженными. Я видел, что он говорит серьезно, но сделал вид, что принял все за шутку. Целый день пробаловались, какие там занятия! Я подумал, сможем ли мы вообще, живя вместе заниматься делом? Впрочем, это новизна и любовь так действуют. Все же, я люблю его. Несомненно люблю.
21 мая 1910 года (пятница)
Пока Мишель ходил бриться и стричь волосы, я заглянул в его дневник. На этот раз я действовал почти спокойно, не как тогда, когда не мог от волнения разобрать ни слова. Я хотел знать, насколько отличается то, что он там пишет, от того, что считает возможным зачитывать мне или друзьям. И оказалось, что почти совсем не отличается. Я ожидал невероятных откровений, интимных признаний, может быть, даже выражений непристойных. Ничего такого. Все написано ровным, приличным тоном, как будто, специально для того, чтобы потом читать публично. Я еще подумал, что же это за дневник, в котором даже с самим собой нельзя быть вполне открытым и искренним? А вообще-то, Демианов, как большой писатель, вполне может рассчитывать на то, что дневники его впоследствии будут опубликованы, тогда конечно, нужно быть осторожным. Так или иначе, обо мне написано мало, почти ничего. Вообще за последние дни никаких оценок событий или выражений чувств, так констатации: кто к нему приходил, куда и с кем ходил он сам, что читал, что писал, что играл. Немного бытовых подробностей, немного о том, что нет денег. Но я мало успел прочитать, боялся, что М. меня застанет. И зачем я кинулся к дневнику? Искать подтверждений? Каких и чего? Ведь он именно ко мне перебрался вместо дачи, а не на колокольную к Петрову, скажем. И пусть в дневнике обо мне мало написано, это может говорить о том, что всё между нами хорошо, как нельзя лучше. Ведь, все же, ту его историю с Правосудовым он очень переживал и подробно тогда описывал.
М. пришел из парикмахерской благоухающий и довольный. Он очень любит, когда его бреют, стригут, слегка касаясь головы и лица, особенно когда парикмахер молодой и красивый. И в баню любит ходить.
Итак, у нас теперь семья
Такая странная для многих
Под одеялом наши ноги
Сплелись – ищи где ты, где я
Так скоро воплотились в явь
Все наши робкие надежды,
И перепуталась одежда,
Где тут моя, а где твоя?
Ты надеваешь мой жилет,
Не глядя, твой беру пиджак,
И мы идем гулять вот так.
И в мире нас счастливей нет.
22 мая 1910 года (суббота)
Супунов приехал. М. весел и доволен – все друзья рядом, и никто его не неволит. С., как раз, очень вовремя явился прямо с корабля на бал. Вот мы все вместе, вчетвером, Мишель, Супунов, Правосудов и я, держась под руки, отправились на Ольгину soirée[10]. О.И. постаралась на славу, ничего подобного я и представить себе не мог. Вопреки мечтаньям М., вечер был не античный, а восточный. Гостиную всю завесили пестрыми тканями, натащили туда редкости, привезенные Аполлоном из Китая и Индии, воскурили благовония. Гости расположились прямо на полу, на ковре и мягких подушках. У некоторых дам лица были густо намазаны белилами, а в волосы воткнуты длинные спицы. Мужчинам роздали халаты. Пили китайский желтый чай и сливовое вино. Еще была водка в очень маленьких чашечках, почти с наперсток, про которую Ольга утверждала, что она рисовая. В центре того, что было вместо стола, помещалась сахарная фигура толстяка в позе лежащего Будды с лицом А.Г. Поначалу все были очарованы такой обстановкой, но потом потихонечку стали разбредаться из восточной гостиной в европейские комнаты, подышать свежим воздухом и посидеть на стульях и диванах. Как всегда образовались кружки, наша компания собралась вокруг рояля. Музыкантов оказалось много, играли всё подряд. Мишель играл сначала один, потом к нему присоединился молодой человек с кларнетом, которого никто из нас раньше не знал.
Я позавидовал кларнетисту. Как нехорошо, что сам я ни на чем не играю. Это просто-таки любовный акт совершался между ними. Как они кивали головами, то ли в такт, то ли в знак одобрения друг другу, как улыбались, выражая удовольствие, именно удовольствие, то ли от возникшего взаимного понимания, даже близости, я бы сказал, то ли просто оттого, что музыка хорошая получается. А, кончив произведение, смотрели друг на друга с такой благодарной нежностью, что наблюдать за ними мне даже неловко сделалось. Ах, жаль, что я не кларнетист!
Когда собирались уходить, я позвал Суп. и Сергея пойти вместе к нам, посмотреть, как мы теперь живем. Мне показалось, М. обрадовался, что друзья идут к нам в гости, а потом оказалось, что он хотел побыть вдвоем и поэтому слегка надулся, надеюсь, кроме меня этого никто не заметил. С.Ю. было очень приятно увидеть свои рисунки у меня на стенах. Суп. тоже обещал мне кое-что подарить. О Мышонке он ничего нового не знает, тот перестал к нему ходить почти сразу, как я уехал, так что наше с М. пари покуда осталось неразрешенным. Друзья очень хвалили наш с Мишей уклад, поздравляли. Правосудов заметил, что такая жизнь – именно то, чего Мишель хотел очень давно, и я такой человек, о котором он всегда мечтал. М. ничего не ответил. А я понимаю его, никогда нельзя быть вполне довольным, тем, что имеешь. А уж когда получаешь то, чего давно желал, начинает казаться, что хотел совсем и не того. И, все же, у нас хорошо. И хорошо, что мы вместе теперь. Оставшись одни, пили чай почти до утра, курили, ругали Ольгину вечеринку и расхваливали всех своих, шутили, смеялись, нежно укладывались спать и еще продолжали посмеиваться засыпая.
23 мая 1910 года (воскресенье)
С Супуновым и Правосуд. Были у А.Г. Он очень доволен, что художники наши снова вместе и возьмутся теперь за работу. Они показывали эскизы, А.Г. все понравилось. Цвет лица у него намного лучше. По дороге домой купил для М. желтые розы. Он очень растрогался. Читал мне кое-что из написанного. Занимались. Ольга заходила к нам. Удивлялась, что Тани нет, хотя, я, кажется, говорил ей на вечере. Немного попикировавшись с М., ушла. Уходя, звала меня заходить, но мне теперь не до нее. Письмо от наших. Устроились хорошо, зовут нас, приветы, поцелуи. Как хорошо и легко на сердце, когда все близкие довольны. Ходили в «Кошку» смотреть, как работают художники. Потом все вместе ужинали в ресторане. Я очень счастлив.
24 мая 1910 года (понедельник)
Ездили на дачу, смотреть, как там устроились все наши. Погода чудесная. М. сказал, что нас встретили, как молодоженов. Наверное, он имел в виду, что все при виде нас улыбались приветливо и немного смущенно. Для М. приготовили чудесную комнату, мы в ней и поселились, а к моим ходили в гости. Таня резвится на травке, как маленькая. Книги ее заброшены, на вольном воздухе не до занятий. Ходили гулять большой компанией. Среди прочих родственников М. была племянница, маленькая девочка, уже внучка другой его сестры. Такое милое, необыкновенно тихое дитя. Подойдет, совершенно молча, без всяких предисловий заберется на колени, обовьет шею, ручками и сидит. У меня даже сердце замирало. Неземное существо и глаза такие большие, только голубые, а не черные, а то бы я принял ее за ту самую девочку из моих снов. Мне и раньше не нравились шумные, суетливые дети, а теперь я совсем их не принимаю. Вот мой идеал – дитя задумчивое, кроткое, смотрит тихо и внимательно, от нее покой и нежность исходят, и головка ее восхитительно пахнет. Так и просидел бы всю жизнь с ней на коленях. Чудо девочка! К вечеру М. начал капризничать, заявил, что я его избегаю. Слово за слово между нами сделалась неприятная сцена. Я лег спать, с намереньем уехать рано утром без него в Петербург.
25 мая 1910 года (вторник)
Проснулись поздно. Вдвоем пили чай на террасе. Я хотел сделать вид, что все, что было вечером, забыто, но М. еще немного дулся. Гуляли вдвоем. Вяло и нудно, как бы нехотя, объяснялись, но ни к чему не пришли. Из Петербурга телеграмма: «Ап.Григ. дома». Я ушел обедать к своим и от них, не простившись, уехал. Кажется, это разрыв, но я решил, будь что будет.
Дома наскоро привел себя в порядок и побежал к А.Г. У них прямо идиллия. Милый Аполлон понемногу становится прежним, раздражительность его проходит вместе с болезнью. От А.Г. зашел навестить Сергея, немного жаловался ему на М. Он улыбался, сказал, ему все эти игры знакомы. Я возмутился, заявил, что не намерен играть своими чувствами и другим ничего подобного позволять не хочу. Он меня утешал, за что я очень благодарен ему. Пожалуй, с Мишей вышло некрасиво, нагрубил, бросил его на той самой даче, куда он так не хотел ехать. Ужасно. У Сергея долго сидел, так что, наверное, надоел ему. Но как-то не хватало духа пойти одному домой. Дома письмо от Мышонка, снова нам обоим. Милый мальчик, а ведь он нам сразу стал писать двоим, как будто предчувствовал наше совместное житье. Впрочем, какое уж оно теперь совместное. До поздней ночи я все прислушивался к шагам на улице, к скрипу дверей, к доносящимся разговорам, подбегал к окну, выглядывал. Но нет, конечно, М. не приедет, это совсем не в его характере, он и горд и обидчив, а я бы, пожалуй, явился, как ни в чем не бывало.
26 мая 1910 года (среда)
Еще накануне, полностью раскаявшись, собирался, как можно раньше, уехать за город к Демианову, но проспал, а потом и причина нашлась остаться в Петербурге – записка от Вольтера с вызовом. И если был между нами разрыв, то он увеличивался, а шанс все поправить уменьшался. Но я снова подумал: «будь что будет», и побежал к Ап.Григ.
Я уж успел немного отвыкнуть от Аполлона, того, прежнего. Все время, пока он был тяжело болен, я держался несколько отстраненно, честно говоря, вообще не знал, как себя с ним держать. И нельзя сказать, что мое, своего рода, отчуждение мгновенно исчезло, я никак не мог преодолеть вошедшей уже в привычку скованности. К тому же неприятности с Демиановым меня томили, и обновленный Аполлон смущал вновь нахлынувшим на него жизнелюбием.
Как можно скорее освободившись, поехал в кошку, навестить Суп. и Правосудова. И вот нежданная радость: в кошке друзья-художники, а с ними Демианов! Я был так рад его видеть и так искренне выразил свое чувство, что он уже никак не мог продолжать дуться. Да и при друзьях делать сцены было не очень-то ловко. Примиренные и счастливые мы под руку отправились домой.
Что, если бы существовал мир, в котором у людей нет разделения полов, а пол у всех один? Любовь была бы в нем не сладкой приманкой для осуществления процесса размножения, а единственно наслаждением. Или в таком мире не было бы любви? Нет, нет, невозможно. Безусловно должна быть. Ведь и в нас искренняя привязанность, преданность и нежность не заключаются же только в стремлении произвести существо себе подобное. Вот, говорят: «любовь двух мужчин противоестественна», но в таком случае, противоестественна и любовь между мужчиной и женщиной, которые просто наслаждаются своим союзом, а потомства не дают. А для М.А. его потомство – его произведения, стихотворения, пьесы и романы, и эти его детища намного переживут других младенцев, в тот же год рожденных. А я способствую, сколько могу, их появлению, да еще и своих уродцев понемножку пложу. Так что наш брак тоже не бесплоден.
Как сладко полежать, обнявшись, и помечтать вместе. О будущем, об иных мирах, о приключениях. Какое удовольствие порезвиться вдвоем, как детишки, обо всем на свете забыв, как будто нет никого кроме нас не только в комнате, но и вообще нигде. Помню, подростком выезжая за город, я любил пойти, куда глаза глядят, и, нарочно выбирая безлюдные места, смотрел вокруг, представляя, что больше нет людей на земле, а только я один. И сладкий возвышенный ужас меня охватывал. Но быть во всем мире вдвоем – это совсем иное, это не страшно и не торжественно, а легко и весело.
27 мая 1910 года (четверг)
Выдумали купить себе кольца, которые скрепляли бы наш союз. Обошли в поисках все магазины, но ничего особенного не нашлось. Мишель хотел уже купить хоть какие-нибудь, но я был непреклонен: или что-то необыкновенное или вовсе ничего. В конце концов, он согласился подождать. Надо признаться, что несколько великолепных вещиц мы, все же, видели, но легко догадаться, почему мы оба скромно умолчали о желании их иметь.
Да. С деньгами, теперь нехорошо. Почти всё, что у меня было отложено, истратилось. Но я стараюсь слишком не драматизировать, как-нибудь устроимся. Вся надежда, конечно же, на А.Г., которому лучше, слава богу. Ходили с Мишей его повеселить. Явились хоть и разочарованные поиском колец, но веселые. Вольтер тут же заявил о нас: «У этих медовый месяц». Все замечают наше новое счастье, даже и без колец. Пока мы с Дмитр.П. занимались делами, М. развлекал Аполлона. Потом я уехал по поручениям, а М. к художникам в наш, теперь уже, театр. Я заказал новую вывеску и нанял рабочих снять старую. Заглянул к друзьям, застал их за маленькой пирушкой с пивом и селедкой. М в восторге от преобразований и весь в краске. Вернувшись к Вольтеру, нашел у него доктора, а самого А.Г. уже одетым и сидящим в кресле. Доктор советует ехать на воды, и они долго перебирали курорты, Кавказ и заграничные, некоторых названий я и слыхом не слыхивал раньше. Так ни на чем не остановившись, они сошлись на том, что ехать нужно в Германию или во Францию, мне тут же пришло в голову: «Как славно! Ведь и я с ним поеду». Но потом подумал, может быть, он меня и не возьмет. Зачем я ему там? Да. Пожалуй, на заграничном курорте я буду вовсе бесполезен. Я очень огорчился, что не еду, хотя обо мне еще и речи не было, но я уж был убежден, что остаюсь. Мигом мое отчуждение от Аполлона исчезло, вот он сидит такой полненький, добрый, милый и уедет, оставив меня здесь с Дмитр.Петр., переделанной кошкой и прочими, в сущности, пустыми хлопотами. Душа моя заныла. После ухода доктора А.Г. о заграничной поездке не сказал ни слова. И это стало для меня верным знаком того, что я к путешествию никакого отношения не имею. Меня не берут, а потому и говорить со мной о том не стоит.
28 мая 1910 года (пятница)
Дворник расспрашивал Демианова, кто он такой, откуда, надолго ли у меня поселился. Мишель очень подробно рассказал мне их разговор, лицо его при этом стало многозначительным и лукавым. М.А., как всегда в своем духе, был с ним приветлив, шутил, и, в конце концов, довольно коротко познакомился, хотя, в сущности, что ему до нас? Распространяясь всегда о своей любви к существам возвышенным и утонченным, на деле Демианов предпочитает водиться с простыми парнями и мужичьем, заигрывает с банщиками, приказчиками, парикмахерами и проч. Вот с дворником теперь подружился. Справедливости ради, признаю, что сам-то я ни бог весть кто, и возможно, соответствуй Мишин практический интерес его возвышенным идеалам, он и не взглянул бы в мою сторону. Я в свою очередь стараюсь, как могу, понимать его и поддерживать в его занятиях. Вместе сочиняли сюжет для новой пьесы, так что, мои там будут два персонажа. М.А. еще не надоело быть моим наставником, и он меня учит. Может быть, даже более охотно, чем я учусь. Нет, нет, это я на себя наговариваю, все же, я стараюсь и мне приятно его наставничество. А еще мы изучаем друг друга. Стоя рядом и сидя, и лежа, каждую родинку на теле другого и волоски, и складочки, каждый участок обследуем друг у друга пристально и скрупулезно. Как будто, вполне вступив в права обладания, каждый хочет обследовать свои владения насколько возможно тщательней. Так же и с разговорами, малейшее несогласие вызывает теперь не легкое ироничное желание переубедить другого, и, склонив чужого на свою сторону, сделать своим, а какое-то удивленное недовольство: «как это свой может быть несогласным и уподобиться чужому, непонимающему и не чувствующему?!» Зато большое облегчение и удовлетворенный покой настает, когда недоразумение разрешается. Слава богу, мы еще не ссорились слишком серьезно.
Вышел, вызванный запиской Аполлона, и отметил, что наш дворник никогда раньше не приветствовал меня так громко, так широко не улыбался мне и так низко не кланялся. Что бы это значило?
У тебя за ухом звезда.
Это знает твой парикмахер.
У тебя на бедре полумесяц.
Это видел и знает твой банщик.
Твои плечи слишком тонки и хрупки.
Это знает давно твой портной.
Твоя улыбка всегда очаровательна.
Это знает теперь наш дворник.
Но я. То, что знаю о тебе я,
Даже сам о себе ты не знаешь.
29 мая 1910 года (суббота)
Я думал, что Вольтер или зять ссужают М. деньгами, когда нет гонораров. Ничего подобного. Оказалось, что он получает от кого-то, чуть ли не каждый месяц, чек на довольно крупную сумму. Он об этом ничего не рассказывает. Расспрашивать мне неловко, но все же, очень интересно, кто этот его тайный покровитель? И в какой они состоят связи?
Купили кольца, обедали в ресторане, гуляли в Таврическом. Мне приятно и лестно осознавать, что устанавливается у нас свой порядок житья, совершенно другой, отличный от того, который был раньше, когда я жил с родными. И квартирка наша преображается, скоро ее никто не узнает. Только иногда мне становится не по себе от мысли, что же будет потом? Кончится лето, и мои вернутся с дачи, а еще раньше Вольтер уедет за границу. Нанимать еще квартиру кроме этой мне не по средствам. Конечно, учитывая, этот ежемесячный Мишин чек, мы роскошно могли бы жить, но теперь мне ясно, почему он всегда без денег. Потому, что тратит безрассудно, ни с чем не сообразно, к тому же всегда имеет громадные долги. Отдаст и ничего не остается, снова занимает. При всем при том, умудряется сам еще в долг давать, художникам и всем, кто попросит. О том, чтобы упрекать его в этом, или увещевать как-то, и речи нет. А, все же, мне страшновато за наше будущее.
Ап.Григ. на воды поедет в Баварию, название курорта я сразу не запомнил, что-то английско-поцелуйное, Киссинг, или в этом роде. Да и на что мне? Я-то остаюсь. Вот пришлет мне оттуда открытку с видами, буду рассматривать ее 100 раз и по ней выучу. А ведь в гимназии у нас был немецкий, но теперь уж не помню почти ни слова. Наверное, там и по-французски все говорят. Но французский-то мой через пень-колоду, а зачем человеку за границей секретарь, не знающий языков? Разумеется, остаюсь. Я еще не решался спрашивать об этом прямо, но тут и спрашивать нечего, так все ясно.
30 мая 1910 года (воскресенье)
Целый день у нас гости. Миша знает невероятное количество людей, как он их всех помнит, ума не приложу. Если только представить, что все его знакомые будут бывать у нас, уж от этого только голова закружится. Ведь до сих пор я жил довольно уединенно. Милый Миша. Может быть, он видел, что я при гостях был растерян слегка, а может быть и просто так, что приятнее мне даже, отозвал в сторонку и прочитал такое стихотворение, только сочиненное, что у меня мурашки по затылку побежали, и слезы из глаз выступили. О! как было хорошо целоваться в укромном уголочке, когда полон дом гостей, которым нужно хозяйское внимание, когда можно быть застигнутыми в любую минуту, но кроме нашей любви ничего для нас не имеет значения.
Про чек я, все-таки, спросил. Это хороший друг детства и юности находит возможность его поддерживать таким образом. Но в последнее время чек приходит нерегулярно. А о том, как он тратит, я уж и говорить не стал, его дело.
Когда я маленький коленом ушибался,
Рыдая, к маменьке отчаянно кидался.
Коленку нежно гладила мамаша
И причитала: «Бедный, бедный Саша!»
Когда же в одночасье догадался,
Что Вольтер брать меня с собой не собирался
В твои колени я уткнулся чуть дыша,
Чтобы услышать: «Pauvre mon petit Sacha!»[11]
Днем при гостях зашел разговор об александрийском стихе. Валетов прочитал стихотворение, довольно пошлое, когда ему заметили, заявил: «зато это александрийский стих», все заспорили, к Демианову, конечно, обратились как к знатоку. Миша отчасти специально для меня очень интересно и подробно рассказывал, читал Расина, Рэмбо, Вяземского, Пушкина и свои стихи. А вечером, видя, что я скучаю, предложил мне потренироваться в сложении александрийских стихов, я сидел часа три, ничего не вышло. За это время М. одолел четыре новые главы и переписал несколько стихотворений для журнала.
31 мая 1910 года (понедельник)
Поздно завтракали в ресторане, потом пошли в Таврический. Ощущение от опустевшего Петербурга такое же, как от нашей квартиры: все разъехались и мы одни дома. Привольно, немного грустно и похоже на сон.
Иногда, от сказанного Мишей, от его нежданной ласки или же от собственной внезапной мысли о нем слезы выступают. Я с детства знаю за собой склонность растрогаться от сущего пустяка, но очень давно у меня не было повода к подобным проявлениям чувств, так что я даже забыл об этой своей особенности. Не могу сказать, чтобы был я слишком чувствителен, но вот иногда пустяк заставляет меня прослезиться. Какой-то я холодный и сентиментальный одновременно. Говорят, такие люди самые страшные.
1 июня 1910 года (вторник)
Навещали своих на даче. Там прибыли еще родственники, много детей, суетливые и назойливые, все почти на одно лицо. Только Анечка – мой тихий ангел вызывает во мне нежность. Славная девочка, милая.
Таня пришла в гости вечером. Они, оказывается, уж очень подружились с Сережей. В первый раз я, что ли, назвал при Тане Демианова Мишей. Она чуть не вздрогнула, сделала на меня большие глаза, а потом долго с недоумением на него смотрела, как будто ища в нем соответствие такому названию. А, ведь, действительно, это может казаться странно и даже дико. Демианов известный, уважаемый литератор, она его стихи в тетрадку переписывает, а я его Миша. Пушкина еще Сашей можно представить при каких-то обстоятельствах. А вот, кого-бы? ну, хоть Державина Гаврилой бы кто назвал или Ломоносова Мишей тоже. Смешно, право. Забавно.
Вечером дети расшалились в гостиной. Бабушка пришла их угомонить, и, глядя на устроенную ими возню, сказала: «Содом с Гоморрой». На что Таня с Сережей так громко надрывно расхохотались, было в их смехе нехорошее даже что-то. Провожая Таню домой, я спросил ее, чему они смеялись. Она дерзко довольно заявила: «Мы это о своем». В нежданном приступе откровенности, отчасти, вероятно, вызванном вином, выпитым за ужином, я заявил: «Вы смеялись надо мной и Демиановым. И это всем было ясно. Вы хотели заставить нас почувствовать себя неловко, а смутили всех. Даже вовсе невинных». Таня остановилась передо мной, взяла мое лицо в ладони: «Что ты, что ты, Саша! Мы вовсе этого не думали. Если хочешь знать, мы сами очень даже грешны, – она запнулась слегка. – То есть я». – «Что это? Таня! О чем ты? Грешница? Моя маленькая Таня? В чем? Что за фантазии? Если ты хочешь подобным образом утешить меня, то напрасно. Я вовсе не обижен, я только так сболтнул». – «Просто Сергей…» Теперь мое внимание задержалось на том, что она сказала про Сережу Сергей. Для меня-то Сергей – Правосудов, а юный племянник Демианова – только Сережа. Так вот она сказала: «Просто Сергей знает, каков мой идеал». – «И какой же у тебя идеал?» – «Тройственный Союз», – заявила она с вызовом. – «Что это значит? Я не понимаю». – «Ну что же непонятного? Я хочу, чтобы меня любили двое. И чтобы друг друга они тоже любили. И я буду любить их обоих. Полная гармония, никакой пресыщенности, никаких измен. И вообще, идеально». – «То есть, я не очень понял, ты желаешь, чтобы тебя любили двое мужчин?» – «Вовсе необязательно двое любящих меня и друг друга должны быть мужчинами. Хотя, если быть до конца откровенной, в союзе, где одной из тех двоих была бы женщина, я сама желала бы быть мужчиной! К тому же третьего, как ни печально, нам не дано. Но все это в идеале. А пока…» – «Не хочешь ли ты сказать, что ты и Сережа…, что вы состоите уже в таком союзе и что еще есть кто-то?» – «Нет. Что я хотела сказать, я сказала. Смеялись вовсе не над вами, а Сергей просто знает про мой идеал. А за вас, между прочим, все очень рады». От последнего заявления у меня опять глаза увлажнились. Милая Таня. Но каково! Кто бы мог подумать, что в ее девичьей головке такие мысли. Интересно, внушил ей кто-нибудь подобные идеалы или она сама? Ольга, что ли, на нее повлияла?
Возвратившись полночи гулял с Мишей по саду. Вели задушевные беседы.
2 июня 1910 года (среда)
Это мой город пламенем плачет
Мой город серным дождем охвачен
Полыхает. Издыхает.
Растерзан, разрушен.
Внутренности наружу
Балками бил по темени
Виноватому племени.
Всё. Сгорел. Ни крестов, ни гробов
Кучка пепла и пара соляных столбов
А я там был счастлив, несмотря ни на что
И все без него теперь будет не то
В сердце моем печаль
Бесконечно жаль
Это был мой город, мой милый дом
Мой дорогой Содом
Племя Содомитов не вымерло. Отлучался же кто-то по делам из города. И они живут до сих пор. И у них родятся Мышата, слепые, но с отличным обонянием. И когда их ноздрей касается инстинктивно знакомый дух, вот хоть запах розовых духов господина Демианова, они вдруг прозревают и тут же превращаются в принцев, и тогда… О! То, что происходит с ними тогда, недоступно моему скромному воображению. Я не рождался мышонком и пьянящий запах не раскрыл моих глаз, скорее наоборот, их заволокло пеленой, сладостной, дымкой. Так я и пребываю теперь в блаженном ослеплении. Из чего может следовать, что я не из породы Содомитов. Я другой.
Что за странное влияние дачной атмосферы на Демианова? На даче он все время капризничает и пытается делать сцены. Довольно больших усилий стоит мне держаться с ним ровно и не уехать опять в город одному. Играли в карты. Мы с зятем опять выиграли, М. остался всем должен, я раздал за него почти весь свой выигрыш. Говорят, Анечка, проснувшись утром, звала меня, а вечером, когда ее укладывали, требовала, чтобы я пришел поцеловать ее, но ей не позволили.
Таня с Сережей ходили куда-то гулять и вернулись так поздно, что почти уже началась паника. Все вокруг уверены, что у них романтические чувства друг к другу. Не мистифицировала ли меня Таня, когда рассказывала свой тройственный идеал? Вообще выглядело убедительно и она сама и то, что она говорила.
3 июня 1910 года (четверг)
Уж давно у меня не было так, чтобы засыпал я, что называется «без задних ног», только коснувшись головой подушки. В театре очень уставал, и перед сном не думал ни о чем. А теперь все думаю, думаю, иногда и до утра замечтаюсь. Боже мой! Как хочется путешествовать! С друзьями, с приключениями. Как я устал от Петербурга.
А.Г. опять слег. Наверное, наелся раньше времени чего-нибудь непозволительного. Он давно покушался. Сборов за границу на воды, все же, не отменили. Я тоже исполнял кое-какие поручения в связи с отъездом. Как меня печалит, что придется расставаться с А.Г., а главное невозможность тоже путешествовать. Мы с М. о путешествиях только мечтаем, лежа на диване, а другие вот едут. Самое прекрасное, что есть между нами – вот эти мечты, когда, совсем отрешившись от действительности, мы грезим вдвоем сладко, самозабвенно. Такая близость тогда между нами, гораздо ближе Мишиной fatalité. Еще, когда смеемся. (Бывают у нас такие приступы хохота, почти беспричинные, особенно по ночам). Если бы, я уехал куда-нибудь, то в первую очередь вспоминал бы, как мы с Мишей хохотали. Это было бы для меня самым дорогим воспоминанием.
4 июня 1910 года (пятница)
Со всей откровенностью заявляю: я не ждал этого! Я хотел, я мечтал, я грезил, но никак не думал, что осуществится. Сидя возле А.Г. читал ему Мишины новые стихи, пересказывал современно-античный роман, немного балуясь, переиначивал демиановский сюжет и присочинял сцены, в которых героем Аполлон, продавший свою красоту и кифару Бахусу и поменявшийся с ним местами. Например, рассказывал, что Гиацинт и Кипарис пришли к нему музицировать, а он их флейты превратил в рожки для питья. И подобное, ни бог весть какое затейливое, но А.Г. смеялся от души. И вот он мне говорит (за точность передачи его слов я не ручаюсь, так это все для меня было как гром среди ясного неба): «Вы талантливы, Саша, вам нужно развиваться, Европа вам определенно на пользу пойдет. Ничего, скоро поедем». Я ошарашенный, еще не вполне уверенный, в том, что правильно понял его, отвечаю: «Как! Разве и я с вами еду?» А про себя думаю: «Не может этого быть! Неужели мне такое счастье!» Вернее, уж не знаю, что мне и думать, всё внутри заметалось. А Вольтер стал толковать, что я ему уже родной, что все мы, Митя и Дм.Петр. и я, как семья для него, и что он не сможет ни за что с нами расстаться, что Мити ему за границей будет недостаточно, Дм.Пет., тот точно из Петербурга никуда, а секретарь ему и заграницей будет нужен, так что я еду непременно. – «Помилуйте, Аполлон Григорьевич! Кому нужен за границей русский секретарь, да еще и языков не знающий? Мы там осрамимся». Он сказал, что языки за границей быстро выучиваются, что дело он мне всегда найдет и что, если понадобится, наймет еще секретаря иностранца, и для языков и для компании, чтобы я не переживал по пустякам, а собирался в дорогу. Поначалу я так и сделал, отбросил всякие сомнения и предался европейским грезам перемешанным с практическими дорожными соображениями. Но вдруг, как по голове меня ударило: «Миша!» Господи! Что же я скажу ему?! И как он останется? Положим, он не смог бы жить у меня дольше, чем дачный сезон длится. Наверное, переехал бы опять к своим. Но теперь, когда он так весел и счастлив, заявить, что еду с Аполлоном и оставляю его…
Придя домой, М. ничего не сказал, решил отложить разговор. И как температура больного в его стихотворении, то в небеса, то на дно скакали мои мысли от поездки к объяснению.
Еще я не уехал никуда.
В пижаме дома продолжаю вот валяться.
Роскошные чужие города,
О! Как вы смеете мне сниться и являться.
Побойтесь бога! Вам принять меня неймется,
А он-то дома бедный, милый остается
5 июня 1910 года (суббота)
Вот теперь у меня есть тайна от Миши. Сколько можно хранить такую тайну? Рано или поздно всё откроется. Тот же Вольтер разболтает. Интересно, смог бы я уехать, ничего не сказав? А что? Послал бы телеграмму с дороги. Как хорошо было бы уехать тихонько, без объяснений, без слез и упреков. Но нет. Неизбежны ссоры, разочарования, обида, возможно даже разрыв. Если бы можно было ехать вместе! Я решил молчать, покуда само все как-нибудь не откроется. Так, может быть, хуже для меня, но подойти с объяснениями сам я не в силах.
Гуляли, писали, помогал М. с переводом. У меня словно камень за пазухой. Бедный милый Демианов! Но вдруг еще Аполлон совсем расхворается, а я уже объявлю. Нет, нет. Буду молчать.
Один заходил к друзьям. И у них не хотел рассказывать, но все же, проговорился, так как у меня об одном теперь мысли. Они очень рады за меня, и тоже считают путешествие мне полезным, немного жалеют Демианова. Сергей даже вызвался поговорить с ним, но я отказался от такой помощи. Я непременно должен сам объясниться. У меня совсем нет чувства, что я уеду, да еще далеко и, может быть, надолго. Совсем мне в это не верится. И что расстаюсь с Демиановым. Боже мой! Что ж я всё о нем? А мама как же?! И Таня. Как они останутся? Нет. Видно придется мне путешествовать только в мечтах. Их бросить здесь одних решительно невозможно.
Вечером я то и дело опасно заговаривал о Вольтере и его поездке на воды. Миша отвечал так, что было ясно: он ни сном ни духом. Такое его настроение еще крепче сомкнуло мои уста. Пусть уж само как-нибудь разъяснится.
6 июня 1910 года (воскресенье)
Вместе были в церкви. Больной, но бодрящийся Вольтер, меланхолично настроенный, но бодрящийся Миша и я со своим камнем за пазухой и тоже бодрящийся. О европейском вояже не заговаривали, строили планы для театра. М. и В. много спорили, но приходили к согласию, в конечном счете. Обедали у Палкина. Вольтер ел мало и потому слишком старательно потчевал нас с Мишей, так что мы до дурноты объелись. Впрочем, что до меня, то я всё глотал механически, мне не до смакования. В голове только одно: и так и эдак прилаживаю мысль о том, как оставлю всех своих, и никак не укладывается желанное путешествие в моем бедном черепе. Ведь вот и Вольтеру нужно будет объяснять, что решил не ехать. В конце концов, есть обязанности, не позволяющие покинуть Петербург. Но А.Г. добрая душа, он поймет, что я не могу думать только о себе. Я несвободен. Да. Нужно будет сказать Вольтеру.
А ведь Аполлон непременно что-нибудь придумает! И с Таней нужно поговорить. Она уже не маленькая, деньги я буду присылать. Но что я себя уговариваю? Разве не ясно мне, что невозможно? Ведь дело не только в деньгах, и мама больна, а Таня еще ребенок совсем, к тому же девушка. И Миша… Боже мой! Как хочется ехать и как всё меня не пускает! Вечером сказал М., что хочу поехать проведать своих. Ему на дачу не хотелось (почему он ее невзлюбил?) и он стал придумывать предлоги, чтобы остаться: перевод, переписка. А мне только того и нужно, поехать одному, спокойно переговорить с Таней о деле, может быть, и с Мишиным зятем даже, он человек практический и рассудительный, обязательно что-нибудь посоветует. Так я лежал успокоенный надеждой на то, что все мои мучительные сомнения кто-нибудь разрешит и делал вид, будто слушаю Мишины планы.
7 июня 1910 года (понедельник)
Странно, что Таня о нем подумала. Странно, что я не подумал о нем раньше. После смерти отца мы с дядей Витей почти не виделись. Но удобно ли будет обратиться к нему? В сущности, что такого я прошу, всего лишь навещать моих, чтобы они не оставались совершенно одни. Деньги я буду пересылать. Все же, он брат отца, пусть и сводный. Да, пожалуй, Таня права и к дяде Вите зайти не помешает. Мама, хоть и плачет в три ручья, но тоже уверяет, что поездка пойдет мне на пользу, что нельзя упускать такой случай и что они с Танюшей прекрасно справятся. Таня заявила, что и так собиралась кроме медицинских курсов пойти работать сиделкой. Но мне эта затея не по вкусу. Что же, Таня будет работать, а мама совсем заброшена? Мы все много спорили, каждый являл чудеса самоотречения и всё это для того, чтобы мне непременно ехать. Остался у них ночевать. К Мишиным на дачу не заходил, Таня тоже к ним не пошла, хотя обычно бывает у Сережи чуть не каждый день. – «Какой ты счастливый, что едешь! И как бы я хотела поехать с тобой». О! Если бы я мог взять всех! И ее и Демианова и маму. Но я не Вольтер и свиту позволить себе не могу. На счет же дяди Вити, Таня права, нужно обязательно к нему обратиться.
8 июня 1910 года (вторник)
Прямо от Вольтера, не заходя проведать Мишу, отправился на Александровскую к дяде Вите. Тетя Юля, увидев меня, даже всплакнула. Поила чаем, упрекала, что мы их совсем забыли. Вот странно, от них ведь тоже все это время почти никаких не было вестей, но я уж промолчал об этом. Дядя Витя поначалу был не очень мне рад, или с непривычки что ли, дичился, все же, я уже не тот гимназист, которым он меня помнит. Но потом, разговорившись, и еще наливочки тети Юлиной выпив, повеселел, и даже растрогался, вспоминая отца. Они слышали, что гимназию я бросил, это их же родственники устраивали меня в театр. Мой теперешний отъезд за границу очень их удивил, я бы даже сказал, обескуражил. Но, оправившись от изумления, тетя Юля стала заверять, что мои не останутся без присмотра, что она будет бывать у них, если нужно, ежедневно, что дядя Витя сделает для Тани всё, что они попросят своего доктора заходить к маме. Дядя Витя на все это молча и довольно сдержанно кивал, но не возражал, однако. В конце концов, встреча с родственниками, тети Юлина восторженность и дяди Витина сдержанность, создала у меня впечатление, что большие надежды возлагать на них не нужно, но в случае крайней нужды мама и Таня вовсе без поддержки не останутся. Теперь, когда за своих я более или менее успокоился, сердце снова защемило при мысли о Демианове.
Милый мой писатель дома. Тихонечко работает. Ничего не подозревает.
Дома в нашем кабинете
Так уютно лампа светит.
Над столом худые плечи.
Тихо-тихо. Это вечер.
Ты пиши, а я молчу,
Я мешаться не хочу.
Я о чем-нибудь мечтаю,
Или твой роман читаю,
Жду, пока ты обернешься
От стола и улыбнешься.
Пиджаки и лампу прочь.
Значит, наступила ночь.
Смех и шепот до утра,
Наша нежная игра,
Руки, губы – все сплелось
Еле-еле улеглось.
Птичка за окном поет –
Это утро настает.
Вместе кофе или чай.
Что приснилось? Отвечай.
Словно не видались год,
Разговоров полный рот.
День. До вечера опять
Нужно каждому бежать.
Но, вернувшись, в кабинете
Вижу, снова лампа светит.
Снова тонкое плечо
Ночью будет горячо.
Наше милое житье –
Утешение мое.
И боюсь себе представить,
Как смогу тебя оставить?
9 июня 1910 года (среда)
Ах, как хорошо, что Миши не было дома, он ходил стричься и бриться. А к нам приходила тетя Юля. Она-то решила сделать маме визит, т.к. во время моего посещения настроилась по отношению ко всем нам добро и покровительственно. А тут такой конфуз – она приходит, а наши на даче. Да еще я не стал разъяснять, что всего лишь скромный уголок для них снимаю и тетя Юля очень удивлялась. Сами-то они еще месяц будут в городе из-за дяди Витиных дел. Очень хорошо, что она Мишу не застала. Не потому, что я его стесняюсь, скорее наоборот, тетя Юля столько бы всего при нем наболтала, и откладываемое мной объяснение сделалось бы не просто неизбежным, а приобрело самые нежелательные формы. Тетя Юля рассматривала тетради Демианова. Я, насколько мог, препятствовал ей в этом. Наверное, она подумала, что это мои, хотя вряд ли поняла хоть что-то. Я обещал еще к ним зайти. Кое-как выпроводил, делая вид, что должен идти. Вообще-то мне и вправду нужно было идти к Вольтеру, но, надеюсь, тетя Юля, все же, не подумала, что я именно выпроваживаю ее. И еще остается надеяться, что после такого визита она не остынет в своем желании покровительствовать маме и Тане. И как повезло в том, что Миши не было дома!
А.Г. чувствует себя лучше. Я спросил у него совета, как мне быть с Мишей. Он, как и Сергей, предложил сам ему все сказать. Я, конечно, отказался. Что мне проку, если Аполлон объявит Мише о моем отъезде. Вот, если бы он и его пригласил. Но просить об этом Аполлона я не решусь, а сам он что-то не догадывается. Хотя мог бы. Если бы он был влюблен в меня и хотел от Миши увезти, тогда другое дело. Но я для него нечто среднее между воспитанником и слугой, как Лиза у старой графини из «Пиковой дамы». А Миша ему, все же, хороший старый друг. Почему бы не пригласить его? Или мне не стесняться, да намекнуть Вольтеру? Вдруг получится? Но я робею.
РАЗве могу я теперь веселиться?
ЛУКАво таиться от тебя пришлось.
ЛЮдям чужим ходил открыться,
БОльше сил ни на что не нашлось.
ВЬется на лбу непослушный локон.
БОюсь подойти и убрать на висок.
ЛЬется на стол мягкий свет из окон.
ОТъезда наступит когда-нибудь срок.
ЧАсто тревожное сердце колотит.
Я знаю, что ты всех милее и ближе.
НИкто не утешит ни духа ни плоти,
Если тебя никогда не увижу.
10 июня 1910 года (четверг)
Мне нравятся акростихи, но иногда они похожи у меня на Танино детское вышивание – спереди красивый цветок, а сзади нитки кое-как напутаны. Но все равно мне нравится их писать, больше, чем просто стихи, они похожи на рукоделие – придумать рисунок и петли заделать, вот только аккуратно заделывать петли иногда не хватает сноровки.
Были с Мишей на колокольне у П. Там, как всегда, большое собрание. В наше время революций, обществ и кружков только выйди из дома, да что там, и из дома не нужно выходить, чтобы примкнуть к каким-нибудь истам. И что примечательно, слишком уж многие примыкать не хотят, а желают непременно создать свое общество и чтобы уж к ним присоединялись. Вот и на Колокольне теперь тоже задумывается очередное литературное общество. И Миша принимает живейшее участие, он один из основателей. Я не одобряю этого. Впрочем, прошу прощения, кто я такой, чтобы не одобрять его, но мне неприятна эта суета и несимпатична. Я понимаю, все его ровесники уже литературные патриархи и каждый провозгласил свое направление в поэзии, чуть ли не свою школу. Он тоже должен что-нибудь такое объявить. Он тоже думает, ищет формы и лелеет свою идею. Только при чем тут Петров? Зачем обязательно с ним связываться? Разве они единомышленники? Миша ни на кого не похож. Он единственный, уникальное явление. Может ему бы даже больше пошло оставаться в стороне. Зачем ему сбиваться в кучу с людьми не понимающими, не чувствующими его? Но я молчу, не мешаю. Отчасти потому, что вмешиваться бесполезно, отчасти, потому, что понимаю, эта суета с обществом создает ощущение полноты жизни, бодрит и молодит его. Он так увлекся составлением устава. И раздражается, видя, что я почти безучастен к их новой затее.
У Петрова один человек, я, к сожалению, не запомнил его фамилии, что-то на Т, кажется, очень весело рассказывал библейские истории, при этом поясняя всё живо и довольно остроумно. Среди них была одна, которой я почему-то не помнил, и даже не поверил, что в самом деле так всё написано, думал он присочиняет, но, придя домой, специально нашел это место и убедился. Действительно, всё как говорил этот Т. А рассказывал он про любовь Давида и сына царя Саула Ионафана. Странно, что я совсем не помнил этой истории. Должны же мы были учить в гимназии. И как учитель Закона Божия объяснял, не помню, должен же был он что-то говорить об этом. Неужели пропустил?
душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу.
Ведь прав, действительно, Т., что еще могло быть между ними, как ни тот самый союз, который связует, к примеру, меня и Демианова.
Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу.
И то, что было меж ними, даже самое сокровенное фактически описано. Куда уж яснее.
И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой.
Т. прав был, когда говорил: «Он разделся, и ясно, для чего он разделся. Зачем бы еще?» И главное, что все вокруг об этом союзе, видимо, знали. Саул вот знал, и не одобрял очень.
Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему: сын негодный и непокорный! разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей?
Что это может быть за дружба такая на срам матери? Иначе трактовать нельзя. Это очевидно. Но вот что я нашел уже сам и о чем Т. не упоминал:
И сказал Ионафан Давиду: иди с миром; а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: "Господь да будет между мною и между тобою и между семенем моим и семенем твоим", то да будет на веки.
На меня это произвело сильнейшее впечатление. Я придумал и решил, мы сделаем то же.
11 июня 1910 года (пятница)
В последнее время Мишу слишком часто и слишком бесцеремонно ругают в газетах и журналах, и кое-кто из его прежних товарищей к хулителям примкнул. Он очень переживает. Каждая шпилька ему больно в сердце вонзается. Так что, я до известной степени начинаю радоваться, что он занялся этим новым обществом, пусть отвлечется. Невозможно жить, видя, что кругом тебя враги, естественна потребность окружить себя друзьями. Я уж даже и не против П.
Навещали на даче всех своих. Выехали рано, по дороге немного ссорились. Миша упрекал, что из-за меня он почти никого не видит и не ходит никуда. Я возмущался такими упреками, разве я мешаю? Он же сам хвалил домашнюю жизнь тихую и уютную. Но приехали уже, разрешив все недоразумения, и помирившись. Явились как раз к завтраку. Там и Таня моя сидела. Сережа ее изводил всем на забаву. Оказывается, она снова увлеклась своими медицинскими книжками и теперь зубрит анатомию.
– Как же нельзя говорить мозги?
– Мозг один.
– Ты же сама сказала, и продолговатый мозг есть и средний и еще какие-то, стало быть, мозги.
– То, о чем ты говоришь, не понимая, это отделы головного мозга, он один.
– Почему тогда не называется продолговатый отдел? А именно мозг, значит все вместе – мозги. А ведь есть еще и спинной, стало быть, точно мозги.
– Глупый!
– Мозги, мозги!
Бедная Таня злилась всерьез, но я смеялся вместе со всеми, не над ней, конечно, над Сережей. Иногда мне очень жаль, что Таня не мальчик. Впрочем, до сего дня в последний раз я жалел об этом лет в десять. После завтрака все пошли гулять, а мы с Мишей поехали в Полихино. Он тогда уже знал куда, но еще не наверное знал зачем. Часть дороги пришлось идти пешком, поэтому прибыли как раз, когда священник обедал. Но, несмотря ни на что, он тот час послал за дьяконом и псаломщиком. Отслужили молебен, только для нас двоих о начале дела Михаила и Александра. Возвращались домой торжественно и тихо, почти не разговаривая. О том, что скоро еду с Вольтером я сказал ему перед сном, в минуты нежности. Он ничего не ответил, отвернулся и заплакал. Я стал, было, уговаривать, но что тут скажешь? Засыпая, я всё твердил как молитву: «иди с миром; а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: "Господь да будет между мною и между тобою и между семенем моим и семенем твоим", то да будет на веки».
12 июня 1910 года (суббота)
Ехали домой печально. Приехав, сразу получили журнал с фельетоном опять против Миши. Что это они взялись? К Вольтеру со мной он не захотел пойти, остался дома, расстроенный, с красными глазами. Я скрепя сердце потащился к Аполлону. Свое твердое намеренье поговорить о Мише не осуществил, не было никакой возможности. Да и А.Г.-то почти не видел – целый день промотался по поручениям.
Дома тишина. М. пришел поздно от Петрова и сел работать. Дуется, конечно. Но что я могу?
13 июня 1910 года (воскресенье)
У А.Г. застал Ольгу. Расцеловались. Она смеялась, болтала без умолку, спрашивала про Таню, ответов почти не слушала, как-то сама себя оглушала. И, вот так сюрприз! За всей этой болтовней выясняется, что она тоже с нами едет. Ну, без Мити нельзя, это точно. Меня берет – еще как-то можно понять. А Ольга-то ему там зачем? Впрочем, она может быть сама по себе, так сказать, рядом с обозом пойдет. От Вольтера вышли с ней вместе. И хотя мне нужно было еще в два места заехать, поехал с ней к ней домой. Так как-то само вышло. Были близки. Ольга с какой-то болезненной неистовой страстью, (не случилось ли у нее чего?) я – с почти безразличным спокойствием, все время, не забывая о своих заботах. Ольга сказала, что я слишком холоден, без упрека, так только заметила. И я, разнежившись в мягких объятиях, излил на нее все свои тревоги и сомнения. О том, что не знаю, как оставлю родных, о том, что мучаюсь совестью, бросая Демианова одного в непонятном положении. О том, что всегда мечтал путешествовать за границу, а теперь вот боюсь и не хочу ехать. Временами на меня находит такая тревога и страх перемен, что, кажется лучше остаться совсем и успокоиться. Ольга не стала утешать меня пустыми словами. А с особенной предприимчивостью, как всё, что она в этот день делала, разрешила все мои вопросы. Она уезжает за границу надолго, может быть года на два. Чтобы не зависеть от квартирных хозяев, и не жить с угрозой остаться на улице – мало ли что может случиться, мама и Таня пока могут переехать к ней на квартиру, которая все равно будет пустовать, и Ольга даже сама подумывала, кому бы ее оставить. Если за квартиру не нужно будет платить, их расходы значительно уменьшатся, и даже если я не смогу прислать денег, если деньги задержатся или пропадут, им, все же, будет возможно жить. А когда Ольга вернется, если нельзя будет нанять нашу старую квартиру, мои смогут оставаться у нее, пока не отыщется что-то подходящее. Это великолепно! Мне только руки целовать ей оставалось. Она сказала, что Вольтер столько тратит на своих врачей, что вполне уместно попросить кого-то из них навещать маму, пока нас нет. И что она сама поговорит об этом с дядей, или даже сразу с одним из его докторов, только сначала решит, к кому из них лучше обратиться. Я был на седьмом небе. Таниному поступлению она тоже обещала поспособствовать и взяла у меня их дачный адрес, чтобы поехать и самой переговорить обо всем с мамой и Таней. Вот так Ольга! Уж с этой стороны я никак не ожидал помощи. Что касается Миши, кто уж тут может помочь? Прямо домой не хотелось возвращаться. Он имеет вид смиренный, печальный, обреченный, об отъезде моем молчит, и это разрывает мне сердце.
14 июня 1910 года (понедельник)
Ходили с Мишей сниматься вместе на память. Потом он поехал к Петрову, а я, пришел домой и снова, совершив то же преступление, заглянул к нему в дневник. Что я испытал? Потрясение? Разочарование? Обиду? Нет. Ничего. Я, может быть, даже ожидал увидеть что-то подобное. Изменилось мое чувство к нему? Нет. Получил ли я право уехать спокойно без угрызений совести? Нет, нет и нет. Всё осталось по-прежнему. Есть другой. Но Миша для меня все тот же. И я почти не изменился, узнав. Почти не изменился. Это «почти», все же, значит перемену во мне, а, следовательно, и он для меня не может оставаться прежним, к чему себя обманывать. Смятенье чувств, опустошение, недоуменье. Вышел на улицу, ходил без цели очень долго, стараясь заблудиться, но ноги сами собой в знакомые места заворачивали. Вот лошадь, существо невинное, с нее на мостовую яблоки падают, а она идет себе дальше, оставляя их на дороге со спокойной совестью. Разве стыдится она, что после нее нечисто стало, или что кто-то видел, как она эти яблоки свои роняла? Разве задумывается, что нужно бы отойти в сторону и там облегчиться, без посторонних глаз и чтоб не запачкать ничего? Она просто продолжает бежать, походя, совершая свое нечистое дело и при том оставаясь невинной, такой невинной, что упрекнувшего ее, пожалуй, сочтут сумасшедшим. Может, и я сошел с ума немного. Вот и люди бывают, как эта лошадь. Не задумываясь, они как лошадиные яблоки оставляют за собой измены, ложь, двойную жизнь и ничто к ним не пристает, сохраняя их чистыми, совершенно невинными. Да полно, что я? В их исполнении измена не зовется изменой, а ложь ложью, все это имеет другое названье, так же, как я лошадиное г. сейчас яблоками назвал, или, может быть, вовсе никак не называется, лошадь же не называет свои дорожные остатки. Все натурально. Хотел бродить дотемна и явиться поздно, но как назло время медленно тянулось, ходить просто так надоело, и все еще было светло. Зашел к Вольтеру. У него чуть не расплакался. Разве я не понимаю, поэту нужно вдохновение, постоянное ощущение романтической влюбленности, желание обладать недоступным. А я что? Скучный зануда, к тому же давно завоеванный.
Пришел поздно, как и хотел. М. дома. Сам заговорил со мной о сборах и дорожных покупках. Я предложил ему поговорить с Вольтером, о том, чтобы ехать вместе, но он ответил, что у них совсем не те отношения, что он не может напрашиваться, вот если бы Аполлон сам позвал, он бы еще подумал. А если я попрошу Вольтера, будет еще хуже, это выйдет, так как будто я за него напрашиваюсь.
15 июня 1910 года (вторник)
Ходили с М. по магазинам. Потом зашли к художникам. У С. ошеломляющие новости о Мышонке. Вся семья потрясена невероятным событием: Алеша сбежал предположительно на Кавказ с каким-то своим знакомым офицером. Ищут, пока безрезультатно. Теперь уж, несомненно, Демианов был прав, я проиграл пари. Вот так мальчик! То-то я смотрю, давно от него ничего не было. Впрочем, если всерьез задуматься, все это ужасно и может стать непоправимо. Тот человек, кто он? Как не испугался увезти почти ребенка? Что это? Любовь? Преступление? Болезнь? Пересудов и споров нам с Мишей на целый день хватило и осталось еще, так что, собственные огорчения на время остались без внимания.
16 июня 1910 года (среда)
В последний раз навестил своих. Мама плачет. Таня немного надута, но изо всех сил делает вид, что держится как обычно. Ольга уже успела у них побывать. В августе они переберутся к ней на квартиру. Все же, страшновато их оставлять. Ходили на реку. Я, сидя на берегу, вдруг, как очнулся: что я здесь делаю? Душа моя давно уже уехала и издалека удивляется, где это задержалось тело? Страхи, сомнения – как глупо. Разве я могу здесь оставаться? Теперь, даже если Вольтер, вдруг, передумает, уеду все равно.
17 июня 1910 года (четверг)
Прощальный ужин у Вольтера. Всё как прежде. Много гостей, много еды и вина. Дым, шум, гам, пьяная неразбериха, милый сердцу содом. Как прежде, как до болезни. Кажется, так давно было все, что до болезни. Здоровый веселый Аполлон и поездка в Москву. Словно год прошел, а не месяц. И вот все возвращается на свое место. Я, как Иван Царевич, сбежавший с царского пира, чтобы сжечь лягушачью кожу, под шумок уехал домой. Не сразу, почти уже отчаявшись, и готовый остаться ни с чем, все же, нашел что искал. Положил на самое дно чемодана, под белье и сорочки, уничтожил следы беспорядка, прямо скажем, не очень тщательно, так как был порядочно пьян, да трезвый, вероятно и не решился бы на подобную вылазку, и уехал снова праздновать прощанье. А о том, что сделал, не знать, не думать, не вспоминать до поры. Будет еще время и раскаяться и поразмыслить и все оценить.
18 июня 1910 года (пятница)
Миша не надут, даже весел. Помогал собираться. Неужели ему безразлично, что расстаемся? Ни упреков, ни сцен, ни жалоб. Так это на него не похоже. Приходили за багажом. Потом я пошел к Правосудову проститься, а он не знаю куда, не хочу знать. Что было бы между нами, останься я еще хоть на месяц? Зачем об этом думать? Правосудов поил чаем. Он тоже собирается уезжать, как закончат с Кошкой. Но не говорит куда, интригует. На прощание обнялись. Он сказал, что жалеет, что мы так недолго были знакомы. Я набрался смелости и поцеловал его в губы.
Заглянул к А.Г., но сам он спал, а вокруг такая была суматоха со сборами, что я решил не мешаться. М застал дома. Все-таки я несправедлив к нему. Конечно, он переживает и глаза красные. Бедный, милый. Снова сделалось жалко его до боли в сердце.
Милей и дороже мне нет никого.
Имя твое на губах постоянно.
Шепчу и пою и смакую его.
Ах, как оно сладко и терпко и пьяно!
19 июня 1910 года (суббота)
В последний момент выяснилось, что Ольга не едет с нами, а сама по себе. В другой день и в другое место. А.Г., заметив, что я расстроен, сказал: «Не грусти, Саша, Европа такая маленькая, еще не раз там столкнемся». Вряд ли это так. Конечно, он привык разъезжать туда-сюда, но теперь-то мы будем сидеть на одном месте, лечить его печень. Как я мог подумать, что и Ольга тоже с нами. Разумеется, ей будет скучно в санатории. Любопытно было бы знать, куда отправляется она и с кем. На вокзале были Правосудов, Дмитр.Петр., знакомые Вольтера. У Миши разболелась голова, и он остался дома. Уходя, я поцеловал его глаза, щеки и губы. Он почти не отвечал мне – слишком болела голова. Так и остался лежать, худенький, одинокий, бесконечно дорогой. Несмотря на то, что выходил с саквояжем, ощущения, что не вернусь скоро, что покидаю дом надолго, не было. Ничего торжественного в душé, ни особенно радостного, ни печального, почти равнодушие. В буфете пили чай. Вольтер хвалил мой наряд. Я сказал, что это Михаил Александрович помогал выбирать костюм. И тут он заявляет: «Да. Жаль, что Демианов не едет с нами». Как будто его кто-то звал! Я хотел даже вслух сказать, мол, вы его, Аполлон Григорьевич, не приглашали, но Вольтер уже отвлекся на другое, и стало неуместно. Напившись чаю, перецеловавшись со всеми, пошли устраиваться в свой вагон. В нашем 1-м классе поначалу кроме нас никого не было. Кондуктор приходил взять билеты, поляк, наверное, по-русски говорит хорошо, но с выговором, впрочем, не неприятным. Миша бы тут отметил, что лицом он тоже хорош. Мой бедный, милый, покинутый Миша. Неужели все кончено между нами?
В Гатчине зашел коммерсант, оказалось Вольтеру знакомый. Ему было нужно только до Пскова. В 1-м классе ехать чудесно, всё очень удобно и красиво. Немного душновато в вагоне, но всегда можно умыться и выпить чего-нибудь. Ходили в ресторан. Коммерсанта зовут Савва Ильич, он, наверное, из коммерческой династии, какое-то старо-купеческое имя. Простой человек, не очень-то разговорчивый. Так что, все время нас Ап.Григ. развлекал. Про места рассказывал, которые проезжали, кто там живет, кто оттуда перебрался в Петербург, про художников, актеров, писателей, Савве Ильичу про наш новый театр и анекдоты из жизни царской семьи. Я чтобы поддержать его все спрашивал, а С.И. только кивал почтительно, очень редко вставляя замечания. Поздно вечером, оставшись без внимания А.Г., когда все улеглись и успокоились, я, наконец, получил возможность извлечь свой трофей. Хорошо, что догадался в последний момент, когда уже пришли забирать багаж, переложить его в саквояж из чемодана. И вот он со мной, украденный у Демианова дневник. В тот пьяный вечер, я почти не соображал ничего, схватил что попало. Но, так как, раньше уже обдумывал похищение, то получилось взять, что хотел. А хотел я иметь у себя дневник Демианова за целый какой-нибудь год. Пусть меня еще не было в тот год в его жизни, это все равно, разве мне важно только знать, что он обо мне думает? А целый год его жизни, его дух, его теплое присутствие, все же, удалось мне с собой увезти. У меня оказалась тетрадь с двумя годами – 1906 и 1907. И ведь это то самое время, в которое было написано мое сокровенное стихотворение, с которого начался для меня Демианов. Первое, что пришло в голову – найти, то же самое число, что нынче, 19 июня. Что он делал в этот день в шестом году? С кем говорил? О чем думал? А потом уж буду читать по порядку, или раскрывать наугад, как гадальную книгу. В общем, он со мной теперь, меня еще не знающий, на три года моложе теперешнего, бесценный мой Михаил Александрович Демианов.
20 июня 1910 года (воскресенье)
Немного тяжело ехать так долго, не имея возможности пройтись, как следует. Но нам-то грех жаловаться. Ходил смотреть, как едут во 2-м и в 3-м классе – у нас рай. В это время в шестом году Демианов гостил у своих на даче, тосковал о милых друзьях, любил некоего П. и мучался ревностью и сомнениями. Я довольно хорошо научился разбирать его почерк, но, все же, чтение дневника не так легко дается. Узнаю его манеру подолгу ничего не записывать, но после аккуратно заполнять пропущенные дни, так, что потом кажется, будто каждый день писал. Я здесь в вагоне, он там, в шестом году на даче, тоскуем и томимся. А о том, который остался вчера, лежать на моем диване, я и думать боюсь. В Пскове сошел С.И. и вместо него явился новый к нам попутчик до Варшавы. Так что мы почти одни. А в 3-м-то классе битком и во 2-м тоже довольно пассажиров. Пока стояли, ходил телеграфировать Демианову, и от Вольтера по его делам и в гостиницу. Потом еще прогулялся немного. Я раньше не задумывался, что такое «провинция», теперь вот увидел. Действительно, всё совсем не так, как в Петербурге. Неуловимое что-то в одежде, в лицах, в разговорах, нельзя даже толком сказать что, а все же, не так как у нас. В Вильно стояли сорок минут, я опять бегал на телеграф. Почти уже заграница. Много говорят на литовском и надписи тоже везде на двух языках. На телеграфе задержался, что если бы отстал? Пожалуй, не очень приятное вышло бы приключение. Одна надежда была бы на Вольтера, от которого только теперь почувствовал, насколько зависим.
21 июня 1910 года (понедельник)
Мне очень, очень нравится ехать. И запах в вагоне и на вокзалах, и 1-й класс, впрочем, я думаю, что нашел бы свое очарование и во 2-м и даже в 3-м, так мне все мило в этой железнодорожной жизни, до восторга. И стук колес, и качание вагона, и кондуктор, исполняющий свои обязанности, вежливый и нарочито строгий. А в окно смотреть на все что мимо движется – особая прелесть. Выходить на станциях, осматриваясь, все подмечая. И ночевать в вагоне, укладываться на своем месте и засыпать оттого, что едешь. Наверное, я и сам смог бы стать кондуктором. Только чтобы ездить везде, не все время по одной дороге, так быстро надоест.
В Варшаве в гостиницу не поехали – поезда ждать недолго, каких-то четыре часа. На другой вокзал переезжали через Вислу по громадному мосту. Чувствуется, что Варшава почти Европа, кругом бесконечные костелы высокие и мрачные, католические кладбища с белыми статуями в античном духе, вывески латинской азбукой, говорят только по-польски, совсем ничего не понятно. На вокзале устроились в зале 1-го класса, кроме нас никого. Я ходил брать билеты, взял 1-й класс до Берлина. Поляки странный народ. Еще въезжая в Соколку, Вольтер поучал нас с Митей, что к полякам нужно обращаться пан и пани. Митя спросил, говорят ли они по-русски. Вольтер сказал: «понимают, но говорить не любят». А сидя в ресторане с С.И. они говорили, что поляки русских ненавидят, считая захватчиками, и вообще, ненавидят всё русское, как чуть ли не нечистое. В Варшаве на Вокзале предубежденный ли Вольтером, мнительный ли от утомления и избытка впечатлений, но, тем не менее, я имел возможность убедиться в польском недоброжелательстве, подойдя к торговке купить вишен. Она сыпала мне ягоды в большой бумажный куль, увидев, что сейчас кулек не выдержит, я сказал, как можно более любезно, благодарю вас, пани, достаточно. Прекращая насыпать, она посмотрела на меня исподлобья с ненавистью. Я это ясно видел, именно с ненавистью. Мне стало неприятно. Потом, обдумывая этот случай, я нашел, что во взгляде той женщины было еще удивление от неожиданности, что я заговорил по-русски и презрение. Возможно, я слишком много придаю значения этому случаю, но он во многом составил мое впечатление о Польше и поляках. Сидя в зале, пили с Вольтером чай и ели купленные мною Вишни. А.Г. развлекал меня историями о своих здешних приключениях в прошлые годы и всё жалел, что так недолго пробудем в Варшаве, что не покажет мне ее как следует. В сущности ничто не мешало нам задержаться, и я рад, что такая мысль Аполлону в голову не пришла, так как всё существо мое стремилось скорее оказаться в истинной Европе. Митя бегал делать покупки, и я видел, как Ап.Григ. беспокоился, пока его не было. О Петербурге, о тех, кто остался в нем, почти не вспоминал. Как быстро и легко вытесняется прошлое новизной.
Поздно вечером на границе проверили паспорта. Мы с Митей ходили смотреть, как переменяют паровоз. Вот и Европа вожделенная. Темно, ничего почти не видно, но, кажется все уже другое. И дома и люди и воздух и звезды даже.
22 июня 1910 года (вторник)
У них 5 июля, но я буду писать по-нашему.
Рано утром прибыли на Ангальтский вокзал, чуть не проспали. Все время, пока ехали до гостиницы, я вращал головой во все стороны, А.Г. щедро снабжал меня сведениями, которые никак в моей бедной голове не удерживались, названия улиц, церквей, знаменитые здания, что где раньше помещалось и что помещается теперь. Берлин меня оглушил своей роскошью. Вольтер очень смешно выговаривает немецкие слова, но, наверное, на немецкий слух не неприятно, потому что, все ему улыбаются и портье и лифтер и кельнер, видно, что искренне, а не просто по службе. Приняв ванну и позавтракав, поехали осматривать достопримечательности. Центр города великолепен. Все зелено свежо и нарядно. Посетили собор и музей искусств. В зоопарк Аполлон идти отказался, поехал в отель отдыхать, а я на свой страх и риск отправился один. Со своим плохим французским, добавляя только guten Tag[12] и danke schön[13], прекрасно обошелся. Все со мной вежливы и любезны. Я влюбился в Берлин, будь моя воля, остался бы и не поехал дальше. Возвратившись, принял ванну во второй раз, просто ради удовольствия.
Со страниц похищенного дневника стонет бедный Демианов: «Милые друзья, когда увижусь с вами снова!» Это для меня как призыв, как упрек. Сердце заныло: как я далеко и телом и душой.
23 июня 1910 года (среда)
Мы с Митей усердно следим за тем, чтобы Вольтер не объелся чего-нибудь вредного. Скоро уж за него санаторные врачи возьмутся. После завтрака писали письма. Я, до краев переполнен впечатлениями, но делиться ими совсем не хочется, как будто, боюсь расплескать свою заполненность. Поездка в Грюнвальд – сказочный сон. Вечером выехали во Франкфурт. Перед сном, наугад открыв дневник, прочитал о его влюбленности в юнкера Н., и подумал, возможно, он теперь не очень обо мне страдает, забывшись с кем-нибудь другим.
24 июня 1910 года (четверг)
Из дневника Демианова: «Ходил пешком на почту. Писем для меня не было. Печальный поплелся обратно». Я, прочитав такое, тут же уселся писать ему, но из-за сильной тряски поезда бросил.
Печальный милый Демианов,
Творец диковинных романов,
Поэт изящный и капризный,
Глядит с портрета с укоризной.
Где он теперь? Под лампой пишет,
Или кому-то в ухо дышит?
По городу в авто катается?
За городом в реке купается?
О! Где бы ни был, но портрет
Мне говорит: «Прощенья нет!»
За то, что я его оставил,
За то, что мучаться заставил,
За это черными глазами
С портрета сердце мне пронзает.
Франкфурт тоже хорош, даже красивее, но я все еще не опамятовался от влюбленности в Берлин. Осматривали древний город. На выставке, расположившейся прямо на набережной, В. приобрел несколько картин в свою коллекцию, одну из них потому, что мне понравилась. Как прохладно у них в церквях, большое удовольствие заходить с жары, а в наших душно. Рано обедали, пили рейнское вино, которое я успел полюбить еще в Берлине. Наняли автомобиль, чтобы ехать в Киссинген, но решили отдохнуть и переночевать в гостинице. Все же, для В. такой grand voyage[14] утомителен. Багаж отправили вперед.
25 июня 1910 года (пятница)
Всю дорогу в Киссинген наш шофер говорил и смеялся. Понимал его и имел возможность отвечать только Вольтер, но, похоже, ему не требовалось ни понимание, ни ответы. Он не замолкал ни на минуту и поминутно хохотал, надо сказать, довольно неприятным смехом. Я старался любоваться пейзажами, сосредоточиться на своих мыслях, но никак не получалось. Этот смех на чужом языке меня изводил. Я не стал спрашивать А.Г., о чем он, спросил только, скоро ли приедем. Когда же, наконец, приехали… впрочем, с этого момента, мой язык не поворачивается говорить «мы». Аполлон Григорьевич Вольтер, встреченный лично директором санатория, направился осматривать свои апартаменты, занимающие целый этаж, и всем остался доволен. Теперь опять можно «мы». Устраивались. Наш санаторий, скорее, небольшой отель с собственным парком. На отведенном Вольтеру этаже моя комната в самом дальнем углу, но очень уютная. Добротная мебель красного дерева, их распятие над кроватью, на стенах картины с чудесными видами и прекрасный пейзаж в окне. В день и в честь приезда обедали прямо в гостиной наших, все же, сказал «наших», апартаментов. Гуляли, осматривали окрестности. Курортников очень много, много говорят по-французски, русские тоже часто встречаются. Все красиво и чудо как хорошо, но я в первый день чувствовал себя неловко. Неуютно и не на месте. Милый Д.! Трепетная нежная душа. Я узнал эту душу, еще его самого не зная. Сразу почувствовал. Упиваюсь его дневником. В нем наивное бесстыдство и созерцательная мудрость, и простота и изощренность. Непостижимый человек и вместе с тем такой понятный. Ни на кого, ни на что не похожий. Люблю! Люблю бесконечно. Его присутствие в виде дневника не дает мне почувствовать весь ужас одиночества в чужой стране, в новом странном для меня месте и в странном положении. Ах, какая это была счастливая мысль забрать его себе. Целовал страницы.
26 июня 1910 года (суббота)
Ходили с Митей в магазин, покупать Аполлону рубашки и белье. Он очень смешно разговаривает с приказчиками, громко и раздельно кричит по-русски, что ему надо и размахивает руками. Я довольно сносно перевел на французский всё, что он хочет, приказчик понял меня, кивнул, и, как Мите показалось, пошел совсем не затем. Тогда он замахал руками, и еще громче, и больше еще скандируя, снова стал по-русски опять твердить свое. Приказчик улыбнулся и принес, что мы просили. Аполлон начал прием целебной воды. Я тоже пил. Сначала непривычно, потом ничего, вкусно. Во второй день завтракали, обедали и ужинали уже в общей зале, имея возможность видеть публику, живущую с нами под одной крышей. После завтрака пили кофе в общей гостиной, где я познакомился с двумя презабавными француженками. Пожилые сестры m-lles[15] Бланш и Клер с совершенно белыми седыми волосами и во всё белое одеты. Из того, что они говорили, я понимал, может быть, треть и это из той десятой части, которую успевал расслышать и разобрать, так как тараторят они на своем французском prestissimo[16]. Мне все время приходилось извиняться и просить говорить медленней. Вольтер подтрунивал надо мной и моими новыми подружками, сам-то он уже подружился с молодым маркизом и господином средних лет, которого все называли полковником, хотя он был в штатском. Они громко говорят по-немецки, дымят сигарами и смеются как тот шофер. Я уютней чувствовал себя с французскими старушками, пусть А.Г. смеется на здоровье. После кофе ходили смотреть игру в теннис. Маркиз играет великолепно. А.Г. считает, что я непременно должен научиться. Что ж, можно попробовать. За обедом у нас уже составилась своя компания: друзья Вольтера, плюс мои подруги, все мы теперь сидим за одним столом. Получилось довольно весело. После обеда доктор предписывает всем обязательный отдых лежа, кто-то уходит отдыхать в свою комнату, кто-то располагается в специальных шезлонгах на террасе. Вольтер предпочел что помягче и ушел к себе на кровать. Я ходил гулять один. После ужина в гостиной играли в карты, я с m-lles Клер и Бланш, Вольтер – со своими мужчинами.
27 июня 1910 года (воскресенье)
Выяснилось, что за один стол с Вольтером я был посажен по ошибке, и за завтраком меня пересадили. Я оказался в другом конце нашей трапезной залы, за столом для тех, кто не соблюдает режима и не должен есть специальную лечебную пищу. Это всё такие же, как я сопровождающие – гувернантка с детьми, у которых свой отдельный детский стол, компаньонка пожилой дамы из Швеции, молодой военный и молодой священник, приставленные каждый к старшему по чину. Так что, в сущности, я действительно занял подобающее место. Думаю, если бы я выразил желание остаться в прежней компании, А.Г. замолвил бы за меня словечко, и, наверное, мне позволили бы там сидеть, но я не захотел его просить. Из скромности ли, из гордости, не знаю. Так или иначе, просить не стал. И теперь я не сижу за одним столом с полковником и маркизом, но гувернантка, сидящая против меня, с безупречной осанкой и надменным лицом зовется фрейлейн Регина, а Регина, кажется, по-латыни королева. Гуляли. Писали письма и открытки. Именно такие открытки я надеялся получать от Вольтера, когда был уверен, что не еду с ним. Здесь их много с местными видами. Но сами живые виды, разумеется, гораздо приятнее.
28 июня 1910 года (понедельник)
А.Г. был прав, когда говорил, что языки заграницей выучиваются моментально. Я уже успел схватить кое-что из немецкого. И Митя, который ест в столовой для слуг, уже знает от своих товарищей несколько немецких слов и лихо с ними управляется. M-lles Бланш и Клер я с каждым днем понимаю все лучше и лучше. Впрочем, нужно отдать им должное, в моем присутствии они выговаривают старательно, как можно более внятно. Детей у них нет, говорят они почти все время только о своей племяннице, которая, замужем за русским. Именно поэтому наши Беляночки, как мы с В. их прозвали, к русским питают особую слабость. Они даже умеют говорить «здравствуйте», «простите», «нет, благодарю» и «старый развратник». Мы с А.Г. до слез смеялись над их познаниями. У племянницы есть дочь, с которой что-то не так, я не понял, что именно, однако дамы очень обеспокоены. Вероятно желудок у нее не в порядке, так как они ждут ее приезда. Гуляли, катались, вечером играли в бильярд с маркизом и полковником.
29 июня 1910 года (вторник)
За нашим столом всегда тихо. Все молчат. За другими тоже говорят и смеются негромко. Самый шумный и веселый стол – это, конечно, Вольтера. Их слышно всем. Кто-то неодобрительно поглядывает в их сторону, кто-то улыбается доносящимся оттуда шуткам, иногда даже над их анекдотами за другими столами смеются. Доктора не одобряют такого веселья во время трапезы, тем более что им подают лечебную пищу, вкушать которую следует, чуть ли, не благоговейно, понемножку, тщательно жуя, с надеждой на выздоровление. Так же не нравится доктору и то, что наш этаж превращается в клуб или салон, в петербургскую квартиру Вольтера до болезни. Бесконечные гости, шум, смех, пение, игры, запрещенные угощения и напитки. Не успели мы как следует обжиться, а уж весь растревоженный санаторий, шепчется по углам: «О! Эти русские! Эти русские…». И делают большие глаза и пугают друг друга небылицами. Я все это знаю от своих беленьких подруг, с которыми болтаю все свободнее, за что, в первую очередь, должен благодарить, конечно, своего дорогого учителя, о котором, нет, не забыл, но на время перестал думать ежечасно. Священная книга моя заброшена. Я так мало бываю в своей комнате, оглушенный впечатлениями, развлечениями, разговорами на чужом языке, утомленный постоянной суетой, сбитый с толку непрерывным вниманием чужих людей. Я валюсь на кровать, и, стараясь распутать все, что перепуталось за день у меня в голове, засыпаю.
30 июня 1910 года (среда)
Катались в лодках всей компанией. А.Г. с маркизом и его подругой-француженкой не из нашего санатория, в одной. Я с полковником Кунцем и m-lles Бланш и Клер в другой. Перекрикивались, пели, шутили. Опоздали на обед. Поэтому обедали у нас в гостиной, обильно запивая вином пищу отнюдь не постную. За что получили выговор от доктора, которому очень скоро на нас донесли. Доктор был вне себя от негодования, грозился прогнать нас из санатория, так как не желает, чтобы Вольтер скончался именно здесь, под его наблюдением. Мне даже жалко стало бедного Аполлона, все его постоянно попрекают, о нем же заботясь, и я и Митя и врачи, заставляют беречь себя. А стоит ли беречь себя от удовольствий, вопрос, все же, философский. Когда доктор ушел, В. подмигнул мне и заявил: «Будем жить пока не выгонит. Выгонит – уедем в Италию».
Разбирали почту. Для меня тоже было письмо от мамы и Тани. У них всё по-прежнему, скучают обо мне. А от Д. ничего. Меня это больно кольнуло. После ужина, отказавшись от вечерних увеселений, ушел пораньше к себе. Открыл дневник наугад, наткнулся на ту самую историю с женитьбой Правосудова. С середины прочел до конца, потом отыскал начало и от начала до конца прочел еще раз. Да. Демианов своенравный и капризный и не всегда справедливый к другим. Но как сжимается сердце, жалея его. И как всё во мне восстает против тех, кто его обижает. Милый, нежный, чувствительный и беззащитный. Слезы текли у меня по щекам, неужели и я теперь среди злодеев, такой же, как Правосудов и другие?
1 июля 1910 года (четверг)
m-lles Клер и Бланш обеспокоены тем, что не едет их petite-nièce[17]. Их вообще страшно беспокоит эта особа. Теперь мне стало ясно, что я не понимаю о чем идет речь, не только потому, что не знаю, как следует, французского, но и потому, что их беспокойство состоит из одних недомолвок, намеков и оговорок. Короче говоря, Беляночки интригуют. Демианов не пишет. Ни мне ни Вольтеру. Неужели обижен? Или увлечен другим? Уж лучше бы так.
M-lle Кики, подружка маркиза, сидела в нашей гостиной дожидаясь своего приятеля. Я тут же разбирал счета. Они с Вольтером развлекали друг друга несколько сальными разговорчиками. Когда он попросил меня помочь им, я был сосредоточен на своем деле и никак не мог уяснить, что он хочет. Тогда А.Г., извинившись перед m-lle, стал объяснять по-русски. Оказывается Ап.Григ. убеждает эту «милую девушку» в том, что целоваться в губы одновременно втроем очень даже возможно, что он и желает ей продемонстрировать сейчас же с моей помощью. Я, смутившись, стал лепетать, что неуверен, что маркиз одобрит подобные упражнения, и что лучше бы Вольтер его пригласил. На что Аполлон отрезал: «Маркиз со мной целоваться не станет». Я сказал, что тоже не уверен в возможности такого поцелуя. Вольтер обрадовался: «Сейчас я вас всех научу! Идите сюда!». M-lle захихикала, я покраснел, наши лица приблизились, и действительно, три человека могут все вместе одновременно целовать друг друга, ничуть не мешаясь. Говоря откровенно, ничего более восхитительного, невероятного, волнующего я еще в жизни не испытывал.
2 июля 1910 года (пятница)
Затишье. То ли под влиянием доктора, то ли само по себе. На нашем этаже гостей почти нет. За столом у В. не так оживленно. Потихоньку гуляем, пьем водичку, кушаем, что можно – лечимся. Я уже начинаю опасаться, что, несмотря на развлечения, очень скоро все здесь смертельно наскучит. У меня одно утешение – Вольтер, несомненно, соскучится раньше меня. И тогда мы уедем. Демианову написал отчаянное письмо. Слишком несдержанное. Неужели и на него не ответит?
3 июля 1910 года (суббота)
Гуляние, катание и та же всё компания… и Демианов не пишет, а без его внимания, ах, вот опять рифма, но все же, без него мне не до стихов. Маркиз взялся учить меня игре в теннис. Пока получается плохо. Его подруга улыбается и подмигивает, но мне она не интересна. Я бы с радостью повторил тройной поцелуй, он произвел на меня впечатление. Это похоже на ритуальное действо, такое таинственно странное. Но ни в коем случае не с ней. И не с Вольтером тоже. А кого бы я хотел видеть на их месте? Не могу сказать. Демианов с Ольгой, пожалуй, не захотят целоваться. Наверное, Демианову это совсем бы не пришлось по вкусу. А Ольга? Кого бы взяла третьим Ольга? И тут я вспомнил разговор с сестрой об ее идеале. Пожалуй, Ольга захотела бы взять третьим партнером Таню или другую женщину. Но для меня две женщины сразу – определенно перебор.
4 июля 1910 года (воскресенье)
От Демианова письмо. Наконец-то! Простое, милое, веселое. Мне стало стыдно за свое, с подозрениями и упреками. Денег у него опять нет, и он был вынужден, все же, перебраться на дачу. Часто видит моих. Все здоровы. Прислал мне стихи. Чудесные!
Один здешний доктор, Груббер, немного говорит по-русски. Видимо, желудки наших соотечественников его особая специальность. Он заходит осматривать А.Г. каждый день. Меня почти не замечает, впрочем, всегда здоровается очень вежливо. В этот раз я шел к Вольтеру перед завтраком, а он от него выходил. Раскланявшись, как обычно, я собирался уже пройти мимо, но он удержал меня за локоть и отвел в сторону.
– Вы, Александр…
– Макарович. – Он кивнул и старательно выговорил, грассируя по-немецки, – Александр Макарович. Я хотел просить вас о помощи.
– Чем могу?
– Вы имеете влияние на господина Вольтера, в связи с тем, я хотел просить вас помочь мне.
Не знаю, зачем я поспешил разуверить его. Мол, какое там влияние, вряд ли я могу на кого-то влиять, тем более на Вольтера. Скорее уж, это он на меня влияет. А что касается лечения, тут меня и уговаривать не нужно, сам я все прекрасно понимаю и все мы, близкие, на стороне врачей и без особого приглашения непрестанно увещеваем его вести себя хорошо. Он сказал, что имел в виду несколько другое, но теперь ему некогда и отложил разговор. Эта сцена озадачила и расстроила меня. Я видел, что Груббер ушел разочарованный и понимал, что разговор наш не отложен, а прекращен окончательно. Он-то думал, я своенравный фаворит, способный манипулировать своим патроном, а я существо целиком зависимое и подчиненное. Разумеется, интерес ко мне был тут же утрачен. Кажется, я повел себя ужасно глупо. Несомненно, такую иллюзию относительно меня питают здесь многие. Должен был я поддержать ее в Груббере? Хотя бы даже для того, чтобы как следует понять, чего он хотел, только ли того, чтобы Аполлон режим соблюдал? Теперь, захоти я вернуть его конфиянс, это мне больших усилий будет стоить. Вечером ходили всей компанией слушать музыку. Концерт был чудесный, Венский оркестр играл Моцарта, Глюка, Берлиоза. Тихая, сладкая печаль на меня нашла.
5 июля 1910 года (понедельник)
Смог ли бы я стать тем, за кого меня Груббер принял? Вот если бы задался целью нарочно этого добиться? Влиять на Вольтера, заставить его мне потакать, капризничать и ставить условия. Пожалуй, для этого нужно перестать быть собой и сделаться кем-то совершенно другим. А я что такое? И где мое место, и каково мое качество? Я захандрил. Собраться и уехать домой, к Демианову. Заняться там делами, «Кошкой», например, что же это, мы уехали, а новый театр без присмотра, так погибнет все дело, не начавшись толком. Пустое, пустое. И театр без меня обойдется и Демианов. Совсем я потерялся. Среди чужих людей, чужих речей, в чужих стенах, я сам себе чужим делаюсь и уже не знаю на каком я свете. Милый Миша, спаси меня! Взялся за дневник. Как хорошо и просто. Где-то был бы я теперь, если б не встретил Демианова?
У Вольтера, кажется, роман с M-lle Кики. Она молодая, очень хорошенькая, маркиз от нее без памяти, и Ап.Григ. наш туда же. Вот тоже напасть.
6 июля 1910 года (вторник)
Что было бы, будь мы сейчас вместе? Ссоры, обиды, раздражение, упреки. Возможно. Даже наверное. Но я далеко, и нежность меня переполняет. Милый, бесценный мой Демианов! Целую имя твое, мой дорогой учитель, единственный друг. Чтение дневника меня успокаивает, приводит отчасти в чувства. Среди иноязычной какофонии и в неприкаянности моей, он как островок, уютный и тихий, милое пристанище. В седьмом году, был рядом с ним некто вроде меня. Впрочем, не так уж похож, разве, возрастом немного, да и то старше. И не так податлив. Я податливость не телесную разумею. Что касается телесного, только то меж ними и было. И Миша был недоволен, ему было мало одного лишь красивого тела. Так что, нет, не похож тот на меня. Но он недолго и задержался. А я? Если кончено всё меж нами, выходит, и того меньше. Когда-то я увижу его снова? Как-то встретимся? Письмо от Ольги. То, что она пишет, для меня не новости, я их знаю от Тани и от Миши. Но все равно приятно, что Ольга написала мне отдельно от Вольтера и выполнила все свои обещания. Так я ей обязан, аж неловко делается. Прислала свою карточку. Очень она хороша. На карточке красивее даже, чем в жизни. Я и по ней скучаю. Но не по Петербургу. Их бы с Мишей сюда, и ничего больше не нужно. А.Г. грезит Италией, но врачи его не отпустят, по крайней мере, еще недели три. Впрочем, если он захочет уехать, разве ему помешают? Покамест, его здесь кое-кто держит. К маркизу он, что ли, подбирается через эту глупую кокотку? Ну, пусть. Его дело. Лишь бы был здоров и не скучал.
7 июля 1910 года (среда)
Явилась пётиньесса моих Беляночек. При первом взгляде на нее, меня точно громом ударило. Ее лицо – точная копия московского Алеши. Не то, что напоминает его или есть меж ними сходство, а просто то же самое лицо. Поразительно! Откуда у этой женщины лицо того мальчика? Нас представили друг другу по-французски, и по-французски же завелась беседа, приличная в таких случаях, ничего не значащая. Вдруг она, прервавшись на полуслове, обращается ко мне на чистейшем русском языке: «Что с вами? Почему вы так смотрите?» Я извинился, спросил, нет ли у нее родственников Супуновых или Арсеньевых. Она сказала, что не знает никого из русских родственников, кроме отца, что всю жизнь прожила в Лионе, почти не выезжая. Попросила на досуге рассказать о Петербурге. Я обещал. Все никак не мог перестать пожирать ее глазами. Лицо Мышонка. И нет в ней или ее лице ни капли мужественности, оно вполне к ней идет и хорошо смотрится с платьем и тонкими руками. Да и в Алеше не было женственности, только детскость. С ума можно сойти! Сколько раз, смотря в театре «Двенадцатую ночь», или что-нибудь подобное, я возмущался нелепости, неправдоподобию сюжета. Не может женщина так быть похожа на мужчину, чтобы их приняли за одного человека, даже если она его сестра. И актрисы на сцене служили твердым тому доказательством. А вот, жизнь со мной сыграла спектакль, убедив, что в ней может быть что угодно, даже то, чего представить себе нельзя. Невозможное, невообразимое явилось мне, как ни в чем не бывало. Впрочем, если не думать о лице Мышонка, то она очень, очень приятная особа. Тетушки зовут ее Аннет, но я стал называть Анной, и ей это приятно – так отец называет. Милая, добрая девушка, с легким характером, без жеманства и экзальтаций, которые мне в Кики отвратительны. Вопреки ожиданиям, ее приезд моих пожилых подруг не утешил, а, напротив, они больше еще расстроены. Не привезла она им успокоения, стало быть. Однако вид она имеет вполне здоровый, усадили ее, к моему удовольствию, за наш стол. А m-lles Клер и Бланш продолжают интриговать и убиваться. Бог знает, что у них там за фантазии. Но теперь я уж ничему не удивлюсь. Всё может быть. Написал Демианову, о том, что встретил здесь женщину, наполовину француженку, лицо которой нельзя отличить от лица нашего московского Мышонка. На бумаге получилась забавная, веселая история, а мне не до смеха, я потрясен.
8 июля 1910 года (четверг)
С А.Г. писали письма, разбирали счета. Ужас, во что обходится наше здесь житье. Я уж должен бы привыкнуть к Вольтеровским тратам, но совсем равнодушным при виде таких сумм, оставаться не могу. После обеда гуляли с Анной в парке. Болтали по-русски обо всем. Она много выспрашивает про Петербург. По-книжному рассуждает о том, как там живут ее соотечественницы, наивно и трогательно. Я рассказывал про Демианова, что можно, конечно. Читал стихи. Она заявила, что в восторге, требовала читать еще, и взяла с меня обещание, переписать для нее все, какие помню. Это мне бальзам на сердце. Анна сразу сделалась для меня близкой. Я очень рад, что душа ее отозвалась с такой готовностью, на всё, что мне бесконечно дорого. От этой внезапной, неожиданной близости я расчувствовался, и, чуть было, не решился даже спросить, что это беспокоит в ней ее родственниц, но все-таки удержался. Лицо Мышонка и интерес к Демианову. Можно найти в этом нечто демоническое, если поискать. Но я просто радуюсь от души своему новому другу. Ходил в магазин, специально купить красивую тетрадь для Анны. После ужина, манкировав вечерние забавы, переписывал Мишины стихи. Ужасно старался сделать красиво, боялся ошибиться, испортить, и от этого прямо трепетал. И еще от того, что вот новый человек теперь с нами связан. И снова сопричастность, фантазии, надежды – полнота жизни. А то совсем было зачах.
9 июля 1910 года (пятница)
Если бы я и вправду мог манипулировать Вольтером, то потребовал бы выписать к нам Демианова. Тоскую по нему. Рассказал Аполлону свой разговор с Груб., но он ни капли не заинтересовался. У него теперь свои интриги. Целыми днями они втроем не расстаются. Кажется, и ночами тоже. Ей уже комнату свою отвели в наших апартаментах. Митя дуется почему-то. То есть, я не совсем, конечно, не понимаю почему. Но заодно с Аполлоном и на меня тоже. Я-то чем виноват? Ворчит, что здесь никакое не лечение, а только одна вредность. Я с ним отчасти согласен. Анна, несмотря на мои уговоры, категорически отказывается говорить со мной по-фр. Ей очень нравится болтать на русском языке. И можно ее понять. Русская наша болтовня живая, бодрая, откровенная и теплая. А французские беседы натянуты и искусственны, из-за меня, разумеется. Но, в конце концов, нужно и мне совершенствоваться. Я предложил ей развлекаться, потешаясь над моими ошибками, но она, поглядев серьезно, заявила, что не желает смеяться надо мной. Я все толкую ей о Демианове. Подумываю даже показать дневник. Надеюсь, ей не скоро наскучит мой интерес. Она любит расспрашивать о Петербурге. Немного странные подробности ее интересуют. Я приписываю это книжным представлениям о России. Думаю непременно пригласить ее, когда вернемся домой.
10 июля 1910 года (суббота)
От Демианова письмо. В Кошке теперь настоящий театр. Приехал режиссер из Москвы. Идут репетиции. Ставят Мишину пьесу и еще что-то. Он хочет опять перебираться с дачи в Петербург, чтобы иметь возможность чаще бывать в театре. Я написал ему, пусть непременно переезжает в нашу квартиру, за нее до осени заплачено. Очень тоскую по нему. Про дневник пропавший ни слова. Не обнаружил? Не подумал на меня? Когда-нибудь я решусь покаяться, но не теперь. Гадаю по нему, как по книге. И всякий раз получаю в ответ нечто невообразимое. Решился прочесть Анне кое-что из своих стихов, те, что хвалил Демианов. Про акростихи она раньше не знала и они ей ужасно понравились. Обещал написать специально для нее. M-lles Бланш и Клер счастливы, что мы подружились. А.Г. тоже не преминул отметить, что у меня новая подруга. Да бог с ними со всеми, я счастлив, что встретил здесь Анну. На душе теперь легко и радостно, и не чувствую больше себя неприкаянным. Я вижу, что Анна тоже мне рада. Милая, добрая девушка. Однако Беляночки тревожатся не впустую. Я вижу, что-то тяготит ее. Если бы я мог узнать что, и облегчить ее душу так, как она облегчила мою. Но спросить не осмеливаюсь, а для того, чтоб она сама мне доверилась, мы еще слишком мало знакомы.
А я Вас ждал, хотя такое невозможно.
Не зная даже сам, что Вас, что жду.
Еще вчера мне было грустно и тревожно,
Теперь по парку с Вами радостно иду.
11 июля 1910 года (воскресенье)
Таня пишет регулярно, но довольно сухо, без лишних откровений и подробностей. Мама приписывает в конце несколько строк. Хоть они и устроены вполне, благодаря Ольге, а все же, душа болит за них. И за В. тоже беспокоюсь, из-за его увлечения. Тут отчасти на меня Митино влияние. Уж очень он недоволен и своего недовольства не скрывает. Я слышал, как он заявил А.Г., что уедет один отсюда. На что Аполлон ответил: «Ты меня не бросишь». Но, мне показалось, вышло у него это неуверенно и жалобно слегка. Они теперь везде втроем, А.Г., маркиз и их прелестница. Что у них за роман? Я не вдаюсь в подробности, не хочу. Моя компания теперь Анна и по вечерам еще ее тетушки. Меня нисколько не тяготит такое общество. Между мной и Анной – Демианов, и это наполняет меня. Между Анной и ее родней – какая-то интрига, и это меня занимает. Я понемногу начинаю догадываться кое о чем. Например, мне кажется, Анна хочет сбежать от родных в Петербург. Это ясно из вопросов, которые она ставит. Но почему непременно в Петерб., и почему стремится убежать, пока не ясно. Скорее всего, Петерб. у нее вызывает романтические грезы, как у нас, например Венеция или Париж. Все, что она представляет по рассказам отца и по книгам, кажется ей привлекательным. Куда ж ей еще стремиться? Я очень понимаю ее, хоть и не знаю всего.
12 июля 1910 года (понедельник)
Анны за завтраком не было. Тетки ее явились, имея вид озабоченный, даже испуганный. Расспросить их не успел, т.к. они сразу же умчались, по всей видимости, к ней. Я вызнал, где ее комната, пошел, постучался. Открыла m-lle Клер. И, вопреки ожиданиям, впустила меня без звука. Войдя, увидел Анну, лежащую на постели одетой. Лицо бледное, тени под глазами, но улыбнулась и сказала, что рада мне. Я пожал ей руку. Тетушки расселись возле кровати, затараторили принужденно весело. Я сказал им, что, может быть, разговоры утомляют Анну, но все они втроем уверили меня, что ей сейчас необходимо развлечься. Принесли завтрак. Анна при нас поела немного и выпила кофе. Щеки у нее порозовели и заблестели глаза. Скоро она заявила, что чувствует себя прекрасно и может уже встать. Тетки, как ни странно, не возражали. Я ушел к Вольтеру. А.Г. объявил, что вся компания едет купаться куда-то за реку. Я растерялся, не знал, ехать мне с ними, остаться с Анной или позвать ее тоже. В конце концов, не позвал и уехал, о чем потом жалел. Т.е. жалел не о поездке, а о том, что не позвал Анну. Купались чудесно. Еле-еле успели к ужину.
Поздно вечером, почти ночью, А.Г. прислал за мной. Я был уже раздет. Обычно, Вольтер если и нуждается в ком-то в такое время, то не во мне. Оделся, пошел. Кики перегрелась на солнце, маркиз что-то не в духе, В. один, несчастный. До утра проговорили с ним откровенно. О себе и своих новых друзьях он все понимает прекрасно. Так что нотации мои и Груббера для него бесполезны. Ну и хорошо, что я сыграл тогда перед доктором дурачка, а то бы он сделал меня союзником в бессмысленной, ненужной борьбе против Вольтеровских фаворитов. Бог с ними. Не обошлось и без моих собственных излияний. Я, чуть не плача, говорил о разлуке с Демиановым, о том, как неловко чувствую себя здесь за границей, и, в конце концов, попросил отправить меня домой. Неожиданно В. не стал со мной спорить, а сказал, чтобы я еще хорошенько обдумал все, и, если приму окончательное решение, тут же ему сказал. И как только захочу, сразу смогу уехать. Мне это было неприятно. Я почему-то был уверен, что он станет уговаривать меня, увещевать, просить остаться с ним. Но тогда бы я, наверное, упрямился, а тут мне, вроде бы и расхотелось даже уезжать. Может, А.Г. это нарочно так сделал? Про Анну тоже говорили. Интересно, что А.Г., который, казалось бы, занят своими делами и в ее сторону почти не смотрит, знает больше меня, уже считавшего себя ее другом. Сообщил мне, что отец ее, довольно крупный банкир, что дело перешло к нему от покойного тестя, тот подобного брака для дочери не желал, но, все же, зятя принял и приобщил. Я изумился таким познаниям. А.Г, посмеялся только. Над моим рассказом о ее утреннем недомогании он тоже позабавился. Говорит: «Ну это болезнь известная». Я говорю: «Чем известная? У вас то же бывает?» А он как давай хохотать, прямо до слез: «Нет, такое обыкновенно только с женщинами случается». И рукою свой огромный живот погладил.
– Что вы! Она же не замужем.
– Ну, что ж, бывает и с незамужними.
Я почему-то был неприятно поражен таким его предположением. И положительно решил для себя, что Вольтер ошибся.
13 июля 1910 года (вторник)
Проснулся поздно. Лежал, обдумывал вчерашнее. Вышел только к обеду. Наши, то есть, Вольтер со своими, уже куда-то уехали. Гуляли с Анной. После бессонной ночи и позднего пробуждения голова немного тяжелая и всё вокруг – дорожки, деревья, и солнце и пение птиц, как будто не прямо на меня действует, а словно через невидимый вязкий слой фантастической материи. Я всё смотрел на Анну. Вглядывался в ее лицо, опять видя в нем только московского мальчика, смотрел на тонкие руки и гибкую девичью талию, несомненно, В. придумал про нее глупости, у нее не может быть ничего подобного. Ходили долго, потом уселись прямо на траву. Я снова много говорил о Демианове. Когда я с Анной, начинаю о нем – не могу остановиться. Кругом солнце и мягкая трава, птички щебечут, цветы, бабочки, кузнечики, а я всё: «Миша, Миша, Миша». Вдруг она посмотрела пристально, и, серьезно так, сказала: «Саша, но это же не любовь! Это не может быть любовью». Я, сначала, страшно на нее разозлился: как она смеет рассуждать, не понимая! Потом говорил долго и сбивчиво, что именно это и есть любовь, что только такою она может быть… получилось путано, вяло, неубедительно. Когда уже сжился с мыслью, и она в тебя проросла, гораздо труднее высказать ее другому. То ли дело, когда додумался только что, и сам еще хорошенько всего не понял, и объясняешь, разбирая, и тут же новые являются озарения. Тогда выходит вдохновенно, ясно, бесспорно. Не сумев объяснить, как нужно, я снова разозлился и прямо ей заявил: «Глупо! Ты ничего не смыслишь в этом и не смеешь судить!» И отвернулся. Она не отвечала, сидели молча. Когда мне показалось, что я уже довольно долго сижу отвернувшись, да и вообще, пора вставать с травы и идти дальше, я обнаружил, что рядом со мной никого нет. Анна ушла. Когда она ушла? И как я не заметил? Хотел, было, побежать догнать, но ее нигде не было видно. Господи! И за что я на нее набросился? Ругал себя последними словами, и до ужина на душе было скверно, нечисто. Наши (А.Г.) к ужину не явились, говорят, уехали во Франкфурт. Я уселся за стол раньше всех и с замиранием сердца ждал, придет ли Анна. Пришла. Улыбнулась мне, как ни в чем не бывало. Я спросил по-русски: «Вы не сердитесь на меня?» – «Нисколько». Но после ужина ушла так быстро, что переговорить с ней не успел. Голова у меня была все еще тяжелая, и я решил лечь пораньше. Но, заснув в 9, в 11 уже окончательно проснулся, встал и не находил себе места. Прошелся, посмотрел – нет никого. Сделалось немного обидно, что меня не взяли. Неужели из-за разговоров об отъезде В. меня уже списал? Ходил-ходил, в конце концов, спустился по лестнице, прошел по темному коридору и постучал к Анне. Она спросила кто там. Я назвался, открыла почти мгновенно, как будто ждала. Я стал бормотать извинения, оправдываться. Она сказала: «Не нужно, Саша, вы правы. Я не могу судить о любви, я ничего, совершенно ничего в ней не понимаю». Закрыла лицо руками и заплакала. Мне не хотелось расспрашивать. Ясно и так – с ней какое-то несчастье. Но, я попал в положение, в котором нельзя было не спросить. Заплаканное личико открылось мне. Даже в слезах – Мышонок, бедный, маленький мышонок. Ее обманули, предали, обесчестили, оболгали. Горькая чужая правда излилась на меня вопреки моему желанию. Казалось, этот поток признаний, обид, разочарований, упреков ни чем не остановить. Но нет, бурное излияние длилось не более минуты. Потом сидели молча. Я не знал, что сказать. Она попросила открыть окно. Я спросил: «Хотите, пойдем прогуляться?» – «Сейчас?» – «Да, сейчас».
Двери уже закрыли на ночь, но портье нас выпустил и обещал впустить, если мы постучим ему в окошко. Бедная Анна! Все против нее. И тот человек и родители. Старые тетки и те целиком на ее сторону не встают – не хотят ни с кем ссориться и держат нейтралитет. Отец категорически требует избавиться от беременности. Сама она даже думать об этом не желает. Положение безвыходное. Ужасно.
14 июля 1910 года (среда)
Проснулся очень поздно, почти к вечеру. Всё еще один. Бросили они меня здесь что ли? От того, что узнал накануне, внутри тяжело и гадко. Сел писать письма, чтобы забыться. Обедал в городе. Решил, как только явится Вольтер, подтвердить ему свое желание уехать в Петербург. Надоело бездельничать. Гулял. Вернулся за полночь к закрытым дверям, хорошо, уже знал, в какое окошко стучать. Наших всё нет. Ходил туда-сюда по пустым коридорам и комнатам. Темно, пусто, как и на душе у меня.
15 июля 1910 года (четверг)
Проснувшись, прислушивался, приехали или нет? Не приехали. К завтраку спускаться не хотел, но голод и привычка, образовавшаяся здесь, есть в одни и те же часы, решили за меня. К тому же вчера почти ничего не ел. При мысли, что сейчас увижу Анну, мне сделалось неловко. Глупо бегать от нее. Она, в конце концов, не виновата в своем несчастье, но я-то уже тем более не виноват. За завтраком улыбались, как ни в чем не бывало. Она спросила, где я вчера пропадал, я сказал, что ездил по делу.
Разбирал счета и письма. Ольга зовет нас с Вольт. в Париж. Мне очень захотелось увидеть Париж и Ольгу. В Петерб.-то я всегда успею вернуться. Что если взять и уехать к ней сейчас? А Аполлон, как надоест ему лечиться, тоже приедет. Демианов увлечен театром и не только им. Мне не было ни больно ни неприятно узнать о его новом увлечении. Так это все теперь от меня далеко. Мой Демианов здесь, со мной. В дневниках 7-го года, в стихах, в письмах, в разговорах о нем. Не знаю даже захотел ли бы я увидеть его, вернувшись домой. Нет, все же, захотел бы. Ходил купаться. Пили воду с Анной и тетками. Вольтера всё нет.
16 июля 1910 года (пятница)
Ночной переполох я слышал – вернулись. Но разбудили меня не они, что-то другое. Что же? Внезапная мысль, толчок изнутри. Лежал в темноте, прислушиваясь к гомону за дверью, и всё старался сосредоточиться, припомнить. Что-то такое, нет, не неприятное, но от чего душа будто перекувырнулась через голову. И, вернувшись на место, осталась ошеломленная и оглушенная слегка, а память заботливо ее оберегая, от нового потрясения не торопится выдать ответ. Ну, вот. Вспомнил. Положительно мне приснилась нелепица. Забыть, успокоиться и снова заснуть. Но сна больше не было ни в одном глазу. Поворочавшись с часок, встал, оделся, хотел пойти поприветствовать наших, но они затихли, видно, уже улеглись. Спустился вниз, попросил отпереть мне дверь. Вышел. Темно, прохладно. Ходил до утра, ничуть не утомляясь. Всё думал, думал, думал. Возможно или нет? Хорошо ли? И что с нами будет, если решусь?
Вольтеру его похождения на пользу. За те несколько дней, что я его не видел, он стал лучше выглядеть. Кики весела как всегда, и ее развязность уже не так меня раздражает. Маркиз очень дружелюбен со мной. Сразу же предложил возобновить наши занятия теннисом. Митя тоже больше ни на кого не дуется. Словом, после разлуки все кажутся мне особенно милыми. Как будто 100 лет не видались. Только когда они вернулись, я понял, как мне их не доставало и как без них смертельно скучно. Может быть, это у меня ночью от тоски помутнение в голове сделалось? Впрочем, будь что будет. А пока я бросился наслаждаться обществом своих друзей, все их затеи принимал на ура, резвился и радовался как ребенок.
17 июля 1910 года (суббота)
Моя безумная идея преследует меня, как ни стараюсь забыться в развлечениях. С Вольтером советоваться не хочу, боюсь, он будет насмешничать. Написал Тане, что-то она ответит? Играли в теннис, купались, катались в лодках. Заснув довольно рано, проспал только два часа. У В. в комнате возня и хихиканье. Я не стал заходить. Спустился в общую гостиную, там уже никого. Не собираясь стучаться, пошел посмотреть только, спит ли Анна. Из-под двери полоска света. Постучал. Она открыла, не спрашивая.
– Вы ждете кого-то?
– Нет, не ждала, но когда постучали, была уверена, что это вы.
Сердце мое заколотилось. Может ли она догадываться, зачем я? Говорят, у женщин особое чутье в таких случаях. Неожиданно для самого себя, вдруг, ни с того ни с сего, я начал: «Мне, может быть, нужно было сначала говорить с вашими тетушками, но я слишком мало знаю французский, чтобы хорошенько изъясниться. Да и из своих я ни с кем посоветоваться не успел, а вы мой друг, то есть, я так полагаю, что мы друзья…» – она закивала ободряюще. – «И, хоть речь пойдет о вас, и вопрос деликатный, но чувствую, что именно с вами я и должен говорить в первую очередь». И снова, посмотрев в ее лицо, я подумал о том мальчике. Неужели он теперь всегда будет меня преследовать? – «Раз уж я решился говорить откровенно, то скажу всё, не обессудьте. Я ни в коем случае не имею намеренья вас обидеть. Наоборот. Для того и хочу, чтобы все было честно. Вы уж знаете обо мне кое-что, я человек бедный, ни то ни се, никаких особых талантов не имею. Слушайте, не возражайте. Все возражения я знаю – милый мальчик, всё еще впереди. Не такой уж я и мальчик, мне скоро 20, и нет у меня впереди ничего такого. Гимназии не кончил, хотя мог, пока не встретил Вольтера, был рабочим в театре, теперь вот возле него. Хорошо понимаю, в других обстоятельствах девушка вашего круга… Да! Хочу заявить, что знаю о вашем отце, хоть и не от вас. Знаю, что он богат». Она прошептала: «Я всё поняла. Вы так добры. Благодарю вас». – «Выслушайте же меня до конца, ради бога! Так вот, я знаю, кто ваш отец и меня могут обвинить в корысти. Пусть. Да и не исключено, что это правда. Жестоко, может быть, говорить вам прямо, что при других обстоятельствах вы могли бы лучшую партию составить. Но теперь, предложение, которое я хочу вам сделать, возможно, будет спасением для вас. Мы могли бы сказать всем вашим, что я тот самый человек. И А.Г. не откажется подтвердить, если понадобится, что я был с ним в Лионе несколько месяцев назад. Скажем, что из-за разницы в общественном положении, я не решался сделать вам предложения. Но теперь, когда это неизбежно, мы должны пожениться. Надеюсь, и ваши тетушки смогут нам подыграть. Это если, конечно, ваши родители его не видели и не знали о нем». По ее щекам текли слезы. – «Подумайте. Если только это будет для вас выход из положения, воспользуйтесь мной, прошу вас. Несмотря ни на что, я делаю предложение от чистого сердца, чувствуя в вас близкого человека, которого не смею оставить в беде. Я слишком мало могу предложить. Но всё, что могу – предлагаю. Если ваши родители не примут меня, я все равно от вас не отступлюсь. Мы, может быть, будем жить бедно, не так, как вы привыкли, но дитя будет спасено». Тут уж она в голос разрыдалась. Я стал гладить ее по голове, шептал утешения. Говорил еще про маму и Таню, как они будут рады ей и ребенку. Она обняла меня, прижалась, тепленькая, милая, несчастная. Я взял ее на колени, стал укачивать. Понемногу успокоились оба. Посидели тихонько. Потом она благодарила, хвалила меня, какой я великодушный, говорила, что не хочет меня обременять. Я твердо возражал и отказывался слушать всякий вздор. Говорили еще долго. В конце концов, распрощались, я ушел к себе. Не знаю, спала ли Анна – я не спал. В сущности, она так и не приняла моего предложения, а только умилилась на то, что я его сделал. Воспримет ли всерьез? Увидит ли во мне возможность своего спасения? Где уж тут было заснуть. Метался как в лихорадке. Сомнения. Тревога. И все-таки надежда на лучшее.
18 июля 1910 года (воскресенье)
Ничего. За столом и при встрече улыбаемся друг другу, как ни в чем не бывало. Неужели согласится? Неужели станет женой? И ребенок, неужели действительно появится? Непостижимо.
19 июля 1910 года (понедельник)
Ездили гулять и купаться с А.Г. и компанией. Я звал с нами Анну, но она не поехала, побоялась перегреться. Перед ужином настоящее представление разыгралось, комическая пантомима. Тетушка Бланш, пройдя через весь зал, подошла к нашему столу и молча пожала мне руку, вид при этом имея торжественный до смешного. Я хотел уж было сесть, но вслед за сестрой подошла тетушка Клер и сделала то же. Я сначала растерялся, но взглянул на Анну, она прыснула и мы оба расхохотались. Разумеется, все вокруг остались в недоумении. После ужина в одной из беседок у бювета состоялся совет. M-lle. Клер заявила, что они с сестрой посвящены. Мы с Анной широко заулыбались, вспомнив, что уж они продемонстрировали свою посвященность. Потом последовали восклицания о моем необыкновенном благородстве и доброте, на что, как мог, отнекивался. После всех излияний перешли к делу. Так вот, тетушки считают, что для всеобщего блага выдавать меня за того проходимца ни в коем случае нельзя. Человек, поступивший бесчестно, пусть даже и раскаявшийся, не внушит родителям приязни. Тетушки сами берутся написать письмо племяннице и зятю, в котором представят меня и мой «благородный порыв» в лучшем виде. Они много тараторили, целовали нас, плакали, предсказывали будущее. Внезапно их осенило, что они должны оставить нас наедине, и снова расцеловавшись, наши пожилые мадемуазели удалились довольные своей сноровкой в устройстве чужих амурных дел. Я пошутил, что Анна своеобразный способ выбрала сообщить о своем согласии. Мы обнялись. Так уютно моей ладони на ее спине. Теплое, родное существо. Анна объявила, что имеет свое условие, в случае отказа ее отца принять меня в семью как положено, она расторгнет помолвку, т.к. обременять меня ни в коем случае не хочет. Мне, мол, и так нелегко. А я сказал, что не отпущу ее от себя. И мы поцеловались впервые, через две недели после знакомства, будучи почти супругами.
20 июля 1910 года (вторник)
Так я и думал! Вольтер, узнав о моем намеренье, Стал меня нахваливать, но его похвалы мне казались упреками. Всё в том духе, что папаша ее богат, что я себя теперь могу считать вступившим в выгодное дело, что он не подозревал во мне такой хватки. Я только злился. А когда я ему рассказывал, он меня коньяком угощал. А от того, что злился, я пил всё больше. А выпив слишком много, наболтал лишнего. Выболтал и то, чего уж совсем никому не собирался говорить. Зачем-то сказал Вольтеру, что у нее лицо Мышонка. Он тихонько так, почти в сторону говорит: «Ах, вот ты на ком женишься». Вздор. Глупость. Дался мне этот мальчонка. Стал бы я на нем жениться! В конце концов, не Демианова же она копия. Но пойди теперь объяснись. От таких разговоров потом видел во сне, что Анна родила мне ту самую девочку с лицом М.А., что снилась мне раньше. Приносит и говорит: «Это у меня от вашей с ним любви». А я почему-то испугался, хотел бежать, но чувствую, что-то меня держит и от этого еще страшнее. А всё Вольтер со своим коньяком и насмешками.
21 июля 1910 года (среда)
Я люблю обнимать Анну. Мне нравится ее тело. Она совсем не такая мягкая, как Ольга, наоборот, упругая, гибкая и очень горячая. Я чувствую нежность, покой и вместе трепет, обнимая ее. Словно ребенка держишь в руках или зверька послушного, но способного в любой момент сделаться диким. На живот и намека нет. Не ошибка ли? Я слышал, бывает и ложная беременность. Но теперь это не имеет для меня значения, я от нее не отступлюсь. Даже если отец откажет. Плевать на отца. Уедем в Петербург.
22 июля 1910 года (четверг)
Листал на досуге дневник Демианова. Чем-то он занят теперь, и кем? Напишет В. ему о моих планах или нет? И что-то он подумает? Вспоминается история с женитьбой Правосудова. Конечно там совсем другое дело, и я не Сергей, а между тем, любопытно было бы знать его отношение. Думаю, В. обязательно насплетничает. Хотя, теперь ему не до нас. Что-то у них в комнатах по ночам неспокойно. То ли плачут, то ли смеются, двигают мебель и быстро-быстро говорят на разных языках. А.Г. в свои тайны не посвящает меня, но мой интерес теперь в Анне.
23 июля 1910 года (пятница)
Письмо от Тани удивило меня и рассердило. Она в довольно резких и ядовитых выражениях высказывается в том духе, что всех заблудших девушек Европы спасти невозможно, и что, женившись на первой из обманутых, встреченных мной, я буду должен впредь жениться на каждой несчастной, что всякому участию есть предел и сочувствие не повод для брака, а нужна, по крайней мере, любовь. Она совсем не поняла меня. Я был задет и огорчен страшно. Откуда в ней это? Как будто не моя Таня писала, а под чью-то диктовку, какого-то злого циника.
Тетушки очень довольны составленным ими письмом зятю. Ждут как манны небесной его благословения. А мне все равно. Что бы он ни ответил, несчастной, поруганной, изуродованной Анна к ним не вернется. Я, в отличие от наших Беляночек, не очень-то верю, что он растрогается и примет этот брак, как выход из положения. Не понимаю, как он мог настаивать на избавлении от зародыша, зная, что это может повредить его дочери, а возможно и убьет ее, имея достаточно средств и возможностей устроить ее судьбу и судьбу будущего внука. От такого человека милостей ожидать не приходится.
24 июля 1910 года (суббота)
Анна позволяет обнимать и целовать себя. Я твердо решил увезти ее в Петербург, очень чувствую, что мы с ней не чужие, но при этом совсем не уверен, что она решилась окончательно. А значит, в любой момент все планы мои могут оказаться разрушенными. Несколько раз заговаривала она о том, что лучше бы отец согласился. Конечно, лучше бы, но разве без него невозможно? Еще неоднократно выражала свое нежелание обременять меня. По мне, так это только вежливая форма ее собственных сомнений. И она права, сомневаясь. Чем я могу возразить? Только одним – она ни в коем случае не погубит дитя, а значит, в семью для нее возврата нет, и всё лучше иметь человека рядом, хотя бы такого как я, чем быть одной. А все-таки я вижу, что она не решилась. Зато милые ее родственницы считают меня уже членом семьи. Когда m-lle Клер с чем-то обращается к своей сестре, та все чаще отвечает ей: «Нужно спросить у Саши». И они спрашивают. Маркиз переехал из своей комнаты на наш этаж. Кроме своих А.Г. теперь еще и его счета оплачивает. На мои робкие замечания он отвечает: «Я все понимаю». «Я делаю, как хочу». «Я могу себе позволить». Или еще что-нибудь такое. Ну, пусть его.
25 июля 1910 года (воскресенье)
Довольно долго мы с Анной совсем не говорили о Демианове. Из-за той размолвки я не решался заговаривать, но не думать о нем не привык. После обеда я зашел переодеться, Анна не дождавшись, поднялась за мной в мою комнату. Тут я не выдержал и показал ей дневник. Сначала сам почитал кое-что, те места, которые меня самого особенно трогают. Потом она взяла его в руки, полистала, молча положила на стол. Я опять много горячо говорил, вышли в парк, она всё молчала. Я уж было подумал, что она совсем не хочет теперь трогать этой темы, но нет, вдруг, взяв меня за руку, Анна сказала: «Я хочу понять, но не могу. Может быть, пойму со временем. Потому, что хочу понять». Меня такие слова растрогали чуть не до слез, особенно это «со временем». Значит, будет у нас еще время? И есть надежда, что Анна не откажется от меня и от моей скромной помощи.
26 июля 1910 года (понедельник)
Мне пришло в голову, если отец ответит отказом, жениться совсем не обязательно. Анна может свободной уехать со мной в Петербург. Но не стоит спешить с этим новым предложением, подожду, что будет.
Анна считает, что маркиз – никакой не маркиз, а просто мошенник. Я склонен с ней согласиться. Да и доктор Груббер, вероятно, хотел меня уведомить о чем-то в этом роде. Впрочем, ничто не мешает и маркизу быть мошенником. Но я спокоен. Вольтер не глуп, не разорит же его эта парочка вчистую. Они все втроем увлечены какими-то мистическими ритуалами, однако, очень похоже на то, что это у них такие любовные игры.
27 июля 1910 года (вторник)
Утром не успел еще одеться, Анна пришла растерянная, бледная. На вопросы не отвечает, отдает письмо. Писано по-русски, специально для меня, видимо. Отец выражается высокопарно и холодно. Хочет составить собственное представление о моих намерениях и обо мне самом, для чего, при первой возможности, выезжает к нам в Киссинген. Вот уж чего мы никак не ожидали. По нашим чаяниям письмо должно было содержать отказ и требование немедленного возвращения Анны домой, при условии «очищения», разумеется. Или же согласие с нашим планом, и приглашение приехать в Лион уже в качестве супругов, ну или хотя бы, жениха и невесты. Теперешнего же осложнения мы никак не предполагали. Тетушки убеждены, что это только формальность и беспокоиться не о чем. Мол, отец чуть ли не благословлять нас едет. Мы с Анной не разделяем их наивной беспечности. Нам обоим тревожно. Но мы так рассудили, что есть у нас еще время подумать, просчитать всё, чтобы принять решение. Анна права, в одночасье дела он не бросит, на то, чтобы уладить всё, передать помощникам и приехать, у него уйдет дней пять. Он убежден, что мы никуда не денемся, поэтому торопиться не будет. И куда нам, действительно, деться? Ждем. Тетки в восторге, Анна боится, но виду старается не подавать, я же почти в панике. Совсем не зная этого человека, я, тем не менее, ничего хорошего от него не жду.
28 июля 1910 года (среда)
Разговоры, разговоры. Много пустых разговоров об одном и том же. Нет, мы-то с Анной всё больше молчим. Это Беляночки стараются нас ободрить и убедить в полном благополучии. Расписывают, как я понравлюсь ему, не без их содействия, разумеется, как он умилится нашему счастью, как мы все вместе отправимся отсюда в Лион. И чем больше они стараются, тем тревожнее у меня на душе. Вечером, когда мы с Анной вышли пройтись перед сном, мне показалось, что она уже перестала бояться, и тревога ее уступила место безразличию. Но мне не безразлично, что будет с ней. Вот приедет человек, не желающий ни с кем делить свою дочь, желающий убить ее ребенка и, чуть ли не ее саму. Он, вероятно, был уверен, что она покорится его воле и ждал ее возвращения, а вовсе не известия от благостных старушек о «счастливом разрешении вопроса». Зачем он едет теперь? В 2 часа ночи я постучался к Вольтеру, он оказался не один и не одет, но мне не до того было. Взял у него 500 р. и 300 марок и пошел будить Анну. – «Здесь слишком много врачей, это город врачей, сюда все лечиться едут. Неужели ты думаешь, что твой отец со своими деньгами не найдет ни одного способного избавить тебя от ребенка насильно. Если мы хотим спасти дитя, то должны немедленно ехать, собирайся сейчас же!» Она не возразила мне, не стала убеждать, что ее отец не такое чудовище и не допустит насилия над ней, не уверяла, будто есть еще надежда, что он простит ее и примет наш союз, не спрашивала даже, куда мы поедем и как, а только попросила дать ей возможность одеться. Я ушел искать Митю, чтобы он помог мне собраться и найти экипаж до станции.
29 июля 1910 года (четверг)
В 5 часов мы выехали на повозке, в которой привозят в санаторий молоко. До станции ехать часов 6. Часа через 1 ½ Анне стало дурно, ее укачало и тошнило от старого молочного запаха. Мы сошли, я отправил нашего возницу обратно. Анну тошнило, в лице ни кровинки. Я узнал у проезжавших мимо, где ближайшая гостиница, и попросил их отвезти туда наши чемоданы, сами мы пошли потихоньку пешком. Понемногу Анна пришла в себя, повеселела. Смеялась надо мной, что я все чемоданы отдал незнакомым людям, а саквояж с дневником Демианова оставил при себе. Я возразил, что кроме дневника там еще и все наши деньги, но она продолжала смеяться: «Нет, нет, дневник – самое ценное!» В гостинице позавтракали. По совету кельнера, рассказавшего, что совсем рядом есть прекрасное местечко, пошли на реку купаться. Вдвоем на природе, свободные от всех, как Адам и Ева. Прекрасно! Отдохнув, успокоившись и чувствуя себя в безопасности, мы решили, что спешить некуда. Здесь вполне можно дождаться приезда отца и вступить с ним в переговоры. Теперь, когда мы для него относительно недоступны, и угроза принудительного аборта не так сильна. Все же, он отец ее, она его любит, и если есть хоть малейшая надежда наладить отношения, мы не должны пренебрегать.
30 июля 1910 года (пятница)
Нежились в постели, лакомились фруктами, купались. У меня был случай рассмотреть Анну получше, действительно есть небольшой животик, кругленький, упругий, очень красивый. Теперь, когда я думаю о ребенке, мне не мальчик и не девочка представляется, а вот этот кругленький Аннин животик, вот его мы должны спасти.
31 июля 1910 года (суббота)
Анну оставил в гостинице, сам пешком ходил в Киссинген, в наш санаторий. А.Г. с друзьями снова в отлучке со вчерашнего дня, Митя, слава богу, оказался на месте, они его не взяли. Я оставил наш адрес, попросил сообщить, когда приедет Сухотин или месье Сотэн, как он называется, живя во Франции. Я дал Мите 10 марок, и он обещал никому про нас ничего не говорить. Конечно, Сотэн может дать больше, но я надеюсь на Митину дружбу. Тетушек предпочел не навещать.
1 августа 1910 года (воскресенье)
Анна здорова, спокойна. А мне не по себе немного. Смогу ли защитить ее? Не глупость ли мы делаем оставшись? Не выдаст ли Митя? Если отец решит забрать ее силой, сколько людей с ним будет? В последний раз я дрался еще в гимназии с троими, с тех пор – никогда. Анна переняла мою привычку гадать по демиановскому дневнику, и говорит, что ей все хорошее всегда выпадает, правда, тут же начинает шутить, что не очень знает, как трактовать места о любви между мужчинами и о браке Правосудова, поэтому всё трактует в свою пользу. Это место, где Правосудов внезапно исчезает, а потом внезапно женится и мне часто выходит. Я попросил хозяина освободить для нас комнату в самом нижнем этаже. Если что – в окно сбежим.
2 августа 1910 года (понедельник)
Снова тревожные мысли. Почему его до сих пор нет? Вдруг приехал уже, а я проворонил? Митя может и не узнать, у него свои заботы. Что, если наше с Анной бегство только разозлит отца и настроит враждебно? Переехать, пока не поздно, обратно? – Неловко. Оставаться в этой гостинице, ждать неизвестно чего? – Тоже нелепо. Пока Анна чувствует себя неплохо, пока не прожили всех денег…. Я попросил у хозяина счет и экипаж до станции. Хотели ехать после обеда, но Анна обедать перед дорогой отказалась. Уложили чемоданы, и как только была готова коляска, выехали. В этот раз до станции доехали благополучно, и там нам повезло – поезда оставалось ждать часа два. Я взял билеты во второй класс до Берлина. Купил хлеба и яблок, и мы закусили ими прямо на перроне, очень весело, по-походному. В вагоне с нами оказалось много детей. Я никогда раньше не наблюдал за детьми так пристально, не обращал на них столько внимания. Все же, «взрослый мир» во многом их идеализирует, и, кажется, приписывает им качества, которых у них нет. Например, считается, что дети романтичны, чисты в помыслах, мечтают всегда о прекрасном и чужды всего материального. Я же увидел, что маленькие человечки меркантильны, эгоистичны и даже жестоки. Но все вокруг, как будто не замечая ничего, все равно от них без ума. Только и слышно: «Ах, ангелочек!», «Какая прелесть!» и «Что за прелестный малыш!». Мне нравится, что Анна смотрит на них, как и я, спокойно, почти равнодушно. В связи с ее материнскими качествами, меня это нисколько не смущает. Все-таки то, что делает ее животик кругленьким и упругим – совсем другое дело. Конечно, и оно сделается когда-нибудь таким вот человечком, хоть в это и с трудом верится, и всё ему будет подчинено, это уж неизбежно. Но, надеюсь, хоть без закатываний глаз обойдется и лишних аффектаций. Я хотел бы мальчика. Нас все принимают за супругов, я считаю, что это теперь так и есть. Формальности мы уладим со временем. Если где и могут быть недоразумения – только на границе, да и то, обойдется наверняка. Обедали в ресторане. Поезд Анна переносит хорошо, хоть в вагоне и душно ужасно. Я успокоился, теперь уж будь что будет. Разумеется, с родителями ее еще не кончено, и предстоят объяснения, непонимания и трудности. Мы напишем им из Петербурга, а там уж как бог даст.
3 августа 1910 года (вторник)
Я был занят чемоданами и тем, чтобы Анна благополучно сошла, поэтому не успел ни растеряться толком, ни опомниться. Он сказал: «Bonjour mes enfants!»[18] – А потом перешел на русский: «Я вас там еще, на станции заприметил, я выходил, а вы садились. Поеду, думаю, и я с вами». Анна сказала только: «Ох». Ей не было нужды представлять, я сразу понял, кто этот господин, и дело даже не в том, что они похожи, никем другим, кроме ее отца он быть не мог. Он, по всей видимости, тоже не нуждался в том, чтобы меня ему представили. Я еще, взяв Анну за руку, соображал, как повести себя, а он уже отдавал распоряжения о своем и нашем багаже, об экипаже и гостинице. Вот и мой возлюбленный Берлин. В других обстоятельствах я снова вращал бы головой во все стороны, восхищался бы, но теперь я неотрывно смотрел на Анну. Во-первых, стараясь поддержать ее, во-вторых – ободрить себя. Зато месье Сотэн болтал непринужденно и словно вместо меня выражал восторг всему, что проезжали. В отеле Père-Souris[19], так я прозвал его, не потому, что перестал опасаться – отнюдь, и не из пренебреженья, а только на него глядя, я тоже невольно вспоминал московского мальчика, таким он мог бы стать взрослым. Так вот, Пэр-сури нанял 3 комнаты, поинтересовавшись самочувствием дочери и получив удовлетворительный ответ, пригласил нас позавтракать. «Я еще ничего не решил», – заявил он с места в карьер, как только мы уселись. И это его заявление недвусмысленно означало, что решать за нас всех будет только он. Но нового прилива тревоги я не испытал. Конечно, мне не стала безразлична наша судьба, а почему-то появилась убежденность, что ничего ужасного теперь не случится. Отец же долго и подробно разбирал наше положение, взвешивал все плюсы и минусы вступления нами в брак, задавал вопросы о моей семье, а вставая из-за стола, снова повторил свое «я еще ничего не решил», но при этом пожал мне руку. Я посмотрел на Анну, она улыбалась и моё ощущение, что все будет хорошо, усилилось. После обеда я выманил их в Грюнвальдский лес, и мы чудесно провели время. Перед сном я настоял на том, чтобы Анна поменялась со мной комнатами, и запретил ей открывать дверь, если только это не будет мой условный стук. Не исключено, что отец все еще планирует избавить ее от ребенка. Анна согласилась сделать, как я говорю, хотя у нее тоже было мое утреннее чувство, что опасность нам больше не грозит. Никто меня до утра не беспокоил, а это значит, к Анне никто не приходил.
4 августа 1910 года (среда)
Утром Анна постучалась ко мне нашим условным стуком.
– Отец приходил ко мне вчера вечером.
– Как?! Неужели он выследил нас, когда менялись?
– Нет. Он хотел говорить с тобой. Стучал и звал тебя. Я не ответила и не открыла, мне было неловко, как бы я объяснялась? Он, наверное, подумал, что ты спишь, и ушел.
Вот так обернулся мой маневр. И смех и грех. Я наскоро привел себя в порядок и пошел к отцу, узнать, чего он хотел от меня вчера. У Пэр-сури ничего нового, он задает вопросы про дядю моего, про Вольтера, а разговор неизменно начинает и кончает фразой «Я еще ничего не решил». Ну, посмотрим, сколько он будет держать такую тактику, и чем она закончится. Осматривали Берлин, были в музее, катались в лодке по Шпрее. Спать отправились каждый в свою комнату, но условного стука не отменили. И правильно сделали. Поздно вечером, я уже готовился лечь, месье Сотэн прислал за мной. Разумеется, это его «я ничего еще не решил» – только присказка. Надо думать, у него давно уж все решено по существу, но, конечно, должен он был присмотреться ко мне и уточнить детали. Пэр-сури держался со мной вежливо, не заносился, но был откровенен. Я беден и без блестящих перспектив, он богат, но дочь его в трудном положении, наш брак станет сделкой честной и справедливой. С тем он меня отпустил, пожав мне руку и оставив обсуждение подробностей до завтра. Счастливый и растроганный я побежал к Анне, постучал по-нашему и сообщил о согласии отца. Было лестно и неожиданно видеть, как бурно она выражает свою радость. Я скорее предполагал что-то вроде успокоенного вздоха или благодарного пожатия рук или сдержанных объятий – ничего подобного. Она смеялась и прыгала и я вслед за ней тоже, мы обнимались, целовались, и Анна даже повизгивала от счастья.
5 августа 1910 года (четверг)
На семейном совете за завтраком было решено всем вместе ехать теперь в Петербург. Там отец сам все устроит с венчанием и свадьбой. Повидаем моих. Затем он предложил нам провести медовый месяц в Италии или еще где-нибудь, где пожелаем. Туда приедет к нам мать Анны. Потом мы можем поселиться в Париже или в обожаемом мной Берлине, или в Петербурге, где угодно. Словом, отец не хочет нашего прибытия в Лион раньше, чем через год-полтора, когда родится ребенок и общество потеряет счет времени, и его репутации уже ничто не будет угрожать, а все будет выглядеть вполне убедительно и пристойно: вот приехала его дочь из-за границы с мужем и с семьей. Знакомым будет сказано, что я его дальний родственник. Когда же все войдет в обычную колею, если я захочу войти в семейное дело, он не будет мне препятствовать, если нет – мы с Анной получим всё, что нам причитается. Что за чудо наш папаша Пэр-сури! А я-то мнил его бессердечным чудовищем. В честь помолвки был праздничный обед в ресторане с видом на чудесное озеро Ванзее. Шутки, смех, объятия, поцелуи. Все довольны и счастливы.
6 августа 1910 года (пятница)
Писали письма. Я – А.Г., мы вместе с Анной – ее тетушкам. И еще Анна написала в Лион своей матери, а я добавил несколько строк с ее поправками. Потом еще я написал своим в Петербург и заставил теперь уже Анну несколько слов добавить. Она по-русски пишет еще хуже, чем я по-фр. На все эти писания полдня ушло. Обедали, гуляли, катались вдвоем. Отец куда-то по своим делам отправился. Говорили о нем. Анна рассказала историю, которая уже отчасти была мне известна от Вольтера. О том, что ее дедушка со стороны матери, известный в Лионе, уважаемый человек, владелец самого крупного банка в городе, был против брака своей дочери с молодым клерком. Отца привезли из России в 12 лет, он учился в Лионе и в 17 лет поступил в банк. Сначала дедушка благоволил ему, не имея сына, он любил учить своих юных подчиненных и опекать их. Приглашал молодого человека к себе домой обедать, ужинать и на праздники. Когда взаимная приязнь дочери и служащего открылась, был скандал, и Сухотина чуть не выгнали из банка. Но его невесте как-то удалось умолить отца и тот, на удивление всем, согласился их сочетать. Пэр-сури не любит вспоминать эту историю, никогда ни с кем о ней не говорит, страшно дуется, если кто-то из знакомых на нее намекает. Но Анна считает, что наша женитьба – это своего рода возврат долга ее умершему дедушке. Моя невеста весела и здорова. Примирение с отцом ее осчастливило. А я, хоть и не ссорился с ним, тоже чувствую себя помирившимся. Мы счастливы. Берлин великолепен.
7 августа 1910 года (суббота)
Как они любят друг друга! Как рады тому, что все у них наладилось. По их улыбкам, взглядам и касаниям можно подумать, что это они новобрачные. Ходили втроем по музею, и временами я чувствовал себя лишним. Но я не ревную – ни-ни, удивляюсь только, как могли быть разрушены такие отношения и радуюсь своей причастности к их восстановлению. Со мной месье Сотэн держится очень вежливо, довольно прохладно. Однако в минуты особенной нежности к дочери, и мне перепадает дружеский взгляд и теплая улыбка, а, изредка, даже осторожное похлопывание по спине. Мне удивительно и странно, и любопытно. Отцовское чувство непостижимо для меня. Неужели и я когда-то его испытаю, чувство отца к взрослому уже человеку, сыну или дочери. Сейчас в той части, души моей, где должно быть это чувство – совершенно пустое место, не могу себе представить его, ровно так же, как и чувство материнское, которое уж точно мне не испытать никогда, и которое очень скоро узнает Анна. Дела свои здесь в Берлине отец почти кончил. Я в них не вмешиваюсь, думал, было, предложить ему помощь, но не захотел оставлять Анну одну. Снимались на память, мы с Анной, она с отцом и все втроем.
8 августа 1910 года (воскресенье)
Я начинаю привыкать к переездам. А, все же, ставшие уже привычными вокзальные залы и перроны, и поезда, с их особым запахом, вовсе не утратили своего очарования, и восхищают и привлекают меня почти как в первый раз, когда мы с Вольтером в Москву ехали. На вокзале много немецкой и французской речи. Я все еще не привык, что многое понимаю без всяких усилий со своей стороны. У меня за спиной молодой человек говорил товарищу: «Она была моей невестой, я уехал всего на месяц, а когда вернулся, она представила меня своему мужу». И то, что он сказал, вошло в меня само собой, помимо моей воли. Не нужно было переводить каждое слово, стараться сосредоточиться, держать себя в напряжении, чтобы, не дай бог, не пропустить что-нибудь. Я и не прислушивался к ним специально, а вдруг, не чужие слова, а само их значение меня коснулось. Это случилось в первый раз и потому слегка ошарашило меня. Анна с самого начала любила говорить со мной по-русски. Я знал, что ее отец русский и не задумывался, что, в сущности, русский язык для нее не родной, а такой же чужой, как для меня фр. Произносит она чисто, и, если не знать, или, как я, не придавать значения, то можно не заметить, как она выбирает слова, как смотрит, когда не все хорошо понимает, если говоришь с ней слишком быстро, или незнакомыми ей словами. Теперь я знаю, что русский был всегда для нее и Пэр-сури их интимным, секретным языком. Его увезли из России еще ребенком, и он вполне мог забыть или отказаться от родного языка, но он сохранил свое знание. Жена его – француженка ни слова не знает по-нашему, а дочь он научил. И это очень трогательно. Я вижу, какая между ними близость. Не могу найти другого объяснения тому, что он отверг ее в беде, кроме ревности. И ко мне, наверное, ревнует. Впрочем, держится безупречно, немного только холоден. Я спросил его про Московских родственников, говорит, в Москве у них нет родных, по крайней мере, он не знает; только в Ярославле и Самаре. Со станции телеграфировал Вольтеру. Нельзя сказать, что слишком меня беспокоит, свободен ли я теперь по отношению к нему, и рассчитывает ли он на мои дальнейшие услуги в Петербурге и вообще, но, все же, мне это не безразлично.
Перед сном мы с Анной вышли из вагона подышать. Она взяла меня за руку и спросила, не жалею ли я? Я ответил, что не хочу даже понимать, о чем она меня спрашивает. Да, и, правду сказать, о чем мне жалеть? И было ли у меня что-то такое, что я потерял, и о чем можно было бы жалеть? Когда все улеглись, и я, убаюканный качанием вагона, задремал, то есть, это я теперь понимаю здравым умом, что задремал, в тот же момент был уверен, что не сплю. Вдруг, вместо стука колес заиграла музыка, знакомая, но я никак не мог вспомнить, что за мелодия и откуда, и это мучило меня, мне сделалось очень нехорошо, внутри все сжалось, стало трудно дышать. И тут я ясно услышал голос, очень знакомый, родной голос, но тоже не сразу смог понять, чей он. Голос не пел, но говорил под музыку, почти сливаясь с нею. И когда я понял, кто это говорит и что, то вскочил весь в поту, сердце колотилось бешено. Сна, конечно, как ни бывало. Да и в первый момент, когда свежо еще было потрясение, мне и в голову не пришло, что услышанное мной было только сном. «Иди с миром; а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: "Господь да будет между мною и между тобою и между семенем моим и семенем твоим", то да будет навеки». Я вышел на площадку в конце вагона, там воздуха было побольше, подавленный, потрясенный. Ужасно ли это? Предал ли я? Совершу ли клятвопреступление, женившись теперь? Мысль о том, что клятвы наши ничего не значат, и то, как и чем скрепляли мы их, значения не имеет, показалась мне фальшивой и ничуть не утешительной. Я всерьез задумался: имею ли право жениться на Анне? Но разве он первым не выказал всю ничтожность тех ритуалов и не обесценил наш союз, увлекшись другим? Нет. Пожалуй, так мне не оправдаться. Ведь я уехал, оставил его, и прав своих не предъявлял. Что же теперь делать? Как увидимся мы с ним? Жива ли наша связь, действительна ли она? Я вернулся, лег на свое место. Долго еще ворочался, отягощенный ужасными мыслями.
9 августа 1910 года (понедельник)
И ярчайшее утреннее солнце, и суета с пересадкой, и веселость Анны, и деловое спокойствие отца, все это помогло мне, хоть и не полностью, но все-таки оправиться от ночного наваждения. Однако, глядя на своих уже почти родственников, нет-нет, а подумается, подойти к отцу и сказать: «Сделка наша для вас совсем не выгодна». Или: «Я вижу, как не хотите вы отдавать мне дочь, и понимаю, что вы правы». Только что же это будет по отношению к Анне, как ни подлость? А сам Пэр-сури, если бы действительно никак не хотел нашего брака, уж нашел бы способ его не допустить. Разумеется, я для него проходимец и нищий первый встречный, но кому из своих респектабельных знакомых он пойдет предлагать создать с его Анной видимость приличия? Так что, он доволен, насколько возможно, и Анна спокойна и весела. Я тоже отнюдь не несчастен. Но Демианов! Демианов. Чем больше приближаюсь я к нему, тем и он мне ближе. И больше его во мне. И все мои мысли о нем. Даже Анна (может, чувствует что-то?) все чаще сама о нем заговаривает. Милый Миша! Думает ли он обо мне? Помнит ли? Ждет ли?
Телеграфировал своим о приезде. Ему писать не могу, не знаю что и в каком тоне.
10 августа 1910 года (вторник)
Мы все расхворались. Анна ничего не может есть – от всего тошнит. Пэр-сури тоже мучается животом, а у меня началась странная лихорадка: бросает то в жар, то в дрожь. В Варшаве пришлось обратиться к врачу, он всем нам прописал лекарства и посоветовал пока не ехать. Несмотря на его запрет и недовольство отца, Анна от меня не отходит.
11 августа 1910 года (среда)
Я вижу ее ротик – губки шевелятся, шепча утешения, чуть раздвигаются в улыбке, а за ними два прелестных зубика, беленькие, ровные, похожие, как близнецы; ужасно трогательные. Именно эти два зубика и придают лицу особенное очарование. Ах, как это я раньше не замечал?! Такая в них искренность и наивность. Так бесхитростно и вместе с тем бесстыдно они обнажаются, заставляя мурашки бежать по затылку, вызывая острый приступ нежности и удивления: что это за существо на меня смотрит? Да, да, именно в них, в двух жемчужинках наивность – не в глазах. В них неискушенность и непорочность этого мальчика. Кто сумеет, тот измерит. А глаза его уж осведомлены, и щеки всё знают, и узенький подбородок, и тоненький носик. Они ждали меня эти руки и губы, не меня лично, а кого-то вроде меня. И узнали тотчас, что вот я – тот самый. Как только я приехал в Москву, так они и признали во мне посланника из мира своих грёз. Я не знал, что я посланник – они же знали всё. Они подкараулили меня и поймали. Эти губы сказали мне: «ты воплотишь мои грёзы, ты будешь меня целовать», эти руки обвивают меня крепко – я не могу уйти, не могу даже сдвинуться с места. Душно! Никуда мне не деться от него. Лукавый мальчик! Теперь я навсегда с ним обручен. И только два беленьких братца в своей раковинке остаются ни при чем. Я хочу целовать их, но они мне не даются, все время ускользают, прячутся за мягким, а потом снова появляются, чтобы подразнить. О чистые, о драгоценные, отдайтесь мне, отдайтесь, отдайтесь!
12 августа 1910 года (четверг)
Ничего. Беспамятство.
13 августа 1910 года (пятница)
Все время, пока я был в беспамятстве, Анна дежурила возле меня. Несмотря даже на то, что отцу пришлось нанять сиделку. Как только мне стало лучше, я настоял, и все меня поддержали, в том, что ей необходимо отдохнуть. Моя сиделка русская, добрая женщина; в Варшаве у нее сын служит. Я смутно помнил свои тяжелые, вязкие виденья и спросил ее, о чем я бредил, она сказала: «Это из-за жары. Духота-то вишь какая! Вам ваша невеста всё лучше расскажет».
Был доктор, заверил, что очень быстро пойду на поправку. Я и сам чувствую, что еще слаб, но во всем остальном вполне благополучен. Моим дали новую телеграмму, чтобы не сходили с ума.
14 августа 1910 года (суббота)
Если бы не моя лихорадка, завтра у нас могло бы быть венчанье. Я немногое помню из своей болезни, но мне кажется, она так сблизила нас с Анной, что никакого венчания и не нужно – она уже моя жена. О Демианове почти не думаю, никаких угрызений и сожалений – пусть будет что будет. Может быть, мы и вовсе больше не встретимся.
15 августа 1910 года (воскресенье)
Спорили с Анной. Я уверял, что вполне могу уже ехать, она – что мне еще лежать и лежать. Но, все же, я немного вставал, выходил на балкон. На улице жара страшная, духота, пыль. А как славно мы в речке купались! Из Анны получится великолепная жена и мать. Что же касается меня, то уж и не знаю, чем я буду соответствовать. Месье Сотэн ко мне почти не заходит, Анна говорит, занялся здесь какими-то делами. Целыми днями его не бывает, а вечером и ночью сидит с бумагами.
16 августа 1910 года (понедельник)
Теперь уже не знаю, чего мы ждем больше – моего окончательного выздоровления или пока отец свои дела кончит. Я в нетерпении. Не так чтобы очень хочу назад, в Петербург, но неопределенность нашего с Анной положения меня тяготит. Всё, что было до болезни – как будто не со мной. Анна теперь чужая и близкая одновременно. Она рассказывала мне мои бредни. Ну что ж, она похожа на московского Алешу и они слились в моем воспаленном мозгу воедино, это неудивительно и вполне объяснимо. Странно другое: в бреду о Демианове ни слова. И по выздоровлении нет его во мне, как будто, какая-то часть меня отпала. Впрочем, Петербург покажет, что стало с его местом в моем сердце.
17 августа 1910 года (вторник)
Выехали наконец-то! Я еще слаб и всё вокруг немного как в тумане, но могу ходить и говорить, и шутить даже. Для Пэр-Сури моя болезнь удачей обернулась – он какое-то выгодное для себя дело провернул. Так что все довольны. Мы с Анной, притихшие и ослабшие оба, ничего почти не ели и все время держались за руки. Она сестра моя, друг мой, моя наперсница, я ничего с ней не боюсь. С чистым сердцем обвенчаюсь по приезде. И пусть там будет Д., у него нет теперь власти надо мной.
18 августа 1910 года (среда)
Едем. То есть больше стоим, чем едем. А еще больше ворчим на то, что не едем, а стоим. Истомились порядочно. И жарко и душно. Я уж не думаю о том, что там дома будет и как, лишь бы поскорей уже добраться.
19 августа 1910 года (четверг)
В Петербурге никого. Как и следовало ожидать в эту пору. В поезде-то я от жары, от безделья обезумев, и не думал вовсе, а когда на вокзале за извозчиком побежал, тут и очнулся: «Куда ж я повезу-то их?!» На нашу квартиру? Не слишком ли для них убого? К тому же (меня аж холодный пот прошиб) не там ли Демианов? Я же сам его приглашал переехать, еще настаивал. К Ольге неудобно. Она Таню с мамой звала, а не меня с моим новым семейством. И заперто у нее, наверное. А если есть кто из прислуги, так пойди, объяснись с ними. На дачу к моим – вообще невозможно. Им там двоим-то тесно. Ну, ничего не остается, как, все же, вести к себе. Больше некуда. Я уже с извозчиком условился, а Пэр-Сури, усевшись, приказал ехать в гостиницу. У меня духу не хватило ему возразить. Да и лучше так.
Как только разместились, я тут же их оставил и помчался к себе, посмотреть, что там и как. Приезжаю и прямо в объятья! Нет, не Михаила. Мама с Таней, получив телеграмму, приехали в город меня поджидать. Тут, разумеется, расспросы и слезы и вздохи. А Демианов не являлся. И на даче они его тоже не видят. Куда ж он делся-то?
В этот день три раза из гостиницы домой ездил. А знакомиться уж на завтра условились.
20 августа 1910 года (пятница)
Утром заехал в гостиницу за отцом, потом поехали с ним в церковь, договариваться. П-С. всё уладил с попом моментально. Я исповедался и причастился. Потом за Анной в гостиницу, потом к нам. Мама с Таней уже заждались, даже вышли на улицу встречать, словно молодоженов. Слезы-поцелуи. Неловкости почти не было ни с чьей стороны. Может быть, Анна немного робела поначалу, но потом ничего – они с Таней хорошо сошлись. Все вместе обедали. Потом разъехались снова хлопотать мы с П-С, Анна с Таней. А бедная мама дома осталась беспокоиться. Здоровье ее всё хуже и духоту она плохо переносит. Но с новыми родственниками держалась превосходно.
Целый день, мотаясь по городу по магазинам, я нет-нет, да ловил себя на мысли, что высматриваю знакомых. Никого. Даже к Палкину заезжал чаю выпить – и там пусто. Всё прокручивал в голове, что и кому сказал бы. «Tiens! C’est vous?! Как вы тут поживаете? А я из-за границы только и скоро, вероятно, обратно. Женюсь, знаете ли». Нет, про женитьбу, пожалуй, не стал бы объявлять. Демианову донесут как слух, и выйдет черти-что. Впрочем, и так уж у нас с ним черти-что вышло. Искать его? Писать? Не он там выходит из-за угла? Сердце замирает и отпускает – нет, не он.
Вечером с Таней вдвоем пили чай. Мама совсем плоха – сердце. Ольгина квартира, оказывается, уже в полном нашем распоряжении. Слуг никого нет и Таня там хозяйка. Так что, можно после венчанья ехать всем туда. Я сказал, что мы надолго в Петербурге не задержимся. Хоть Анна и мечтала о России, но медовый месяц лучше будет провести в Италии, и П.-С. на этом настаивает. Таня тяжело вздыхала, все повторяла: «Какой ты счастливый!»
– Мы еще к вам приедем, из Италии на обратном пути, или чуть позже. Возможно, я заберу с собой в Лион маму, только бы она перенесла дорогу.
– Хорошо бы. А то я чувствую себя связанной. Даже думаю все чаще, что лучше бы она поскорей уже… в общем, чтобы скорей всё это кончилось.
Меня как обухом по голове:
– Таня! Что ты говоришь?!
– Ну что такого я говорю?! Ты по заграницам разъезжаешь, живешь своей жизнью, а я здесь как привязанная. Может быть, и я бы уехала. Меня тоже за границу приглашали.
Ушел спать ошеломленный и расстроенный. Как теперь их оставлять? Таня тяготится мамой. Я и представить себе такого не мог. Как же ее страсть ухаживать за больными? Поговорить ли об этом с Анной? В Италию мы маму никак с собой не сможем взять, это всем будет в тягость. А может к черту его, этот медовый месяц? В конце концов, у нас с А. не совсем обычный брак. Нет, П.-С. настаивает на Италии, я понимаю, ему хочется, чтобы приличия были соблюдены, по крайней мере, видимость. Придется подчиниться. В этом была и суть моего предложения – для соблюдения приличий. Назвался груздем, так сказать… Но мама! Почти всю ночь не спал. Каких только не было бессонных ночей на этой кровати! Вот теперь и такая, наверное, самая тяжелая.
21 августа 1910 года (суббота)
Чуть свет, не дождавшись моего пробуждения, мама и Таня отправились на квартиру О.И. готовиться. Я, проснувшись, сбегал забрать костюм, позавтракал, написал записку, попросил дворника отправить ее в гостиницу и стал переодеваться. В церкви ждал не долго. Народу было мало, знакомых никого. Наконец приехали и П.-С. с Анной, оба в хорошем настроении, по крайней мере, внешне. «Отчитали» нас, обвели вокруг аналоя. Всё. Женаты. Ничего для меня не изменилось. Ничего особенного не почувствовал. Гостей было немного, в основном мамины знакомые и родня «седьмая вода». Все скоро разъехались. Таня действительно распоряжается на Ольгиной квартире как полноправная хозяйка. Она сама нам с Анной отвела комнату, а отец заявил, что в гостинице пока поживет, что ему там удобнее. Анна рано легла отдыхать. Я пошел маму проведать, вдруг слышу: зазвонил телефон и кто-то пробежал топоча. Пока искал маму, слышал, что это Т. по телефону говорит, но что именно почти не разбирал, пока не оказался от нее так, близко, что нельзя было не слышать. И вот она говорит кому-то: «… дело даже не в том, что он мужчина, а я – нет, в конце концов, он живет такой жизнью, которая любую женщину бы устроила прекрасно… да … и я могла бы вполне, тем более что меня зовут. Да, я скажу ему. Надо сказать». Тут она увидела меня и замолчала. Я спросил, как к маме пройти. Она показала рукой и говорила в трубку только «да», пока я не ушел. Мама бедная плачет, жалуется, но за меня рада. Анна ей понравилась. Она очень сдала, после долгой разлуки перемена слишком очевидна. Я обнимал ее, гладил, утешал, а сам всё думал, как поступить так, чтобы и ей было хорошо. Таня стала с ней раздражительной, даже грубой. С дачи пропадала часто, не сказавшись. Конечно, мама уверена, что я могу, как старший брат повлиять на нее своими разговорами. Но я-то понимаю: какие уж тут разговоры. Но обещал, что буду уговаривать, а как было иначе?
Т., оказывается, и сама хотела со мной говорить. Но от тона ее и слов я прямо растерялся.
– Ты приданое уже получил?
– Приданое?!
– Ну, полагалось же за ней что-то? Вы как условились?
– Ни о каком приданом и речи не шло.
– Не верю. Хочешь сказать, у тебя совсем нет денег?
– Деньги есть немного. Остались от Вольтера. Тебе нужны? На что тебе?
– Не мне. Я и без твоих денег обойдусь. Но ты мог бы нанять для мамы кого-то, с кем можно было бы оставить ее. Сиделку, компаньонку.
– Оставить?!
– Ты уезжаешь. Я тоже.
– Ты?! Куда?
– Я тебе говорила уже вчера. Меня тоже зовут за границу. Раньше я отказывалась, но теперь передумала. В конце концов, у меня те же права, что и у тебя. И обязанности наши по отношению к матери равные.
Я пытался робко возразить:
– Тебе же еще учиться нужно.
– Я, может быть, там буду учиться. И потом другие страны – это прекрасный опыт. Сидя дома не научишься, тому, что узнаешь путешествуя. Разве ты сам не так поступаешь?
– Но с кем ты? Куда?
– Ольга Ильинична зовет меня к себе в Париж. Там и живописи учиться можно и медицине. Все расходы она берет на себя. Почему я должна отказываться?! Ты-то не упускаешь своих шансов.
Ну что тут скажешь, я обещал подумать, как с мамой поступить.
Всю ночь ворочался, мешал Анне. Наконец, она спросила, почему не сплю. Не хотел говорить, но она заставила. Я ожидал, что она поддержит меня, найдет поведение Тани возмутительным, предложит быть тверже с ней, заставить заботиться о маме. Отнюдь. Жена сказала, что мы сами должны позаботиться о маме. Она была ласкова со мной как никогда, как будто с ребенком, гладила меня по голове, успокаивала, заверяла, что всё обязательно устроится, пока я не заснул.
22 августа 1910 года (воскресенье)
Мне странно, когда о нас с А. говорят «новобрачные». Свою новобрачность я чувствовал недели две-три назад. А теперь мы, как будто, уже сто лет женаты. Я, признаться, побаивался, что после венчанья испугаюсь чего-нибудь или почувствую что-то такое, чего не чувствовал раньше и с чем не смогу мириться. Нет. Пока ничего.
С утра отправились с женой в гостиницу к П.-С., там позавтракали. Объявили ему, что задержимся еще в Петербурге. Разумеется, он не был доволен, но много не возражал. Ему нужно возвращаться домой, к своим делам в банке, а в Италию мы все равно без него поехали бы, да еще и поедем, задержка только ради мамы.
Весь день почти провели в гостинице. На улице душно, пыльно. Да и Анне с отцом нужно побыть вместе, пока он еще здесь. Ночевать уехали «к себе» в Ольгины апартаменты. Знала бы Ольга! Да может она и знает, у нее свой осведомитель.
23 августа 1910 года (понедельник)
Мы так распределились: после отъезда отца Анна с мамой уедут на дачу, я перееду опять на старую квартиру, а Татьяна пока остается. Я немного обижен на сестру и обескуражен ее позицией, но вида стараюсь не подавать. В конце концов, она даже в каком-то смысле пожертвовала собой, уступив Анне свое дачное место. Втроем им было бы тесно, а Анне нужен здоровый воздух. Заходил в «Кошку». Никого. Все закрыто. Заезжал к А.Г. на квартиру, там тоже никого, кроме Маруси, не застал, да и она приходила только прибраться. Дмитр. Петр. живет на даче у родственников, взял у нее адрес, нужно бы заехать. Написал Вольтеру, что женился, что в Италию собираемся, куда он так стремился, бедняжка. Как там его здоровье и как-то он лечится?
24 августа 1910 года (вторник)
Провожали папу Сури. На прощание он расцеловал нас и прослезился. Татьяна недалека была от истины, денег он нам оставил более чем достаточно. Надо бы только суметь умно ими распорядиться. Между мной и Т. некоторое отчуждение, но с Аннет они, как ни странно, прекрасно ладят. Милая добрая моя Анна! Я не перестаю на нее по-хорошему удивляться. Она так ласкова со мной и с мамой. Страдая от духоты, бодрится и виду не подает. В чужой стране, с чужими почти людьми, в непривычной совершенно обстановке, да еще и в таком положении. Я когда думаю об этом, такая нежность меня охватывает чуть не до слез. Милая девочка, бедняжечка моя! Как ей, должно быть, тяжело и как она держится прекрасно! Я, может быть, стал немного слишком суетлив, стараясь все время, хоть чем-то ей помочь. Мама умиляется на это. Возможно, со стороны кажется, что я страшно влюблен и, сбиваясь с ног, угождаю обожаемой супруге, но это другое.
25 августа 1910 года (среда)
Перебирались на дачу. Мама с Анной с утра уехали на поезде одни, а я занимался вещами. Таня мне помогала. Пока укладывались, болтали довольно весело, но простились сухо. Я холодно сказал, чтобы она не волновалась, что я постараюсь всё уладить. Она холодно ответила: «Я надеюсь».
На даче чувствуется, что дело уже к осени – не то, что в городе. К вечеру прохладно и на деревьях очень много желтых и красных листьев.
Поздно вечером пили чай на террасе. У нас уже и без Италии настоящий медовый месяц. Все друг с другом ласковы, предупредительны и милы необычайно.
26 августа 1910 года (четверг)
У наших хозяев, как раз кстати, еще одна комната освободилась, так что, места нам теперь всем хватит. Мама с Анной, на которую я не перестаю удивляться, взялись варить варенье из яблок. А меня отправили за грибами. Ладят они прекрасно, мама называет жену Анечкой, всё время сбиваясь на Танечку.
Нам с Анной хорошо на даче. Вечером лежали обнявшись. Она сказала, что ей вовсе не хочется никуда уезжать. Я спросил, так ли она представляла себе свое русское житье? Она рассмеялась: «совсем нет». Ей виделось нечто вроде швейной мастерской из романа Чернышевского. В Италию, все же, придется ехать. Я не могу разочаровать Пэр-Сури.
27 августа 1910 года (пятница)
Утром ходил за грибами. Днем ничего не делал. К вечеру, когда жара спала, отправился пройтись. Признаться честно, не совсем без намерений. Не то что бы я очень хотел кого-то встретить, но, разумеется, не исключал такой возможности. Нарочно пошел в сторону станции. И опять-таки не могу сказать с уверенностью, нарочно чтобы встретить кого-то, или же напротив, нарочно чтобы никого не встречать. Я его издалека увидел и издалека уже понял, что человек незнакомый и беспокоиться не стал. А он, приближаясь ко мне, поздоровался и спрашивает:
– Где дача Панферовых?
Вот те на!
– Пойдемте, – говорю, – провожу.
Интересно, к Демианову он или к зятю? Вот будет сцена, если сейчас я явлюсь с его знакомым. Я так оторопел, что не подумал ни о чем расспрашивать. Шел молча, только про себя раздумывал. Но тут он сам заговорил:
– Вы в другую сторону шли. Я вас не затрудняю?
– Ничего. Я просто гулял.
Потом решился:
– Вы, – говорю, – к господину Демианову?
Он, как мне показалось, обрадовался:
– Да! Почему вы знаете?!
– Я не знаю, я только спросил.
– Вы знакомы?
– Да.
– Простите за любопытство, не по литературной ли части?
– В некотором роде. Но я больше не занимаюсь литературой. Я вас дальше не буду провожать, вон там их дача.
– Простите, не могли бы вы… мне, видите ли, лучше будет, удобней, если я с его знакомым приду. Так вот, не могли бы вы мне в этом содействовать. Я господину Демианову не был представлен, знакомые посоветовали ему стихи показать.
– И очень хорошо, покажите. Я-то вам на что?
– Да так, знаете, ловчее. А то является человек неизвестный, нежданно-негаданно, а вы все-таки коллеги. Простите, я не представился, Пронин, Игорь.
Я назвался и пожал ему руку.
– Вы не подумайте, что я примазываюсь. Но, если вас не затруднит, сделайте такое одолжение.
– Пойдемте. Только как бы мое присутствие вам все дело не испортило. Вас кто послал к Демианову?
– Сейчас, знаете, все на дачах собираются. На той неделе был у одних – художники, артисты. Вот там и посоветовали. И адрес дали.
– Я, видите ли, недавно из-за границы, и сам Михаила Александровича давно не видел, но слышал, что он, вроде бы, не бывает здесь, на даче.
– Ну, нет, так нет. Вы тоже стихи пишите?
– Я же сказал вам, что больше этим не занимаюсь. А вон и Михаил Александрович.
Как только я Мишу заметил, мой рот сам собой в улыбке растянулся. Иду и улыбаюсь. И не могу ничего с собой поделать. Попробовал насильно заставить себя перестать улыбаться – не вышло. А он, увидев меня, выразил удивление и растерянность, и руками развел, не с досадой – радостно. Так, приближаясь друг к другу, мы улыбались, улыбались, улыбались. И он сказал наше «Tiens! C’est vous?!», принялся расспрашивать, какими я тут судьбами, про Вольтера, а я всё стоял и улыбался ему как дурачок. Потом вмешался Пронин, стал представляться, объясняться и извиняться. М.А. им занялся. А мне шепнул только: «Позже поговорим», и руку пожал.
Сестра его мне страшно обрадовалась, усадила поить чаем с яблоками, расспрашивала про заграницу, в общем, встретила как родного. Весь вечер, пока Михаил Александрович не спровадил гостя, я провел, болтая с его сестрой и играя с детьми. Мне всё никак не удавалось найти хороший предлог, чтобы уйти к своим, которые, наверное, уже забеспокоились. Наконец, Пронин ушел. В кромешную темноту, но его никто не удерживал. И тут уж мы с М.А. уединились. Я чувствовал себя неловко, а он так искренне радовался мне, чем еще больше смущал. Обнял, поцеловал. На поцелуи я почти не ответил.
– Милый Саша. Отвык от меня? А я соскучился ужасно.
Он гладил меня по голове, по щекам, а я, не отвечая на его ласки, всё лихорадочно соображал, что же сказать. И тут вдруг ни с того ни с сего стал признаваться в краже дневника. Рассказал, как эта тетрадка почти священной для меня стала. Он бросился целовать мне руки и всё шептал: «милый, милый», и по щекам его текли слезы.
На ночь я не остался. Побоялся испытывать мамино больное сердце. И хорошо сделал, потому, что дома уже экспедицию на мои поиски снаряжали. Пришлось объясняться, где был и с кем. Упреков не было. Мама с Анной только странно переглянулись, и все мы молча разошлись спать.
28 августа 1910 года (суббота)
М.А. явился не свет ни заря. Я, проснувшись, вышел на террасу, а там мама его чаем поит. Сердце моё не остановилось, как ни странно, такую легкость я почувствовал и безразличие ко всему. Будь что будет! Тоже наскоро выпил чаю и увел М.А. гулять. А жена еще не вставала.
Выходя с М.А. в калитку, я приготовился ко всему. И упреков ожидал и иронии, по меньшей мере, удивления с его стороны. Но ничего такого не было. Оказывается, мама только жаловалась на сердце и пеняла ему, что он не заходил к ним с Таней все это время. Вдруг я сам – не знаю, что на меня нашло, – полез в бутылку, стал дуться и упрекать его в том, что я еще не уехал, а он уже был с другим. Бедный М.А. вздыхал и оправдывался, он не хотел ссориться. И мы не поссорились. Зашли в лесок, улеглись на полянке. Целовались долго и сладко. И мысль одна была во мне: «Боже мой! Что же я делаю!»
29 августа 1910 года (воскресенье)
Трудно объяснить М.А., что я не могу целые дни напролет проводить с ним вместе. Почему же просто не сказать, что женат теперь? Я не знаю, как сказать ему это. Как долго здесь на дачах, где все друг друга не просто видят, а насквозь, можно хранить такую тайну? Пока М.А. ни сном ни духом. Он весел, беззаботен и счастлив. И снова влюблен в меня. А я – как на горящих углях. И ведь кроме М.А. есть еще Анна, с ней тоже придется объясняться. Меня же почему-то больше беспокоит, что скажет, что сделает и что подумает он. Нет, она мне вовсе не безразлична. А, может быть, я в ней даже больше уверен. Хоть она и говорила, что не понимает наших с М. отношений и возможно никогда не поймет, я знаю, что она мой друг. Может быть, единственный.
30 августа 1910 года (понедельник)
Есть только одно средство всё разрешить – поскорее убраться в Италию. Но мама!
31 августа 1910 года (вторник)
Таня приехала. К моему сожалению ее намеренья не изменились. На меня, вроде бы, больше не дуется. Но теперь я на нее досадую. В самом деле, если здраво рассудить, девушке в ее возрасте ехать одной за границу – дурь и блажь. Анна моя согласна со мной, и раз уж сестра непременно хочет ехать, то зовет ее ехать вместе с нами. Таня, конечно же, упрямится, говорит, что ее уже ждут в Париже. На меня иногда так найдет, что хочется кричать с досады: «Тебе безразличны мама и я, но это и для тебя самой может плохо кончиться!» Но я не кричу, держусь. Анна дала Т. адрес своих родителей в Лионе, велела без стеснения обращаться, если что-то пойдет не так. Думаю, ни за что не обратится. Будет лелеять свою гордость. Она очень переменилась. От той девочки, с которой я рос, и следа не осталось.
После завтрака ходили с Анной и с Таней гулять. Без нас был Миша. Оставил записку, зовет ехать куда-то в гости. Вечером я пошел к нему, но он уже уехал.
Анна моя так ласкова со мной, так внимательна и справедлива, что не мог я ей не довериться. Рассказал всё. Как снова встретил здесь Демианова, как не смог ему противиться и как не решился рассказать о ней. Она хотела знать, почему мне трудно объявить ему о женитьбе. Я и сам толком не могу объяснить. Тут всё. И наша с ним клятва и его история с Правосудовым, из которой Сергей вышел черным предателем, подлым мучителем и бог знает кем еще. Я распалился, заявил, что, в конце концов, вовсе не желаю ее впутывать, в эти отношения, что с ними нужно покончить, я это знаю и покончу, как только он вернется, я всё скажу ему. Она успокаивала меня, гладила по щекам совсем как он недавно. И предложила: «Если тебе так будет легче – не говори ему ничего. Мы можем выдать меня за дальнюю мамину родственницу или за Танину подругу, которая у вас гостит». Я горячился, доказывал, что она совсем не так поняла меня и что я не нуждаюсь в таких ее одолжениях. А она всё гладила меня и утешала.
– Скажи, что я жена твоего кузена.
– Нет у меня никакого кузена.
– Теперь есть.
– Ага, может, ты и кузена изобразишь?!
– А, что? И изображу. Ты же говорил, что я похожа на того мальчишку.
– Вот было бы здорово выдать тебя за него!
– Жаль, что ничего не выйдет, по мне уже слишком видно.
– Подожди!
Я бросился наряжать ее в свои пиджаки и брюки. И уверял, что совсем ее животик не заметен.
«Толстенький какой мальчонка у нас! Наверное, пива много пил, проказник!»
Хохотали и целовались и дурачились, так, что всех кругом, наверное, переполошили, потому что было уже за полночь, и кто-то нам в стенку стучал, а мама приходила нас угомонить. Как я был счастлив в эту ночь!
1 сентября 1910 года (среда)
Ночь была счастливая, но день за ней последовал ужасный. Слезы, упреки, стенания, мольбы, истерики. Мама отказывается верить, что ее маленькая девочка может вот так ее покинуть. Татьяна неумолима, даже жестока. Всё думали-гадали, как поступить с бедной мамой, на кого ее оставить, но не удосужились спросить у нее самой ни позволения, ни совета. И что тут началось, когда Татьяна объявила ей категорически! Я не знал куда деться. Видеть маму в таком безутешном горе – выше моих сил, но что я могу? Мама все время причитала, что ей не себя жалко, а дочку, и страшно за нее. Что за границей ее непременно обидят и даже погубят. Но нам всем было жалко только маму. Таня, конечно, плакала и обнимала маму и целовала, и утешала, но было понятно, что решения своего менять не собирается. Я испугался, что сердце мамино не выдержит. Силой уложили ее в постель. Анна утешала как могла, уверяла, что напишет родным и знакомым в Париж, что скоро мы все вместе туда поедем и мама тоже. Кое-как успокоили немного. Но это спокойствие только видимое. Что подумали о нас хозяева и соседи! Ночью хохочут – днем рыдают. Ну и семейка!
Перед сном лежали, тихонько обнявшись, шептались, отдыхали от дневных потрясений. Анна выпытывала всё о Демианове, я откровенничал, наверное, даже слишком. Вдруг меня осенило: боже мой, зачем я такое ей говорю! Я даже сел на кровати.
– Помнишь, ты сказала тогда о нас с Мишей: «Хочу понять и не понимаю». – Это всё еще так?
– Боюсь, что да. Но пусть тебя это не беспокоит.
– Не беспокоит?! Да разве я могу не беспокоиться? Как же я буду касаться тебя, такой чистой, простодушной? Ты добрая, наивная девочка. А я в сравнении с тобой развращенный, гадкий человек! Я чувствую себя растлителем, поругателем невинности. Словом, я ужасно себя чувствую. Я не имел права связывать тебя.
Она рассмеялась.
– Саша, дорогой мой! Ты только подумай, что ты говоришь! Ты взял меня замуж, развратную женщину, прижившую ребенка во грехе. Взял, чтобы прикрыть мой грех. Из благородства, чтобы спасти меня от, может быть, еще большего падения, и я для тебя чиста? В таком случае мы стоим друг друга. И ты для меня вовсе не грязен. Подумай так: я ваших отношений не понимаю, как же я могу судить о том, чего не понимаю, дурно оно или хорошо? Успокойся. Ты самый хороший для меня и самый чистый. Не думай о плохом. Всё уладится.
Она целовала мои глаза и уши и губы. И я целовал. И было сладко до боли.
2 сентября 1910 года (четверг)
Его нет рядом и мне легко, но вместе с тем тоскливо. Не нужно изворачиваться, выдумывать поводы, но в любой момент он будет здесь и объяснение неизбежно. Я и скучаю по нему, и жду своего разоблачения. Весь извелся. Что я скажу? Какими словами?
Пошел посмотреть, не вернулся ли он, а там Сережа, его племянник приехал. Сережа с порога заявил мне, что знает, к кому отправился Михаил, и тоже туда собирается, и меня позвал. Я отказывался, но он так настойчиво уговаривал, что я возьми и расскажи ему всё. Что женат теперь на Анне, что М.А. еще об этом не знает. Сережа посмеялся и пообещал меня пока не выдавать. Я в нем совсем не уверен, но это безразлично. Ходил провожать его на станцию. Там он все еще уговаривал меня ехать вместе, сулил превосходную компанию, но я твердо отказался. Садясь уже в поезд, Сережа сказал мне весело: «И чего ты так боишься? Она же не мужчина. Стало быть, за измену не считается». Я знаком попросил его молчать. Он знаками же уверил меня, что молчать будет.
Дома продолжение вчерашнего. Мама плачет. Анна хлопочет вокруг нее и утешает. Таня злится и стоит на своем.
3 сентября 1910 года (пятница)
Ну вот, наконец, осень взяла свои права. Дожди пошли, грибы во всю. Ходили с Анной, набрали уйму белых, промокли, но она довольна и, кажется, счастлива. Все-таки я виноват перед ней. Или нет? Не хочу больше жить с нечистой совестью. Приедет – объявлю ему всё.
Таня попросила поехать с ней в город, помочь. Мне и самому туда надо. Нужно разыскать Дмитр. Петр., справиться об Аполлоне, в «Кошку» тоже заглянуть.
Мама, вроде бы, понемножку успокаивается, чему Анна немало способствует. Вот так иногда задумаюсь, и как это ее отец согласился? Не понимаю. Может и правда, ну ее к черту, эту Италию и чего мы там не видели? Так хорошо нам здесь всем вместе.
4 сентября 1910 года (суббота)
Чуть свет выехали с Таней. Наши еще не вставали; мама спала, а Анну я заставил не беспокоиться. Дорогой долго и откровенно говорили. Даже с некоторой экзальтацией, и надо признать, не только с ее стороны.
Отправили багаж на вокзал. Таня поехала дать телеграмму, а я отправился на старую квартиру Вольтера. На удачу застал там Дмитрия Петровича, который приехал разобрать почту и дать распоряжения прислуге. Он стал меня расспрашивать, но выяснилось, что последними новостями он владеет, а не я, потому что от Аполлона ему уже несколько телеграмм пришло. Наш Вольтер со своими друзьями уже в Неаполе. Чувствует себя, вроде бы, хорошо, но об этом достоверно никогда нельзя знать. Поговорив с Дмитр. Петр. о делах и распрощавшись, никуда больше заходить не захотел, сразу к поезду поехал, чтобы засветло вернуться. Дорóгой представил Ап.Григ. с компанией в Италии, размечтался и так же сильно, как раньше не хотелось мне туда, теперь захотелось. У нас тут пасмурно и сыро, и скучно, а там у них море, солнце, чудесное беззаботное житье. Особенно дорога от станции меня в моих мечтах укрепила – чуть не по колено в грязи вывозился. Подходя к дому, издалека еще услышал громкую и оживленную французскую болтовню, да так быстро, что я не смог ничего толком разобрать. К тому же я удивился очень: кто бы это мог быть? Родственники что ли французские прикатили? Их от меня забор скрывал и малиновые кусты. Я остановился и прислушался. Немного успокоившись, я разобрал, что двое говорят, а то от неожиданности мне показалось их больше. Потом я понемногу стал разбирать смысл: говорят «о нем» и во всем друг с другом соглашаются. «Он такой, да сякой», – нахваливают. – «Да, да, он очень милый и добрый» (gentil et bon), «naïf un peu»[20]. – «Боже мой! Да это же они обо мне! И кто эти «они»! как же я сразу не узнал! Но нет! Быть того не может!» Я побежал к калитке, распахнул, а сердце так и колотится: «Неужели они встретились? Его вообще тут быть не должно, я не ждал его раньше четверга…». Так и есть – Анна и Демианов, Демианов и Анна стоят вдвоем возле малинки, щиплют пальчиками листочки и болтают. Странно конечно, что я сразу не узнал его голоса, вот что значит, не ожидал. Они оба повернулись ко мне и заулыбались и оба перешли на русский и все мы вместе пошли по тропинке к террасе. И Анна с Мишей продолжали болтать между собой, только теперь уж не обо мне, а так, о всяких пустяках, а я молчал какой-то ошарашенный и подавленный немного. Мне было ясно: он все знает. Скорее всего, и не от нее даже. И вся эта сцена – мнимое благополучие, и кажущаяся безмятежность, а объяснение и буря, и, возможно, полный разрыв еще предстоит.
Попили чаю. М. на меня почти не глядел, прочитал стихотворение новое, немного печальное, совсем не в его духе, как мне показалось, и пошел домой. Я не вызвался его провожать – струсил. Захотелось отложить объяснения. И у Анны мне ничего не захотелось расспрашивать. К тому же завтра такой тяжелый день.
5 сентября 1910 года (воскресенье)
До последнего не могли сговориться, как лучше поступить – ехать маме с нами на вокзал или нет. Да и Анне, на мой взгляд, не очень-то полезны все эти перипетии. Но, в конце концов, решили все вместе ехать провожать Таню. Мама не может не провожать – у нее сердце разорвется (как будто не разорвется от проводов), Анна не может оставить маму в таком состоянии (как будто я с ней не еду), а я бы и вовсе не провожал, но именно мне-то не ехать и нельзя.
Встретились с Татьяной, зашли в церковь все вместе. До поезда еще 3 часа, зашли в трактир перекусить. Мама все время плакала, у Анны тоже глаза на мокром месте, я и то еле сдерживался, так было маму жалко, Таня – ни слезинки. Разговоры всё одни и те же: «Куда едешь?! Зачем?! Осталась бы лучше в Петербурге». И те же всё возражения. Я очень боялся, что сердце у мамы не выдержит, но ничего, последние минуты она держалась почти молодцом, хоть и много слез пролила. Мы с Анной всю обратную дорогу держали ее за руки с двух сторон. На дачу сегодня решили уже не возвращаться, вернулись домой, то есть на квартиру О.И. Анна уложила маму в постель и до позднего вечера с ней просидела, уговаривая. Мне хотелось куда-нибудь уйти, хоть в «Кошку», или к знакомым кому-нибудь, к тому же Правосудову, но не решился их оставить. Мучительно думал о Демианове. Что и как между нами теперь? Неужели конец?
Для одного тебя я был поэтом,
Единственно тебя хотел хвалить.
Моим нестройным и смешным куплетам
Из всех один ты мог благоволить.
А нынче ни стихов, ни нашей дружбы
Нет. Без тебя какие там стихи?!
О как мне трудно, и скриплю натужно
В тетради старой перышком сухим
6 сентября 1910 года (понедельник)
Проснулись поздно. То есть проснулись довольно рано, но долго не хотелось вставать. Бедная мама вообще всю ночь не спала. Я сходил в лавочку, купил чаю хлеба и колбасы. Спорили, стоит ли сегодня ехать на дачу, в конце концов, поехали. По дороге со станции встретили Его. Я его издалека еще заприметил и Анна тоже. Она обрадовалась, говорит мне: «Смотри, кто там идет!». Я ее радости не понял и не разделил. С напряжением ждал, все думал, как это будет. Как поравняемся с ним, как поздороваемся, как разойдемся? Метрах в трех-четырех, смотрю, и он, и Анна друг другу рукой машут, улыбаются. И мама ему улыбнулась, поздоровавшись, издалека еще начала рассказывать о нашем «несчастье». Остановились. Он, продолжая обращаться к маме со словами утешенья, молча, пожал мне руку. Я ответил на рукопожатие и почувствовал неловкость от того, что не знал, как долго могу удерживать его руку в своей. Постояли немного, пошли. И он пошел с нами в нашу сторону. Мама ему говорит: «А вы на станцию шли? Уже не пойдете?» Он ответил, что хотел узнать только, есть ли письма, и что все равно завтра нужно будет идти гулять. Зашли к нам все вместе. Пили чай М. и А. целиком были заняты утешением мамы, всё уговаривали ее, ласкали, рисовали радужные картины. Мне на минуту показалось даже, что меж ними какой-то заговор против меня. В этот раз я уж не оробел и когда он засобирался, вышел за ним, провожать. И что же? Вопреки ожиданиям ни сцен, ни упреков, ни истерик – ничего. Он спокойно и весело рассказывал, как в гостях побывал, кто там были знакомые и с кем из новых познакомился. Так до самой его калитки и болтали. На прощание он обнял меня и поцеловал в щеку, а я украдкой сунул ему в карман пиджака записку со вчерашним стихотворением. Так и разошлись.
7 сентября 1910 года (вторник)
Всю ночь почти не спал, всё думал. О нашем с Демиановым странном разрыве (что же это как не разрыв? Да и сам я не хотел ли того?), о том, как дальше будем жить с Анной. Что ни говори, а по окончании нашей ссылки, должны мы будем явиться в Лион, и мне придется поступить на службу в банк. Смогу ли я, справлюсь ли? И что случится, если Пер-Сури во мне разочаруется? Опять же Италия и мама. Одни и те же мысли по кругу.
Разбужен был звонким смехом. Анна смеется. И еще кто-то. Демианов! Что за странные игры у них? Неужели действительно заговор?! Вышел к ним. Оказалось М.А. уже успел сходить за письмами и наши захватил. Смеясь, рассказывал, как уговаривал отдать их ему. На шум и мама вышла. Нам с Анной пришло от отца. Тут же распечатали. Он сообщает, что уже нанял для нас квартирку в Сорренто и даже с врачом тамошним уже договорился, пишет, чтобы мы в Петербурге особенно не задерживались, пока Анна в состоянии еще перенести дорогу. А ведь действительно, ей потом будет тяжело, я как-то не думал об этом. Мама тут же разрыдалась, стала причитать над нами, что вот, мол, и мы ее покинем. М.А. ей говорит: «Как, разве Вы с ними не едете?!»
– Куда уж мне старухе, да еще с моими-то ногами.
– Вашим ногам там самое место. Лечебный климат. Море, солнце, горячий песок! Это вам в Петербурге вредно.
Тут и Анна стала убеждать маму, что ей непременно нужно ехать с нами, что скоро потребуется ее помощь и руководство, ведь надо же будет к родам готовиться. Мама, робко отпиралась, но было видно, что она довольна и растрогана и согласна. А я тихонько слушал их всех и думал, как это мне раньше сама мысль о том, чтобы взять маму с собой казалась невозможной? Решено, едем все вместе. Что касается Демианова, тут уж очевидно, они как-то с Анной сговорились.
8 сентября 1910 года (среда)
Про стихотворение Михаил мне ничего не сказал. Ох, чувствую, интерес у него ко мне потерян. И на женитьбу равнодушно смотрит, и стишки мои уже не нужны. Думаю, кто-то есть у него, кто ему теперь ближе. Мне от таких мыслей одновременно легко и обидно. Вроде бы я и доволен, что обошлось без истерик и скандалов, но в то же время ревную, что там скрывать. Ходили втроем за грибами, после этого обедали у нас. Потом он ушел, сказал, что провожать не нужно. Пытает он меня что ли?
9 сентября 1910 года (четверг)
Собирались съезжать, М.А. не видел, хоть и заходил к ним. Говорил только с его зятем, тот обещал помочь с переездом нанять людей и повозки, а за это он отправит на них часть своего скарба – у нас-то всего немного. Анна здорова, они очень сблизились с мамой. А после того, как Таня уехала, и мама не могла спать, она вообще перебралась ночевать в мамину комнату. Я чувствую себя заброшенным. Целый день слонялся как неприкаянный, сборам не помогал, а только мешал. Весь расклеился, подумывал даже приболеть слегка. Никуда вечером не пошел, лег рано.
10 сентября 1910 года (пятница)
Спозаранку пришел М.А., обещал проследить за погрузкой. Слишком долго уговаривать нас ему не пришлось, так что мы, позавтракав, отправились сразу на станцию. Я и он простились сухо, почти холодно. Зато с мамой и с Аней они расцеловались многократно. Что ж это такое!
В городе темно и слякотно, какое счастье, что скоро едем отсюда! Анна просилась со мной на вокзал, но мама ее не отпустила.
Очень скоро я уеду, очень скоро,
Я покину этот ненавистный город
И кого-то очень милого оставлю,
И, быть может, сожалеть его заставлю.
Вот проснется он однажды среди ночи,
До руки моей дотронуться захочет,
Позовет, меня – а я не откликаюсь,
Он, конечно же, всплакнет, раскаясь.
И напишет мне, что встретиться мечтает,
Что меня ему ужасно не хватает.
Впрочем, может, он и вовсе не заметит,
Есть я, или нет меня на свете.
11 сентября 1910 года (суббота)
Ездили с Анной в банк, получать отцовские деньги, а потом кататься, смотреть Петербург. В Эрмитаж заходили, но она там быстро устала и проголодалась. Обедали в ресторане. Когда на извозчике уже домой было ехали, я почему-то вдруг вспомнил… Справился, у жены о самочувствии, и получив удовлетворительный ответ, не стал сомневаться.
– Зайдем сюда ненадолго?
– Что это?
– Театр.
– Театр?
– Да. Я тут работал когда-то. Пойдем.
Я хотел объяснить швейцару, что пришел поискать товарища, но нас почему-то пропустили без звука, хоть я и не узнал привратника. Чтобы не выяснилось, вдруг, какое-то недоразумение я поспешил пройти поскорее в сторону мастерских и Анну за собой потащил. По пути встречались нам какие-то люди, некоторые даже сами со мной раскланивались, хоть я решительно не узнавал никого. Одного рабочего я спросил, здесь ли Кирсанов и где его найти, и тот мне указал, что меня почему-то удивило. И вот из темной складской весь в пыли на зов выходит к нам Кирсанов. Он мне страшно обрадовался, что меня крайне смутило, я пожалел, что пришел. Не понимаю, как я вообще до такого додумался. Он принес нам стулья, предлагал мне папиросы. Я представил Анну, как свою жену, сказал, что уезжаем на днях. Видно было, что он удивлен и завидует. Скажем прямо, не этого ли я добивался? Пригласил его зайти к нам, пока мы еще в Петербурге, сказал, что мама будет рада его повидать. Наконец Анне сделалось нехорошо от спертого воздуха и табачного дыма и мы, распрощавшись, вышли на воздух. Дома, разумеется, за нас уже тревога. Бедная мама, кажется, помешалась на Анне и на ее плоде.
12 сентября 1910 года (воскресенье)
Были в церкви всей семьей. Да. Нужно привыкать к праведной жизни. Грехи юности остались позади, они забудутся и стану я почтенным отцом семейства. В этой жизни не только Демианову нет места, но даже и мыслям о нем.
От Анны мне неприятный сюрприз. Объявила, что близость между нами считает вредной для ребенка, поэтому нужно прекратить. Так я был этим расстроен, чуть не до слез. Привык к ней ужасно. Но ничего не поделаешь.
13 сентября 1910 года (понедельник)
Проснулись часов в 5, а то и раньше. Никому не спалось. Мама вообще в панике, еще со вчерашнего дня, начала причитать, что день выбрали для отъезда нехороший. Несмотря ни на что, она взяла всё в свои руки, я как-то не ожидал от нее этого, отправкой багажа распорядилась, с прислугой рассчиталась, и так давала им указания, словно свой собственный дом на них оставляет. И на вокзале тоже всем сама командовала, да так ловко, по-деловому, как будто всю жизнь только и путешествовала далеко. И про болезни свои забыла, стала похожа на вдову-купчиху, которая по смерти мужа все хозяйство под свое руководство забрала. А мы-то с Анной только рады. Из-за маминой суетливой предприимчивости на вокзал, разумеется, прибыли слишком рано. Дома никто ничего не ел, сели в буфете попить чаю, но и то, не потому, что проголодались, а так только, время провести. Маме кусок не идет в горло из-за слишком большого возбуждения, волнений о поезде и багаже и желания устроить всё как можно лучше. Анна расхворалась слегка, тоже, наверное, на нервах. А на меня вдруг что-то такая тоска нашла, хоть бросай всё и беги. Только сейчас в полной мере осознал, что никогда больше не увижу Демианова, что виноват перед ним, что никогда не будет у меня друга ближе. Вспомнил, как мы жили с ним вдвоем тихонечко в нашей маленькой квартирке, а, может быть, и вовсе не было этого, а только мираж и мои фантазии. Сердце сжалось, кусочек булки отломил, да так и не смог положить в рот. И вдруг… боже мой! Я даже глазам не поверил, знакомая фигура всё ближе и ближе, потом знакомое, кажется, лицо и… Да, да! Сомнений нет, это он, Демианов собственной персоной. Неужели пришел проводить?! Я так порывисто вскочил ему навстречу, что опрокинул на столе чашки, подбежал, схватил за руку… а что сказать-то и не знаю. М.А. спокойно поздоровался, подвел меня к нашим, расцеловался с Анной и с мамой, присел к столику. Мама снова убежала куда-то там хлопотать. М.А. и Анна заболтали по-французски, а я просто сидел и смотрел на него, хотел насмотреться на прощанье. Объявили посадку, я весь внутренне напрягся, нужно же что-то сказать, как-то проститься, а я ничего не соображаю. Засуетились с саквояжами, М.А. зашел с нами в вагон, помог что-то занести. Мы с ним уселись рядышком на диванчике, он нахваливает вагон и Италию и жену мою, а я молча киваю, совсем мне грустно стало. Пришел кондуктор, спросил билеты. Анна, сказала по-русски: «Ну, всё, Михаил Александрович, теперь уходите». И почему-то оба они засмеялись.
– Да, – сказал он очень весело, – пойду. Прощайте, Саша. – Я пролепетал, кажется, «до свидания», и еще, вроде бы, что буду писать. И в таком я был отчаянье и так подавлен, что не догадался даже подойти к окну, помахать рукой. Мы не обнялись с ним на прощанье. Поезд дал гудок и тронулся. Вот и всё.
Часа два я молчал, погруженный в свои невеселые мысли, ни на кого не глядел. Мама с Аней посуетились немножечко, устраиваясь, потом угомонились. Они видели, в каком я настроении, поэтому, между собой говорили очень тихо, иногда даже на шепот переходя.
Я сидел и думал, «какой ужас!», разве этого я хотел? Куда ж я еду? зачем?
Мимо нас проходил кондуктор, мама подозвала его и о чем-то тихо с ним заговорила. Он сказал громко: «Очень даже возможно, место есть». Она что-то ему ответила еще тише, он сказал: «Как желаете». Мама повернулась ко мне:
– Саша, там вещи какие-то наши не в тот вагон занесли, сходи, милый, узнай.
Какие вещи, почему? Толком не разобравшись, и не поняв ничего, я пошел. Перебрался в соседний вагон, а мне навстречу, глазам не поверил – Демианов с саквояжем.
– Вот и я! Не ожидал?
– Ты?! Что же это, как? Откуда?
– Представь себе, я еду с вами! Мы с твоим семейством обо всем договорились, а тебе сюрприз хотели сделать.
Вот это сюрприз! У меня аж ноги ватные стали. Может ли быть такое счастье! Это мне еще нужно попривыкнуть и поверить до конца.
М.А. перебрался в наш вагон. Я разговорчивей не стал, а по-прежнему молча сидел ошарашенный, только глупо улыбался. И Миша улыбался и мама, а Анна даже хихикала от удовольствия.
Поздно вечером, когда все улеглись, мы с М. нашли укромное местечко и целовались долго и сладко.
14 сентября 1910 года (вторник)
Я абсолютно счастлив! Вот теперь вся моя семья по-настоящему в сборе и можно ехать всем вместе хоть на край света. Мама и Анна отлично ладят и все время хлопочут о нас с Мишей, чтобы мы были сыты. Мы же не можем ничего есть, так они нас закормили, а нам вовсе не до того. У нас с Демиановым настоящий медовый месяц, только и ищем, как бы улучить момент, уединиться где-то, чтобы приласкать друг друга. Настоящая любовная лихорадка. Хоть в поезде это и чрезвычайно трудно устроить, но мы умудряемся.
15 сентября 1910 года (среда)
Я пьян от любви и счастья! В прямом смысле этого слова. Раньше встречал в книгах такое выражение, но не думал, что надо понимать его буквально.
С нами едут социалисты-революционеры. Двое молодых мужчин с бородами. Миша говорит, что наклеенными. Он спорил с ними о политике. Оба они страшно горячились, доказывали ему несправедливость мироустройства, не замечая, что он только развлекается, нарочно подзадоривая их, и, делая вид, что ничего не понимает. Мы с Анной не вмешиваемся, а мама воюет с Мишей на стороне бородачей.
Я сижу у окошка, кушаю сливы
И удивляюсь: каким можно быть счастливым!
В ночную дорогу вглядываюсь сквозь мрак
И удивляюсь: какой же я был дурак!
Разве можно было отчаиваться и хандрить?!
Думать плохо о тебе, а тем более говорить.
Ты же всегда был верным чистым и терпеливым.
Теперь я знаю, каким можно быть счастливым!
16 сентября 1910 года (четверг)
На границе Миша, доставая паспорт, нашарил в кармане свернутый вчетверо листок, удивился: «Что это у меня такое?» – Прочитал. Я ни сном, ни духом. Вижу, он как-то странно смотрит на меня, склонив голову на бок. Когда пограничники ушли, он говорит мне, глядя в ту бумажку: «Что это? Зачем ты?» А я не понимаю. Забрал у него, посмотрел. Господи! Это же мой акростих «Демианов»! Последний, печальный, жалобный. Значит, он потому ничего на него не ответил, что не видел до сих пор. Как я тогда в карман ему сунул, так он там и лежал. Как будто сто лет прошло, так все переменилось. И обстоятельства и настроение и вообще всё.
В Варшаве солнце ослепительное! Или это я своим счастьем ослеплен?
М.А. удивляет меня и несколько смущает своей странной манерой говорить с Анниным животом. Это он у мамы перенял. Когда они так делают, начинают сюсюкать с ним и даже что-то ему разъяснять, мы с Анной встречаемся глазами и строим друг другу гримасы, не знаю точно, что они означают, но что-то вроде того, что с ума они все посходили, а мы нет.
17 сентября 1910 года (пятница)
Изумрудный Берлин пожелтел, покраснел, но мил мне нисколько не меньше. И как чудесно было снова сюда вернуться! Ни Анна ни Миша, не говоря уж о маме, в Берлине не были никогда. Я чувствую себя по меньшей мере заправским путешественником и чуть ли не Берлинцем. Гостиницу отыскали быстро, разместились прекрасно и недорого. Мама и Анна остались отмываться и отдыхать, а М. я потащил, почти сразу же, осматривать город. Гуляли, катались. После поезда голова как чужая. Хожу словно во сне. Целовались, уединившись, в Грюнвальдском лесу. Вроде бы всё, почти, как в лесу том, у нас на даче, но нет – все другое. Значительнее, торжественнее, лучше. И трава и деревья и наша любовь.
По возвращении думали застать наших в тревоге. Какое там! Обе спали без задних ног. Мама и Анна разместились в одной комнате, а мы с М. вдвоем в другой.
18 сентября 1910 года (суббота)
В зоосаде Анне стало дурно от запаха. Мы отвезли своих дам в гостиницу и сбежали от них гулять. Страшно напились пивом. Я – прямо до рвоты. Познакомились со здешними, как выражается М., тапетками. Удивительно, как он их везде находит. Они нас затащили к себе на квартиру. Выбрались оттуда уже под утро, без гроша. Хорошо, что я предусмотрительно оставил все деньги в гостинице, а с собой немного взял на расход.
19 сентября 1910 года (воскресенье)
Еле встал к полудню. М. еще спал. Ездил на вокзал на счет билетов. Приезжаю – М.А. нет в гостинице. Пообедали с мамой и Анной. Они уверяют, что М., поднявшись, сразу уехал разыскивать меня на вокзале. Я, подозревая, где его искать, вышел было на улицу – он мне навстречу! Действительно ездил за мной на вокзал. А я-то подумал!
Т.к. билетов я не достал – не смог договориться с кассиром без немецкого, завтра поедем вместе. У Анны с Мишей свои, особые отношения, кажется откровенные. Во всяком случае, они все время шепчутся по углам. Я рад, что они поладили. Немного только ревную. Впрочем, сам не знаю кого.
20 сентября 1910 года (понедельник)
Анна напросилась с нами. В вокзале М., вдруг, воскликнул: «Tiens!» – и, не говоря нам ни слова, ринулся куда-то в другой конец зала, чуть ли, не распихивая всех, кто был у него на пути. Мы оторопели, стоим, не знаем, что делать, бежать за ним или нет. А. говорит: «Может знакомого встретил?» Я, как ни всматривался, ни одного знакомого лица разглядеть не смог, а М.А. от нас уже загородила публика, сошедшая с поезда. Решили постоять на месте, подождать. Не было его довольно долго, мы уж забеспокоились. Мне и Анну одну оставлять не хотелось, и страшно не терпелось сбегать посмотреть, куда это Миша делся.
Они подошли совершенно не с той стороны, в которую мы смотрели. Михаил Александрович и пожилой господин с приятным кротким лицом в одежде католического священника. – «Прошу любить и жаловать, – торжественно провозгласил Демианов, – Каноник Мориетт!» Священник молча поклонился. Демианов назвал ему нас и объявил, на мой взгляд, чересчур небрежно, что о билетах они с отцом уже позаботились и теперь нужно только их оплатить. Удивления и недоумения нашего с Анной он нарочно не замечал.
– Ну, что же ты, Саша, пойдем!
Я, обескураженный, двинулся за ним. А когда, спохватившись, оглянулся на Анну, увидел, что каноник ведет ее усаживать, поддерживая под руку так бережно, будто она сама Дева Мария.
Естественно, я кинулся к М., требуя разъяснений. Кто это? Откуда? Как? Демианов сделал таинственное лицо:
В моей первой молодости со мной была одна история, когда-нибудь я расскажу тебе подробней. Так вот, я был знаком с одним священником, французом. Увидев отца Мориетта издалека, я обознался, подумав, что это тот мой знакомый. Мы разговорились, и оказалось, что он хорошо вышеозначенную персону знает. Ко всему прочему друг моей юности поведал мне тогда одну тайну, несколько слов, вроде пароля. Если сказать эти слова любому члену их ордена, даже самому высокопоставленному, он тут же примет тебя как друга.
– Миша, это правда?! – В ответ молчание и все то же таинственное лицо.
Ладно. Пусть интригует, раз ему так нравится. Не знаю, поверил ли я до конца всему, что М. мне сказал. Сочинить подобную историю ничего ему не стоит, это вполне в его духе. Но настоящего каноника-то все-таки он привел. Пока я шевелил мозгами, соображая, как отнестись к его рассказу, он объявил еще, что отец Мориетт француз, но служит в Италии, куда, как раз сейчас и возвращается. Что в Германии он был по делам ордена и прекрасно знает немецкий, он любезно взял на себя переговоры с кассиром, так что билеты для нас уже заказаны и их остается только выкупить. Что мы, собственно, и осуществили. Я решил много не размышлять, а принимать все как должное и ничему не удивляться. В конце концов, когда Демианов рядом – все становится немного неправдоподобным.
К нашему возвращению Анна и о. Мориетт, оба страшно довольные встрече с соотечественником, были уже лучшими друзьями. С вокзала отправились осматривать Пергамский музей. Мы с М.А. мчались по залам вперед, он был моим гидом. Анна с каноником под руку плелись тихонечко, даже не стараясь поспевать за нами. Поэтому нам иногда приходилось так же стремительно возвращаться назад. Так что мы все залы по несколько раз успели обежать.
21 сентября 1910 года (вторник)
Сидя уже в вагоне мы все, кроме мамы, которая не успела еще познакомиться с о. Мориеттом, волновались, почему его всё еще нет. Уже колокол прозвонил, и гудок раздался, у нас дыханье перехватило – неужели не придет? Анна так полюбила старика, да и мы с М. тоже. Слава богу, в последний момент он явился. С небольшим чемоданчиком, кроткий, улыбчивый, подчеркнуто вежливый и почтительный со всеми. Мама поначалу отнеслась к отцу Мориетту осторожно и приняла его сухо. Мне потихонечку сказала, что недолюбливает иноверцев и не доверяет им. К тому же русский принадлежит к числу тех немногих языков, которых о. Мориетт не знает. Но Анна стала добрым и терпеливым посредником между ним и мамой. Вскоре они с большой теплотой и симпатией стали друг на друга глядеть. А в центре их общей заботы, неусыпного внимания и всяческих хлопот, конечно Анна, вернее не столько сама Анна, сколько, то, что у нее в животе. Мы же с Мишей как-то сами по себе, но отнюдь не тяготимся таким положением.
22 сентября 1910 года (среда)
Мы с М.А. ведем себя гораздо смирнее. Присутствие ли священника нас усмиряет, или попривыкли уже друг к другу, страсти слегка улеглись. Но не окончательно. Мама с каноником перешли на свой особый, только им понятный язык. Когда никто не посредничает между ними, мама говорит ему по-русски, но почему-то не все слова и фразы целиком, а как-то странно их сокращает, иногда только мычит и очень выразительно показывает жестами, то, что дает понять или сами предметы, о которых идет речь. Каноник перенял ее манеру почти в точности, и все находят это забавным, включая их самих.
Вечером, когда старики уснули, Миша рассказывал нам с Анной свой новый роман и читал стихи. Чудесные! А, ложась спать, сказал мне: «И ты напиши что-нибудь».
– Да что ж я напишу?
– Что-нибудь. Хоть акростих, у тебя они великолепно получаются.
Я и написал. Акростих «что-нибудь».
Чего не миновать,
Тому и быть.
О чем нам горевать?
На что грешить?
История любви
Была проста.
Ушедших не зови –
Дверь заперта
Ь
23 сентября 1910 года (четверг)
При пересадке в Швейцарии случилась задержка, полдня не подавали поезда. Все очень устали ждать, особенно женщины. Но как-то обошлось. Чем ближе к Италии, тем больше о ней разговоров. О. Мориетт молчит, молчит и вдруг внезапно восклицает что-то вроде: «Вы обязательно должны посетить Флоренцию!!!» Или: «Вам непременно нужно осмотреть Basilica di San Pietro!!!»[21] Я вижу, как загораются у М. глаза. В такие минуты я готов на жертву ради него. Пусть он с каноником отправляется путешествовать, увидит, наконец Италию, он так о ней мечтал! А я поеду с женщинами до Сорренто. Засяду там затворником, буду купаться в море, есть фрукты, пить вино и смиренно дожидаться его. Если, конечно во время своего путешествия он меня не забудет.
У каждого из нас свои мечты: Анна грезит только морем. Готова сидеть в воде безвылазно хоть до самой зимы. Ей нужно облегчить свою тяжесть. А морская вода поддержит ее, снимет груз с ее бедной поясницы. Мама просто устала от дороги и хочет скорее прибыть и устроиться на месте. О чем мечтает каноник, только Демианов может вообразить с его безграничной фантазией. А моя душа разрывается между мечтами о путешествии и наших с М. приключениях и долгом перед семьей.
24 сентября 1910 года (пятница)
Мы одни. Собственно, что это значит «одни»? Я не один, с ним, и он со мной вдвоем. Только вдвоем. Я ослеплен, оглушен, растерян, но счастлив. Как это получилось? Неожиданно, сумбурно, немного неловко. Как-то всё слово за слово. Я уж и не вспомню толком, кто за кем и что говорил. Все друг другу поддакивали, все со всеми были согласны, и из разговоров вышло так, что нам с Демиановым, вроде бы, сам бог велел отправляться осматривать Италию, а маме и Анне лучше на место поскорее, отдыхать. И лучшего чем каноник провожатого нет для них, и прекрасно он их доставит, нам же, молодым людям, нечего об этом и беспокоиться, а следует наслаждаться путешествием. В Риме нас выставили из вагона с двумя небольшими саквояжиками, и поначалу было у меня такое чувство, что я от поезда отстал. Без Анны всё уже не то. Так я к ней прирос, сроднился. И помыслить не мог, что когда-то расстанемся, да еще так скоро. М. счастлив, но немного обеспокоен тем, что я своего счастья не выказываю. А мне просто трудно привыкнуть, настроиться на новый лад. «Благословенная Италия! Милый Рим!» Я слышу его восклицания, и они не бесследно во мне растворяются. Просто я как во сне.
В маленькой гостинице М., из желания сэкономить, выбрал самую скромную комнату. Ему неловко быть на моем содержании, при том, что я в свою очередь на содержании тестя, от дочери которого мы так бессовестно сбежали. Я немного рассердился на него, то ли раздражала его привычка экономить, рожденная вечной бедностью, то ли неприятная правда колола глаза. И когда хозяин потребовал расписаться в гостевом журнале, я в каком-то злобном хулиганском порыве написал русскими буквами: «Князь Х.У.Ю.Супов со своим слугой Ложкиным». В конце концов, не все ли итальянцам равно, и паспортов у нас не спросили.
После помывки из кувшина, надо признать, довольно веселой, М.А. потащил меня на улицы. Он просто обезумел от восторга: «Всю жизнь мечтал здесь оказаться! Лучший в мире город!» Мы бегали по улицам взахлеб, если так можно выразиться, не рассмотрели ничего толком, но, думаю, прекрасно сделаем это, когда первая лихорадка у М. пройдет. Он так много читал и знает о Риме! Я даже не пытаюсь запомнить всего, что он рассказывает. Мои жалобы на голод он принял с восторгом, заявил, что в этой стране нет ничего вкуснее простого хлеба с оливковым маслом. И тут же всё это и еще вино нам удалось раздобыть у торговцев-разносчиков, и мы закусили прямо на улице. Казалось, никогда и ничего вкуснее я не ел. Восхитительно! Или это Демианов уже заразил меня своим восторженным настроением?
Любовались закатом, а потом и ночным небом в этом странном шумном городе, который и с наступлением темноты не затихает.
В гостиницу явились за полночь, и то, потому, что вымотаны были еще с дороги, а так бы и до утра гуляли.
25 сентября 1910 года (суббота)
Несмотря на то, что вчера устали и поздно легли, спал я мало и чуть свет уже открыл глаза. Мучила совесть и болела душа об Анне. Как там она бедняжка? Хорошо ли, что я так легко дал себя уговорить и покинул ее, нарушив все свои обязательства. Встал. Чтобы не будить Демианова, вышел. Вдруг вижу, хозяин, принимавший нас вчера, мчится ко мне со всех ног по темному коридору, чем-то размахивает, кричит: «Сеньор, сеньор!», и еще что-то по-итальянски. Я почувствовал неладное и приготовился встретить неприятности, но сам им навстречу не пошел, остался стоять на месте, гадая, что ж такое стряслось? Уж очень неистово он кричал. Так. Кажется ясно. У него в руках гостевой журнал, в котором я вчера нахулиганил. Ну, это еще ничего. Надеюсь, полицию он не станет вызывать из-за такого страшного преступления. Извинюсь, перепишу, как следует. Да может они и вовсе ничего не поняли, а недовольны только, что написано по-русски. Добежал он. Так и есть, весь сыр-бор из-за записи. Он хватает меня под руку, тащит к окну, впрочем, совсем не грубо, тараторя без умолку, тыкает пальцем в мою вчерашнюю запись. Я киваю, жестами его успокаивая, перепишу, мол. Перешли на французский. И тут настоящая итальянская комедия началась. Просто Труфальдино какой-то. Кроме журнала-то у него в руках небольшая картинка, старинная, писаная маслом, а на картинке, хотите верьте, хотите нет – князь Николай Борисович Юсупов, и подписано внизу по-русски : «князь Юсупов». Боже мой! Сейчас нас линчевать будут, как самозванцев. Хозяин на плохом французском старается, толкует мне что-то про своих пра-пра родственников из Турина. А я стою ни жив ни мертв, киваю только и пардоню. Но успокоить его никак невозможно. Слышал я про бешенный итальянский темперамент, но этот тип прямо сумасшедший. «Это я, – говорит,– прошу прощения, ваш господин так похож на своего предка, непростительно с моей стороны, я должен был узнать! Те же глаза, тот же рот!» Вот тут-то мне и стало дурно. Я понял, что он Демианова за князя принимает! А он говорит, как только «мой господин» проснется, нас переведут в самую лучшую комнату. «Нет, нет, не волнуйтесь, за ту же плату!» Это для него такая честь, столь важная персона в стесненных обстоятельствах именно его гостиницу изволила посетить. Всё для нас уже готово и я прямо сейчас могу начать перебираться, только бы не обеспокоить моего господина. Господи Исусе! Я еле от него вырвался, побежал будить Демианова.
М.А. над моей паникой посмеялся только. Говорит, он и раньше находил, что походит на князя Николая Борисовича. И одевшись, заявил с улыбкой до ушей, что пренебрегать гостеприимством не вежливо, и мы сейчас же переберемся в лучшую комнату. А на мое выражение ужаса заметил только, что таких гостиниц в Риме пруд пруди, и в любой момент можно сбежать в другую. Мы упаковали два своих саквояжика и вышли. У двери нас уже сам хозяин поджидал. С поклонами и всяческим почтением нас препроводили на второй этаж в «лучшие апартаменты». Честно говоря, не бог весть что, но по сравнению с нашей первой комнаткой, шикарные: три комнаты с дубовой мебелью, ванной и балконом в сад. Хозяин теперь уже Демианову про своих древнетуринских родственников стал твердить. За завтраком, который нам тут же подали, Демианов объяснил мне, что князь Н.Б.Юсупов в молодости был в Турине посланником. Мне кусок в горло не шел, так было страшно ввязываться в подобную авантюру. А Демианов ничего, ел с аппетитом и был весьма доволен приключением.
Посетили собор Святого Петра, спускались под центральный алтарь к его могиле, поднимались на вершину купола. Вид оттуда открывается фантастический. Папы Римского не видали.
В Сикстинской капелле Демианов много и интересно рассказывал о Микеланджело и чуть ли не весь Ветхий Завет, им изображенный, наизусть повторил.
Обедали в маленьком уютном ресторанчике. В этой стране вино как воду пьют, или как у нас чай. М.А. говорит, чтобы я привыкал, потому что во Франции, где я скоро буду жить – тоже самое. Ох, опять воспоминание о жене и опять укол совести.
26 сентября 1910 года (воскресенье)
Из гостиницы под моим нажимом сбежали пораньше. Все же, не так рано как мне хотелось бы, потому что Демианов отказывался уходить без принятия горячей ванны. Он все хихикал надо мной, говорил, что мне нужно где-нибудь на водах нервы лечить. Станешь тут нервным, когда не успели приехать, а он уж князь. Полдня провели в Колизее, после обеда катались по городу в экипаже. Валясь от усталости с ног, возвратились в свою гостиницу, я – не без душевной дрожи. Оказалось, не зря я дрожал, но такое предвидеть было невозможно: нас встретил выстрел! Страшный хлопок раздался, как только дверь открыли. Дым пошел, и несколько возбужденных итальянцев с хозяином во главе с криками набросились на нас, чтобы… объяснить, что хозяин нанял фотографа, дабы запечатлеть высокую особу в его гостинице. Как он в двери входит, уже сфотографировали, теперь соблаговолите попозировать еще в апартаментах и за столом, а ужин для вас уже готов. Боже мой! Я всерьез начал опасаться за благополучие своих нервов. А Демианову всё нипочем.
27 сентября 1910 года (понедельник)
В 12 часов дня у фонтана на площади Колонны, как было условлено, ждали каноника. Издалека еще его заприметили и обрадовались как родному. Закричали, замахали руками, благо в этом городе все кричат и руками машут. Женщин наших он доставил благополучно, привез от них письмо. Анна пишет, разместились чудесно, у них море из окна видно; мама в восторге и она сама очень довольна, почти не вылезает из воды, как и хотела. Что скучают, не пишет, думаю, чтобы не смущать меня и не беспокоить. О. Мориетт чуть не до слез хохотал, узнав нашу гостиничную историю, сказал, что помнит портреты князя Юсупова-дипломата и тоже находит сходство, стал называть Демианова mon prince и vostra altezza[22].
Гуляли, заходили во все подряд церкви, у каждой своя легенда и все они были нам подробно изложены, я уж запутался во всех этих Санта-Мариях и множестве других святых. Но общее впечатление потрясающее, в этом городе каждый камень несет в себе святость апостолов и первых христиан. Вечером отец Мориетт служил в Соборе Св. Клемента и мы присутствовали.
28 сентября 1910 года (вторник)
Рано утром о. Мориетт зашел за нами в гостиницу, спросил князя, но дипломатично не назвал фамилию. Разумеется, больше одного-то князя у них здесь не может быть. Каноник повез нас осматривать катакомбы, в которых хоронили древних христиан, я даже представить себе не мог ничего подобного. Пообедав, уже вдвоем с Д. посетили Пантеон, громадность, простор и яркое солнце сквозь отверстие в своде очень благотворно на нас подействовали, после тесных холодных подземелий.
Ужинали в гостинице. Нас потчуют с особым старанием. Итальянские названия блюд я плохо запоминаю, но вкусно все необыкновенно. Из-за нашей проказы я в гостинице как на вулкане, Д. – как ни в чем не бывало. Благосклонно принимает суетливую почтительность хозяина. Ему вся эта история с княженьем доставляет массу удовольствия.
29 сентября 1910 года (среда)
Еще не рассвело хорошенько, а о. Мориетт уже зашел за нами. Мы еле глаза продрали. Наскоро одевшись и не позавтракав, т.к. каноник очень торопил, ходили в Базилику Святого Петра смотреть, как Папа служит мессу. Демианов в благоговейном восторге. Кажется, о. Мор. Всерьез поглядывает на него, как на свою добычу, в смысле обращения в католицизм. Но М. сказал мне, что хотел бы родиться католиком, а не стать. Я потом еще долго шевелил мозгами, пытаясь это понять. Лично на меня ни месса ни сам Папа большого впечатления не произвели. Папа – довольно упитанный человек с бритым простым круглым лицом и хриплым голосом. Д. считает, что от него исходит особый свет и благолепие. Я же, не почувствовав ничего такого, остался равнодушным. Позавтракав, потащились в Национальный музей. То же самое – Демианов в восторге, я в унынии. Нескончаемая череда античных скульптур угнетает меня. Вся эта белизна сливается в единую массу. Ничего я в них не понимаю. М. восхищенно старается растолковать мне достоинства всех этих голых Венер и Аполлонов, но я устал и заскучал. На улице у меня настроение совсем испортилось. Крикливые итальянцы действовали на нервы, казались все на одно лицо и какими-то грязными. Д. объяснял мое уныние, тем, что я не выспался. Сам я приписывал такое настроение нечистой совести и желанию поскорее воссоединиться с женой и матерью. Тревога за Анну все усиливалась, приобретая болезненный характер. Я уж черти-что стал думать. А что если она потеряет ребенка? В сущности, если не будет ребенка, то и я не нужен. Приедет спокойно домой, как будто ничего и не было. И П.-С. Будет доволен.
Суета в гостинице вокруг нас уже и Демианова не слишком забавляет, а меня так просто злит. Пошутил на свою голову.
30 сентября 1910 года (четверг)
Каноник опять притащился ни свет ни заря. Но на этот раз с отличным предложением. Он по поручению епископа едет в Милан и Турин и нас берет с собою, если захотим. Еще бы не захотели! Для Демианова нет ничего прекрасней путешествия. А мне уж осточертела эта гостиница, да и «Благословенный Рим», говоря откровенно, тоже. Обедали поздно, но уже в Милане. О. Мориетт поселил нас у своих родственников, а сам ушел, кажется, в дом местного священника. Демианов побежал осматривать достопримечательности, а я сказал, что не пойду и остался с племянницей каноника помогать ей по хозяйству. Перебирал виноград и заодно объелся им до того, то живот раздулся. Вечером о.Мор. пришел к нам пить чай. Они с Д. ведут бесконечные философские беседы, я так хорошо не знаю ни философов, о которых они говорят, ни французского языка, поэтому мне временами становится скучно их слушать.
1 октября 1910 года (пятница)
В Милане у Каноника и дел-то было – повидать родных и друзей. Основная цель путешествия – Турин, куда мы и выехали на автомобиле, сердечно распрощавшись с его племянницей и ее детьми. Вот и Турин. Я шуткой понадеялся, что мы не встретим здесь пра-пра родственников нашего римского хозяина и вообще никаких его родственников. О. Мориетт поглядел лукаво: «В этом святом городе всякие чудеса возможны». Потом он стал рассказывать нам о плащанице. Я подумал: «Боже мой! Это же здесь!» Столько разговоров было Турин, Турин, а я ни разу не вспомнил о знаменитой святыне. Мы с М. выразили сильнейшее желание ее увидеть. О. Мориетт ответил, что она не всегда доступна для паломников, но он постарается устроить нам посещение, если сейчас не выставляется. Мы притихли от восторга. Поселил он нас опять у кого-то из своих. Только в Милане это был небольшой домик, утопающий в зелени и населенный целой оравой детишек, а здесь роскошное палаццо, почти необитаемое, в котором нам с Демиановым отвели целый этаж. Хозяйка, то ли племянница каноника, то ли сестра, то ли кузина, совершенно неопределенного возраста, закутанная во все черное, по всей видимости, вдова. Слуги и сам о.М. зовут ее просто графиня. С нами она вежлива, но слишком сдержанна. Почти всегда молчит. Так, что даже неловко делается. А каноник опять с нами не живет. Опять предпочел пресвитерий.
Писал письмо Анне, что скучаю и жду встречи. Надеюсь, она не окончательно во мне разочарована.
М. слышал, как каноник обещал графине на днях привести к обеду епископа.
2 октября 1910 года (суббота)
Гуляли по городу. Посетили Египетский музей. На меня он произвел гораздо большее впечатление, чем бесконечные белые статуи в Риме. Мумии, не только людей, но и животных, саркофаги, разные штучки из древнеегипетского быта, страшно занимательны, я даже уходить не хотел. Обедали в кафе на пьяца Сан Карло. Пили странное белое вино, крепкое с ароматом пряных трав. Потом опять гуляли до вечера. Купили Демианову галстук и трость. На главной площади видели Королевский дворец, Королевский театр, Королевскую библиотеку и большой трехэтажный дом со смешным названием палаццо Мадама.
Вечером каноник приходил к нам пить кофе. Мы с Демиановым живем как истинные аристократы, у каждого по спальне с собственной ванной и гардеробной и еще общая гостиная с портретами знатных особ по стенам, старинной мебелью, разными фарфоровыми и серебряными безделушками и камином, который вечером топят, несмотря на теплынь. Когда каноник ушел, Демианов уединился в своей комнате, наверное, работал, писал роман, или дневник, или письма. Я тоже написал своим, потом вышел на балкон. Ночное небо в Италии необыкновенное! Так много так низко и таких ярких звезд у нас в Петербурге не увидишь.
3 октября 1910 года (воскресенье)
Графиня очень хорошо говорит по-французски, когда не молчит. За завтраком внизу в ее большой столовой, проявив снисходительность, немного рассказала нам о Турине, куда можно пойти и что посмотреть из того, что мы еще не видели. Демианов, разумеется, знает все на свете, но я не знал, что Турин когда-то был столицей Италии. Гуляли. Зашли на почту, отправить нашим мои письма и открытки с видами. Я уговаривал Демианова поехать уже к ним, на море. Он почти не противился. Обедали снова в городе, т.к. от графини специального приглашения не было. Вина в Италии превосходные, в каждом заведении свое особое. Я начинаю привыкать их пить и понемножку разбираться в букете.
Графиня, по-видимому, только на первый взгляд показалась мне букой. Или это мы ей сперва не показались. За ужином она обращалась к нам довольно часто, расспрашивала о прогулке, о впечатлениях. И еще очень много пытала monsieur[23] Демианова о нем и его русских родственниках. Узнав, что Д. литератор, обещала познакомить его со здешними поэтами. Каноник снова на кофе приходил. Я попросил его помочь достать билеты на поезд в Сорренто. Он стал уговаривать погостить еще. Прощаясь, отвел Демианова в сторону, и они шептались о чем-то. Что ж он действительно на него глаз положил? Обращать хочет?
4 октября 1910 года (понедельник)
Графиня, как обещала, позвала к завтраку итальянского поэта. Он прочитал несколько своих стихотворений. Мы с Д. проявили вежливый интерес. М.А. даже нашел, что с ним обсудить. Графиня (влюбилась она, что ли, в Мишу нашего?) смотрит только на него. И опять допрашивала подробно, кто были родители, кто родители родителей, какими владели землями, какие титулы носили. Я посмеялся и пошутил, что единственным титулом его наградили здесь в Италии, когда в гостинице по ошибке, из-за глупой шутки моей за князя Юсупова приняли. Графиня не улыбнулась. Вообще сделала вид, что меня не слышит. Демианов терпеливо на всё ей отвечал. Я сам заслушался, оказалось, не знал о нем очень многого. Предки его мелкопоместные дворяне Ярославской губернии, имели несколько деревень, но ему самому ничего из этих имений не досталось. Вот, оказывается, о каком наследстве тетка его хлопочет! Мне представлялись какие-то пустяки. Графиня спрашивает: «Ваша фамилия от названия местности происходит?» – «Фамилия от местности или местность от фамилии, но деревня Демьяновка точно, была у прадеда и у деда моего, а отцу уже не досталась». Графиня вошла в интерес, расспросила подробно, как звали прадеда, почему М.А. ничего не досталось, почему и кто стал владельцем. Странная, право, женщина. Потом поэт повел нас осматривать город и в гости к себе. Они с Демиановым читали друг другу стихи, каждый на своем языке. Мне было смешно. Но они оба остались довольны. Вечером снова каноник и снова кофе. Это у нас уж традиция. О. Мориетт поинтересовался как мне нравится Турин, и всё ли еще я намерен уехать. Я ответил, что беспокоюсь о жене. Он похвалил меня и намекнул, что я и один мог бы туда поехать, а Демианова оставить здесь гостить. Откровенно говоря, я и сам об этом подумывал.
5 октября 1910 года (вторник)
За завтраком новый гость – молодой племянник графини, приблизительно моего возраста и новый допрос все о том же. Будто ночь она не спала, а только и думала о фамильном древе Демианова. Вот потеха! То ли она общих родственников надеется отыскать, то ли правда влюбилась и решает, достаточно ли он для нее родовит. Ее племянник Винченцо предложил отвести нас в Пьемонте, на что мы с радостью согласились. Графиня объявила, что к обеду сегодня будет епископ и мы тоже приглашены, она строго-настрого запретила опаздывать. Племянник клятвенно заверил, что приедем вовремя и повел нас усаживать в свой автомобиль.
Я думал, что в Пьемонте начнутся снова бесконечные пьяццо, палаццо, белые статуи, церкви Санта-Марии и другие Санты, но нет. Палаццо мы посетили только одно – дом Винченцо. И самое в нем неожиданное место. Как только дворецкий открыл двери, юный граф кинулся вверх по лестнице, махнув рукой, чтобы мы за ним следовали. Поднявшись, оказались на чердаке, но вовсе не заросшем паутиной и не таком уж пыльном, и света было на нем достаточно из окон под потолком. Вся комната заставлена картинами. Я сроду не видел столько полотен сразу, даже в мастерских художников, даже когда выставку устраивали. Не знаю сколько там на чердаке их было. 100? 200? 500? Все они стояли рядами прямо на полу, опираясь друг на друга, накрытые кусками материи. Винченцо кинулся к ним и принялся перебирать одну за другой. И нам крикнул: «Ищите желтую!» Мы с Демиановым больше от растерянности, вовсе не понимая цели, стали делать что и он, переворачивать картину лицом, заглядывать в нее и хвататься за следующую. Вдруг я вскрикнул от неожиданности. Она была действительно желтая: человек у окна, за ним желтая стена дома напротив и много солнца. А человек этот был – Демианов! Винченцо деловито без всякого удивления сказал: «Нашли?» Завернул картину в первую попавшуюся тряпку и вышел вон. Мы, разумеется, за ним. На все расспросы граф отвечать нам отказался, даже картину показать еще раз не захотел. Дорогой рассказывал о красотах Пьемонте, которых мы так и не увидели.
На обеде у графини действительно присутствовал епископ. Но нам с Д. было не до епископа. Мы и есть-то почти ничего не могли. А после обеда меня попросили подняться в свои покои и подождать там. Я ждал часа два, потом спустился вниз и никого там не обнаружил. Спросил у слуг, мне доложили, что все синьоры уехали. Еще часа три я бегал по саду не находя себе места. Подъехал автомобиль, в нем каноник, графиня и Демианов. Я так извелся, что и расспрашивать сил не было. И М.А. не торопился ничего объяснять. Каноник объявил мне, что он все устроил, и я могу поехать проведать своих, а monsieur Демианов погостит еще какое-то время у графини. По его тону я понял: возражать и выпытывать что-то бессмысленно.
Перед сном Д. зашел ко мне в комнату, поцеловал, погладил по голове и сказал:
– Я тебе потом все расскажу, ладно? – Я кивнул.
6 октября 1910 года (среда)
У них 19-е.
Утром М.А. и каноник усадили меня в поезд. Дорога заняла целый день. Я ни о туринских странностях не думал, ни о предстоящей встрече. Просто смотрел в окно. Пусто как-то стало внутри. Тем, как Анна и мама обрадовались, увидев меня, растроган был почти до слез. Море великолепно! Только перед тем, как заснуть, подумал о М.А. Господи! Да ведь сегодня же его рожденье! Вот вам и отпраздновали! А я столько усилий прикладывал, чтобы не забыть.
7 октября 1910 года (четверг)
Целый день провели с Анной в воде и на берегу, лениво обсуждая туринскую историю Демианова. Разные делали предположения: Демианов и вправду оказался князем незаконно рожденным, или его мать – черная графиня. Родила его и подкинула в деревню Демьяновку. Но сочиняли эти сказки без большого вдохновения. Животик у нее еще подрос, это особенно заметно после недельной разлуки и в купальном платьице. Мама говорит, что на море совсем по-иному себя чувствует, моложе и здоровее. И выглядит она очень хорошо, чему я рад несказанно. Анна показывала мне письмо от родителей. Возможно, ее мать вскорости к нам присоединится. Я предложил позвать еще беленьких тетушек, ангелов нашего брака. Купили у рыбаков устриц и рыбу, прямо здесь же выловленных. Полное, я бы сказал, идиллическое благополучие.
8 октября 1910 года (пятница)
У нас здесь есть кухарка и горничная, мать и дочь. Милые, приветливые, черноглазые, пухленькие и смуглые. Ужасно похожие друг на друга. Их сын и брат Пьетро, как почти все местные мужчины, ходит в море рыбачить на своей лодке. Обещал взять меня с собой. Анна очень обрадовалась, так как боится, что я скоро соскучусь с ними. А мама испугалась и запротестовала, говорит, это слишком опасно. Лодка обязательно перевернется или прохудится, или я просто свалюсь за борт, короче говоря, непременно утону. Чтобы ее успокоить, пришлось обещать, что откажусь. Еда здесь самая простая и здоровая: рыба, сыр, разные морские твари, фрукты. Вина не пью, не хочется.
9 октября 1910 года (суббота)
Ходили с Анной в город, в магазины. Купили ей кое-что, маме, но в основном для меня несколько легких костюмов и шляпу. Шутки о Демианове и его высоком происхождении уже стали привычными и приобретают все более гротескный характер. Пока никаких вестей от него. Надеюсь, все у него благополучно. Только бы он сообщил нам, если вдруг какие-то неприятности, чтобы мы успели его выручить. Анна меня утешает, милый мой преданный друг. Как я счастлив, что женился на ней! С каждым днем все больше привязываюсь к жене. И мама души в ней не чает.
10 октября 1910 года (воскресенье)
Анна беспокоясь, как бы я не заскучал, уговорила-таки маму отпустить меня с Пьетро на рыбалку. Он улыбчивый темноглазый, добрый и сильный парень. По-французски знает несколько слов, ну и я уже несколько слов узнал по-итальянски, так что мы прекрасно понимаем друг друга. Вернулись под вечер, поймали целую гору рыбы, не запомнил итальянского названия, а по-русски тем более не знаю, как она называется. Анна еле отмыла меня от морской соли и запаха рыбы. А бедная мама, оказывается, весь день простояла на краю скалы, нас высматривая. Жалко ее. Она очень счастлива здесь с нами, но не перестает страдать и плакать о Тане.
11 октября 1910 года (понедельник)
От Демианова, письмо наконец-то! Я уж начал беспокоиться.
Дело у них вот в чем:
Каноник Мориетт, хоть по происхождению и француз, но в Италии с юных лет прижился, в семье графов Орса стал как родной. Они все там друг другу как-то родственники, много разных итальянских фамилий и епископ им тоже родня. Итак, каноник давно уж заприметил сходство Демианова с одним из портретов какого-то предка по линии Скьятелли, или как-то так. Но мало ли, кто на кого похож, о. Мориетт счел это забавным совпадением и только. Еще подумал, что нужно тот портрет отыскать, удостовериться, не подводит ли его воображение. Наша шутка в гостинице заставила его задуматься, он когда-то занимался семейным архивом всех этих графьев, и что-то такое смутно ему припомнилось из семейных легенд. Каноник обратился к графине Орса (нашей черной вдовушке) и точно, оказалось, есть у них в роду такое придание. Одна из родственниц графини по материнской линии в восьмидесятых годах 18-го века имела связь с русским посланником здесь в Турине. Возможно это и не сам посол был, доказать уже ничего не возможно, а кто-то из его приближенных, но семейная легенда говорит именно о посланнике, князе Юсупове. Так вот, графиня та родила. Здесь в Италии, судьбу младенца невозможно было устроить, и его отдали отцу, который увез мальчика в Россию. А старинный портрет – точная копия Демианова писан с родного брата той графини-грешницы. И самое главное то, вокруг чего вся суета: Доподлинно известно, что графиней было получено письмо из России, в котором сказано, младенец отдан на воспитание в хорошую семью, но не в качестве сына, а выдан за осиротевшего племянника. Чтобы соблюсти интересы ребенка, не приемным родителям, а ему в единоличное владение были отданы несколько деревень и дана фамилия по названию одной из них. Не раз пересказывалась эта история в семейных письмах, но сам первый оригинал, полученный из России, сейчас ищут. Осталось также придание, о том, как графиня была безутешна. Хоть и была она за мужем и других детей имела, но о том своем мальчике тосковала всю жизнь и до самого конца надеялась его отыскать. Еще, вроде бы, есть какое-то наследство, завещанное той старой графиней своему русскому сыну и только ему. И если Демианов его потомок, то он и наследник. Остается отыскать в архивах старинное письмо, чтобы выяснить название деревни и уточнить фамилию. Но наша графиня-вдовушка уже уверена, что нет никаких сомнений. Ей было достаточно на портрет взглянуть. Там, в Турине и епископ этой историей страшно заинтересовался и вся вообще тамошняя знать. Короче говоря, М.А. в центре захватывающих событий. Везде его возят, всем показывают. В то, какое наследство ему может причитаться, его пока не посвящают. Вообще, как он пишет, история для него не ясная, много интригуют итальянцы. Но он старается держаться молодцом и относиться иронически. Пишет, что соскучился, что меня не хватает ему. Господи! Бедный Демианов, вечный невольник призрачных наследств! Надеюсь, хоть раз в жизни ему улыбнется удача. Скорее бы интрига разрешилась, пусть и не в его пользу. Тогда он смог бы снова к нам присоединиться.
А у нас всё то же. Тихая семейная идиллия.
12 октября 1910 года (вторник)
Я думаю, Анна так беспокоится, о том, что я могу заскучать, потому, что ей самой здесь смертельно скучно. Я тоже хорош, посадил ее наедине со своей старушкой, а сам отправился развлекаться с Демиановым. Но теперь от утомительного переезда из России она вполне оправилась, роды еще не скоро. Врач нас навещал, говорит, все у нее в полном порядке. Так что планирую повезти ее тоже по Италии путешествовать. Проедем через всю страну, Демианова доберемся навестить. А если итальянцы раньше его отпустят, встретимся где-нибудь посередине. Маму, конечно жалко одну оставлять, но ничего, ей здесь неплохо. Это не в Петерб. Сидеть в четырех стенах с распухшими ногами. Я написал М.А. о своих планах, и чтобы каноник для мамы книг достал, романов на русском языке. Если есть они в Италии, то о. Мориетт точно достанет.
13 октября 1910 года (среда)
Ходили с Анной опять в город. Получили в банке деньги от отца. Готовимся к путешествию. Анна здорова и счастлива. Мне отрадно ее такой видеть. Мама немного ноет, что бросаем, но видно, понимает, как нам необходимо поехать, помогает укладываться. Пьетро подарил мне самодельный нож с ручкой из китовой кости. А я никак не придумаю, что бы такое ему подарить кроме денег. Мать Анны приезжает через неделю. Как-то они поладят с моей? Беспокойно. То, что мама и Анна души друг в друге не чают, еще ничего не значит. Анна-то вся в отца. Ну, может быть, через неделю мы уже вернемся.
14 октября 1910 года (четверг)
Письмо от Демианова. Он горячо одобряет наши планы. Надавал уйму советов, куда заехать и что посмотреть. Ему, я чувствую, туринские разоблачения уже порядком надоели. Вот бы и ладно! Попробую уговорить нашего дорогого друга бросить свой итальянский клан и к нам поскорее присоединиться. Как было бы чудесно!
15 октября 1910 года (пятница)
Столько суеты и волнений возбудили наши с Анной сборы. Бесконечные рассуждения и споры, какие нам костюмы уложить, какое белье, чтобы было немного, но на любой случай. Бенитта, кухарка, насобирала нам в дорогу сыров и колбас, которые чуть не вечно могут храниться. И еще разные коробочки с сушеной травой, из которых следует делать настои и отвары, по ее словам, чудодейственные. Эти, как она их называет, tisana есть от всех болезней и на все случаи жизни. Нам, разумеется, достались те, что незаменимы для беременных, а еще от простуд, головных и желудочных болей. Мама сшила специальный пояс для Анниного животика, как-то особо крепящийся на шее и плечах. Все эти хлопоты нас с Анной ужасно забавляли и раздражали отчасти. Хотелось вырваться скорее на волю. Вот и вырвались. Отделавшись от прощальных объятий, мокрые от слез и поцелуев всех наших кумушек, оказались мы на площади, где хотели сесть в дилижанс до Неаполя. Счастливые, свободные до головокружения и растерянные un peu[24]. Планов-то мы своего путешествия почти не строили. Так мечтали мы просто поехать, только вдвоем, что казалось, все равно, куда и как. А мамины вопросы, куда мы поедем? Где будем путешествовать? Каков наш маршрут? Казались риторическими. В сущности, только-только и начался наш с Анной медовый месяц. После свадьбы была у нас дача. Разве это в счет? А потом, в дороге, у меня с Демиановым медовый месяц был. Бедная Анна! Ну, теперь уж я ее ни за что не оставлю! Побудем в Неаполе дня два, а там как бог даст. Пусть все само собой выходит.
Неаполь – почти то же, что наше Сорренто. Только многолюднее и шумнее. Видели Везувий и оставшиеся еще последствия от извержения. Анна потрясена до глубины души!
В гостинице наши соседи чета итальянцев с тремя детишками и четвертым, как у нас, в животе. Они завтра выезжают во Флоренцию. Наверное, присоединимся к ним.
16 октября 1910 года (суббота)
На вокзале я оставил Анну с итальянским семейством, а сам побежал справляться о билетах. И тут кто-то сзади больно хлопнул меня по плечу. Что такое?! Вот так встреча! Вот о ком я и думать забыл! Митя! Поглядел по сторонам, не видать ли где поблизости Аполлон Григорьевича. Нет, не видно.
– Ты что здесь, – спрашиваю, – как?
– Багаж буду отправлять. Специально вчера за ним приехал.
– А Аполлон Григорьевич?
– Мы уж вторую неделю, как в Милан перебрались. Там театр, опера. Самый сезон.
Ну конечно! Ла Скала! Где и быть-то Вольтеру как не там! Вот оно провидение господне! Я попрощался с нашими итальянцами, Анну мы с Митей отвезли обратно в гостиницу, а сами поехали хлопотать об отправке Вольтеровского багажа. Послезавтра вместе выезжаем в Милан.
17 октября 1910 года (воскресенье)
Первый порыв мой был написать Демианову о Вольтере. Они же оба там на севере, друг от друга в паре часов езды. Но потом раздумал. Мы сами, быть может, к нему наедем сюрпризом, а если еще и Аполлона удастся уговорить, вот это будет встреча! Миша, Миша! Как он бедный там? Только б не замучили его эти аристократы. Лучше б выяснилось, что всё ошибка. Да и забрали б мы нашего М.А. подобру-поздорову. Написал ему, что движемся в его сторону. Пусть не чувствует себя заброшенным.
Палаццо Вольтера, из которого мы его вещи вывозили – сказочный замок, растущий прямо из скалы. Узнаю Аполлона. Слава богу, уж все упаковано было, и мебель, и посуда, и ковры, и картины, а то б в неделю не управились. Все-таки Митя скряга. Если бы не я, грузчики чуть не в половину бы меньше получили. Но зато все (кроме Мити, разумеется) остались довольны. И работу сделали быстро и ничего не затеряли и не испортили.
18 октября 1910 года (понедельник)
В дороге забрасывали друг друга новостями. Фавориты у Вольтера сменились. Опальные Кики и маркиз были отправлены в Париж еще в сентябре. Доктор новый с ним путешествует, как-то по-новому его лечит. Но Митя считает, что А.Г. и так уж здоров и в лечении не нуждается. Дай-то бог! Теперь наш Вольтер дружен с оперной певицей, двумя певцами и молодым композитором. Меценатствует по обыкновению. Думается мне, к нашей «Кошке» интерес у него пропал. Какая там «Кошка», когда есть Ла Скала.
О том, что нас везет, Митя тоже не стал его предупреждать.
19 октября 1910 года (вторник)
Попали с корабля на бал. То есть, с вокзала прямо на пир к Аполлону. Всё то же, что в Петербурге: шумное застолье. Только здесь еще более шумное – что, что, а шуметь итальянцы умеют. Лично я от Ап.Григ. не получил никаких восторгов, ни радостных восклицаний, ни объятий. Ничего ровным счетом. Встретил спокойно, будто вчера расстались. Чуть не первым делом спросил про счета, которыми я в Киссенгене занимался. Слава богу, я припомнил, что там к чему. Анной же напротив он бурно восхищался, расцеловал ее в обе щеки, оглядел всю с ног до головы и нашел несказанно похорошевшей. Всячески вышучивал наш брак, почти что зло. Собранию объявил: «Прошу знакомиться, мадемуазель Мария с молодым Иосифом!» Никто, кажется, его не слышал, а кто слышал, надеюсь, не придал значения. Новый доктор А.Г. – симпатичный очень молодой американец. Его стараниями А.Г. вина не пьет теперь совсем, чуть ли, не сам верит, что вроде бы так всегда и было. Зато других по-прежнему накачивает безмерно. «А сам я, – говорит, – без всякого вина от рожденья умеренно пьян. Бодр, весел и проказлив». И демонстрируя, очевидно, последнее свое врожденное качество, щипает за ногу, проходящую мимо даму. Дама визжит. Аполлон хохочет. Между прочим, выясняется, что он получает от этого доктора инъекции какого-то нового, чудодейственного средства, дающие силу, бодрость и омолаживающие. От того же доктора получаем сведения, что веселью уже третий день пошел. Но нам такое не удивительно.
Анну устроил отдыхать, а сам вернулся к гостям и напился вина вместе со всеми.
20 октября 1910 года (среда)
Те гости, что не уехали вчера, разъехались сегодня до второго завтрака. Остались только мы. Новые Вольтеровские фавориты-музыканты сейчас у него не живут. Я все оттягивал, придумывал, как половчей и оригинальней уведомить Аполлона, но так ничего не выдумал особенного. Выложил просто как есть:
– А знаете, Аполлон Григорьевич, мы ведь с Анной не одни из Петербурга приехали, Михаил Александрович тоже здесь, в Италии. – Вольтер аж подскочил.
– Миша! Это отлично!
– Правда, у нас его некоторым образом похитили.
– А! Уже с каким-нибудь маркизом итальянским спутался!
Я давай в подробностях излагать нашу водевильную историю. А.Г. почему-то не на шутку забеспокоился, заявил, что завтра же все выезжаем в Турин. История странная и требует его личного разбирательства. Я обрадовался очень.
Вечером сидели в опере. В собственной ложе Вольтера. Сам А.Г., его доктор мистер Даг Рид, Анна, я и молодой итальянец – подающий надежды композитор. Скáла – воплощение роскоши. Ни один собор не сравнится. Ослепительно. Я даже немного подавлен был таким великолепием. А вот Анна моя неожиданно проявила недюжинную осведомленность. Они с Вольтером наперебой перечисляли десятки итальянских фамилий певцов и певиц, сравнивали Скала и Гранд Опера, со знанием дела смаковали подробности представлений прошлых лет. Я сначала возгордился Анной, потом несколько приуныл – соскучился, и за себя стыдно стало, потом снова воспрял, радуясь, что хоть кто-то из нас двоих может соответствовать. Несомненно, место Демианова здесь. Какое счастье, что В. Лично завтра за ним поедет! Часа четыре после спектакля не мог избавиться от ощущения звучащей в ушах музыки.
Наши с Анной спальни соединены между собой общей ванной комнатой. Палаццо построено лет двести назад, а внутри все устроено роскошно с новейшими усовершенствованиями.
21 октября 1910 года (четверг)
В Турин отправились почти той же компанией: Вольтер, я, Анна, доктор и еще Митя. Между прочим, Митя доктора Рида недолюбливает – с подозрением относится к его чудодейственным уколам. Ну, бог с ним. У него свои представления о том, что Аполлону хорошо. На мой взгляд, А.Г. действительно поздоровел. Похудел, вообще выглядит гораздо лучше. Он взял странную манеру, когда обращается по-фр. к одной Анне – называет ее мадемуазель Мария, меня одного величает юный Иосиф, а сразу двоих зовет по-русски Сашка и Машка. В дороге отчего-то стало мне тревожно за Демианова. Чтобы развлечься, я стал рассказывать наши с Митей багажные приключения, вышучивая его скаредность. А.Г. поддержал мои шутки. Видно, за Митей он и прежде замечал подобное. Доктор стал смотреть на меня гораздо теплее. Благодаря моим шуткам над Митей, или просто привыкает понемногу? Очень он красив. Такое свежее, почти кукольное лицо. Оставив Анну, Митю и доктора дожидаться нас в маленькой траттории на террасе, отправились с А.Г. к графине. Привратник узнал меня и впустил без разговоров, провел в гостиную. Тревоги оказались не напрасными: графиня сдержанно сообщила, что сеньор Демианов не гостит у нее больше. Горло мое перекрыл холодный комок, который я проглотил ценой невероятных усилий. Вольтер с обезоруживающей, обескураживающей бесцеремонностью подошел к графине, взял ее под руку, и, заявив, невозмутимо по-фр.: «мадам, прошу вас, пройдемте к вам в кабинет», повел ее так, как будто точно знает, куда нужно идти. К моему изумлению, графиня не позвала слуг, не возмутилась такой наглости, вообще ничего не сказала, а покорно пошла. Я остался ждать один в гостиной. Самоуверенно думая, что подражаю В. в его раскованности, уселся в кресло без приглашения. Ну что ж, что пригласить было некому, как и оценить мой смелый поступок. И хорошо, что сел. Вольтер отсутствовал минут двадцать, не меньше. Мне они показались вечностью. Я уж начал подумывать, что он покинет палаццо как-нибудь с черного хода. И неизвестно еще, своей волей, или насильно его вытолкнут. Но разве можно было о нашем Аполлоне так думать! – Прошел через гостиную, не останавливаясь, едва повернув ко мне голову, сказал: «пойдем», и мы вышли на улицу. Только я открыл рот, чтобы спросить, Ап.Григ. сам воскликнул:
– Занятная интрижка! Прямо роман!
– Куда ж мы теперь, Аполлон Григорьевич?
– Сперва пообедаем.
В ресторанчике А.Г. поведал всей компании, что узнал от графини. Персоной Демианова заинтересовались разные высокие особы, как светские, так и духовные. Письмо, о котором он мне сообщал, всё еще ищут. Или, как выражается Вольтер, до сих пор решают, найти или нет. И самое важное: Если письмо все-таки найдется, Демианов окажется наследником фамильных драгоценностей баснословной стоимости. Но дело совсем не в их цене. Драгоценности эти условно принадлежат нескольким знатным семействам, хранятся у нотариуса и выдаются по частям на время, с соблюдением иерархии и черти-каких условий, дочерям-невестам и избранницам сыновей в день бракосочетания исключительно на церковную церемонию и последующее праздничное пиршество. Вот эти-то драгоценности были завещаны, так называемому, русскому младенцу.
Мы все онемели. Только Анна спросила:
– Что нам теперь делать?
– Придется выяснить, куда они дели нашего принца.
– Как это «куда дели»? Что случилось?
– Захворал он и где-то лечится.
Шоферу-итальянцу было велено искать пресвитерий.
На переговоры с каноником ходил один Вольтер. Но после мы узнали, о чем там говорилось: Дело о драгоценностях будет передано адвокатам А.Г. здесь, в Италии и там, в России. Из России будут доставлены доказательства того, что Демианов правнук и наследник их бесценного младенца. Что младенец – именно тот, привезенный князем Юсуповым, отданный им на воспитание и наделенный соответствующими именьями. А все заинтересованные персоны пусть готовят денежки, чтобы выкупить у Демианова принадлежащие ему драгоценности. Оценкой займутся тоже люди Вольтера. После А.Г. выразил желание увидеть своего друга. Каноник безропотно согласился нас препроводить.
Подъезжая к воротам, мы с Анной единодушно ахнули и в один голос спросили:
– Он в монастыре?!
– Не совсем. При монастыре есть гостевые домики. В одном из них пожелал поселиться сеньор Демианов.
– Пожелал?
– Надеюсь, он сам вам все сейчас объяснит.
Я, было, прошел вслед за Вольтером в крошечный домик, состоящий только из подобия сеней и небольшой комнаты. Но В. бесцеремонно меня отодвинул, в комнату, где был (в приоткрытую дверь я это увидел) Демианов, вошел один и дверь перед моим носом захлопнул. Я успел заметить, что М.А. бледный полулежит на кровати одетый и наполовину укрытый пледом. Признаюсь, я не в силах был ни войти вовнутрь, ни выйти наружу, так и остался стоять в полутемных сенцах. Разумеется, я слышал все. М.А. нездоровится, у него возобновились мигрени. К тому же, утомленный всей этой гротескной суетой с письмом и наследством, он захандрил и затосковал по Петербургу. Аполлон успокаивал его, уговаривал, как дитя, настойчиво звал к себе. Миша плакал и просил А.Г. отправить его домой. Жаловался, что давно ничего не писал. И роман заброшен и стихов ни строчки.
– Ну, зачем тебе Питер, Миша! Дорогой, я тебе здесь все условия создам, пиши сколько нужно. Хочешь, вон комедии переводи с итальянского, дель арте, или современные. Мы их потом на сцену выведем. Поедем, Миша, милый. Ты здесь без друзей захандрил, итальяшки еще, что б им пусто, привязались. Ну что ж ты, в самом деле, в монахи к ним собрался? – А.Г. еще долго увещевал, пока Д. не заснул.
Вольтер вышел, меня вывел наружу, сказал:
– Ну, ладно. Проснется и поедем.
Т.к. М.А. проспал довольно долго, и нам пришлось остаться, заночевать у монахов в домиках для гостей. У Демианова поставили вторую кровать для А.Г. Я плохо спал, выходил несколько раз и слышал, что они говорили почти всю ночь. О чем, не прислушивался.
22 октября 1910 года (пятница)
Утром спокойный, совсем такой, как обычно, Демианов, я, Анна, Аполлон и д. Рид выехали обратно в Милан. Бедному Мите места в авто не осталось. Я почему-то был уверен, что М.А. пленится красотой доктора, нисколько не ревновал, напротив, ожидал этого. Но Дем. на мистера Рида почти не глядел. Быть может, со временем оценит?
Аполлон всю дорогу строил для него планы, что можно сочинить. Какие перевести итальянские комедии или наоборот, какие бы сюжеты с успехом приняла здешняя публика, если бы Демианов сочинил пьесу специально для итальянского театра. И как бы он, Вольтер, прекрасно все организовал. Мне казалось, что М.А. вот-вот начнет раздражаться, но нет, он слушал внимательно, кивал.
По приезде В. сразу определил для М.А. рабочий кабинет, а спальней мы с А. поделились одной из своих. Палаццо большой, но не все комнаты одинаково уютные. Теперь мы с женой вместе, а Демианов рядышком через ванную.
23 октября 1910 года (суббота)
Днем Демианов работал, запершись в кабинете. У А.Г. свои дела. Я и Анна были с доктором в кинематографе, обедали в ресторане, ходили осматривать Собор. Д. Рид очень интересно рассказывает про Америку. Хорошо бы нам с Анной и там побывать. Я расспросил его о средстве, которым он Аполлона пользует. Какой-то новейший состав и прямо чудесный! Особым образом полученный из половых органов самцов свиней. На мужчин в зрелом возрасте, как утверждает доктор, действует безотказно: повышает мужскую силу, омолаживает и т.д. Эликсир жизни какой-то! Анна со мной вполне согласилась, когда наедине с ней я высказал мнение, что доктор наш не кажется шарлатаном, а производит впечатление знающего специалиста, несмотря на юный вид. Не иначе как он и сам к себе чудодейственные эликсиры применяет.
С Демиановым увиделись только за ужином. Он повеселел, зарумянился. Видно, дела с писанием сразу на лад у него пошли. Вольтеровские любимцы тоже с нами ужинали. Для меня несколько странно увлечение А.Г. этими некрасивыми итальянцами и полное пренебрежение к прелестям кукольного доктора. Разумеется, я понимаю, что в них он ценит талант, красоту духовную. Но мне на его месте был бы милее Даг. Полное имя доктора – Даглас Мартин, но он, как истинный американец, предпочитает сокращение. После ужина Вольтер с друзьями уехал куда-то развлекаться, а мы тихим семейным кружком поиграли в гостиной в карты и разошлись по комнатам. Анна, когда я уже лег, ходила через ванную проведать Демианова, узнать, как он чувствует себя на новом месте, хорошо ли устроился, и не нужно ли чего. Наверное, это я должен был пойти. Я чувствую некоторое отдаление между нами и легкую тревогу из-за этого. Но Анна меня утешает, говорит, Мише просто нужно отдохнуть от страстей, прийти в себя, заняться делом. Пожалуй, она права.
24 октября 1910 года (воскресенье)
Днем Д. за работой. Мы его не беспокоим. У А.Г. свои дела. Доктор тоже с утра убежал куда-то. Мы с Анной предоставлены сами себе. Чуть не до обеда нежились в постели. В Анне снова проснулась чувственность. Мы боимся повредить ребенку и, стараясь быть осторожными, становимся страшно изобретательными.
Ходили заказать Анне новое платье для театра, оба стриглись. Анна очень коротко, почти под мальчика, но ей идет. Возвращаясь домой, встретили Дага, почему-то печального. За ужином В. терроризировал его по-английски. Я, естественно ничего не понял, но Анна потом мне сказала, что речь шла о неразделенной любви. Это у красавчика-то Дага! Быть не может. Разве что он не хочет чьи-то чувства разделить. Но Анна утверждает, что именно доктора кто-то отвергает, а не наоборот. Я отказываюсь верить.
25 октября 1910 года (понедельник)
За обедом Демианов снова заговорил о Петербурге. Он не просился жалобно домой, как тогда, в своей странной монастырской келейке, но определенно высказывался в том роде, что место писателя в стране родного языка. В. отвечал, что нужно наполняться впечатлениями, совершенствовать свой язык за счет чужого. М.А. согласился. Прочитал нам два новых стихотворения. Мы, все кто понял, оценили высоко. Еще он взялся за новый перевод и продолжает роман. Кажется, доволен, как пошло. Ну, дай-то бог!
Вечером опера. Возвращались все в восторге, приподнятом, хулиганском даже настроении. И доктор развеселился и Демианов. Все смеялись, шутили, проказничали. Я подумал, такое у нас смешение языков и нравов – Вавилон и только. Сказал про это вслух. Вольтер оценил мою мысль и стал обращаться «Вавилон» ко всей компании, а палаццо наш называть Вавилонской башней.
26 октября 1910 года (вторник)
А.Г. с компанией отсыпались полдня т.к. легли под утро. Мы с Анной их празднество раньше оставили, а потому и проснулись раньше. Заглянули к Мише – он уже за работой. Даг тоже не спит. Позвал нас с собой в гости к знакомым. Позавтракали остатками ночного пиршества и пошли. Мне показалось, Вольтер либо ошибается, либо вовсе не посвящен в амурные дела доктора. Нас приняла молоденькая хорошенькая барышня, она, как увидела Дага, вся засветилась, засуетилась и слепому видно, что без ума от нашего красавца, не старается и скрывать этого. Даг же с ней весьма холоден и угрюм. Зато Анна с лихвой его холодность компенсировала. Наконец-то для нее нашлась хорошая подруга! Жанна тоже француженка, учится здесь оперному пению. Они переехали в Милан недавно из Парижа с отцом и братом, которые здесь теперь парфюмерный магазин содержат. У них и в Лионе есть родственники. Любопытно, откуда Даг знает это семейство. Жанна настояла, чтобы мы остались обедать. К обеду пришел ее брат со своим приятелем, тоже французом. И неожиданно, между прочим, выясняется, что приятель этот – жених Жанны. Ага! Вот почему печален наш доктор. Его возлюбленная отдана другому. Есть от чего ходить угрюмым. К концу обеда, узнав нас получше, не только сама Жанна, но и брат ее, и жених оживились, развеселились, были ласковы и любезны. Все мы вместе строили планы поездок и развлечений. Я с сочувствием взглянул на Дага, но что это?! От его угрюмости и следа не осталось он тоже улыбается, глядит на всех тепло и открыто, я бы даже сказал счастливо. Неужели вино на него так подействовало? После обеда молодые люди ушли. Даг сказал, что ему нужно к Аполлону. Договорившись увидеться завтра, мы тоже откланялись. По дороге домой Анна и я наперебой расхваливали Жанну, но Даг все больше отмалчивался. Опять погрустнел, бедняга, но можно его понять.
27 октября 1910 года (среда)
Забирали платье. Все его хвалят, а мне не понравилось – слишком подчеркивает живот. Заказали еще одно. Наконец-то у Анны будут наряды, какие она хочет. А то в тех, что мы брали с собой из Сорренто, ей было неловко в театре. Заходили к Жанне похвастаться обновкой и поболтать. Она нам пела. Анна очень хвалит ее голос. Я тонкостей не разбираю, но мне ее пение тоже понравилось. Жанна расспрашивала нас о докторе Риде. Про его житье в замке Вольтера, разные бытовые мелочи. Она только о нем говорить и желает. Спросила, почему он с нами сегодня не пришел. Мне так обидно стало за Дага, что я не удержался и воскликнул:
– У вас же есть жених! – Анна поглядела на меня с упреком, Жанна ничего, ответила спокойно:
– Жиль? Жених – это слишком сильно сказано. Еще ничего не решено. Этого он хочет и папа, а не я.
– Зачем же тогда мучить Дага? Скажите ему все как есть. – Она улыбнулась как-то сардонически.
– Вы полагаете, он из-за меня страдает? О, если бы это было так! Если бы это только было в моих силах, избавить его от страданий. Я пошла бы на все. Но, увы, я для него только помеха. Досадное препятствие, мешающее счастью. – Столько горечи было в ее словах и упрека. Я замолчал. Анна постаралась занять подругу разговорами об опере, о Париже. Неприятный разговор как будто забылся. Потом явились Анри – брат Жанны и, так называемый, жених Жильбер. Жанна была с ним сегодня так же холодна и суха, как вчера с ней Даг.
Вечером ходили снова в оперу. Анна пригласила и Жанну пойти с нами, а доктор, как нарочно, остался дома. Не знаю, рассчитывала ли девушка, что он будет, была ли разочарована? Виду не подала.
28 октября 1910 года (четверг)
Утром Даг осматривал Анну в нашей комнате. А я сидел с Мишей в кабинете, т.к. они меня прогнали, а он нет. Говорили с ним тихонько, задушевно, совсем как раньше, когда были очень близки. Я чувствую его отдаление, но молчу. Объяснениями тут только портить. Потом Ап.Григ. к нам зашел, посмотрел Мишины рукописи и задал мне прежнюю мою работу – счета разбирать. У Анны и ребенка все прекрасно. Потом Даг и Мишу осмотрел. Сказал, что выпишет ему от мигреней самое новое лекарство из Вены. Я смотрю в лицо Дага, такое юное, такое свежее и теряюсь в догадках, сколько же ему лет? Разве у Вольтера спросить при случае? И чего они там не поделили с этой девицей-певицей? Когда с Анной заговорил об этом, она улыбнулась странно и сказала:
– Ты не понял? Удивительно. – Но объяснять не стала. Великолепно! Все всё знают, кроме меня.
29 октября 1910 года (пятница)
Даг был отпущен Вольтером на три дня. И мы, как условливались, отправились на рыбалку на озеро Комо. Я, Даг и Анна, Жанна, ее брат и жених. Если что-то я себе и представлял при слове озеро и рыбалка, то никак не то, что увидел. Вот куда нужно свезти и Правосудова и Ольгу и всех наших художников. Что не вид, то картина, куда не поверни голову. Еще в Милане, глядя на эти горы издалека, я думал, что же там? Как они вблизи? Великолепно! В первый момент само озеро и горы, со всех сторон его обступающие, производят ошеломляющее впечатление. Но, немного погодя, даже эти сказочные пейзажи становятся привычными. Нет, не менее прекрасными, но нельзя же слишком долго пребывать в восторге – с ума можно сойти. Наняли лодку. Я и Анри ловили рыбу, а доктор, Анна, Жанна и Жиль поджидали нас на берегу у костра. День прошел чудесно. Мне припомнились романы Жюля Верна, «Таинственный остров», или что-то в этом роде. Невиданные красоты, друзья, вольная жизнь на природе, собственноручно добытая пища, приготовленная тут же на костре.
Господи! Надо ж мне было быть настолько глупым и наивным! Надо ж было так все перепутать! Теперь-то я ясно вижу, кто является предметом доктора. И все насмешки Анны и Вольтера становятся понятными и трагические намеки Жанны. Даг влюблен не в нее, а в ее жениха. Они не ссорятся, и ни отвращения ни страха не вижу я во взгляде Жиля, но чувствую холодность и твердое сопротивление направленные на Дага. Несчастный милый Доктор! В домике, где остановились на ночлег, для нас нашлись только две свободные комнаты, большая и маленькая, так что разделили мы их по признаку пола: Анна и Жанна в одной, мы все мужчины в другой. Мне очень хотелось вызвать Дага на откровенность, посочувствовать ему, ободрить, но не было случая. Да и помочь-то я ничем не могу.
30 октября 1910 года (суббота)
Проснулся страшно рано. Со счастливой, как мне казалось, мыслью. Собственно, от нее-то и проснулся. Прямо подскочил. Поглядел на спящих друзей. Только бы суметь осуществить!
Сегодня на лодке ловить отправились Анри, Жиль и доктор, а я с дамами на берегу остался. Улучив момент, когда уж точно не могли с воды нас увидеть, я начал:
– Мадемуазель Жанна, вы очень любите доктора, верно? – она удивилась, встревожилась.
– Почему вы спросили?
– Я помню, вы говорили, что готовы на все ради него, ведь так?
– Боюсь, что доктор Рид не примет от меня никаких жертв.
– Думаю, среди нас есть человек, ради которого доктор Рид и сам пойдет на жертву.
– Я вас не понимаю. – Она встревожилась и смутилась еще больше.
Я подозвал Анну и обратился к ней:
– Знаешь, еще в Киссенгене Аполлон Григорьевич научил меня одному фокусу. Сейчас я вам обоим его продемонстрирую. Фокус этот – поцелуй втроем. Ты меня не стесняешься, так что помогай. Приблизьтесь обе. В первые секунды выходило не очень-то хорошо, но я не сдался и через минуту у нас у всех получалось отлично. Анна была в восторге! Жанна умирала от смущения, но, все же, не противилась, покорно исполняла все, что полагается.
– Теперь вы понимаете меня? – Сказал я, прервав наши тройные поцелуи.
– Не совсем, – ответила Жанна, но видно было, что отлично понимает, только хочет, чтобы я сам сказал.
– Доктор без ума от Жиля, вы от доктора, а Жиль от вас. Посредством фокуса, только что вам продемонстрированного, каждый из вас сможет обладать желаемым. Уверен, так Жиль легко преодолеет препятствие, сдерживающее его, доктор будет на седьмом небе и так благодарен вам за содействие, что вполне возможно искренне вас заобожает, так и вы в накладе не останетесь. Загвоздка, разумеется, прежде всего, в Жиле, но, может быть, побольше вина предложить ему сегодня за ужином? А еще будет хорошо, если вы брата отправите вечером в Милан.
На ее лице такое смятение отразилось, что я чуть было не пожалел о своей предприимчивости. Но тут она так страстно выпалила:
– Я очень, очень хочу попытаться, но я боюсь!
– Решайтесь, Жанна. Я в своей жизни не раз уж слышал о существовании тройственных союзов. Возможно, ваш начнется с этого поцелуя.
Когда по прибытии наших друзей с уловом Жанна отвела брата в сторону, я понял, что она готова действовать. После ужина Анри уехал в Милан. А мы с Анной, сославшись на ее усталость, оставили Жанну, Жиля и Дага втроем.
Анна была страшно возбуждена. Мы зашли переодеться, потом отправились еще пройтись, и все время она говорила только о моей затее. Помню, какое произвел на меня впечатление тогда Вольтеровский тройной поцелуй, но Анна была от него просто вне себя. Мы старались отвлечься, заговорить о другом, но, так или иначе, возвращались всё к тому же. И Анна, словно в горячке, продолжала твердить: «выйдет - не выйдет, выйдет - не выйдет». Я подумал, что так им обоим моя идея понравилась, и такими обе они оказались способными ученицами, видимо есть во француженках природное любовное дарование. Стало быть, выйдет.
Было уже далеко за полночь, когда мы с Анной чуть не обезумели от беспокойства. Наша троица все еще не возвращалась. Начались рассуждения о том, что это как добрым может быть признаком, так и дурным. Засобирались их искать. Вдруг слышим за окном смех. Сначала Жанны, потом Дага, а потом и всех троих. Вернулись, слава богу! Все вместе и, кажется, счастливы. Мы с Анной на радостях бросились целовать друг друга.
31 октября 1910 года (суббота)
В этот день совсем никому не до рыбалки было. Но зато все светятся от счастья. Вся вновь рожденная троица несколько сконфужена, но довольна. При нас они стараются не выставлять на показ, что ночью прекрасно поладили. А мы с Анной изо всех сил делаем вид, что ничего не замечаем. Гуляли. Мы вдвоем впереди, они втроем сзади. Шепчутся, хихикают и смущаются, если мы оборачиваемся. Бедной моей Анне тоже больших усилий стоит не выражать восторга, от того, как удачно все вышло.
По возвращении в Милан доктор заявил, что его три дня отпуска еще не истекли и, торжественно с нами простившись, влюбленная троица удалилась. А мы домой пошли. Дома уж я был награжден за смелость и сообразительность поцелуями и восторгами своей жены. Успели еще с А.Г. в оперу, вернувшись, застали Дага дома, веселого и довольного. Вольтер тоже заметил в нем перемену, но причину знаем только мы.
1 ноября 1910 года (воскресенье)
Даг с утра весело и бодро всех нас осматривал, потом убежал. Сказал, по делам. Ну, беги, милый, беги. Знал бы ты, кто твой благодетель.
Ходили с Анной и Демиановым гулять. Осматривали замок Сфорца, похожий на Московский кремль, попали под дождь и замерзли, но было весело. После ужина втроем играли в карты в нашей спальне. У Аполлона свои развлечения, Дагу тоже теперь с нами не интересно, так что, провели тихий, уютный семейный вечерок с зажженным камином и разговорами ни о чем. Не знаю всерьез ли, но Демианов утверждал, что разбирается, и заверил, что у нас родится мальчик.
2 ноября 1910 года (понедельник)
Холодно. Дождь. Никуда не ходили. Миша писал целый день, я помогал ему кое-что переписывать. Подобная работа, тихонько, рядышком, сообща, очень сближает и умиротворяет. Такую нежность я к нему почувствовал, так полюбил снова! И он со мной был ласков и терпелив, хоть я и не все порученное хорошо исполнил. Письма пришли. От моей матери и от тещи. Мать Анны приехала в Сорренто. Подробностей никаких, интересуются здоровьем, зовут возвращаться.
Вечером то же, что и вчера: Демианов и карты у нас в спальне.
3 ноября 1910 года (вторник)
Днем то же. Дождь. Написали нашим, что приедем чуть погодя.
Вечером Вольтер звал в оперу, но Анна заупрямилась, не захотела. Я, разумеется, без нее не поехал, а почему М.А. остался не знаю. Заводили граммофон, танцовали, дурачились. Мы с Мишей пили вино, а Анна нет, но со стороны могло показаться, что всё наоборот. Чего-то такого я ждал, как будто предчувствуя, но, не сознавая умом, что вот сейчас случится. Слегка лишь удивился, а не растерялся нисколько, когда Анна схватив нас обоих за шеи, и потянув друг к другу, воскликнула: «Михаил Александрович! Вы умеете целоваться втроем? Нет? Мы с Сашей сейчас вас научим!» Целовались долго и сладко. Смеялись. Миша был удивлен, возбужден, восторжен. Странно, что Вольтер его не научил раньше. И еще странно было находиться в роли соблазнителя мне в отношении Демианова. Как будто я был старше и опытней и искушенней, а он невинный мальчик. Впрочем, первую скрипку у нас играла Анна. Явились наши из оперы, очарование вечера разрушилось, спать разбрелись по своим норкам. Анна не сразу угомонилась, всё выспрашивала меня о впечатлениях, но я не хотел говорить и она, все же, заснула.
4 ноября 1910 года (среда)
С Анной и Демиановым ходили в гости к Жанне. Застали там Жиля и Дага. Смешно. Особенно смешно после нашего вчерашнего приключения и еще от того, что все они вместе, включая Дага, живо обсуждают предстоящую свадьбу Жанны и Жильбера. По дороге домой заходили в магазины, я вспомнил, что на свое рожденье Демианов остался без подарка, накупили ему галстуков и запонки с фальшивыми камнями, но необыкновенной красоты и формы. По дороге домой в закрытом экипаже Анна хулигански притянула нас обоих за шеи с двух сторон к своему лицу. Поцелуи, смех, а со стороны Анны даже повизгивание.
После ужина по привычке карты у нас в спальне, только теперь не столько в карты играли, сколько упражнялись в тройных поцелуях. Спать Демианов пошел к себе. И мы легли, Анна – тихонечко как мышка, не шепталась даже. Я поворочался немного и задремал. Не знаю, сколько проспал, час или два, как будто что-то толкнуло меня изнутри. Сел на кровати, огляделся – Анны нет. Не сразу, но понял, что за звуки слышу и откуда – хихиканье и возня в соседней спальне. Перешел через ванную и попал прямо в объятья своей жены и М.А. Я только диву давался, сколько в Анне ненасытного желания, сколько в Мише такта и нежной заботы о ней и ребенке, и сколько во мне самом страсти к ним двоим.
5 ноября 1910 года (четверг)
Под утро я перебрался в свою кровать, а Анна у Миши заснула. Разбужен был поздно поцелуями и ласками их обоих. Ходили на вокзал покупать билеты. Возвращаемся в Сорренто. Во-первых, там гораздо теплее, во-вторых, нужно все-таки проведать, как поладили наши матери. Демианов, разумеется, тоже едет. Меж нами троими все так весело нежно и гармонично. Миша ведет себя с Анной как примерный заботливый супруг, чуть ли не как отец. До чего быстро и легко он взял себе эту роль! И как он в ней натурален, никогда бы не подумал! И со мной он ласков и терпелив. Я испытываю покойное счастье, но вместе с тем где-то в глубине души боюсь поверить в него.
Вечером были в опере. Давали Травиату. Миша и Анна растрогались до слез.
По возвращении были нежность и ласки. И так, словно мы давно уж втроем, как-то все откровенно, без ханжества, без стеснений, совсем как родные или как дети.
Не говорите, что порочен
Наш странный тройственный союз.
Для нас он светел, свят и прочен,
И я насмешек не боюсь.
Да. Не всегда я понимаю,
Какое тело тут мое,
Кого сейчас я обнимаю,
Чей это рот его? ее?
Кто первый, кто второй, кто третий,
Кому стать лишним суждено?
О! Нам смешны вопросы эти –
Мы все втроем теперь одно.
Мы так сливаемся друг с другом
И так взаимно проникаем,
Что тут же делается кругом
Наш треугольник уникальный.
6 ноября 1910 года (пятница)
С утра суета и беготня со сборами. Выехали после обеда. Провожали нас шумною толпою. Перед самым отъездом я попросил Вольтера списаться с Ольгой и разузнать все, что можно о Тане. Мне стало стыдно, что раньше не догадался попросить. Целовались все со всеми. Мы звали Жанну приехать к нам погостить, разумеется, в сопровождении жениха и доктора. Вольтер звал Мишу скорее назад. Когда прозвенел звонок, Анна схватила нас с Дагом за затылки, притянула к себе, и мы трое быстро чмокнулись в губы. Так она ему нашу причастность выразила. Только бы и он был счастлив, как мы!
В вагоне М. сразу взялся за работу, т.к. его мучила совесть, что в последние дни подзапустил. Исписал столько бумаги, что на станции пришлось бежать купить ему новую тетрадь. Так он был увлечен, что не видел ничего вокруг и не слышал. Анне чуть не насильно приходилось кормить его и поить чаем.
7 ноября 1910 года (суббота)
По приезде застали на квартире нашей большое пополнение. Мать Анны приехала со своими тетками. Они так рады были снова нас видеть, что прямо пищали от восторга. Вешались мне на шею и ногами болтали. Безусловно, живот очень долго был в центре всеобщего внимания. Тещу свою я представлял как угодно, но не так. Она ничуть не похожа ни на Анну ни на своих беленьких тетушек. Высокая, по-моему, выше, Пэр-Сури, полная, с густым низким голосом и весьма сдержанными манерами. Анну поцеловала холодно, мне и Мише едва кивнула, вежливо, но немногословно расспросила о дороге и здоровье. Моя мама ничего, как видно, чувствует себя неплохо в новой компании. И потом они все своими делами заняты, и встречаются почти только за столом. Мама расцеловала нас с Анной и Мишу, всех одинаково. С нашим приездом в квартире стало тесновато. Но ничего, разместились. М.А. переписывал дорожную работу. Я предложил помочь, но он отказался. Пьетро показывал нам свою коллекцию раковин, засушенных необычных рыбок и кораллов. Мне он всего этого не показывал раньше, хоть я и думал, что мы подружились, а М.А. сразу предложил. Я давно заметил, что в присутствии Демианова молодые мужчины всегда хотят казаться лучше. Разве и со мной не так было?
8 ноября 1910 года (воскресенье)
Были у врача. С Анной все хорошо. Доктор рекомендовал перебраться жить поглубже в город, подальше от моря, т.к. начались уже сильные ветра. Спросив у него совета, получили адрес знакомых, у которых он сам нанимает один этаж, а другой свободный. Тут же зашли договориться.
Я потихоньку от всех предложил маме перебраться с нами, но она отказалась, не хочет нам мешать. И потом они очень подружились с Бениттой и ее дочерью. Прислугу в новую квартиру пока нанимать не стали. Завтракать будем в кафе неподалеку, а обедать и ужинать у наших. Прибраться по-мелочи я могу и сам, со стиркой тоже устроимся – в городе полно прачек. Все мы очень довольны, что нашлась хорошая причина жить отдельно втроем. Для Миши есть у нас кабинет. Не хуже, чем у Вольтера в его Вавилонской башне. Да и тише.
9 ноября 1910 года (понедельник)
Перебрались в новую квартиру окончательно. Отпраздновали немного вином, виноградом персиками и ласками. Потом Миша сел за работу, а мы с Анной наводили уют. Двигали мебель, расставляли по собственному вкусу, раскладывали по местам свои пожитки. Мне захотелось, чтоб и потом, в Лионе была у нас такая квартирка. Размечтался, как будем жить все вместе, и Демианова никуда ни за что не отпустим.
Вечером приходил Пьетро, принес нам ужин. Я поражаюсь тому, как молодые парни, совершенно простые, и как выражается Демианов, «неграмотные» ведут себя при нем. М.А. смеется и твердит, что я все выдумываю, но провалиться мне на месте, если Пьетро с ним не заигрывает.
10 ноября 1910 года (вторник)
Гуляли втроем. Обедали у наших. Мадам ma belle-mère[25] подробно расспрашивала меня о моих занятиях в прошлом и планах на будущее. Смотрела холодно. Настоящий допрос и ко всему безжалостные намеки на мое положение. Порой я терялся совсем и вовсе не знал, что отвечать, только Анна меня все время выручала. После обеда ушли сразу же. Я расстроился. Анна утешала меня, говорила, что maman[26] ее со всеми строга. Да меня-то не строгость ее смущает, а правота. Конечно, кончать нужно с бездельем и приниматься за работу, но как не хочется! Мы живем сейчас легкой, привольной жизнью, есть у нас любовь и друзья и согласие во всем, и нет ни в чем нужды. Ах, если б длилось это вечно! Приходится признать, мы, то есть я, паразит и счастлив своей паразитической жизнью. О том, что рано или поздно кончится она, даже думать не хочется.
Вечером Пьетро опять принес нам ужин. Мы и его с собой посадили. Они с Дем. весело болтали о подружке Пьетро, которая не слишком-то благосклонна к нему. И Демианов давал советы и строил фантастические планы соблазнения с веревочными лестницами, певцами-кастратами под окном, ночным похищением и т.п. Пьетро смеялся до слез. Он буквально влюблен в Демианова, прямо в рот Мише смотрит. Уходя, долго и горячо жал ему руку. М. уже знает о том, как мы с Анной подучили Жанну, тем самым осчастливив и ее и доктора. Он предлагает и для Пьетро сделаться ангелами любви и помочь ему соблазнить подружку. Мы с А., смеясь, возразили, что единственный известный нам метод обольщения тут не подействует. Тогда М. обещал сам что-нибудь придумать.
11 ноября 1910 года (среда)
Ходили в банк, получать деньги от отца. Опять мне укол в сердце. Посмотрел я на клерков за конторками, ведь и мне предстоит вот так же. Чего я боюсь? Трудностей? Нет. Скуки? Нет. Чего же? Да просто не хочу расставаться с этой жизнью. Не желаю никаких перемен. Пусть бы ребенок навечно остался в животе, а мы с Анной и Демиановым в своей хорошенькой уютной квартирке в Сорренто. Но душа моя сжимается от предчувствия того, что все это кончится, и, может быть, скоро и неожиданно. Обедали в кафе. Вечером Пьетро снова у нас с ужином. Демианов опять выплескивал на него свои фантастические прожекты. Но П. заявил, что нашел свое средство. Только не хочет раскрывать секрета. Д. изводил его: раз не хочет сказать, то и средства никакого нет, просто он сдался, и девица ему не достанется. Бедному П. очень трудно сдерживать свой темперамент, но ушел он, так ничего нам не открыв.
12 ноября 1910 года (четверг)
Проснувшись утром, обнаружили, что М. нет дома. Не успели слишком разволноваться – явился. Пьетро разбудил его на заре, чтобы изложить свой тайный план. Где-то здесь рядом живет колдун, по заверениям П. самый настоящий и очень могущественный. Парень верит в это безгранично. Предложил и Демианову с ним пойти, настаивал на полной секретности предприятия, но Миша уговорил его посвятить нас и тоже взять с собой. После небольшого спора, стоит ли идти Анне (М. возражал, я робко ему поддакивал, Анна категорически стояла на своем) пошли все вместе. Пьетро, приветствуя нас, несколько косо взглянул на А., мол, что и она тоже? Но ничего не сказал. Ладно, с Пьетро все понятно, но неужели и Демианов верит в колдуна и боится неприятностей для Анны или ребенка? Лично я только развлечением все это считаю. Надеюсь, будет поинтересней, чем спиритический сеанс, с которого мы с Ольгой тогда сбежали.
Дошли до рыбацкого селенья. Пьетро по дороге рассказывал о чудесах, какими этот колдун славится. Демианов с серьезным видом ставил ему вопросы, кивал и все нам переводил. В так называемом доме колдуна – обыкновенной рыбацкой хижине, нами распоряжалась маленькая девочка, черноглазая и босая, дочь или внучка его и помощница. Сначала она велела всем нам ждать и ушла, видимо докладывать. Явилась, сказала что-то, чего никто не понял, кроме Пьетро. Он перевел Демианову, а Демианов нам: «Пусть войдет самый молодой». Мы с Пьетро переглянулись и остались стоять, девочка на секунду исчезла, где-то рядом что-то крикнула, появилась снова и указала пальцем на Пьетро. Он прошел за ней в соседнюю комнату. Мы приготовились долго ждать, пока наш приятель выйдет, и кого-то из нас пригласят следом. Но не прошло и пяти минут, как девочка пришла, пролепетала что-то непонятное и протянула руку ладонью вверх. Я положил ей несколько монет. Она зажала их в кулачке, пропищала еще что-то и протянула другую руку. Я добавил. Она спрятала денежки у себя в одежде и указала пальцем на меня. Я, получив от своих спутников одобрительные кивки, двинулся за ней. Малышка оставила меня в душной комнате без окон, я огляделся – нет никого, освещение слабое и странные огромные тени по стенам. Я догадался, что исходят они от глиняных сосудов, похожих на кувшины с прорезанными в стенках узорами и свечами внутри. К тому же, из расставленных повсюду плошек курился дым, затрудняющий дыхание и оставляющий сладость в горле. Я еще подумал, что Анне сюда не стоит входить. Сидел так минут десять, глотая сладкий дымок и разглядывая тени по стенам. Соскучился и хотел уж выйти на воздух, когда вошла, как мне показалось, женщина, с длинными волосами, морщинистым лицом в чуднóм балахоне. Но когда она заговорила гулким хриплым басом, я догадался, что это и есть колдун. Из того, что он говорил, я ни слова не понял. Он смотрел мне пристально в глаза, пару раз провел рукой у лица моего и разок сунул в нос одну из своих дымящих плошек. Никакого особенного мистического впечатления я не получил, снова разочарованно припомнил петербургских спиритов и вышел. Как потом выяснилось, ни Демианова ни Анну к колдуну не приглашали, им по ладоням гадала девочка. Они почти ничего не поняли из ее предсказаний. Пьетро не знаю куда делся, домой без него пошли.
Обедали у наших. Belle-mère меня больше не изводила. Мама учится у Бенниты плести кружева. Беляночки тоже пожелали, но у них не выходит.
Вечером Пьетро с ужином не приходил. Решили, что он у своей «бэллы». Поели хлеба и сыра, поиграли в карты и рано легли.
13 ноября 1910 года (пятница)
Я проснулся часа в три. Нет, не сам проснулся, он меня разбудил. Не знаю чем и как, ведь он сначала не говорил ничего, просто смотрел. Я во все глаза смотрел на него, а он на меня. Темноволосый, темноглазый, совсем не похожий на Анну … вдруг что-то изнутри как ударило: Анна! Взглянул ей в лицо – спит. Ничего не знает, ничего не чувствует. А он сидит на ней верхом, обхватив ручками и ножками, на том самом месте, где был живот и смотрит. Я шепчу ему, чтобы Анну не потревожить: «Разве ты уже родился?» А он говорит: «Ты мой отец?» Я отвечаю: «Да». Он мне: «Не ври, я знаю, что мой отец другой». Я испугался, запаниковал. Что ж это такое? Был порыв, все же, разбудить Анну – удержался. Побежал, разбудил Мишу, объяснил сбивчиво:
– Там, у нас в спальне ребенок, наш младенец, сидит на Анне, на месте живота. Я говорил с ним!
Миша спросонья не понял ничего толком, думал что-то с А., побежал смотреть. Вошли с ним вместе. Младенец говорит:
– Кто это? Это он мой отец?
Я, было, стал объяснять, просил и Демианова сказать ему что-нибудь. М. увел меня за руку, посадил в гостиной, стал успокаивать, поить водой. Выясняется: младенца он не видит, а только я. Так, стало быть, колдовство на меня одного действует. Сделал вид, что все прошло, отправил Мишу спать и вернулся. Ребенок никуда не делся – сидит, смотрит. Я говорю ему:
– Твой отец – я. И ты должен слушать меня. Закрой глаза и спи, и я тоже лягу.
А сам думаю: «засну, проснусь – может быть, его уже и не будет»,– но чувствую: пока он смотрит, я глаз не сомкну. Он говорит:
– Спать не хочу. Хочу знать.
– Что ж ты хочешь знать?
– О грехе.
– Зачем тебе?
– Я сын греха, хочу знать, кто мой отец.
– Ты глуп и не можешь понимать и судить.
Я ждал на это сопротивления, капризов аффектации, но он почему-то вдруг сделался покорным.
– Ладно. Она красивая, – кивая на Анну, – да?
– Да! И предобрая. Ты будешь очень счастлив.
– Ты тоже.
– Я?! Ты, что же, знаешь наше будущее? Расскажи! – качает головкой:
– Нельзя.
Теперь уж я, как младенец, заклянчил:
– Расскажи, расскажи, умоляю! Мне так неспокойно, тревожно в последнее время. Что со мной будет? Как придется жить дальше?
Он сказал только:
– Не бойся. Спи. – И закрыл глаза. Я вздохнул облегченно и сразу же заснул.
Проснувшись утром, Анны рядом не обнаружил – уже встала. Услышал их разговор и смех в гостиной. С ней там Демианов, и Пьетро объявился. О младенце я не забыл, но значения ночному происшествию не придавал, уверенный, что это был только сон. Теперь ясный день, я хорошо выспался, и, ничуть не беспокоясь, вышел пожелать всем доброго утра. Что же я увидел? Он, мой ночной собеседник, преспокойно сидит на Анне вместо живота, так же обхватив ее ручками и ножками. Увидев, что я вошел, все меня поприветствовали, и ребенок тоже сказал по-фр. «доброе утро». Я изо всех сил заставлял себя на него не таращиться и вообще делать вид, что ничего особенного не происходит. М. подошел, поцеловал меня, спросил о здоровье. Я, разумеется, ответил, что здоров. Все снова увлеклись болтовней о любовных похождениях Пьетро, а мы с младенцем, как давеча, уставились друг на друга. Я прикрыл рот рукой и шепотом спросил: «Ты почему еще здесь?» – Рассуждал я так: раз вижу его только я, и он, возможно, не более чем плод моего воображения, то прекрасно меня расслышит, как бы тихо я не говорил. Куда там! Маленький негодник заорал что есть мочи: «Quoi? Quoi donc?!»[27] – Я вздрогнул и отвернулся, но его уж было не унять:
– Что ты сказал? Повтори громче, я не расслышал!
Тут я не выдержал и, утратив осторожность, тоже заорал:
– Тебя не должно здесь быть! Ты еще не родился! Полезай обратно к себе в живот и сиди там до поры. Я твой отец, я приказываю тебе!
Разумеется, все перепугались, засуетились. Напрасно я уверял, что со мной все в порядке. Распахнули окна, заставили меня лечь. Я упирался, чем только ухудшил о себе их мнение. Давали нюхать соли и послали Пьетро за врачом. Меня досада взяла, я говорю ему:
– Видишь, что ты наделал? – он смеется.
– Из-за тебя меня в желтый дом свезут! Слова тебе не скажу больше!
Он отвечает:
– Не говори. Я сам все знаю.
И стал рассказывать обо мне такое и в таких выражениях, что я глаза только вытаращил и холодным потом покрылся. Миша и Анна еще больше переполошились, забегали вокруг меня. Я держался, сколько мог, терпя его провокационную болтовню, в конце концов, не выдержал, закричал: «Замолчи! Замолчи!» А тут и доктор пожаловал. Осмотрел меня, отвел Демианова в сторонку. А Анна уселась со мною рядом, положив руку мне на лоб. Получилось, что демонический младенец прямо мне на живот уселся. Я погладил его по спинке, дитя ведь, говорю:
– Все будет хорошо.
Анна подтвердила:
– Кончено, конечно, ты поправишься.
Я продолжал его гладить.
– Ты хороший, не злой, славный.
Он улыбнулся:
– Я обещал тебе сказать, что будет. Я расскажу.
– Не нужно. Я не хочу.
Анна все твердила свои утешения, но я ее не слушал – только его. Так ясно и просто он разрешал все мои сомнения, давал советы, подсказывал решенья. Но тут вошел Демианов и увел Анну, а она унесла на себе ребенка, не дала дослушать. Потом Миша уже один вернулся, повел меня гулять.
Купались в море. Вода холодная, но терпимо. Демианов был со мной ласков и заботлив. Доктор дал для меня порошки, велел много пить, только не вино, и есть сладкое, поэтому мы до вечера ходили из одного кафе в другое. Я старался слушать Мишины рассказы, вникать, но все же, не мог до конца отвлечься от мыслей о младенце и его пророчествах. Ведь что-то он мне важное толковал. Жаль, я не дослушал. Так хотелось скорее дождаться ночи. Пусть все заснут, и никто уж не помешает нашим разговорам. Вернувшись домой, я узнал, что Анна ушла еще днем к матерям и останется там ночевать. Они так перед нашим с Мишей уходом договорились. Вроде бы, для того, чтобы меня не тревожить, пока я болен. А разве я болен! Нет. Разъяснять бессмысленно. Как назло, Демианов долго не ложился. Караулил меня что ли? Далеко за полночь, все же, заснул. Я накинул плащ и отправился на ту квартиру. Беннита меня впустила. По ее поведению я понял, что, слава богу, она не посвящена в наши перипетии и не думает обо мне как о безумце. Я заверил ее, что мой ночной визит вызван только желанием быть с Анной.
– Но она спит.
– И очень хорошо. Я пройду к ней.
Ни на минуту я не верил в порошки, холодное купание и сладкое питье, прописанные доктором. И даже застав в комнате только спящую Анну, не поверил. На месте младенца снова живот. Я приподнял одеяло, нелепо конечно, но очень уж надеялся, что он не оставит меня. Разочарованный, подавленный, уставший примостился рядышком с женой, обнял ее, она очнулась на мгновенье, поняв, что это я, прижалась покрепче, снова заснула. Долго и тщетно я таращился в темноту, ждал. Наверное, заснул, потому, что не лежал уже в темной комнате возле Анны, а шагал по солнечному морскому берегу, и рядом шел ребенок, держа меня за руку. Только это был не младенец, а большой, лет семи, мальчик, ужасно похожий на Анну и на московского Алешу, и чем-то на Демианова, вероятно, глазами – темными, слегка на выкат. Он сказал:
– Я так рад, что ты мой папа. А ты рад?
– Конечно.
– Ты помнишь, как я был совсем еще маленьким и спрятался, а ты не мог меня найти?
Мне как будто припомнилось, что-то такое, наш дом и сад в Лионе и пропавший малыш, и встревоженная Анна, и благополучный исход. Я сказал: «Помню».
– Ты очень тогда испугался?
– Очень.
– А, знаешь, я тебя никогда теперь не оставлю.
– Хорошо.
– И всегда буду помогать.
– Спасибо.
Вдруг он вырвал ручонку закричал: «Большая мышь! Большая мышь!» – и побежал вперед.
14 ноября 1910 года (суббота)
Я проснулся. Анна уже поднялась. Она заглянула мне в глаза и заявила: они такие, как прежде, и по ним ей видно, что все у меня прошло. Гуляли с беляночками. Я еще немного думал о своем сне: простой ли это был сон, или мой мистический малыш возвратился ко мне таким образом. Ну, поживем – увидим. Дома застали обеспокоенного Демианова, который не находил себе места, не зная, идти ли разыскивать меня, или ждать. Он тоже нашел мой вид здоровым. Пошли разговоры, что на колдуна, меня отравившего, чуть не в полицию следует донести. Что нужно написать Дагу, выяснить, что это за яд так действует. Я ни с кем не спорил, вяло отвечал, что дело кончено и не стоит больше внимания. Какое! Столько у них впечатлений о том, как я чудил. Ну, и пусть говорят и думают что хотят.
Вечером Пьетро, принес письмо: Отец Анны скоро приезжает нас навестить. Большая мышь – «гро сури»! Значит малыш не обманул: не оставит, подскажет, предупредит! С нетерпением ждал отхода ко сну, но в эту ночь спал без сновидений.
15 ноября 1910 года (воскресенье)
Я устроил так, чтобы Анна ушла к матери и теткам, а сам позвал Д. погулять вдвоем. Говорил с ним доверительно. О младенце, о сне. Сначала было страшно – поймет ли? Сказал, что понимает. Уверял, что считает связь «мыши» и письма очевидной, что сумасшедшим меня и не думал считать. Мне хотелось ему верить. Долго бродили, размышляли, философствовали о вещих снах, о возможности вызывать их по желанию. Я еще рассказывал о младенце, о том, как слушая его, испытал сначала священный ужас, а потом, когда сменил он гнев на милость – легкую ясность в душе и твердое знание, что нужно делать и как. Демианов предложил мне записывать сны. Советовал больше к колдуну не ходить, впрочем, я и сам не ощущаю потребности. От разговора с М. осталось чувство легкого разочарования, хоть он не посмеялся надо мной и, кажется, поддержал, а все ж не до конца меня понял. Принял решение эту тему не обсуждать больше ни с кем. Зашли за Анной. Там встретили Пьетро. Я почему-то был уверен, что он уже счастлив вполне со своей возлюбленной – ан нет! Она по-прежнему на чувства его не отвечает. Что такое? Как же колдун? Оказалось, Пьетро получил от него мешочек специального состава из трав, которые нужно заварить и дать ей выпить, но нет никакой возможности это осуществить. Демианов вызвался устроить. Между прочим, я заметил, что Пьетро теперь стал на меня иначе смотреть – как-то почтительно, немного испуганно. Сам ко мне почти не обращается и отводит глаза, когда я с ним говорю. Анна тоже заметила, сказала, он стыдится, что способствовал моему отравлению. Но я другого мнения.
16 ноября 1910 года (понедельник)
Пьетро явился к нам спозаранку. Стали подготавливать то, что Демианов именует спектаклем. Спервоначалу главную роль должен был я исполнять. М. справился о магазинах, торгующих театральным гримом, париками и т.п. Каждый вторник предмет обожания нашего приятеля ходит в лавочку купить кофе и сахару, в одно и то же время одной и той же дорогой. Не бог весть что оригинальное придумал Миша, но если удачно разыграть, то лучше и не надо. Я должен был в парике, платье и с подушкой на животе, изображать беременную, которой вдруг сделалось дурно и как раз на пути нашей красавицы. Помощь других доброхотов решительно отвергнуть, позволить именно ей проводить себя до дома, а тут уж в благодарность чаем напоить, не простым, конечно же. Но Пьетро заупрямился, мою кандидатуру на роль принять отказался, он почему-то уверен – его возлюбленная сразу догадается, что перед ней не женщина, а ряженый. Миша неистово защищал меня, убеждал, что в платье и парике я буду смотреться еще натуральней Анны, но напрасно. Так что мой лицедейский дебют пришлось отменить. Пьетро доволен пьесой, но только с настоящей беременной в качестве примы. Целый день Демианов Тренировал Анну, как убедительней все представить. Учил причитать по-итальянски и звать на помощь с должным выражением. Предусмотрел множество разных неожиданностей, надавал инструкций на все случаи. После обеда ходили взглянуть на ту улицу. М. от места действия в восторге: «Улочка узенькая, никуда она от нас не денется!» Все возбуждены до крайности. Боюсь, как бы Анне не повредили такие приключения. К тому же здесь, в городе ее мать и тетки. Не дай бог, дойдет до них – моя бель мэр не знаю, что со мной сделает. Но Миша в ударе! Никода не видел его таким предприимчивым и уверенным. Кричит: «Голову даю, что всё у нас выйдет! А если не выйдет – я лично готов ее похитить и напоить этой отравой!» Вот во что П. верит безгранично, так это в зелье. Утверждает, что знакомыми его средство проверено неоднократно.
Спали мало. Никого не видел.
17 ноября 1910 года (вторник)
Демианов разбудил нас с Анной еще затемно, сам он, как я понял, вообще не ложился, уговаривает схулиганить и вопреки желанью Пьетро разыграть настоящий спектакль, отправить все-таки меня, а не Анну. Мы повозражали немного, больше для успокоения совести, мол не успеем подготовиться, наряда нет, да и не репетировали со мной, но было очевидно, что Мишу не унять. Он влюблен в свою выдумку. Стал тащить нас силой из постели, а мы, играючи, его к себе, но завязавшуюся возню пришлось прекратить, т.к. времени слишком мало. Вытащили все Аннины наряды. У нее и локоны накладные оказались, что Мишу осчастливило. Приколотые под шляпкой, они смотрятся великолепно. Выбрали наряд. Шею закрыли шарфом. Перчатки пришлось надеть одни из Мишиных, бархатные, похожие на дамские. Видом все остались довольны. Анна сама красила мне губы и глаза. Роль я знал назубок, словно субретка, следящая за репетициями примадонны и ежеминутно готовая стать на ее место. Голос Миша велел не форсировать, а говорить спокойно своим, несколько с придыханием и растягивая гласные. Он показывал, как надо говорить, чем ужасно смешил нас с Анной, до того фальшиво у него получалось, но как ни странно, когда я стал его копировать, вышло очень даже недурно. Так же, как вчера Анне, Д. давал советы, предполагая совсем уж невероятные возможности развития событий. И все самолично изображал. Смеялись так много, что когда пора настала идти, я чувствовал: ни за что не смогу больше засмеяться, даже если очень пожелаю. Пришел Пьетро. Меня от него спрятали. Д. его тоже нарядил на всякий случай и сказал, что с ним пойдет, а я, якобы, провожу до места Анну. Раньше еще условились встать по разные стороны улицы, и, когда она пойдет, П. подаст сигнал. Мы с А. подождали, пока они выйдут, минут через десять тоже пошли. Я усадил А. в траттории на открытой террасе, а сам пошел поближе к друзьям. У Пьетро меня заметившего и узнавшего, глаза на лоб полезли. Он замахал руками на Демианова, закричал, но Миша сказал что-то, от чего тот сразу успокоился. Встали, как условились, ждем. Чувствую, сердце колотится, пот градом, голова от шляпки шпилек и буклей чешется нестерпимо. В какой-то момент мне показалось – не смогу, испорчу все. Но вот… Собственно, знака они могли не подавать: я почему-то догадался, узнал, что это она идет, и двинулся навстречу. Как во сне – руки-ноги точно не свои, во рту пересохло. А она, не знаю, как объяснить, будто подыграла мне, словно мы с ней сговорились, не успел я и рта раскрыть, чтобы позвать на помощь, она сама ко мне руки протянула. Демианов потом приписывал все моей необыкновенной игре, вроде я такое лицо сделал неподдельно страдальческое, но это как-то само вышло. Я невольно, а вышло, вроде как он учил, выдохнул: «Сеньорита, мне дурно, помогите ради бога!» Она подхватила меня, чуть не взвалив себе на спину.
– Пойдемте, сеньора, вам нужно сесть.
– Нет, нет. Я живу здесь недалеко, проводите меня, умоляю вас.
Мы пошли. Она изо всех сил старалась принять на себя мою тяжесть. Милая, добрая девушка. Я ощутил укол совести. Не сказать ли, что все прошло? Не сказал.
Демианов встретил нас дома, на пороге. (Я видел, как они с П. побежали вперед). Принял меня с рук на руки. Запричитал:
– Мама мия! Что с моей женой? Что случилось, дорогая?!
Мне хотелось только одного – уйти к себе и переодеться. Что я и сделал, взглядом попрощавшись со своей «спасительницей». Слышал, как Миша угощает ее, рассказывает байки о нашей «супружеской» жизни, что мы иностранцы, что ребенок это первый и что-то еще.
Приняв собственный облик, выбрался потихоньку, пошел искать Анну. Встретились. Пошли к матерям. По дороге я поверил Анне свои сомнения. Хорошо ли мы поступили с бедняжкой. Она взяла меня за руку, грустно ответила: теперь уж случилось, назад не вернешь. Она права. Ну, пусть, хотя бы, это на моей совести будет – не на ее.
Вечером Миша восхищался моей игрой. Пьетро не пришел. Лег я рано, но долго не мог заснуть, несмотря на страшную усталость.
18 ноября 1910 года (среда)
Были у наших. Здесь все, кроме моей бель-мэр, увлечены плетением кружев. Какая-то мания. И Анна готова заразиться. Часа три сидела возле мамы с Беннитой, глядя неотрывно. Даже Миша заинтересовался. Говорит, что часто свое писательство с плетеньем сравнивал: слово за слово, фразу на фразу нанизываешь, переплетаешь, всё хочешь выткать легкий, изящный, как кружево, узор. И потому настоящее плетенье его завораживает. Пока они занимались, я соскучился, задремал. Оказался снова на морском песочке, огляделся: вон бежит ко мне мой дружок. Что-то зажал в кулачке, протягивает мне, кричит: «Большую мышь не поймал, убежала. Только маленькую. Вот!» Смотрю, действительно: маленький белый мышонок у него в ручке.
– Зачем он? – спрашиваю.
Вгляделся, а лицо-то снова другое у мальчика. Теперь он похож на Таню в детстве. Или ... на меня?
– А я хотел тебе большую мышь принести. Большая – добрая. Ее не надо бояться, она нас любит. Я за ней побежал, а поймал только маленького.
И тут он горько заплакал.
– Что ты! О чем?
– Я не хочу маленького! Не люблю его!
– Так выпусти, брось!
– А если брошу, он убежит и никого не будет.
Он ладошку распустил, и мышонок убежал. Мальчик зарыдал в голос и пошел от меня.
Весь оставшийся день и вечер проходил сам не свой. Миша и Анна спрашивали – сказал, голова болит. А Миша заметил: «Не надо было днем спать».
Да. Дневной сон повредил мне. Ночью никак не мог уснуть. Прошел к Мише – спит. Будить не стал, вернулся. Сидел на постели, глядя на Анну. Маленькая мышка и слезы. Что это значит? Неужели беда грозит моей девочке? Молился, чуть не плача. Господи! Сохрани ее! Вспомнил, как мама говорила Тане еще там, на даче: «Она такая худенькая. Не знаю, как разродится». Так себя растравил, что не в силах был оставаться на месте, вышел в гостиную, ходил по ней из угла в угол. Потом снова лег. От дурных мыслей так ворочался, прямо метался, что проснулась Анна. Приласкала, успокоила кое-как.
19 ноября 1910 года (четверг)
От отца телеграмма – задерживается. Вот оно. Начинается. Большая мышь ускользнула. Очень боюсь несчастья с маленькой.
Пьетро приходил. Уверяет, что колдовство начинает действовать. Подробностей не рассказывает. Обещал в благодарность устроить нам прогулку по морю на острова. У него знакомый капитан яхты.
Ходили к нашим опять. Там снова кружевные упражнения. Выспросил у сестры Пьетро, где живет его возлюбленная. Вечером бегал туда, посмотреть, жива ли она, здорова ли. Всё, слава богу, хлопочет по хозяйству. А Пьетро парень неплохой. Может, и впрямь сладятся?
Несколько раз затевал разговор с Мишей, хотел поделиться своими тревогами, но так и не решился высказать. Что-то мне не дает.
20 ноября 1910 года (пятница)
Гуляли одни с Демиановым, Анна плести пошла. Дошли до рыбного рынка. Миша подзадержался, то ли торгуясь, то ли любуясь, а я, проходя дальше, вдруг, остолбенел, не веря глазам: Алеша! Тот самый московский мальчик, которого я прозвал Мышонком. Он очень вытянулся в рост, но остался таким же худеньким, и такое же узкое детское личико, да, я не ошибался, ужасно похожее на Анну. Невероятное сходство. Как же он здесь? С кем? Неужели та странная история – правда, и он действительно сбежал в Италию со старшим другом? Я хотел окликнуть его, но он сам обернулся, увидел, и сию же секунду узнал. Замахал рукой, подбежал. Мы обнялись в едином радостном порыве, еще и двух слов не успели сказать друг другу, а уже с разных сторон к нам подошли наши спутники. Его знакомый, лет двадцати пяти, в штатском, но военная выправка чувствуется (или это моя игра воображения?) представился, Болотников. Я назвал себя и Демианова.
– Ах, это вы Демианов?! Вот вы какой. Вы просто духовный вожатый для нашего Алеши, он прямо бредит вашими стихами.
Демианов и Мышонок так пожали друг другу руки и так посмотрели друг на друга, что я сразу понял: мое место в Мишином сердце занял другой. И так это было очевидно, естественно и единственно верно, что я не то что не расстроился, а обрадовался почти. Болотников сказал Мышонку раздраженно:
– Ты идешь?
– Нет.
– Ну, как знаешь, жду тебя к обеду. – И не попрощавшись с нами, пошел прочь.
Я вдогонку ему крикнул зачем-то:
– Мы проводим его! – Он обернулся:
– Ничего. Думаю, он и сам не заблудится, впрочем, как хотите, мне все равно.
И ушел. Всем было ясно, что ему не все равно, но никому до этого не было дела. Д. и Мышонок сразу пошли вперед, я за ними, но вовсе не было неловкости или чувства, что я лишний. Всё как дóлжно. Я сказал:
– Вы знаете, Алеша, я женился. – Мышонок обернулся и немного насмешливо поздравил.
– Благодарю. Между прочим, вы очень похожи на мою жену, просто поразительно похожи. Михаил Александрович, ты заметил?
– Да, пожалуй.
– Ну что ты, Миша, сходство ведь невероятное!
– Да. Забавно.
Тут я понял, что не стоит настаивать. Демианов видит в этом узеньком личике что-то свое, мне не доступное.
Гуляли. Потом обедали вместе с Болотниковым. Он делает обреченное лицо. Дескать, понимаю, что от вас теперь никуда не деться. Странный у них союз. А вообще-то, у кого из нас не странный?
Дома я возвестил Анне о нашей с М. замечательной встрече с ее двойником. Она не могла не заинтересоваться, т.к. столько было у нас уже говорено об этом мальчике. М. был сдержан, даже холоден. Я расценил это так: мальчик запал глубоко ему в душу и он не хочет ни с кем делить своих чувств. Так что я показал Анне знаками, чтобы его не тревожила.
21 ноября 1910 года (суббота)
Снова гуляли по городу вдвоем с Мишей. Встретили Мышонка и Болотникова. Болотников надут, еле-еле вежлив. У меня сложилось впечатление, что Алеша если не нарочно эту встречу подгадывал, то очень на нее рассчитывал. Он слишком уж издалека заприметил нас, замахал рукой и чуть не побежал нам навстречу.
Я вел себя примерным и преданным другом, как мог, отвлекал внимание Болотникова, подробно расспрашивал обо всем подряд, рассказывал всякие истории, только бы М.А. и Мышонок могли поговорить. Они шли впереди нас, и даже по их спинам я видел, насколько они друг друга занимают.
Не знаю уж, что именно поведал ему Алеша, но дома Демианов возмущался страшно! Ругательски ругал этого Болотникова:
– Какая низость и мерзость и гадость! Воспользоваться доверием ребенка, соблазнить, увезти – гнусное преступление!
Еще возмущало его очень, что и он выходил причастным. Будто бы он растлил, по крайней мере, подготовил почву. Подростка, увлеченного его стихами и романами, почувствовавшего его эстетику, низкий человек совратил и увез из дома. Я, отнюдь не желая его задеть, шутя, заметил:
– Разве ты не воспользовался бы тем, что он уже хотел все знать?
Он прямо взбесился!
– Я?! Неужели ты… ты, Саша, можешь думать, что я способен на такую низость?
Я, конечно, ничего такого не думал и уже пожалел о сказанном. А М.А., взяв себя в руки, с улыбкой уже, сказал:
– Я и тебя-то не трогал, ждал долго и терпеливо. Разве не помнишь?
Это правда. Я окончательно смутился.
– Нужно нам отвадить этого мерзавца Болотникова. А лучше бы всего, отвезти мальчика домой в Москву. – Решительно заявил М.А. – Завтра же пусть к нам сюда переезжает.
– А если он сам не пожелает?
– Пожелает.
– А если Болотников станет преследовать?
Тут вмешалась Анна:
– Давайте разыграем его, напугаем!
– Как?
Когда она изложила свой план, восторгам М.А. не было предела. Он заливисто хохотал, придумывал без конца всё новые подробности, обнимал Анну, целовал ее руки и губы. План получился забавный, но на мой вкус несколько фантастичный, тяжело осуществимый, а главное, сомнительный в смысле достижения цели. Поверит ли Болотников, испугается ли? Или поймет, что над ним всего-навсего шутят? Если поймет, то мы же в дураках и останемся. Миша поостыл, но план пока решили не отменять, а обсудить завтра с самим Алешей, для чего послали к нему мальчика с запиской, назначающей завтра свидание в укромном месте без Болотникова.
Мысли о несчастье с Анной больше меня не беспокоят.
22 ноября 1910 года (воскресенье)
Познакомили Анну и Алешу. Он нисколько не дичился, вопреки моим ожиданиям, охотно дал ей расцеловать себя, по французскому обычаю, в обе щеки. Они смотрели друг на друга и улыбались. Сходство теперь уже ни для кого несомненное и поразительное. Даже беременность Анны не повлияла. Близнецы. Рассказали Мышонку свой план. Он восхищен, но тоже боится, выйдет ли. Избавиться от Болотникова хочет ужасно. С нами готов хоть в огонь хоть в воду. «С нами» – это, разумеется, с Демиановым. Я вижу, как они смотрят друг на друга, какая меж ними образовалась связь. Мне и трогательно и умилительно и бесконечно понятно всё, и грустно.
Детали плана обсуждали часа четыре.
23 ноября 1910 года (понедельник)
От Алеши записка. Всё делает, как учили. Болотникова дичится, дотрагиваться до себя не позволяет, шарахается. Делает вид, будто что-то прячет под одеждой, спать ложится не раздеваясь. Объясняться отказывается.
Мы все трое думать ни о чем не можем, только о нашей затее. Готовимся. Ходили покупать одежду, специальную ткань для драпировки, прихватили грим на всякий случай. Все время спорим, когда осуществить. М.А. торопится. Мы с Анной уговариваем, что для большего эффекта нужно выдержать время.
Вечером М.А. один ходил на свиданье с Мышонком. Болотников раздражен до крайности встречей с нами, новыми Алешиными причудами. Хочет уехать в Париж. Демианов нервничает и твердит, что медлить нельзя. Если же шутка наша не выйдет, придется Алешу буквально похищать и бежать им с Д. в Милан под крылышко Вольтера. Уж Аполон-то Григорьевич их в обиду не даст.
24 ноября 1910 года (вторник)
По-хорошему стоило бы выждать неделю, а то и больше. Но М.А. слишком возбужден. Осуществление назначили на завтра. Сегодня вызвали к себе Алешу для репетиции. Разумеется, сразу обнаружились все недостатки нашего сценария. Одежда не подошла и по мелочи все не ладилось. К тому же, никто из нас не может выступить сторонним наблюдателем – все мы слишком хорошо посвящены и не можем оценить, насколько сыграет роль неожиданность. Демианов предложил купить еще свечей, чтобы зажечь их вместо электричества. Я возразил, что Б. сам может зажечь электричество, чтобы лучше понять в чем дело. Дем. и А. стали уверять, что ему будет не до того, что от растерянности он не догадается зажечь лампу. Сомневаюсь. Что если он и не подумает растеряться? Все-таки военный. В последний момент пришла идея с белым гримом. Она тоже вызвала дискуссию. Я доказывал, что слишком уж это театрально выйдет и гротескно, неестественность все испортит. Анна сомневалась, а Демианов с Алешей хором настаивали. Решили все-таки гримироваться. Долго возились с драпировками. Сомнительно, будет ли завтра у нас столько времени. Зато это единственное, что почти идеально удалось приладить. А если еще получится со свечами, так вообще ничего лишнего не будет видно. Говорить, как следует, у них сначала вообще не получалось, но Демианов изобрел гениальную систему сигналов и, в конце концов, как-то приладились. Остается ждать с замиранием сердца, что же будет, если провалимся.
Анна полночи не спала, пока, наконец, я не заварил ей тисану, которую Бенитта хвалила как снотворную. Помогло. Мы с Демиановым так и не ложились. Разрабатывали план на случай провала.
25 ноября 1910 года (среда)
Последние приготовления завершены. Никто не передумал. Теперь только действовать. Ранним вечером к гостинице, в которой жил Болотников с Мышонком, мы подъехали все втроем. У входа разделились. Д. с Анной под руку прошли к портье и спросили номер. Я, подождав пока они поднимутся, того же портье попросил передать сеньору Болотникову, что его дожидаются внизу в ресторане, и прошел за столик. Болотников явился минут через двадцать. У нас заранее было несколько предположений, чем его можно занять. Выбрали самое рискованное. Конечно, он мог вообще не слушать меня, а сразу уйти. Но нет, он задержался и страшно нервничал, даже видно было, как руки у него трясутся. А говорил я о том, что хорошо знаю Алешиных родственников в Москве. И что Б. за его преступления нужно преследовать по суду. Что из вида теперь ни за что его не потеряю, как бы он не старался скрыться, и при первом удобном случае сообщу в нашу русскую полицию, где находится он и мальчик. Сначала Б. подумал, что я хочу его шантажировать, и попробовал задобрить меня, перетянуть на свою сторону, и откуп предлагал. Потом сам перешел в наступление и стал меня запугивать разными угрозами. Я же изо всех сил старался как можно больше раздражить его и вывести из себя. Твердил все время «суд, преступление, тюрьма, каторга». В конце концов, доведенного до белого каления оставил его, так как решил, что времени моим компаньонам на подготовку хватило. При розыгрыше самой эффектной сцены нашего спектакля я не присутствовал, но друзья мои потом уверяли, что разыграно все было идеально.
Раздраженный Болотников ворвался в свой номер. С каким намереньем, теперь неизвестно. По крайней мере, высказать никаких намерений он не успел, онемел от неожиданности:
Комната тускло освещена свечами, посреди нее на странном подобии трона, завешанном тряпками сидит его Алеша, с лицом белым как мел и что-то большое, круглое держит в руках.
– Что такое?
– Я должен говорить с тобой. – Голос странный, но, несомненно, Алешин. – Слушай и не перебивай! Ты надругался надо мной. Я был невинен и глуп, но ты… не приближайся, стой там!… должен был предвидеть страшные последствия.
– Какие еще последствия? Что за черт?
– Ты, совращая меня, должен был знать, что случится. Ты виноват.
– Я не понимаю. Что случилось?
– До последнего часа, я, наивный, не подозревал, что именно происходит. Теперь же нет никаких сомнений. Это ты со мной сделал. Негодяй!
– Ну что ты, что ты, Алеша? Ты болен?
– Да! И ужаснее нет недуга для юноши.
– Что же с тобой, позволь я посмотрю!
– Смотри! Во мне созрел плод нашей греховной любви. Тут Алеша распахнул пиджачок и выставил наружу беременный животик.
Болотников обмер.
– Господи, Алеша, что это? Этого не может быть!
– Да. Он живет во мне. Возьми и убедись. – Схватив руку Б., Алеша положил ладонь его на живот себе. Как утверждает Анна, наш малыш подыграл ей в эту минуту и толкнулся ножкой изнутри.
Лицо Болотникова перекосилось, он вскрикнул не своим голосом и бросился вон из комнаты. Он убежал. Подождали немного. Нет. Не возвращается. Тогда Алеша вылез из-за драпировок, из-под которых говорил. Анна-то, намазанная белилами, только сидела на стуле и рот открывала по знаку Демианова, который тоже спрятался.
Я ждал в нанятом ими номере. Смеху, возгласов, вздохов, причитаний! Победа полная! Поверил и испугался! Невероятно, но вышло все, как задумали. Даже лучше. Уж и не знаю, какой мы ждали реакции, но только не той, что получили. И как бы они обошлись, если б не вышло – представить страшно. Немного успокоившись, боялись выйти на улицу. Вдруг он бродит теперь поблизости? Анна повторяла без конца: «Я видела, он сошел с ума. Говорю вам, он лишился рассудка, я одна его лицо видела. Подумать только, мы свели его с ума!» Все согласились, что если даже и не окончательно Б. потерял рассудок, то в своем теперешнем состоянии он для нас опасен. Заказали ужин в номер и решили переждать до утра. Никто, разумеется, не спал. Слишком все были возбуждены. И обсуждение подробностей пятиминутной сцены до рассвета затянулось.
26 ноября 1910 года (четверг)
Чуть свет вернулись домой и завалились все отсыпаться. Анна проснулась к обеду. Мы с Демиановым к ужину. Мальчик проспал до полуночи. Пьетро приходил нас кормить. Увидев спящего в гостиной Мышонка, поднял брови, воскликнул: «Мама мия! Он уже родился?! И сразу такой большой?» Посмеялись. О вчерашнем не говорили. Самочувствие у всех как с похмелья. Послонялись немного по квартире и снова легли спать.
27 ноября 1910 года (пятница)
Демианов хочет ехать из Сорренто как можно скорей, увезти Алешу. Боится Болотникова. Настоящая мания преследования. Никакие доводы не действуют. И Анна уговаривает его еще побыть и Пьетро. А я молчу. Чувствую – душой он уже не с нами, настроен на другую жизнь, стремится в иные места, к иным людям и событиям. Удерживать бесполезно. При нас они с Алешей говорят меж собой мало. Словно хранят от других какой-то секрет. Но видно, что понимают друг друга без слов. Улыбки и взгляды, и жесты – всё у них со значением. Их стрелы не ранят меня, вовсе нет. Но все-таки грустно.
Настоял Миша на своем, отправил меня за билетами в Милан на завтрашний поезд. На обратной дороге зашел в гостиницу, поинтересовался, не съехал ли господин Болотников. Нет. У себя.
– Его юный спутник, тот, действительно, съехал, а сам синьор Болотников здесь, второй день никуда не выходит из номера.
– Да точно ли он там? Если не выходит, может, номер-то пуст?
– Нет, нет! Хотите сами пройти удостовериться? Синьор постоянно требует водки, и ему приносят в номер.
Удостоверяться не стал. К чему? Да и для Миши нет теперь ни одной убедительной причины. Все равно уедет. Дело в самом Мышонке, а вовсе не в опасности ему грозящей. Я и не буду ничего никому рассказывать. А Болотников-то! Водку пьет. Видно, с ума не сошел. Анну, пожалуй, стоит посвятить, чтоб не мучилась, но не сейчас, пусть уедут. Вернувшись, застал у нас в гостях тетей Бланш и Клер, они тоже уговаривают М.А. не уезжать, черт возьми, как будто нарочно их подучили.
Не уезжайте! Прокатимся на острова.
Пройдемся. Вы с ним, я за вами следом.
Все вижу, новая любовь нова,
Но старый Ваш друг по-прежнему предан.
Все знаю, пришла Вам пора с другим
Смеяться и петь, ничего не скрывать,
Но самым любимым и дорогим
Я буду по-прежнему Вас называть.
Побудьте немного. Не вижу угроз
Ни вашему счастью, Ни Вашему другу.
Зачем вам в Россию! В России мороз.
Оставшись, окажете всем нам услугу.
Я этого вслух не сказал ничего.
Все вижу. Все знаю. Вы увлечены.
Ну что ж, увозите, спасайте его.
Вот что мне пророчили вещие сны.
28 ноября 1910 года (суббота)
Демианов вырядил Мышонка до неузнаваемости. Я и не думал его отговаривать. Пусть уж до конца разыгрывают свой спектакль. Мы теперь только зрители. Провожали я, Пьетро и Анна. Багажа почти никакого, что ж, так и нужно въезжать в новую жизнь.
Прощаясь, я крепко обнял Демианова и шепнул ему на ухо:
– Помню всё. И никогда не забуду.
Он поцеловал меня в лоб и в губы, и Анну так же, а потом мы поцеловались втроем.
Когда поезд отъехал, Анна взяла меня за руку, сделав скорбное лицо, но я улыбнулся ей, дав понять, что нет никакой трагедии. На обратном пути заехали к нашим. Мама страшно расстроилась, от того, что Миша уехал, и даже попрощаться не заглянул. Анна села плести, а я пошел с Пьетро, помочь ему разобрать снасти. Завтра плывем на острова. Так и хочется сказать: «одни».
29 ноября 1910 года (воскресенье)
Кто настоящая колдунья, так это наша Беннита. Анна очень боялась морской болезни, да что там Анна, и у меня, говоря откровенно, душа об этом болела, но у Бенниты и на такой случай нашлась тисана. Вместо завтрака мы пили ее волшебный настой и с собой взяли сухие травы. Я почему-то думал, что капитан, знакомый Пьетро – пожилой человек. Отнюдь! Совсем немного нас старше, смуглый, черноглазый, немногословный. С ветром нам повезло, и паруса было чем наполнить и качало не слишком. Наша яхта, в сравнении с остальными, малюсенькая, зато быстроходная. К тому же время на ней летит совершенно незаметно. Мы с Пьетро возились с парусом, выполняя приказания капитана. Анна смотрела на воду, не отрываясь. Пьетро специально для нее подцепил сачком немного мелкой рыбешки и показал, как нужно бросать чайкам. Когда у нее стало получаться, восторгу не было предела! От еды она отказалась, выпила еще Бенитиной тисаны, но в общем держалась молодцом. Мы же все трое с удовольствием закусили яичницей с мидиями и выпили кофе. Обедали уже на острове. Пьетро отвел нас в чудесное место, где горячие подъземные источники бьют из скалы прямо в море, их раскаленная вода смешивается с холодной морской и получается теплая, полупресная. А камни образуют нечто вроде большой ванны, в которой мы с Анной часа четыре просидели, не меньше. Несмотря на все развлечения, она нет-нет, да и заговорит о Д., о том, как жаль, что он не с нами. Я ничего не отвечу – она замолчит смущенно, переменит тему, но скоро снова забудется.
– А хочешь, мы тоже поедем в Милан? – И на это я не ответил. Как объяснить ей, (и стоит ли?) что Демианов остался со мной, в моем сердце, и вместе с тем, исчез вовсе. Нет теперь того Демианова, что был моим, а есть совсем другой, тот что с Мышонком и Вольтером в Милане или в Турине с графиней и каноником, или еще с кем-то и где-то.
Ночевали у нашего капитана в рыбацком домишке. Ужин готовили на костре, прямо на берегу. Какой-то особенный суп нам Пьетро сварил, там и помидоры и ракушки и бог знает что еще. Мы с А. уплетали за обе щеки. Как жаль, что нет с нами… ох, это я не то.
30 ноября 1910 года (понедельник)
Ночью очень замерзли. За завтраком мы с А. уже мечтали, как будем отогреваться весь день в горячей ванне, устроенной природой, но Пьетро завлек нас плыть с ними, рыбачить на глубине. Обещал показать необыкновенную красоту. Я думал отправиться с ними без Анны, но она не пожелала одна оставаться. На яхте она все время дрожала, бедняжка, на палубу не выходила, а я несмотря на резкий ветер, довольно быстро разогнал кровь работой. Мне было не скучно, но беспокоясь за Анну, я уж пожалел было, что не остались. Но увидев то, ради чего нас затащили далеко в море, перестал себя корить. Коралловый риф! Вот что Пьетро так страстно желал нам продемонстрировать. И бог свидетель, он был прав! У капитана оказалась специальная маска – что-то вроде ведра с прозрачным донышком. Я и представить себе не мог ничего подобного! Рыбы, окрашенные, словно райские птицы и как много! А сам коралл будто искусственно создан каким-то новым художником, смелым и слегка безумным. Пьетро что-то страстно старался объяснять. Я понял, что весной, когда вода потеплеет, можно будет нырнуть поглубже, и там увидеть нечто еще более удивительное. Мы втроем поддержали Анну и она тоже посмотрела. Ее происходящее под водой увлекло настолько, что стала уговаривать нас позволить ей нырнуть хоть на минутку. Разумеется, никто не согласился. Пьетро уговаривал ее: «Летом, сеньора Анна, летом мы будем здесь снова!» – Она посмотрела печально – маленькая девочка, расстроенное дитя, не получившее желанного подарка:
– Летом я уж, наверное, не смогу.
– О! Бамбино! Сестра и мать позаботятся о бамбино!
Но я подумал: «Анна, пожалуй, права. Она, вероятно, будет кормить и ей станет не до путешествий». Ну, ничего. Только бы все разрешилось благополучно. А там уж у нас вся жизнь впереди. Ночью помогал управляться с сетями и парусом. Рано утром причалили к Сорренто с горой свежей рыбы.
1 декабря 1910 года (вторник)
Отсыпались у наших. Вдруг шум, переполох. Вскочили. Что такое?! – Отец приехал!
Они уединились с Анной на несколько часов. Не знаю, о чем был у них разговор. Требовал он отчета о нашей новой жизни, или просто наслаждался обществом дочери после долгой разлуки, она не посвятила меня. Потом настала моя очередь. Я не без некоторого содрогания вошел к нему. Пожал мне руку, усадил, справился о здоровье. Я почему-то стал подробно отвечать об Аннином, как она ест, как спит и что сказал доктор. Он улыбнулся.
– Не скучаешь ты здесь в женском обществе?
Пришлось ответить, что скучаю немного. Ведь, кажется, неловко было бы открыто признать довольство такой жизнью.
– А я тебе приехал здесь место устроить. Займешься делом. А женщины пусть уж сами управляются. Благо их теперь много.
Вот, думаю, и конец нашим медовым месяцам! Но только Пэр-Сури открыл рот, а я приготовился внимать ему о поприще мне уготованном, вбегает Анна.
– Папа! Прости! Саша! Нам телеграмма из Милана!
– От Миши? – Это у меня невольно вырвалось.
– Нет. Жанна и Жильбер зовут на свадьбу! Уже в четверг! Я побегу к нам, собираться! –Поцеловала отца, меня и убежала.
П.-С. сказал:
– Ну, раз вы едете, то позже дела обсудим. Я к вашему приезду, как раз, все улажу. – Потрепал мне волосы мягкой рукой и пошел к жене. А я поспешил догонять Анну.
Догнал. Выходим на свою улицу, видим, у нашей двери стоит кто-то. Я сразу узнал кто, и остановился. Сказал Анне:
– Видишь? Это та самая девушка, возлюбленная Пьетро. – Анна почти ничуть не сконфузилась.
– Ну что ж теперь делать? Идем.
Я говорю:
– Может, переждем немного? Вдруг она уйдет?
– Нет уж! Нам нужно домой. Мы должны в Милан собираться. Ну, не бойся, – взяла меня под руку.
Приблизились. Моя «спасительница» весело поприветствовала нас. Я, дурак-дураком, сходу извинился и заявил, что не говорю по-итальянски. Она же, чистая душа, закивала, заулыбалась еще шире.
– Да, да! Я знаю, вы иностранцы. Я говорила с мужем, вашей сестры. Как ее здоровье? Сеньора Демианоф, я правильно говорю? Я принесла ей сушеных персиков!
Вот это да! Нам с Анной пришлось объясняться кое-как, что та часть семьи – господин Демианов со своей беременной супругой, вот именно, с моей сестрой, уехали в Милан. (Анну эта полуложь рассмешила, а мне даже жутковато немного сделалось) А тут вот теперь мы живем.
– О! Тогда эти персики для вас, сеньора! Возьмите, прошу вас, возьмите!
Мы пригласили милую девушку войти. Я от смущения не знал, куда глаза девать. Уж слишком она добра и простодушна. А Анна ничего. Стала угощать ее кофе, рассказывать, что мы тоже в Милан едем на свадьбу к друзьям. А тут и Пьетро является с обедом для нас. Весело закусили все вместе. Пьетро знаками дал мне понять, что никогда не видел от своей знакомой такого к себе расположения. Вышли от нас вдвоем. Пусть будут счастливы.
Суетились до полуночи, укладывая багаж. Уже в постели Анна прижалась ко мне покрепче, спросила:
– Ты рад?
Я понял, что она подразумевает: рад ли, новой встрече с Демиановым? Я ничего не ответил. Поцеловал ее, пожелал доброй ночи. А что тут можно сказать? Сам не знаю, как мы теперь увидимся с ним. Что говорить? Как смотреть? Мой Демианов теперь со мной навсегда. А там-то кто будет? И не ехать нельзя.
2 декабря 1910 года (среда)
Пэр-Сури провожал нас. Анна звала и его поехать, но нет – дела. Что-то он для меня придумал? До поры не хочет говорить. – Вернетесь, тогда и обсудим все, как следует.
У меня сердце заходится от мыслей, как он решил мою судьбу. Но вида стараюсь не подавать даже Анне. Она, поняла ли мое настроение, или просто надоело ей натыкаться на стену молчания, о Демианове больше не заговаривает. В вагоне много болтали о крещеной нами троице, не разладилось ли у них? Какая участь ждет их тройственный союз после свадьбы? Как там Даг себя чувствует? О том, что отец для меня планирует, ей он тоже не говорил. Эта наша поездка – последний глоток привольной жизни.
Ап.Григ. встретил нас объятьями и новостями. В его изложении вся история так выглядит: Возлюбленный Дага выгодно женится на их общей подружке, т.к. подружка от Дага без ума, а брак заключается только из родительской корысти, то все они втроем едут в свадебное путешествие в Америку.
– А как же вы останетесь без врача? И, кажется, вовсе не расстроены. Уже нашли другого доктора?
– Ничего подобного! Я тоже еду в Америку! И тоже, в своего рода, свадебное путешествие.
Оказывается, Вольтер везет покорять Америку своих Миланских фаворитов. Но кто из них придаст его вояжу свадебности, он еще не решил толком. Я все озирался, прислушивался к звукам из соседних комнат, но молчал. Анна спросила:
– А где Михаил Александрович?
– Черт знает что за история! Привез какого-то птенчика, не братец ли твой, дева Мария? Объявил, что срочно им в Москву нужно, взял денег и укатили. Вчера проводил. Тут я не удержался:
– А как же наследство, драгоценности?
– Ну, милый мой! Это долгая история. Больше для адвокатов и развлеченье и нажива. Подождем годков пять, может, что и выйдет.
Значит уехали. Вот и всё…
Вот и всё.
А чего я ожидал? Поверите ли? Как раз чего-то подобного. Мой Демианов теперь нематериален, только образ остался. Воспоминанье, впечатленье. Всегда свежее и всегда ускользающее.
Зашли к Жанне. Даг тоже там, глаза сияют. Расцеловались со всеми, поздравили и тут же откланялись – слишком велика у них предсвадебная лихорадка, не до нас.
3 декабря 1910 года (четверг)
Здесь, в Италии, 15-е декабря.
Католическая свадьба – совсем не то, что наши. В церкви светло, вокруг аналоя не водят. Жених и невеста стоят по обе стороны от священника и говорят торжественную клятву. Родственники с гостями сидят на скамьях. И я сижу рядом с Анной и Вольтером. И вспоминаю молебен только для нас двоих о начале дела Михаила и Александра.
«…в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: "Господь да будет между мною и между тобою"…»
Год почти прошел с тех пор, как явился в мою жизнь Демианов. О! Как изменилась она за этот год. И сам-то я как изменился! Увидимся ли, нет ли снова? Что ждет меня впереди? Ничего не знаю. Но всё, что приобрел от тебя, учитель, друг, супруг мой, сохраню в сердце своем и пронесу до конца. Даю тебе в том торжественную клятву.
Очень жаль, что не вел я в этот год дневника. Впрочем, что за беда? Всякий день, всякий час, всякую минуту помню. Придя из церкви, сяду и все запишу, за весь год, каждый день чтобы был заполнен, как это он делает, Михаил Александрович, Миша, мой Демианов.
контакты
Сайт автора:
С автором можно связаться по электронной почте:
renouveau@yandex.ru
Примечания
1
Ба! Это вы?! (фр.)
(обратно)2
Я вас люблю (фр.)
(обратно)3
Господин Ворон (фр.) – персонаж басни Лафонтена «Ворон и Лис»
(обратно)4
Он хрупкий (выглядит хрупким) (фр.)
(обратно)5
Мое сердце, колено, этот (фр.)
(обратно)6
Рот, морковь, зубы (фр.)
(обратно)7
Любовь, наивная, новый (фр.)
(обратно)8
Неизбежность (фр.)
(обратно)9
Слегка, может быть (фр.)
(обратно)10
Вечеринка (фр.)
(обратно)11
Бедный мой маленький Саша! (фр.)
(обратно)12
Добрый день (нем.)
(обратно)13
Благодарю (нем.)
(обратно)14
Большое путешествие (фр.)
(обратно)15
Мн. сокр. от фр. mademoiselle – обращение к незамужней женщине
(обратно)16
Очень быстро (ит.)
(обратно)17
Внучатая племянница (фр.)
(обратно)18
Здравствуйте, дети мои! (фр.)
(обратно)19
Мышь-отец (фр.)
(обратно)20
Немного наивен (фр.)
(обратно)21
Собор Святого Петра
(обратно)22
Мой принц (фр.) и Ваша светлость (ит.)
(обратно)23
Месье - обращение к мужчине-французу или на французском языке
(обратно)24
Немножко (фр.)
(обратно)25
Теща (фр.)
(обратно)26
Мама (фр.)
(обратно)27
Что? Что?! (фр.)
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


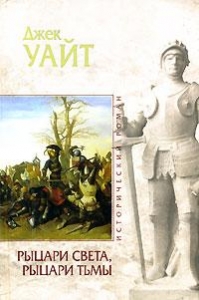


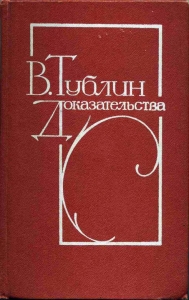

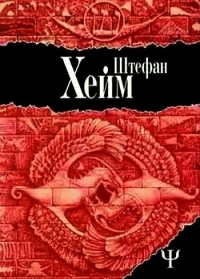

Комментарии к книге «Новые крылья», Михаил Николаевич Колосов
Всего 0 комментариев